Анатолий Викторов
С пером у Карандаша

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
О МНОГОМ, ПРОИСШЕДШЕМ ВПЕРВЫЕ
 Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.
Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.
Это было давно, «когда деревья были большими». Тогда казалось огромным здание цирка, полное чудес, и совсем маленьким казался Карандаш с собачкой, похожей на игрушку.
Карандаш воспринимался как товарищ по играм. Рядом с нарядными акробатами, эквилибристами, жонглерами он выглядел простым и очень близким. Его хотелось потрогать, поговорить с ним.
Мне вспомнилось это впечатление детства, когда я прочел на афише: «В гостях у Карандаша» — и пониже скромно: «35 лет на манеже». Мой сын был точно таким, как я, впервые увидевший Карандаша двадцать семь лет назад. И я пошел с ним в цирк.
На арену вышел маленький скромный человек, знакомый, как давний хороший сон. Это была встреча с другом детства.
Карандаш все такой же. Словно время не коснулось его. Мы, взрослые, с радостью узнавали доброго, искреннего клоуна, его привычки и любимые репризы. В зале были завсегдатаи карандашевских премьер, то и дело слышалось: «Помните первый выход в тридцать шестом?», «А появление с Кляксой?», «Что вы мне говорите! Я в разгаре войны его видел…» Внуки с любопытством прислушивались. Они замечали, что их деды совсем не старые и также восторженно радуются шуткам Карандаша.
Казалось, Карандашу не было никакого дела до юбилея. Все как обычно. В остроконечной шляпе скромно стоял он у форганга — выхода на арену, в то время как артисты цирка посвящали ему лучшие номера юбилейной программы. Старейший комик показывал свои репризы, шутил, и только голос его в этот вечер звучал особенно молодо, ласково. Впервые на арене артист вышел за рамки своего персонажа и негромко сказал зрителям и коллегам: «Спасибо вам, дорогие, за теплоту, за цветы. Я всю жизнь любил вас и благодарю за этот привет».
Слушая Карандаша, хотелось думать об удивительной судьбе клоуна. Много сделано Карандашом для советского цирка. Живут принципы его работы, его шутки. По ним учатся, проверяют новое, его методами пользуются лучшие артисты. Карандаш в цирке стал эталоном мастерства. Его портреты висят на почетных местах в гримировочных лучших советских клоунов. Спросите их о Карандаше, и они ответят:
ОЛЕГ ПОПОВ. Я прошел целую школу, работая с Карандашом всего полтора года. Он лучший из моих учителей и сегодня.
ЮРИЙ НИКУЛИН. Только когда я могу с уверенностью сказать о своей новой репризе: так сделал бы Карандаш, — я вправе выносить ее на суд зрителей.
КОНСТАНТИН БЕРМАН. Хотя он и мал ростом, но мне всегда представлялся ледоколом, который шел впереди каравана, взламывая лед недоверия к новому в полном традиций цирке.
БОРИС ВЯТКИН. Он у нас академик клоунады.
…В зрительном зале не смолкают аплодисменты. Юбиляру дарят стихи:
Карандаш! Мастер смеха,
Популярный комик наш.
Любви, известности, успеха
Достиг веселый Карандаш.
Достиг всеобщего признанья
В искусстве сложном и большом.
Не только в цирке — на экране
Встречались мы с Карандашом!
Смех. Он бывает и неистов,
Мишени грозные круша.
Стрелял по-снайперски в фашистов
Разящий смех Карандаша.
Всех тунеядцев, бюрократов,
Стиляг, вельмож, вошедших в раж,
Головотяпов, казнокрадов
Взял Карандаш на карандаш.
Людей пленяла в каждой встрече
Артиста щедрая душа —
В Париже, Риме, Бухаресте
Влюблялись в смех Карандаша.
И вот сегодня, в славный вечер,
Сияет цирк московский наш:
К любимым зрителям на встречу
Спешит веселый Карандаш…
Встреча зрителя с большим артистом — всегда событие. Потому естественным было мое желание продолжить знакомство с Карандашом.
Как-то, в морозный февральский день, когда только что окончилось представление и в гримуборной наконец наступила тишина, нарушаемая лишь — бормотанием мохнатого скотч-терьера, я спросил у Карандаша:
— Что такое клоун?
— Что это такое? — Карандаш строго посмотрел через очки в тонкой золотой оправе. — Вы, конечно, считаете, что клоун — это прежде всего смешно… А я вам скажу, что клоун — это серьезно. И речь идет не о частном случае, и не о том, что хотел бы лично я видеть в цирке, а о передовой цирковой тенденции, о стиле советской цирковой школы.
— Скажите, как зародилось искусство клоунады?
— Истоки клоунады — в народе! Русские клоуны искали близкое им в персонажах бродячего кукольного театра, в героях фольклора, дрессировщиках животных. Оптимизм и уверенность в своих силах всегда сопутствовали русскому клоуну, поэтому публика впоследствии и полюбила веселых Рыжих — родственников Петрушки и скоморохов, которые ни при каких обстоятельствах не теряли веселого настроения…
В XI веке, а может быть и раньше, появились на Руси скоморохи — люди бывалые, сметливые, они не лезли в карман за словом. Скоморохи выступали как сказители, певцы и музыканты, исполнители комических сценок, акробаты, фокусники, дрессировщики зверей. По душе пришлись простым людям их прибаутки и игрища, сатирические сценки и песни, почти всегда направленные против бояр и духовенства. Конечно, они еще не одевались как клоуны, зато свое крестьянское платье украшали цветными ленточками — знак веселого и лукавого нрава. Царь и церковь жестоко преследовали скоморохов, поэтому они прикидывались дурачками, понимая, что «с дурака и бог не взыщет, в нем и царь не волен».
— Но были скоморохи и для потехи господ. При дворе Петра Великого скоморохи даже высмеивали провинившихся вельмож.
— С началом крестьянских бунтов беспощадное преследование скоморохов привело к тому, что скоморошество на Руси стало маскироваться, оно приняло форму райка, бродячего балагана, кукольного театра с единственной комедией о Петрушке.
С любопытством рассматривал народ через увеличительные стекла в ящике самодельные картинки в честь памятных исторических событий, виды городов. В метких, «с перцем», комментариях деда-раешника часто заключалась главная сущность этого своеобразного театра.
Ни одна ярмарка не обходилась без балагана. Главным героем ярмарки был Петрушка — живое олицетворение народного здравого смысла. Как только раздавался его пронзительно-гнусавый голос, вся праздничная простонародная толпа спешила к своему любимцу. Все, что с ним приключалось, знали наперед, но всегда это вызывало оглушительные раскаты смеха.
А разве можно забыть поводырей с медведем? Когда в деревню на цепи приводили Михайло Иваныча, все бежали ему навстречу: и старый, и малый. Миша кланялся честным людям и показывал, как девица в зеркало смотрится, малые дети лазят горох воровать, бабы на барскую работу не спеша бредут, поп Мартын нехотя собирается к заутрени…
Карандаш напомнил, что беспощадное преследование скоморохов и раешников задержало развитие русского цирка почти на целое столетие. В XVIII веке по селам России еще водили ученых медведей, а в Германии и Италии уже были цирковые труппы.
Позже цирки, чтобы увеличить сборы, стали стремиться любой ценой поразить зрителя. На арене демонстрировали людей, способных «завязать узлом» свое тело, показывали номера, связанные со смертельным риском, жестокостью. Дух коммерций требовал угождать вкусам «хорошей публики», а она хотела, чтобы клоун не высмеивал, а смешил. Однако в среде клоунов были подлинные мастера своего искусства. Наблюдательные, талантливые, они-то и обогащали репертуар.
Так родились два классических характера — Белый и Рыжий. Сначала появился Белый клоун в Италии. В белом атласном костюме он читал комические и трагические монологи, играл на различных музыкальных инструментах, с помощью ассистентов разыгрывал сценки. Много лет спустя в Германии родился Рыжий клоун.
Цирковая легенда рассказывает, как рыжий англичанин-жокей в одном из цирков Германии после исполнения своего номера уснул на ковре за кулисами. Артисты решили подшутить над ним: измазали лицо спящего сажей и на тачке вместе с ковром вывезли на ярко освещенный манеж и перевернули тачку. Жокей проснулся и, стараясь сделать вид, что ничего особенного не произошло, стал помогать униформистам. То и дело он спотыкался и падал, зрители хохотали.
Хозяин повысил англичанину ставку с условием, что он ежедневно будет изображать на манеже дурачка. Успех рыжего был так велик, что на следующий год в десятках цирков появились такие «Рыжие», они скопировали не только кличку, но и парик.
Образ Рыжего складывался под влиянием многих артистов. В 80-е годы он имел прогрессивное значение для цирка — это было своеобразное проявление тяги к реализму, к современной теме. Рыжий унаследовал из народного творчества трезвый житейский ум, смелость, ненависть к лицемерию, наивность и доброту. В то же время он был забиякой, неистощимым на выдумку и насмешку. Публика любила Рыжего. Он имел такой успех у нее, что Белому осталось только подружиться с Рыжим.
«Белый — это олицетворение здравого смысла, это взрослый, внимательно следящий за каждым движением и каждым словом своего «ребячливого» партнера… Умело направленными репликами, интонацией, жестами — всем своим поведением он незаметно сосредоточивает все внимание зрителей на своем партнере Рыжем», — так пишет в своей книге один из лучших советских белых клоунов — Роланд.
К сожалению, через 20–30 лет выступления на манеже Белых и Рыжих довольно часто стали носить налет штампа. Вот каким был Рыжий в канун революции, вспоминает писатель Юрий Олеша: «Рыжий валился с галереи на трибуну, на головы, повисал на перилах, сверкая белыми гетрами. Громадная лейка, не то что гремящая, а как-то даже клокочущая, сопровождала его полет. Слетев с высоты, он садился на барьер арены, вынимал свой платок и сморкался. Звук его сморкания был страшен. Он производился в оркестре при помощи тарелок, барабана и флейт. Когда Рыжий отнимал от лица платок — все видели: у него светился нос… В носу у него зажигалась электрическая лампочка. Лампочка тухла — и вдруг дыбом вставали вермильонного цвета волосы. То был апофеоз Рыжего.
Рыжий знал только одно: ковер. Он мешал служителям скатывать и раскатывать ковер, и антре его ограничивалось тем, что под крики детей увозили его на ковре, на тачке, задравшего ноги в знаменитых гетрах. Таков был Рыжий в старом цирке».
Смех ради смеха уже не устраивал зрителей. Они хотели видеть живого, естественного клоуна, а не застывшую в «своей неизменности» маску Рыжего, даже сделав необходимую поправку на шарж, утрировку, пародию.
«…Все Рыжие должны быть людьми: это хитрецы, наивные ротозеи, прохвосты, весельчаки, задиры, флегматики, пустозвоны, бестолковые путаники, но все же это люди, это сколки живой действительности…» — писал советский клоун Леон Феррони-Танти.
Но буржуазное искусство стремилось отойти от сатиры, от современности, старалось отвлечь публику от политических проблем. В цирке поощрялись «проверенные, дедовские» шутки и репризы. К тому же, как писал доктор искусствоведения Ю. Дмитриев, «русские клоуны были поставлены в такие ужасающие экономические условия, так забиты нуждой, так некультурны, что большинство из них не только не возвышалось над рядовым зрителем, но стояло значительно ниже его…»
И все-таки сатирическое начало в русской клоунаде медленно, но развивалось. Традиции дедов-раешников русские цирковые клоуны освоили и развили, придав своим выступлениям острую сатирическую направленность. Анатолий Леонидович и Владимир Леонидович Дуровы совершили революцию в цирковой клоунаде.
Анатолий Леонидович Дуров создал своеобразный жанр злободневной публицистической клоунады. Он зло и резко бичевал произвол чиновничества, купечества, полиции, ненавистный строй, при котором процветала пошлость и в человеке гибло все лучшее.
В белом костюме, украшенном «звездой эмира бухарского», Дуров выходил торжественный, праздничный. Он читал монологи, разыгрывал антре, танцевал на ходулях, предлагал одному из зрителей согнуть серебряный рубль с профилем Николая II, а потом отбирал рубль со словами: «Хватит дурака ломать!» — или выводил на арену черную свинью, которая пыталась перелезть в ряды партера, где обычно сидели видные чиновники и «люди с положением». «Ах, скверное животное! — восклицал он, — ты хочешь меня покинуть и вернуться в свою семью!»
Анатолий Леонидович ненавидел пошлость, грубость и глупость. Широко известен случай, когда он встретился с градоначальником Одессы, самодуром генералом Зеленым, и не оказал ему почтения. «Я — Зеленый!» — взревел генерал. «Вот когда ты созреешь, будем разговаривать…» — небрежно ответил Дуров. Вечером он вывел на манеж свинью, выкрашенную в зеленый цвет…
Владимир Леонидович Дуров основал совершенно новый жанр клоунады с дрессированными животными. Он был неистощим в выдумке различных аллегорий в сценках для зверей и так комментировал происходящие на арене и в жизни события, что это имело не меньшее воздействие на зрительный зал, чем сатирические шутки брата. Показывая своих питомцев, он всегда проводил параллели между поведением человека и животных, утверждая принципы добра, честности, самоотверженности, любви к ближнему.
Владимир Дуров считал, что повышение культуры народа поможет вывести страну из нищеты, утверждал идеи просветительской направленности цирка. Владимира Дурова очень любили и поддерживали советские зрители. В 1927 году Народный комиссариат просвещения впервые присвоил звание заслуженного артиста республики артисту цирка. Им был Владимир Леонидович Дуров. Его принцип «забавляя — поучать» воплотился на деле в создание цирка «дедушки Дурова», в котором можно было видеть яркие номера — результат новой школы дрессировки методами изучения и поощрения животного. Богатое наследие клоуна-сатирика бережно развивают в наши дни Уголок имени Дурова, лучшие дрессировщики и клоуны советского цирка.
После небольшого путешествия в историю клоунады Карандаш сидел сосредоточенный, серьезный.
— Так вы спрашиваете, что такое клоун? Гражданственность, реализм, нравственное и душевное здоровье, обаятельность артиста, чистота изображаемого им персонажа — вот что это такое. И это богатство мы унаследовали от наших предшественников и создали новый цирк, которого не знала, да и не могла знать, старая Россия.
Правда, груз дурных традиций еще мешает цирку. Есть еще цирковые комики, готовые чуть ли не пожизненно исполнять одну репризу, но их становится все меньше. Становясь богаче и глубже, искусство клоунады сохраняет при этом свои классические черты, ясность, простоту и выразительность. Охотно приемлет оно и новое качество клоуна — интеллектуальность. Мы можем гордиться, что первыми в искусстве цирка заставили зрителей думать, переживать.
Учтите, что простота конфликта — обязательное условие для клоунской сценки. Простота не прием, а основа, четко и ясно доносящая до зрителя мысль.
Цель каждой клоунады — выразить сложное явление жизни. В этом отношении характерна одна сатирическая сценка, исполнявшаяся в нашем цирке. Начиналась она с довольно распространенной завязки: «Пропал клоун! Клоун сегодня не пришел! Что делать?» В представлении участвуют специалисты по акробатике, жонглированию, дрессировке, музыке, а вот специалиста по смеху нет. Кто-то предлагает поискать его среди публики. Инспектор манежа обращается к зрителям. Из их рядов выходит безукоризненно одетый мужчина с портфелем. На вопрос, клоун ли он, мужчина возмущенно и с достоинством отвечает, что он, разумеется, не клоун, а «специалист по смеху, кандидат юмористических наук, доцент Смехотворного института».
«Специалист по смеху» выступает с докладом. Его реквизит — графин с водой, микрофон, кипа листков, извлекаемых из портфеля. Он демонстрирует рисунки и диаграммы, доказывающие, что физиологический процесс смеха сугубо прозаичен, а легкомысленный смех просто-напросто опасен… И вдруг, обратив внимание на зрителей, «специалист по смеху» пугается: «Почему они смеются?» А зрители смеются уже давно.
— Вам удалось продолжить лучшие традиции цирка и создать новый тип реалистического клоуна. Ваш Карандаш пошел дальше требований Феррони-Танти и, создав свой, неподражаемый «сколок живой действительности», показал характер гармоничный и естественный.
— Да, да, теперь легко говорить о том, каким должен быть клоун в цирке. Все кажется таким простым и ясным. Но задумывались ли вы над тем, что в двадцатые годы, в начале тридцатых проблема создания жизненного персонажа на манеже была вопросом ломки чуть ли не всех старых цирковых канонов?
Удалось решить эту проблему потому, что время работало на нас. Оно решительно требовало новых зрелищ, нового и в клоунаде. А для этого я обратился к наследству клоунов-дрессировщиков: Анатолия и Владимира Дуровых, авторов сюжетных буффонадно-эксцентрических скетчей (своего рода клоунских обозрений-агиток), братьев Феррони-Танти, к опыту необыкновенно добродушного и артистичного Рыжего — Эйжена, к творчеству Чарли Чаплина и его подражателя — Гиссельбарта и, конечно, к традиционному образу русского простака.
Но главный мой учитель — зрители. Они-то и были носителями революционного духа. Прислушиваясь, присматриваясь к людям в цирке и вне его, я пришел к пониманию того, какой персонаж им близок, может их увлечь.
— Нам, зрителям, было бы очень интересно узнать ваши мысли об искусстве клоунады, о вашей работе, которая так тесно связана с историей советского цирка.
— Но ведь в одной беседе всего не расскажешь. К тому же артист цирка не сидит на месте. Сегодня он в Москве, завтра — в далеком городе…
— И все-таки мы попробуем!
Так из наших встреч, бесед и раздумий сложилась эта книга.
Детство… Сырая комната в глубоком подвале, откуда через мутное окно под потолком видны ноги прохожих… Открытый всем ветрам Васильевский остров в Петербурге начала века. Многочисленные жилые подвалы здесь весной и осенью затоплялись невской водой. Мать умерла от туберкулеза в 1911 году, когда мне было пять лет, брату Косте — четыре, а сестре Лене — два года. С тех пор я нянчил младших, кормил, убирал, играл с ними в те долгие часы, когда отец — мастеровой завода «Симменс-Гальске» — бывал на работе. Отец отличался ровным характером, любил нас и уже задумывался, какому ремеслу нас обучить.
Помню, иногда я малевал на картоне, бумаге, на стенах фантастические пейзажи. Однако отца меньше всего интересовала романтическая сторона этой склонности, и он скоро сделал практический вывод: «Михаила надо отдать в чертежники». С этой профессией Николай Петрович был знаком на своем заводе, и в его глазах она была тем высшим, на что мог надеяться сын простого рабочего.
Учиться я пошел с радостью. Но школа встретила меня сухо. Наши шумные игры были ужасным нарушением царившего здесь порядка.
Заметив у двери классной комнаты учительницу, я, пользуясь малым ростом, нырял под парты и ползком добирался до своего места. А если вовремя сделать это не удавалось, делал вид, будто случайно очутился у чужой парты и происходящее ко мне никакого отношения не имеет. С видом примерного ученика направлялся к себе. Но, видно, была в этом заметная доля комизма, потому что однажды классная дама, едва удостоив меня взглядом, произнесла с французским прононсом слово «кляун». Это слово почему-то относилось именно ко мне, хотя в проделках участвовали многие.
Потом в нашей семье появилась мачеха. Игры, шалости пресекались ею самым решительным образом. Мы и гуляли под непосредственным ее наблюдением из окна. С нетерпением ожидали ухода мачехи в лавку — начиналась игра в войну. Строились из кроватей и стульев баррикады, в воздухе летали подушки… Сестра Лена дежурила у окна, и по ее команде: «Идет!!» — в комнате молниеносно наводился порядок…
Впервые я почувствовал себя хорошо, когда отец определил меня в художественно-ремесленную школу. Здесь было интересно. К тому же родилось новое ощущение свободы.
А потом появилось и другое, что все больше заполняло мою жизнь и называлось — «Петербург». Это слово вмещало в себя Народный дом на Кронверкском проспекте, своего рода театр, где я — двенадцатилетний мальчик — услышал Федора Шаляпина, и цирк на Каменноостровском проспекте, и музыку народных гуляний на Марсовом поле — там мы бывали с отцом в новогодние и вербные дни… На Лебедевском аэродроме увидел первые русские самолеты и полеты на них при огромном стечении народа. Повиснув на подножке конки, я мчался в синематограф на встречу с Мозжухиным, Верой Холодной, Максом Линдером. Чем больше город входил в мою душу, тем больше будоражил, заставлял мечтать и искать что-то свое.
Что же было «свое»? Этого я еще не знал. Однажды, наблюдая в Народном доме выступление гимнастов на кольцах, я подумал: они побороли робость, страх. Так вот в чем секрет их успеха и, наверное, успеха любого — побороть страх!
Выполняя волю отца, я учился черчению и рисованию в художественно-ремесленной школе. Отец был доволен. Теперь можно стать не только чертежником, но и литографом… Чего же еще требовать от жизни, особенно в такое трудное время?
Помню огромные заголовки газет, казачьи сотни, гарцевавшие на сытых конях вдоль рабочих домов на окраине Петрограда. Мальчишки во дворе маршировали с песнями:
Идет Германия на Русь,
Пойду с германцем подерусь…
А женщины плакали. Годы первой мировой войны запомнились неясным ожиданием каких-то событий. И они пришли.
1917 год. В ту грозную осень я увидел рабочие отряды и побывал на похоронах жертв революции на Марсовом поле. Трудные были дни. Один за другим останавливались заводы петроградских окраин. Найти работу было невозможно. Отец послал меня к себе на родину, в деревню Козлово, близ старинного тверского городка Старицы. Прежде я бывал там и всегда радовался встрече с Волгой, с мальчишеской свободой. Но сейчас все было иным. Я был голоден, плохо одет, умел я только рисовать. Но в маленьком селе, где даже не было клуба, об этом не могло быть и речи. Пришлось уехать в Старицу. Там меня приняли в городской театр художником по рекламе.
…«Бедность не порок», «Волки и овцы», «Собор Парижской богоматери»…
…«Премьера!.. Бенефис!.. Десятый спектакль!.. В ролях известные артисты местной драмы!..»
Афиши мне удавались. Они привлекали внимание. К сожалению, мои старания мало чем могли помочь театру. Он «прогорал». Подражание старой театральной моде в постановках, большое количество костюмов и бутафории только на первых порах привлекали зрителей. Спектакли шли при полупустом зале. Вместе со сборами падала и зарплата артистов. Кто-то предложил поехать по селам. Решили давать спектакли в клубах, на станциях, везде, где можно найти зрителей. Вместе с небольшой труппой поехал и я.
Заниматься пришлось не только изготовлением красочных реклам, но и организационными делами, даже изготовлением билетов. Помню, проставлял на листах из школьных тетрадей дату, ряд, место, прострачивал на швейной машинке «контроль» и заверял каждый билет «печатью», вырезанной из сырой картошки. А вслед за этим пришлось стать кассиром. И я часами сидел в тесном закутке, отвечая забегавшим артистам на один и тот же вопрос: «Как дела в кассе?» В свободное время закупал для всей труппы провизию, готовил завтраки, гладил костюмы, помогал артистам одеваться перед выходом на сцену. Меня посылали в качестве представителя для заключения договора на очередные гастроли.
Труппа насчитывала всего восемь человек, и неминуемо должно было случиться так, что в пьесах «Василиса Мелентьева» или «Анна Кристи», в которых было по двенадцать-пятнадцать действующих лиц, я стал выходить на сцену как статист. Несколько раз случалось, что некем было заменить больного артиста, и тогда мне наспех объясняли роль и вели на выход, только и дав возможность обтереть ботинки и причесать волосы…
Легче бывало в групповых сценах. Хотя по росту я выходил первым, но мне разрешалось не говорить, а лишь шевелить губами. «Публика — дура, не заметит», — уговаривали меня. И я покорно шел и шевелил губами, а куда идти, толчком в бок показывал идущий сзади актер. Такой выход нередко вызывал смех в зале.
Если хотите знать правду, первая встреча с театром не только не приблизила меня к искусству, а, наоборот, отпугнула. Почему? За время гастрольных поездок, перепробовав почти все театральные профессии, я понял, что наиболее привлекательной для меня остается работа художника по рекламе. Она казалась чем-то вещественным, зримым, настоящим на фоне той театральной условности, которую приходилось ежедневно наблюдать.
Театр меня раздражал своими штампами. Горе передавалось не иначе, как рыданиями, переходящими в истерику. Объясняясь в любви, человек должен был непременно стоять на коленях, а дочь — падать к ногам строгого отца… Вся эта искусственность называлась «классическими приемами». Помню, меня особенно возмущало, когда актер «по секрету, шепотом» говорил в полный голос в сторону зала. Фальшь в этом случае сразу передавалась игре остальных актеров.
Один спектакль я любил. Это было публицистическое представление «Синей блузы» — в постановке молодого московского режиссера Бориса Шахета (впоследствии главного режиссера Московского цирка). Здесь уже не было места для наигрыша, поскольку целью каждого обозрения была передача последних газетных новостей в духе боевого плаката. Такие обозрения имели огромный успех у зрителей, многие из которых в то время не знали грамоты и, естественно, не читали газет. Обозрения были очень разнообразны и доходчивы. В них использовались акробатика, музыка, танцы, пение, эксцентрика. Именно в «Синей блузе» я первый раз вышел на сцену, как уже говорил, шевеля губами.
Но «Синяя блуза» шла не часто, а театр своим рутинерством продолжал отталкивать меня. Я замыкался в кругу своих дел. Наблюдал, как реагируют прохожие на мои анонсы: выражение лица, время, в течение которого человек смотрел на афишу, — все это было для меня не менее важно, чем для иного артиста реакция зрителей. Но я понимал и другое: мои старания волей-неволей были направлены на поддержку слабых постановок. Именно они требовали наиболее громкой рекламы. Работать, оживляя то, что умирало естественной смертью, становилось все труднее.
Помню карнавальные вечера, которые труппа устраивала, чтобы привлечь зрителей. Устанавливались призы за лучший танец, за лучший костюм. Вечера проходили шумно. Я появлялся всегда в одном и том же костюме клоуна, сшитом из двух разноцветных полотнищ.
Карнавал 1924 года привлек особенно много участников. Среди ряженых расхаживал человек-печка. Из трубы выглядывала голова, и казалось, что человек просто «вылетает в трубу». Шляпа незнакомца очень напоминала крышу Старицкого театра, на козырьке была надпись: «Гортеатр». На шее тяжелым грузом висели фигурки зрителей-контрамарочников. На печи беззаботно почивал «штат» театра. Все это «сооружение» подпирал директор с безразличным видом.
Это был мой костюм. И надо отдать справедливость актерам, он был признан самым злободневным и остроумным. Правда, признали это артисты, а директор театра был очень обижен. Он не понял, что его художник в этот вечер прощался со Старицким театром…
Решение уехать было принято накануне. Я решил учиться.
Сентябрьским днем сошел я с поезда на Ленинградском вокзале Москвы.
Почему выбрал именно этот город? Москва манила меня множеством возможностей. Здесь можно было увидеть образцы настоящей рекламы и стать художником-оформителем.
В Москве 1925 года еще была безработица. На бирже труда в Рахмановском переулке я убедился воочию, что шансы на трудоустройство невелики. Ждать, как это делали сотни приходивших на биржу людей, было не в моем характере. И я решил не терять времени.
В садах «Аквариум» и «Эрмитаж», в театрах и кинематографах администраторы встречали меня недоверчиво. Только в кинотеатре «Экран жизни», куда я попал в разгар ссоры администрации с местным художником-оформителем, все решило желание директора доказать, что он может обойтись без недисциплинированного работника.
Мне дали первый заказ. Я его выполнил. Дали второй… Но когда зашла речь о зачислении в штат, пришлось выдержать немало испытующих взглядов. Основываясь на печальном опыте, администратор кинотеатра считал всех художников пьяницами. И на сей раз он ожидал банального исхода. Но время шло. Я был исполнительным юношей и скоро стал необходим в кинотеатре. На чердаке мне выделили небольшую комнатку. Это была и мастерская, и жилье. Вот тогда-то я по-настоящему почувствовал, что приехал в Москву.
В стране процветал нэп. По тесным, грязным улицам Москвы громыхали переполненные трамваи, мелькали крикливые вывески частников. Неторопливо осматривая город, я увидел в Столешниковом переулке надпись: «Кафе Де Гурме. Свежие конфекты, пти-фур, торты ежедневно из Ленинграда». И ниже: «Чарли Чаплин от 3 до 5 часов дня ежедневно пьет кофе!» Еще ниже красовалось фото, под которым было: «Чарли Чаплин. 1-й Госцирк». Не знал я тогда, какую роль в моей жизни сыграет эта встреча с артистом цирка — подражателем Чарли Чаплину.
Я присматривался к одежде города — плакатам, газетным стендам, транспарантам и афишам на тумбах, трамваях. Улицы стали моей школой.
По нескольку раз просматривал кинокартины, стремясь найти для рекламы наиболее выразительные кадры. Это осложнялось тем, что картины менялись каждые два-три дня. «Экран жизни» показывал фильмы студии «Межрабпом-Русь», киносборники, рекламируемые как «Вечер комедии», «Вечер смеха», «Гомерический смех!» и т. п. Смотреть приходилось немало. Вскоре меня стало увлекать и содержание новой ленты, игра кинозвезд Гарольда Ллойда, Вестера Китона, Монти Бенкса, Бена Тюрпина и других.
Помню, Вестер Китон был особенно интересен. Этот артист казался внешне равнодушным ко всему происходящему, порой даже страшному, что творилось вокруг него. Но он увлекал психологической точностью в игре.
Но ближе всех был великий Чаплин, хотя картины с его участием показывали редко. Я воспринимал Чаплина уже не просто как артиста, это было живое лицо. Характер, походка, костюм, поведение — все было знакомо, но всегда ново и захватывающе. Стремясь понять, в чем сила Чаплина, я постепенно стал отличать труд актера и режиссера, сценариста и оператора. Трюки раскрывались не только как развлекательные приемы, но и как глубокое искусство, которое, казалось, простыми средствами давало многое почувствовать и понять.
Почему меня не привлек столичный театр? Не забывайте, что я был юношей, увлечься или разочароваться мне было нетрудно. К тому же я работал в кинотеатре. Возможно, попади я в московский театр, все было бы по-иному. Но я попал в кино. Оно поразило новизной. Ощущение богатства жизни, чувство причастности к событиям на экране у меня было настолько острым, что я снова задумался: а как мне жить дальше?
Страшнее, чем любые невзгоды, была для меня серость. Значит, надо искать и развивать в себе способности. Но есть ли они?
Теперь, с высоты прожитых лет, этот «мильон терзаний» представляется мне очень важным. Ничто так не движет людьми, как недовольство собой, как страстный, пусть даже еще не очень целенаправленный поиск.
Однажды я был свидетелем чужого успеха. Случилось это 20 июля 1926 года. «Москва ждет гостей, — сообщали газеты. — К нам едут посланцы мирового киноэкрана Мери Пикфорд и Дуглас Фербенкс». Кто не знал в те времена эту знаменитую пару? Не раз мне приходилось рисовать плакаты к «Знаку Зерро», «Сердцу гор», «Багдадскому вору» и другим фильмам с их участием.
На следующий день у Белорусского вокзала, где уже собрались тысячи москвичей, мне с трудом удалось увидеть гостей. Только вечером в кинотеатре «Арс», на демонстрации фильма «Знак Зерро», я увидел кинозвезд совсем близко. В памяти остался не столько облик «живых» артистов, сколько энтузиазм сотен их почитателей.
Неподдельную радость вызывали у всех как бы сошедшие с экрана киногерои. Именно их героев, перенесших невероятные приключения, проявивших удивительные качества, приветствовала толпа. Личность артиста отступала на второй план… Но я был уже не так наивен. Я видел за всем этим труд артистов.
Еще шумела толпа, провожая кинозвезд, а я бежал по темным переулкам, весь во власти бурных впечатлений. Посвятить жизнь искусству, отдать себя творчеству, которое может быть так щедро вознаграждено признанием тысяч людей… — что может быть прекраснее?!
Мысль самому стать комическим артистом притормаживалась чувством неуверенности, жившей в глубине моей души. И вместе с тем я ощутил желание пойти наперекор всем трудностям. В жизни бывают дни, которые одним толчком направляют человека на новый путь. «Дерзнуть на большее или остаться при своем?» Еще не сказав себе ясного «да», я почувствовал: нет, я не мог остаться художником-оформителем.
Теперь каждый вечер я придирчиво осматривал себя в большом зеркале. Что можно сделать с этой фигурой? На что она Годится? Я принимал десятки разных поз, пытаясь увидеть черточки комического, которые можно было бы развить. Затем начинались гимнастические упражнения, потом акробатика.
Как-то я задумался. Акробатика и трюк! Нет ли здесь общего? Конечно, есть, если вспомнить острые моменты в некоторых кинобоевиках… Ну, например, погони по крышам вагонов и небоскребов. Значит, первая моя задача — преодолеть неуклюжесть, сделать тело послушным, гибким, подчинить моей воле.
С этого дня по ночам, когда уходили последние зрители и служащие кинозала, я собирал в фойе в кучу ковры и делал прыжки, перевороты, пытался ходить на руках. Получалось плохо. Но во мне стало расти понимание важности трюка. Почему именно трюка? В те годы кино было немым. Психологическая игра тоже еще не была на высоте. Поэтому в кинокомедиях, в приключенческих фильмах трюк был одним из главных выразительных средств. Нетрудно было вообразить, что он ключ к успеху.
Днем, в свободное время, я еще и еще раз смотрел в темном зале кинокомедии, учился понимать методику трюка. Так я открыл для себя, что в комическом эпизоде важна постепенность, предельная выразительность каждого движения, ведущего к финальной точке. В своей комнате я старался сразу повторить увиденное. Однако времени бывало мало, и довольно часто я продолжал заниматься мимикой на улице, на ходу, вызывая удивление прохожих. Вы улыбаетесь? Конечно, все это было еще несерьезно. Но мне очень важно было обрести некоторую уверенность в себе.
Как раз в эти дни я увидел на Цветном бульваре объявление о приеме на курсы сценического движения. В нем говорилось, что на курсах преподается художественная гимнастика, пластика, характерные танцы и акробатика. Я стал ходить туда по вечерам.
Скоро я почувствовал, что занятия помогают мне: уменьшилась неуклюжесть, которая еще с детства отличала мою походку.
Прошла зима, и хотя темп занятий не снизился, появилось сомнение: а что, если, несмотря на усиленные занятия акробатикой, во мне нет ничего комического? (Опять напоминаю: комизм виделся мне только в трюке.) Тогда все, чем я сейчас занимаюсь, окажется ненужным. Думать об этом было больно. Решение стать артистом за год не уменьшилось, а сомнения выросли. И они парализовали меня.
Я пошел в АРК — Ассоциацию революционной кинематографии, — где специальная комиссия проводила экзамен на находчивость, экспромт, быстроту реакции всех желающих стать артистами кино. Решение комиссии в отношении меня было ободряющим. Способности у меня нашли, но «материал», как сказали, еще «сырой». Впрочем, на большее я и не рассчитывал. И когда один из актеров, видевший меня на этой пробе (не помню его фамилии), сказал: «Вам стоит собой заняться. Продолжайте, и вы добьетесь успеха», — меня словно подхлестнуло.
Однако возврат к «самодеятельности» теперь мне казался шагом назад. Осенью я пришел в Государственный техникум кинематографии. Решил поступить на актерский факультет.
Помню, все коридоры техникума были заполнены поступающими. Здесь были и новички, и профессиональные актеры-практики. Многие из них отличались большой уверенностью в знании законов сцены, небрежно оперировали специальными терминами и шепотом передавали последние «секреты» из приемной комиссии. То и дело создавались и распадались «пятиминутные курсы» актерского мастерства. За несколько дней пребывания здесь я кое-чему научился. И когда предстал перед экзаменационной комиссией, то исполнил этюд, пожалуй, не хуже, чем мои «коридорные» учителя. В результате из пятисот человек я оказался в числе двадцати трех, выдержавших первый тур.
Однако, экзаменационная комиссия требовала от поступающих прежде всего знания политграмоты. По общественным дисциплинам я получил тройку и не был принят в техникум.
Это был удар. Но я решил не сдаваться и вернулся к тренировкам.
В эти дни случилось событие, совершенно изменившее мою жизнь. Я снова заметил на улице листовку. Объявлялся прием в школу циркового искусства.
Карандаш задумался. Возможно, он вспоминает свои первые шаги на школьном манеже, возможно, перебирает в памяти товарищей по классу, педагогов…
А я обратился к приметам того времени.
1927 год. Организация московской школы циркового искусства. И это в такие трудные годы, когда каждая народная копейка на счету, правительство заботится о подготовке кадров советских цирковых артистов.
Всего несколько лет отделяло учеников школы от сумятицы, царившей в первые годы Советской власти в представлениях многих артистов о судьбах искусства в эпоху революции. Декрет об объединении театрального дела, подписанный В. И. Лениным 26 августа 1919 года, утверждал демократическую основу циркового искусства. Первый народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский в статье «Задачи обновленного цирка» писал: «Подите в цирк… Присмотритесь к публике: это наша публика… красноармейцы, рабочие и их семьи. И один тот факт, что она до страсти любит цирк, показывает, что мы не смеем быть к нему равнодушными…»
Анатолий Васильевич Луначарский рассматривает главнейшие жанры цирка и утверждает, что «…клоун смеет быть публицистом, его великий праотец — Аристофан…», что пантомима — основное идейное оружие цирка, и призывает к развитию и обновлению циркового искусства: «…Придем на помощь труженикам цирка, людям огромной преданности своему делу, напряженной работы над собой. Очистим их искусство от грязи, удалим из него постепенно всякие безвкусные трюки и оставим за цирком его великие задачи: демонстрировать силу, ловкость, отвагу, возбуждать смех и восхищение блестящим, ярким и преувеличенным зрелищем».
Еще в конце 1918 года при театральном отделе Наркомпроса появилась секция циркового искусства. На Тверской открылся Дом цирка, в котором артисты, поэты, художники и музыканты Москвы жили подготовкой, обсуждением предстоящих реформ циркового искусства. Заезжал в Дом цирка Анатолий Васильевич Луначарский, участвовал в дискуссиях и удивительно терпеливо убеждал зарвавшихся спорщиков.
В 1919 году в Наркомпросе создается специальная организация по руководству цирковым делом в стране. В цирк пришли писатели В. Маяковский, Д. Бедный, И. Рукавишников, балетмейстеры К. Голейзовский и Н. Фореггер, художники П. Кузнецов и Б. Эрдман. Начали свои выступления в советском цирке клоун-дрессировщик Владимир Леонидович Дуров, великолепный наездник Вильямс Труцци, русский богатырь-борец Иван Поддубный, музыкальные клоуны Бим-Бом, соединившие в своих номерах шутки, куплеты, сопровождая их игрой на музыкальных (главным образом, эксцентрических) инструментах, акробат Александр Сосин, впервые в мире сделавший двойное сальто, джигит Али-Бек Кантемиров и многие другие артисты русского цирка.
Но цирк должен был позаботиться и о новых молодых кадрах артистов. Так родилась первая в мире государственная школа циркового искусства.
Карандаш показывает мне фотографии любимых им комических артистов и продолжает:
— Из объявления я узнал, что в школе обучали верховой езде, акробатике, гимнастике, жонглированию, музыке, пению. Все это поможет мне стать комедийным киноартистом. Решимость мне придало и то, что я слышал в ГИКе о школе режиссера Льва Кулешова, ставящего на первое место тренированность и выразительность тела артиста.
На вступительном экзамене я с трудом сделал сальто, стойку на руках завалил, а делая перемет, едва смог стать на ноги. И в результате — снова провал. Это было уже выше моих сил. Но единственное, чего я не утратил в эти, может, самые трудные дни в моей жизни, это настойчивости. Я обратился прямо к директору школы Анне Александровне Луначарской, опытному педагогу, члену партии, человеку, любящему цирковое искусство. Принят я был условно: сумею заниматься акробатикой — хорошо, не сумею — выгонят.
Я немедленно приступил к самостоятельным тренировкам. На берегу Москвы-реки в последние теплые дни работали мы с гимнастом Иваном Великановым. Начались занятия, и новый темп жизни захлестнул меня с головой. С утра бежал на занятия, днем тренировался сам, а вечером, когда уставшие мышцы уже ни на что не были способны, рисовал в «Экране жизни» киноплакаты. Это был мой хлеб, мой заработок.
Но, несмотря на все усилия, надо мной постоянно висела угроза исключения. Акробатика по-прежнему с трудом давалась мне, хотя занимался до седьмого пота. А когда окончательно выдыхался, то начинал комически подыгрывать товарищам. Смех давал разрядку, скрашивал неудачи. Вскоре меня стали считать неплохим импровизатором и советовали стать клоуном.
Почему я не прислушался к советам друзей? Клоунада в те годы не обладала в моих глазах таким обаянием, как кинокомедия. Нужно было произойти чему-то необычному, чтобы я изменил свои планы.
И вот весной, после сдачи зачетов нам объявили, что все ученики курсов поедут на практику в сельские районы. Былисозданы сценические группы по тринадцать-четырнадцать человек — представителей всех цирковых жанров. На курсах стало шумно, все с радостью собирались в путь, писали плакаты: «Цирк — массам», «Зрелище — советской деревне». Одному мне было невесело: при составлении гастрольных групп меня как акробата забраковали. Приходилось оставаться в Москве…
Неожиданно в одной из групп выбыл коверный клоун. Решили попробовать меня в этой роли: нарядили в яркий костюм и предложили что-либо сымпровизировать. Я что-то изобразил. Мнение педагогов и режиссеров было отрицательным: «Скован, неуклюж, невыразителен». Единственный, кто не согласился с мнением большинства, был молодой режиссер Марк Местечкин. Еще недавно, проходя по темному коридору курсов, он увидел, как я репетирую. По-видимому, я вел себя более свободно, но как только заметил, что за мной наблюдают, сразу «зажался». Местечкин сказал, что мне не хватает смелости или, как говорили в старом цирке, «куража», и он убедил всех оставить меня в группе: «Пусть поедет — обработается». На душе у меня кошки скребли. Вот так, очень буднично вступил я на путь клоуна.
На следующий день мы с ребятами отправились в костюмерную бывшего Никитинского цирка. Из сундуков я извлек парусиновые брюки с синей широкой клеткой, ситцевый оранжевый пиджачок с синими заплатами-карманами, рыжий парик и сплюснутый котелок.
Этот костюм и незамысловатый грим создавали облик унылого растяпы. Назвали его Васей. Это имя было распространено в студенческом кругу как кличка компанейских, «своих в доску» парней. Правда, меланхоличный Вася — это было что-то новое. Что он будет делать на арене, я пока не представлял.
И вот первый выход. В памяти осталась станция Бутурлиновка у Новохоперска, местный клуб в бывшей церкви. В первой же паузе я торопливо показал все свои акробатические трюки. И убедился, что трюк даже в смешном костюме не всегда вызывает смех. В остальных паузах я просто прятался.
Рассмешил ли я зрителей хоть раз? Да. Но это произошло как-то случайно. Я прыгнул — и услышал смех. В недоумении оглянулся. Смех повторился. Тут я увидел лежащий на арене котелок. Стало ясно, что котелок от прыжка полетел вверх и свалился, а то, что я недоуменно оглядывался, было принято за поиск его. Оценив ситуацию, я продолжал «поиски» котелка. Зрители продолжали смеяться. Ободренный этим, я на следующем представлении повторил шутку с котелком, но смеха не услышал. Обескураженный, ушел за кулисы, смутно понимая, что не сумел сыграть «нечаянность», «неожиданность». Вмешались товарищи. Они стали подсказывать старые трюки. Но я не хотел следовать этим испытанным приемам. Во мне проснулось упрямство. Хотелось найти что-то свое, то, чего не было в старой клоунаде. Но что?
Я все еще не собирался тогда стать клоуном, но рассуждал так: раз приходится выступать, надо делать это хорошо.
Первые удачи и неудачи с Рыжим Васей подсказали, что нужно создать живой персонаж, то есть надо найти такой облик и характер, в котором я чувствовал бы себя «как дома».
Начались эксперименты. Разные фасоны и цвет пиджака, брюк, котелка, манера носить их, новый грим постепенно меняли облик Васи. Казалось, что-то начинало получаться, но я смутно чувствовал, что, отходя от Рыжего Васи, я приближаюсь к чему-то очень знакомому. Готовясь к одному из выступлений, я понял, кому инстинктивно подражаю. В памяти всплыло объявление в Столешниковом переулке о московском Чарли Чаплине. Это был, как я узнал позже, комик у ковра — Гиссельбарт, выступавший в те годы в Первом госцирке на Цветном бульваре, один из первых подражателей Чаплина в России, он пользовался большим успехом, и неискушенный зритель нередко принимал его за «того самого Чарли». Я несколько раз видел Гиссельбарта, и мне запомнилась его манера играть не репризы, а определенный характер в различных возникающих на манеже ситуациях. Получалось это довольно удачно, и Чарли Гиссельбарта с тех пор стал для меня лучшим цирковым комическим образцом. Пытаясь теперь найти близкий мне облик коверного, я совершенно незаметно приблизился к знакомому по кино и цирку персонажу.
Но меня все еще мучили сомнения. Хотя этот персонаж и был проверен на зрителях, он был неоригинален. А к заимствованию у меня никак не лежала душа. Тогда я решил «оциркачить» строгого черно-белого Чарли, сделать ему красный фрак, бежевые брюки, желтые ботинки. На этот костюм ушли все деньги, полученные за гастроли. В результате Чарли пропал: вместо него из зеркала на меня смотрел обыкновенный традиционный Рыжий! Волнуемый мрачными предчувствиями, я вышел на сцену. Публика встретила холодно. Только впоследствии я понял: это было равносильно тому, как если бы вас угостили морковкой голубого цвета. Попытка играть в костюме Рыжего так хорошо знакомый характер Чарли окончилась неудачей. Пришлось вернуться на исходные позиции Рыжего Васи.
Но идея вжиться в характер Чарли, сделать его своим, не оставляла меня. Прежде всего я перекрасил красный фрак в черный и начал работать перед зеркалом, пытаясь в каждой детали костюма добиться такой же, как в облике Чарли, тонкой и точной выразительности. Мне казалось, что в самом Чарли был какой-то секрет успеха. И если мне удастся овладеть им, то в дальнейшем я перенесу его на что-то свое и тогда уже смогу быть оригинальным.
Осенью снова начались занятия. Студенты стали получать стипендию, и я смог наконец распрощаться с «Экраном жизни». Правда, с жильем было туговато.
Однако учебный год принес новые трудности. Если по акробатике и гимнастике меня выручал опыт летних гастролей, то на уроках актерского мастерства я терялся и не мог произнести ни слова. Сказывалось и то, что летом я слишком много внимания уделял костюму и мало — актерской выразительности. Я выходил в перекрашенном черном фраке. Это отличало меня от товарищей, обычно одетых в цветные костюмы. На курсах скоро привыкли к моей черной фигуре и называли меня Миша Чаплин.
Однажды режиссер Дмитриев-Ллойд предложил мне выйти на манеж Московского цирка. Да, да! Это не было шуткой! Просто Гиссельбарт был в какой-то из дней выходным, и его некем было заменить. Несколько дней я старался унять нервную дрожь при мысли о таком ответственном выступлении. Но волнение росло и достигло апогея как раз тогда, когда инспектор московского манежа объявил мой выход. Я вышел в костюме Чарли, механически сделал несколько шагов по барьеру. Тысячи глаз совершенно парализовали мою волю и движения. Я упал на манеж.
Так кончился этот дебют. На другой день я посмотрел представление, в котором потерпел неудачу. Оно блистало красками, музыкой, поражало отвагой и мастерством артистов. Вчера все это прошло мимо меня. Я был изолирован от действия, не заразился его праздничным настроением. А надо было стать частицей праздника, одним из его равноправных участников. Это уничтожило бы страх, скованность, робость. Такой дорогой ценой давались мне иной раз уроки.
Весной 1929 года студенты цирковой школы снова выехали на летние гастроли. Я, ожесточенный неудачами, совершенно умышленно выбрал роль коверного клоуна. Однако на подмостках Вязьмы, Смоленска, Витебска с удивлением почувствовал себя на этот раз увереннее, легче и, главное, веселее. Сказывалась упорная работа над собой после провала в Московском цирке.
Я продолжал выступать как Рыжий Вася, а в памяти возникали многочисленные комические положения с настоящим Чарли Чаплином. Фильмы с его участием научили меня вниманию к мелочам как в действиях, так и в реквизите. Я понял, что трюк физический совсем не всесилен, и Чаплин со своим характером стал постепенно затмевать во мне акробата и гимнаста.
Теперь было видно, что моя игра становится иной. У моего персонажа появлялся характер. Чем дольше он жил на арене, тем становился более непринужденным. Публика все теплее принимала Рыжего Васю.
Нет, я не собирался останавливаться на Рыжем. Вася казался мне теперь неинтересным. Когда в Московском цирке еще раз представилась возможность «заполнить окно», я снова надел черный костюм. И как нарочно, за кулисами столкнулся с Дмитриевым-Ллойдом. Тот, вспомнив зимний провал, схватился за голову. Но я выходил на ярко освещенный манеж уверенно. Вася многому научил меня, прежде всего — сценической непринужденности. Зрители это сразу почувствовали и встретили меня неплохо. В следующих паузах я бодро провел одну за другой комические сценки и закрепил успех.
В тот волнующий вечер я понял, что трюк «звучит» только тогда, когда он «работает» на определенную цель или человеческий характер. На следующий день мы уезжали на практику в Ереван.
В ереванском цирке «Колосс» я вышел на манеж в костюме Чарли. Маска Чарли казалась мне значительной, современной. Думаете, меня ждал успех? Ереванская публика не приняла моего Чарли. Пришлось срочно надеть костюм Рыжего Васи. В роли Васи мне было легко, я мог чудить на арене, как на студенческой вечеринке. Но эта легкость оказалась обманчивой. Очень скоро я столкнулся с проблемой: что делать на манеже? Исполнять старые, заезженные репризы традиционных Рыжих? Никакой более сложный репертуар не годился бы для такой маски… Решение подсказали зрители.
В Армении клоун смешил не сам по себе, а потому, что им занимались зрители. Первые ряды партера все время вмешивались в действия Васи. У него постоянно крали шляпу и трость, только чтобы посмотреть, как он будет реагировать. И конечно, Васе приходилось искать свои вещи среди публики. Он находил и пытался их отобрать. Нередко случалось, что в этой «борьбе» зрителя приходилось стаскивать из кресла прямо на барьер. Зал смеялся. Доволен был и пострадавший зритель. А я нет. Привыкни к такой манере здесь, думал я, так и пойдут потом в игре грубость и примитив. Не дожидаясь окончания сезона, я уехал в Москву…
Пожалуй, школа циркового искусства играла больше организующую, направляющую роль. Она росла вместе с нами, помогала советом, поддерживала материально. Школа ставила задачу — воспитать артиста широкого профиля, гармонично соединяющего в себе и акробата, и гимнаста, и жонглера, и наездника, и просто грамотного человека. Такая система была, конечно, шире старой, семейной подготовки.
В 1928 году у школы появилось свое здание с круглым манежем. Мы присмотрели его на Пятой улице Ямского поля. Это помещение было занято Гужтрансом. Целое лето с ним шла война, пока наконец ассенизационные обозы не покинули двор. Осенью я писал отцу в Ленинград: «Наконец мы будем иметь постоянное здание. Ведь мы — первая в мире школа цирка».
Когда со своими немногими пожитками мы перебрались в новое помещение, первым делом (без всяких собраний, совещаний) стали с большой любовью приводить его в порядок, очищать от сена, старых оглобель, колес. Многие из нас не имели тогда своего угла для жилья и быстро облюбовали для этой цели решетку над будущим учебным манежем, куда забирались по веревочной лестнице и устраивались ночевать на остатках сена. А Роман Ширман (известный сейчас коверный клоун, а тогда большой выдумщик и шутник) ловил на улице бездомных собак и спать укладывался вместе с ними, «чтобы было теплее»…
Осенью 1929 года в училище было открыто отделение клоунады, куда меня перевели из акробатического отделения. Я радовался переводу. Это было практическое признание моих первых успехов в клоунаде.
Проблема актерского мастерства захватывала все больше. Ведь клоун и комедийный артист — это почти одно и то же… Такой вывод мирил меня с клоунадой. И все же я посещал занятия по акробатике, верховой езде, жонглированию, работе на трапеции.
Занятия в тот год шли нерегулярно. Новое помещение требовало немалых затрат на оборудование. Денег не было. В довершение всего возникла проблема преподавательских кадров. Перед первым выпуском необходимо было создать индивидуальные цирковые номера. И вот некоторые артисты цирка, преподававшие в школе, стали опасаться, что они готовят себе конкурентов…
Это были остатки старых, кастовых предрассудков. Раньше молодой артист мог выйти на манеж только из цирковой семьи, продолжая традиции родового клана с его достижениями. В задачи первой в мире цирковой школы входило разрушить эту традицию и заложить основы массовости цирка. Наши руководители не только вели борьбу с косностью некоторых акробатов-педагогов, но и заботились о том, чтобы первые выпускники школы не ударили лицом в грязь перед опытными артистами на профессиональном манеже.
Первый раз недоверие к себе я почувствовал в Ереванском цирке, где стало известно, что я сын не циркового артиста, а слесаря. Многие, в том числе директриса, советовали мне оставить работу в цирке.
По-прежнему по вечерам я думал о характере и внешности своего персонажа. Прикидывал перед зеркалом костюм Чарли. Он казался мне самым выразительным. Немало опытов делал я со своей фигурой, брил голову, примерял различные костюмы, снимался в разных позах. Но отсутствие опыта и уверенности мешали разобраться в действительных и кажущихся возможностях. Я твердо считал невозможным для себя идти по пути грубой клоунады, это было органически чуждо мне. Может, поэтому я и остановился на маске Чарли. Помню, как я изменял, ушивал фрак Чарли, придираясь к каждой мелочи. Одна работа над пуговицами заняла несколько дней. Я стремился особой расстановкой пуговиц создать контур, который был бы и смешным, и одновременно приятным для глаза. Это удалось, и я чувствовал, что внешне персонаж складывался.
Главная трудность — создание своего репертуара — ждала меня впереди. Но пока я думал не об этом, а лишь о совершенствовании своей комической манеры, о поведении на манеже и т. п. Я считал, что любви зрителей клоун может добиться и смешной внешностью, и поступками, которые будут соответствовать определенному характеру. А если зрители полюбят самого комика, они хорошо примут и его шутки.
И вот финал: в феврале 1930 года в нашей учебной группе должен был состояться выпускной экзаменационный просмотр. Была составлена цирковая программа из двух отделений, в которой преобладала акробатика. Из клоунов в первом отделении был занят я.
«Подает надежду» — было общим мнением комиссии. Нового коверного согласились аттестовать, а всех выпускников обязали две недели давать платные представления в помещении училища. Этим достигались две цели: обкатка номеров перед выходом на профессиональный манеж и сбор средств для покупки учебного инвентаря. В это время школа уже была переименована в училище циркового искусства и перешла в подчинение Наркомпроса. В училище собралась группа квалифицированных преподавателей, прекрасно знающих специфику циркового искусства. Опытные педагоги приоткрыли тайны актерского мастерства, научили будущих артистов цирка с уважением относиться к своей профессии и гордиться ею.
Меня признали профессиональным артистом. И сразу же выросли новые проблемы. С чего начать? Каков будет мой герой? Что он будет любить и ненавидеть? В чем его индивидуальность?
С этого дня мне приходилось ощупью искать свой актерский путь, а пока я только с волнением совершил свой второй в жизни самостоятельный шаг на манеж — туда, где мне предстояло еще найти себя.
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
О ТОМ, КАК НЕЛЕГКО НАЙТИ СЕБЯ
 В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.
В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.
Ранней весной 1968 года, когда на полях только начинал таять снег, мы встретились с Карандашом в Туле, в новом, большом здании цирка. Карандаш возглавлял цирковой коллектив и был необычайно деятелен. Он вникал во все, что имело хоть малейшее отношение к представлению, от содержания номера до работы униформы: стремился помочь артисту в переделке и ремонте реквизита, решал вопросы освещения и оформления арены, выяснял причины вчерашней «накладки» в одном из номеров программы, договаривался по телефону о шефском выступлении на предприятии города. Его можно было видеть и во дворе, и на конюшне, где на этот раз в тесных клетках ворочались медведи Валентина Филатова. Рядом с ними Карандаш выглядел особенно маленьким, но голос его гремел, и, кажется, даже медведи робели, заслышав его.
Как режиссер он был чрезвычайно требователен, порой даже придирчив. Однако вечером я почувствовал, что стройность цирковой программы, слаженность, хороший темп имеют прямую связь с напряженной работой Карандаша.
Очень внимателен он к молодым артистам, к каждой детали их костюма не только перед выступлением, но и на репетиции. Помню возмущение Карандаша по поводу выхода молодой артистки на репетиции босиком.
— Вы не уважаете цирковой манеж! — негодовал он. — Это место не терпит небрежности.
По вечерам мы гуляли с Карандашом по улицам Тулы, и поводок Кляксы обычно гордо держал кто-нибудь из юных друзей артиста. А потом мы возвращались в гостиницу к нашим беседам.
Однажды я спросил артиста, почему он отказался от маски Чарли.
— Коротко ответить на это трудно. Сначала я был увлечен великим комиком кино, но думал только о том, как бы в облике Чарли Чаплина дать зрителю что-то свое. Порой мне это удавалось, и я искал новые комические черты.
В те годы выступать в облике всемирно известного комика, в период расцвета его творчества было нелегко. К тому же подражателей Чаплину было немало.
Долго трудился я над своей сценической внешностью. Например, над покроем пиджака. Цель состояла в том, чтобы научиться выражать настроение спиной. Это задача важная для любого клоуна, выступающего на манеже, где число положений «лицом к зрителю» равняется числу положений «спиной к зрителю».
Далее надо было найти удачный покрой брюк. Я понимал, что мешковатость в костюме Чарли Чаплина на киноэкране была не чем иным, как тщательно продуманной черточкой в облике комика. Я стремился повторить ее и, крутясь у зеркала, сам делал на брюках выточки, напуски, а дома с иглой и ножницами дорабатывал их.
Как раз в те дни я узнал, что в Чикаго проходил конкурс подражателей Чаплину. Из нескольких десятков участников, стремившихся добиться наибольшего сходства с кинооригиналом, первое место досталось малоизвестному актеру кино и варьете Аркадию Бойтлеру, два других — не помню кому, а на четвертом месте оказался… настоящий Чарли Чаплин!
Это курьезное сообщение ободрило меня. Значит, заключил я, для того чтобы достигнуть совершенства в маске Чарли, не обязательно быть самим Чаплином… К тому же появление Чарли в цирке открывает большие возможности перед артистом. И я возобновил тренировки.
Вместе с артистами Семеном Маслюковым и Яном Кадыр-Гулямом во дворе цирка «вертел» сальто-мортале. Для акробатов-профессионалов это была любимая тренировка, для меня — трудная учеба. Я нередко уходил на берег реки и там, в уединении, снова прыгал, падал в мягкий песок, а иной раз и в воду. За обедом или в трамвае я занимался мимикой. Всем своим существом я был полон азарта, как игрок, который верит в свое счастье.
В то время мои пародии на цирковые номера были легки и ненавязчивы. Их принимали неплохо.
Помню, артист Илья Ильсаров выступал на манеже с оригинальным музыкальным номером. Из небольшого ящичка с антенной он мановением руки извлекал различные мелодии, мог имитировать голос, различные инструменты. Затем выходил я. Из своего котелка и трости сооружал подобие волшебного аппарата и комическими заклинаниями тоже извлекал из него звуки, напоминающие голос чревовещателя. Случалось так, что голос этот звучал и после того, как я снова надевал котелок. Тогда я «разоблачал», вытаскивал из-за кулис униформиста с бумажным рупором, а сам убегал.
В другой паузе, копируя кавказские танцы, я «откалывал» сложные па с морковкой в зубах вместо кинжала. Когда танец кончался, оказывалось, что морковка съедена. Зрители смеялись, все как будто шло хорошо, но в какой-то момент я вдруг начал переживать, что мои шутки исполняются без слов. Попробовал заговорить и потерпел неудачу. Каждое новое выразительное средство требовало осторожного применения, чтобы не разрушить, а укрепить персонаж. Со смущением я прочел на следующий день в смоленской газете, что «молчание для коверных — золото, в то время как их остроты далеко не всегда бывают серебром».
В Краснодаре я почувствовал себя смелее. Вечером на премьере, когда зрители изнывали от жары, я забрался на галерку с ведром, веником и полотенцем. Зритель понял намек на парилку и ответил дружным смехом. Но я не нашел концовку: не сумел эффектно уйти «из парилки». Мой уход — такой важный момент в репризе — остался незамеченным… «Каждый шаг на арене должен нести смысловую нагрузку, особенно финальный», — сделал я для себя вывод. С тех пор особое внимание всегда обращал на завершение комической ситуации.
В ноябре наш цирковой коллектив начал большие зимние представления. Баку был третий город наших гастролей. Здесь предстояло работать около шести месяцев, программа за это время должна была смениться шесть раз.
Да, да, большая нагрузка для клоуна. И вот почему: коверный всегда зависит от основных номеров, старается сработаться с ними. В большой цирковой программе клоун у ковра, как никто более, чувствует неувязки первых представлений, и, если нет у него необходимой выдержки или опыта, он легко может впасть в отчаяние от «накладок» или попросту ошибок, срывов. В Баку я впервые узнал, как создается или, как говорили артисты, «срабатывается» цирковая программа, сливаясь из разнородных номеров в нечто целое, называемое представлением. Премьерные дни были, по существу, своеобразной репетицией, после которой появлялась должная сыгранность.
Наконец кончились каждодневные накладки, ссоры за кулисами и наступили цирковые будни. Казалось, коверному можно работать так же спокойно, как и артистам основных жанров. Но спустя месяц я вдруг почувствовал, что тепло встретившая меня вначале бакинская публика стала охладевать. Дело в том, что я показал ей все, мой запас реприз был исчерпан. Что делать? Я был в отчаянии В этот трудный момент пришлось обратиться к старым, традиционным шуткам.
За свое отступление я был наказан: каждый раз, уходя с арены, чувствовал неприятную оскомину из-за фальши, которую приходилось преподносить зрителям. К тому же буффонадные репризы отрывали меня от чаплинского характера. Это заставило работать с удвоенной энергией мою фантазию, изобретательность.
Стал искать смешное в самой программе. По ходу действия «совал свой нос» в работу униформы, в установку аппаратуры и реквизита. Импровизации начали удаваться. Но вскоре последовал новый удар.
Бакинский журнал «Темп» писал, что клоун Чарли Чаплин проявляет «большую изобретательность, находчивость, незаурядные способности пародиста», но тут же добавлял к этим похвалам ложку дегтя: «Смех, которым он заражает цирк, — физиологический. Артист нашел форму, но не сумел осмыслить свои трюки»…
Ну что тут было делать? Как мне более органично включиться в программу? Тогда мои трюки были бы оправданны. Ломал я над этим голову ужасно. Положение было трудное еще и потому, что мешала старая традиция. В цирке бывало так: Рыжий появлялся в паузах и, как только объявляли следующий номер программы, спешил убраться за кулисы. Артисты основных номеров ревниво следили за вниманием зрительного зала и не допускали вмешательства коверного в свою работу. В особенности это относилось к молодым клоунам, которых старые артисты частенько считали чужаками.
Постепенно во мне стали признавать «своего», привлекали к участию в основных номерах, чтобы дать передышку артистам. Правда, я все время боялся переиграть, в чем-либо отойти от характера Чарли.
Летом 1932 года Казанский цирк готовился принять большую группу артистов — «сливки» Московского и Ленинградского цирков. Ожидался приезд Владимира Дурова, известного буффонадного трио клоунов Роланд, Кокс и Брокарс, ленинградских коверных клоунов Франца и Фрица, европейского дрессировщика белых медведей — Людвига Медрано… Неожиданно Центральное управление цирками решило заменить Франца и Фрица на молодого коверного Чарли Чаплина. Я должен был срочно выехать в Казань.
В Баку я привык к быстрому темпу и маленьким паузам между номерами. Ведущий казанскую программу Северов придерживался противоположного принципа. Под его руководством программа шла неторопливо, паузы растягивались, ведущий находил возможным даже после объявления следующего номера пересмеиваться с коверным, хотя на арене давно должны были появиться артисты. Это нервировало, раздражало меня, но я должен был во что бы то ни стало органично войти в программу.
Действительно, почему ведущий не может поощрять клоуна на экспромт? Нужно научиться свободно жить на арене, хорошо подавать репризу, лаконичную или расширенную. В любом случае зрители должны ощущать естественность, относя разный темп игры к характеру, настроению, даже капризу персонажа.
Двигаясь от репризы к репризе, я придумал свой недельный план подготовки, называя его по примеру тех лет «пятидневкой в четыре дня». В репризах начало появляться самое трудное — ударные концовки, и выходы мои стали более эффектными и стройными.
Постепенно я проникся глубоким уважением к древнему искусству цирка. Здесь все было настоящее. Завоевать расположение его тружеников можно было только полной отдачей себя цирковому искусству. Тем большей наградой стало дружеское внимание ко мне ветеранов цирка: Владимира Леонидовича Дурова, Вильямса Труцци и доброжелательные отзывы зрителей.
Карандаш показывает мне документы тех лет. Вот постановление дирекции Смоленского цирка: «Тов. Чаплина за большую работу над собой, удачное пародирование номеров на манеже, поднятие актерской квалификации, усердную работу, которая способствовала выполнению цирком промфинплана, премировать костюмом».
Бакинского: «Худполитсовет Бакинского цирка считает т. Чарли Чаплина весьма талантливым актером и полагает, что при оказании ему помощи со стороны ЦУГЦа
[1], как пролетарскому по происхождению артисту, он в ближайшие годы мог бы занять первое место среди коверных этого жанра. Основание: отзывы рабочих и мнение членов худполитсовета».
Я вспоминаю рассказы о первых конференциях организованного рабочего зрителя, сопровождаемых демонстрацией номеров разных жанров с соответствующими пояснениями. Впервые в истории цирка зрители открыто критиковали артистов. Особенно доставалось исполнителям разговорных и музыкальных жанров за репертуар.
Заслуженный артист РСФСР Иван Семенович Радунский (музыкальный клоун Бим-Бом) вспоминал впоследствии такой случай. В 30-е годы в Воронежском цирке он встретил иностранных акробатов «2 Танус». Один из артистов был загримирован американцем, другой — негром. По ходу номера первый издевался над вторым… Возмущенные зрители написали в газету. Номер был снят. Так нетерпимо относился советский зритель к чуждой для его цирка идеологии.
Карандаш продолжал листать свой дневник.
— Да, в то время у людей менялись представления о жизни, убеждения, привычки и вкусы. Зритель становился взыскательнее, строже. И чем больше я работал, тем сильнее росло во мне чувство особой ответственности артиста перед зрителем. А я изображал комика в общем-то далекого от всего русского, советского. К тому же слишком много развелось подражателей Чаплину и в цирковых труппах, и в эстрадных ансамблях. Этому были свои причины. Прежние комические маски выглядели чересчур архаичными на фоне бурно менявшейся в стране жизни. Что играть? Какой клоун более современен? В поисках многие комики цирка и эстрады невольно обращались к современному киноэкрану, где блистал своими трагикомическими пантомимами маленький человек Чарли Чаплин, раздавленный жизнью и все-таки пытающийся сделать вид, будто дела его совсем не так уж плохи.
Приехав в Смоленск, я узнал, что здесь уже побывал один Чаплин, и публика принимала его хорошо. Выступать после такого предшественника было трудно. Но делать было нечего. И вот когда, казалось, уже удалось убедить зрителей, что «Чаплины» бывают разные, в цирк приехали иностранные артисты Кентш — акробаты на турнике, в труппе которых принимал участие и комик… Чарли Чаплин.
Я почувствовал, что потерял себя… Одно дело было выступать после похожего на тебя артиста и другое — работать вместе с ним на одном манеже. Зрители чувствовали, что на арене происходит какой-то фокус.
Теперь я начал понимать, что близость зрителям, взаимопонимание давались мне с таким трудом именно из-за противодействия моего персонажа. Чем больше я входил в образ Чарли, тем больше он обнаруживал свое иностранное происхождение и несоответствие среде, в которую попал. Но не нужно думать, что я сразу все понял и легко расстался с Чаплином. Он был близок мне по своим комическим приемам и, может, поэтому так тревожил.
Попробовал особо тщательно работать над концовками реприз, стремясь поставить финальную точку в каждой сценке. «Узаконенные» приемы, посредством которых обычно выражались клоунские эмоции, раздражали своей избитостью. Я стал попросту все делать совсем иначе. Например, при падении не играл боль от ушиба. Зритель ждал, что я заплачу, а я смеялся. Психологически это походило на реакцию здорового ребенка, который своим смехом переводит окружающих с испуга на радость, как бы показывая, что он не ушибся.
Я искал образ, близкий советскому зрителю, показывая те распространенные черты характера, которые знакомы каждому.
Надо сказать, что мои шутки на арене имели успех прежде всего у детей. Я смущался, когда малыши узнавали меня на улицах. И все же было приятно иногда услышать от учителей, что школьники подражают повадкам полюбившегося им клоуна.
В те годы мне нередко случалось обходить зрителей, собирая пожертвования в пользу МОПРа (Международное общество помощи рабочим) или зарубежного пролетарского театра. Было заметно, что детям приятно самим отдать мне монетку.
Однажды на детском утреннике, едва я показался на лестнице между рядами, ко мне потянулись десятки детских рук. Ребятишки теребили меня, как любимую куклу, которую надо непременно поломать, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Я отделался легкими царапинами, сбитым париком, размазанным гримом… Этот случай заставил меня подумать о специальных детских репризах.
А что, если бы ребенок захотел подражать, например, джигиту, как бы он это сделал? Накинув огромный «мамин» халат и заломив меховую муфту на голове, с «дедовской» палкой через плечо шагал я на манеж с криком: «Асса!» Как было условлено, униформисты сначала задерживали непослушного джигита, а потом, пугаясь его «ружья», разбегались во все стороны.
Игру коверного поддержал руководитель группы джигитов Туганов, отобрал палку-ружье и «выстрелом» настолько испугал «джигита», что я убежал, расталкивая всех на пути.
— Вам не кажется, что это несколько примитивно?
— Кажется. Но несмотря на это, я остался доволен новой сценкой Впервые в моих действиях появились признаки детского поведения. Я вдруг понял: черты детски бесхитростного простодушия, смелости и смышлености — ключ к более тонкому и мягкому образу комика…
Однако очень уж взрослым, одиноким был Чарли. Показать его молодым — значило изменить саму основу его характера. Решиться на это было трудно. И все же я стал пробовать «прививать» новые привычки, черты характера своему персонажу.
Меня подстегивали репертуарные трудности. Обилие «Чаплиных» порождало заимствование реприз друг у друга, что вообще довольно сильно было распространено в цирке. Чтобы застраховаться от этого, я избегал реприз с реквизитом, то есть с каким-то приспособлением, вещью, в действии которой и заключался главный фокус смешной сценки. Сделать реквизит и механически повторить репризу было легче, чем заимствовать у своего коллеги актерские приемы, мимическую выразительность. В этом последнем случае «кража», если ее удавалось хорошо совершить, была даже почетна и походила на творческое заимствование…
В те дни в моей работе наметился перелом. Если раньше я стремился копировать экранного Чарли, приспосабливая к нему свои возможности, то теперь шел по противоположному пути, стараясь подчинить чаплинские внешние данные своему характеру. Однако мой персонаж был живее, чем того требовал грустный чаплинский юмор. В сочетании нового характера и прежней внешности незаметно рождался измененный чаплинский облик.
В этом характере уже не было чаплинской грусти маленького человека, фатализма, просвечивающего даже сквозь его смелые поступки. Мой «Чарли» стал оптимистом. Не грусть, а задумчивость, готовая разрядиться неожиданным действием, не фатализм, а активность в поступках — так выглядел в моем исполнении этот персонаж.
Вот как дорабатывалась реприза в Воронежском цирке летом 1933 года. По ходу номера воздушный гимнаст Амадори жестом пригласил меня влезть на мостик. Конечно, подражая артистам, я попытался схватить качающуюся трапецию. Мешал маленький рост. Но я был упрям, «выскользнул» из рук артиста и, упав на предохранительную сетку, изобразил такой испуг, что, казалось, дрожат и сетка, и крепления, и весь цирк. Спасаясь, бежал по сетке, спрыгивал и с криком ужаса убегал с арены. Зал смеялся.
Перед тем как повторить сценку на следующем представлении, я решил усилить эффект и стал убегать в фойе, где обычно снуют официанты с подносами, уставленными бутылками пива и лимонада. Учитывая, что зрители это знают, я попросил униформиста встать у входа с жестяным баком, полным гаек и болтов. Убегая со всех ног, я с шумом прокатывался по кафельному полу, как по льду, а униформист вытряхивал из бака все содержимое. Звон разбитого стекла, грохот создавали впечатление, что коверный наскочил на официанта с полным подносом посуды.
В этой репризе была непосредственность, живость и… заключительная точка. Из строгого чаплинского костюма еще раз выглянул новый персонаж.
Летом 1934 года неожиданно пришло извещение, что управление цирков направляет меня на предстоящий цирковой сезон в Ленинград. Это было большое испытание для артиста со столь небольшим стажем.
Ленинград считался тогда Меккой циркового искусства. Ленинградские артисты, режиссеры, зрители воспитывались на лучших образцах русского и европейского цирка. Они впитали все ценное, что оставил старый петербургский цирк Чинизелли. Этот цирк был популярен в Петербурге. Его любил простой народ, да и знать жаловала, назывался он «императорским», хотя в основном успех его артистов определяла галерка. В цирке Чинизелли выступали Владимир и Анатолий Дуровы, клоун Жакомино, наездник Вильямс Труцци и многие другие цирковые артисты, создавшие русский цирк. Они отличались не только мастерством, но и демократичностью своих взглядов. Вильямс Труцци, например, стал после Октябрьской революции первым советским директором национализированного Петроградского цирка. Мы, молодые артисты, не только уважали Ленинградский цирк, но и побаивались его. Там легко было потерпеть неудачу у зрителей, знающих лучшие цирковые имена России и Запада, тонко разбирающихся в цирковом искусстве.
Так что лучше не спрашивайте, как меня приняли ленинградцы. Сюрпризы начались сразу же. Прежде всего я узнал, что три сезона подряд здесь с успехом выступал у ковра клоун Павел Алексеевич (артист Павел Алексеев). Он выходил не в традиционной клоунской маске, а скорее в шаржированном образе управдома, учрежденческого работника или обывателя в стиле рассказов Зощенко. Это было ново для цирка, к тому же Павел Алексеевич был хорошим комическим артистом.
Узнав о таком предшественнике, я встревожился. Хотя я и был ленинградцем, но как артист чувствовал себя провинциалом, который вряд ли сумеет обратить на себя внимание требовательного зрителя.
После нескольких вечеров, когда зрители неизменным молчанием провожали «Чаплина» с манежа, в «Ленинградской правде» появилась рецензия, где говорилось, что не для того наш цирк отказался от обезличенных «Рыжих» с именами Жорж, Макс и т. п., чтобы прийти к другой обезличке под именем Чарли. Художественное руководство цирка потеряло ко мне интерес и стало вести переговоры с Павлом Алексеевичем о возобновлении его гастролей. Никто не скрывал, что выходить на арену мне не препятствуют лишь потому, что Павел Алексеевич занят в Ленгорэстраде и его некем заменить. Казалось, вернулось то время, когда я был начинающим артистом и предпринимал робкие попытки утвердить себя на манеже.
— Не вернее ли было сразу искать новый персонаж?
— В такой трудный момент это мне было не под силу. Павел Алексеевич работал в городском саду, и я познакомился с его игрой. Очень скоро увидел свои недостатки. Даже то, чем я раньше гордился, — создание характера экранного Чарли средствами пантомимы казалось теперь бледным, жесты невыразительными. Во всем сказывался артист-самоучка. Сетовал я на то, что мало бывал в театре, и, как никогда, нуждался в хорошей школе сценического мастерства. Первое правило, которое усвоил я в Ленинграде, это ритмичность в исполнении комических сценок. Смешное в них по мере развертывания действия должно было сменяться характерным поведением. Ритм в движениях на сцене, в речи делал репризу более доходчивой.
Постепенно постигал я искусство полноты жеста. Обычно, если я поднимал руки в стороны или вверх, они оставались еще в какой-то степени согнутыми в локтях. Этот не всегда заметный постороннему глазу «запас» давал возможность добиться большей выразительности жеста.
Но на манеже я по-прежнему чувствовал себя скованно. Инспектор, не веря в меня, стремился делать паузы между номерами как можно меньше и, даже если я не успевал закончить очередную репризу, все равно объявлял следующий номер…
Появились афиши: «В программе выступает Отто Лейнерт. Аттракцион «Человек-снаряд». Номер заключался в том, что на арену по рельсам вывозили огромную пушку, из которой вылетал гимнаст. Нечто подобное было показано в кинофильме «Цирк». Оборудование для аттракциона устанавливалось очень долго, и волей-неволей дирекция попросила меня сделать все возможное, чтобы заполнить большую паузу. Задача была не из легких. На арене кипела работа, а коверный должен был отвлечь внимание зрителей своей маленькой фигуркой, совершенно терявшейся среди рабочих и униформистов. Но выход из положения был найден!
Из циркового форганга трактор-тягач вывозил на арену восьмиметровое орудие. В тот момент, когда конец огромного ствола показывался над манежем, все видели, что на нем верхом восседает коверный. Внимание публики было привлечено, можно начинать действовать: переживать за работу униформы, распоряжаться установкой орудия. Разумеется, мало кто слушал указания Чарли. Наконец он слезал со ствола на манеж, где продолжал свои комические хлопоты. К этому моменту суета на манеже настолько утомляла зрителя, что он начинал следить за коверным. Это-то и использовал Чарли, чтобы показать, чему научился в Ленинграде, Зрители смеялись, аплодировали. Вслед за ними впервые появились улыбки и знаки внимания к коверному за кулисами. Начало перелома чувствовалось в том, что мне стали помогать в работе, создавать необходимые условия.
Я воспрянул духом. Теперь не только практическая работа, но и теоретическая подготовка стала занимать все свободное время: чтение книг об актерах Щепкине, Мартынове, Сумбатове-Южине, посещение выставок и музеев. Но главным для меня стал театр.
Конечно, цирк не театр. Свою мысль в репризе клоун выражает порою в абсурде, в невозможном, в анекдоте. А раз так, значит, и театральные законы не годятся для цирка. У него должны быть свои приемы, свои изобразительные средства. Приемы эти могут быть разнообразны, эксцентричны, но точны так же, как дозировка сильнодействующего лекарства: переборщишь — получишь обратный эффект.
Почему увлек ленинградский театр? Меня прежде всего интересовало, как игра актеров становится доходчивой, выразительной, почему она захватывает и покоряет зрителей. Особенно повезло мне в том, что ленинградские театры были увлечены новой советской комедией. Пьесу «Чудесный сплав» Киршона сменила комедия Шкваркина «Чужой ребенок». Эта пьеса шла сразу на двух сценах — в Театре комедии и в Академическом театре драмы, На сцене в реальной обстановке переживали, радовались и плакали обыкновенные люди. И в то же время это было остроумно, ярко, смешно. Очень важно было другое — во имя комедийности не оглуплялись образы действующих лиц и ситуации на сцене. Это было как раз то, что я искал.
Удачны и актерские находки. В Театре драмы имени Пушкина Екатерина Корчагина-Александровская и Николай Черкасов преподали мне со сцены урок, что не «комиковать» нужно, а жить в образе своего героя. А в Театре комедии Ольга Арди и Степан Надеждин научили меня видеть смешное в обыденной жизни. Тогда я пришел к выводу, что преувеличение в цирке может отлично уживаться с правдивостью персонажа.
Теперь я уже не мог, как прежде, смотреть на маску Чаплина. Время отвергло этот персонаж для советского цирка. Я понял это окончательно.
Поиски новых форм приводили к комическим персонажам более современным, близким советскому зрителю. Если еще недавно среди эстрадных комиков существовала мода на фрак и смокинг, то теперь стали одеваться в костюм, близкий бытовому. В такой тенденции было много хорошего. Бытовой костюм не давал артисту комиковать, дурачиться, теперь он должен был работать над техникой актерского мастерства, искать комическое, не выходя из жизненных рамок.
Среди таких комиков, как я уже говорил, заметно выделялся Павел Алексеевич, выходивший на манеж или сцену мюзик-холла в мешковатом сером костюме, панаме, модной в ту пору, и с портфелем в руках. Лицо почти без грима, лишь маленькие обывательские усики. Конечно, в такой маске он мог откликнуться на любое событие дня, дать свой комментарий. Успех Павла Алексеевича породил подражателей: коверного Георгия Васильевича (Георгия Стуколкина), который раньше выступал как «Жорж», Юрия Алексеевича (Юрия Шатиро), Андрея Андреевича (Андрея Иванова) и других.
Появлялись мысли: стоит только отказаться от всяких условностей и перейти к предельно реалистической манере, как успех будет обеспечен и о тебе заговорят как о клоуне-новаторе. Но, сознавая чужеродность чаплинской маски, я понимал и другое: пример ПавлаАлексеевича был хорош лишь как единичное явление. Видеть в фигуре комического обывателя единственно верный образ в клоунаде — значило бы обеднять этот жанр. Клоунада сверкает красками, когда она вдохновенна и разнообразна. И если прошлый век ограничивал ее, сводя лишь к одной-двум буффонным маскам, то сегодня легко было впасть в другую крайность: наводнить цирки артистами скучно-бытовой внешности, лишенными циркового блеска и эксцентричности.
Кроме того, это означало бы переход от одного подражания к другому. Но меня увлек еще не открытый персонаж, сочетающий в себе цирковую романтичность и дух современности. Он должен быть правдивым и комическим. Но комизм должен вытекать из его живого и разностороннего характера.
Теперь за дело! Я решил начать поиски нового комического персонажа. Прежде всего переделке подвергся парик. По волоску стриг и укладывал парик-полуфабрикат, пока он не принял естественный вид. Как художник, я понимал, что контур фигуры сразу определит и ее характер. Поэтому, подобно папе Карло, вырезавшему из полена Буратино, на белом листе бумаги рисовал фигуры в надежде, что они оживут.
Как всегда, сначала ничего не получалось. Рисунки и силуэты не хотели жить. Время подгоняло. Поговаривали, что меня могут оставить на лето в Ленинграде для выступлений в Таврическом саду. И я проводил ночи с карандашом и ножницами, а днем бродил по шумным улицам и базарам в надежде, что вот-вот мелькнет передо мной долгожданная фигура. Я искал типаж, характерные черты, которые можно эксцентрически усилить в цирке.
Дома своего двойника на фотокарточке я стремился «одевать» именно в такие костюмы, только разных расцветок и фасонов, «примерял» множество кепок и шляп. Систематизировав все свои «исследования», я пришел к следующим выводам.
Костюм должен помогать комику в работе. И лучше, если брюки будут широкими: можно изобразить, например, даму, боящуюся замочить подол, или спрятать кошку или бутылку. Цвет должен оставаться черным. Это дань сдержанности.
Головной убор. Жесткий котелок ограничен в форме, а следовательно, маловыразителен. Кепи лучше, но гибкость его все же недостаточна. А вот мягкая шляпа позволяет свободно менять ее форму — промином, выгибом, заламыванием полей.
Обувь. К мешковатым брюкам необходимы и туфли без угловатых форм. Лучше всего — обувь с круглыми носками.
Костюм Чаплина во многих деталях отвечал именно этим требованиям… Поэтому мне было трудно найти свой костюм.
Я уже заразился идеей новизны. Заменил бамбуковую трость обыкновенной суковатой палкой, изменил форму усов, надел ботинки не наоборот, как носил мой цирковой Чаплин, а как полагается: правый на правую ногу, левый — на левую. Дышать стало немного легче. Я почувствовал себя цыпленком, который с трудом вылупливается из яйца…
Администрацию цирка шапито в Таврическом саду предупредил, что расстаюсь с Чарли. «Но кого же объявить в афишах?» — последовал вопрос. Новый псевдоним должен был перешагнуть через старые представления о сценическом имени. В газетах, где печатались объявления о перемене фамилий, в телефонных книгах, в адресных справочниках пытался я найти псевдоним, но скоро понял: надо искать не в трюкаческом сочетании слов, а в одном, имеющем глубокое смысловое значение. Кроме того, новое имя должно быть удобопроизносимым и легко запоминающимся.
Однажды после репетиции кто-то из артистов обратился ко мне: «Эй ты, Карандашик!» Мысль напряженно заработала. Карандашик. Карандаш… Он всегда острый… Он хорошо рисует… Карикатуристы работают именно карандашом… Все это неплохо… Но не очень ли это скучно — карандаш?.. А что, если это слово подать по-новому, например: «Каран д’Аш? д’Аш, д’Аш…» Как будто дворянская приставка к имени… А все вместе — простой карандаш. Но будет ли это странное имя соответствовать моему внешнему облику?
Первый, кто узнал об этой находке, был известный клоун-прыгун Виталий Ефимович Лазаренко. Позже я расскажу о нем подробнее. Его взаимоотношения с артистами отличались одной особенностью: он любил поддерживать все новое, что появлялось на цирковой арене. «Пусть ошибается, но дерзает!» — было его принципом. Выступая в Ленинградском цирке, он нередко справлялся у меня, как идут дела, и первым увидел мои репетиции в новой маске. «Хорошо!» — было его заключением. «Но надо как-то назвать ребенка». Тут-то я и поделился с Лазаренко своей находкой. Ему понравилось новое имя.
На следующий день, выходя на манеж в новом клоунском костюме, я услышал: «А вот и Карандаш! — Не дав мне опомниться, Виталий Ефимович обратился к присутствующим: — Познакомьтесь, пожалуйста, с Карандашом!»
И Карандаш показал мне свою первую афишу:
 ТАВРИЧЕСКИЙ САД
Июнь 1935
Открытие цирка
ШАПИТО
_______________
Весь вечер на манеже
КАРАНД’АШ
_______________
ТАВРИЧЕСКИЙ САД
Июнь 1935
Открытие цирка
ШАПИТО
_______________
Весь вечер на манеже
КАРАНД’АШ
_______________
— Может быть, я утомил вас подробным описанием своих «ушибов» и неудач. Дело в том, что раньше мне часто приходилось слышать от зрителей: успех артиста — плод везения, нечто вроде лотерейного выигрыша. Если мы, артисты, употребляем в разговоре слова «работа», «труд», чувствуется, нам верят и не верят. А ведь в этих словах — истина, секрет успеха артиста. Как убедить в этом людей? Думаю, только искренним рассказом о наших буднях. Я уверен: когда на труд артиста будут смотреть без ложной романтики, с интересом глубоким, в искусство придут по-настоящему талантливые люди.
Прощаясь со мной, Карандаш взял со стола книгу французского писателя, знатока цирка, Тристана Реми и, многозначительно поблескивая очками, прочел:
«Арена цирка — это такое поприще, где всякое добросовестное усилие рано или поздно вознаграждается».
ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ
КАРАНДАШ НА АРЕНЕ
 Московская премьера Карандаша. — От программы к программе. — Как «продать» репризу. — Поиски партнера. — Шлифовка. — В годы войны.
Московская премьера Карандаша. — От программы к программе. — Как «продать» репризу. — Поиски партнера. — Шлифовка. — В годы войны.
Разыскать цирк шапито в Ялте было совсем нетрудно, если бы не августовская жара. Когда солнце стояло в зените, я был глубоко убежден, что все живые существа сейчас скрываются под тентами у моря или в аллеях парка, в хозяйственном секторе цирка послышался голос Карандаша. Он объяснял столяру, какой должна быть модель карманной пушки.
Карандаш проводил меня в свой вагончик на колесах, где размещалась гримуборная артиста и спальная-гардеробная. Под вагоном ворочались и вздыхали собаки, а я ждал, когда Карандаш справится с делами. Помимо обычных представлений, артисты выезжали в клубы крупнейших санаториев Крыма, одновременно готовились к гастролям в Симферополе и Севастополе, поэтому забот в сложном цирковом хозяйстве было немало, а Карандаш непременно должен быть в курсе всех дел.
Наши беседы в Ялте летом 1969 года проходили в основном поздним вечером, когда можно было не спеша обсудить итоги дня, вернуться к старым номерам, поговорить о будущем.
Как-то я спросил у артиста, что связывает Карандаша с его предшественником — Чарли.
— Если, изображая Чарли, мне нужно постоянно помнить о его характере и отбирать лишь то, что соответствовало ему, то в образе Карандаша я почувствовал свободу. Мне не надо было все время сдерживать себя. Я автор нового персонажа, победивший собственную скованность, неверие в свои силы.
Помню, в Ленинграде я впервые воспользовался свободой действия, какую предоставил новый персонаж. После первых летних дней похолодало. Зрители сидели в летнем цирке в демисезонных пальто. Тогда я вышел в тулупе, небрежно накинутом на плечи, в валенках, летней шляпе и с букетом цветов. Это было непринужденно. Я пожинал плоды своего второго рождения и чувствовал себя, как никогда, молодо. Но вот через несколько дней снова потеплело, и я нарядился в белые брюки, украинскую рубаху и панаму. В этом наряде, с черным пиджаком на руке и с палкой в другой, я вышел в роли «неунывающего дачника».
В тот год появился советский фотоаппарат «Фотокор № 1». Почему-то его облюбовали франты и по Таврическому саду гуляли непременно с черными коробками на ремне. Современный облик коверного не позволял отставать от моды, и я вышел на арену тоже с «Фотокором». Перевешивая его с плеча на плечо, как бы небрежно хвастался обновой, а потом приступал к делу: долго устанавливал фотоаппарат на штативе, намечал объект съемки и раскрывал футляр. Внутри оказывался поднос, на котором под салфеткой красовались стопка водки и бутерброд. Я выпивал, закусывал, закрывал «фотоаппарат» и снова щегольски вешал его на плечо.
В сезон 1935–1936 года в Ленинградском цирке окреп мой персонаж, наметился его характер — здорового нравственно и физически, познающего мир. Он ловок и хитер. Он смеется над пороками и недостатками людей, заставляет восхищаться смелостью и мастерством клоуна, радуется жизни. Вскоре я получил письмо из Москвы из управления цирков: «Следим за вашим ростом. Пусть ваша работа будет такой же веселой, как выбранный вами псевдоним «Карандаш». Необходимо только, чтобы он всегда был отточенным…»
— Не задумывались ли вы о том, что «период Чарли» был лишним?
— Нет, я даже уверен в обратном. Период Чарли, а до него Рыжего Васи были необходимыми этапами. Именно потому в Карандаше я наконец «разжался», как говорят артисты, что в облике Чарли подготовил себя к такому раскрытию.
Мне было, как вы видели, трудно выступать в образе Чарли. Вот это-то «насилие над собой» и было благотворным. Я испытывал себя, это был процесс самопознания. Теперь, став Карандашом, я мог свободнее вести себя на арене.
Подходило лето. Для меня оно обещало быть особенно жарким. В июле я уезжал в Сочи. Молодой советский курорт открывал свой цирк. Его первую программу после окончания гастролей в Сочи мы должны были показать в Москве. Вот это уже был вещественный признак того, что в Карандаша поверили. Даже не посмотрев курортный город, я начал усиленно готовиться к премьере. Настроение было приподнятое. И вот я вышел на арену цирка. Зрители в Сочи собрались со всех концов страны: из Ленинграда, Москвы, Закавказья, Украины, Сибири. Они дружно смеялись в ответ на мои шутки. Я был счастлив.
Программу вел инспектор московского манежа Александр Борисович Буше. Он был прекрасный организатор и режиссер и очень много сделал, чтобы на арене советского цирка появился новый персонаж с характером, близким зрителям и в то же время не утративший связи с чисто цирковой природой клоунады.
Очень скоро я убедился, что новый персонаж освобождает меня от многочисленных репетиций и дает возможность свободной импровизации. Порой я даже страшился этой легкости, боялся потерять контроль над собой, но артисты и зрители одобрительно отзывались о моих экспериментах. Бывало и так, что на раздумье и сочинение реприз оставались считанные минуты.
Однажды в цирке погас свет. Я зажег свечу и повел вокруг нее целое действие с нападением, обороной, поисками спичек и т. д. В игру втянулись ведущий, униформа, артисты.
В другой раз во время представления началась гроза. С брезентового навеса шапито потоки воды хлынули в зал. Представление прервалось. Униформисты бросились спасать от воды арену, зрители пораскрывали зонтики… Казалось, зрители сейчас разойдутся. Но…
— Я напомню рассказ об этом вечере в «Литературной газете».
«… Это был бурный каскад только что изобретенных трюков и мгновенно придуманных острот. Публика забыла о том, что льет дождь. Маленький человек в странном костюме не давал ей ни минуты передышки. Он смешил. Его вдохновение не иссякало… Это длилось двадцать минут, пока не преградили доступ воде в манеж. Зрители не заметили остановку программы, они хохотали и аплодировали. Но по-настоящему оценили это одни лишь артисты. Они, профессионалы, поняли: это истинная доблесть, свойственная настоящему мастеру. Клоуна звали Карандаш. Обмахивая вспотевшее лицо своей знаменитой шляпой с тремя белыми пуговицами, он говорил: «Мне самому было смешно…»
— В нашем цирке в то время происходили большие изменения. Он все больше освобождался от европейских гастролеров. Правда, афиши середины тридцатых годов еще пестрели «звучными заграничными» фамилиями. На самом деле это были советские артистические группы, еще не расставшиеся со старой традицией. Главное — менялись содержание, эстетика цирковых номеров. Выросло новое поколение цирковых артистов. В этом немалую роль сыграло училище циркового искусства. Оно готовило артистов нового типа…
— Ведь и вы были в первом выпуске училища. С тех пор прошло пять лет. И еще пять выпусков молодых артистов влилось в советские цирки. К 1936 году это количество должно было перейти в качество… Кроме того, старые цирковые артисты должны были почувствовать, что государство опекает их, берет на себя все организационные и финансовые тяготы. Артист цирка мог теперь полностью посвятить себя творчеству. И в новом сезоне, который открывал ведущий в стране Московский цирк, надо было показать все лучшее, созданное за последние годы…
— Так оно и было. Правда, сейчас нам легче оценивать тот период, а тогда мы еще не понимали этого так полно, только чувствовали особенную значительность времени.
Московское представление обещало быть интересным по содержанию и по форме. Готовился большой парад-пролог, который должен был продемонстрировать достижения советского цирка.
В таких условиях коверный становился центральной фигурой, цементирующей все номера в единое целое и задающей тон всему цирковому спектаклю. Между прочим, «спектакль» здесь не случайное слово. В этом проявлялась еще одна новая идея: избегать эклектического набора номеров, объединять их, чтобы зрители и акробатику, и жонглирование, и другие номера воспринимали как части художественного целого.
После просмотра первого варианта московской программы часть номеров заменили, а мне посоветовали улучшить репертуар. Я не растерялся. Я знал, что такое труд, и занялся подбором новых шуток и распределением их в паузах так, чтобы каждая реприза имела отношение к предыдущему или следующему номеру программы.
Однако после второго и третьего просмотров цирковую программу продолжали ломать, и я перестал ориентироваться. Потому и решил положиться только на свое чутье, чтобы в последний момент уловить главное в окончательно сформированной программе и быстро найти к нему ход.
Мне запомнились эти напряженные дни последних прикидок и репетиций. В цирковой программе появились пролог и финал, как бы обрамляющие различные по жанрам номера, собирающие их в единое целое, а порой и все представление строилось по единому сюжету. Курс на цельность циркового представления роднил разобщенных артистов. Исчезали родовые профессиональные секреты. Успех одного становился успехом многих, в цирке появился новый закон — взаимопомощи.
В течение сезона коверный старается не прискучить зрителям одними и теми же шутками. Он знает, что интересное представление привлечет в цирк зрителей во второй и третий раз. Эти люди вправе требовать новых шуток. И коверный тщательно подготавливает и распределяет весь запас смешных сценок на две или три программы, зная, какие будут в них номера.
Для меня эта проблема была особенно трудной. Реприз у моего Карандаша было еще маловато. Их и на одну программу еле хватало. Обычно в таких случаях клоун обращается к репертуару других коверных, к арсеналу старых реприз, к знаменитой тетради Белого клоуна Альперова. Источником реприз для меня стала сама цирковая программа. Помог опыт выступлений в чаплинской маске и гастроли в Сочи.
Почувствовать природу и стиль каждого номера, подмечать главное и потом пародийно обыгрывать — было в характере моего персонажа. При этом основное свое внимание я сосредоточивал не на пародийном трюке, а на том, как должен вести себя Карандаш. И зрители, встречая улыбкой комика, не сразу замечали, что основное впечатление на них производит характер, комическое, но правдивое поведение маленького человека.
— Но ведь со словом «цирк» обычно связана бурная реакция зрителей. А ее вряд ли могли вызвать полутона, которые вы внесли в свою игру.
— А вот у меня не было сомнений по этому поводу. Я был уверен в своей манере подачи смешного, понимая, что зрители ждут от клоуна не только содержательных реприз, но и чувства меры, обаяния личности, нравственного и физического здоровья.
Оптимизм, вот что было главное в новом характере.
— Я бы сказал, что главное в Карандаше — гуманность.
— Но и гуманность, и оптимизм — черты, над которыми можно работать всю жизнь. Я видел перспективу, хотя и сознавал, что оригинальный персонаж повлечет за собой большие сложности в работе. Персонаж этот был очень живой и непокорный. Я всегда мог справиться с ним, с этим вторым «я», которое временами помимо воли его хозяина вырывалось на простор.
Нельзя сказать, что в 1936 году Карандаш уже полностью сформировался. В течение сезона продолжали еще рождаться его отдельные черты, уточнялось поведение. Я искал внутренние проявления характера, а не шел по линии анекдотических ситуаций, в которые этот характер мог быть поставлен. Такие ситуации могли свести игру к буффонной и отбросить к тем временам, когда смех ставился выше улыбки.
— А вы считаете, что улыбка — выше?
— На первый взгляд между тем и другим нет принципиальной разницы. Но это не так. Всякое преувеличенное проявление исключает многообразие оттенков в сценическом действии, будь то в театре или в цирке. Я враг преувеличенных, бурных эмоций. Они мешают зрителям воспринимать мысль. Я люблю, когда люди задумываются над тем, что видят на арене. Умеренность и такт в поведении актера помогают завоевать расположение зрителей, поэтому я всегда заботился о том, чтобы смех и улыбка вызывали чувство душевной близости зрителя и артиста.
Не так-то просто было шагать в ногу со временем. Некоторые артисты попросту отказывались работать в жанре клоунады, лишь бы не слышать упреков в том, что их репризы устарели. Боялась упреков и администрация крупных цирков. Клоунада стала козлом отпущения в критике цирковых программ, Антре (этим французским словом назвали сценки, то есть самостоятельные выступления клоунов между основными номерами программы) нередко ставили в прологи, которыми открывалось представление. Там клоуны несли, как тогда выражались, смысловую нагрузку, разыгрывая сценки на злобу дня, и в паузах между номерами уже не выходили.
Но все это болезни роста. Комический жанр в цирке не мог умереть. По-прежнему от коверного клоуна требовали активного и по-цирковому яркого отражения действительности. Таким был, например, клоун-сатирик Виталий Лазаренко.
Виталий Ефимович Лазаренко прошел школу ярмарочного балагана. Здесь он научился делать сальто и прыжки и уже тогда пересыпал их злободневными шутками. Большую пользу для Лазаренко принесла работа в одной программе с Анатолием Леонидовичем Дуровым в 1906 году. С этого года Виталий Лазаренко становится клоуном-сатириком. Он мог заявить на представлении: «Дума потому дума, что много думает и ничего не делает» — или сравнить прыжок через лошадь с прыжками Гучкова за министерским портфелем и т. д. После февраля 1917 года он читал:
Дрожат цари, когда идет свобода.
Но клоуну нечего дрожать.
Он из народа, для народа —
С него короны не сорвать…
И тут же делал прыжок, приземляясь на бычий пузырь. Пузырь лопался, а Лазаренко говорил: «Вот так и старый режим!»
После революции Виталий Ефимович работал над своим репертуаром вместе с В. Маяковским, Д. Бедным, В. Лебедевым-Кумачом, Н. Адуевым. Он мастерски сочетал специфику клоунады с политической и бытовой сатирой и откликался на все события в стране.
В. Лазаренко выступал во время демонстраций, на площадях Москвы. Он говорил зрителям:
В день Первого мая я, разумеется,
Не пожалею ни сил, ни ног.
Рабочим, крестьянам, красноармейцам
Я посвящаю свой лучший прыжок…
И прыгал через извозчиков, телеги, грузовики… В 1920 году он читал «Азбуку» В. Маяковского от «А» до «Я»:
Деникин было взял Воронеж —
Дяденька, брось, а то уронишь.
Японцы, белых всуе учите.
Ярмо микадо нам не всучите и т. д.
Когда в стране был поставлен вопрос о всеобуче, Лазаренко откликнулся на этот призыв:
Эй, молодежь, садись за книгу!
Бери науку за бока.
И по-советски к знанью прыгай,
Освоив технику прыжка.
И прыгал через слонов или лошадей на арене цирка и даже через стол президиума в день присвоения ему почетного звания заслуженного артиста республики в 1929 году.
Но у коверного клоуна были несколько иные задачи. К тому же мой персонаж, маленький неудачник-оптимист, был совсем другого характера, и ему нужны были свои шутки, сценки. Репертуар все еще оставался главной моей заботой. Одни лишь пародии и импровизации, как в начале московской программы, меня не удовлетворяли. Может быть, мне помогут дрессированные животные, птицы? Гусь, запряженный в сани, езда по манежу на осле-велосипеде, собака, вылезающая из надетой на нее мохнатой шкуры, то есть как бы «лезущая из кожи» — таковы были мои первые трюки. А в основном в окружающей жизни и цирковой программе я искал комические ситуации. Все это если не давало прямой подсказки, то настраивало на определенный лад.
Я пересматривал свой запас пародий, оставлял лишь те, что мог показать в своем характере. Например, после китайского номера, когда артисты прыгали через круги с огнем, можно было и мне прыгнуть «рыбкой» в такой круг. Но захочет ли это сделать Карандаш?
Днем на манеже артисты работают над новыми номерами. Считаю, что комик не может быть безразличен к этим репетициям; нужно знакомиться с номерами, наблюдать за артистами, стремиться подхватить их темп. Меня интересовало все: и прогон лошадей, и установка аппаратуры, и занятия балетной труппы. За кулисами тоже тренировались артисты. Я стремился успеть везде: хотелось понять, что больше всего нравится самому исполнителю. Обычно это же нравится и зрителям. Запоминая это, комик может в своей репризе изобразить наиболее яркий момент…
Но видеть надо уметь. Впечатление от номера должно быть целостным. Для этого надо сесть подальше от арены, подальше от любопытных, которых много на каждой репетиции, чтобы видеть номер в целом и не слышать чужих мнений. В тишине верхних рядов приходят в голову нужные мысли. Бывает так, что они оказываются полезными не только для комика, но и для артистов.
Наездник из группы Сержа Александрова выводит лошадь, белую, в черных пятнах, похожих на чернильные брызги. Издали она мне показалась грязной. Помыть лошадь? Сразу можно представить, как идешь следом за ней с ведерком и мочалкой и пытаешься «отмыть грязь».
У силовых жонглеров Нельгар мое внимание привлекли панцирные металлические кружки на костюме, сверкавшие в лучах прожектора, как рыбья чешуя. Значит, можно спародировать их номер, надев на себя трусики, обвешанные маленькими зеркальцами. Ну, а дальше можно использовать основное в номере поднятия тяжестей. Если коверный — маленький и на вид слабый, то ему нужно попытаться поднять предмет потяжелее. Пусть он раздавит меня в лепешку. Мое сплюснутое изображение можно будет показать зрителям…
Иногда что-то подсказывал реквизит. Рупор, которым режиссер подавал команду артистам, очень напоминал урну для окурков, треножник мог сойти за штатив для фотоаппарата…
Когда на арене готовился большой аттракцион, моя задача менялась. Теперь я должен был отвлекать зрителя от цирковой кухни. Что, если взять, например, ширму из прозрачного материала? Такая ширма вызовет смех, даже если ее просто показать. Далее я начинал думать о действии. Прежде всего за ширмой надо кого-то прятать. Значит, надо найти причину, заставляющую человека прятаться. Найти ее в программе или в жизни? Второе более привлекательно, я начинал искать в памяти подходящий момент из запаса впечатлений. Вспоминалось ателье… Ширма… Разорванные брюки… Стоп! Пожалуй, эта сценка получится, если все тщательно продумать.
Так в моей жизни на манеже наметились два пути: заблаговременная подготовка реприз и свободная импровизация. Второе дополняло первое. Почувствовав, что та или иная реприза не вызывает должного отклика зрителей, я на ходу менял последовательность действия, импровизировал, чутко прислушиваясь к реакции зала. В этих случаях я редко ошибался.
Импровизация временами становилась игрой. Я нарочно создавал трудности, и Карандаш, словно второй человек, живущий во мне, выпутывался из них, проявляя себя так, что это вызывало улыбку зрителей.
Вот на арене стойка для сетки. Вполне возможно, что Карандаш вследствие живости своего характера, удирая, стукнется о нее. А может, лучше так: за очередную проделку Карандаша настигает пуля. Трагедия! Но Карандаш спокойно вынимает пулю из штанов. Оказывается, что пуля — это большой огурец. И сразу прозвучит мысль: этот проказник способен все превратить в шутку.
Поиски реприз, шуток продолжались и дома. Котенок с бархатной шерсткой наводил на мысль использовать его как бархатку для наведения глянца на ботинки. А не грубо ли это — вынуть из кармана котенка и провести им по ногам? Но можно после этого дать котенку сосиску, и все увидят, что труд справедливо вознагражден.
Не забывайте, что в цирке путь к смешному всегда лежит через эксцентричность поведения. Как это ни парадоксально, обыденность мне всегда приходилось соединять с эксцентричностью или даже с абсурдом.
Вспомните пословицу: так бы работал, как ест! Ведь существуют же люди, у которых пот выступает во время еды. Так давайте повернем это явление обратной стороной — покажем еду как труд. Да не простой, а квалифицированный, требующий немалого опыта… Основа для смешной сценки есть! И я брал свинью, предлагал ей поесть из лохани, а потом выдавал это «достижение» за чудо дрессировки.
На репетиции подумал, что свинья — животное для манежа необычное. Надо найти кого-то попроще. В следующий раз привел собаку, дворняжку с обрывком веревки на шее. Поводил ее по кругу, показал зрителям, потом взял тарелку, торжественно, с магическими жестами положил на нее сосиску и поставил все это перед носом. Возглас: «Ап!» — и сосиска молниеносно исчезла. Теперь можно было показать зрителям пустую тарелку и убедить их в том, что фокус удался. Церемонный поклон «дрессировщика» заключал репризу.
На первый взгляд смешными кажутся распространенные в быту поговорки. Поэтому выражение «побежал, аж пятки засверкали» подсказало такую шутку. Я вмонтировал в задники ботинок по электрической лампочке и, убегая в испуге, что случается нередко, включал их. Так же обыграл я выражение: «На большой палец!» На вопрос «Как дела?» в быту часто отвечают еще короче: «Во!», показывая большой палец. Я решил сделать палец как можно больше, в соответствии с «отличным» состоянием моих дел. Этот огромный палец поднимал обычно после того, как делал какой-нибудь пустячок.
Когда репризы были готовы, я шел на суд к Александру Борисовичу Буше. У него было обостренное чувство комического. Вечером за бокалом вина он не спеша анализировал мои находки, с удовольствием фантазировал. Для любого коверного мнение Буше было первой проверкой новой сценки. Если артист в чем-либо сомневался, Александр Борисович выступал как эксперт, и мнение его было безошибочным.
Последние находки, последние штрихи… Теперь самое время вынести сценки на манеж, где персонаж каждым своим движением вызывает ответное движение в зале. Это была моя последняя репетиция.
Все лето перед новым сезоном работа была исключительно напряженной.
Я должен был доказать, что Карандаш не временное явление, что он растет, он современен. На фронтоне цирка появляется волнующая надпись: «Все билеты проданы». Это значит, тысячи зрителей готовы судить о новом представлении.
Вечером 21 сентября 1936 года Московский цирк сверкает огнями. Как солдаты на смотре, выстраиваются униформисты. Яркий ковер укрывает весь манеж. Вот дирижер поднял палочку. Торжественный Буше появился в форганге. Марш! Премьера началась.
Выходят артисты Рудиф, Асми, Нельгар, Ван-Риж и другие. Я называю псевдонимы советской цирковой молодежи: Нелипович, Сметаниных, Голядзе… Имя «Карандаш» (на афише оно писалось: Каран д’Аш) звучало среди них, пожалуй, достаточно интригующе.
Порадовало очень серьезное внимание прессы к нашей премьере. «Правда», «Известия», «Театральная декада» отмечали новизну, стройность цирковой программы, мастерство и смелость молодых артистов. Еще немало промахов было у моего Карандаша на арене, зато теперь я узнал, как их исправить. В те дни я прочел в газете «Правда»: «В цирке весело и занимательно. Клоунада у ковра, представляющая чрезвычайно трудный вид циркового искусства, заслуживает всяческой похвалы. Клоун Карандаш, хотя и не полностью освободился от штампов, находит много свежих приемов, вызывающих веселую реакцию зала».
Для меня эта фраза прозвучала как толчок к действию. Я хотел быть именно клоуном, цирковым персонажем, неосвобожденным от штампа.
МОСКОВСКИЙ ЦИРК
БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА
ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ
КАРАН д’АШ
Кто из старых москвичей не помнит эти афиши?
Весь вечер!.. Но где же он? Уже гремит музыка, идет парад артистов, начинается первый номер программы, а Карандаша все нет. Впрочем, смотрите, кто это прячется за кулисами? Определенно, это Карандаш. Да, это он! Его привлекли трюки артистов, и он, как бы стесняясь обнаружить свой живой интерес, скромно, бочком подвигается к арене.
А трюки делаются все сложнее, возрастает внимание зрительного зала и Карандаша. И вдруг Карандаш не выдерживает. Пользуясь небольшой паузой, он снимает пиджак и чрезвычайно серьезно пытается выполнить акробатическое упражнение. Это было смешно и создавало особое настроение в зрительном зале.
Не сразу мы замечали, что своим вмешательством коверный сделал цирковое действие ярче и разнообразнее. Очередной номер словно заиграл красками.
Так зал получал визитную карточку одного из самых популярных клоунов. И мы, зрители, становились веселее, словно были обласканы хозяином дома.
Карандаш хорошо помнит эти вечера и любит о них рассказывать:
— Акробаты на батуде! — объявляет Буше.
— Через пять минут, когда окончится номер, мне нужно заполнить паузу. Батуд — натянутая упругая сетка — позволяет делать на ней смешные прыжки, перевороты. Сейчас я влезу… Но что это? Номер кончается, и униформисты убирают сетку. Просить, чтобы батуд поставили обратно? Нельзя. Пропадет экспромт. Значит, надо срочно выдумать что-то другое…
Я стою посредине манежа и разглядываю стойки для сетки. Униформисты собирают их. Что ж, и я буду делать то же самое. Сложив в кучу большое количество стоек, я делаю широкий жест, показывая, что сейчас заберу все… И спокойно беру всего лишь одну и уношу за кулисы с чувством хорошо выполненной большой работы.
А случается, что в дни премьеры один номер заменяют другим. Соответственно надо менять и репризу. Но для подготовки новой у коверного нет времени, спасти его может только находчивость. Вот рабочие арены устанавливают турник для гимнастов, тянут за барьер множество растяжек. А я только сейчас узнаю об этом номере. Выхожу на манеж. Еще не зная, что мне делать. Я спотыкаюсь об одну растяжку, другую, третью — пока не начинаю понимать, что в этих случайностях есть своя система. Совсем немножко добавить сюда смешного, и все увидят, как человек ищет выход из «трех сосен». Маленький человек спотыкается о последнюю растяжку, обходит ее, снова спотыкается, и еще раз, и еще, в полной уверенности, что со всех сторон его окружают непреодолимые препятствия… А зал давно смеется. Экспромт удался.
Однако повторить его на следующем представлении не всегда удается. Надо создавать новый. Только на представлении? Я стал специально думать об экспромте на репетиции. Сделал куклу, и на одной из репетиций вручил ее униформистам. Молодые парни стали играть с ней, перебрасывая из рук в руки, а я наблюдал за ними со стороны. И увидел: лучше всего получались с куклой акробатические упражнения. Значит, я могу именно это делать в одной из пауз.
Но как быть с выступлением джигитов Али-Бека Кантемирова в Московском цирке? Все казалось давно известным: и яркие черкески наездников и сабли. Наконец взгляд упал на наган, который иногда называют «пушкой». Это уже неплохо. Может, и в самом деле выйти коверному с пушкой в кобуре. Что же дальше?
И я начал фантазировать. Купил в магазине игрушек пушку. По ее образцу столяр сделал другую — побольше, внушительнее. Теперь надо было оживить пушку. Оживить — значит научить стрелять. Но стрельба — дело серьезное, а надо, чтобы люди смеялись. Ну что ж, при желании можно решить и эту проблему. Не грубовато ли только выйдет?..
Верхом на палочке с лошадиной головкой, в костюме наездника Карандаш выезжает на манеж и начинает «лихие» трюки. Все смеются. Но Карандаш негодует: смеяться над джигитом? Недопустимо! И он выхватывает из кобуры бронзовую пушку екатерининского образца. Ежиком для примуса, словно канонирским ежом, забивает в нее заряд, прицеливается в обидчика. Пли! Летит большой соленый огурец…
Я ушел недовольный с арены. Слабая реприза. Со вздохом начинаю думать о следующей паузе. В ней наметил показать сценку с прозрачной ширмой.
Завязка — нечаянно разорванные брюки. Даже в самом маленьком происшествии нужна строгая причинная связь. Как разорваны брюки? На ком? Может, выгоднее быть виновником, чем пострадавшим? Да, пожалуй, так лучше. Карандаш нечаянно рвет брюки на униформисте, а тот ничего об этом не знает, ходит и занимается своим делом. Карандаша начинает мучить совесть, и он пытается под благовидным предлогом увести пострадавшего с посторонних глаз. Но униформист не понимает, в чем дело, и продолжает работать. Вот здесь-то появляется на манеже ширма. Карандаш хочет спрятать пострадавшего и починить брюки.
За прозрачной ширмой Карандаш поставил пострадавшего униформиста на четвереньки и конторским клеем стал наклеивать большую бумажную заплату.
Играл эту шутку, я стремился подчеркнуть последовательность внутренних переживаний Карандаша. Вот он выходит веселый и шаловливый и совершает оплошность: порвал рабочему брюки. Зрители улыбаются. Это плохо. Ведь они насмехаются над ни в чем не повинным человеком. И он спешит исправить положение и принимает насмешки на себя. Теперь зрители смеются над Карандашом, над его наивностью, рассеянностью. Но пусть, это ничего. Зато цель достигнута. А то, что зрители смеются над Карандашом, — что ж, такова его судьба…
В номере дрессировщика Монкевича лошади умеют сидеть на стульях. Тогда я подумал — почему бы Карандашу не выступить с ослом Мишкой? Показать, что владеет трюком не хуже настоящего дрессировщика.
Прежде всего Мишка кланяется зрителям, становясь при этом на колени. После этого торжественного начала Карандаш предлагает ослу стул. Осел отказывается. Карандаш настаивает. Что делать? Может, просто потянуть упрямца за хвост? Но маленький Карандаш ничего не может поделать со своим большим партнером. Тогда он на секунду задумывается и вынимает из широких штанов магнит, кладет под сиденье, и осла мигом «притягивает» к стулу.
А на другом представлении строгий Буше решает положить конец возне Карандаша на манеже. Я отвергаю претензии инспектора и с достоинством показываю, что по этому вопросу следует обращаться непосредственно к ослу. Но когда Буше поворачивался к ослу, тот угрожающе вскакивал, и респектабельный инспектор трусил по манежу прочь от возмущенного животного. Это был сенсационный момент, крайнее нарушение цирковых приличий. Зал смеялся. А потом следовал спокойный финал. Я вынимал из широких штанов бутылочку с молоком, протягивал ослу, и тот послушно шел за кулисы.
Во всем этом было много лукавства, детской хитрости и озорства.
В номере дрессировщика Ефимова лошадь-«фокусник» может решать задачи, выбирать платок определенного цвета и приносить его дрессировщику.

 Рыжий Вася.
Рыжий Вася.
 В облике Чарли Чаплина.
В облике Чарли Чаплина.
 Без грима.
Без грима.
 В роли неунывающего дачника.
В роли неунывающего дачника.
 Родился Карандаш.
Родился Карандаш.
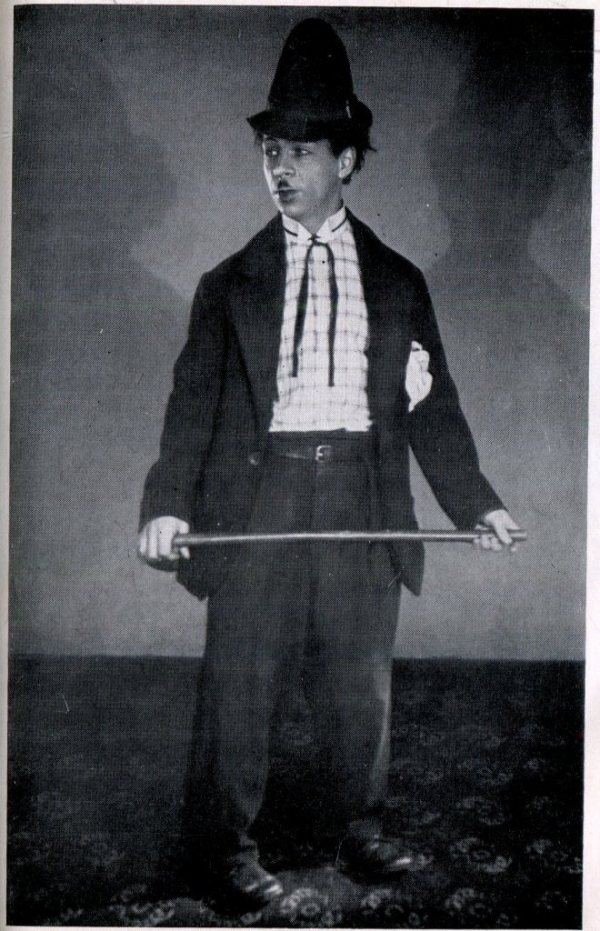
 На фронте перед бойцами.
На фронте перед бойцами.
 «Речь министра пропаганды Геббельса».
«Речь министра пропаганды Геббельса».
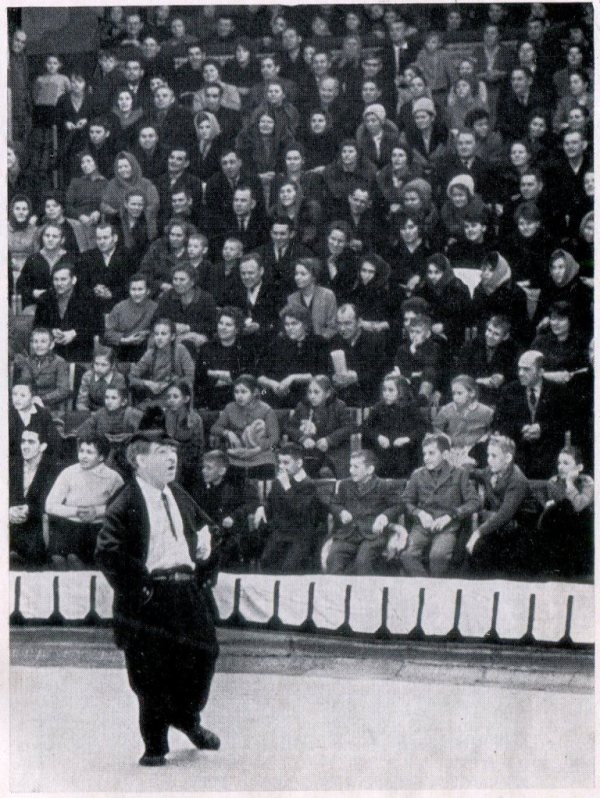 Свободная импровизация…
Свободная импровизация…
 …и заранее подготовленная реприза.
…и заранее подготовленная реприза.
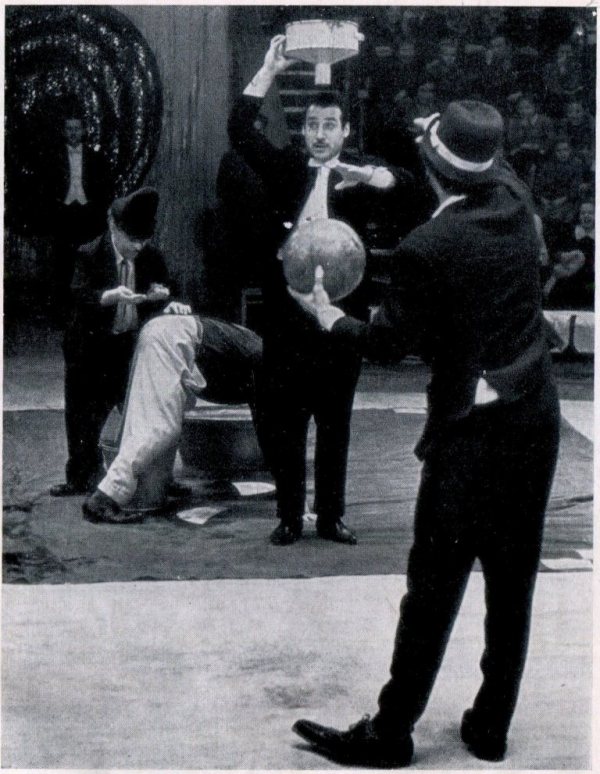 В клоунаде «Вода».
Сценка «Случай в парке». ►
В клоунаде «Вода».
Сценка «Случай в парке». ►


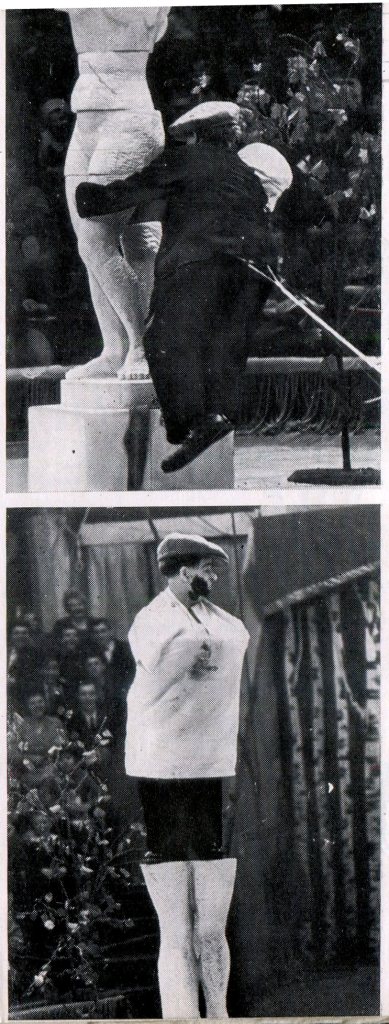

И вдруг кто-то из зрителей начинает задавать вопросы артисту, отпускать шуточки… Ну конечно, это Карандаш. Он сидит в первом ряду и, судя по всему, очень заинтересован номером. Даже по реакции зала на Карандаша-зрителя можно судить, что его поведение в партере не менее интересно, чем на арене. Но это не сценка. Артист выполняет совсем другую роль: он вместе с Ефимовым ведет номер. Живое любопытство коверного, его вопросы и реплики на сей раз та движущая сила, которая дает дрессировщику возможность естественно продемонстрировать свои достижения. Знаток цирка мог бы возразить: роль «подначивателя» мог бы выполнять служащий, «подсадка». Есть и такой прием в цирке. Но в этом было бы что-то искусственное. В самом деле, не может же зритель вести номер! А клоун может. Пользуясь своим положением в цирке, Карандаш «запросто» разговаривает с дрессировщиком. Разговаривает потому, что номер его действительно заинтересовал. Искренность Карандаша заставляет нас поверить в его предельную естественность и на этот раз.
— Не раз мне приходилось выступать в одной программе с клоунами Бим-Бом. Эта яркая пара исполняла сатирические сценки и куплеты, посвященные событиям дня. Меня особенно привлекало в Бим-Бомах умение играть на эксцентрических музыкальных инструментах.
После их номера я выходил с мячом. Вдруг мяч начинал выпускать воздух, и в зале раздавалось: «Уйди-уйди!» Так знакомый предмет превращался в популярную в то время мальчишескую свистульку.
Сначала я недоумевал, пытался утихомирить оживший мяч, но мяч свистел и под пальцами; садился на него, мяч пищал сильнее; хлопал по нему — мяч плакал; подбрасывал — мяч негодовал. Получив от меня рожок с молоком, мяч наконец успокаивался…
Работая над подобными сценками, я убедился, что характер персонажа можно рисовать не только крупными мазками. В каждой мелочи, в каждом движении скрыт свой внутренний смысл, который нужно лишь проявить, как на кинопленке, и показать зрителю. Недаром говорится: человек состоит из мелочей.
При разработке репризы я всегда внимательно следил за тем, чтобы все звенья в цепи событий были родственны и взаимосвязаны. Один небрежный штрих, необдуманный поступок — и цепь рвется, линия поведения кажется фальшивой. Больше всего я боюсь «случайного» смеха зрителей. Одобрительная реакция могла быть оскорбительной, если в ней была доля снисхождения к моим действиям. Пусть лучше смех и улыбки будут лишь на четверть ответом на смешной трюк, думал я, но зато на три четверти следствием психологически точного поведения.
Карандаш выходит на сей раз с небольшим ящичком под мышкой. Заметив, какой он важный, мы понимаем: этот человек имеет в сравнении с нами какие-то козыри… Действительно: Карандаш закуривает. Запрещенное действие. Сколько конфликтов происходило на манеже из-за этого. Вот и теперь на разгуливающего с папироской клоуна обрушивается гнев Буше. Но Карандаш спокоен. Нельзя курить? Что ж. Он вынимает изо рта папироску, достает из ящичка спринцовку с водой, надевает блестящую пожарную каску и гасит «опасный» огонь. Затем снова закуривает и удобно устраивается на своем пожарном ящичке. Но как он это делает! Во всем его облике чувство правоты, спокойной предусмотрительности, в которой есть всегда и лукавая черточка.
Я перечитываю очерк Татьяны Тэсс в «Известиях» начала 40-х годов. Вот как журналистка увидела Карандаша:
«На этот раз он выходит в белых перчатках. Мы уже привыкли к его костюму, мы знаем измятую, мягкую шляпу, большие башмаки, галстук, щегольски повязанный на рваной клетчатой рубашке, брюки с бездонными карманами, из которых может вылететь голубь или выскочить с лаем маленький черный бородатый крысолов.
На этот раз на нем белые перчатки. Он выходит, как всегда, весело и независимо, словно для собственного развлечения. С разбега скользит по ковру, как это делают дети на покрытом льдом тротуаре. Ему это очень нравится. Потом он останавливается и начинает снимать перчатки. Вот и у него белые перчатки джентльмена. Но когда он снимает одну, мы видим, что это вовсе не перчатка, а обыкновенный белый нитяной носок. На нем даже болтается подвязка. Публика смеется. Он продолжает стягивать другой носок тем же элегантным жестом, предназначенным для шикарных перчаток, неторопливо, высокомерно. Публика смеется еще больше. Ее смешит уже не самый трюк, не то, что на человеке вместо перчаток носки. Гораздо смешнее отношение человека к этому.
У Карандаша всегда есть свой… «акцент смешного». Акцент этот, как правило, сосредоточен не на трюке, а на его собственном, личном отношении к этому трюку, на системе его поведения на манеже.
Вот Карандаш, не найдя в магазинах запасных частей для своего
велосипеда, выезжает на ослике. Вместо стремян у него велосипедные педали. Артист деловито крутит педали, правит укрепленным на шее осла рулем, жмет гудок Затем слезает с седла и озабоченно проверяет, «не спустила ли камера». Покачав головой, снимает насос, приставляет к ноге и старательно накачивает воздух. По-хозяйски поправляет номер на ослином заду и едет дальше…
Это тот же характерный для Карандаша «акцент смешного», сделанный не на основном, а на второстепенном. Не на происшествии, а на его отношении к этому происшествию. Вот почему Карандаша так трудно копировать. Основное же у Карандаша — это то, что он все делает «между прочим» и для собственного удовольствия. Это придает его работе очень импонирующие черты независимости. Он никогда не заискивает перед публикой, всегда ходит по манежу сам по себе и все время придумывает новые развлечения…»
Однако Карандаш способен и на «безрассудные» поступки. Помните аттракцион в аквариуме? Морские львы в аквариуме играют в мяч, ныряют. Девушки-пловчихи выполняют различные пластические движения под водой. Карандаш тоже хочет продемонстрировать свою ловкость и красоту. Выбежав в огромных белых трусах, прыгает в воду, но, увидев прямо перед собой усатые морды морских львов, он от испуга беспомощно барахтается и зовет на помощь. Девушки спасают его. Карандаш выносит из-за кулис табурет, натягивает веревку и вешает на нее сырое полотенце, а потом и… самого себя, пристегнув за трусы большой бельевой прищепкой. Зал смеется, узнавая в этом характер Карандаша, всегда серьезно представляющего смешное.
Когда смотришь на «злоключения» Карандаша, кажется, все ему подыгрывает: и суета униформы, и чужая бутафория, все предметы оживают у него в руках…
— Случается, что тему для репризы подсказывает самая обыкновенная вещь, знакомый предмет, который стоит только немного изменить, и он заиграет по-своему, вызовет улыбку. При этом реквизит не должен выходить на первый план. Избежать преувеличений в реквизите — немалая проблема для клоуна, придерживающегося жизненной нормы.
Раньше считалось: берет клоун молоток — значит, это должен быть по размерам целый молот, нож — не меньше кинжала. Преувеличение в гриме, костюме, реквизите и поведении имело одну меру: чем больше, тем лучше. Клоун-буфф мог вынести на арену клетку, в которой вместо птички была подвешена большая галоша. Может, это и смешно, но смешно от вещи, а не от клоуна.
Думаю, вещь должна быть на втором плане, она лишь дополняет смешное. Размер ее может быть немного больше, чем обычно, чтобы быть столь же правдивой и жизненной, как и поведение комика.
Вот я решил вытереть пот со лба. Для этого вынимаю из кармана пресс-папье и прикладываю ко лбу. Пресс-папье обыкновенное, с настоящей промокательной бумагой. Дань цирку оно отдает лишь в том, что несколько больше обычного, ровно настолько, чтобы его отчетливо было видно из самого верхнего ряда. Есть тут и вторая тайная цель: увеличенное пресс-папье как бы уменьшает фигуру артиста, остается впечатление, что это ребенок. Я осторожно подчеркивал свою «детскость». Это важная черта в общем характере персонажа.
А вот еще деталь: окраска предмета. То же пресс-папье должно быть обязательно серым, канцелярским. Но в правиле есть и свои исключения. Иногда надо, чтобы вещь выделялась на общем фоне. В пародии на дрессировщика сосиску я даю собачке на тарелке, окрашенной в яркий цвет.
Так от номера к номеру, от программы к программе двигался вперед Карандаш. Росло мастерство артиста. Этот персонаж как бы слился с личностью исполнителя. Есть только Карандаш, всегда живой, никогда не выходящий из рамок своего характера. Многие критики пытались понять секрет его мастерства. «Свой метод плюс талант», — говорили они.
Но в чем же все-таки секрет современного искусства клоунады?
— Я редко пользовался готовым текстом репризы в его первоначальном виде. Этот полуфабрикат надо сделать съедобным, прежде вообще проверить на вкус. Это значит, надо выявить, есть ли в репризе черты, подходящие для показа ее именно в твоей маске, в твоем характере.
Мне нравилось проверять новую репризу на детях. Если они одобряли, я окончательно дорабатывал репризу. Очень важно поставить репризу на свое место в программе, как говорят в цирке, хорошо «продать» ее.
Если выучен текст, то успех репризы обеспечен лишь наполовину. Важно уметь подать ее. Как сосредоточить на себе все внимание зрительного зала?
Решить такую задачу в театре легче, чем у нас. В цирке внимание зрителя рассеивается: ведь действие происходит на манеже. Это далеко не единственная здесь сценическая площадка — в воздухе, под куполом, на барьере, над форгангом и непосредственно между кресел. Где-то, на какой-то из площадок покажется комик… И если он пользуется не грубыми методами привлечения внимания, то задача становится еще труднее.
Цирковые традиции знают немало приемов, которые помогают сосредоточить внимание зрителя: барабанная дробь при трюке, луч прожектора, пауза оркестра в определенном месте, знаменитый выкрик «Ап!» — все это «продажа» номера. А старый цирковой Рыжий обычно привлекал к себе внимание зрителей, скатываясь из амфитеатра в партер с пустыми гремящими ведрами…
Но я не мог следовать этим приемам. Чаще всего появляюсь в том самом месте и в то самое время, когда артисты в конце номера раскланиваются, могу сказать: «Здравствуйте!» А могу и не сказать. Но мое появление всегда преследует цель знакомства со зрителями.
Мое правило — никогда не начинать репризы до того, как зрители не привыкнут к коверному. И только когда загадочным «ничегонеделанием» привлечено всеобщее внимание, я веду зрителей от занимательной детали к другой теме. Ведь я не педантичный исполнитель репризы «от сих до сих», а живой персонаж.
Обращаю ваше внимание на то, что уход с манежа должен быть осмысленный. Этого требует течение репризы. Иногда я ухожу так, словно действие переносится за кулисы, пока выступают другие артисты программы…
Иному кажется, что можно смешить долго. Но нужно знать психологию человека. Долго смеяться нельзя. Устанешь. Притупляется восприятие. Поэтому я даю зрителям передышку. Иногда нарочно снижаю темп нарастания смешного. Зрители отдохнут, и тут последует самое забавное. Естественно, что и реакция на него выразится теперь в удвоенной степени. «Не перекармливать смешным» — вот мой принцип.
Очень важна окончательная расстановка реприз в паузах циркового представления. Артист должен не просто определить порядок реприз в зависимости от степени смешного в них, но и предугадать реакцию зала на прошедший номер программы, чтобы сценка пришлась кстати и гармонировала с соседними номерами. Такая скрупулезность в работе необходима: благодаря ей все номера программы сливаются в единый спектакль с правильным ритмом.
Когда-то был такой случай: мой Чарли Чаплин участвовал в воздушном полете. На трапеции Чарли была отведена комическая роль. Все испортила администрация цирка. Она заказала афишу: «Воздушный полет при участии Чарли Чаплина». Публика шла на представление, предвкушая, что ей покажут «гвоздь программы», и была разочарована: довольно средний акробат на трапеции! А в другой раз я, попав в такой же номер, неожиданно показал свои трюки. Это понравилось зрителям.
Для лучшей подачи репризы можно найти и неожиданный ход. В эффектном номере Маяцкого партнерши прячутся в большие полые шары, которые артист поднимает на шестах-першах. Как появиться после этого номера коверному? Я решил спрятаться в один из таких шаров и закурить. Дым из шара валит столбом. А Буше возмущается: ведь он только что выставил Карандаша с манежа за курение. Зрители смеются. Вот и создано настроение для очередной репризы…
В другом номере дрессировщик стеганул меня кнутом-шамбарьером, и я с криком убежал. Через некоторое время, почесывая пострадавшее место, появился на манеже. Зрители сразу вспомнили о недавнем происшествии и засмеялись. А мне это и надо было, чтобы начать очередную шутку.
Память о хорошей репризе долго живет у зрителей. Они запоминают смешную ситуацию, и, пользуясь этим, опытный артист придумывает репризы, в которых «продолжение следует». Тогда сквозная сценка может жить в двух-трех паузах.
Выступают акробаты-прыгуны… Это мальчики от семи до тринадцати лет. Прыгают они еще неуверенно, устают быстро. А отдыхать не позволяет темп номера. Тут-то приходит на помощь клоун. В нужный момент он появляется на манеже и, схватив одного из ребят, бежит за кулисы. Номер прерывается. Карандаша настигают. Он с неохотой возвращает «трофей», упирается, останавливается, ворчит, потом жестом просит заменить этого мальчика на другого.
Когда номер кончается, Карандаш еще раз повторяет попытку похищения. Улучив момент, он подходит к мальчику, уговаривает бежать с ним, гладит по голове, вынимает из-за пазухи мешок, показывая: нет ничего приятнее, чем посидеть в нем. Он было уже начинает заталкивать туда юного акробата, но вмешивается Буше. И вот тут «продолжение следует». После серии упражнений акробаты делают минутный перерыв. Карандаш вынимает большую морковку и, предлагает ее перед тем, как снова начать заманивать мальчика в мешок. Разгневанный Буше отбирает все у похитителя, Карандаш бежит следом и кричит: «Отдай морковку!» — ведь он предлагал мальчику свое любимое лакомство.
После выступления акробатов Карандаш, шагая по барьеру, замечает сидящую в первом ряду девушку. Он останавливается, вынимает другой мешок и галантным жестом предлагает девушке занять место мальчика, шарит в кармане и на сей раз вынимает помидор… Теперь на протяжении всего представления девушка в первом ряду становится «жертвой» коверного. Что бы ни делал в очередной паузе, он старается пройти мимо девушки и напомнить о своем намерении, исподтишка показывая ей помидор. Вмешивается Буше. Карандаш пытается увернуться от инспектора с одной лишь целью: еще раз показать девушке помидор и склонить ее к бегству.
Так во все новых и новых экспромтах продолжается эта комическая история, вызывая неизменный смех зала. Теперь уже Карандаш машет рукой на несговорчивую зрительницу и предлагает помидор другой, а потом и третьей…
Финал всей истории: засмотревшись на очередную жертву, коверный падает. Он осторожно засовывает в карман руку и вынимает красную массу. Неловкий рыцарь окончательно посрамлен. Зал хохочет. Что же Карандаш? Весь его вид говорит: теперь можно окончательно отказаться от уговоров. Но, уходя, Карандаш вдруг не выдерживает, оставляет на всякий случай раздавленный помидор на барьере. А вдруг кто-нибудь соблазнится? И когда в следующей паузе помидора не оказалось на месте, Карандаш с изумлением смотрит на ближайшую зрительницу: «Ой, съела!»
Казалось бы, в некоторых сценах нарушены почти все цирковые законы: бесконечные «продолжение следует», поведение коверного по воле случая и т. д. Но это только кажется, что Карандаш ведет себя как попало, потому что во всех экспромтах имеется прочный стержень: верность психологии персонажа, чутье к смешному и его границам…
Непринужденная манера игры годами вырабатывалась у Карандаша. Его «ничегонеделание» становилось более содержательным, чем целая программа действий у иных коверных. Правда, задача держать внимание зрителей не действием, а бездействием казалась многим парадоксальной. Был такой случай: один зритель пришел второй раз на представление и, не увидев сразу Карандаша, спросил: «А где же тот маленький человечек, который ничего не делает? Уж больно хорош!» Это безыскусное замечание было признанием Карандаша и манеры его игры. Я вспомнил тогда слова Станиславского о сыгранной им роли доктора Астрова: «Я же там ничего не делаю, а публика хвалит…»
— Четыре года Карандаш был в Московском цирке. Про вас уже говорили не «весь вечер у ковра», а «четыре года в паузах». Вас полюбили московские зрители. Над чем вы работали в те годы? Какие проблемы встали перед вами?
— Серьезной задачей для меня было овладеть речью. Цирковой Чарли был нем в подражание своему знаменитому оригиналу. Жизнелюбивый Карандаш молчать не мог. Высказывать одними жестами переполнявшие его чувства — что может быть нелепее для этого взрослого ребенка! Первые слова на арене стоили мне больших усилий и казались чужеродными. Только впоследствии удалось приблизить речь к характеру и природе Карандаша.
Сначала слова выручали меня лишь в необходимые моменты. Но жизнь на арене потребовала более частого применения реплик. Из отдельных слов у меня стали складываться фразы, появилась определенная интонация, высокий и тонкий голосок, как у ребенка.
Все чаще я стал задумываться о том, что Карандашу нужен хороший друг на манеже. Но найти подходящего партнера было трудно. Оно и не удивительно: вы видели, как мне было нелегко найти самого себя…
Однажды цирк посетил Платон Михайлович Керженцев — председатель Комитета по делам искусств. После представления он пригласил меня к себе в ложу. Обычно сдержанный, скупой на слова, Платон Михайлович на этот раз шутил и улыбался. Моя работа понравилась ему, и только один совет он дал: завести собаку. Четвероногий друг должен был скрасить одиночество клоуна, стать его спутником и участником многих реприз.
Но претворить хороший совет в жизнь было нелегко. Нужен пес, подходящий к хозяину по внешности и по характеру… Пудель, лайка явно не подходили. Не годились и бульдог, овчарка… Пес должен быть черным, как мой костюм. Что-то родственное должны чувствовать зрители в этих двух фигурах… Пес должен быть небольшим… Я искал очень долго и, как это часто бывает, нашел случайно.
Я увидел пса, недавно привезенного из Англии. Это был шотландский терьер — редкая в те времена порода. Обросший со всех сторон жесткой черной шерстью, с большой головой и короткими ножками, он стоял посреди комнаты, приподняв хвост палочкой, и посматривал черными глазками откуда-то из глубины мохнатой морды. Первый же выход с терьером на манеж Московского цирка убедил меня в правильности выбора. Зрители его полюбили сразу, пса звали Нике, а по-русски — Ника. После дебюта Ники в мою гримировочную пришли кинорежиссер Григорий Александров и артистка Любовь Орлова. Они поздравили меня с четвероногим партнером.
Однако участие собаки в выступлениях породило немало проблем… Первая — имя. Но черный скотч-терьер, похожий на пятно возле черного Карандаша, сам напрашивался на кличку «Клякса». Клякса была совсем не так неразлучна со своим хозяином, как нас стали изображать карикатуристы. Бывали случаи, когда Клякса была просто необходима, а случалось и наоборот — отвлекала и меня самого и зрителей от того, что я собирался делать. Обычно я брал Кляксу на арену в тех случаях, когда ее присутствие дополняло действие. Скоро она научилась выть под дудку, забираться в портфель или чемодан, играть с моей шляпой или быть, наоборот, совершенно неподвижной, когда я «набивал» ею подушку и ложился спать на арене.
Так появился еще один важный штрих, который и завершил создание внешнего портрета Карандаша. Но я продолжал размышлять над проблемой смешного в цирке. Помню, я писал в «Литературной газете» в 1939 году о том, что клоун в советском цирке должен не только смешить, но и вызывать сочувствие и одобрение зрительного зала. Наш клоун не отказывается от наследства классиков комического искусства и использует его в своем творчестве.
Маска — это «упаковка», средство для воплощения задуманного персонажа. Я был Рыжим Васей, Чарли Чаплином… Облик Карандаша для меня также не навеки застывшая цирковая маска. Это шаг в поисках «смешного человека». Часто кажется, что этот персонаж может быть найден в кинофильме: иногда с завистью смотрю на артиста театра, кино, который располагает литературным текстом. И все же единственным помощником в творческих поисках циркового клоуна является сама жизнь. Заменить ее смешным костюмом или ловко придуманным трюком невозможно. Чутко прислушиваться к окружающей жизни, изучать характер нашего зрителя — главная задача советского комика.
— Но ведь из вашей статьи можно сделать вывод, что маска Карандаша временная. И это в самый разгар ее успеха?
— Дело в том, что, радуясь успеху, я одновременно боялся увлечься и задержаться на одном месте. Я страдал уже от одной возможности такого исхода и готов был отказаться от успеха. Это портило мой характер, и многие говорили, что я становлюсь трудным человеком. Но за всем этим было только страстное желание нового, страх перед застоем, который был бы для меня гибельным. Я продолжал много работать, поэтому мой персонаж рос с каждой новой программой.
Карандаш — это современный персонаж. Одно из его качеств — простота. Правда, простотой отличались почти все клоуны. Но одни изображали дураков, другие — поучали. Карандаш же хочет быть умным, и хитрым, и веселым. За внешней забавностью зрители чувствуют глубокий смысл поведения Карандаша: в чистоте отношения к окружающему миру, в умении видеть главное, в оптимизме, беспокойстве, доброте. Все эти качества были, скажем, и у сказочного Иванушки. Но появись Иванушка в наши дни, и ему пришлось бы еще приспосабливаться к окружающему миру. А Карандашу не надо. Он современен, он человек города. Поэтому в общении со зрителем он черпает силы и пищу для жизни. Я боюсь создать впечатление легкости рождения персонажа, внезапности художественных находок. На самом деле этой легкости, этой внезапности не было, каждый шаг был трудным и вытекал один из другого.
Например, в 1940 году я особенно много работал над средствами повышения выразительности моего персонажа и меньше занимался поисками новых сценок. Я уточнял характер Карандаша на арене и занимался тогда исследованием его возможностей, чтобы обновить и укрепить репертуар.
В это же время я делал свои первые шаги в кино. На первых порах было нелегко признать над собой чью-то власть, которая определяла мою игру вплоть до каждого движения. Но скоро я понял, что искусство коллектива может быть сильнее, чем искусство артиста-одиночки.
Я остался недоволен собой в первой роли управдома-бюрократа в фильме «Старый двор»… Зато в кинокомедии «Девушка с характером» сыграл небольшую роль официанта в вагоне-ресторане и почувствовал себя лучше. Под прицелом кинокамеры не могло быть импровизации, как в цирке. Каждое движение четко прорабатывалось на репетициях и на многочисленных «дублях» съемки. Возвращаясь в цирк, я невольно вкладывал в свои сценки точность, которую воспитывали во мне съемки.
Наступила осень 1940 года. В ноябре должен был отмечаться двадцатилетний юбилей советского цирка. К этой дате Московский цирк давно готовился. Отбирали лучшие номера, заказывали пышное оформление. Я тоже должен был участвовать в юбилейной программе. И немало поволновался. Сначала казалось, что моя фигура слишком мелка для парадного спектакля, что мои скромные репризы потеряются на этом фоне. Надо было найти в юбилейном спектакле свое место.
В программе я «высмотрел» места, где напряжение действия будет спадать, образуя естественные паузы. В них-то и решил давать репризы не психологического порядка, а зрелищного, яркие, родственные характеру программы. Зрители должны были увидеть Карандаша в русской пляске с баяном в руках. Правда, внутри баяна стоял патефон, и я время от времени вынимал его и переворачивал пластинку.
В юбилейном представлении 22 ноября участвовали Владимир Григорьевич и Юрий Владимирович Дуровы, Виталий Лазаренко-сын, Леон и Константин Таити и другие лучшие артисты советского цирка. А до спектакля его участники получили самый большой подарок, о котором только могли мечтать: двести пять артистов были награждены орденами и медалями, многие получили почетные звания. В эти дни и я стал заслуженным артистом республики, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
И все-таки, несмотря на торжественность юбилейного представления, я не мог удержаться от любимых шуток. Озорство Карандаша должно проявиться и на пышном юбилее. Я выехал на арену в ящике из-под мыла. Ящик был привязан бельевой веревкой к роскошной повозке, на которой открывали парад артисты.
Юбилей цирка был и моим юбилеем: десять лет прошло с того дня, как я стал выступать на цирковом манеже. Из них только четыре года существовал на свете Карандаш. Четыре года… Самый живой возраст для ребенка.
Зимой 1940 года одним из наиболее привлекательных московских анонсов был: «В гостях у Карандаша. Большое цирковое обозрение. Начало в 12 часов ночи». Поздним вечером к цирку съезжались сотни гостей. У входа в зрительный зал их встречал сам хозяин. А потом почти до утра длилось большое цирковое представление, на котором паузам для выступления комика было отведено значительно больше места, чем обычно. В один из таких вечеров появился дружеский шарж со словами:
…Он, безусловно, мастер кисти,
хотя он только — Карандаш.
— Эти ночные спектакли продолжались недолго. За рубежом гремела война. Посуровела обстановка внутри страны.
…1 января 1941 года в журнале «Огонек» был помещен мой новогодний тост: «За миллионы смеющихся зрителей. За лучшую советскую кинокомедию. За то, чтобы в цирке было больше шуток и смеха». Прошло полгода. На утреннем представлении в летнем цирке шапито в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького мы узнали, что началась война.
…Вот посмотрите. Мой военный билет. «Запас второго разряда. Состав солдатский. Военно-учетная специальность номер…» Знаете, что это за специальность? Геодезист-топограф. Так вот, серьезность всего происходящего сразу настроила меня на иной лад. Да что я могу теперь показывать? Чем вызывать смех! В таком настроении прошли первые два дня, а на третий день бригада артистов цирка уже давала представление для отправлявшихся на фронт добровольцев.
Скрепя сердце, боясь взглянуть на зрителей, я вышел на арену с Кляксой — и услышал аплодисменты, потом смех. С удивлением заметил улыбки. Помогло привычное понимание аудитории, обостренное внимание к духу времени. В мирные дни Карандаш был весел. Теперь он нахмурился и посуровел, в нем появился новый гражданский пафос, смех стал саркастическим, сатира — гневной. Я еще раз подумал о правильности выбора моего персонажа. Он не шел к зрителям с целью только развлечь, развеселить их. Он радовался с ними вместе, когда к этому были основания, грустил и негодовал теперь. И во всех случаях его присутствие помогало людям.
Дни первой растерянности прошли, и я начал работать по-новому. Появились новые сценки. Например, на голову Карандаша внезапно сваливался огромный паук-крестовик с фашистским знаком на брюхе. Прежний Карандаш, может быть, просто отмахнулся бы от него, а новый брал молот и разбивал паука. Месяцами двумя позже я выбегал из-за кулис со свертком в руках. Буше кричал вдогонку: «Остановись! Куда ты?» Я отвечал: «Немецкое радио сообщило, что Гитлер в четверг в Москве будет. Чай пить в Кремле собирается. Я ему подарок приготовил…» — «Покажи какой». Я снимал чехол и показывал детский стульчик с дырой в сиденье, из которой торчал кинжал…
После того как немцев заставили отступить под Москвой, кончилась и моя первая контратака. Словно боец на фронте, я накопил кое-какой боевой опыт. После первых, в общем-то примитивных, реприз я перешел к более сложным сценкам. В Омске, где зимой 1941–1942 годов выступал Московский цирк, я показал антре: «О том, как немцы на Москву шли». На манеже показывался немецкий «танк» — бочка на бутафорских гусеницах, очень похожая на ассенизационную, только с черными костями на борту. Из бочки выглядывал неузнаваемый Карандаш с лицом получеловека-полузверя, с чугунным котлом вместо каски. Он размахивал большой дубиной и кричал: «Нах Москау!» Танк быстро катился вперед, но на середине манежа происходил взрыв. Бочка рассыпалась, из нее выскакивал фашист в обгорелых лохмотьях. Поняв, что дело плохо, он проворно извлекал из груды обломков палку, платком обвязывал голову и, хромая, удирал за кулисы…
В этой сценке были заложены новые для меня принципы. Карандаш изображал фашиста, и разглядеть в этой роли старые добрые черты его было совершенно невозможно. Лишь после того как фашист скрывался за кулисами, на арену снова выходил Карандаш, и ему аплодировали как исполнителю роли. Конечно, это была не совсем приятная роль: ведь Карандаш никогда раньше не изображал негодяев. Но я утешал себя тем, что реприза имела успех, а для меня это означало, что я нашел возможность показать политическую сатиру, оставаясь Карандашом.
Тем для такой сатиры было много. Но скоро я понял, что не всякая тема годилась для меня. Бывало так: я подготавливаю политическую репризу. Можно выходить на манеж. И вдруг возникал вопрос: почему именно Карандаш показывает ее? И когда на этот вопрос ответ находился не сразу, становилось понятно: от этой репризы нужно отказаться. Я брал тему и решал ее по-своему, так, что даже в показе чуждой мне личности чувствовалось присутствие Карандаша.
И наоборот, простой пересказ событий без участия Карандаша как персонажа — пусть даже в остроумной форме — оказывался неуместным.
Вот, например, была такая сценка: угрожая ножом, я раздевал на манеже униформиста. Когда же инспектор кричал: «Что за хулиганство!», я заносчиво отвечал: «Это не хулиганство, а «новый порядок» в Европе». Здесь я допускал ошибку: Карандаш не мог быть представителем «нового порядка»! А перевоплощение персонажа в другой — отрицательный образ было слишком слабо подчеркнуто в этой сценке и потому неоправданно.
Я научил Кляксу «играть» ту или иную роль, а сам комментировал ее действия. Что собака может показать на арене? Чаще всего лай. Так и родилась реприза «Речь Геббельса».
Клякса влезала на трибуну, ставила на барьер передние лапы и долго лаяла. Делала она это с таким увлечением, что из пасти выступала слюна. Несколько раз я кричал псу: «Довольно трепаться!» Но Клякса «трепалась» долго, а кончив, забиралась в мой огромный портфель. Тут-то я торжественно объявлял: «Речь министра пропаганды Геббельса окончена!» Внезапный поворот темы и необходимая «точка» в конце репризы делались одновременно. В результате из безобидной вначале сценки вырастала острая политическая сатира.
Впоследствии я ставил на трибуну микрофон. И лай Кляксы был слышен в фойе, коридорах цирка и даже на улице. Заслышав его, прохожие обычно говорили: «Геббельс делает доклад».
В феврале 1942 года мы вернулись в Москву. После первых представлений я стал получать письма от московских зрителей. В такое суровое время ласковое слово, сердечный привет были чрезвычайно дороги для нас.
Вот посмотрите письмо инженера В. Андреева:
«Глядя сегодня на манеж, я вспоминаю слова Луначарского о клоуне, имеющем высокий в своем комизме репертуар. Карандаш со своим четвероногим «Геббельсом» ярко и по-цирковому выразительно воскресил лучшие сатирические традиции русского цирка. Предельная увлеченность разыгрываемой сценкой, тонкий, мягкий юмор, просвечивающий во всех движениях, глубокое чувство меры — во всем этом узнаешь неизменного Карандаша…
В моей коллекции есть фото Анатолия Дурова, выезжающего на свинье, и под ним подпись: «Мне сотни раз, не буду врать, пришлось на свиньях выезжать. Но злобу дня я соблюдаю — и вот на немцах выезжаю». Эта реприза, родившаяся в 1914 году, как бы перекликается более чем через четвертьвековое расстояние с вашей сегодняшней».
— Появились у меня и репризы, в которых я высмеивал разгильдяйство тех местных руководителей, которые все свои промахи, недочеты и недостатки объясняли трудностями военного времени. Потом я решил показать человека опустившегося. Война мешала ему умываться, зашнуровывать ботинки, пришивать пуговицы… Это показалось мелковато. Тогда я показал лентяя, демагога за самой легкой работой. Униформист подметал ковер. Карандаш отнимает у него метлу и тоже начинает подметать. Стоит униформисту уйти, и Карандаш бросает метлу. На требование Буше поднять ее, он обессиленно разводит руками и говорит: «Не могу». — «Почему?», — спрашивает Буше. — «Война…»
Ответ зрители оценили сразу. Более того — шутка превратилась в анекдот. А я, продолжая ту же линию, словом «война» объяснял теперь, почему не могу сойти с места, прогнать муху со лба и т. д.
В феврале 1942 года был создан так называемый фронтовой филиал Московского цирка. Впервые бригада выехала в район Волоколамска, где перед кавалерийскими частями выступила группа наездников под руководством артиста Туганова. Приезд цирка на фронт стал праздником. Сначала выступили мы — артисты Московского цирка, а в заключение зрители показали свои казацкие пляски.
В следующий раз мы прибыли в район расположения Шестнадцатой армии, одиннадцать месяцев державшей оборону в Брянских лесах. Нас встретили цветами, проводили в новые землянки. Работали мы очень напряженно, за месяц дали более пятидесяти концертов.
Случалось, попадали и под бомбежки, но все кончалось благополучно. Армия заботливо охраняла нас. Нередко после одного концерта я вместе с другими артистами, не разгримировываясь, в своем черном костюме, с Кляксой на поводке шел за опытным проводником по еле заметной лесной тропе из одной части в другую. Нас встречали десятки бойцов, многие узнавали…
На лесных полянах я выходил к зрителям с зелеными веточками за поясом и у Кляксы за ошейником «для маскировки». Концерты так часто прерывались сигналами тревог, что во время выступления я внезапно выкрикивал: «Воздух!» А потом успокаивал аудиторию: «Это «рама»!», имея в виду разведывательный самолет.
Бойцам нужен был дружеский юмор. Я видел, что они не нуждаются в прямой агитации против врага. Фашисты сделали уже достаточно для того, чтобы ненависть к ним стала фактом. Бойцы ждали вестей из тыла, хотели знать, а как там в Москве, на Урале, в Сибири… Ощущение огромной страны за спинами бойцов поднимало дух на передовой. Поэтому здесь бывали особенно рады посланцам Большой земли.
Поняв это, мы перестали надевать военную форму, подаренную нам на фронте. В своих обычных штатских костюмах мы были милее нашим хозяевам, напоминая о доме, о родных, обо всем, что они защищали.
Знакомства, завязанные во время фронтовых поездок, оказались крепкими. Со многими товарищами установилась переписка.
После фронтовых гастрольных поездок мне хотелось отшлифовать отдельные сценки на злобу дня и создать по возможности целую сатирико-юмористическую программу. Скоро для этого представился случай. В Московском цирке решили поставить пантомиму «Трое наших» по сценарию Александра Афиногенова. На передовую в гости к гвардейцам приезжает бригада из Московского цирка. Начинается концерт. Бойцы и командиры с увлечением смотрят представление, смеются над шутками Карандаша. Кончается представление, и утомленный Карандаш забирается в один из танков, чтобы отдохнуть. Сигнал тревоги. Танковая часть готовится к бою, а экипажу танка, где спит Карандаш, поручено добыть «языка». Так «трое наших» вместе со спящим Карандашом отправляются на выполнение боевого задания. Здесь начиналась героико-комическая часть пьесы, в которой фигурировали три танкиста — смелые, сильные, ловкие, а комедийные ситуации создавал их случайный спутник — весельчак и балагур. Он помогал танкистам. Все четверо, выполнив боевое задание, возвращались на передовую.
Однажды на мою долю выпало изобразить Гитлера в интермедии. И снова решиться на это было нелегко. Слишком уж разнополюсными были эти два образа: Гитлер и Карандаш. Вышел из затруднительного положения следующим образом: загримировался под Гитлера и, когда в кульминационный момент клоунады Гитлера ждало возмездие, я сбрасывал с себя чужую маску, одежду с криком: «Довольно! Я не хочу больше изображать это чучело!» Создавалось впечатление, что старый добрый Карандаш чуть ли не насильно играл ненавистную ему роль.
В 1943 году вышел фильм «Концерт — фронту», в котором я показал две репризы. Вскоре стали приходить письма из действующей армии. Зрители-бойцы тепло отзывались о моем коротком появлении на экране, а сержант Стрельцов прислал очень живое описание обстановки, в которой был показан фильм.
«Благодарим Вас за несколько минут радости, которые Вы нам доставили. Представьте себе бой, разрывы снарядов и мин, свист пуль, непрерывные атаки на позиции врага. И вот минута отдыха… Экран, натянутый между деревьями… Аудитория располагается на снегу, под открытым небом. Мы успеваем увидеть всего несколько кадров фильма, но это как раз Ваши шутки. Взрыв смеха. Как мало! Кончается передышка, и в трудную минуту, когда вспомнишь эти маленькие кадры, сразу поднимается настроение…»
После таких писем поднималось настроение и у меня. Хотелось больше сделать для этих людей… Участники художественной фронтовой самодеятельности обычно просили выслать им тексты реприз и что-нибудь из реквизита, раскрыть секреты смешных трюков. Со многими я почти всю войну поддерживал переписку, выполняя просьбы о «заочном художественном руководстве». Артист цирка Владимир Брагин после окончания войны смог вернуться к прежней своей профессии, как он говорил, благодаря нашей переписке. Хорошо помню солдата Бориса Мещерякова. Он выступал на самодеятельных концертах в своей части как комик и писал мне, что после взятия Кенигсберга его награждают «поездкой к Карандашу».
В освобожденную Одессу 1 мая 1944 года приехала группа цирковых артистов. Здание цирка уцелело. На вечернем представлении я решил показать себя «старым фронтовиком». Подражая манерам Василия Теркина, появлялся на манеже и закуривал. Подобно опытному солдату, вынимал из кармана кресало, кремень и трут, которые назывались в просторечии «катюшей», и долго высекал огонь. Но у Карандаша обычно не хватает терпения довести дело до конца. И я вынимал спички, поджигал ими трут и после этого уже прикуривал. На фронте редко гасили тлеющий трут: огонь был дорог, и его берегли. Так же поступил и я: прятал трут в карман, и тот прожигал мне одежду. Шипя от боли, я вытаскивал трут и садился на него, чтобы погасить. После этого, естественно, убегал с криком…
Один за другим освобождались города, гремели салюты. Выступая осенью 1943 года в Москве, я выносил на манеж бочку, садился на нее и в полном безмолвии проводил несколько минут, пока инспектор манежа, подойдя ко мне, не спрашивал: «И долго ты так будешь сидеть?» На что я отвечал: «До тех пор пока немцы будут сидеть в Киеве». В этот момент бочка с грохотом ломалась, и я падал на груду обломков.
Война шла к концу. Уже можно было по-прежнему беззаботно шутить на манеже цирка, и московская аудитория смеялась, когда весной 1945 года я на пуантах пародировал танцевальный номер. Но, с другой стороны, я чувствовал, что война научила меня многому: сдержанности, иронии, расширила кругозор. То, что казалось до войны слишком серьезным для клоуна, теперь было вполне уместным для показа на цирковой арене. По плечу были теперь не только сатирические, но и философские темы…
Прошли годы, и наш цирк доказал, что может привлечь зрителей не просто отдыхом, но мыслью, которая может быть выражена в цирке просто и ненавязчиво. Я как-то прочел слова, сказанные много лет назад Анатолием Леонидовичем Дуровым, что сценические приемы вызывания смеха чрезвычайно просты, и «чем они проще и естественнее, тем непосредственнее и жизненнее вызываемый ими смех». Дополните слово «смех» словом «мысль», и то, что сказал Дуров, останется не менее убедительным. Наш цирк прошел большой путь. Он шагал вместе с пятилетками, с этапами Отечественной войны. Он рос, и кругозор его становился все шире, особенно в клоунаде.
Но Карандаш пошел дальше. Он вырос. В его поведении все чаще сквозили мысль, раздумье. В творчестве комика философского склада личность актера преобладает над тем, что он показывает на арене. Недаром Станиславский говорил: «Сценическая индивидуальность — это духовная индивидуальность прежде всего. Это тот угол зрения художника на творчество, это та художественная призма, через которую он смотрит на мир». А мир сегодня совсем иной, чем раньше, и отразить его в искусстве может только современная актерская индивидуальность. Такой индивидуальностью может явиться и цирковой персонаж. Он, как и человек, способен расти, становиться все современнее, глубже. Мы с вами как раз свидетели этого роста. Вот почему мои беседы с Карандашом хотелось бы назвать путешествием в сегодняшний день цирка.
ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ
СТО АРЕН ПОСЛЕ ВОЙНЫ
 Помощники Карандаша. — Когда небольшое действие может вместить многое. — Мои партнеры. — Особенно любимые зрители. — Моя книга.
Помощники Карандаша. — Когда небольшое действие может вместить многое. — Мои партнеры. — Особенно любимые зрители. — Моя книга.
В гримуборной Карандаша тепло и уютно. На видном месте, у небольшого гримировального столика, — список дел на сегодня. Часть их уже выполнена, другая должна быть зачеркнута до конца дня. В списке не раз встречаются имена Алексея Семеновича Рождественского — главного литературного редактора Союзгосцирка и Марка Соломоновича Местечкина — главного режиссера Московского цирка. Может быть, потому тек часты с ними свидания, что Алексей Семенович хорошо знает разговорный жанр цирка, чувствует природу исполнителя и всегда может точно сказать, какая сценка подойдет Карандашу. А Марк Соломонович посоветует, как вынести новую репризу на арену, после какого номера программы она прозвучит ярче, где расставить акценты смешного.
За годы совместной работы Карандаша, Местечкина и Рождественского стал богаче репертуар коверного клоуна и теснее дружба трех знатоков цирка.
В репертуарном отделе Карандаш читает все, что есть нового для комика. Читает долго, вдумчиво. Нередко случается, что из репризы он берет лишь часть: трюк или фразу, идею. Но если уж его что-то заинтересовало, он непременно заглянет в кабинет главного режиссера. Карандаш поговорит о жизни, о здоровье, о последних новостях и незаметно коснется новой репризы. Если Местечкин не отвергает ее, Карандаш выносит репризу на манеж.
Вот тогда Карандаш и начинает обдумывать сценку. Это первое знакомство с новой ситуацией с глазу на глаз, как с человеком. После этого Карандаш работает над реквизитом, стараясь все сделать сам.
В работе Карандашу многие годы помогал еще один человек — ассистент, жена и друг, Тамара Семеновна Румянцева. Зрители никогда не видели Тамару Семеновну на арене, но ее роль в сценках, исполняемых Карандашом, велика. Тамара Семеновна ближайший помощник, личный секретарь, организатор и администратор всей той фабрики улыбки, которая коротко называется — Карандаш. Она всегда следила за подготовкой сценических костюмов Карандаша, заботилась о реквизите, о создании условий для репетиций, проявляя тонкое знание клоунского ремесла, ухаживала за Кляксой.
В трудных буднях артиста Тамара Семеновна создавала обстановку покоя и сосредоточенности, которая так ему нужна. Добрая и спокойная, стоически терпеливая, она во многом была противоположностью своему другу. Взаимно дополняя друг друга, эта пара много сделала для советского цирка. И когда Тамара Семеновна по состоянию здоровья не могла уже быть рядом на гастролях, Карандашу пришлось нелегко.
Карандашу везло на хороших людей, или просто он умел слушать, ценить каждое слово, обращенное к нему, и платить людям своим вниманием. До последних дней художественный руководитель управления цирками Е. М. Кузнецов был внимателен к Карандашу. В одном из последних писем Евгений Михайлович обращался к нему: «Многое нами прожито и пережито вместе, начиная с Ваших первых ленинградских дебютов. Есть о чем вспомнить, есть что взвесить на весах истории советского цирка! Я желаю Вам хорошего внутреннего спокойствия, большой творческой собранности и целенаправленности, которая так помогала Вам в жизни и в труде. Сохраните, сберегите эти драгоценные человеческие качества! Мы оба вступаем (я раньше Вас…) в возраст, когда надо бороться за сохранение этих качеств, беречь их от одряхления. Не так ли?..»
Это письмо артист нередко перечитывает. Что заставляет его обращаться к слову друга?
Путь артиста не был цепью удач. Многое Карандаш пережил, но в деятельной натуре переживание скоро переходит в действие. И Карандаш отбрасывал неудачную репризу, хотя в нее было вложено немало труда, или изменял то, что, по его мнению, было неудачно. В дни, когда не клеилось с репертуаром, он с особенной охотой наведывался в дирекцию цирка, где получал письма зрителей. Когда Карандаш болел, зрители нашли для него слова ободрения: «Сердечно желаем Вам поправиться, и цирковой манеж снова обретет своего знаменитого Карандаша. Вчера принесли детские кубики. На коробке изображены Карандаш с Кляксой. А в книге «Цирковой парад», изданной в Лейпциге, Ваше имя стоит рядом с именем Анатолия Дурова. Все впереди!»
А вот другое письмо: «Дорогой Карандаш, мы, пациенты городской больницы, мечтающие увидеть Вас и Ваши номера в цирке, обращаемся к Вам с просьбой. Поскольку мы не можем побывать на представлении, пришлите нам описание одного из Ваших комических номеров, а игру мы себе сами представим». Карандаш посмеялся и послал ответ — слова благодарности, фото на память и, конечно, описание новой шутки.
Артист поддерживает переписку с десятками зрителей. На это уходит немало времени, но Карандаш относится к письмам, может быть, так же серьезно, как к тому, что он говорит с арены зрителям.
— Мне кажется, основная проблема, над которой я работал всю жизнь, — это выявление возможностей, заложенных в смехе. Смех и улыбка могут выразить многое: настроение, отношение к явлениям жизни. Вот мы говорим: смех веселый, саркастический, беззаботный и т. д. Но эти определения только в малой степени отражают его многообразие. Смех не бывает одинаков даже в двух случаях. Любая карикатура в журнале, острота рождают каждый раз другой смех, иную улыбку.
Раньше в цирке клоуны выдавали смех «по валу», а не «по ассортименту». Смейся громче, а над чем ты смеешься и почему — это неважно. «Ассортимент» смеха зависит от многообразия жизненных явлений, отражаемых в репризах, от степени гражданского звучания разыгрываемых шуток, от большой интеллектуальной высоты, культуры клоуна.
В расширении понимания возможностей комика мне помогло только время. И вот как. Все довоенные годы ястремился приблизить персонаж к зрителям. Как живой человек многообразен в своих поступках, так и я вел себя каждый раз иначе, вызывая различную реакцию.
Война открыла новое в характере персонажа. Во-первых, я убедился, что могу быть злым. Это важное открытие, так как раньше мне трудно было представить, что добрый Карандаш способен сердиться или ненавидеть. А без этого не мог родиться сатирик. Теперь я был уверен, что огромная область сатиры — это тоже моя область.
Я уже не мог и не хотел возвращаться к прежнему доброму, безмятежному персонажу. И скоро на арене Московского цирка пошли репризы о плане Маршалла, о дельцах Уолл-стрита… Правда, темы эти были слишком общи, а я, по опыту прошлых лет, искал какого-то конкретного противника. И вот однажды утром, развернув газету, я прочел, что британский атташе в Москве, некий генерал Хилтон, под предлогом лыжной прогулки предпринял вылазку в расположение одного завода и сфотографировал его. Я задумался. Высмеивать дипломата? Это было что-то не в традициях Московского цирка. А впрочем, почему бы и нет. Вечером я вышел в тулупе и валенках на площадку над форгангом. На вопрос, что я тут делаю, ответил, что ищу место для лыжных прогулок, и щелкнул портативным аппаратом. Зал засмеялся, намек был понят. Сыграла роль злободневность сценки, и я невольно вспомнил «правило» сатириков: «Утром — в газете, вечером — в куплете». На следующий день репризу одобрили в газете, в той самой, где официально сообщалось, что Хилтон объявлен «персона нон грата»…
Обращаясь к сатире, я стремился найти такое решение темы, которое шло бы от частного случая к критике явления в целом, называя про себя этот метод — «глубокая философия на мелких местах».
Вот реприза «Бережливое отношение». Карандаш деловито выходил на манеж, неся в одной руке небольшое вырванное с корнями деревце, а в другой — табличку. Когда инспектор манежа спрашивал, что он собирается делать, Карандаш отвечал:
— Я записался в «Друзья природы» и охраняю зеленые насаждения.
— Каким же образом вы это делаете? — спрашивали его.
— Сейчас увидите, — отвечал невинно Карандаш и большим гвоздем прибивал к тощему деревцу табличку: «Берегите деревья!» — Иду сажать, — удовлетворенно сообщал он на прощание.
— В этой сценке два плана. Один говорит именно о таких «друзьях природы». А другой бьет по формализму, бескультурью. Реприза напоминала известный фельетон Ильфа и Петрова, где такие действия именовались «административным восторгом», под этим названием выводились симптомы целой общественной эпидемии. А продолжить в маленькой репризе линию большой сатиры всегда было моим стремлением.
Выступая в Сочи в разгар курортного сезона, в одной из пауз я начинал собирать всех на манеж: артистов, униформистов, осветителей. Всех просил стать как можно ближе друг к другу. Получалась большая толпа. Выбегал инспектор и, изумленный моей очередной проделкой, спрашивал: «Что все это значит?» — «Просто мне захотелось показать вам сочинский пляж», — отвечал я.
В другой раз Карандаш прогуливался с Кляксой по манежу, к нему обратился один из зрителей (это так называемая «подсадка» — артист, замаскированный под обычного зрителя):
— Карандаш, возьми меня в клоуны!.
— Ты слишком длинный.
— Я тебе заплачу, — громко шепчет он.
— Что?! Взятка? — возмущается Карандаш и взывает к публике: — Подумать только меня хотели подкупить!.. Клякса! Взять!
Клякса бежит к верзиле и… берет из его рук деньги. Убедившись, что операция произведена благополучно, Карандаш бросает:
— Приходи завтра на репетицию! — и уходит.
Клякса, держа в зубах деньги, бежит за ним. Кульминационный момент этой сценки в слове «Взять!». Внешне это «Взять!» можно объяснить как желание наказать взяточника, а внутренне — в этом слове тайная надежда, что верный пес поймет приказание как надо и хозяин не будет лишен барыша.
Так я стал показывать сценки, бьющие по бюрократизму, по формальным отпискам, прикрывающим бездеятельность. Несколько лет играл я сценку про гвозди, которые не мог получить, потому что недоставало одной резолюции. Но потом нашел более острую шутку. Я появлялся на манеже с санками, нагруженными огромной кипой бумаг, Я пыхтел, и было видно, что мне приходится выполнять трудную работу, переваливая бумаги через барьер.
— Карандаш, что ты делаешь? — следовал вопрос инспектора.
— Работаю, — отвечал я, — один за всех.
— За кого — за всех?
— Да они заседают, — махал я рукой по направлению к кулисам, имея в виду бюрократов своего учреждения, — а я резолюции выношу…
Свои шутки я никогда не сопровождал оговорками, зная, что зрители поймут все правильно.
В репризе «Неисправимый» униформисты выносили на манеж большой мешок. В нем кто-то барахтался.
— Что здесь? Свинья? — спрашивал я.
— Хуже, — отвечали мне. — Здесь хулиган.
— Что же вы его в мешок засунули?
— Да нам так надоели хулиганы, что мы решили этого утопить.
— Ну, товарищи, — говорил я, — это никуда не годится!
— Почему?
— Да потому, что вы этак полгорода перетопите…
Иной мог бы сказать, услышав такую реплику, что Карандаш допускает здесь слишком резкое обобщение. Но это не обобщение, а гротеск, преувеличение. Гротеск обостряет отношение зрителей к тому, о чем говорится в сценке. И польза от этого немалая.
В данном случае реприза подействовала на общественность города, где я выступал, гораздо сильнее, чем если бы она сопровождалась обычными оговорками: «в отдельных случаях», «еще бытует» и т. д.
Острая реприза нередко попадала в газету, и это очень помогало в труде, в борьбе сатирика. Нередко мне присылали письма с темами для новых реприз. Вот одно из них…
«Уважаемый Карандаш! …Я заинтересовался вашей сценкой «В магазине». Такие нерадивые продавцы есть и у нас. То, что я увидел, хотелось бы вам описать. Может, вы это сыграете, и тогда наш далекий поселок почувствует вашу заботу…»
А бывали и официальные письма на служебном бланке. Так, например, отдел регулировки уличного движения обратился с просьбой высмеять школьников, катающихся на подножках троллейбусов и трамваев. На школьных каникулах я выходил на арену с разбитым носом и объяснял всем, что катался на «колбасе». В клоунаде «Образцы торговли» я показал примеры далеко не образцового обслуживания покупателей.
С годами требования к смешному повышались. Хотелось добиться максимальной четкости каждого движения и слова, лаконичности, емкости, когда небольшое действие может вместить многое. Один из этапов этих поисков — клоунада «Смотри в корень». Происходило в ней вот что.
Клоун выкатывал на манеж аппарат, напоминающий электронную машину со множеством загадочных приспособлений: кнопок, дверок. Клоун объяснял зрителям: «Этот аппарат смотрит в корень любой вещи или явления. Он раскрывает правду и показывает самое главное». И приступал к демонстрации своего изобретения. Брал прежде всего программу циркового представления и при помощи аппарата «смотрел в ее корень». Что же в программе главное? Главное — это, конечно, клоунада, и в подтверждение этого из боковой дверцы аппарата выходил Карандаш. Дальше он становился хозяином действия…
Сначала с помощью аппарата я узнавал, что в бутылке молока, которую только что купил на рынке, девяносто девять процентов воды. «Обрадованный» таким открытием, бежал за кулисы, желая проверить все свои последние покупки, выносил котиковую шубку — подарок жене. Закладывал шубку в аппарат, а извлекал старую облезлую шкуру, ведро с краской и… несколько разношерстных собак. «Ай-яй! Вся шуба разбежалась!» — в горе восклицал я и продолжал свои опыты. Они завершались знакомством с неким отцом и его бездельником сыном. Стремясь выяснить, как в семье могли воспитать морального урода, я приглашал обоих в аппарат, а вместо отца выходил осел в трусах. Оказывается, даже в аппарате сынок не растерялся и успел обобрать и раздеть своего родителя.
Сценка, в которой было несколько действующих лиц, заставила задуматься о партнерах. Я пришел к выводу, что одно действующее лицо не передает многообразия того, что может произойти на арене. Когда-то я выступал один. В 1937 году у меня появилась Клякса. Возможности этого четвероногого партнера были весьма ограниченны. Требовался клоун. И я начал подбирать партнера не менее тщательно, чем это делает разборчивая невеста.
Я искал смешной персонаж и умного артиста. Это было нелегкой задачей. Многие еще были привержены старым понятиям о клоунской манере, другие вели себя в общем реалистично, но как-то безрадостно.
В 1949 году при Московском цирке работала студия разговорных жанров. Под этим названием было нечто вроде клоунской школы. Меня пригласили к студентам в качестве лектора. Впервые пришлось говорить о смешном с научной точки зрения. После лекции студенты показали свои этюды. Я обратил внимание на долговязого парня. Неподвижное лицо его чем-то напоминало старого знакомого по экрану Вестера Китона. Студент был очень смешон в действии без слов, а это я особенно ценю в комиках. Я предложил ему стать моим партнером. Это был Юрий Никулин.
Впоследствии Юрий Никулин рассказывал, что еще мальчиком ходил с родителями в цирк на представления с моим участием. Кстати, отец его был в свое время автором нескольких сценок для цирка. Он-то и преподал сыну начала сценической культуры. Наши с ним занятия начались с участия в клоунаде «Ужин». Действие проходило так.
Один из клоунов обещает накормить вкусным ужином своего партнера — известного обжору. Но тот сперва должен выполнить одно условие, простое, как в детской игре: подержать над головой большую воронку, чтобы первый клоун бросил в нее мяч. Сказано — сделано. Второй клоун держит над головой воронку, а первый, вместо того чтобы бросить мяч, подкрадывается сзади и льет в нее воду. Облитый клоун не унывает. Он радуется возможности разыграть эту шутку с кем-нибудь другим. Когда на арену выходит инспектор, пострадавший клоун решает избрать его объектом коварной шутки. Посулив инспектору хороший ужин, клоун просит его подержать над головой воронку…
Тут-то на арене появляется Карандаш. Он сразу подхватывает шутку и готов включиться в «работу». Сгибаясь от тяжести, приносит таз воды, потом корыто, потом еще кувшин. Инспектор терпеливо ждет, держа воронку над головой. Теперь Карандаш пытается облить инспектора. Но тот высокий, а Карандаш — мал. Один из клоунов становится на четвереньки. Карандаш с кувшином воды взбирается на него. По дороге полкувшина воды, конечно, выливается на клоуна, а Карандаш соскальзывает и падает в корыто, а за ним — и первый клоун.
Они уже забыли о своей цели, лишь бы выбраться из корыта с водой. И конечно, инспектор уже не держит воронку над головой, а смотрит, с каким маниакальным упорством Карандаш старается перелезть через клоуна, чтобы поскорее удрать. И снова, совершенно мокрые и обессиленные, оба плюхаются обратно в воду. Так в этом корыте их уносят униформисты.
Я ввел эту незамысловатую сценку из репертуара клоунов старого цирка, поставив перед собой задачу очистить ее от бессмыслицы, сделать действие пригодным для характеров значительных и здоровых. Мне понравилось, как Никулин подошел к работе над сценкой. После репетиций он анализировал ситуацию, характеры, стремясь разгадать секрет смешного. Это казалось тем более трудным, что каждый раз все действие подавалось как цепь случайностей. И зрители верили, что каждый раз все совершается впервые.
Только после нескольких репетиций я обратил внимание своего партнера на мелочи. И он увидел, что актерами движет в этой импровизации строгий расчет. Расстояния, ритм действия, мизансцены, даже расчет в шагах — все должно было быть тщательно вымерено, чтобы возник эффект жизненной правды. Даже число движений ногой, когда я пытаюсь закрепиться на спине партнера, должно быть строго определенным, чтобы действия Карандаша соответствовали его характеру в данной ситуации.
Верю, что основа воспитания актера — практика. Одно дело слышать, что на арене надо жить независимо от зрителей, от их реакции, а другое — выйти первый раз к зрителям и забыть от волнения все слова, как это было с Никулиным. Так вот, когда он в ужасе убежал обратно за кулисы, я сердито крикнул ему: «Да скажите зрителям: «Я вас не боюсь!» Про себя, конечно…»
В следующей клоунаде «На лошади» все решала практика, действие, в котором должно было сочетаться мастерство клоуна, акробата и наездника. И Юрий Никулин прекрасно справился с трудной задачей.
Кто не мечтал проехать верхом на лихом коне? Особенно после того, как по манежу только что вихрем пронеслись жокеи. Как бы предупреждая это желание зрителей, Карандаш выходит на арену, ведя под уздцы лошадь. Сейчас он покажет, как это делается! И действительно, после нескольких попыток Карандаш оказывается в седле и даже делает круг по манежу. Однако ему уже мало быть просто наездником. Он хочет стать учителем верховой езды! С этой целью Карандаш обращается к публике: «Кто желает научиться ездить верхом?» Долговязый парень сразу откликается на этот призыв и сходит с амфитеатра на манеж. Это Юрий Никулин. Карандаш принимается за обучение: сажает парня на лошадь и, чтобы он не упал, привязывает его к концу стального троса — лонжи, пропущенного где-то наверху через блок. Начинается скачка.
Бедный Никулин! Мало того что новичок смешон сам по себе, его учитель все делает невпопад. Стараясь предохранить ученика от толчков, он не вовремя дает команду униформе, а та подтягивает конец лонжи, и наездник начинает болтаться в воздухе в то время, как лошадь скачет где-то внизу. Наконец Карандаш велит опустить всадника, но раскручивающаяся лонжа сажает парня в седло задом наперед. Оцепеневший от страха, он судорожно цепляется за лошадиный хвост. Растерявшийся Карандаш снова жестом требует подтянуть конец лонжи, и наездник начинает летать где-то под куполом цирка… Уже забыта лошадь, уже униформа не знает, как быть с «заевшим» блоком, который держит неудачного наездника в воздухе, и наконец лонжа спускает Никулина прямо в руки униформистов, которые уносят его за кулисы.
Смешные положения в приведенных выше двух сценах связаны с непосредственностью, живостью натуры действующих лиц. Мы видим тут и завязку, и кульминацию, и развязку совсем как в пьесе. Причем все продумано заранее. Импровизация была бы здесь очень трудна — она могла бы оказаться слабее тщательно отобранных трюков.
Таковы первые шаги с партнером… Меня все больше влекли к себе сатирические интермедии для двух-трех исполнителей. Работа над ними совпала с началом поездок по стране…
Выступления только в Москве означали бы прикрепление к одной сценической площадке, вкусам, характерным преимущественно для москвичей. И мы начали гастроли по циркам страны.
Каждое выступление с новым репертуаром стало двойным дебютом, поскольку нас ждали новые ценители и судьи. Знакомство со зрителями было увлекательно и захватывающе.
В Одессе мы показали новую клоунаду «Автокомбинат», написанную М. Волжаниным. Оригинальное изобретение — автоматический комбинат бытового обслуживания — демонстрировал Юрий Никулин. Любопытный Карандаш входил в своем измятом костюме в дверцу комбината, а выходил в чистом, отутюженном костюме. Изобретатель дарил ему цветок. Но не только Карандаш был очарован новым изобретением. Решено было пустить автокомбинат полным ходом. Назначили директора, спустили план. Первым клиентом снова был Карандаш, который успел сбегать домой и притащить еще один мятый костюм. Надев его, он входил в заветную дверцу. Директор включал аппарат. Летели искры, валил дым, и даже показывалось пламя. Но директор спокойно вешал на аппарат табличку «Ушел на обед» и собирался идти по своим делам. Инспектор манежа обращал его внимание на то, что в автокомбинате остался клиент. Да, директор совершенно забыл об этом! Он распахивал дверцу и извлекал оттуда Карандаша в рваном костюме с всклокоченными волосами, в копоти. Однако, следуя инструкции, директор все равно продевал ему в петлицу цветок.
Эту и другие сценки показывали мы с Никулиным после Одессы в Кемерове, Челябинске, Ленинграде. Мы мечтали усложнить сценки, а для этого нужен был третий партнер. На этот раз мне уже не пришлось обращаться в студию. От желающих не было отбоя. После тщательного отбора пригласили Михаила Шуйдина. Мы были полны вдохновения и просили направить нас на гастроли как можно дальше. Куда? Конечно, во Владивосток, город самый далекий из всех, имеющих свой цирк. Отправились мы на самолете.
— Когда-то артисты бродили по дорогам и ярмаркам. Позже цирковые труппы разъезжали на телегах и арбах… Помните, о них писал Блок:
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган…
Так вот, мы с ассистентом Тамарой Румянцевой, Юрием Никулиным, Михаилом Шуйдиным, инспектором манежа Хосров Абдуллаевым, ослом Мишкой, собакой Кляксой совершили перелет за двадцать девять часов. Усталость, качка, даже ночевка на маленьком таежном аэродроме не уменьшили нашей радости от прибытия на берег Тихого океана. Трехнедельные гастроли во Владивостоке прошли с успехом. Мы выступали не только в цирке, но и в пионерлагерях, и даже у моряков на крейсере прямо на открытой палубе, возле огромных орудийных стволов.
Два месяца мы гастролировали по Дальнему Востоку и Сибири. Были в Уссурийске, и в Хабаровске, и в Новосибирске. Это было очень хорошее время. Мы много работали. Я чувствовал, как важно, когда с тобой способные ученики, которые не только учатся сами, но помогают учителю.
В Новосибирске был такой случай: рано выпавший в ту осень снег продавил купол цирка шапито. Цирк оказался без крыши, но мы все же начали представление в срок. И три дня подряд нам пришлось выступать под открытым небом. Было холодно, и какая-то добрая зрительница предложила мне свой пуховый платок.
Так закончилась дальневосточная гастрольная эпопея. Настроение у всех нас было очень хорошее.
Поездки по Союзу приносили огромное удовлетворение. Общение с людьми здесь было наиболее полным. Мы не ограничивались обычными цирковыми представлениями, а организовывали и шефские спектакли для рабочих, воинов, детей. Часто выезжали на фабрики и заводы и там в обеденный перерыв показывали прямо в цехе свои номера. Такие выезды всегда событие, и я записывал об этом в дневнике так же, как и о длительных гастролях в каком-нибудь городе.
Во время гастролей в Баку — в марте 1950 года — цирк был каждый вечер переполнен. Мы, как всегда, стремились поехать на нефтепромыслы, на заводы, к каспийским пограничникам. Помню, в военно-морском клубе зрительный зал помещался на третьем этаже, и мне пришлось вести туда осла Мишку по белой мраморной лестнице. Обратно осел ни за что не хотел спускаться по скользким ступеням. Только пучок зелени заставил его следовать вниз… Побывали мы и на юге Азербайджана, в военном городке и выступили на двух пограничных заставах. Эта поездка осталась в памяти как одна из самых приятных…
Несмотря на частые переезды, я все время работал над новыми клоунадами. Ведь это моя жизнь. Однажды в Центральном парке культуры и отдыха в Москве я обратил внимание на статую «девушка с веслом». Статуя была полуразрушена, и дети пытались приладить ей руки.
Попробовал представить себе, как бы мог Карандаш вести себя в такой ситуации. И одна за другой стали возникать интересные подробности. В Ленинграде я заказал гипсовую статую, а в Москву приехал уже с готовой сценкой «Случай в парке». Работал над ней долго и тщательно, поскольку убедился: для зрителей важна каждая мелочь…
Гуляя в парке, человек нарушил какое-то правило, вроде «по газону не ходить», и вызвал гнев сторожа. Человек робок, а сторож зол. Убегая от своего преследователя, человек натыкается на гипсовую статую Венеры. Качнувшись, статуя падает, рассыпаясь на куски. Испуганный человек, в котором зрители, конечно, узнают Карандаша, стремится поскорее исправить свою оплошность. Оглядываясь по сторонам, он начинает торопливо собирать статую. Но Карандаш рассеян, а гипсовые куски никак не хотят складываться в статую. Получается нечто невообразимое. Затем он, подобно скульптору, отступает, смотрит на свое «творение» и видит, что все не так, пробует переделать и производит еще большую путаницу. Залу смешно, но не смешно Карандашу. Этот человек спешит, он боится. И получается так, что страх его является движущей силой смеха. Этот страх и смех зрителей достигают предела, когда отчаявшийся собрать статую Венеры Карандаш сам становится вместо нее на постамент.

 Прогулка с Кляксой по манежу — это целая новелла.
Прогулка с Кляксой по манежу — это целая новелла.
 Самые любимые зрители.
Сценка «Если приближается инспектор…»
Самые любимые зрители.
Сценка «Если приближается инспектор…»



 Когда осел Мишка упрямится…
Когда осел Мишка упрямится…
 На репетиции
Рабочий момент. Режиссер М. Местечкин (слева), клоун Олег Попов, художник Л. Окунь и Карандаш.
На репетиции
Рабочий момент. Режиссер М. Местечкин (слева), клоун Олег Попов, художник Л. Окунь и Карандаш.

 Советуясь с Кляксой.
Советуясь с Кляксой.
 Клякса.
Клякса.
 Можно защитить диссертацию и по клоунаде.
За гримом. ►
Можно защитить диссертацию и по клоунаде.
За гримом. ►

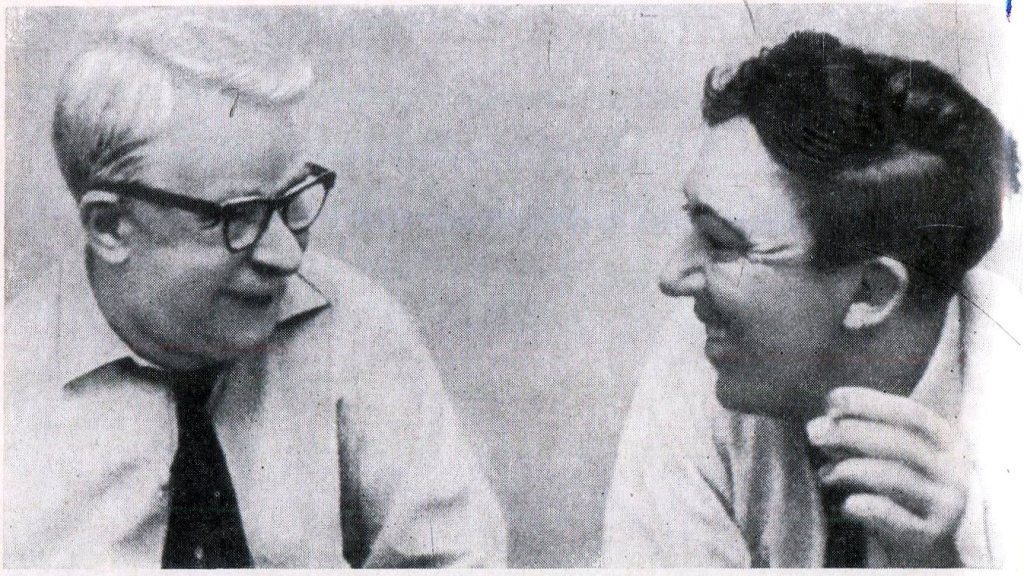 С Юрием Никулиным.
С Юрием Никулиным.
 В день юбилея.
В день юбилея.

Рецензенты отметили, что никакая словесная импровизация не могла бы вызвать большего комизма, чем красноречивое положение, в которое попал Карандаш и из которого он старается выпутаться собственными усилиями. Люди смеялись. Но я вдруг встревожился: не допускаю ли здесь излишнего комикования? Несколько раз проводил клоунаду очень сухо и сдержанно, но люди все равно смеялись. В этой сценке нет трюков, а есть правда положения. А правда — стихия Карандаша. Поэтому в дальнейшем я стал еще более тщательно отрабатывать все реалистические штрихи этой сценки. Так я придал статуе классическую позу Венеры Милосской, чья величественность и бесстрастность особенно контрастировали с происходящим. За несколько лет работы «Случай в парке» превратился, пожалуй, в самый реалистический и одновременно в самый смешной номер. Я люблю эту историю и по сей день придумываю для нее новые штрихи…
Никулин и Шуйдин к этому времени настолько выросли, что составили самостоятельную клоунскую пару. Мы расстались, и я с тех пор с радостью слежу за их успехами.
Одна из любимых тем Карандаша — его ученики. Он подолгу рассказывает о Юрии Никулине и Михаиле Шуйдине. Никулин был первый из его молодых коллег, кто понял, что такое большая и серьезная работа над смешным, и частично перенял методы Карандаша в подготовке реприз и их показе. Карандаш относился к Никулину, а позднее и к Шуйдину, не просто как к своим помощникам в работе, а как к ученикам, чутко воспринимающим все лучшее, чему может научить их цирк.
Каждый раз после очередного спектакля трое артистов оставались на «пятиминутки», нередко затягивающиеся на полчаса. Карандаш анализировал, объяснял, почему в том или другом месте зрители смеялись меньше, чем в прошлый раз. Обычно это касалось мизансцен в репризе, ритма действий, точного чередования действия и реплик. Если же неудачен был реквизит, он обычно настаивал, чтобы переделки производили сами исполнители. «Делайте реквизит своими руками, — говорил Карандаш, — это рождает много мыслей».
Никулин рос без срывов. И сейчас это прекрасный комедийный артист, тонкий, человечный! Увидев Никулина в фильме «Когда деревья были большими», Карандаш заметил: «Мне хотелось бы, чтобы его комедийные роли в кино достигли такой же глубины, как в этом фильме».
Опытный мастер, Карандаш дал молодому клоуну уроки тонкого психологического поведения, комизма, вытекающего из естественных жизненных положений, развития в себе многообразных сценических черт характера без боязни, что они заглушат то смешное, эксцентричное, которое так старательно воспитывали в себе комики старого цирка в ущерб жизненной правде.
Потому и радуют зрителей Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, что поведение этой пары на арене цирка никогда не бывает однообразным.
— По возвращении с гастролей я всегда особенно остро чувствовал, что снова дома, в родном Московском цирке. Для Москвы я всегда припасал что-нибудь новенькое. В 1949 году, например, показал новую интермедию Эделя «Шкаф очковтирателя». В ней Карандаш был директором мебельной фабрики.
Он произносил патетический монолог о высоком качестве продукции своего предприятия и при этом демонстрировал образцово-показательный шкаф. В этом уродливом сооружении ни одна дверца не закрывалась и не открывалась. Но это не смущало директора. Он продолжал расхваливать продукцию до тех пор, пока шкаф, за который брались покупатели, не падал — оказывается, он стоял на трех ножках… С грохотом он погребал директора. Из-под обломков униформисты извлекали «расплющенного» в лепешку директора (такое чучело мы сделали из картона), а настоящий Карандаш выходил как ни в чем не бывало.
Обращаюсь к рецензиям тех лет.
Вот что писал тогда доктор искусствоведения Ю. Дмитриев в газете «Советское искусство»: «Карандаш возвращает цирку его утраченную силу веселого и разнообразного зрелища. В чем достоинство Карандаша? Прежде всего в том, что его герой — чудаковатый, веселый, любящий разыгрывать и сам легко поддающийся розыгрышу, по-детски увлеченно шалящий, — действует на арене чрезвычайно правдиво… Всякий поступок Карандаша оправдан его характером, его отношением к действительности. Это не условная маска клоуна, а живое лицо. Карандаш действует со всей серьезностью, но чем он серьезнее, тем больше смеется публика. В Москву Карандаш вернулся после гастролей, проведенных с большим успехом в ряде цирков страны, вернулся, обогатив свой, пока небольшой, творческий опыт. В частности отметим, что он стал чаще и лучше разговаривать на арене, и это делает его выступления более яркими и доходчивыми».
К этому мнению присоединился и кинорежиссер Сергей Юткевич. Сравнивая в своей статье Карандаша с Чаплином, он находил, что в Карандаше нет ничего от «лишнего человека», вызывающего жалость зрителей. Наоборот, он активно вмешивается в жизнь и соучаствует в ней на равных правах.
Работу артиста по созданию оптимистического образа отмечает и рабочий автозавода Г. Иванов. В письме Карандашу он говорит: «Когда смотришь Чаплина, то не только смеешься, но и плачешь. Получается смех сквозь слезы. Вы же в Ваших сценках, особенно в «Случае в парке», даете нам здоровый отдых, зарядку бодрости на много дней. За это мы любим Вас».
— В 1950 году я познакомился с недавно появившимся в Москве молодым эквилибристом с ярко-голубыми глазами и льняными волосами. Обаятельный на арене, он и за кулисами привлек внимание своим трудолюбием, заботой о реквизите. Заметив, что комические штрихи в его номере становятся все явственней, я предложил ему подыгрывать в некоторых репризах. Юноша согласился. И вскоре он уже выступал в клоунадах, изображая эпизодических персонажей, самым крупным из которых был сторож в «Случае в парке». Это был юный Олег Попов. В ту пору он еще не думал, что станет клоуном. Но я-то знал, что будущее Олега — клоунада, и, расставаясь с ним в Казани, сделал все, чтобы убедить его в этом.
И случилось так, что в следующем городе — Саратове Попов выступил уже как комик. Помог ему случай: его попросили на несколько вечеров заменить заболевшего клоуна. В конце концов Попов стал настоящим клоуном, подчинив этому и свое мастерство эквилибриста… Его успех говорит о торжестве реалистической клоунады.
И у Карандаша, и Олега Попова одна цель: радовать зрителей. Это, как говорит Карандаш, шире понятия «смешить». Карандаш старается достигнуть этого наибольшим разнообразием средств, к этому стремится и Олег Попов. Он выступает не только как прекрасный эквилибрист, но и как обаятельный комик. Небольшое происшествие — Олег проглотил свисток — легло в основу целой лирико-комической пьесы, где человек лишен голоса и должен свистом выражать обиду, горечь, согласие, недоумение. Делает он это без шутовства, очень драматично, хотя и легко.
Олега Попова нередко называют поэтом арены. Его лиричность не контрастирует, а, наоборот, естественно уживается с обликом комика. Это позволяет ему создавать на манеже цирка произведения не только смешные, но и драматические, глубокие.
Вот одно из них: на темную арену, освещенную лишь в одном месте ярким лучом прожектора, выходит Олег Попов. В его руке сумка с провизией. Войдя в очерченный прожектором круг, как на солнечную лужайку, он с тихой радостью греет «под лучами солнца» руки и садится «на травку». Человек доволен. Он вынимает из сумки бутылку кефира и, удовлетворенно вздохнув, подносит ко рту… И в это время круг света переходит на другой конец арены. Встревоженный человек поднимается, прячет кефир и «идет за солнцем». Войдя в круг света, как будто неподвижный теперь, он, успокоившись, снова греет руки, садится, достает кефир, подносит ко рту, и… свет снова уходит. Человек, оставшийся в темноте, опечален и встревожен уже не на шутку. Снова подойдя к кругу света, он долго не решается в него войти, а, войдя, ждет, что свет вот-вот исчезнет. Но свет не уходит, и человек в третий раз вынимает кефир. Он осторожно подносит бутылку ко рту, в то же время поглаживая не без опаски круг света. Свет не уходит. Но откуда-то из темноты раздается тревожный свисток.
Неизвестно, что это. Да напуганному человеку все равно. Он быстро сгребает свои пожитки, собирает и луч света в маленькое пятнышко, прячет его вместе с кефиром в свою сумку. Так и уходит он, веря, что найдет еще свое «место под солнцем».
Нужно ли говорить, что в старом цирке такая сценка была бы невозможна? Когда же она играется сегодня и зрители одобрительно принимают ее, возникает вопрос: клоунская ли это сценка? Или, может, театральная? Но цирковая природа этой интермедии определяется ее эксцентризмом, посредством которого решены все моменты вплоть до финала. Роднит ее с цирком и то, что в ней с успехом выступает знакомый всем клоун…
Такие интермедии, такое развитие характера персонажа как бы продолжают то, что уже давно предложил нашему цирку Карандаш. Сегодня в зрелом Олеге Попове мы видим прежде всего современность его персонажа. Олег Попов ведет себя на арене мягко и свободно, без всякого нажима. Его персонаж никогда не вызывает жалость или насмешку, хотя у него могут быть недостатки. Но мы всегда любим его, всегда ему рады… Мы чувствуем общность актерской природы двух клоунов, несомненное влияние Карандаша на формирование персонажа Олега Попова.
— Одно из самых больших желаний комика — быть острым и непримиримым. Сатирики Бахнов и Костюковский предложили текст сценки «Защита диссертации». Редко случалось, чтобы я так быстро «поверил» в новую сценку и сделал все, чтобы она поскорей появилась на манеже…
Карандаш защищает диссертацию на звание кандидата наук. Это большое событие, и сторонники будущего кандидата еще до его прихода стремятся расположить оппонентов в его пользу. Аргумент один: диссертант — их поля ягода. И вот появляется виновник торжества с огромной деловой папкой. Он задумчив. Своим оппонентам делает многозначительный поклон, медленно поднимается на кафедру, словно на ступени карьеры. Он еще не уверен — неужели ему так повезло? Комик не только пародирует будущего лжекандидата, но и посмеивается над своими «метрами».
Тема диссертации — «Переливание из пустого в порожнее». Переливание из одного ведра в другое, на которых рукой диссертанта написано «пустое» и «парожнее», — иллюстрации к диссертации Карандаша. Робкие оппоненты задают ему только один вопрос: «А можно ли переливать из порожнего в пустое?» — «Да, можно, но это уже тема моей докторской диссертации». В тот момент, когда «ученый» торжественно раскланивается, отвечая на поздравления, рушится кафедра, и обломки покрывают его.
Я как бы раздваиваюсь в этой сценке: с одной стороны, показываю то, что определено по ходу действия, а с другой — становлюсь над персонажем и выполняю функцию умного зрителя, который все понимает и обличает зло. Ирония соседствует здесь с непосредственным поведением, отношение идет рядом с показом.
Вы заметили, наверное, что в основном эта сценка психологическая, а финал ее трюковой. Это не случайно. За психологической игрой зрители следят с напряжением, а действенный финал дает необходимую разрядку. Важно, чтобы финал не был добродушно-успокаивающим. Каждый раз, показывая эту сценку, я как бы жду того дня, когда она перестанет быть злободневной. Но зрители аплодируют и, таким образом, утверждают актуальность темы. «Защита диссертации» — номер", которым я очень дорожу.
Как правило, взгляды, убеждения клоуна налагают свой отпечаток на работу над интермедией. Вы, наверное, обращали внимание на то, что репертуар отражает политические и гражданские позиции артиста. А в наше время политическая зрелость, мне кажется, неотделима от роста мастерства.
На меня, например, время влияло остро. Комические идеи нередко рождались в ходе событий, которыми жила страна. Малый круг арены своеобразно воспроизводил то, что было в большом круге жизни Все, что рождалось во время репетиций и бесед, я записывал, а потом систематизировал. Как-то, перечитав эти записки, я увидел, что передо мной последовательный рассказ. Так родилась книга общественных, рабочих и биографических заметок клоуна — «На арене советского цирка». Может быть, в книге есть элемент субъективности, но, думается, она может представить интерес для любителей цирка и для моих коллег-артистов… Вышла она в свет в 1954 году в издательстве «Искусство». Я благодарен Евгению Михайловичу Кузнецову, который очень помог мне в работе над книгой.
Я считаю, что в советском цирке накоплен достаточный опыт, чтобы мы могли поразмыслить, порассуждать об искусстве клоунады. Арена — кладезь неисчерпаемых возможностей. Нам удалось приподнять над ней лишь краешек завесы…
Годом раньше (1953) Центральный Дом работников искусств устроил мой творческий вечер. Много интересного и полезного услышал я в тот вечер.
Кинорежиссер Григорий Александров заметил тогда: «Карандаш очень убедительно и серьезно делает все, что от него требуется на арене. И каждый зритель понимает его и верит ему. Для такого искусства мало тренировки, мало обучения, необходимо знание жизни, психологии человека, ибо нельзя подметить смешное, не понимая серьезное».
На этом вечере мы показали небольшую сценку. Два клоуна появляются на арене. Один вынимает бутылку, другой — стаканчик, и начинают его наполнять. Инспектор издали видит это и направляется к нарушителям порядка. Заметив его строгий взгляд, первый клоун быстро подставляет руки, а его товарищ сливает на них содержимое стакана, показывая, что это, дескать, вода, которой хотят умыться. Инспектор отходит. Теперь другой клоун берет бутылку и переливает ее содержимое в стакан. И снова инспектор пытается поймать клоунов за непозволительным на работе занятием, теперь другой клоун моет руки. Инспектор, которому снова не к чему придраться, удаляется. Клоуны, посмотрев на пустую бутылку, молча закусывают черным хлебом. И так же молча уходят, и только сдержанный негодующий жест одного из них говорит о тайной «трагедии».
Зритель смеется. Почему? Возможно, потому, что таинственность, усилия, «жертвы» совершаются во имя нестоящей всего этого цели. Жизненность сценки доказывает это.
Непосредственность, искренность, озорство — эти черты роднят детей и клоунов, делают их членами немного сказочной, но всегда очень дружной, здоровой семьи. Клоун знает, что — лучший прием он встретит у детей. Если считать искренность и доверчивость наиболее характерными чертами клоуна, то это же мы наблюдаем у детей. Ребенок верит клоуну… Для клоуна важно еще и то, что ребенок воспринимает его как товарища по играм. Вот я ищу пропавшую рукавичку… В поиски включаются все. А рукавичка выглядывает у меня из кармана. Зал кричит: «В кармане!» Но я словно не слышу, недоуменно оглядываюсь, не понимаю, почему все так шумят. И, потирая «закоченевшие» руки, продолжаю поиски. Когда же я в конце концов обнаруживаю пропажу, каждый из моих маленьких друзей счастлив, что именно он помог мне. Не удивительно, что когда в следующем эпизоде я, готовясь к ночлегу, залезаю вместе с Кляксой в спальный мешок, то ребята заботливо советуют мне получше укрыться, чтобы не продуло. Большие цирковые новогодние сказки приобретают реальность только от того, что в них наравне с Хоттабычем участвует Карандаш. Юные зрители подсказывают выход из трудного положения, предупреждают о грозящей опасности и, конечно, больше всего смеются, радуются шуткам. Уходя из цирка, ребенок всегда уносит с собой живой образ героя… Здесь недействительна пословица: «С глаз долой — из сердца вон». Вот доказательства.
Семилетняя Наташа Тер-Степанян поздравила меня с Новым годом и нарисовала елку. Я ответил девочке, и снова пришло письмо из Ташкента:
«Дорогой Карандаш! Большое спасибо за Ваше письмо и фотографию. Мы весело встретили Новый год. Я и Оля очень хотим, чтобы Вы с Кляксой приехали к нам в Ташкент. Привет Кляксе.
Наташа».
«Дядя Карандаш, почему вы не участвовали в дневном спектакле восьмого февраля? Без вас было скучно.
Алла Валуева, 6 лет».
Дружба, как известно, располагает к откровенности. И Валерий Газукин из Оренбурга присылает серию рисунков под названием: «Мой рабочий день». Четвероклассник Саша Николаев из города Шахты подарил свои загадки.
Есть письма предельно лаконичные. На конверте всего два слова: «Москва, Карандашу», «Карандашик! Меня зовут Боря. Мне семь лет». Это самая короткая заявка на дружбу. Десятилетний Слава Журбенко из Цурюпинска перечисляет все свои таланты: музыканта, артиста, художника. И в доказательство присылает рисунок снежной бабы, под которым стоит пятерка.
Карандаш успевает ответить каждому. С некоторыми ребятами завязывается длительная переписка. И когда артист не может сразу ответить на письма, к нему несутся тревожные вопросы:
«Дорогой Карандаш! Почему ты не пишешь мне? Я очень волнуюсь. Еще с 9 сентября нет писем. Почему? Не заболел ли ты?
Лида Волгина, первоклассница».
— Но интересно, что, несмотря на свою любовь к детям, вы не изображали на манеже ребенка.
— Это не совсем верно. Ребенок, как и взрослый, для артиста может быть прообразом… Но играть в ребенка на манеже нельзя. Нужно ребенком быть. Я помню случай, когда мальчик, придя из цирка, совершенно серьезно сказал своей матери: «Я из тебя клоуна сделаю!» Он всерьез хотел сделать близкому человеку приятное и верил, что этого нетрудно добиться. Клоун знает, что ему изобразить ребенка трудно. Клоун лишь стремится узнать ребенка.
Вот я стою рядом с инспектором манежа. Он деловито показывает униформе, что надо сделать к следующему номеру программы. Если у клоуна детская натура, он не может не начать подражать важному, затянутому во фрак инспектору. Он тоже показывает на что-то рабочим арены, но инспектор хлопает его, как маленького, по руке, чтобы не мешал. И вот первая реакция. Я или из подражания, или из мести (и то и другое оправданно) точно так же хлопаю инспектора по руке, когда тот отдает очередное распоряжение. Но делаю я это не сразу, а спустя минуту. За это время логика действия сохраняется, а я успеваю обнаружить в себе черты озорства. Но этого мало. Не только озорство, но и мстительность. Теперь инспектор с гневом взирает на дерзкого клоуна. Как я должен на это реагировать? Наверное, как дети. То есть изобразить сложную гамму переживаний: независимость и робость, вызов и готовность на всякий случай к отступлению. В небрежном притопывании ногой в этот момент так и чувствуется, что, если противник окажется сильнее, я переведу все в невинную детскую шутку.
Но быть только ребенком — мало для клоуна. Как в ребенке иной раз могут проглянуть черты взрослого, так и я умышленно провожу в своей игре аналогию со зрелым человеком: та же боязнь, переходящая в смелость, когда противник слаб, то же нахальство, граничащее с трусостью. Разве все это не встречается в жизни? В образном поведении клоуна должна непременно звучать правда жизни, сатирическая нотка.
Но я немного отвлекся. В другой паузе перед сценкой, нисколько не связанной с предыдущей, я напоминаю зрителям о проделках Карандаша. Можно, например, ни с того ни с сего хлопнуть инспектора по руке, и зрители поймут, что это месть за «то самое». И сделать это в момент, когда, казалось бы, увлечен совсем иным действием. Но это — увлеченность лукавого ребенка, который и раскрывает себя и в то же время, что называется, себе на уме.
Были у меня и такие шутки, когда я изображал взрослого, а партнер — ребенка. Знание детской психологии помогло мне сделать сценку «В парикмахерской».
Отец с сыном (Карандаш с лилипутом, одетым «под Карандаша») приходят в парикмахерскую. Отец просит постричь сына, но сын, услышав это, начинает громко реветь. Он ни за что не хочет стричься! Отец и мастер уговаривают его, стараются доказать, что это совсем не больно. Чтобы успокоить мальчика, отец стрижет себя и после каждой падающей с головы пряди волос оборачивается к сыну и говорит: «Вот видишь? Совсем не больно…» Вот и последний волос падает… Он встает, и… мальчик вынимает папин кошелек, расплачивается с мастером и за руку уводит папу домой.
Если самые юные зрители в цирке понимают меня, значит, я не зря изучал детей, приглядывался к ним и старался уловить круг их интересов. Возможно, у Карандаша (я имею в виду персонаж) и у ребят есть многообщего. Вот такой штрих — почти все мальчишки и девчонки любят животных. И мой Карандаш любит Кляксу. Кстати, мой четвероногий партнер — прекрасный помощник. Клякса вносит оживление и новую яркую краску в репризу. Она играет в мяч, тащит повозку, лает на осла, заставляя его идти. Характерно, что Клякса редко бывает занята в сюжетных тематических сценках. Чаще всего она участвует в импровизациях на манеже.
Даже когда Карандаш ничего не делает на арене, его проход с собакой — это целая небольшая новелла. В том, как взглянула Клякса на своего хозяина, а он на нее, как оба посмотрели на зрителей, как отнеслись к той или иной случайности на своем пути, содержится бездна комизма. И в то же время это не пустой смех. Искренность и правда характера ощущаются в поведении этой пары. Доброта человека подчеркивается его любовью к собаке.
В октябре 1958 года советский цирк праздновал сорокалетие. В эти дни пришла весть о присвоении Карандашу (Румянцеву М. Н.) звания народного артиста РСФСР. Звание «народного» получали артисты цирка Кио, Туганов, Филатов, Бугримова и Олег Попов…
В письмах и телеграммах зрители поздравляли своих артистов. Карандаш получил такую телеграмму от Юрия Дмитриева:
«Цирк всегда будет благодарен за создание веселого и трогательного Карандаша-клоуна, которого знает и любит весь народ. Пожалуйста, не старьтесь. Смелее нападайте на недостатки и больше смешите нас. Смех — признак силы и счастья».
В 1966 году Карандаш выступал в Костромском цирке. Это была сотая арена, на которую вступил Карандаш после войны.
ВСТРЕЧА ПЯТАЯ
ЦИРК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
 Советскому цирку 50 лет. — На гастролях за рубежом. Франция, Италия, Англия, Южная Америка. — Цирк и спорт. — Цирк, театр, кино и эстрада.
Советскому цирку 50 лет. — На гастролях за рубежом. Франция, Италия, Англия, Южная Америка. — Цирк и спорт. — Цирк, театр, кино и эстрада.
Пятьдесят лет советскому цирку исполнилось в 1969 году. Это был большой праздник. Народ поздравлял и благодарил своих артистов. В числе мастеров цирка, получивших звание народного артиста СССР, был и Карандаш. Тридцать пять лет на манеже артист Михаил Николаевич Румянцев. Пожалуй, это имя осталось только в паспорте, а на арене и в жизни для нас существует Карандаш. Его юмор мягкий, а сатира беспощадна. Его репризы злободневны настолько, что на следующий день после представления на иных предприятиях собирали производственные совещания. Это ли не доказательство действенности искусства старейшины советского цеха веселых мастеров!
Прошли юбилейные торжества. Карандаш по-прежнему много работал, размышлял о проблеме смешного на манеже. Помню, я спросил у Карандаша:
— Ваша популярность в Союзе предполагает, что ваше искусство понятно и близко каждому. Но только ли советскому зрителю дорог ваш персонаж, а зарубежный зритель полюбит ли его? Является ли советская школа цирка в целом близкой интернациональному зрителю?
— Во времена, когда русский цирк был наводнен иностранцами и они строили его по своему образу и подобию, кто-то из русских писателей, влюбленных в цирк (никак не вспомню, где я это читал), верил, что мы создадим репертуар не хуже, а обязательно лучше и оригинальнее, чем иностранцы, потому что у нас и мускулы крепче, и смелостью судьба не обидела, и терпения хватает. А смеяться?! Ого, да мы пересмеем всех в мире, потому что смех у нас особенный.
И теперь каждый выезд советских артистов цирка за рубеж подтверждает предсказания человека, влюбленного в цирк. Да, смех у нас особенный, потому-то сегодня непохожи на западных наши клоуны.
Собираясь в дорогу, мы снова и снова спрашиваем себя: будет ли, понятно западному зрителю наше искусство? Полюбят ли они его? Ведь так важно, когда зритель иной культуры понимает тебя — это высшая награда для артиста.
Серьезный экзамен мы выдержали в 1958 году во Франции. Во второй раз Московский цирк выступал в Париже. В нашей труппе были лучшие силы советского цирка: гимнасты Папазовы и Запашные, танцовщица на проволоке Нина Логачева, жонглер Нази Ширай, эквилибристки сестры Кох, наездники Кантемировы и Маргарита Назарова со своими тиграми.
Первые пять представлений советский цирк дал в Лилле. Это была как бы разминка перед выступлением в Париже. Вечером 20 марта в помещении огромного велодрома собрались тысячи парижан. Они ждали русской экзотики, чего-то необычного для Запада… И Маргарита Назарова, Нази Ширай, Папазовы, Кантемировы не обманули ожиданий. Но на этом блестящем фоне я в своем скромном костюме вдруг почувствовал себя неуверенно. Волнуясь, как в первые годы работы в цирке, вышел на арену. Контакт с залом — самое главное для артиста — появился быстро. Я показал сценку «Балет», и она пришлась кстати накануне приезда в Париж труппы Большого театра, показал интермедию «Упрямый осел» и репризы «Оторванная фалда» и «Дрессированная собака», где Клякса ест сосиску, а я демонстрирую это «чудо» дрессировки.
На следующий день в газете «Франсбсерватер» я прочел: «Клоун Карандаш, остроты которого заставляют смеяться весь Советский Союз и который смог здесь показать лишь немые скетчи, прошел серьезное испытание. Он сумел выдержать его без больших усилий. Таким образом, мы можем констатировать, что прошли те времена, когда русские клоуны только облегчали западным коллегам проникновение в свой цирк. Теперь мы видим, что цирковое искусство России глубоко национально…»
Ободренный приемом, я решил хоть чем-нибудь нарушить немоту своих реприз. С помощью жены (она говорит по-французски) я подготовил сценку об обычае суеверных французов: при встрече с черной кошкой три раза постучать по деревяшке. Зрители весело смеялись и аплодировали.
Показал я и сценку «Случай в парке»… Вот что писал в те дни старый артист и знаток цирка Альфред Курт: «В продолжение всего вечера Карандаш бывает очень находчивым, особенно если принять во внимание трудность программы для комика. В цирке много оборудования, много времени тратится на его установку, возникают «бреши», «окна»… Карандаш — Рыжий вечернего представления, но он более тонок, чем лучшие Рыжие, которых я знал». Но что интересно: Курт, говоря о тонкости нашей клоунады, делает затем вывод, что в русском цирке зрители мало смеются. И это звучит как упрек.
Как я понял, именно клоунада приучила французов не задумываться над происходящим на арене. Олег Попов первый взялся перевоспитывать французских зрителей. Во время первых гастролей советского цирка в 1956 году он показал на манеже несколько сценок психологического плана. Теперь моей задачей было доказать, что реалистическая клоунада и ее национальные — в данном случае, русские — формы могут быть разнообразны.
Французские репортеры забросали нас множеством вопросов: о прошлом, настоящем клоунады и русского цирка, о методах показа, о семейном положении артистов… Порой ради сенсации наши ответы в печати становились неузнаваемыми. Например, из газеты я узнал, что служил униформистом и терпел при этом сплошные неудачи. По-видимому, журналистам трудно было представить иной путь на арену, чем это бывало у старых Рыжих, вышедших из униформистов. И заставить их изменить это мнение было очень нелегко. Правда, однажды представился случай. Мою жену пригласили на радио и попросили дать интервью. Тамара Семеновна была представлена слушателям как «мадам Карандаш», ассистент «маэстро улыбки», заведующая «лабораторией комика», где, сообщил комментатор, «строго как в аптеке, отмериваются дозы смешного для получения максимального эффекта».
Тамара Семеновна ответила на разные вопросы, в том числе и на традиционный: «А почему он — Карандаш?»; рассказала о наших совместных поездках, дочери Наташе я добавила, что в Советском Союзе детали личной жизни артиста не принято афишировать. На следующий день газеты объяснили, что русские не хотят делать из своих артистов «культ звезд».
Конечно, я стремился узнать как можно больше о стране. В один из свободных дней побывал в цирке Медрано. Чрезвычайно был удивлен, в особенности после наших многолюдных премьер, тем, что две превосходные французские цирковые труппы собирают на каждое представление до полусотни зрителей. Цирки Парижа пустовали, хотя на арене одного из них выступал в тот день прославленный клоун — Альбер Фрателлини. После представления я встретился с ним и с горечью узнал, что талантливейший артист пьет и заработка — при малых сборах цирка Медрано — ему едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами.
Несколько более радостным было посещение цирка Пиндер в Марселе. Колоссальный передвижной цирк на четыре с половиной тысячи мест привез с собою все оборудование зала, фойе и кулис. Однако цирковое представление здесь подавалось под обильным эстрадным соусом и, по существу, напоминало мюзик-холл. Комики были вульгарны, и особенно плохо то, что сами они не понимали этого…
Они уже видели мою работу и откровенно удивлялись, почему я в сценке «Случай в парке» упустил блестящую возможность обыграть ситуацию с Венерой в сексуальном духе!
Вообще мне кажется, более открытый, горячий характер марсельцев помог мне быстро найти общий язык с ними. Думаю, им импонировал озорной, шаловливый характер персонажа. Непосредственность — эта черта особенно родственна французам.
Марсельцы сделали рекламный фильм «Карандаш и Клякса на прогулке». Этот пятиминутный ролик был передан по телевидению. Такое внимание было приятно и хорошо влияло на мое актерское самочувствие. Нравилось и то, что наши выступления в Марселе проходили в здании городской ярмарки. Каждый день зал был полон. Чтобы быстрее готовиться к следующей паузе, я сделал свою гримировочную комнату прямо у выхода на манеж. Это был небольшой загончик с фанерными стенами, сразу получивший название: «хижина Карандаша». В «хижину» приходили французские журналисты и зрители, среди которых были и русские эмигранты, и мы подолгу беседовали о цирке, о жизни.
Во время прогулок по ярмарке Клякса бежала на поводке и с некоторым недоумением взирала на собак, которые сидели на задних лапах и держали в зубах шляпу. Это были так называемые собаки-нищие, просившие милостыню за своих хозяев, — узаконенная уловка в стране, где открытое нищенство запрещено.
После Марселя Московский цирк приехал в Ниццу, чтобы дать здесь восемь представлений. Это было совсем немного для массы отдыхающих и туристов на Лазурном берегу Средиземного моря. Выставочный зал города, где состоялись гастроли, был переполнен.
В Гренобле — последнем городе наших гастролей во Франции — я встревожился. Собравшийся на этот вечер «свет» Гренобля не аплодировал. Мы уходили, как говорят, под шорох собственных подошв. Оказалось, прибывшие в вечерних туалетах дамы и господа аплодировали неслышно, в перчатках, Вне этикета был только их смех.
Чувство гордости и радости переполняло нас на торжестве в Каннах, устроенном в честь победы советского кино на Международном фестивале, — мы получили тогда Гран-При за фильм «Летят журавли». Делегация кинематографистов СССР, гости и журналисты собрались в казино. В небольшом представлении участвовал и я — показал сценку «Случай в парке». Смех зрителей был для меня на этот раз приветом с Родины.
Для того чтобы глубже понять успехи советской школы клоунады и то, что сделал для нее Карандаш, надо рассказать о том, что представляет собой западная клоунада. Это можно понять на примере известных клоунов братьев Фрателлини и Грока.
Под псевдонимом Фрателлини выступали во Франции три клоуна, каждый из которых имел свою, резко отличную от других, маску. Франсуа Фрателлини выходил на арену в обличье Белого клоуна, в парчовом или сверкающем блестками костюме. Он был ироничен, весел, разговорчив. Совсем другой его партнер Поль — это Рыжий, изображающий интеллигентного чудака. Французский писатель Тристан Реми так рассказывает о нем: «…Обычно он терял очки, либо у него отрывалась пуговичка на воротнике сорочки, либо обнаруживал дырку на носке, а то по неловкости садился на собственную шляпу». Поль Фрателлини показывал на манеже обывателя, мирного буржуа. Совсем иная фигура — Альбер Фрателлини. Этот высокий человек появлялся с чудовищно размалеванным лицом, с огромной каскеткой на голове, в мешковатом платье и в гигантских тупоносых башмаках. Лицо его было неподвижно. То была маска автомата, на которой бессмысленно вращались глаза».
Эти три клоуна отвлекали зрителя от мыслей о жизни, по существу показывая человека, которому ни до чего нет дела, кроме себя. Поэтому клоунады и сценки Фрателлини были построены на мелких житейских сюжетах, в основе которых лежал анекдот. «Только смешить!» — было их девизом, и, надо сказать, Фрателлини смешили немало. Им помогало в достижении этой цели хорошее знание психологии зрителя и законов смешного. Они не искали новых сюжетов. Старые, проверенные клоунские сценки они показывали годами, добиваясь отточенности действия и одновременно отгораживаясь от окружающей действительности. Не удивительно, что успех Фрателлини, достигший апогея к 1920 году, постепенно сошел на нет. Финал нам известен. Карандаш описал свою встречу с Альбером…
Швейцарец по происхождению, Андриен Веттах по прозвищу Грок принял эстафету Фрателлини. Клоун Грок пошел значительно дальше своих знаменитых предшественников. Он выступал в остро характерной манере, показывая человека с открытой детской натурой, очень сильно утрируя Свое знание человеческой души Грок словно стремился замаскировать, скрыть за различными чудачествами и психологическими комплексами, и зритель нередко разгадывал и задумывался о смысле показанного на арене характера или сценки. Но характерно, что даже этот клоун, которого так высоко ставили на Западе, не хотел показать нормального человека. Почему? Советский писатель Виктор Ардов так объясняет это: «На Западе большинство клоунов — меланхолики и флегматики. Это определяется глубокими социальными причинами. Жизнь маленького человека (а это и есть зритель цирка! —
А. В.) чревата трудностями. Клоун не хочет раздражать его чрезмерным оптимизмом».
Усложненный, порой странный персонаж Грока нередко объясняли тем, что Грок — интеллектуальный эксцентрик, клоун-философ. На это сам Грок отвечал: «Ни искусство, ни философия меня не интересуют. Я не принадлежу к людям умственного труда. Все, что говорят обо мне по этому поводу, не соответствует истине, все это весьма искусная реклама, которую создают мои друзья и покровители. Мне не приходится жаловаться, ведь «интеллектуальный клоун» в наши дни может рассчитывать на больший успех, чем обычный, заурядный клоун». Думается, эти слова объясняют причины успеха советских клоунов у западного зрителя. Успех имели озорство и доброта Карандаша, оптимизм Олега Попова, мягкая чудаковатость Юрия Никулина Не случайно молодой советский клоун заслуженный артист РСФСР Андрей Николаев на очередном Международном конкурсе клоунов в Италии получил первый приз «Грок-69». На год раньше этот приз взял французский клоун-реалист Ахилл Заватта, идущий по стопам Олега Попова. Так постепенно находят признание в европейском цирке принципы советской клоунской школы.
Заслугой Карандаша является то, что он один из первых принял участие в создании принципов советской клоунады и развитии основ мастерства артиста-комика.
— В 1959 году, когда вместе с Владимиром Григорьевичем Дуровым — племянником знаменитого дрессировщика и клоуна — и другими ведущими артистами советского цирка мы прилетели в Рим, итальянская пресса вспоминала имена Чинизелли, Жакомино, Феррони, Труцци и многих других известных в России выходцев из Италии, создавших в свое время славу русскому цирку. Премьера собрала в огромном шапито многих видных людей Италии. В зале были политические деятели: Пальмиро Тольятти, Луиджи Лонго, Джан Карло Пайетта, режиссеры и артисты: Лукино Висконти, Витторио Гассман, Альдо Фабрици. Газета «Унита» писала на следующий день:
«Рим за последнее время не видел ничего подобного. Можно утверждать, что успех цирка превосходит самые оптимистические ожидания. И это подтверждается энтузиазмом, с которым публика принимала номера. Среди них нет ни одного слабого».
Каждый день все новые зрители открывали для себя наш цирк, а мы открывали зрителей, которые по-новому видели то, что мы им показывали. По утрам мы торопливо разворачивали газеты. Да, вот в этой папке у меня собрано все, что тогда писалось о нас. Как всегда, сталкиваясь с новым явлением, критики ищут сравнения и аналогии с чем-то более привычным. В буржуазной газете «Мессаджеро» мы прочли: «Все клоуны отличаются скрытой простотой. У Карандаша она открытая. Со своим ростом в полтора метра, с добрым детским лицом он не нуждается во многих развлекательных трюках, хотя нередко мы получали радость от черт некоторой меланхолии, даже грусти, скрытой в действиях этого клоуна. Так происходит в клоунаде с разбитой статуей. Эта сценка разыгрывается в парке. Но она могла быть везде в мире. И то, как он разбил статую и как сложил человеческое тело, могло бы быть аллегорией жизни, ее бессмыслицы…»
На второй день премьеры советского цирка в Милане газета «Италия» писала: «Комические черты Карандаша составляются из всех глубоко человечных нюансов, из тех же эффектов, каких достиг в свое время клоун Грок. С ним делает сходным Карандаша и архитектура образа, которая наиболее ярко видна в каждом малом действии, каждом жесте, взгляде. Все это могло бы показаться плодом непосредственности натуры, но это суровая, серьезная психологическая школа, в основе которой — искусство великого клоуна».
Миланская газета «Коррьере д’информационо» называет советский цирк классическим и видит в этом связь с лучшими образцами итальянского цирка. Эта связь представляется критикам в развитии форм старого, традиционного цирка, возникшего в России при участии итальянских мастеров…
Я вижу в отзывах западной прессы и другую проблему для советского артиста. Мы не должны подчеркивать лишь то, чем наше искусство отличается от западного. Цель наша: не только поразить новым, но и показать пути, которые ведут к нему. Пусть человек увидит во мне что-то знакомое. Заинтересовав, я уведу такого зрителя от абстракций Грока.
Помню, очень порадовал нас приезд в «красную» Болонью. Аплодисменты рабочих рук звучали там громче, определеннее. В этом итальянском городе сильно влияние коммунистов, большой вес имеет общество «Италия — СССР». Нас познакомили со старейшими коммунистами города, принимавшими активное участие в движении итальянского Сопротивления.
В Болонье, на окраине города, раскинула свой дырявый шатер испанская цирковая группа. Испанские артисты пришли, чтобы пригласить к себе в гости советских артистов. Они осмотрели наше прекрасное оборудование, костюмы, на представлении оценили высокий уровень мастерства артистов. Мы нанесли им ответный визит. О нашем визите испанцы заранее объявили по городу, чтобы привлечь зрителей, не баловавших их цирк вниманием. В представлении была занята лишь семья владелицы цирка. Артисты переодевались по нескольку раз, выступая как акробаты, гимнасты, жонглеры и даже клоуны. Последние исполняли по совместительству роль билетеров у входа.
В ходе интервью корреспондент газеты «Тутто спорт» спросил меня: «Как вы думаете, зрителю Запада удалось забыть на ваших представлениях, что вы артист страны, далекой от нашей по своему общественному строю?» Я ответил: «Думаю, что смех — это интернациональный язык, и для меня было самой большой честью видеть, что зрители Италии понимают меня. Это значит, что моя страна более близка по духу простым людям Запада».
В Англии — стране традиций и своеобразных законов — уже в аэропорту нас удивила и огорчила одна формальность. Клякса была задержана, поскольку есть специальные английские правила перевозки животных и специальный транспорт. Я был обескуражен. Лишиться собаки перед ответственными гастролями!.. С неважным настроением ехал я в город, довольно невнимательно отвечал на вопросы корреспондентов, оживился лишь, когда спросили о Кляксе. Может, именно поэтому на следующий день в газете «Дейли геральд» появилась пространная статья под заголовком «Опечаленный гость». Я вам прочту ее:
«Формальность разлучает клоуна с собакой. Карандаш печально бродил вчера вдоль коридора лондонской гостиницы. Он казался живым и на сей раз грустным воплощением того пафоса, с которым он выходит на арену цирка. Но Карандаш не был клоуном в этот момент. В то время, когда другие русские артисты пошли на прием и прогуливались до обеда в Кенигстон-парке, Карандаш продолжал свой скорбный путь по гостиничным переходам. Во время приема для прессы он с отсутствующим видом смотрел в окно и время от времени просил узнать, нет ли новостей, касающихся возвращения Кляксы. Ему отвечали: «Как только другие животные прибудут в Уэмбли, мы получим разрешение и на провоз Кляксы». Это утешило его, и минутой позже Карандаш взял меня за локоть и показал снимок, где он снят с черным скотч-терьером. «Посмотрите, — сказал он, — это Клякса!» И за стеклами очков его глаза засветились первой улыбкой этого дня».
Оставим столь вольный стиль репортажа на совести английских журналистов, но в тот день мне действительно было грустно: открывалась невеселая перспектива выступать без моей постоянной «партнерши». Я получил Кляксу через сутки, и газетные статьи, думается, сыграли в этом не последнюю роль.
Газетные рецензии настраивают зрителя, у него заранее складывается определенное отношение к артисту, и с ним он идет в цирк. «Санди таймс» заметила, что я осуждаю западных клоунов за чрезмерное нагромождение шуток в их номерах. Этот вывод газета делала из моих слов: «Если вы будете все время класть соль в суп, вам придется в конце концов его вылить». Начиная лондонские гастроли, я стремился этими словами дать ключ к моим выступлениям, чтобы зрители не искали в клоуне нечто сенсационное. И я был рад одной газетной фразе: «Карандаш фактически ничего не делает, но всем это кажется смешным». Это довольно точно определило характер нашего выступления в зале Эмперс Пул.
Мы получали письма от зрителей во время гастролей. Приведу несколько строчек из них: «…Если клоуны для нас — чашка чая, то Карандаш — целый самовар». «…Выступления вашего цирка современны: над головами летает спутник с гимнастами, а на арене Карандаш толкает тележку с надписью: «Следующая остановка — «Луна»…
Английский почтальон вручил мне официальное письмо: меня просили прийти в Клуб клоунов. Клуб клоунов знаменит не только самим фактом своего существования, но и тем, что в нем собраны материалы о лучших клоунах всего мира, о их гастролях, успехах, наградах, статьях и трудах, рассказывающих о необычной работе этих артистов.
В уникальном клубе на тихой лондонской улице секретарь объявил, что Международный клуб клоунов имеет честь принять меня в число своих членов.
Так один из советских комиков попал в лондонский клуб, традиционность и консерватизм которого не смогли помешать англичанам признать оригинальность и молодость искусства во многом далекой от них страны…
В самолете, направлявшемся в Бразилию в марте 1960 года, нам подали крем, уложенный в форме карандаша. Получили мы привет и от «царя Нептуна стратосферного». Им были подписаны «дипломы» по поводу торжественного события — перелета артистами советского цирка экватора. Один из таких дипломов получил медведь Гоша и его дрессировщик Иван Кудрявцев.
Рио-де-Жанейро. Мне показали номер популярного журнала «Темпо» за 1945 год. Под заголовком «Советский Кантифляс» (Кантифляс — самый популярный латиноамериканский клоун) там были такие слова: «Не выделяющийся своей внешностью человек выходит на арену цирка, держа в руке штатив с микрофоном, а в другой — портфель. Открыв портфель, он вытаскивает из него черную собачку, и тут аудитория, две трети которой носит военную форму, начинает смеяться. Это клоун Карандаш, своим артистическим трудом заслуживший один из высших орденов его страны».
С тех пор прошло пятнадцать лет, и такой знак внимания был чрезвычайно приятен.
Наши выступления в Рио-де-Жанейро проходили в крытом спортивном зале, вмещающем около пятидесяти тысяч человек. Зрители принесли сюда пыл карнавала, который совсем недавно прошел по улицам и площадям Рио. Темпераментные песни, пляски молодежи, огромные шествия уличных масок имели в тот год определенную направленность. Карнавал совпал с приездом президента США Эйзенхауэра. Народ требовал от своего богатого северного соседа хотя бы часть того золота, которое выкачали американские компании из бразильских плантаций и недр. Это требование в устах бразильцев звучало очень лаконично. «Давай деньги, давай!» — кричали президенту. Эта фраза стала крылатой. Она стала припевом всех песен карнавала, куплетов и монологов.
Я тоже сделал эти слова своим припевом и заключал многие репризы фразой: «Ай, ай, динейро, ай!» Зрители хохотали и горячо аплодировали. Хорошее отношение к советскому цирку повлекло за собой немало приглашений в гости. Мы побывали у курсантов военной школы, в бразильском цирке «Универсо», в городке Дуке-де-Кашиас. Хозяева показали свои достижения. Правда, в бразильском цирке уж слишком стремились удивить, поразить зрителей. Здесь выступали различные уроды, «феномены природы».
В Сан-Пауло я обратил внимание на шатер на одной из центральных площадей. На нем было написано одно слово — «Шессман». Я зашел туда. Оказалось, что Шессман — имя гангстера-насильника, который снискал громкую известность тем, что, подобно Синей бороде, убивал своих жен. Убийцу казнили на электрическом стуле, но имя его благодаря дельцам осталось жить. И вот в этом балагане демонстрировали Шессмана в юности, Шессмана в период «расцвета», до казни и наконец в гробу. А в соседнем помещении показывали… заспиртованного кита! И все это ради наживы.
И все же Сан-Пауло произвел впечатление прекрасного города, с красивыми людьми, имеющими открытый характер. На премьере советского цирка побывало столько народу, что автомашины создали пробки на улицах города.
На следующий день мы вынуждены были окунуться в утомительную «светскую жизнь». Артисты советского цирка получили приглашения от видных фабрикантов города, губернатора штата, ассоциации журналистов, студентов… Это было проявлением вежливости по отношению к представителям великой страны — Советского Союза. Популярности гастролей цирка немало способствовали отзывы прессы. Много хорошего писали о Никулине и Шуйдине.
В Сан-Пауло мы подвели итог своим бразильским гастролям. Здесь, почти на другой стороне земного шара, мы радовались успеху советского циркового искусства, нам аплодировали столь же горячо, как и дома. Но путь вел нас дальше. Через день после окончания гастролей в Бразилии мы прилетели в столицу Уругвая — Монтевидео.
У меня осталось в памяти несколько случаев, может, и не связанных между собой, но, по-видимому, характерных для этой страны. По вечерам в казино в нижнем этаже гостиницы, где мы остановились, собирались игроки. Как правило, они расходились по домам под утро. Все жители улочки просыпались от шума, азартных криков. Уснуть уже было невозможно. Так мы встречали почти каждое утро. Из окна гостиницы были видны порт и грузовое судно, что тонуло у берега. Его никто не спасал. Этому препятствовал сам владелец корабля. Весь город знал, что он нарочно посадил судно на мель, чтобы получить страховую премию. Но хозяину было этого мало. Он пытался одновременно продать свой медленно тонущий корабль. И, не находя покупателя, каждый день снижал цену в зависимости от того, насколько глубоко погрузилось за ночь его судно в песок…
Это могло стать темой для неплохой клоунады, но меня удерживал принцип невмешательства во внутренние дела чужой страны. И то невольно пришлось кое в чем участвовать…
В те дни в городе была рабочая забастовка. Мы решили дать бесплатное представление для детей рабочих. Простые люди Монтевидео восприняли это с воодушевлением. По-другому отнеслась к этому полиция, которая в день спектакля сконцентрировала около цирка свои силы. Спектакль прошел превосходно. Дети подарили нам цветы, и это осталось лучшим воспоминанием о далеком городе.
Когда возвращаешься на Родину из большой трудной поездки, всегда возникает желание глубже окунуться в работу, в нашу будничную жизнь, хотя именно в будни мы иногда ворчим на разные неудобства, ждем праздников. Обычно, прилетев в Москву после заграничных гастролей, мы каждый раз давали шефский концерт на одном из крупнейших предприятий столицы. Так и на сей раз. После южноамериканской поездки мы выступили на заводе «Станколит», показали камерное «представление» и рассказали рабочим о поездке. Такая встреча всегда помогает в полной мере почувствовать себя дома, на Родине.
Разве назовешь сейчас всех замечательных артистов, вместе с которыми Карандашу довелось представлять искусство советского цирка у нас и за рубежом. Вот артисты Волжанские, или, как их называют, «альпинисты советского цирка», совершают чудеса под куполом цирка. Они строят пирамиды на горизонтальном канате. Затем руководитель группы Владимир Волжанский с двумя стоящими на нем гимнастками медленно взбирается вверх по наклонному канату. Канат становится все круче. Зрители смотрят затаив дыхание. Когда канат натянут под углом 45 градусов, по нему проходит со своей живой пирамидой к самой вершине Владимир Волжанский. Наконец звучит веселый марш. Артисты на роликах съезжают по канату прямо на арену. Улыбки, поклоны, аплодисменты. Эта легкость, эта разрядка подчеркивают скромность людей, для которых главное — труд и отвага.
Руководитель группы акробатов-прыгунов Владимир Довейко — бывший летчик-истребитель. На его счету десятки сбитых во время войны немецких самолетов. Теперь он стал хорошим спортсменом и артистом. Сегодня Довейко — прыгун на ходулях. Он совершает такие прыжки и сальто с трамплина, что кажется, будто снова его самолет совершает мертвую петлю. Только вместо рева мотора слышны бурные аплодисменты зрителей.
Послевоенные годы воспитали немало прекрасных артистов цирка. Лирический номер «Мечтатели» под руководством Олега Лозовика поражает смелостью и четкостью работы гимнастов. С трапеции на трапецию «перелетают» артисты не только в горизонтальной плоскости или сверху вниз, но и снизу вверх, оставляя за спиной бутафорские Луну и звезды. Из темного зала и впрямь кажется, что в лучах прожектора артисты летают в космосе, где нет веса. И зрители чувствуют гордость за человека, за его способность творить чудеса.
Слово «чудеса» часто повторяют в цирке. Молодой иллюзионист Игорь Кио превращает девушек в букеты цветов, в диких зверей или делает их совершенно похожими друг на друга. Ему ничего не стоит извлечь из большой вазы, которую он только наполнил водой, целую группу статистов. Но интересно, что Кио не мистифицирует зрителя. Даже в самые невероятные моменты с его лица не сходит ироническая улыбка. Она как бы говорит, что ее обладатель в чудеса не верит. А как же тогда все трюки иллюзиониста? А это уже секрет артиста, «гипноз» — как часто отвечает он.
Иван Кудрявцев показывает феноменального медведя Гошу, который выступает в качестве акробата и эквилибриста, жонглера и канатоходца. А в перерывах между номерами Гоша подходит к хозяину и берет его лапой под руку, выводит на середину арены и просит кланяться…
Человек, очарованный цирком, обычно задает вопрос: откуда сегодня берутся мастера арены?
Мы уже упоминали об училище циркового искусства, в первом выпуске которого оказался сын слесаря — будущий Карандаш. А сколько молодых артистов получили дипломы об окончании училища циркового искусства с тех пор! Это и блестящая гимнастка Валентина Суркова, воздушные гимнасты Бубновы, танцовщица на проволоке Нина Логачева, группа воздушных полетов «Галактика» и «Мечтатели», клоун Олег Попов и многие-многие другие. Все это дети из «нецирковых» семей. Но немало в школе и детей артистов, которые предпочитают государственное обучение у лучших мастеров цирка старому, семейному методу.
Более пятисот юношей и девушек каждый год занимаются на рабочих аренах училища. Их возраст от девяти до двадцати лет. А летом тысячи желающих попасть в училище осаждают конкурсную комиссию. Учеников отбирают и по физическим, и по внешним данным, смотрят на общий уровень развития. Заявлений от желающих поступить в цирковое училище около 3000, а мест на первом курсе всего 100.
Уже на первых курсах ведутся занятия по хореографии, пластике, гимнастике. Здесь, как и в театральной школе, обучают актерскому мастерству. Обязательным является изучение общеобразовательных предметов: истории, математики, иностранного языка. Отметки по ним так же важны, как и по «чисто цирковым» предметам. И только на последнем курсе начинается подготовка номера, с которым молодой артист выйдет на арену цирка.
Многие гости училища спрашивали: дает ли нужные результаты такое большое внимание к общеобразовательным предметам, актерскому мастерству?
И каждый раз директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства А. М. Волошин отвечал: «Да! Образность, красноречивый подтекст, которые украшают в последнее время почти каждый цирковой номер, идут от богатства натуры артиста. Раньше средний цирковой артист был неграмотен. Он не мог даже написать свою фамилию, считали, воздушный полет можно производить и неграмотному».
Номер молодого артиста, принятый экзаменационной комиссией, поступает в «цирковой конвейер», так называемую систему циркового проката. Два-три месяца труппа выступает в одном городе, затем едет в другой и показывает свою программу новым зрителям.
50 зимних и 13 летних цирков постоянно работают в нашей стране. Это шесть тысяч артистов и рабочих цирка, 500 различных номеров и 32 тысячи цирковых представлений в год.
Но есть и в нашей стране немало далеких сел, в которых люди тоже хотят побывать на представлении. Для них существуют труппы «Цирк на сцене». Это коллективы цирковых артистов, выступающие на сценах клубов и домов культуры, на любых, даже необорудованных площадках. Артисты таких коллективов выступали на целинных землях Казахстана, на строительстве Каховской ГЭС, в центре огромного земляного котлована, чьи склоны служили естественным амфитеатром для зрителей, на эстакадах нефтяных вышек, в горах Кабардино-Балкарии, на высоте более 2000 метров над уровнем моря и даже под землей, на глубине 200 метров, в соляных копях города Солотвино, где их смотрели горняки во время обеденного перерыва.
— Все это люди, влюбленные в цирк, влюбленные в свою профессию. Это они с каждым годом насыщают свои выступления труднейшими элементами и с каждым годом совершенствуют свое мастерство. Как и в спорте, новое достижение циркового артиста требует громадного волевого и физического накала всего его организма.
Вообще спорт и цирк идут рядом. Цель спортсмена — рекорд. Задача цирка иная. Цирковой артист должен продемонстрировать высокую физическую подготовку, волю, смелость, умение владеть своим телом и работать под взглядами тысяч глаз легко и красиво. Его задача — преподнести рекордное достижение в яркой художественной форме.
Год от года растет мастерство артистов советского цирка. Все большее влияние на представление оказывают режиссер, художник, композитор.
Во время гастролей советского цирка французская газета «Суар» писала: «В этом цирке существует, как и в театре, подлинная режиссура, но не надо ее смешивать с приемами «пускать пыль в глаза», как это делается на аренах других стран. Здесь постоянная забота об эстетике, постоянные поиски нового, прекрасного, чтобы увенчать силу и ловкость, вызывающие восхищение зрителей». Можно добавить: режиссура — это и продуманный сценический костюм, это и особое освещение, это и оригинальная музыка, написанная на заказ композитором, это иногда и особый текст, написанный поэтом или автором-репризером. Режиссура — это ритм, это строгая, рассчитанная по долям секунды продолжительность действий, это помощь артисту в создании задуманного образа.
Номер в цирке теперь как роль в кино — явление сложное, синтетическое. Если сегодня акробат чаще демонстрирует смелость, силу, то завтра он покажет и лирические, комические, поэтические номера программы:
— Но тогда номер акробата будет сливаться с клоунским номером?
— Цирковые номера по мере своего развития все больше будут заходить в смежные области. От этого выиграет в целом цирковое действие, которое перестанет быть строго обособленным в привычных рамках жанров. Наш цирк в последние десятилетия упорно борется с рутиной. Число жанров в цирке растет. И я думаю, в будущем цирк не побоится заимствовать от спорта художественную гимнастику, настольный теннис. Но, конечно, решать спортивные номера цирк будет средствами своего искусства. Думаю, цирк все дальше станет выходить из своих привычных рамок. Возможно, цирк возьмет от театра какие-то конкретные черты.
Писатель Виктор Шкловский однажды заметил, что театр показывает человеку «истинную амплитуду чувств; цирк показывает амплитуду физических возможностей, амплитуду смелости. Поэтому цирк так нужен, так вечен, так беспределен».
У цирка большие возможности. И они настолько заманчивы, что немало больших художников экспериментировали и думали над переносом принципов циркового действия на театральную сцену. Это поэт и драматург В. Маяковский, театральный режиссер В. Мейерхольд, кинорежиссер С. Эйзенштейн. Сергей Михайлович Эйзенштейн придумал термин «монтаж аттракционов» и пытался решить задачу: доводить мысль до зрителя через необычное, через эксцентрические эпизоды, чтобы не давать восприятию притупиться. Возможности циркового аттракциона и трюка для кино продемонстрировал режиссер Г. Александров в кинофильмах «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга». А вспомните «Карнавальную ночь»! В яркости, точности и краткости характеристик киногероев мы чувствуем влияние цирка.
В последнее время это еще раз успешно доказали Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов. Короткометражка «Пес Барбос и необыкновенный кросс» — настоящая киноклоунада. В полнометражных комедийных фильмах «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» Юрий Никулин показал развитие в реалистическом ключе тех клоунских приемов, которым он научился на арене цирка. Очень много взял от цирка и итальянский режиссер Федерико Феллини.
Интересно, что не всякую «взрослую» кинокомедию могут смотреть дети, а кинокомедии с цирковым характером имеют одинаковый успех в любой по возрасту аудитории.
Искусство цирка перешагнуло и границы эстрады. В эстрадном концерте мы смотрим акробатические и эквилибристические номера. Но эстрада позаимствовала и противоположные клоунские характеры; резонера и забияки. На эстрадные подмостки вышел конферансье ныне народный артист РСФСР Л. Миров. Вместе со своим партнером Е. Дарским, а впоследствии с М. Новицким они создали новый тип эстрадного конферанса, основа которого — конфликт характеров, темпераментов. Вслед за ними появились Тарапунька и Штепсель, Миронова и Менакер и многие другие сатирические пары. Так успех цирка влияет на другие виды искусства.
Но и сам цирк очень внимателен ко всему, что может обогатить его у собратьев по искусству. В цирке идут пьесы-пантомимы. Когда-то это были пьесы примитивного содержания, но теперь их круг стал шире. Появились пантомимы, посвященные революционным событиям, Великой Отечественной войне. С успехом прошла по всем аренам страны комическая пантомима «Пароход идет «Анюта».
Арена — удивительно емкая площадка. Она просматривается со всех сторон. А пространство над ареной! В отличие от театра — это тоже поле действия артистов. Значит, там могут быть и декорации, и сценические площадки. Поскольку в цирке все необычайно, то использование пространства над ареной может быть самое неожиданное и выразительное, как для акробатов, так и для комиков. Надо только смелее экспериментировать. Думаю, что и кино найдет свое место в цирковом действии, и это будет решено ярко, по-трюковому, со всей эксцентричностью, на какую способны и кино, и цирк.
Клоунада, несмотря на всю свою традиционность, изменилась в последние десятилетия значительно больше, чем другие жанры цирка. Продолжает развиваться реалистическая манера клоунады. Появились молодые клоуны-эксцентрики Г. Ротман, Г. Маковский, А. Николаев, клоун-мим Л. Енгибаров и многие другие. Сегодня клоунада глубже, философичнее, чем была вчера. Однако новое в клоунаде идет еще в основном от исполнителя. А ведь клоунада — синтетический жанр. Поэтому в работе над репертуаром клоуна нужно привлекать драматургов, композиторов, режиссеров, хореографов и художников.
— Но не значит ли это, что обычное цирковое представление с его калейдоскопом номеров должно умереть?
— Ни в коем случае! Более того, рост числа и разнообразие цирковых номеров должны привести к тому, что на афишах цирка исчезнут слова «сегодня и ежедневно». Подобно театру, мы сможем каждый день или через день менять программу, и тогда в «Театральной неделе» появятся слова: «Репертуар Московского цирка на предстоящий зимний сезон», где будут указаны две-три цирковые пьесы и несколько артистических составов «доброго, старого» циркового представления.
Я подумал, что курс на многообразие циркового зрелища должен привести и к тому, что в клоунаде появятся женщины-исполнители. Женщина-клоун может быть очень лирична, ее игра выгодно будет отличаться тонкой психологией, лукавством, юмором, и при этом она останется привлекательной. И тут, вспомнив о временах буффонады, я спросил:
— А клоуны-буфф совсем исчезнут с арены?
— Думаю, что нет. Буффонада — особый жанр. В нем есть своя прелесть. Раньше клоунада была целиком представлена буффонадой. Это было неверно. Сегодня же буффонный клоун — это, на мой взгляд, комик с большой долей эксцентрики.
В будущем афиша будет преследовать не только рекламные цели, а давать серьезную информацию. Она не будет гипнотизировать зрителей именами «звезд».
И еще мне хотелось бы поговорить о народном, самодеятельном цирке. Все знают, что художественная самодеятельность — один из верных неиссякаемых источников талантов. Нам известно немало талантливых певцов и танцоров, вышедших из самодеятельныхколлективов. Мне кажется, что развитие самодеятельного цирка под руководством опытных мастеров — это поистине кладезь цирковых талантов. Не только акробаты, жонглеры, велофигуристы, иллюзионисты, но и клоуны могут выходить из таких коллективов.
Будущее, несомненно, внесет свои коррективы в клоунаду. Завтрашний день вызовет к жизни новый тип комика. Каким он будет? Не стоит гадать. Важно лишь то, что народный шут, весельчак — как хотите его назовите — будет жить среди людей столько, сколько будет жить сам народ. Без него не может быть настоящего праздника, веселья. Он изменит со временем свою внешность, характер, манеру шутить, но останется одно: народный шут не может идти от пороков, от старости, от уродливой внешности, от болезни. Он выступает посланцем молодости, морального и физического здоровья человека.


 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Центральное управление государственных цирков.
(обратно)
Оглавление
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ
О МНОГОМ, ПРОИСШЕДШЕМ ВПЕРВЫЕ
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ
О ТОМ, КАК НЕЛЕГКО НАЙТИ СЕБЯ
ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ
КАРАНДАШ НА АРЕНЕ
ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ
СТО АРЕН ПОСЛЕ ВОЙНЫ
ВСТРЕЧА ПЯТАЯ
ЦИРК СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
*** Примечания ***


 Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.
Что такое клоун? — Скоморохи. — Белый и Рыжий. Анатолий и Владимир Дуровы. — Лучшие традиции цирка. — Детство. — Знакомство с Петербургом. — Работа в Старицком городском театре. — Хочу быть киноартистом. — В школе циркового искусства.
 В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.
В маске Чарли Чаплина. — Репертуарные муки. — Зрительские конференции. — Овладение тайнами мастерства. — Приглашение в Ленинград. — Поиски нового советского персонажа. — Рождение Карандаша.

 Московская премьера Карандаша. — От программы к программе. — Как «продать» репризу. — Поиски партнера. — Шлифовка. — В годы войны.
Московская премьера Карандаша. — От программы к программе. — Как «продать» репризу. — Поиски партнера. — Шлифовка. — В годы войны.






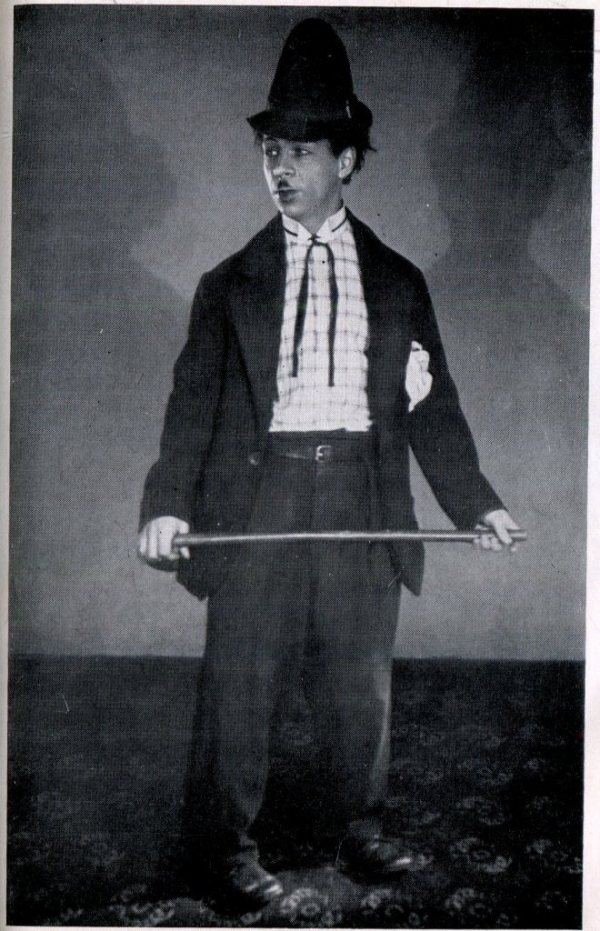


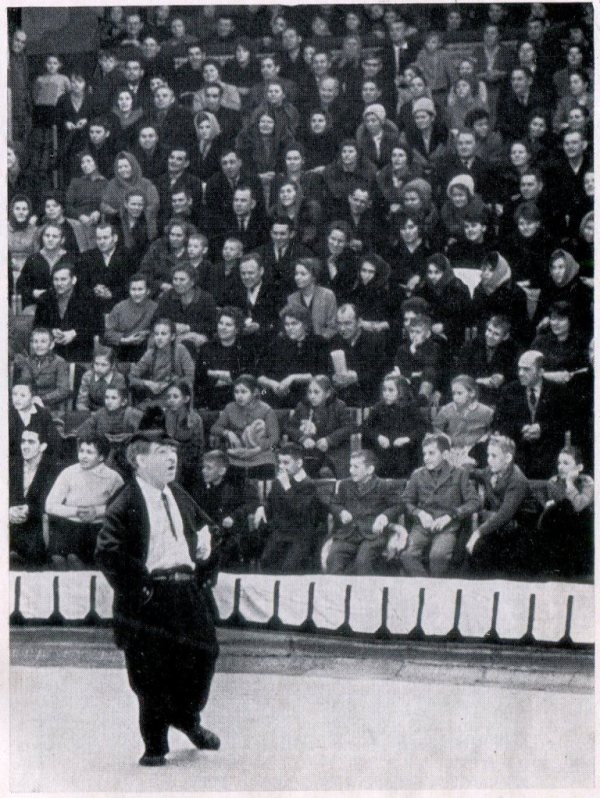

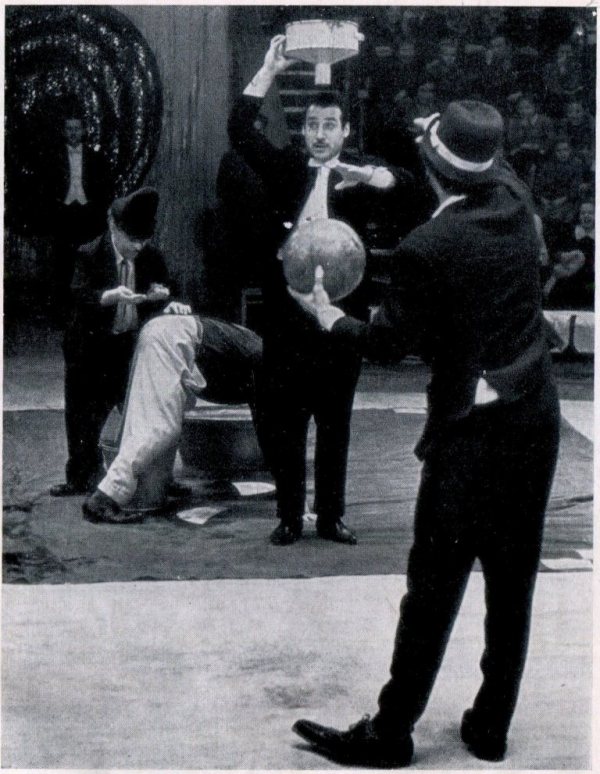


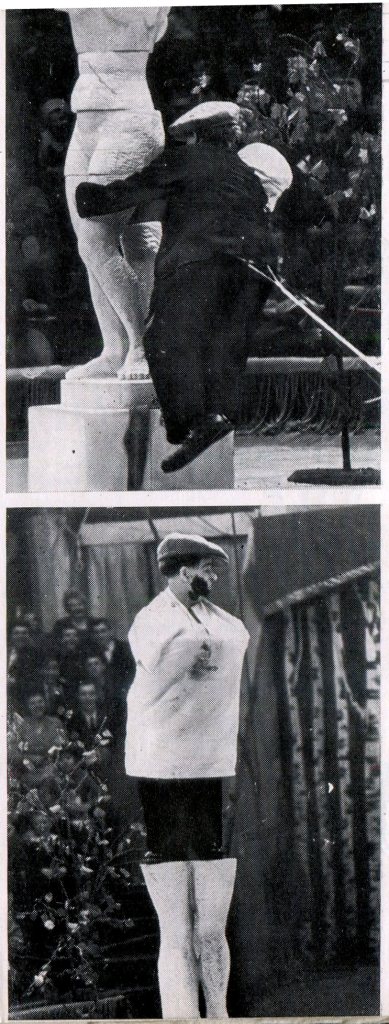

 Помощники Карандаша. — Когда небольшое действие может вместить многое. — Мои партнеры. — Особенно любимые зрители. — Моя книга.
Помощники Карандаша. — Когда небольшое действие может вместить многое. — Мои партнеры. — Особенно любимые зрители. — Моя книга.













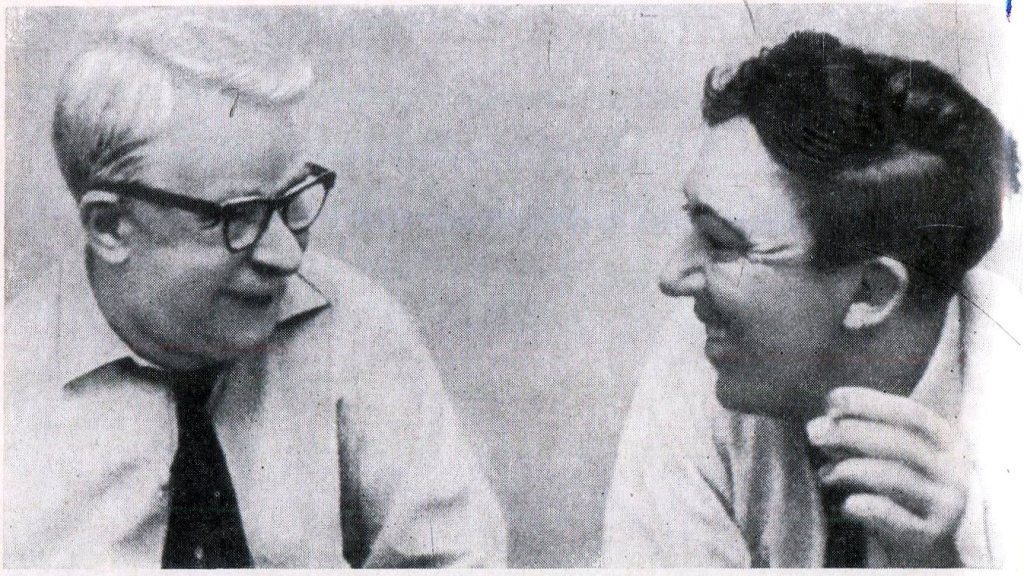


 Советскому цирку 50 лет. — На гастролях за рубежом. Франция, Италия, Англия, Южная Америка. — Цирк и спорт. — Цирк, театр, кино и эстрада.
Советскому цирку 50 лет. — На гастролях за рубежом. Франция, Италия, Англия, Южная Америка. — Цирк и спорт. — Цирк, театр, кино и эстрада.


 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.