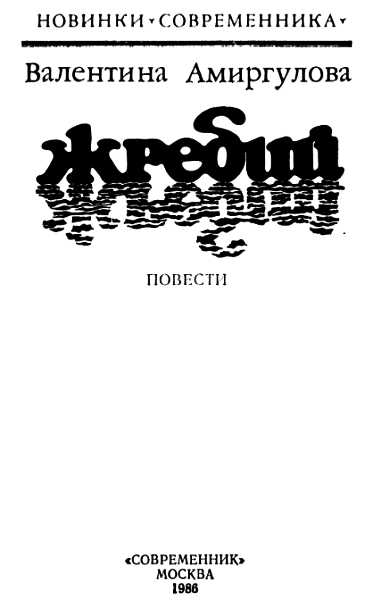Валентина Ивановна Амиргулова
«ЖРЕБИЙ»
повести
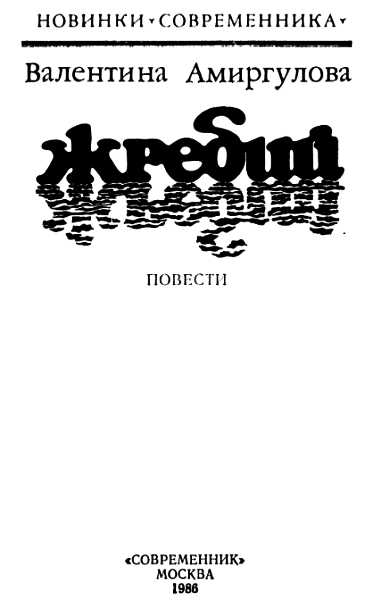
Одна в городе
Панельный дом на Староградской улице вырос за одну зиму, заслонив низкие бревенчатые домики.
По Оке и Орлику плыли, лениво покачиваясь, льдины. Потянуло талым запахом, ароматом трав, сирени, что буйно кустилась на берегу.
В дом въехали новоселы. В теплые дни они выходили посидеть на лавочках, которые стояли у каждого подъезда. Часто здесь можно было увидеть пенсионерку Антонину Ивановну из первой квартиры, выделявшуюся среди других пожилых женщин. Расцветки платьев у нее были не пестрые, но веселые. Особенно ей шло серое с голубыми цветочками ситцевое платье. Причесывала она все еще пышные, слегка тронутые сединой волосы с особой тщательностью. Глаза не утратили живого блеска, улыбка всегда была доброжелательной. Может быть, поэтому, едва познакомившись, именно к Антонине Ивановне стали обращаться с разными просьбами. Из тридцатой квартиры, уезжая в отпуск, оставили ключ, чтобы цветы полить и рыбок покормить. Из сорок второй — на время командировки кота принесли. А как-то и за ребенком попросили посмотреть.
Антонина Ивановна не отказывала в помощи и на благодарности отвечала:
— Мне это приятно. Я всю жизнь с людьми проработала. Была диспетчером в трамвайном парке. На пенсию пошла, все равно не рассчиталась. Как мужа похоронила— заболела, не могу работать. А к людям тянет.
После смерти мужа Антонина Ивановна сильно переменилась. Не была уже, как прежде, общительной, веселой. А ведь как она умела поддерживать, убеждать, помогать другим!
А тут переезд. Старенький домик, где прожила с мужем двадцать лет, попал под снос. Антонине Ивановне дали новую квартиру. Сначала она обрадовалась. Собрала вещи и с одним чемоданом и плетеной сумкой переехала.
В квартиру Антонина Ивановна купила новый трехстворчатый гардероб, низкий столик, мягкое кресло, диван. Вот только за двуспальной кроватью, железной, с шишечками на спинках, она съездила в старый дом.
Но не радовала ее новая квартира. Все чаще и чаще, когда солнце падало за крутой обрыв Орлика, вспоминала женщина прошлое. Конечно, в ее стареньком домике не было газовой плиты. Но как уютно становилось, когда в мороз разгорались потрескивая дрова в печке! Приходил с работы муж, озябший, усталый, усаживался на низенькой скамеечке, поближе к теплу. И пока жена собирала на стол ужин, неторопливо рассказывал новости.
А теперь…
В ванной Антонина Ивановна вспоминала, как с мужем устраивали банный день. Баня у них стояла в углу сада. Из сарая муж приносил небольшие березовые чурбачки. И легко, быстро колол у порога дрова. Воду вдвоем носили из колодца. Вымывшись, распаренные, помолодевшие пили из самовара чай с вареньем.
А в новой квартире вода рядом, стоит только повернуть кран. Выстиранное белье можно сушить на балконе, не беспокоясь, что его испачкают. Только вот не для кого стирать…
Антонине Ивановне хотелось быть с людьми. Но жильцы в своих квартирах, отделенных панельными перегородками, были так далеки друг от друга, что даже не знали, как зовут соседей. Антонина Ивановна выходила во двор и заводила с женщинами беседы о погоде, телепередачах, городских новостях. Ей нравилось, что люди рассказывают о своих заботах, которых у каждого, что одуванчиков на весеннем лугу. А вот с соседкой по площадке, тридцатилетней Лидой, Антонина Ивановна сошлась как с родственницей. Лида была круглолицей, большеглазой, мягкой, хозяйственной. Но с мужем у нее не ладилось. Нет, он не пил, не курил, деньги домой приносил. Но был груб. Как что, так на крик переходил.
Лида заглядывала в гости к Антонине Ивановне, когда муж работал во вторую смену. Попив чай с вареньем, женщины усаживались к телевизору. Лида — в кресле, хозяйка — на диване. Если передача не нравилась, разговаривали. Слушая сбивчивые, горькие рассказы Лиды о ссорах с мужем, Антонина Ивановна от души жалела молодую женщину:
— А я со своим мужем как ладила! Все у нас было заодно. И радости, и печали. Очень любили мы с ним гостей принимать. Нас тоже часто к себе знакомые приглашали. Нет, нельзя ничего плохого сказать, жизнь у нас была веселая, интересная, — со вздохом говорила хозяйка.
— Счастливые вы…
— Какая я счастливая? Одна горе мыкаю на старости лет. — Антонина Ивановна напряженно поджимала губы. — А ты судьбу погоди ругать. Думаешь, уважение у мужа легко заслужить? Оно годами складывается.
— Что мне делать? Не рада я такой жизни. А люблю его и знаю, он тоже меня любит. — Голос Лиды задрожал.
— Ну, тогда еще не все потеряно. Попробуй к нему с лаской, нежностью.
— Как же к нему с лаской, если он всем недоволен? Не знаю, чем угодить. Он ведь из себя выходит, даже если стул не на месте стоит. Вот сегодня. Забыла я газету из почтового ящика взять. Что было! Раскричался, а все из-за пустяка!
— Тогда и ты будь с ним построже.
— Пробовала, а что толку, скандалы еще чаще наводит. Характер у него тяжелый.
— Характер характером, а подход к любому человеку можно найти. Я десять лет была в месткоме, всякое повидала. Э, не таких мужиков усмиряли! Чужая душа — потемки. А к мужчине, каждому, нужно свой, особый ключик подбирать. Слушай, а попробуй дома по-другому одеваться. Халат за будь. Как жена Дома одета — не последнее дело. Примерь-ка мою юбку. Ох, как я щеголяла в ней перед муженьком! Правда, она уже старенькая…
Антонина Ивановна, проворно встав с дивана, достала из гардероба, с верхней полки, целлофановый пакет и осторожно вынула синюю, с голубыми разводами юбку. Лида вскочила с кресла, приложила юбку к себе и закружилась с нею по комнате. Но надевать не захотела.
— Велика она мне. Да и не любит мой выкрутасов в одежде. Засмеет, я его знаю.
После ухода Лиды Антонина Ивановна продолжала думать, как ей помочь. Чужие заботы отвлекали от горьких мыслей. Ей было приятно, что она снова в роли советчицы.
В один из вечеров Антонина Ивановна пошла к Лиде в гости. Молодая хозяйка поставила на стол блюдо с пирогом, вазочки с конфетами, вареньем и позвала к столу мужа, который смотрел телевизор. Он вышел на кухню, полноватый, высокий, в голубой тенниске, поздоровался, присел. Лида начала разливать чай. Антонина Ивановна, чтобы не молчать, стала расспрашивать о заводе, где работал хозяин. Он отвечал коротко, неохотно, четко выговаривая слова. Вдруг строго обратился к жене:
— Ты опять забыла купить сыр?
Лида смутилась:
— В нашем магазине его не было.
— А в другие съездить не могла? Ты хозяйка, обо всем должна заботиться.
— У женщин столько забот, что немудрено упустить мелочи, — начала говорить Ан тонина Ивановна, но муж Лиды перебил:
— Для желудка мелочей нет.
— Совершенно верно, все важно, — подтвердила Антонина Ивановна. — Да-a, недавно читала книгу о вкусной и здоровой пище, там о сырах — целая глава. Оказывается, каждый сорт по-своему полезен.
— Я ем только голландский, — хмуро произнес хозяин. — Отодвинув стакан с чаем, взял газету и вышел из кухни, плотно прикрыв за собой дверь.
— Ну, вот, — огорченно кивнула Лида в сторону комнаты, — поговорили.
— Да все нормально, — улыбнулась ей Антонина Ивановна ободряюще.
— Требования-то у него, может, и правильные, но каким тоном их высказывает. Как найти к нему подход?
— Нужно подумать.
Как-то Лида прибежала в слезах и стала рассказывать, как муж накричал на нее за то, что не успела погладить белье.
Антонина Ивановна разгорячилась:
— Ведь мог бы и сам тебе помочь! Стоит ли такой скандал затевать!
— Никак у нас с ним не ладится. Теперь я вижу, без развода не обойтись, — дрожащим голосом произнесла Лида. — Можно, пока поживу у вас?
— Конечно, но с разводом погоди, может, образумится. А спускать ему грубости с рук нельзя. Сейчас успокойся. Утро вечера мудренее.
Лида не скоро, но заснула. Антонина Ивановна почти всю ночь не сомкнула глаз, ворочалась. Жалко ей было соседку. Глядя бессонными глазами, как по потолку пробегают зыбкие световые полосы от проезжающих машин, Антонина Ивановна как никогда остро чувствовала прилив родственности к этой совсем чужой женщине.
Утром, чуть свет за Лидой пришел муж. В пиджаке, накинутом на пижаму, он остановился в проеме двери, облокотясь о косяк.
— Что у тебя, своей квартиры нет?
Лида хмуро взглянула на мужа.
— Не могу жить с тобой. Надоело слушать твой крик. Не жди, не вернусь, — твердо сказала она и отвернулась. А когда муж ушел, с силой хлопнув дверью, опустилась на маленькую скамейку у двери и заплакала. Антонина Ивановна обняла ее и стала успокаивать, ласково поглаживая вздрагивающие плечи.
Теперь по вечерам Антонина Ивановна ждала Лиду к ужину и вспоминала мужа. Ей всегда нравилось ему готовить. Особенно он любил голубцы… Приходила Лида, и Антонина Ивановна веселела. Даже комната казалась просторнее, светлее. Лида стала спокойнее, меньше плакала, подробно рассказывала о новостях на работе. Все реже говорила она о муже, вот только, ложась спать, становилась тихой, задумчивой.
Однажды Лида не пришла, как обычно, после шести. Антонина Ивановна без конца поглядывала на часы. Через два часа она уже не находила себе места и строила догадки: может быть, Лида к мужу вернулась? Дело житейское. Но тогда дала бы знать. И опять Антонина Ивановна металась по комнате: вдруг какое-нибудь несчастье случилось! Сходить к ней?
Ночью Антонина Ивановна не спала. Принимала валерьянку, читала книгу, пробовала шить. Еле дождалась, когда рассвело.
Лида пришла утром. Она была в новой прямой черной юбке, тщательно отутюженной беленькой кофточке с рюшками. Все это казалось на ней необычно праздничным. Но еще ярче блестели глаза, такие ясные, счастливые. Она звонко поздоровалась.
— А мы помирились. Муж пришел ко мне вчера прямо на работу. Прощение вымаливал. Дал слово — больше не грубить. Осознал! — довольно произнесла она. — Я так благодарна вам, Антонина Ивановна, за все!
— Ой, Лидочка, радость какая!
— Да, радость! Я побегу, а то мы там завтракаем.
Она ушла, а Антонина Ивановна так и осталась у раскрытой двери. Ветер нырнул из окна в подъезд и с силой хлопнул рамой. Антонина Ивановна вздрогнула, поспешно закрыла дверь, направилась на кухню.
«Ну, вот, у нее все хорошо…» Но почему-то стало тоскливо. Антонина Ивановна села на краешек дивана и всхлипнула. Не раздеваясь, легла, прикрыв ноги пледом. Но сон не шел.
Ночью она вскрикнула от боли в сердце. Пыталась вздохнуть, но боль усиливалась. Антонина Ивановна рванулась к выходу, с шумом распахнула дверь. Задыхаясь, держась дрожащими руками за стенку, дошла до квартиры Лиды. Нажала кнопку звонка. Никто не откликнулся. Женщина пыталась позвонить еще, но у нее перехватило дыхание. Антонина Ивановна потеряла сознание.
Шел сосед со второго этажа. Увидев лежащую на полу женщину, бросился поднимать. На руках отнес Антонину Ивановну в ее квартиру, положил па диван и побежал звонить врачу.
Очнувшись, Антонина Ивановна с испугом посмотрела на молодого мужчину в белом халате, очках. Он держал ее за руку, проверяя пульс, спросил:
— Боль в сердце острая?
— Теперь уже нет. Покалывает, — тихо ответила она.
— Сейчас сделаем укольчик, и вы заснете. Боль должна пройти.
Когда Антонина Ивановна проснулась, сердце уже не болело.
«Неужели я могла умереть? Как это жутко — умирать без помощи, когда совсем одна».
Антонина Ивановна надеялась — вдруг заглянет Лида. Но та не шла, а через четыре дня встретила ее на улице.
— У нас все нормально, — радостно начала делиться Лида. — Ссор теперь не бывает. Вчера в кино ходили, завтра пойдем на день рождения к моей знакомой.
— Я так рада.
— Заходите, Антонина Ивановна, в гости. Посидим, чайку попьем.
Осуждала ли Антонина Ивановна соседку? Нет. Она по-доброму относилась к молодой женщине, как могла, поддерживала ее.
Но разве нужно за это ждать благодарности? Антонина Ивановна давно поняла: доброта бескорыстна.
Антонина Ивановна жадно прислушивалась к разговорам пенсионерок па лавочке. У всех были свои заботы. Одни не ладили с родственниками, другие — с детьми, третьи — с соседями.
«А будь у меня дети, как бы с ними дружила! — думала женщина. Разве может человек не попять доброты?»
Однажды, сидя с Игнатьевной, веселой, шустрой старушкой, Антонина Ивановна заговорила о старости. Игнатьевна, скривив маленькое, морщинистое личико, сердобольно охала:
— На закат уж дело-то. — Сжав сухой кулачок, заговорила тверже: — Вот мои и сын, и дочка вроде любят меня. Всегда с лаской, подарочки приносят. Но у них своя семья, своя жизнь. Не хочу быть им помехой.
— Ах, если б у меня были дети! Жила бы их заботами, все отрада! — вырвалось у Антонины Ивановны.
— А ты что ж, милочка, одна живешь? Я квартирантов не перевожу. Худо-бедно, доход есть и душа живая рядом.
— Не знаю, никогда не имела квартирантов. Комната у меня одна, понравится ли это?
— Квартирантов можно найти спокойных. А тебе главное, чтоб человек хороший был рядом. Не приведи на дурного нарваться, тогда и из своей квартиры убежишь.
— Конечно, — Вздохнула Антонина Ивановна.
— Ничего, найдем тебе квартирантку.
…В среду вечером раздался долгий звонок. Антонина Ивановна рванулась открывать дверь. На пороге стояла Игнатьевна. Шустро юркнула в коридор.
— Проходи, как раз блинов напекла.
— Вот это дело!
Сняв платок, Игнатьевна заглянула в зеркало, медлительно провела рукой по седым волосам, прошла к столу, села.
Антонина Ивановна стала накрывать на стол. Достала чайный сервиз, серебряные ложечки, хрустальные вазочки. Игнатьевна наблюдала за ней с интересом. За столом сидели долго, спокойно. Гостья, важно отдуваясь, потягивала чай с малиновым вареньем, ела блины, жаловалась на погоду. Хозяйка поглядывала на нее вопросительно: какой секрет таит?
— Ох, чай ароматный у тебя. Потешила душеньку, — протянула Игнатьевна, слегка откидываясь на спинку стула.
— Муж научил заваривать, — скороговоркой ответила Антонина Ивановна.
Зевнув, Игнатьевна стала рассказывать о своем муже, что любил поесть, как отдохнуть. Но внезапно оборвала себя:
— Ой, что это я засиделась? Вот она старость. Пришла по делу и заболталась. Нашла я тебе квартирантку. Будет что дочка родная. Хочу только остеречь, знаю твое сердце жалостливое, еще денег за квартиру брать не будешь. Они твои, законные. А с питанием, как сладитесь. Девушка, скажу тебе, клад и рукодельница.
— Хорошо, хорошо, — только и кивала головой хозяйка.
Игнатьевна, подхватив кофту, брошенную на диван, вышла. Квартирантку она привела через день.
Антонине Ивановне девушка сразу понравилась своей доверчивой улыбкой. Была ома, как выразилась Игнатьевна, хрупкая и прозрачная. Тонкие, мелкие черты ее лица казались почти детскими. Девушка поставила свой чемодан в угол прихожей. Быстро пристроила плащик на вешалке, поправила дорожку, сбитую Игнатьевной. Легкой поступью прошла в комнату и, оглядевшись, сказала:
— Ну, вот, и подселенка явилась, — и коротко рассмеялась. Смех у нес был звонкий, искристый, и при нем легонько подрагивал се остренький подбородок.
Антонина Ивановна засуетилась, устраивая Анечку. Еще до прихода квартирантки она придвинула диван в угол, тумбочку, чтобы не мешала, отстранила к окну. А теперь, занеся чемодан в комнату, начала освобождать место в гардеробе, убирать книги с подоконника.
Игнатьевна наблюдала за устройством с любопытством, праздно сложив руки на животе. Вдруг встрепенулась:
— Ну, вы здесь гнездитесь. Столкуетесь? А я к дочке загляну, — и ушла.
— Мне у вас очень нравится, — сообщила Анечка, распаковывая чемодан.
— Я так рада, — обрадованно ответила Антонина Ивановна, расставляя стулья у стены. — Боюсь только, как бы тесно не было. Молодым простора хочется.
— У вас очень уютно, а это в квартире главное.
— Что ты, Анечка, нет у меня ни стенок модных, ни паласов дорогих.
— Нет и не надо! — воскликнула девушка. — У вас чистота, порядок, удобно расставлена мебель, а это главное.
Хозяйка, смущенно рассмеявшись, растерянно оглянулась, будто оказалась в своей квартире впервые. Глаза ее остановились на искусственном тюльпане в хрустальной вазе. Поправив его, она сказала:
— Не люблю срезанные цветы — быстро вянут.
И не найдя, что бы еще изменить вокруг, стала помогать девушке разбирать вещи.
— Я по натуре общительная. Мне одной скучно, — устраивая платья в гардеробе, говорила Анечка. — Семья у пас была большая. И я люблю всегда быть с людьми. Работаю я в ателье.
Аня с живостью стала рассказывать, как она училась на закройщицу. Антонина Ивановна принялась расспрашивать девушку о родителях, о семье. Аня рассказывала подробно, с удовольствием. За разговорами и" заметили, как пролетел вечер. Спать легли за полночь.
Утром хозяйка поднялась, когда еще только начинало светать, захлопотала с завтраком. К тому времени, как Аня проснулась, на столе дымилась разваристая гречневая каша, аппетитно пахли поджаренные хлебцы.
И чай был заварен. Девушка, зайдя на кухню, всплеснула руками:
— К чему такие хлопоты?
Хозяйка, резавшая булку, шутливо погрозила:
— Теперь ты попала в мои руки. Я старая, делать мне нечего. Себе готовлю, заодно и тебе. Ты, наверное, завтракала всегда наспех?
— Точно, Антонина Ивановна, каюсь, люблю поспать, не до еды бывает, — с веселой беспечностью рассмеялась Анечка.
— А теперь мы будем всегда завтракать.
Аня поела и поспешно ушла. А Антонина Ивановна, против обыкновения, не встала сразу из-за стола, а выпила еще одну чашку чая. У нее было добродушное, спокойное настроение. Включила радио, и поплыли звуки вальса. Женщина слушала его, слегка облокотясь на стол.
«Как все-таки мало нужно человеку! — думала она. — Просто чувствовать, что ты нужна. А я ведь всю жизнь была окружена людьми. Не боялась остаться одна. И только теперь поняла, что такое одиночество».
Антонина Ивановна принялась поспешно убирать со стола.
«Анечка такая хорошая! Какой у нее нежный голосок! Вот если б дочка такой была… Но стоит ли расстраиваться? У каждого своя судьба. Знала и я свое счастье».
День прошел у Антонины Ивановны в заботах. С утра отправилась на рынок, куда уже давно не заглядывала. Много ли ей раньше одной надо было овощей? Сейчас другое дело: их двое, к тому же Аня такая худенькая, поправиться ей надо.
На рынке Антонина Ивановна поинтересовалась, почем овощи. Накупила — еле донесла. И задешево. На ужин приготовила тыквенную кашу, сварила компот, испекла яблочный пирог. И не заметила, как пришла Аня. Та замерла на пороге и, причмокивая, закивала головой:
— Антонина Ивановна, я уже в подъезде почувствовала, как вкусно пахнет.
Хозяйка весело сказала:
— Сейчас, Анечка, мы будет ужинать. Я сготовила свои любимые блюда.
Переодевшись, вымыв руки, девушка, напевая, появилась на кухне, взглянув на сервированный стол, замолкла.
— Присаживайся, — пододвинула ей табуретку хозяйка.
Аня в нерешительности потерла ладошкой подбородок, села.
— Антонина Ивановна, ваша забота очень трогает. Но не по себе мне. Ведь я за вами должна ухаживать.
— Ну, уж в этом мы сочтемся, — придвигая к девушке поближе хлебницу, сказала Антонина Ивановна. — Я еще крепко стою на ногах, дел у меня особых нет. Ах, Анечка, я только теперь по-настоящему поняла, как приятно заботиться о других.
— И все же, я прошу вас, Антонина Ивановна, не нужно меня опекать.
— Что я особенного делаю? — недоуменно повела плечами хозяйка. — Для себя-то все равно готовлю. Получается как бы заодно.
Аня заявила:
— Раз, Антонина Ивановна, вы решили стать главнокомандующим по хозделам, тогда будьте и нашим казначеем. У нас сегодня как раз зарплата.
— Я пенсию получаю, — перебила хозяйка.
— Вот вашей пенсии и моей зарплаты как раз на двоих хватит, — категорично произнесла Аня. — Когда мне понадобятся деньги, я у вас попрошу.
— Ладно, как-нибудь договоримся, — заключила этот разговор хозяйка. Накладывая в тарелки кашу, она спросила о новостях на работе. Девушка начала рассказывать о том, как в ателье получали новые швейные машинки.
После ужина Аня, помогая хозяйке мыть посуду, неожиданно предложила:
— У меня идея — пойдемте в кино!
Антонина Ивановна посмотрела на нее удивленно. Вздохнув, взяла полотенце и, медленно вытирая руки, недоверчиво спросила:
— Ты старуху приглашаешь? С молодыми людьми тебе нужно в кино ходить.
— Пока мне с ними скучно. Принца на белом коне жду, — засмеялась девушка. — Неужели вам, Антонина Ивановна, не хочется в кино?
— Хочется, пойдем! — весело согласилась хозяйка. — Знаешь, в кино-то я уже пять лет не была.
Вечером снова легли спать за полночь — обсуждали фильм. Обеим он очень поправился — «жизненный» и веселый.
В пятницу квартирантка удивила Антонину Ивановну новой затеей:
— Я решила вам сшить платье. Купила в универмаге штапелю. Посмотрите, какой рисунок красивый.
— Ой, Анечка, да…
— Не спорьте. У вас хорошие платья, но мы сделаем что-нибудь модненькое.
— Куда мне, старухе.
— Тоже скажете, старуха, просто пожилая женщина. Итак, на выходные у меня теперь есть работа. Шью, не отрываясь. Я такая, если загорится, то все…
Когда платье было готово, Аня предложила обновку отпраздновать.
— Я «за», — весело откликнулась хозяйка. — Платье получилось хоть куда. У тебя, дорогая моя, золотые руки.
Вечером Аня принесла в коробке пирожные.
— Раз у нас праздничный стол, давай я приготовлю селедку под «шубой», которую ты очень любишь, — предложила Антонина Ивановна.
— Что вы, селедка и пирожное?!
— А по-моему, здорово! За дело! — скомандовала хозяйка.
— Идет! — засмеялась Аня и с коробкой в руках сплясала чечетку.
Антонина Ивановна, глядя на нее, заулыбалась.
— Веселый ты, Анечка, человек, я сама такой была.
— Вы и сейчас такая!
— Скажешь тоже, — отмахнулась хозяйка, — это ты меня веселишь.
Готовили часа два. Наконец сели за стол. Блестела аппетитной корочкой картошка, выделялся салат из огурцов, яблок и редиски, сделанный по совету Аниной подружки. Взяв вилку, Антонина Ивановна обвела взглядом стол.
— Слушай, Анечка! От такой еды я сразу килограммов на сто поправлюсь.
— Не позволю, мы еще не попробовали пирожных. Разве я зря ездила в «Лакомку»? А что, если мы начнем с пирожных? Я такая сластена!
Она взяла пирожное, подала хозяйке и попросила:
— С орехами. По-моему, вкусное. Попробуйте.
И вдруг Антонима Ивановна, вся сжавшись, расплакалась. Она держала в руках надкушенное пирожное, а слезы бежали по смятым плачем щекам. Аня, потянувшись за хлебом, так и застыла с протянутой рукой, тихо спросила:
— Что случилось?
— Ничего, просто мне очень хорошо, — улыбнулась сквозь слезы женщина.
Аня облегченно перевела дыхание.
— Напугали вы меня.
— Девочка моя, почему люди часто не понимают друг друга? — глухо спросила хозяйка. — Обиды, ссоры… к чему это? — Она остановилась, как бы собираясь с духом добавить еще что-то, но только махнула рукой. Не слушай меня. Раз слезы без причины, совсем никуда стала. Просто мне так хорошо.
— Тогда надо радоваться! — бодро воскликнула квартирантка.
…Антонина Ивановна дней теперь не замечала. У нее появилось столько забот! Наконец-то она решила добраться до своего хозяйства, как шутливо называла все, что стояло или лежало в кладовке запакованным. А ведь при муже у нее все было разложено по полочкам. Помогая хозяйке разбирать вещи, Аня удивлялась:
— Антонина Ивановна, у вас такой порядок! У меня всегда одна вещь мешает другой. А у вас они все ладят.
— Это что, купим еще один небольшой шкафчик, разложим твои вещи.
— Шкафчик нас потеснит, нам и так хорошо.
…Девушка увлекла хозяйку чтением. Когда муж был жив, Антонина Ивановна читала. А вот после похорон не могла взять в руки книгу.
Как-то Аня, принеся из библиотеки журнал, предложила:
— Прочитайте, говорят, здесь очень интересная документальная повесть.
Антонина Ивановна увлеклась. Аня принесла другую книгу. Так и повелось: читали допоздна, пока хозяйка не говорила:
— Все, Анечка, спать, а то завтра на работу опоздаешь.
Пролетели три месяца… Антонину Ивановну вызвал на прием участковый терапевт, у которого она стояла на учете. Осмотрев больную, врач удивилась:
— Да вы молодец! И давление в порядке, и сердце в норме. А я в прошлый раз хотела вас в больницу направить.
— Что вы, какая больница?!
— Да и сама вижу, что не надо.
Из поликлиники Антонина Ивановна шла в приподнятом настроении. Она радовалась всему, что окружало. И людям, и улицам города, и своему дому. И это все потому, что появилась Аня.
Но вдруг надвинулись перемены…
Как-то, вернувшись с работы, Аня радостно сообщила, что будет поступать в Московский текстильный институт, куда ее решили рекомендовать на комсомольском собрании ателье.
— Пять лет в Москве — здорово! — не сдержала восторга Аня.
— Так долго?! — растерянно произнесла Антонина Ивановна.
— И совсем не долго! Дни быстро бегут.
— Я не доживу, — вырвалось у хозяйки.
Аня взглянула на Антонину Ивановну.
— Что вы, доживете, вот увидите, — начала она убеждать хозяйку. Антонина Ивановна улыбнулась. Подойдя к девушке, погладила по руке:
— Что ты загрустила? Всему свой черед. Подарила чуточку радости, теперь у тебя свой путь. Жизнь так и течет, Анечка, в переменах и потерях.
— Не нужно, Антонина Ивановна, так говорить. Мне просто повезло, что я вас узнала.
— Ладно, пойдем ужинать.
Все, казалось, было по-прежнему. Вместе читали, разговаривали. Аня начала готовиться к экзаменам.
Антонина Ивановна советовала:
— Главное, не волнуйся и будь уверенной. Сразу поймут, что ты все знаешь…
Через две недели Аня прислала из Москвы телеграмму.
«Ура! Зачислена!»
Антонина Ивановна прижала телеграмму к груди и от радости заплакала. Весь день она то и дело ее перечитывала и гордилась Аней.
Утром Антонина Ивановна встала с ощущением тоски. Горькие мысли об одиночестве преследовали женщину весь день. К вечеру Антонина Ивановна почувствовала себя плохо. Кружилась голова, покалывало сердце. Она решила пойти в поликлинику. С трудом оделась.
В поликлинике, возле кабинета терапевта, была очередь. Антонина Ивановна присела на свободный стул. Разговаривали о болезнях. Антонина Ивановна пыталась вникнуть в слова людей, но это не удавалось. Ей было плохо. Она просидела уже около получаса. Врач, выйдя из кабинета, заметила побледневшую Антонину Ивановну, пригласила на прием. Прослушав сердце, попросила сестру сделать укол и распорядилась, чтобы больную срочно отправили в стационар. Все остальное происходило для Антонины Ивановны как во сне. Ее куда-то повели, что-то спрашивали, она силилась отвечать. Очнулась в незнакомой комнате. Испуганно огляделась. Белый потолок, белые стены, белые тумбочки. И даже па полу белый линолеум. Больница! Женщина тихонечко пошевелила руками и ногами под одеялом. Боль в сердце ослабевала.
Мысли, что теперь она одна и никому не нужна, преследовали неотступно. Кто мог хотя бы навестить ее? Аня далеко, соседи не знают…
Как же была удивлена Антонина Ивановна, когда пришла Игнатьевна. В длинном широком белом халате зашла она в палату, прижимая к груди сумку. Увидев Антонину Ивановну, укрытую до подбородка простыней, Игнатьевна с хитринкой засмеялась и погрозила сухим пальцем:
— Скрыться от меня захотела? Нет, матушка, не удастся.
Антонина Ивановна усмехнулась:
— Могла бы и подальше оказаться.
— Еще чего, я, чай, постарше тебя, так черед блюди.
Игнатьевна присела на стул и завозилась в своей вельветовой сумке. Пакеты, банки стала выкладывать сразу в тумбочку.
— Гляжу на тебя, диву даюсь: не хочешь радоваться жизни. От этого и болезни твои. Ты, матушка, как дитя неразумное.
— Хуже, — вздохнула Антонина Ивановна. — Совсем некудышной стала.
— А я тебя обрадую, — глазки Игнатьевны снова хитровато блеснули. Подняв халат, она засунула руку в карман своей жакетки и с лукавством спросила:
— Отгадай, что я принесла? Не знаешь? Радуйся, письмо от Анечки из твоего ящика взяла. Хорошо, что в нашем доме ключи от почтовых ящиков одинаковые.
Она достала из кармана конверт. Антонина Ивановна, волнуясь, раскрыла. И, не надевая очки, стала читать письмо. Прочитав, медленно положила его в конверт и закрыла глаза.
— Ну, что там с нашей егозой? — поинтересовалась Игнатьевна.
— Все у нее хорошо, общежитие дали.
— Радуйся.
— А я и радуюсь.
Помолчали, думая каждая о своем.
— Неужто у тебя никого из сродственников нет? Не может человек без корней жить. Можь, кто есть? — пытливо взглянула Игнатьевна.
— Нету, все умерли. Одни в войну, другие позже. Одна теперь, никому не нужная, — отвернулась к стене Антонина Ивановна.
— Э, опять ту же песню завела, как не надоест. А у мужа тоже родни пет?
— Да есть у него в Курске… Дочка двоюродного брата. Отец-то ее давно умер. У нее своя жизнь, семья, муж. Она и раньше с нашей семьей не зналась, а теперь-то…
— Вот какая ты, значит, безродная. Говори адрес, напишу твоей сродственнице, — слегка дернула за простыню Игнатьевна.
— Не хочу, зачем лезть к ней, — замотала головой больная.
— Еще чего, лезть, пусть не только о себе помнит.
— Не буду навязываться. Зинаида как чужая.
— Жизнь идет, и Зинаида твоя авось изменилась, — не отставала Игнатьевна.
Антонина Ивановна продолжала отнекиваться, по уже слабее. Игнатьевна горячо настаивала. И больная, махнув рукой, сказала адрес. Игнатьевна туг же сорвалась с места, заспешила. Так шмыгнула за дверь, что тапок с ноги соскочил.
Лежать спокойно теперь Антонина Ивановна не могла. То снова начинала читать письмо Ани, пытаясь разыскать, чего не было в словах послания, то, ворочаясь, начинала думать о Зинаиде. Ругала себя, зачем поддалась Игнатьевне, разрешила написать.
Через пять дней после посещения Игнатьевны приехала Зинаида. Антонина Ивановна не видела ее семь лет, но сразу узнала, когда та появилась в палате вместе с Игнатьевной. Вздернутый носик Зинаиды выглядел по-прежнему независимо.
— Зиночка, дорогая, осчастливила как! Здравствуй!
Зинаида прильнула губами к щеке больной родственницы.
— Как я рада вас видеть, Антонина Ивановна! Получила письмо, сразу собралась в дорогу.
Зинаида выпрямилась, оправила платье и снова улыбнулась.
— Стоило ли из-за старухи приезжать? — закачала головой больная. Но тут из-за спины Зинаиды выглянула Игнатьевна и, сердито нахмурив редкие брови, заворчала:
— Приехала, что особенного, чай, не пешком шла! Ты же сама на днях плакалась: не к кому голову приклонить. Ишь ты, другой мотив завела!
— Мало ли что я от скуки наплету, — нетерпеливо перебила Антонина Ивановна, присев на кровати и облокотись о подушку.
— Вот те на, — с искренним недоумением протянула Игнатьевна и обидчиво поджала губы.
— О чем вы говорите, — вступилась Зинаида, распахивая тумбочку и засовывая туда пакеты. — Какое может быть беспокойство? Вы же совсем одна, Антонина Ивановна. Я го не знала, что болеете. Дарья Игнатьевна сообщила, спасибо ей за то.
— Ну, вот, — сказала Игнатьевна, присаживаясь на стул у изголовья больной. — Ты, голубушка, не капризуй. Недосуг нам с тобой нянькаться. Чего крылехтишься, как кура на чужом насесте? Люди должны друг дружку поддерживать. Верно, дочка?
— Конечно, Дарья Игнатьевна, — кивнула головой Зинаида, тоже присаживаясь на низенькую табуреточку.
— Мы племянника перед войной в детдом сдали, — не унималась Игнатьевна, — сестра, мать его, умерла, а после войны и следов мальчонки не могли найти. Как подумаю, как он без родных, тяжко становится.
Антонина Ивановна слушала настороженно, скручивая и раскручивая уголок простыни. Боялась, что слова Игнатьевны не понравятся Зинаиде, и поглядывала на нее с робостью. Но Зинаида сидела спокойно, цепко соединив руки на коленях.
Выговорившись, Игнатьевна смолкла, задумалась о чем-то, обмякнув телом и склонив голову. И стала похожа на большую птицу, сложившую в отдыхе крылья. Но вдруг вскочила, встрепенув полами халата.
— Пойду я, внуки ждут, — в мягкой улыбке обнажила белый ряд вставных зубов.
Когда она ушла, Зинаида придвинулась поближе к кровати больной.
— Как твои дела, как сын, муж?
Зинаида тяжело перевела дыхание и неторопливо заговорила, теребя пуговицу на халате:
— Валерик учится хорошо, больше меня уже вымахал ростом. Норовист он, но помаленьку ладим. А вот с Павлом, не знаю как сказать… К разводу дело идет. Не сложилась у нас семья. — Эгоист он…
— Павел-то? — в изумлении протянула Антонина Ивановна. — А какой парень был золотой…
— Пятнадцать лет назад? Воды много утекло. Не понимаем друг друга. Для дома ничего не хочет делать. Сын для него не существует. Последнее время мы с ним почти не разговариваем. Да что об этом вести речь… Ах, я здесь расселась, а меня нянечка просила помочь вам помыться. В приемном покое есть ванная. Пойдемте потихонечку, провожу вас.
— Зиночка, я не парализованная, что ты мне будешь помогать? — смутилась Антонина Ивановна.
Но Зинаида настаивала, и больная сдалась. Потянулась к тумбочке, ощупью начала в ней копаться. Разыскав кусок мыла, устало опустилась на подушку, тяжело дыша, произнесла:
— В какую развалину превратилась! Чуть пошевелилась и уже устала.
— Врач сказал — от нервов это у вас. Ну, что вы так нервничаете?
Антонина Ивановна как-то опасливо заглянула в самые глаза Зинаиды и чуть слышно вымолвила:
— Одиночество заедает, тоска.
— О какой тоске вы говорите? Угол свой есть, пенсию получаете. Все у вас нормально.
— Вот и Игнатьевна тоже доказывает, — виновато заговорила Антонина Ивановна. — И я, может, раньше так считала. Главное, чтоб ни от кого не зависеть, чтоб на своих ногах держаться. А сейчас — стыдно кому признаться. Жить хочется так, чтобы было, как прежде. И заботы, и огорчения, и радости. Непонятно, конечно, это тебе. Я сама, старая, себя не понимаю. Иль из ума выживаю? — Вздохнула. — Разболталась.
— Нет, нельзя вам так думать, — покачала головой Зинаида, — нельзя, — добавила решительно.
— Я и сама знаю, — согласилась Антонина Ивановна. — Ну, а теперь пойдем в ванную, раз ты решила помочь мне.
Она приподнялась, неловко, боком, спустила ноги с кровати, нащупала тапки. С помощью Зинаиды встала, оперлась о ее плечо. Медленно пошли…
Самый маленький лучик, прорвавшись сквозь тучи, может осветить, согреть землю. Антонине Ивановне стало на душе легче после приезда Зинаиды. Она всегда держалась в отдалении. На похороны мужа Антонины Ивановны не приехала, отбила телеграмму, что больна. Как здесь не оборваться тоненькой родственной ниточке? И вдруг этот приезд. Не могла понять больная, как его расценить. У нее мелькнула мысль, а не надеется ли Зинаида на какое-нибудь наследство? Но тут же ее отогнала. Сама же в разговоре упомянула, что сбережений мало, одна надежда на пенсию. Зинаида и глазом не моргнула. А почему она просто не может потянуться к родственнице? Ей, конечно, по-настоящему не понять горечь одиночества, но все же… И как собралась в такую даль ехать? Раньше и с праздниками не поздравляла.
На другой день Антонина Ивановна проснулась рано. Из окна палаты четко просматривался кусочек неба, весь будто пронизанный ожиданием теплого погожего дня. Заглядевшись на небо, Антонина Ивановна вдруг вспомнила свою свадьбу. И показалось удивительным, что такое далекое воспоминание сохранилось явственно, в звуках, красках. Ведь как давно не вспоминала о свадьбе!
А здесь всплыло все. И лихорадочность переодеваний в подвенечный наряд, и суматошные, разудалые пляски, и даже пестрота стола со снедью. Все припомнилось, будто выжидала память своего череда, такого вот денька, ясного, спокойного, понятного до глубины. А почему вспомнилась свадьба? Разве до нее или после не было счастливых дней? Разве нельзя назвать счастливым тот день, когда у ручья суженый в любви объяснился? А в совместной жизни сколько было счастливых деньков — не перечесть.
После обеда Антонина Ивановна ждала, что заглянет Игнатьевна. Очень хотелось поделиться своими воспоминаниями о свадьбе. Но боялась, что рассказ разрушит что-то в них. Да и поймет ли ее Игнатьевна? Еще посмеется, что она, старая, ненужными мыслями, как игрушками, тешится. Но Антонина Ивановна заспорила с собой. Почему старухе вспоминать о свадьбе смешно и нелепо? Ведь какой свежестью дохнуло, чистотой, а внутри запело, что еще не все потеряно. Пела сама жизнь. Как же не поделиться такими мыслями с Игнатьевной? Но пришла не она, а Лида, улыбающаяся, розовощекая, казалось, будто вышла из того, свадебного воспоминания, взволновавшего Антонину Ивановну.
— Я только узнала от Игнатьевны, что вы в больнице, — не переставая улыбаться, сказала Лида. — Гляжу, что-то на лавочке нет. Несколько раз домой к вам звонила.
— Лидочка! Какой ты стала красивой! Вижу, радует тебя жизнь, — перебила ее больная.
— Обо мне потом. Как ваше самочувствие? — Лида провела ладонью по лицу, словно хотела стереть выражение безмятежной веселости.
— Поправлюсь, куда деться?
— Как давление? — присаживаясь па краешек стула, спросила молодая женщина.
— Нормально все, рассказывай про себя. Чем похвастаешься?
— О, — Лида, оглянувшись на дверь, низко наклонилась к Антонине Ивановне и шепотом поведала: — Ребеночка жду!
— Лидочка! Счастье какое! — радостно воскликнула больная. А ведь и она мечтала, что скажет кому-нибудь счастливым шепотом о первенце. И вот оказалось, что услышать такое признание от другой — тоже большая радость. Антонина Ивановна уже не думала с обидой, что природа обделила ее материнством, и не удивлялась, что жажду по нему пронесла по всей жизни. Просто как никогда понимала — в материнстве таится истинное счастье женщины.
Просыпаясь по утрам, Антонина Ивановна говорила себе:
«Вряд ли кто теперь придет. Зинаида уехала. Лида поступила на курсы кройки и шитья, совсем сбилась с ног. У Анечки установочная сессия. Игнатьевна заладила по своим гостям. Только у меня нет своего дела ни сейчас, ни после больницы. Остается лежать и ждать, вдруг кто наведается».
В палату к Антонине Ивановне положили девушку. Увидев ее, женщина встрепенулась: «Ой, как на Анечку похожа! Уж не одногодки ли?» Туго стянутый сзади пучок волос, короткий вздернутый нос, широкие брови…
«Нет, — разочарованно подумала Антонина Ивановна, — до Анечки этой девушке далеко. У той глаза — сама доброта. А эта вон как глядит недовольно и губы поджала. Может, ее обидел кто?»
Девушка пошвыряла свои пакеты в тумбочку, с шумом захлопнула дверцу, резко подвинула графин на столе. Было видно — соседство ее не устраивало. Она вышла из палаты и кому-то сердито сказала:
— Со старухой куковать!
Может, девушка не заметила, что дверь палаты приоткрыта, или ей было все равно: услышала эти слова Антонина Ивановна или нет. Со «старухой» девушка не разговаривала, даже поняв, что та ничем и ни в чем ей не мешает.
«Наверное, ее раздражает моя беспомощность», — решила Антонина Ивановна. И у нее возникало недоумение, где и почему ожесточилось молодое сердце?
С девушкой в палате Антонина Ивановна пробыла недолго — «старуху» выписали домой.
В почтовом ящике ее ждало письмо от Зинаиды. Она интересовалась здоровьем Антонины Ивановны, давала советы, как поддержать его, и даже прислала вырезки из статей журнала «Здоровье». В конце письма Зинаида коротко сообщала:
«Наше семейное судно совсем прохудилось. Будет развод».
Антонина Ивановна несколько раз прочла эти слова. Что за ними — отчаяние или безразличие? Как помочь этой семье? Думая о письме, Антонина Ивановна не могла уснуть всю ночь. А утром решилась ехать к Зинаиде в Курск. Как же оставить ее без поддержки?
Стояла дождливая, холодная осень. Особенно студено было по утрам. Антонина Ивановна надела теплые зимние вещи, потуже повязала пушистый вязаный платок. Но замерзла уже в стареньком трамвае, который долго вез ее до вокзала. Согрелась только в поезде. Пассажиры пили чай, жевали бутерброды, смеялись, пели. От бессонной ночи у Антонины Ивановны смыкались глаза. Она и не заметила, как заснула, опершись на свою старую сумку. Разбудила ее проводница, весело прокричав, что пора выходить.
Улицу, где жила Зинаида, она долго не могла найти. Проплутав полчаса по городу, женщина остановила такси, которое за десять минут довезло ее до пятиэтажного кирпичного дома в унылом, видимо еще не обжитом районе. Дома друг от друга находились на большом расстоянии, людей вокруг было мало.
С замирающим сердцем, часто останавливаясь, Антонина Ивановна поднялась на пятый этаж. У двери, обитой голубым дерматином, с номером 80 отдышалась.
Дверь открыла Зинаида, в длинном, блестящем халате и с девчоночьим хвостиком на голове. Антонина Ивановна вдруг почувствовала сильную усталость.
— Давно не ездила так далеко, Зиночка, — почти жалобно произнесла гостья, расслабляя узел на платке. Но тут же рассмеялась: — А я еще молодец! Старуха хоть куда!
— Мировая старуха! — бросилась обнимать ее Зинаида.
Когда пили в маленькой тесной кухне кофе с мягкими булками, Антонина Ивановна подробно и весело рассказывала о своей поездке, как чуть не проспала станцию, как плутала по городу.
— Такая дорога, холод на дворе, зачем мучиться? — качала головой Зинаида. — Я и сама бы приехала.
— Но разве я могу ждать, когда у вас такая буря? Как же семью сохранить? — озабоченно произнесла гостья.
Зинаида перебила:
— Нечего сохранять, надоело жить кое-как, я ведь еще не старая. Да и он мечтает поскорее от нас сбежать.
— Может, у него другая есть женщина?
— Это его дело. Мы друг другу надоели.
Антонина Ивановна поняла, что племянница не хочет продолжать этот разговор. Ну что ж, решила развестись, так решила. Гостья исподволь присматривалась к нежному, без косметики, спокойному лицу хозяйки. Неужели решилась на развод с Павлом без переживаний? Возможно ли это? Да уж когда жизнь заходит в тупик, наверное, все возможно.
— Развод — не трагедия и не позор, — сказала Зинаида подчеркнуто обыденным тоном. — Сейчас не старые времена. Только бы все устроить. Я не хочу, чтобы он оставался здесь. И на улицу его не выгонишь. Канитель на мою голову!
Заторопившись на работу, Зинаида быстро помыла посуду, приготовила для Антонины Ивановны постель. Гостья пыталась возражать, но хозяйка непреклонно заявила:
— Отдыхайте до вечера.
Оставшись
одна, Антонина Ивановна прилегла на диван, укрылась пледом и быстро заснула. Очнулась от звука открываемой двери. Испуганно озираясь, женщина не могла понять, где находится. Но увидев заглянувшего высокого парня с черной шевелюрой, очень похожего на Зинаиду, все вспомнила.
— Валера? Сын Зинаиды?
— Он самый, живьем. А вы кто? — Парень, казалось, совсем не удивился незнакомой женщине. Взял со стола газету с программой телевидения, мельком посмотрел на нее. Отбросил с недовольной гримасой.
— Я — Антонина Ивановна…
— А, знаю! — Валера пошел к письменному столу. С шумом открыл ящик и, закусив губу, начал сосредоточенно в нем копаться.
— На одни сутки к вам заглянула, — снова обратилась к Валере гостья.
— Какой смысл ехать на один сутки? — не поднимая головы, спросил парень.
— Иногда, Валера, смысл есть и на час приехать, — многозначительно сказала Антонина Ивановна.
Он пожал плечами, продолжая рыться в столе.
— Ты потерял что-нибудь? — Гостья встала с дивана, подошла к Валере, заглянула через плечо.
— Уже нашел, — ответил он довольно. — Вот мой блокнотик. Сейчас откопаю номер телефончика… А знаете, ваш приезд кстати, — вдруг очень весело посмотрел Валера на Антонину Ивановну. — Мне нужно сегодня на одну, так сказать, вечеринку сходить. Пришлось бы у матушки отпрашиваться, а теперь я отпрошусь у вас. Лады? Пойду переодеваться.
— А что это за вечеринка, какие там люди будут? — обеспокоенно спросила Антонина Ивановна.
— Мировые люди, все свои, верные и надежные друзья, — ужо из другой комнаты отвечал Валера. — А вы спрашиваете почти как мама. Но она потребовала бы описать каждого, его родителей и знакомых.
— Она волнуется за тебя, — назидательно произнесла Антонина Ивановна.
— Я уже не мальчик. И потом, я же не любопытничаю о се друзьях.
— И все же ты должен понять мать, она волнуется за тебя, хотя нет, ты не поймешь. Когда у самого будут дети, припомнятся ее слова.
— А вот ваши слова мне понятны, а вы, кажется, старше ее, — сказал, выходя из комнаты, Валера.
— Ой, что ты эти брюки надел на вечеринку? — удивилась гостья. — Хотя у вас это, кажется, «фирмой» называется и деньги бешеные стоит. А в нашу молодость вельвет дешевый был, качеством, правда, похуже.
— Времена меняются. Неужели вам не нравятся эти штаны?
— Да нет, они ничего и сшиты ладно, — обходя парня, придирчиво оглядывала его Антонина Ивановна. Сзади поглубже затолкнула ему рубашку в брюки.
— Рад, что у матушки такая понятливая родственница. Мы, кажется, хорошо, по-родственному поговорили. Но я спешу — сматываюсь.
Зинаида пришла через час. Антонина Ивановна поджидала ее с горячей картошкой на столе.
За ужином говорили больше о Валере. Зинаида все повторяла:
— Боюсь, свяжется с дурной компанией, пропал тогда парень.
Антонина Ивановна пыталась успокоить Зинаиду.
Павел пришел поздно вечером. Женщины смотрели телевизор. Зинаида вышла в прихожую, вернулась, присев на диван, бросила:
— Как всегда, не в духе.
Павел быстро прошел в спальню, не посмотрев на гостью.
— Он здесь ничего не замечает, — зло усмехнулась Зинаида.
— Я зайду к нему, хоть поздороваюсь, — нерешительно произнесла Антонина Ивановна и выжидающе посмотрела на хозяйку.
— Сходите, — повела та плечом.
В спальне горел торшер. Павел, стоя спиной к двери, смотрел газету. Гостья тихонько кашлянула. Павел оглянулся, и в его глазах мелькнуло недоумение.
— Вы помните меня? Я Антонина Ивановна, вот в гости к вам приехала.
— Здравствуйте, — отчетливо произнес Павел. Он посмотрел на женщину так недружелюбно, что она не могла вымолвить ни слова. Он заговорил сам:
— Мы давно не виделись. Вас, конечно, интересует, чего мы добились за эти годы?
— Я… — начала Антонина Ивановна. Павел резко перебил ее:
— Зинаида, наверное, уже похвасталась вам, что у нас будет развод.
— Но нужно все-таки прийти к какому-нибудь разумному решению, — осторожно произнесла женщина.
— Это самое разумное. Мы и так потеряли стала говорить Люба. — Но зла она на то ни на кого не держит. Чего об этом теперь речь вести? Я вот о другом хочу спросить. Степанида, как думаешь, ты больше прожила, придет Победа?
Степанида сразу отозвалась каким-то торжественным голосом:
— Поганые на землю нашу навалились. В крови наша матушка-Русь, да погибели ее не дождутся. Велика Россия, могуча.
— А мне вот что жалко, — вдруг живо сказала Люба, — поездить не удалось, морс бы посмотреть. Мама много о нем рассказывала, пришлось ей там побывать, а мне вот нет.
— Ну, море и я не видала, — вставила задумчиво Степанида.
— На самолете еще хотелось бы полетать… Деревню-то свою люблю. Жить, наверное, без нес не смогла бы. А все ж обидно, что никуда не выезжала. А сколько городов есть, больших, красивых!
— Я тоже далеко, не выезжала, — сказала Александра.
— Ничего, — подавила вздох Люба. — Я в нашем селе все любила. И лес, особенно летом. Зайдешь в чащу, столько разных запахов, и каждый будто сам по себе, другой не глушит.
— А я с молодости лес осенью любила. Грибы собирать, — подхватила Степанида. — Найдешь подберезовичек, так ему, сердешному, радуешься, будто удаче нежданной.
— Бабоньки, я вот что подумала, — подала голос Александра. — Мало мы хорошей, мирной жизни радовались. В работе, в заботах крутились. Некогда и пожить было.
Зинаида присела па одеяло, отшвырнув тюбик с кремом на тумбочку.
— И вы согласитесь па это? недоверчиво спросила она.
— Соглашусь, — Антонина Ивановна села на кровати и, искоса поглядывая на хозяйку, стала спокойно завязывать бант на рубашке.
Зинаида молчала, сжимая в кулаке краешек одеяла. С замирающим сердцем Антонина Ивановна ждала, что она скажет. Старая женщина не думала о том, как сложится ее жизнь дальше. Она верила — все будет нормально. Главное — поможет людям.
— Антонина Ивановна, вы моя спасительница, — наконец вымолвила Зинаида дрожащим голосом. — Только не подумайте плохо. У меня и в мыслях ничего не было, а то еще…
— Перестань, милая, — перебила Антонина Ивановна и растерла своей рукой излишек крема на виске у Зинаиды.
— Я уже не знала, па что решиться… Нам будет хорошо втроем. Мы же родственники, своя кровь.
— А ты знаешь, как делают обмен?
— Точно не знаю, завтра схожу к юристу, — ответила Зинаида деловито и, пожелав «спокойной ночи», пошла спать.
Антонина Ивановна быстро заснула. Утром, когда она встала, в квартире была только Зинаида, которая что-то гладила на кухне.
— Разоспалась я у вас! — торопливо одеваясь, крикнула Антонина Ивановна.
— Сон — здоровье, — весело ответила Зинаида. — Сейчас будем завтракать.
Рисовая каша, рассыпчатая, хорошо промасленная, показалась Антонине Ивановне очень вкусной. Зинаида тоже ела с аппетитом.
— Я рассказала мужу о нашей задумке с квартирами.
— А он как? — нетерпеливо спросила Антонина Ивановна.
— Что-то промычал. Но я его уговорю.
— А вдруг он будет против?
— Не будет. Куда ему деваться?
— Нужно бы по-хорошему.
— Все сделаем как надо. Сам понимает, что так жить больше нельзя. А мы предлагаем ему отдельную квартиру, пусть в другом городе, но он там жил. Снова устроится, привыкнет.
…Зинаида поехала провожать родственницу па вокзал. По дороге оживленно обсуждали детали переезда.
В поезде, прощаясь, Зинаида, держа маленькую руку Антонины Ивановны и мягко поглаживая ее, стала горячо благодарить:
— Как много вы хотите для меня сделать! Я в таком трудном положении.
— Не надо, Зиночка, благодарить. Мне самой будет с вами лучше. Я ведь совсем одна, — растроганно отвечала Антонина Ивановна.
Когда поезд тронулся, она не могла сдержать слез. Но какими благодатными, желанными были эти слезы, будто уносили прочь все, что было в душе тяжелого.
Дома Антонине Ивановне стало немного не по себе. Она уже привыкла к квартире. Многое здесь пережила. И снова плакала легкими, неуемными слезами. И такое они приносили облегчение. Конец одиночеству! Сколько уже с ним в этой квартире прощалась хозяйка. Но теперь прощание казалось окончательным.
Она стала прикидывать, что из вещей взять с собой на новое жилье. Каждая вещь была дорога, как память о прошлой жизни. Снова и снова перекладывала Антонина Ивановна с места на место сумки, кошелки, вазочки, чемоданы. Помня решительный протест Зинаиды против барахла, стала вязать узел, чтобы подарить кое-что Игнатьевне. Узел набрался огромный. С ним Антонина Ивановна и пошла к своей подруге. После приезда она еще не виделась с нею.
Игнатьевна встретила со смешком:
— Чего-то ты с кулем приперлась? Аль поживы мне какой наскребла?
— Так и есть, по сусекам, — стараясь подделаться под ее насмешливый тон, сказала Антонина Ивановна и поставила узел к ногам приятельницы.
— А чегой-то раздобрилась, аль помирать задумала? — не унималась Игнатьевна. Нагнувшись, она стала распаковывать узел.
— Рано мне помирать. Здесь я принесла то, что в хозяйстве может пригодиться. Я уезжаю.
— И далече? — перестала возиться в вещах Игнатьевна.
— К Зинаиде.
— Совсем очумела, из ума выжила! Батюшки! — от удивления Игнатьевна плюхнулась прямо на узел.
— А чего, разве Зинаида мне чужая? — спросила Антонина Ивановна, пожимая плечами.
— А квартиру куда?
— С мужем она разводится, он и поселится.
— Ох, господи, облапошили старуху! Стыд-то есть у людей? — схватилась за голову Игнатьевна.
— Я сама предложила.
— Сама-а, — еще больше дивясь, протянула Игнатьевна.
— Все равно жить осталось не так уж много, сделаю людям доброе… Сживемся мы. У Зинаиды и мысли не было на мою квартиру.
Игнатьевна изумленно глядела на Антонину Ивановну.
— Видела я всяких, но таких — никогда. Что ж ты, старая голова, со мной не посоветовалась? Я б тебе дельное сказала.
Игнатьевна задумалась, но, встрепенувшись, придвинулась к гостье и заговорщическим тоном произнесла:
— Пока еще ничего не сделала, выпутывайся. Хочешь, вместе письмо настрочим? Мол, раздумала, извините. У них своя жизнь, сами пусть крутятся. А тебе, милочка, о себе нужно кумекать.
— Нет, — отступая к двери, замотала головой Антонина Ивановна.
— Да ты малахольная, без ума! Я с ней вожусь, обузу на свою голову взяла. В больницу к ней бегаю, деньги на передачки трачу.
Антонина Ивановна спиной открыла дверь и, продолжая пятиться, вышла на площадку подъезда. Закрыв за собой дверь, быстро пошла прочь.
В своей квартире она пришла в себя. В голове метался визгливый голос Игнатьевны. Она понимала, что старуха накричала от доброты сердца. Нельзя на нее обижаться. Еще эти передачки приплела. Немного успокоившись, Антонина Ивановна стала размышлять,
почему Игнатьевна такая осторожная? Ее никто и никогда по-большому не обманывал. Дети любят. Сама она добрая. А почему не может понять чужой доброты?
Сгоряча Антонина Ивановна хотела отдать ей деньги за передачки или положить их в почтовый ящик. Но представила, как это может обидеть Игнатьевну, и раздумала. Мысленно продолжала доказывать ей:
«Хорошо тебе быть осторожной. Дети любят, дорожат тобой. А мне что терять? Тоску свою? Да я за что угодно готова ее отдать. Нет, подружка, не побывала ты в моей шкуре, не понять тебе!»
Доказав себе свою правоту, Антонина Ивановна успокоилась и стала ждать, когда приедет Зинаида. Та через педелю в письме известила, что ее задерживают дела. Еще через неделю написала, что приедет через месяц.
Зинаида приехала через полтора месяца после того, как побывала у нее Антонина Ивановна.
— Ох, как я устала! Развод, обмен! Здесь еще ноги придется побить. Наверное, такие хлопоты у меня десять лет жизни отняли, — снимая пальто, жаловалась она Антонине Ивановне.
— А я как будто знала, что ты сейчас приедешь. Чай кипятить поставила. За чаем и расскажешь о своих делах, — ласково говорила хозяйка, подавая гостье тапочки.
— Разговор у нас будет долгий, — вздохнула Зинаида, заглядывая в зеркало.
Засиделись до ночи. Зинаида рассказала о том, как прошел для нее этот трудный месяц. И вдруг начала расспрашивать Антонину Ивановну о ее молодости. Та сначала с недоумением, а потом с увлечением стала рассказывать, как невестилась, как войну перенесла. Зинаида слушала, положив голову па стол. Глаза у нее смыкались, но спать идти отказывалась.
Наконец, укладываясь в кровать, сказала сквозь легкую зевоту:
— Как хорошо мы поговорили! Правда!
— А я-то, я то развеселилась! — звонко рассмеялась Антонина Ивановна. — Да, жизнь свою вспоминаю с радостью.
Утром Зинаида осмотрела все вещи, приготовленные для переезда.
— Возьмем только вашу одежду, все остальное можно продать.
— Нет, пусть Павлу вещи останутся, что ж он, приедет в пустую квартиру?
— Может, он захочет все новое себе купить, — пожала плечами Зинаида.
— Так пусть хоть первое время они ему послужат.
Зинаида ничего не ответила. Она ушла на целый день. Вернулась, когда стемнело, довольная. Тяжело опустилась на стул, руки закинула за голову, потянулась.
— Сколько дел переделала. Завтра вместе пойдем в райисполком — расписаться вам нужно в бумагах. А послезавтра можем уезжать. Как раз и Павел приедет, ключ ему передадим.
Павел приехал дневным поездом. Прошел с чемоданом на кухню. Сняв дубленку, бросил ее на стул. Открыл форточку, закурил. Зинаида, перевязывающая в комнате чемоданы, крикнула:
— Мы уедем, накуришься, ты же знаешь, я не переношу дым.
Ничего не ответив, Павел выбросил сигарету в форточку и закрыл ее.
— Картошки мы здесь нажарили, поешь, — предложила Антонина Ивановна.
— Сыт.
— Ну, посмотри квартиру.
— Успею.
Павел снова взялся за коробку с сигаретами, но отложил ее.
— Я работу пойду искать.
— Ты не поможешь нам чемоданы донести до такси? — попросила Антонина Ивановна.
Павел ответил не сразу:
— Помогу.
Прощание было коротким.
— Ну, бывайте, — не глядя на женщин, буркнул Павел и пошел прочь, ссутулившийся, размахивая руками.
Зинаида закусила губу и до вокзала промолчала. А в поезде сказала с металлическими нотками в голосе:
— Работу пошел искать. Деловой! Всю жизнь отравил. Не верится, что отвязалась, прямо счастье. — И отвернулась к окну, за которым мелькали окраины города.
— Не нужно так говорить, — тихо сказала Антонина Ивановна, слегка прикоснувшись к плечу Зинаиды.
— Разве я от злости? От обиды. Все сломалось!
— Ничего, может, все и уладится. Найдете силы поверить друг другу.
— Никогда! — запальчиво выкрикнула Зинаида.
В новом городе Антонина Ивановна освоилась быстро. В своем районе за неделю узнала улицы, магазины. Смело стала выезжать в центр.
Сбылась мечта, обрела семью! Одного опасалась— лишней оказаться. С самого первого дня она взяла на себя все хозяйственные заботы. Зинаида воспротивилась. А новый член семьи не спорила с нею. Но как только Зинаида на работу, Антонина Ивановна — за дела. И молодая хозяйка только руками разводила, с ласковой улыбкой выговаривала:
— Стыдно мне, что старый человек ухаживает за мной и сыном.
— А что ты думала — иждивенку привезла?
Зинаида сдалась. А Антонина Ивановна постоянно доказывала:
— Я от хозяйственных дел не устаю. Без них мне скучно.
…Не нравилось Антонине Ивановне, что Зинаида по вечерам домоседничает.
— Молодая, а в старуху превращаешься. В кино, в театры, в гости почему не ходишь?
— Еще не привыкла к новой жизни, — сдержанно отвечала Зинаида.
— Пока привыкнешь, уйдет золотое время.
Молодая женщина соглашалась, но продолжала вечерами бывать дома. Смотрели телевизор. Спать ложились рано.
О своей размеренной жизни Антонина Ивановна подробно писала Анечке. Эти письма были веселыми. А чем быть недовольной? Зинаида — вежлива, Валерий — доброжелателен. Правда, дома он почти не бывал. После школы занимался в авиамодельном или волейбольном кружках, ходил в шахматную секцию. Прибегал наскоком, вечно спешащий, как голодный волчонок набрасывался на еду. Антонине Ивановне нравилось слушать его новости, смотреть, как парень с аппетитом ест. С матерью он не был так разговорчив.
— Вы, Антонина Ивановна, слушаете и доверяете. С вами хочется быть откровенным. А матушке всегда кажется: я обязательно что-то хочу скрыть.
— Нет, Валера, тебе не нравятся мамины требования. А я никаких требований не предъявляю, — пыталась защитить Зинаиду Антонина Ивановна. Но ей самой не нравилось, что та кричит на Валеру и разговаривает с ним приказным тоном. Однажды осторожно высказала Зинаиде:
— С Валерой бы помягче нужно. Ты с ним, мне кажется, очень строга.
— Так он совсем от дома отбился, спать только приходит. Дай ему волю, из рук выпустишь.
— Попробуй не покрикивать на него. Тогда он к дому потянется. Парень-то у тебя хороший. Учится неплохо, многим интересуется.
— Для меня главное, чтобы добрым был. А от него сочувствия не дождешься. По любому поводу — ирония.
— Он еще молодой, воспитать можно. Доброте всю жизнь, наверное, учиться нужна..
— Это так, — согласилась Зинаида.
После разговора на сына она стала кричать меньше, но нет-нет да и срывалась.
Антонина Ивановна часто вспоминала Павла. Привык ли он на новом месте? Нашел ли себе работу по душе? Говорить об этом с Зинаидой Антонина Ивановна не решалась. Та, когда заходила речь о муже, грустнела. Видно, все еще не могла успокоиться. Как-никак, а прожили вместе пятнадцать лет…
И вдруг Зинаида переменилась. Стала оживленной, веселой. Пришла как-то вечером с радостными глазами, к ночи у зеркала взялась прихорашиваться. Включила магнитофон, до которого раньше охотник был только Валера, и, накручивая бигуди, начала пританцовывать под музыку.
«Не иначе у нашей хозяюшки интерес какой появился, — радовалась Антонина Ивановна. — И просыпается с шуткой, и поет часто. А к зеркалу подходит каждую минуту».
— Уж не влюбилась ли ты, Зиночка? — шутливо полюбопытствовала как-то Антонина Ивановна.
Молодая женщина вспыхнула румянцем:
— Еще нет, но…
— Ничего, что я к тебе с расспросами?
— Житейское дело. Скажу честно, нашелся мне кавалер. Кириллом Васильевичем величают. Солидный мужчина, пока в основном по телефону общаемся, однако… — Зинаида со смехом погрозилась пальцем.
— Правильно! — одобрила Антонина Ивановна. — Теперь-то уж следи за собой. По одежке встречают. Сапожки-то тебе новые нужно купить.
— Модные не попадаются.
— Закажи, в нашем ателье я видела интересные фасоны.
Зинаида зачастила в парикмахерскую, ателье, магазины. Валерик тоже заметил перемену в матери и как-то за завтраком сказал деланным баском:
— Судя по всему, наша матушка скоро пойдет под венец.
— Ты со своим спортом совсем огрубел, — сердито ответила Зинаида, резко отставив от себя чашку с какао.
— Не пойму тебя, всегда учила говорить, что думаю, — пожал плечами Валера и посмотрел на мать кротко и наивно.
— А ты знаешь, что такое такт? — уже более миролюбиво сказала Зинаида. И не удержалась, щелкнула сына по затылку.
— Ты не реагируй так на слова парня. На его шутки шутками и отвечай, — сказала Антонина Ивановна, когда Валера ушел.
— Это не шутки, он меня поддевает.
— У него переходный возраст, ершистый. А ты знай цвети, пока цветется, — лукаво подмигнула Антонина Ивановна.
Зинаида, улыбнувшись, поведала с затаенным ликованием:
— Кирилл Васильевич меня в кафе пригласил. Думаю, как поступить?
— Не разгадывай, иди, что тебя смущает?
— Мужчина он видный, будет ли толк от наших встреч?
— Присмотрись. С лица ведь воду не пить. Может, это твоя судьба,
— Боязно что-то, — растерянно ответила Зинаида.
— Ну, это тебе уже не подходит. Давай, готовься к вечеру.
Из кафе Зинаида вернулась веселая. Снимая с лица ваткой крем-пудру у зеркала, она подробно, с выразительными жестами рассказала, какой интересный собеседник Кирилл Васильевич, какой он внимательный.
— А завтра мы собираемся в кино, — сообщила Зинаида, — послезавтра — в музей. Программа у нас уже есть на две недели.
— Будь счастлива!
…Приближался новогодний праздник. Антонина Ивановна целую неделю ходила по магазинам, покупая продукты к столу. Заполнила холодильник мясом, колбасой, рыбой.
Для Зинаиды приготовила подарок — отрез трикотина. Три часа за ним выстояла в очереди. Но зато как радовалась Антонина Ивановна, когда спешила домой с покупкой! На ходу несколько раз заглядывала в сумку, откуда торчал кусочек материала небесной голубизны.
Тридцать первого декабря Антонина Ивановна проснулась раньше обычного. Лежа в постели, мысленно переделала все, что нужно было для праздничного стола. Очень боялась что-нибудь упустить.
За завтраком Зинаида была очень внимательна, расспрашивала о здоровье. А за чаем сказала:
— Антонина Ивановна, у меня к вам большая просьба. Ко мне придут гости, — запнулась, кашлянув, продолжила: — Будет моя подруга Таня с мужем. И Кирилла Васильевича я пригласила. Валера уйдет. Мы вам помешаем, гости будут стесняться. Вы не против к Тане пойти, с ее мамой встретить Новый год?
— Хорошо, только я не знаю Танину маму, — спокойно ответила Антонина Ивановна.
Как обидели се слова Зинаиды! Но она и виду не подала. Заговорила, как ни в чем ни бывало, о погоде, о праздничной суматохе в городе.
— Мне вам стол приготовить?
— Если и с очень трудно, то, пожалуйста, — тихо ответила Зинаида, отведя глаза в сторону.
Когда она ушла, Антонина Ивановна сразу же решила приняться за приготовление пирога. Но, взявшись за сито, отложила его.
«Ничего особенного не произошло, — стала уговаривать себя женщина, — зачем мне, старухе, праздновать с молодыми? Все правильно, так и должно быть».
Но от обиды у нее дрожали губы. Наконец она взяла себя в руки и принялась взбивать крем из яичных белков.
Когда стемнело, пришли Зинаида с Татьяной. Наблюдая за ними, Антонина Ивановна отметила, как помолодела ее родственница. Чудо, как изменяется влюбленная женщина.
Заглядывая в кастрюли, Зинаида начала пробовать приготовленные блюда.
— Здорово! — похвалила она, — как в лучших ресторанах. Нет, куда им!
Антонина Ивановна собиралась уходить. Надела будничное платье, но только более тщательно причесалась.
— Я готова, — сказала она, выходя на кухню, где подруги раскладывали на тарелки кушанья. Татьяна, взглянув на Антонину Ивановну, смущенно кашлянула. А Зинаида спокойно посоветовала:
— Возьмите что-нибудь поесть, здесь столько наготовлено! А то у Ташошки сегодня стол не праздничный. Сейчас она проводит вас.
Антонина Ивановна взяла с подоконника заранее положенный подарок, завернутый в яркий целлофановый пакет, и протянула Зинаиде:
— С Новым годом! Будь счастлива!
Зинаида вытащила материал и ахнула:
— Какая красота! Спасибо! Как мне с вами повезло! — Она обняла Антонину Ивановну. — Вы очень хорошая. Простите, если когда бываю к вам недостаточно внимательна. Жизнь, суета, твердеем, черствеем. Правда, Танюша?
— Мы свои, друг друга поймем, — остановила Антонина Ивановна Зинаиду, и улыбнулась, забыв об обиде.
К Татьяне домой она поехала с веселым настроением. Ее мама оказалась сухонькой и глуховатой старушкой. Она усадила гостью за стол, налила чаю и сразу стала рассказывать о своих болезнях, о ссорах с соседями. Бесконечные жалобы быстро прискучили гостье. Она с облегчением вздохнула, когда включили телевизор. Хозяйка заснула в кресле, свернувшись, как ребенок, калачиком. Не дождавшись полуночи, и Антонина Ивановна легла спать на узеньком диване, прикрывшись своей вязаной кофтой.
Проснулась она часов в пять утра. Было темно. За окном, на ветру, трещала вертушка, повешенная у самой форточки. Снизу, наверное с первого этажа, доносилась музыка, смех. Гуляют. Антонина Ивановна стала вспоминать, как встречала новогодние праздники с мужем. У них всегда было очень весело. Красиво наряжали большую елку. Приглашали много гостей, пели, шутили, показывали фокусы. После полуночи всей компанией шли в лес. Он был от дома совсем недалеко. Там тоже наряжали елочку, лепили снеговика, даже играли в прятки.
«А этот Новый год я проспала», — вздохнула Антонина Ивановна. Лежать ей надоело. Хотелось скорее попасть домой. В рань заявляться неудобно, ночью гости гуляли, теперь отсыпаются…
Приехав к вечеру, Антонина Ивановна удивилась, какой беспорядок был в комнатах! На столе стояла немытая посуда, на полу разбросаны окурки, в углу валялись журналы, газеты, на тумбочке была раскрошена свеча.
Зинаида суетливо собиралась в гости. Уходя, она сказала:
— Мы провели буйную, очень веселую ночь. Без меня не убирайте этот погром. Вдвоем быстро управимся.
Не дожидаясь ее, Антонина Ивановна взялась наводить порядок. И когда Зинаида вернулась, в квартире, как обычно, все было на своих местах. Но она будто не заметила этого и сразу пошла спать.
Антонина Ивановна вновь попала в свою рабочую колею. Магазины, обеды, стирка. Дома она чаще оставалась одна, но скучать было некогда. Женщина радовалась, что к ней вернулось ровное, спокойное настроение, которое нарушили праздники. Пришли новые хлопоты. Зинаида собиралась на день рождения к Татьяне и никак не могла выбрать подарок. По магазинам ходила с нею и Антонина Ивановна. Выбрали в подарок кофейный сервиз с позолоченным рисунком…
Валера захотел держать в доме рыбок. Он три дня просил у матери денег на аквариум. Получив их, позвал Антонину Ивановну за покупкой в магазин.
Дома не знали, куда поставить аквариум, чтобы не мешал. Пристроили сбоку письменного стола. Валера стал его оборудовать. По воскресеньям он с Антониной Ивановной ходил покупать рыбок.
К этому увлечению Валерий быстро охладел. Кормить рыбок, менять воду стала Антонина Ивановна.
…Однажды, вернувшись из магазина, она замешкалась в прихожей. Копаясь в сумке, искала варежку. Не потеряла ли ее? Нашла в кармане. Вздохнула, прислушалась к голосам в кухне. Уже сели обедать?
— Ума не приложу, как теперь быть, — озабоченно говорила Зинаида. — Тебе, оболтусу, все равно. Ты и мать видишь раз в неделю, за обедом по выходным. Опять, наверное, куда-нибудь навострился?
— У меня ответственный матч, — пробубнил, что-то прожевывая, Валера.
— Ну, вот, домашние дела тебя не интересуют.
— А что ими интересоваться? Все прекрасно. У тебя, можно сказать, вторая молодость началась.
— С тобой можно хоть когда-нибудь вести серьезный разговор? Да, мне сделали предложение. А я разве не имею права на счастье? Но как я приведу сюда мужа? В нашу тесноту четвертого человека.
— Четвертый лишний. Кто-то из нас явно лишний, — ядовито рассмеялся Валера.
— Может, Антонине Ивановне хоть на время квартиру снять?
— Что-то, матушка, не пойму тебя. То не могла ею нахвалиться, а теперь — квартиру снять. Она ж только и крутится для нас.
— Я ничего не имею против. Как домохозяйка она — клад. Но Кирилл Васильевич… Он даже не знает, что у нас живет дальняя родственница. Как он на это посмотрит? — шумно вздохнула Зинаида.
— Да еще сынок в придачу, — насмешливо вставил Валера.
— Не язви, подумай сам, в двухкомнатной квартире четыре человека.
— Разумеется, для молодоженов этого мало.
— Перестань паясничать, я с тобой откровенно разговариваю.
— Мам, не придумывай проблем. Твоему Кириллу Васильевичу Антонина Ивановна придется по душе.
— Во-первых, он сам любит работать дома, для него это как отдых. На заседаниях спать надоедает. Во-вторых, мужу приятнее есть обеды, приготовленные женой, а не домработницей.
— О, ты и психологию учитываешь.
— У тебя есть уважение к матери? — повысила голос Зинаида.
Антонина Ивановна растерянно стояла у неприкрытой двери с сумками в руках, затаенно вздохнула. Повернувшись, тихонечко вышла. По лестнице спускалась ощупью, пошатываясь. На улице почувствовала себя тверже на ногах. Вокруг была сплошная снежная пелена, лениво оседавшая на сугробы, деревья, людей. Прохожие прятали лица в воротники и удивленно глядели на старую женщину, неподвижно стоящую под снегопадом. Снежинки доверчиво липли ей в лицо, глаза.
«Какой небывалый снег, — отрешенно подумала Антонина Ивановна. — Куда же мне теперь идти?.. Некуда», — ответила сама себе, вздрогнув от ледяной тоски, будто сжавшей ее со всех сторон.
Присела на запорошенную снегом скамейку, вспугнув нахохлившуюся пичужку, и, проследив, как та нырнула в снегопад, усмехнулась— тоже бездомная.
«Только не паниковать, — сказала она себе. — Ничего не случилось. Меня никто не выгонял, не обижал. Может, и права Зинаида? Зачем я ей? Себе не нужна. Спела свою песенку. Только не паниковать…»
«Уйду в дом престарелых», — неожиданно сказала она себе. Мысль показалась спасительной. Антонина Ивановна встала, стряхнула снег с пальто и пошла не торопясь к дому.
Она не стала открывать ключом дверь, позвонила. Отворила Зинаида, спросила:
— Вы не забыли купить маргарин, он у нас кончился?
— Две пачки взяла, — как ни в чем не бывало, ответила Антонина Ивановна. Сняв пальто, она пошла на кухню, где принялась чистить картошку. А Зинаида заспешила в гости.
— Мне кажется, там будет скучно, — сказала она.
— Развейся, — не оборачиваясь, ответила Антонина Ивановна.
Оставшись одна, женщина хотела идти в спальню, чтобы там поплакать. Но переборола себя. Вытерев слезы фартуком, стала резать морковку.
Приготовив ужин, приняла снотворное и пошла спать.
Ночью несколько раз просыпалась. Но, боясь навязчивых мыслей, старалась поскорее уснуть.
Утром Антонина Ивановна обратилась к Зинаиде:
— Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Ты вечером будешь свободна?
— Боюсь, что нет. А что случилось? — в ее глазах мелькнула тревога.
— Если вечером тебе некогда, поговорим сейчас.
— Что произошло? — нетерпеливо спросила Зинаида.
— Ничего, просто хотела сообщить, в дом престарелых я собралась.
Антонина Ивановна старалась говорить твердо. Но почувствовала дрожание голоса и замолчала. Зинаида уронила чулок, который зашивала, и от удивления не могла сказать ни слова. Но все же заговорила первая:
— Вам у нас плохо?
— Не надо сейчас об этом, — мягко ответила Антонина Ивановна.
— Я, конечно, понимаю, вам нелегко, хозяйство на плечах, обстановка неспокойная, — Зинаида нервно то раскручивала нитку с катушки, то снова закручивала.
— Я тебя очень прошу, Зина, сделай все так, чтобы мне можно было поскорее уехать.
— Что за спешка, объясните? — Но тут же Зинаида смирила голос: — Ну, если вы так настаиваете, то пожалуйста. Хотите переменить обстановку? Очень жаль. Но знайте, мои двери всегда открыты. Все же, может, объясните свое настроение?
— Старческая прихоть, — отвела глаза Антонина Ивановна.
Зинаида недоуменно пожала плечами. Она хотела еще что-то спросить, но, взглянув на родственницу, промолчала.
Вечером она вернулась рано. А на вопрос Антонины Ивановны о доме престарелых с неловкостью улыбнулась.
— Я думала, что вы об этом несерьезно. Если у нас плохо, могу снять квартиру для вас, даже в нашем доме.
— Не нужно, Зиночка, устрой лучше в дом престарелых.
…Антонина Ивановна по-прежнему делала все в доме, была внимательна и к Валере, и к Зинаиде. А та обращалась с нею, как с больной. Постоянно спрашивала о самочувствии, угощала фруктами. Антонина Ивановна часто ловила на себе настороженные взгляды родственницы.
А Валерий как-то с недоумением спросил:
— Мне мама чушь какую-то о доме престарелых говорила. Это серьезно, Антонина Ивановна?
— Серьезно.
Валера озадаченно пожал плечами:
— Вы что, из-за мамы сбегаете? Из-за того, что она замуж собралась?
— Мне там будет лучше.
— Жаль. Не понравится — назад давайте.
— Хорошо, Валера, — ответила Антонина Ивановна, а сама подумала: «Не сочувствие говорит в тебе, а любопытство. Не у кого было учиться доброте».
Неделю спустя Зинаида пришла домой позже обычного. Долго переодевалась. Зайдя на кухню, прислонилась к двери, наблюдая, как Антонина Ивановна перекручивает говядину на мясорубке.
— Садись, Зина, за стол, борщ горячий.
— Не хочется. Я все оформила. Можно переезжать в дом… туда в общем.
— Хорошо, — Антонина Ивановна продолжала крутить ручку мясорубки.
Зинаида начала напряженным голосом:
— Давайте все же поговорим, — запнувшись, добавила: — По-родственному. Может, вы на меня за что обижаетесь? Думаете, специально все подстроила с квартирой? Приехала, вошла в доверие… А я совсем без умысла. Верите? Мне просто было плохо, потянулась к вам. Но почему вы молчите? — со слезами в голосе спросила Зинаида.
— Я тебя правильно поняла, — взглянув ей в глаза, ответила Антонина Ивановна. — Просто хочу пожить в другой обстановке. Старость капризна.
Последнюю ночь в квартире Зинаиды Антонина Ивановна пе спала. Мысленно она прощалась со всем, что стало ей здесь близким.
Ведь всего две недели назад своим считала этот дом. И снова жизнь пуста, никчемна. Антонине Ивановне хотелось плакать, но она боялась, что услышит Зинаида, и только судорожно глотала подступивший к горлу комок.
…Зинаида отвезла Антонину Ивановну в дом престарелых на такси. Обе равнодушно смотрели в окно. Остановились у кирпичного трехэтажного дома. Антонина Ивановна взглянула на него с безразличием.
Она покорно ждала, пока Зинаида своим аккуратным красивым почерком заполнит нужные бумаги. Вдруг Зинаида, спохватившись, сказала:
— Я вам оставлю свой рабочий телефон. Пожалуйста, за всем обращайтесь, не стесняйтесь.
— Хорошо, — с натугой улыбнулась Антонина Ивановна, мельком посмотрела на часы, висевшие на стене. Она хотела поскорее остаться одна, лечь в кровать и забыться.
Ей выделили комнату номер сорок один. Низенькая шустрая кастелянша вызвалась проводить новенькую. Поднялись на второй этаж. В конце коридора кастелянша остановилась, достала из кармана халата маленький блестящий ключик и открыла дверь.
— Эта комната у нас самая светлая. Здесь у вас будет тишина, покой, — добродушно произнесла кастелянша, пропуская вперед новенькую.
В комнате, у самого входа, стояла односпальная кровать, аккуратно застеленная синим тканевым одеялом. В углу был небольшой стол, покрытый голубоватой скатертью, два высоких стула.
Кастелянша с любопытством смотрела на новенькую, пытаясь по выражению ее лица понять, нравится ли ей новое жилье. Если б она знала, как стало Антонине Ивановне все безразлично. Но она сделала вид, что с интересом осматривает комнату, и даже спросила:
— А куда вещи складывать?
— Шкаф встроен в стене.
Кастелянша отдернула занавеску и распахнула двери шкафа:
— Вот вешалки, вот полочки для обуви, для шляпок. А эти ящики для носков и перчаток.
— Удобный шкаф, — Антонина Ивановна снова скользнула взглядом по комнате, вздохнула. — Чисто у вас здесь, как в больнице.
— Стараемся, — гордо произнесла кастелянша. — Ну, обживайтесь. Ключик на стол кладу. Пошла я. У нас сегодня банный день, белье всем меняю. Обед в двенадцать часов, не опаздывайте в столовую.
Оставшись одна, Антонина Ивановна снова огляделась вокруг. Тихо. «Как хорошо, — подумала она, — что с Зинаидой распрощалась в приемной. Обнялись, улыбнулись, пожелали друг другу здоровья. Все как полагается…»
Подошла к окну. Из него был виден большой двор и часть сада. Во дворе стояли лавочки, но на них никто не садился. Пожилые мужчины и женщины, казалось, одного возраста, не торопясь, направлялись в сад.
Антонина Ивановна стала вспоминать, далеко ли дом престарелых от вокзала. На такси они проезжали здание вокзала, но долго ли ехали потом?
Зачем я хочу знать это? Не все ли мне теперь равно, где стоит этот дом… престарелых. Пусть хоть на самом краю света».
Ей вспомнилось, как переезжала к Зинаиде из своей квартиры. Захотелось поплакать, но женщина боялась, вдруг кто-нибудь войдет. И правда, заглянула круглолицая, с маленькими живыми глазами старушка и позвала на обед.
— Я не пойду, — коротко отказалась Антонина Ивановна, дружелюбно улыбнувшись.
— Что, на припасы расчет? С новенькими так. А у нас здесь на этаже телевизор есть. Будете вечером смотреть? Кино, говорят, такое переживательное.
— Нет, — с виноватой улыбкой ответила Антонина Ивановна, — я спать буду.
— Ну, отдыхайте, а я пойду, а то опоздаю на обед, сухари придется жевать.
Антонина Ивановна снова стала смотреть в окно. По щекам покатились слезы. Ладонью смахнула их. Слезы снова появились. Женщина плакала, уже не опасаясь, что кто-нибудь войдет. Ей казалось, что слезы принесут облегчение. Но как только перестала плакать, сильнее почувствовала тоску.
Вдруг ей захотелось кому-нибудь пожаловаться на свою судьбу. Поняла бы ее Аня. Но как она далеко… А ведь можно ей написать и новый адрес сообщить.
Антонина Ивановна достала из сумки ручку, тетрадь, и, сев к столу, начала писать. Обида и горечь были в каждом слове. Заклеивая конверт, женщина задумалась: а стоит ли посылать это письмо? Но с кем, как не с Аней, поделиться горем?
Антонина Ивановна вышла из комнаты, спросила у идущей рядом женщины, где почтовый ящик.
— У нас вахтеру письма на стол складывают. Давайте отнесу.
Выпив таблетку снотворного, Антонина Ивановна стала укладываться спать.
Никогда она не думала, что время может так медленно ползти. Антонина Ивановна понимала, что это кажется от безделья. Здесь не о ком и не о чем было заботиться. Какой пустой и ненужной представлялась жизнь в этих стенах!
В столовой, в комнате отдыха Антонина Ивановна с удивлением наблюдала за обитателями дома престарелых. У многих был беззаботный и веселый вид. Но почему она не может быть такой, как другие? Их жизнь не хуже и не лучше, чем ее.
По вечерам Антонина Ивановна плакала и пила снотворное. Просыпалась утром с одной мыслью, что никогда не привыкнет к такой жизни. А ведь прошла всего лишь неделя!
В субботу проснулась раньше обычного, но долго не вставала.
«Сколько еще будет таких ужасно томительных, долгих недель? Сколько хватит у меня терпения?» — спрашивала себя женщина.
Снова плакала.
Перед завтраком в комнату постучали и, не заходя, крикнули:
— К вам пришли, ожидают в комнате посетителей.
«Это Зинаида», — решила Антонина Ивановна. Ей совсем не хотелось видеть ее, но она стала поспешно поправлять волосы, пудриться. Зинаида должна поверить, что родственнице здесь хорошо.
«Правильно, что Зинаида не выписала пропуск в комнату. Быть с нею вдвоем очень тяжело», — думала Антонина Ивановна, скорой походкой идя по коридору. Она задержалась у двери комнаты посетителей, сделала веселое лицо и вошла.
У порога остановилась как вкопанная. На краешке стула, у окна, сидела Аня, прижимая к груди букет гвоздик. Антонину Ивановну бросило в жар, она быстро закрыла ладонями глаза. Отняв руки, увидела рядом встревоженное, родное лицо Ани.
— Дочка моя! — вымолвила Антонина Ивановна, крепко прижав к себе девушку.
Жребий
Буйно цвели яблоневые сады, доверчиво обступившие деревеньку Лапино. Неистово выводили трели соловьи. Свет луны, струившийся как бы отовсюду, казался особенно прозрачным, серебристым. И вся земля в окрестных степных просторах словно распростерлась в забытьи. Приближалось утро.
Тихим, но внятным был стук. Александра, обычно крепко спавшая перед рассветом, сразу встрепенулась, резко привстала. Кого привело? Немцы? Те так стучать не будут. Свои? В комендантский час?
— Шурка! Это я, Архиповна! Отворяй! — послышался сдавленный шепот.
— Погоди, щеколда заела.
У Александры екнуло сердце, когда увидела Архиповну. Кофта на ней была просто запахнута, платок неловко съехал набок.
— Худая весть?
Архиповна сдержанно вздохнула:
— Погоревать успеешь. Эх, в добрый час молвить, в худой помолчать.
Опустив руку на плечо Архиповны, Александра попросила:
— Не томи душу.
— Худые вести не лежат на месте. Как до меня докатились, сразу к тебе.
— Ну…
— Ты вечор в баньке-то ничего не приметила?
Александра настороженно хмыкнула:
— Стирали, как обычно.
Архиповна ближе придвинулась, чуть слышным шепотом сообщила:
— Немчуру, что к вам в прачечной приставили, пристукнули. Аль не ведаешь?
— Ганса, что ли? При нас вроде тихо было.
— То-то и оно, что при вас. Хватились ночью. Дознаваться особо не будут, днем ли, ночью, подступят ко всем, кто в бане работал. Гадайте, как выпутаться.
Александра скорбно закачала головой:
— Ох, лишеньки! Че будет-то, как выкручиваться?
Архиповна толкнула ее локтем в бок:
— Будя, не куксись, еще не ясно, куда повернет. В предбаннике прибили. Сказывают, — Архиповна быстро оглянулась на закрытую дверь, — Игната Долгорука там видели.
Александра невольно отшатнулась от нее и строго произнесла:
— Я никого не видела, и ты, старая, не болтай.
— Не учи ученую, поди, не хуже тебя знаю, где можно что сказать. — Дрогнувшим голосом добавила: — Ты уж по-разумному обмозгуй все, а то некогда прикидывать будет. Прибежала, чтоб упредить. Эх, тяжко носить дурную весть.
— А Ганс-то вчера все вертелся под ногами… Когда же? — словно себя спросила Александра.
— Отвертелся, ирод!
— Авось пронесет, безвинные мы, — сказала задумчиво Александра.
Она не заметила, как исчезла Архиповна. Придя в себя от растерянности, тяжело вздохнула.
«Делать-то что теперь? Сон зоревать не удастся… Может, за пряху сесть?»
Вот что Александру всегда успокаивало, какое бы расстройство ни приключилось. Но то было до войны, когда ее считали лучшей рукодельницей на селе. Свою прялку главным богатством называла. Как немцы появились, успела притащить ее сюда, в сарай, куда вскоре и хозяйку с детьми выселили. Удалось припрятать и стан, на котором ткала холстину. На чердаке теперь завален дровами. Верила Александра, что еще придется ей и попрясть, и поткать от души.
«Бог милостив», — она снова судорожно вздохнула. Осторожно стала зажигать фитилек, воткнутый в пузырек с керосином. Пламя воровато затрепетало — пошел смрадный чад. Александра убавила огонек. Он скупо осветил часть сарая у двери — перевернутые корзинки в углу, что были теперь вместо стола и скамеек, ребят, свернувшихся на соломе калачиком, прикрытых пестрым одеялом из лоскутков. Александра поежилась, как от озноба. Устроилась с прялкой в углу. Ловким движением пальца Александра потянула нить, закружилось веретено.
«Запели пташки печальны песни», — Александра сморгнула слезы.
Еще с вечера ее томило нехорошее предчувствие. Как вернулась в сарай, подступила к ребятам с
расспросами:
— Не нашкодили ненароком?
Особой строгости детям никогда не выказывала, а теперь ни в чем не была за них спокойна. И малые их провинности могли бедой обернуться.
Антошка сразу выложил:
— Мамань, машину за гумном видела? Федотка туда забирался!
— Господи! — Александра схватила Федотку за вихор. — За каким лядом тебя туда понесло? Напасть накликаешь!
— Гришак сманил! Еще в заклад бился, что не струсит. Следили за часовым. Как обедать подался, залезли. Не боись, ничего не взяли. Даже ихние конфеты не тронули, леденцы. Тоже мне солдаты!
Александра, отчитывая сына, не сдержала слезы — измаялась переживать. Разве на всякий час обережешь детей? Да вот сама беду им принесла.
«Кто же убил этого Ганса толстомордого? Неужели Игнат? Кроме него некому. Это он мелькнул вчера в окне бани. Поди, за старика Петрохина явился мстить? — гадала Александра. — Да, жалко Петрохина. Толстомордый гад с одного выстрела старика уложил, когда тот с пустыми ведрами ему дорогу переходил. А Игнат-то привязан к Петрохину, что к родному отцу. В дочь его влюбился, когда еще в подпасках ходил. Так и есть, мы тогда только Милку свою купили. А бабы, шалопутные, как коров в стадо сгонять, ну подшучивать над Игнатом, зятьком петрохинским величать. Эх, вроде недавно утонула петрохинская дочка, а сколько уж воды утекло! Игнат же навсегда преданность Петрохину сохранил. Семью себе завел, а старика не забывал, и дом ему помог выстроить, и в поле подсоблял. Преданность любую жизнь греет», — вздохнула уже другой, затаенной думке Александра.
— Что с нами теперь будет! — эти слова она произнесла тихо вслух и затаилась. — Антошка заворочался во сне.
«Кабы можно было отвертеться от этой работы на немцев в прачечной. Но что могла сделать, когда приказали? Детей погубила бы… А теперь-то что изменишь?» — спрашивала себя Александра.
Месяц всего и проработала в прачечной, каждый день допоздна. Было приказано стирать быстро и чисто. Но разве стала бы она стараться для фашистов? В первый день Александра с брезгливостью лишь мусолила в мыльной воде рубашки и подштанники немцев. На утро Ганс, приставленный в надзиратели, совал прямо в лицо это шмотье, потрясал пистолетом, кричал что-то по-немецки. Не за себя, за детей испугалась Александра и все твердила:
— Буду стараться, оплошала, исправлюсь.
В помощницы ей дали Степаниду, маленькую, шуструю старушку. Александра обрадовалась. И работать полегче, и человек свой рядом. Словом перекинуться — и то поддержка, хотя в прачечной почти не разговаривали: и на минуту приостановиться некогда было. Худо-бедно, а с работой они справлялись. И зачем им дали еще одну помощницу — Любу Маланьину, это ее так по матери в селе прозвали. Для Александры она была и будет — злодейка. Завидев эту «бесстыдницу», Александра всегда обходила ее окружными дорогами. Поглядывая издалека на рыжую копну волос, на стройную фигуру, еле сдерживала сердце, колотившееся от ненависти. Что прельстило в ней Антона? Почему он, прожив десять лет с Александрой, решил бросить жену? Какое право она имела разрушить чужую семью? Ей-то Александра из гордости и слова упрека не бросила. Даже перед Антоном сдерживалась, хотя так и порывалась высказать:
«Что ты в ней нашел? Молода да пригожа? Цветов-то в поле много, а судьба — одна».
Нет, Александра ничего не говорила мужу, не просила, прятала в душе всю горечь и обиду. Молча выжидала. Антон остался с женой, но Александра чувствовала, сердце его было не с нею.
И вот пришлось работать вместе с разлучницей. Время такое — война, все подневольные. А то разве стала бы Александра в одну рабочую упряжку со своей соперницей? Люба заходила в прачечную несколько раз на дню, приносила грязное белье. Александра украдкой следила за ее стремительными движениями, за выражением скуластого лица, казавшегося невозмутимым.
«Такой хоть плюй в глаза, все божья роса… Нет, внешностью ей не проигрываю, — отмечала Александра. — Волосы у меня пышнее, лицо белее и без конопушек. Да и фигура у меня не хуже, хоть родила и вскормила двоих сыновей».
Сколько раз давала себе Александра зарок не глядеть в сторону Любы, не думать о ней. Да разве мыслям прикажешь! И только в последнее время неприязнь к девушке поостыла. Ведь столько бед вокруг…
Александра остановила прялку. Посидела неподвижно, стараясь заглушить растущую в сердце тревогу.
«Может, зря Архиповна взбаламутила? Бог даст и обойдется все. Вон ужей рассвело. Тихо как. Что-то и собаки их не брешут. А раньше-то как в это время петухи распевали! Ребятам тошнотиков надо бы натереть, картошек всего десятка два и осталось».
Александра с детства любила утреннюю пору. Все дела у нее в ранние часы ладились. Антон так и называл ее «жаворонком». А теперь ни утро не радовало, ни вечер не успокаивал. День тянулся, как гнилая пряжа — вот-вот разорвется.
Александра вздрогнула, услышав резкий стук калитки, тяжелые шаги, приглушенный немецкий говор. Может, пришли к офицерам, что живут в их доме? Голоса приближались. В дверь сарая с силой саданули ногой. Александра метнулась к двери, сбросила щеколду, отступила, пропуская двух немецких солдат. Первый, белобрысый, с тонкими правильными чертами лица, гортанно выкрикнул:
— Матка! Шнель комендатур!
Другой немец, ткнув стволом винтовки в сторону высунувшихся из-под одеяла детей, сердито добавил:
— Киндер комендатур.
Александру удивило, как спокойно она заговорила:
— Случилось-то что? И детей зачем тащить? Они здесь подождут.
— Шнеллер комендатур! — пронзительно крикнул белобрысый.
Александра заметила, как сжались от крика дети. С нарочитым спокойствием она улыбнулась сыновьям, а белобрысому сурово бросила:
— Одеться нам нужно, чай, проснуться еще не успели.
Он непонимающе смотрел на женщину.
— Да, одеться нам нужно, — сердито повторила она и жестами показала, что будет накидывать на себя и детей одежду. Солдаты о чем-то переговорили, выкрикнули «шнеллер» и вышли.
— Давайте, ребятки, одеваться, — ласково произнесла Александра, сама стоя как вкопанная.
— Мама, а че нас гонят? — шепотом спросил Антошка, поспешно принимаясь натягивать штаны.
— А нас отпустят, — мать погладила его по голове. — Поспрашивают о прачечной.
— Отпустят, — подтвердил Федотка, поправляя помочь на штанах брата. Сам он уже успел надеть брюки. Александра неуверенно стала надевать кофту.
— Ну, теперь пойдемте, деточки, — вздохнула она, не решаясь переступить порог. Федотка первый направился из сарая. Во дворе, прислонившись к изгороди, стоял белобрысый. Он, видно, ждал своего напарника, который куда-то исчез. Александра присела на лавку, мальчики остановились рядом. Задержала взгляд на доме. Каким все же красивым выстроил его Антон! Как старался, отделывая наличники, перила крыльца! Как радовался, что деревянный петушок на гребне крыши так легко и весело смотрит вверх. Антон хотел, чтобы в доме было много простора, и не сделал в нем ни одной перегородки. Оттого и поселилось у нее фрицев больше, чем в других домах. Понатаскали разных приборов. Несмотря на ранний час, у окна уже сидел худой немец в наушниках, хмуря брови, что-то записывал. Александра перевела взгляд на огород, где среди пустых грядок сиротливо возвышались разоренные ульи. Антон любил заниматься пчелами. И как Александре было больно смотреть, когда солдаты рушили их — ломали рамки, отжимая мед в банки, березовыми вениками, заготовленными ею еще прошлым летом, разгоняли пчел, убивали их. Жутко ей было на то глядеть, даже тяжелее, чем видеть, как резали корову Милку, так и не успевшую разрешиться теленочком. Нет, не верилось Александре, что никогда не будет она хозяйкой на своем подворье.
Белобрысый, между тем выкурив сигарету, оправил гимнастерку, ладно облегавшую его суховатую фигуру, кивнул на калитку, видно не желая больше ждать другого конвоира. Александра стала просить жалобным голосом:
— Пусть подождут туточки ребятки.
— Вас?
— Киндер! — Александра замахала рукой за сарай.
На лице немца мелькнула ухмылка, не ответив, толкнул Александру прикладом в спину.
«Если что, детей отпустят, они-то при чем?» — подумала она, нерешительно трогаясь. За воротами Александра взяла детей за руки и неторопливо направилась в сторону бывшего клуба. Немец пошел следом за ними. Антошка жался к матери, Федотка наоборот — шел, чуть отстранясь, по-взрослому угрюмо наклонив голову. Александра сбоку поглядела на него, и сильнее сжалось сердце: вылитый отец, тот тоже в минуты переживаний становился молчаливым и угрюмым. Вдруг Александра вздрогнула от мысли, что, может быть, никогда не увидит Антона. И это испугало ее больше, чем ожидание опасности для себя и детей. Она невольно попридержала шаг, сжав ручонки мальчиков, и растерянно себя спросила:
«Как же так? Обещала дождаться Антона и детей сохранить…»
Федотка будто почувствовал испуг матери, серьезно, пытливо посмотрел ей в глаза. Александра быстро оглянулась на солдата, тот шел неторопливо, безразлично поглядывая вперед.
«Вот как получается, — Александра сильно прикусила губу, — нас ведут на погибель так же, как тащили мою буренку Милку. Та хоть вырывалась, бодалась».
Александра поежилась и огляделась вокруг, как бы ища помощи. Но сельчан на улице еще не было. Александра будто только теперь увидела, какой теплый, ласковый зарождался этот денек. Ветерок чуть трогал листья деревьев. Солнце стояло еще низко, но доверчиво и щедро посылало свои лучи. Вон у колодца какая-то женщина. Это Нина, «эвакуированная». Александра припомнила, что в начале войны эта женщина появилась вместе с другими беженцами. Многие сельчане осуждали ее за смешливость и бойкость. Где теперь та, прежняя Нина? После известия, что ее муж, летчик, погиб в бою, вся деревня ахнула: «Стронулась
Нина с ума». Женщина плакала, смеялась, с криками бегала за каждым пролетающим самолетом. Александра даже удивилась, каким грустным и осмысленным взглядом смотрела на нее сейчас Нина, словно хотела ободрить женщину, но понимала, что слова бессильны…
У клуба, где развевался фашистский флаг, уже стояло несколько немцев.
«Час ранний, а всполошились», — Александра снова тревожно оглянулась на пустынную улицу села. Белобрысый как-то лениво протянул:
— Штеет!
Александра замерла неподалеку от крыльца, дети прильнули к ней. Белобрысый оживленно заговорил с солдатами. Маленький, юркий немец стукнул его по плечу, и оба захохотали. Маленький стал что-то рассказывать, подпрыгивая и размахивая руками, белобрысый громко, по-детски гыкал.
— Ишь ты, веселятся, ироды, — чуть слышно произнесла Александра. Спохватившись, наклонилась к ребятам и зашептала им:
— Будут пытать, выходили ли вчера во двор. Ни-ни, отвечайте, дескать, целый день просидели в сарае.
— Мамань, так я за щавелем бегал и крапивой там обстрекался, — удивленно протянул Антошка.
— Ох, господи! Беда-то мне какая с вами, — простонала Александра.
— Ну и что, пусть ходил за щавелем, а скажешь, не ходил, — сердито шикнул Федотка и дернул брата за рукав.
— Да у меня руки покрапивлены, увидят.
— Спрячь руки! — еще строже приказал
Федотка. — Скажем, ё сарае цельный день проторчали. А руки — в цыпках, от грязи.
Федотка не успел договорить, белобрысый, повернувшись к ним, гаркнул:
— Коммен хир!
— Зовет нас, мамань, — потянул за руку Федотка.
Александра, снова сжав запястье детей, медленно двинулась к крыльцу. Белобрысый что-то забурчал им вслед. Александра споткнулась на первом порожке, дети с двух сторон поддержали ее. У двери она помедлила, тихонько толкнула ее и нерешительно переступила порог, не выпуская рук сыновей.
За большим столом сидел немец с выпуклыми глазами. Перед ним лежал русский букварь в яркой, веселой обложке и кипа каких-то бумаг. Он медленно, вроде нехотя, оторвал взгляд от бумаг, которые изучал, и как-то задумчиво, как бы примериваясь к словам, произнес:
— Киндер данн, — и кивнул рябому солдату, сидевшему у окна. Тот с готовностью приподнялся. Александра дернулась. Она испугалась спокойного тона офицера больше, если бы он начал на нее кричать. Схватила ребят за плечи:
— Пусть будут со мной.
Немец снова задумчиво взглянул на нес, укоризненно качнул головой, как бы досадуя на ее непонимание, вздохнул:
— Дэти придуть потом.
Солдат подошел к мальчикам, грубо толкнул Федотку. Антошка ловко увернулся от него и, спрятавшись за спину матери, судорожно ухватился за ее юбку.
— Не пойду! — в голосе Антошки прозвучала недетская решимость. Александра, загораживая детей, зачастила:
— Они пойдут, пойдут. Подождут, пока мы здесь поговорим. Не для детей разговор. Ребятки, идите, потом вас приведут.
И Александра сама подтолкнула Федотку. Он непонимающе взглянул на мать.
— Иди, иди, сынок, — просила она. — Возьми Антошку за руку, шагайте!
— Пойдем! — твердо скомандовал брату Федотка.
Немец ногой открыл перед ними дверь, ногой ее и закрыл.
Оставшись без детей, Александра сжалась и почувствовала себя такой слабой, беспомощной, что у нее подкосились ноги. Офицер не обращал на нее внимания, озабоченно перебирая на столе бумаги. Вот он поднял голову, пристально посмотрел на женщину и спросил:
— Фамиль, имя?
— Кострина Александра Ильинична, — сглотнув комок, стоявший в горле, произнесла Александра. Ей почудились за стеной странные шорохи, и вся она обратилась в слух. Офицер заметил это и, непонятно на что досадуя, с едкой улыбкой сказал:
— Все нормаль пока, Алексянра Илинишна. Надо благоразумить. Риск плехо, надо жить.
— Надо жить, — беззвучно повторила Александра. Этот немец, сидящий напротив, был понятен и оттого не страшен. Она видела, что он не выспался, что ему почему-то нездоровится и что у него нет против нее большой злобы. Но тем страшнее представлялось Александре все, что он может с нею сделать. Несколько секунд они смотрели друг на друга как бы примериваясь. Наконец офицер, Александра это заметила, заставил себя встряхнуться и заговорил вкрадчиво, но с нескрываемой угрозой:
— Алексяира Илинишна, вы нада сказать, кто убиль наш зольдат?
— Как убили? Кто убил? Я ничего не знаю, — недоуменно произнесла Александра и сама удивилась, как естественно это у нее получилось.
— Вчера в банья.
— Неужели Ганса? Так он все время на глазах был. Как же так?
Взгляд фрица стал скучнее, но вмиг налился тяжестью. Он выкрикнул:
— Знала! Скрывать! — Внятно добавил: — Дура!
Александра увидела, какими холодными стали его глаза. Лютовать начнет. Сжалась.
Но офицер неожиданно болезненно поморщился, встал, подошел к шкафу, достал бутылку, махонький стаканчик, налил в него, одним глотком выпил. Повернулся к Александре уже со спокойным лицом.
— Вчера Германия посылка.
Александра глядела на него настороженно исподлобья.
— Германия есть фрау, цвай киидер. — Офицер улыбнулся лишь кончиками губ. — Киндер мильх, ферштеен?
Александра кивнула:
— Дети любят молоко?
Она хотела поддакнуть, что и ее сыновья тоже любят молоко, но промолчала.
— Йа, мильх.
Офицер налил из бутылки в другой стаканчик и протянул его Александре.
— Тринькен.
Она, отказываясь, мотнула головой, но офицер сунул стаканчик в руки. Приказал:
— Тринькен!
Александра опрокинула стакан в рот и задохнулась. Немец со спокойным любопытством глядел на нее.
— Это есть шнапс. Чей водка крепче?
Александра отвела глаза от полок в шкафу, где стояли разноцветные банки, вздохнула:
— Я по водке пе мастак.
Любопытство в глазах немца исчезло, снова появилось нетерпение:
— Так будем сказать?
У Александры опять обмерло все внутри и еще от водки зажгло в желудке.
— Сказать бы можно, кабы знать что, — произнесла она скучным, обыденным голосом.
Офицер, уже не глядя на нее, пошел к двери, приоткрыл ее. Сразу же появился рябой часовой, выслушал приказание, коротко кинул Александре:
— Комм!
Она молча тронулась.
— Плехо! — крикнул ей в спину офицер.
«Неужель конец?» — подумала Александра,
пробираясь через темные сени. Представила, как под автоматом будут стоять ее малыши. В груди у нее перехватило дыхание. Детки будут очень бояться. Нужно, чтоб им не было так страшно. Александра уже знала, что сейчас, когда увидит своих малышей, тихонько улыбнется им. Она должна, обязательно должна ласково, весело улыбнуться им. И нужно, чтобы они в глазах матери не увидели слез. Да, умирать она будет с улыбкой. И когда вернется Антон, а он обязательно вернется, ему расскажут, как твердо она держалась до конца. Та же Архиповна все и доложит, она все всегда видит и знает.
Александра не заметила, как очутилась в проулке дворика. Здесь и развернуться-то негде. Она недоуменно оглянулась, невольно замедляя шаг. Солдат резко толкнул ее в спину дулом автомата.
«Неужели поведет к Лысому холму? Расстреляет и бросит в овраг? Так они и делают. А детки, мои детки, что станет с ними?»
Возле амбара немец крикнул:
— Штеет! — Распахнул дверь и с силой втолкнул Александру внутрь. Она с размаху упала на охапку сена у стены. Дверь с ржавым визгом захлопнулась.
Стало сумрачно, в нос ударил запах прели.
«Что со мной хотят сделать, где дети?»
За стеной послышались шорохи, детский плач. Александра, встрепенувшись, насторожилась. «Неужели Антошка? Да, конечно, и Федотка ему что-то бормочет. Где же они? В другой половине амбара?»
Александра проворно подползла к стене. Стала ощупывать ее, натыкаясь пальцами на выступы. Неужели нигде нет щели? Хоть самой маленькой, самой крохотной? Александре показалось, что если не найдет ее, зубами прогрызет.
Внизу, в самом углу, указательный палец нырнул в выемку. Припав к щели, Александра позвала:
— Антошечка, сынок, это я, твоя мама, откликнись!
За стеной затихло, а потом раздался резкий, рыдающий крик Антошки:
— Маманя! Где ты, почему не идешь к нам?
Александра с трудом сглотнула рыдание:
— С тобой Федотка?
— Тута он. И ты иди к нам.
Александра, еще плотнее прижавшись к щели губами, громко зашептала:
— Мальчики, родимые! Я чуток погодя приду. Теперича нельзя. Вы лягайте на сено, отдохните. Федотка, расскажи Антошечке сказочку!
— Нет, я хочу, чтобы ты спела песенку, — захныкал Антошка.
Александра растерянно молчала. Антошка всегда засыпал под песню.
— А и ладно, давай попробую спеть.
— Про траву-мураву, — повеселевшим голосом попросил Антошка.
Александра прокашлялась и затянула тихонечко и тоненько, так, что ей показалось — надолго не хватит дыхания. Но песня, не торопясь, струилась. Про лесную сказку, паутинку шелковую, травы, цветы духмяные.
Александра дотянула песню и затаилась. Спит? На той половине было тихо. Она осторожно отстранилась от стены. Теперь Антошка с часок поспит. Федотка, конечно, не спит, но будет сидеть рядышком смирно.
Александра легла на сено, вытянула ноги. Глаза ее наполнились слезами, но она взяла себя в руки. Нет, нельзя сейчас впадать в панику. Жив человек до тех пор, пока не умрет его надежда на спасение. Ведь не убили фашисты сразу, дали время подумать. А вдруг она сможет найти зацепку, чтобы спастись.
Александра стала вспоминать вчерашний день.
Утром она пришла в баню раньше обычного и сразу начала растапливать печку (со Степанидой они договорились делать это через день). Напарница появилась, когда на печи в большом котле булькала вода. Степанида стала помогать замачивать белье и одновременно рассказывала свой сон. Она успела пересказать все его подробности, когда вошел Ганс, высокий, нескладный немец. Наведывался он к женщинам не часто. Было в его грубом, неловко скроенном лице с крупным носом, маленькими глазками, выдвинутыми вперед челюстями что-то подчеркнуто самодовольное. И даже когда улыбался, как бы нехотя размыкая губы, ощущалась в нем жесткая радость от обладания силой. Но нередко нападала на него такая вялость, что он еле двигался. Останавливался посередине комнаты и, расставив ноги, с каким-то сонным вниманием смотрел, как работают женщины. Вчера Ганс пришел хмурый. На женщин даже не взглянул. С силой пнул ногой таз с бельем, хотя тот стоял, как всегда, у окна. Швырнул окурок в бадью с чистой водой. С яростью стал открывать окно и выбил стекло.
— Лютует, — зашептала Степанида, как только немец вышел. — Видно, ему свои всыпали. Вчера учителя засек до полусмерти. Тот в горячке вырвался и убежал. С собаками все лазали по лесу, не нашли. Попало, попало черту сиволапому. А за Петрохина я бы удушила его сама. Ох, дорвалась бы до него. — Она выставила вперед свои маленькие, распаренные руки.
Около полудня Александра видела, как Ганс ходил по двору, что-то бормотал себе под нос, пинал все, что попадалось под ноги. А чуть позже Александра, взглянув в окно, выронила из рук дрова. Неужели это Игнат Долгорук прошел, крадучись, мимо окон? Степанида тоже охнула, перестав выкручивать белье. Обомлевшие женщины вопросительно посмотрели друг на друга.
Наконец Степанида еле слышным шепотом вымолвила:
— Откуда заявился Игнат? Он же ушел со всеми партизанить.
— Тссс! Мы ничего не видели, — одними губами ответила Александра.
Степанида буркнула:
— Сама не дурочка, понимаю, что могут сделать с семьей Игната. Мать парализованная да жена с тремя детьми. Ох, отчаянная у него головушка.
Женщины замолчали, занявшись стиркой, но то и дело тревожно посматривали в окно. Было тихо.
Постирав, собрали белье в таз и вынесли его на улицу. Стали развешивать. Уже темнело, женщины торопились. Ведь еще нужно было прибраться в прачечной.
С уборкой закончили быстро. Степанида поспешно собрала тряпкой воду с пола. Александра сдвинула лавки, сложила тазы и спросила недоуменно:
— Что-то Ганс не заходит с проверкой? Скоро совсем темно будет.
— Аль не видела, какой лютой, не до проверок ему, — ответила Степанида. — Айда домой! Мы свое дело сделали. Завтра опять чуть свет бежать.
«Что же теперь делать? Неужто детей не удастся спасти?» — в который раз спросила себя Александра. Внезапно воровски подумала: «А что, если рассказать об Игнате? Это спасет детей и меня. Почему должны страдать дети?.. А что люди скажут? Антон? Как сама смогу жить? И семья Игната пропадет…»
Раздался стук открываемой щеколды. Александра невольно сжалась. Резко отворилась дверь.
В проеме стоял немец с Любой. Она была босой, щеки пылали. Решительно ступила в амбар. Солдат с шумом захлопнул за нею дверь.
Девушка остановилась посредине амбара. Александре показалось, что Люба смотрит на нее настороженно, как загнанный волчонок. Девушка как-то нетерпеливо поежилась, осмотрела амбар, направилась в угол, присела. И тут же вспомнила, как сидели они здесь с Антоном…
Долго гуляли они в поле, целовались, радовались запаху поспевшей пшеницы. Неожиданно хлынул дождь. Забежали в этот незакрытый амбар на краю деревни. Так же здесь было разбросано на полу сено, пахло прелью. Антон прикрыл дверь и отвернулся.
— Сними свое платье и выжми. Ты насквозь промокла.
Люба начала торопливо стягивать сырое платье, вздрогнула, когда дверь стала медленно открываться.
— Не бойся, — подал голос Антон. — Это ветер. Когда ты со мной, ничего не бойся.
— А я и не боюсь, — улыбнувшись, ответила Люба и, помолчав, добавила: — Никого не боюсь. — С силой выжала платье, встряхнула, стала натягивать. — Все же пока мы прячемся, — как-то раздумчиво сказал Антон.
— Но ведь так будет не всегда.
— Да, мы скоро отсюда уедем.
— Зачем? Нас поймут. Бабы посудачат и угомонятся. А Александра… — Люба запнулась.
— Пацаны мне не простят. Тяжко им будет на батю смотреть. Да и в деревне быстро не забудут, изводить тебя станут.
— Но мы ведь будем вдвоем.
Люба вздрогнула, почувствовав пристальный взгляд Александры. Посмотрела на нее и отвернулась. Впервые видела она эти глаза так близко. Сейчас в них была не ненависть, а боль. Кольнула вина перед этой женщиной. А ведь было время, когда жаловалась, плакалась своей бабушке:
— Отдала я ей свое счастье, бабуля, вернула Антона.
— Вернуть-то вернула, да не всего. Смилостивись ты к ней. Сердце ее покоя не находит. Горемычные вы обе.
Люба опять посмотрела на Александру. Та усмехнулась, тихо произнесла:
— Ну, вот, с глазу на глаз мы теперь оказались. Нам давненько поговорить надобно было. Да все не сводилось. — Тяжело перевела дыхание. — Это правда, люди плели, что вы с бабкой Антона приворожили? Вернуться-то ко мне он вернулся, но присушенный. Я-то, чай, не хуже тебя, а вижу — не мила стала. Твоя бабка все с травками возилась.
— Травки те у бабушки от хворотьбы. Она слова худого ни о ком не скажет зазря. Бабушка ни при чем, у меня ответ спрашивай.
— А и спрошу, — повысила голос Александра, — спрошу, коль ты такая смелая. Была ли ты женой моему Антону? Ну, что молчишь? На грех мастериц нет? Нет, не надо, не отвечай. Все одно не поверю. Думаешь, не слышала, как за моей спиной шептались! Кто жалел, а кто и посмеяться был рад.
«Зачем говорю все? — удивленно спросила себя Александра. — Слова будто сами срываются. Намолчалась. Пришло время высказаться…»
— Ты со мной разговариваешь, Александра, как с воровкой.
Александра помолчала и вдруг с горечью произнесла:
— Обида меня точила. — Вздохнула. — Да и тебе несладко после того жилось. Эх, лиха беда, да душенька млада. Разве могу я напротив судьбы пенять? Ровни мы все и перед счастьем, и перед несчастьем.
Люба встала, подошла к Александре, дрогнувшим голосом сказала:
— Спасибо тебе за разговор. Прости. Виновата я и перед собой…
— Что было, то было. Что теперь каяться. Пролитую воду не соберешь, упущенного не вернешь.
Александра вдруг почувствовала какое-то облегчение, улыбнулась.
— Знаешь, Люба, а может, этого разговора нам и не хватало. Первая брань всегда лучше последней. — Александра запнулась на слове. Как могла она так забыться, ведь стоят они па краю гибели. Детей нужно спасать. Люба присела с нею рядом. Но Александра, казалось, даже забыла о ее присутствии. Страх подступил с новой силой. Она сидела, неподвижно глядя на свои руки, и такая печаль отразилась у нее на лице, что Люба придвинулась к ней ближе.
Неожиданно раздалась музыка. Александра подняла голову. Это у клуба играли немцы. Она хорошо представила, каким ровным рядом они расположились, какие сосредоточенные лица у них были при этом. Знала, что самый крайний, с огромными усами, поддерживая трубу, неловко топырит локоть в сторону. А тот, что в середине, губастый, всегда чересчур раздувает щеки, играя на губной гармошке. Когда Александра первый раз увидела этот оркестр, ее удивило спокойное выражение лиц фрицев, будто выполняли важную работу, а не душу веселили, как Александра привыкла считать службу музыки. И так это было несхоже с тем весельем, что возникало у них на деревенских посиделках. Там и веселье никогда не было похоже на вчерашнее. То разудало-бесшабашное, то игривое, то даже озабоченное. А эти, как ни прислушивалась каждый день, всегда играли одинаково, ровно, усердно, как и сейчас.
Люба подошла к противоположной стене, где светилась расщелина, заглянула в нее:
— Выводят ретиво, а музыка у них какая-то ревучая. Не от души.
— Нет, — Александра мотнула головой: — То душа их просит чем-нибудь ее потешить.
Люба отпрянула от расщелины:
— Какая душа у этих выродков? Душа — это когда… больно.
— Человек любой задумывается. И как он хочет есть и пить, так и душа требует услады, чтоб забыться иль возмутиться. Надо… — Она не договорила, прислушавшись к шороху за стеной. — Кажись, малые мои проснулись. — И лицо Александры скривила такая страдальческая гримаса, что Любе стало не по себе.
Мать не столько услышала, сколько поняла из неясных звуков, что терпение Антошки кончилось.
— Детки-то не емши, не пимши, — сказала Александра, суетливо озираясь, будто ища что-то вокруг.
За стеной вскрикнул Антошка. Александра вздрогнула, кинулась к щели. Антошка плакал. Почему не уговаривал его Федотка? Значит, мальчикам совсем худо. Александра отстранилась от щели, беззвучно зарыдала.
Внезапно Люба бросилась к двери и с силой в нее заколошматила. Дверь распахнулась. Рябой немец схватил девушку за руку, что-то грубо выкрикнул. Люба тут же зачастила:
— Я не могу здесь быть, не могу сидеть с этой бешеной. Она не в себе. Вон как воет! Волосы дыбом поднимаются. Уберите ее к детям или детей подсадите к ней.
Солдат мрачно взглянул на Александру, зашедшуюся в рыданиях. На лице его отразилось подобие вопроса. А Люба все настойчивее требовала, чтобы детей посадили вместе с матерью. Охранник толкнул девушку так, что она с трудом удержалась на ногах. Захлопнул дверь, но через минуту снова распахнул и втолкнул в амбар мальчиков. Они бросились к матери.
— Соколики мои, — плакала, обнимая сыновей, Александра.
Люба снова села в угол.
Между тем дети оживились. Антошка начал рассказывать о пауках, которых видел в той половине амбара. Потом вместе с Федоткой начал мастерить из соломы фигурки.
Внезапно дверная щеколда опять зашевелилась. Женщины насторожились, затаились дети.
В проеме двери появилась испуганная Степанида с двумя внучками, прильнувшими к ней с обеих сторон. Сзади нависал часовой. Степанида будто не решалась переступить порог амбара. Охранник что-то пробормотал, толкнул ее и прихлопнул дверь. Лязгнул засов.
Степанида так и осталась стоять с девочками у двери. Вид у нее и у внучек был такой, словно, зайдя на минутку, они раздумывали, а стоит ли оставаться. Первой заговорила Степанида каким-то чужим, хрипловатым голосом:
— Разрешите, люди добрые, к вам присоседиться. Да, скромнехонько вы туточки устроились. Скучливо вам, знать, здесь. Для веселья меня прислали.
Слова эти никак не вязались со скорбным выражением на ее лице. Она растерянно оглянулась назад, как бы проверяя, закрыта ли дверь, добавила:
— Темновато чтой-то у вас здесь.
— Что-то ты не резво шла, — подала голос Александра.
— Недоспеть хужее, чем переспеть. — Голос Степаниды дрогнул. — Вот как мы, стало быть, сплотились. — Девчушки испуганно взглянули на бабушку, и она заговорила нарочито спокойно — Посидим здесь, отдохнем.
Медленно, будто нащупывая пол, Степанида прошла к Александре. Девочки не отставали от нее ни на шаг. И когда бабушка грузно опустилась на солому, они сели рядом, снова припав к ней с обеих сторон. К ним подошел Антошка. Он легонько дернул одну за белокурую косичку. Та даже не оглянулась. А бабушка ласково погладила ее по голове. Антошка растерянно посмотрел на мать, но и она словно не заметила его шалости. Мальчик досадливо мотнул головой и пошел к Федотке. Они о чем-то зашептались.
Братья разговаривали все более оживленно. Взрослые не обращали на детей никакого внимания, молча думая каждая о своем. Девочки, немного освоившись, стали с интересом поглядывать в сторону мальчиков. Федотка показал им соломенную куклу. Девочки посмотрели друг на друга и одинаково кивнули белокурыми головками. Они нерешительно поднялись, подошли к мальчикам, крепко держась за руки. Федотка протянул младшей куклу. Та осторожно взяла ее, отдала сестренке. Вдвоем стали осматривать, ощупывать самоделку.
Затем дети сели на пол. Антошка вырвал у девочек куклу и, спрятав ее за спину, стал строить рожицы. Но девочки не обиделись, а весело захихикали. Антошку это ободрило, и он с веселой деловитостью предложил:
— Давайте играть в прятки.
Девочки одновременно обернулись к бабушке, чтобы спросить ее позволения на шумную игру. Но та даже не взглянула на детей.
Снова резко лязгнула щеколда. Все разом оглянулись на распахнувшуюся дверь. Вошли двое немцев. Часовой остался за порогом. Офицер, тот что расспрашивал Александру, прошел вперед, на середину амбара. Расставив ноги, он молча постоял, вглядываясь в полумрак. Приказал:
— Встать!
Александра со Степанидой поспешно вскочили. Люба поднялась нехотя.
— Слюшать! — офицер выдержал паузу, остановив взгляд на Любе. — Вы все упрямы на свою погибель. Даю вам подумать айне ночь. — Он поднял вверх указательный палец. — Завтря утро доложить, кто шлиссен зольдатен. Если нет — все погибнуть.
Офицер снова выдержал паузу. Повернувшись на каблуке, пошел к выходу.
Когда дверь захлопнулась, никто не пошевельнулся, даже дети. Они испуганно смотрели на взрослых. Первая заговорила Степанида:
— Вы давненько здесь сидите. Чай, изголодались. Я прихватила маленько. Давайте позастольничайте, ребятки.
Она достала из кармана маленький узелок, развернула тряпицу, в которой оказалось несколько махоньких картофелин, положила их на солому.
— Вот у нас и скатерка. Тут сорно, зато поедите проворно.
Мальчики и девочки присели вокруг Степаниды. Она продолжала ласково приговаривать, но в ее голосе прорывались тревожные нотки. Тогда девочки вскидывали белокурые головки и смотрели на бабушку.
— Ну, вот и ладненько, засветло повечеряли, а теперь спать.
— Спать? — испуганно переспросила Александра, но тут же спохватилась, метнув быстрый взгляд в сторону детей. — Конечно, укладываться пора. Скоро уже и темнеть начнет.
— Я не хочу спать, я завтра уже спал, — захныкал Антошка.
— Ну, вот еще, — намеренно ворчливо произнесла Александра. — Я сейчас постелю соломушки помягче, и будем баиньки. Ну-ка, сыночек, выбери себе местечко.
Степанида тоже занялась приготовлением постели для внучек.
— Ложитесь, детушки, — с необычной лаской в голосе позвала Александра.
Антошка подошел к ней вплотную, потерся щекой о ее волосы, потом крепко обнял мать за шею, доверчиво залопотал:
— Маманя, а ты будешь с нами баиньки? Не уйдешь от нас ночью? Давай приснимся друг другу!
— Конечно, мой родной.
— Маманя, а что будет завтра?
Александра живо обернулась на Федоткины слова и выдавила из себя улыбку.
— Завтра мы пойдем домой.
— Совсем? — недоверчиво спросил Федотка, пытливо глядя на мать.
Она отвела глаза.
— Совсем, совсем пойдем домой! — обрадованно подхватил Антошка. И сразу охотно лег на приготовленную постель, потянув за рукав и брата, чтобы и тот ложился.
Степанида укладывала девочек, снова ставших тихими.
Когда дети легли, Александра со Степанидой вытянулись рядом, и только Люба осталась сидеть в прежней позе, обхватив колени.
Прошло, наверное, около часа. Дети уже спали. Дыхание у них было ровное, легкое. Александра первой пошевелилась, тихонько приподнялась. В амбаре уже было совсем темно.
— Степанида, — сдавленно позвала Александра, — спишь?
— Какой там! — Степанида села. — Ну, что ж, девоньки, давайте думать. Пособить советом некому.
Степанида хлопнула руками по коленям:
— Что же это такое, в какую пропасть кинул нас Игнат. За его месть мы не ответчики. Спасаться надо. Дети у нас.
— Можь, что втроем придумаем. Не должно, чтоб спасения нам не было, — подхватила Александра.
— Игнат, Игнат…
— Тише ты, Степанида, аль не знаешь, что и стены слышат.
— Чего уж теперь, коли пропали наши головы!
— От судьбы не сбежишь.
— И это говоришь ты, Александра? Погляди на своих чадушек! Кто же за них заступится? Ты — мать и обязанность свою должна блюсти.
— Ой, что говоришь ты, Степанида…
— А то говорю, что о детях думать надобно.
— Что будет, то будет, — подала голос Люба.
— А ты не встревай! Были б у тебя дети, не так заговорила бы. Сама еще неразумная.
— А глупые да неразумные чаще правду говорят, — задумчиво произнесла Александра.
Степанида нетерпеливо перебила:
— Что правда? Все минется, и правды не останется. А вы, смотрю, уже и задушевными подругами стали, а вроде еще вчера супротивницами были, друг на друга не глядели.
— Эх, Степанида, — протянула Александра.
Все затихли. Наконец Люба нарушила молчание:
— Всем погибать разом — нужды нет. Жребий нам нужно бросить.
— Батюшки, родимые, что ты говоришь? — испуганно сказала Степанида. — И что, один за всех?
Люба тихо ответила:
— Выходит, так.
Степанида внезапно заплакала:
— Девоньки, милые, простите меня, старую. Запуталась не за себя. Мне-то что, стара стала, уже кисель не по зубам. И знаю, смерть вот-вот постучится. Да внучек жалко, одни они, беззащитные.
Все молчали.
— Не думайте обо мне ничего плохого. Кабы продалась, не сидела бы с вами.
Александра остановила ее:
— Ладно, Степанида, каяться. Не ты одна страх ведаешь.
— Только в жребии и есть нам спасение, — опять начала Люба. — Вот выпадет мне часом, так я на себя все и приму. Мне что, детей нет.
— Так будут. Молодая еще, красивая, — вздохнула Степанида. Вдруг заговорила каким-то просветленным голосом — А знаете, я свою жизнь неплохо прожила. Митрич меня любил и холил. Дети у меня ладные, красивые, добрые. Дай бог, вернулись бы с войны. Вот только сейчас все перевернулось. Ты-то, Люба, отчего молчишь? Нам всем выговориться нужно. И все свои обиды простить и забыть.
Люба пошевелилась и тихонько подала голос:
— Я обиды ни на кого не имею. А коль сама кого обидела, не со зла то.
— Вот-вот, все говори, Любаша, как на исповеди.
— А может, я вправду что не так делала? — пи к кому не обращаясь, спросила Люба.
— Жизнь прожить — не поле пройти, — поспешно вставила Степанида, вытирая фартуком глаза. — Да, девоньки, не миновать кому-то смерти. А ты, Люба, хоть и молода, а по уму все рассудила. Должен кто-то один взять на себя вину. Жребий так жребий. Просто кого-то подставить нам будет нелегко. Каждого за жизнь держит что-то больше других. Люба — самая молодая, жизни не раскушала. У нас — дети.
— А сейчас и давайте тянуть жребий, только разыщу три хороших соломинки. — Люба закопошилась в соломе. — Кто вытащит короткую соломинку, тот примет смерть. Чему быть, того не миновать.
Люба встала, подошла к женщинам. Присев рядом, положила соломинки в подол и стала обламывать у них концы. Долго выравнивала, потом одну переломила пополам.
— Вот и готово, куда их положить?
Александра протянула картуз Федотки.
Люба осторожно опустила на дно соломинки. Стало так тихо, что только было слышно дыхание детей.
— Стойте, — заговорила взволнованно Степанида. — Сейчас еще судьба нашинская неизвестная. Все мы одной бедой связаны. Что бы ни случилось с нами, будем память друг о друге блюсти светлую. А о том, кто пострадает за другого, помнить станем, как о герое. А теперь с богом, я буду тащить первой, по старшинству.
Степанида засунула руку в картуз и сразу же вытащила соломинку, долго ее ощупывала и приглядывалась. Наконец вымолвила:
— Длинная.
— А теперь я буду тянуть, — поспешно сказала Люба. Вытащив соломинку, она, не успев взглянуть на нее, выкрикнула:
— Короткая.
— Ох, — простонала Степанида. — Любонька ты наша…
— У меня короткая, — уже обмякшим голосом повторила Люба. — У меня.
— «Ну, вот, получилось, как решилась, — с лихорадочностью, словно торопясь додумать какую-то оборванную мысль, сказала себе Люба. — Степанида вон как боится за детей. Александра тоже замирает. Кому как не мне решаться? Но что это я уговариваю себя? Все сказано, все сделано».
— Как же я ответ буду держать перед Антоном за тебя? — тихо спросила Александра. — Мы ведь обе с тобой любим Антона, а сердце его к тебе тянулось.
— Я уже винилась перед тобой, — ответила Люба тоже тихо. — Любила я Антона, но никогда не отводила его от семьи. В этом был мой главный грех и радость моя тяжкая.
Вмешалась Степанида:
— Антон любил вас двоих. Тебя, Александра, как мать своих детей. Дорога ему была и ты, Люба. А я, девочка, тебе хочу покаяться. Давно это было, но до сих пор на душе грех лежит. В девках я тогда была, с бабушкой твоей дружила, хоть она и старше меня. В то время Маланья красавицей была, обхождением ласкова. Из-за нее отвернулся от меня тот, к кому сердце мое потянулось. Зло я на нее за это затаила. А тут стали поговаривать на селе, что Маланья колдовской силой наделена. И я сплетням этим подпевала, да что ж теперь утаивать, все делала, чтоб сплетни те разжечь. А тут у нас сушь, неурожай. Вот и стали за это вину на Маланью валить, из села выгонять ее… Ушла она, а через год признали ее в нищенке, что на большаке с протянутой рукой ходила. И красота ее выгорела. Здесь совесть меня стала заедать. На общем сходе упросила всех возвернуть нашу Маланью. На том и порешили. Разыскали, избу помогли поставить. Стало быть, бабушка твоя из-за меня горе помыкала. Я вот перед нею все покаяться не решаюсь.
— Знаю про то из ее рассказов, — медленно стала говорить Люба. — Но зла она на то ни на кого не держит. Чего об этом теперь речь вести? Я вот о другом хочу спросить. Степанида, как думаешь, ты больше прожила, придет Победа?
Степанида сразу отозвалась каким-то торжественным голосом:
— Поганые па землю нашу навалились. В крови наша матушка-Русь, да погибели ее не дождутся. Велика Россия, могуча.
— А мне вот что жалко, — вдруг живо сказала Люба, — поездить не удалось, морс бы посмотреть. Мама много о нем рассказывала, пришлось ей там побывать, а мне вот нет.
— Ну, море и я не видала, — вставила задумчиво Степанида.
— На самолете еще хотелось бы полетать… Деревню-то свою люблю. Жить, наверное, без пес не смогла бы. А все ж обидно, что никуда не выезжала. А сколько городов есть, больших, красивых!
— Я тоже далеко, не выезжала, — сказала Александра.
— Ничего, — подавила вздох Люба. — Я в нашем селе все любила. И лес, особенно летом. Зайдешь в чащу, столько разных запахов, и каждый будто сам по себе, другой не глушит.
— А я с молодости лес осенью любила. Грибы собирать, — подхватила Степанида. — Найдешь подберезовичек, так ему, сердешному, радуешься, будто удаче нежданной.
— Бабоньки, я вот что подумала, — подала голос Александра. — Мало мы хорошей, мирной жизни радовались. В работе, в заботах крутились. Некогда и пожить было.
Она замолчала, и никто не решался больше заговорить. Александра чувствовала, что должна сказать что-то необычное. Но разве можно все в словах выразить?
— Господи, что же делать? — вымолвила наконец Степанида.
— А ничего fie делать, утра ждать, ночная кукушка дневную перекукует, — обыденным голосом произнесла Люба, в то время как в душе у нее было смятение:
«Неужто ничего нельзя изменить? И это все? Сарай на запоре, даже звезд не увидишь в последнюю почку. А впереди одна пустота…»
— Давайте тихонечко споем, — предложила Степанида. — Голос у тебя, Люба, богатый. Всем природа одарила девоньку нашу. А вдруг энтот офицер только попугал нас, а завтра выпустят, прачечной заниматься заставят.
Люба слабо поддержала:
— Можно и спеть, а потом спать ляжем, чтоб завтра голова была свежая,
легкая. Мне еще нужно подумать, как с офицером говорить. Его, поди, провести трудно. Так что же петь будем? Давайте про то, как счастье с горюшком спорило. Я зачинать буду, а вы речитатив поведете.
И сразу запела:
«Ах ты, горе-горюшко, горе наше тяжкое,
Почему кручинушка у тебя сестра…»
Сколько затаенной печали, усталости, смирения услышала в этой знакомой и неожиданно новой песне Александра. Неужели эта девочка смогла так глубоко понять, почувствовать всю тяжесть горя? Да ведь сколько нужно испытать, потерять, чтобы с таким неподдельным чувством рассказать об этом безыскусными словами песни!
Александра со Степанидой тихонечко вступили речитативом, упрашивая горе горькое снизойти до милости. Люба ласковыми, чистыми интонациями перебила эти мольбы и вполголоса радостно запела о победе, неистребимости счастья. Александра замерла, вслушиваясь в этот ликующий голос.
Последний куплет о том, что горе не выдержало, униженно попросило пощады и примирения у счастья, Люба пропела на одном дыхании, со звенящей твердостью в каждом слове.
— Вот и все! — с тем же радостным облегчением, что звучало в песне, произнесла девушка.
Степанида шумно стала сморкаться в фартук. А Александра в порыве какого-то непонятного ей самой чувства благодарности и умиления схватила теплую, мягкую руку Любы и прижала к своей щеке. Слезы вот-вот готовы были вырваться у нее из глаз. Но Александра пересилила себя и, отпуская руку девушки, ласково попросила ее:
— Скажи мне, Любонька, что передать Антону? Я сберегу для него все, до словечка. Не таись, не стесняйся, дорогой ты теперь для нас человек.
Люба на минуту задумалась. Александре даже показалось, что слышит она, как гулко, встревоженно бьется сердце девушки.
Но заговорила Люба спокойно, уверенно:
— Все, что нужно было, я сама сказала Антону. Ну, а последние мои слова для него такие: пусть никогда не грустит, вспоминая меня, так же, как я, что бы ни случилось, всегда бы с радостью вспоминала о нем. — И тут же безо всякого перехода усталым голосом добавила: — А теперь спать! Мне еще нужно многое передумать да и с мыслями собраться.
— Дай тебе, господи, силы, — со стоном произнесла Александра.
— Ах, еще, — спохватилась Люба, — давайте сейчас попрощаемся.
Степанида, уже не в силах сдерживать рыдания, зашлась в плаче. Взяв себя в руки, хриплым голосом выговорила:
— Пусть и в последние часы мысли твои будут легкими, спокойными. Мы тебя, золотая наша, за то, что деток наших спасла, никогда не забудем. Святая ты наша, молиться на тебя всю жизнь будем, добрую славу посеем.
Люба улыбнулась.
— Вы просто помяните меня хорошей песней. Петь люблю, радоваться, только слез не надо. И слов больше никаких не нужно, эти хочу сохранить в себе. — И она направилась в свой темный угол.
Степанида с тихим кряхтением стала укладываться рядом с внучками. Бесшумно легла Александра. Она стала думать об Антоне, что делала всегда в трудные для себя минуты. И как только представила его лицо, с такой доброй, как ни у кого, улыбкой, спокойствие разлилось по ее телу. Внезапно, на какое-то мгновение снова вспыхнуло чувство неприязни к Любе. Ведь опять, опять должна получить из се рук жертву. Стало быть, Люба сильнее ее, что-то дано ей больше. Не зря Антон любил девушку, теперь еще больше любить будет. Александра прижалась к детям, обняла их,
Теплые тельца сыновей как бы остудили ее. Александра ужаснулась несправедливости своих мыслей. За что сейчас-то винить Любу…
«Почему, почему мне надобно умирать? И не будет ни сегодня, пи завтра. Пустота. Бабуленька останется одна». Вытянувшись па соломе, Люба почувствовала во всем теле такую тяжесть, что, казалось, не могла даже пошевелиться. Она стала думать о том, как несправедливо было к бабушке людское мнение. Но эти мысли стали в ней как бы посторонними. Ей хотелось прислушаться к чему-то важному, что ощущалось в душе. Но это ускользало, растекалось на маленькие ручейки непонятных чувств. Страх ли то всплывал, обида, что не доведется больше солнышку радоваться. Иль тягостная забота о бабушке? Любе казалось, что сейчас бы она не смогла ни с кем и ни о чем говорить. Слова принижали бы то необычное, последнее, к чему себя стала готовить.
«Я готова ко всему, — сказала она себе, но все еще не верила своей решимости. — Я завтра умру, а мне кажется, сердце уже сейчас бьется тише. И ладно, не будет так страшно. Да, мне что-то напоследок хотелось… Поговорить с бабулей… Ах, да, подумать об Антоне. Пет, это потом, в последние минуты…»
Внезапно какой-то посторонний звук заставил ее насторожиться. Она прислушалась, где-то вдали завел свои трели соловей.
«Ну, вот, весточку подает. Как радостно поет! Птица вольная. Летит, куда хочет, поет от охоты… Я умру, а так же счастливо станут заливаться соловьи, сады цвести… Горе СО счастьем спорить. И так всегда. А может, и правда, как бабушка говорит: умереть едино, что заново родиться. Нет! Я не умру совсем!»
Люба с жадностью стала прислушиваться к новым чувствам, рождавшимся в душе.
Когда увели Любу, все стояли некоторое время не двигаясь, даже дети.
Степанида первой подала голос:
— Ох, лишеньки, что же будет?
Она долго и горестно качала головой, потом кряхтя стала па колени и начала страстно молиться.
Александра продолжала пребывать в оцепенении, уставя затуманенный взгляд в просвет полураскрытой двери. Антошка потянул ее за подол юбки:
— Маманя, ты че?
Она молчала. Антошка захныкал. И Александра чуть слышно выдавила:
— Не плачь.
Степанида встала с колен, подошла к Александре, взяла ее за плечи:
— Шура, не пугай детей. Че, каменная? Возьми себя в руки. Дети боятся.
— Маманя!
— Туточки я, туточки, — отстраненным голосом произнесла Александра, болезненно сморщив лицо.
— Нас выпустят? — спросил плаксиво Антошка.
Александра скорбно на него посмотрела, дрожащей рукой погладила по голове. Беззвучно произнесла:
— Выпустят.
— А где мой картуз?
Александра как-то испуганно оглянулась вокруг. Картуз лежал у ее ног. Она взяла его осторожно, двумя руками. Заметив на дне соломинку, горько усмехнулась. И вдруг изумленно спросила Степаниду:
— Где твоя соломинка?
— Да вот она. — Степанида поспешно вытащила из кармана фартука соломинку.
— Батюшки! Моя ведь короткая! — вскрикнула Александра.
Степанида заполошно оглянулась на дверь.
— Тише ты, голова, услышат! Вот грех с тобой.
Но Александра, пе обращая на нее внимания, залилась в громком плаче.
— Да перестань ты, горе! — сдавленно зашептала Степанида, сильно затормошила Александру. — Ей теперя ничем нельзя помочь, о детях подумай, нас сгубишь всех.
Александра стала плакать беззвучно, давясь рыданиями.
В амбар просунул голову часовой и крикнул:
— Коммен нах хауз!
— Домой? — боязливо переспросила Степанида.
Солдат скрылся.
— Ну, вот, Александра, домой отпущают. Че ждешь-то? Ну, как знаешь.
Подхватив внучек, Степанида метнулась к выходу.
…Александра очнулась посередине деревенской улицы, как раз возле колодца, где на журавле тихонько раскачивалась цепь. Антошка и Федотка бережно вели за руки мать к дому. Антошка дернул се за подол, тихо сказал:
— Посмотри, мамань, какое большое солнце нынче.
Александра приостановилась и каким-то жадным взглядом обвела все вокруг. И пустынную деревню с затаенными, выжидающими глазками давно не беленных, словно пугливо жмущихся друг к другу домков. И далекий, заманчиво зеленеющий лес на взгорке. И огромное, по такое легкое, прозрачное до самой глубины небо. И в душе Александры шевельнулось предчувствие большой, не замутненной горем радости, которую и она сможет дарить другим. Из крайнего дома вышли два высоких фашиста, мельком взглянули на женщину, стоявшую с детьми у колодца, лениво переговариваясь, уверенно зашагали вдоль улицы, тяжело погружая ноги в придорожную пыль. Александра вздохнула. Надо было продолжать жить.
Переполох
От невестки Евдокия не получала писем несколько лет. На нее не обижалась. Лиза сама говорила:
— С глазу на глаз вести беседу я охотница, а в письме рука деревенеет. Пишу, ежели на то надобность особая.
И в этот раз, когда Евдокия вытащила из ящика письмо и сразу узнала почерк невестки, встревожилась. Неужели у брата снова с желудком плохо?
Тут же, на лестничной площадке, опустив сумку на подоконник, Евдокия стала читать письмо. Лиза кланялась и посылала приветы от «сродственников». О брате написала коротко:
«Миша все на тракторе работает. На заработки грех обижаться. Но года-то какие! Устроился бы сторожем или конюхом. Куда там! Но ты его знаешь, много работы на себя всегда берет. За то его начальство любит, да сам он себя не очень…»
И про себя Лиза вставила несколько слов. Знать, и до нее, неугомонной, старость достучалась, раз пожаловалась на недомогания. В конце послания Лиза известила, что картошка в этом году уродилась отменная, одна к одной, и при варке получается рассыпчатая, вкусная. Закончила письмо, как и начала, многословными пожеланиями Евдокии всяческих благ.
Да еще приписка на полях была крупными, размашистыми буквами:
«Может, скоро в гости выберусь, про все новости тогда и расскажу».
Евдокию письмо озадачило. Тревожного невестка ничего не сообщала. Вот только приехать собиралась, хотя па нес больше было похоже нагрянуть без писем.
До вечера Евдокия несколько раз перечитывала письмо, пока не заучила его наизусть.
Думала о нем и на другой день. Что-то подсказывало — неспроста письмо прислано. И как в воду глядела. Недели не прошло, принесли телеграмму:
«Приеду воскресенье Лиза».
А до воскресенья два денька всего и осталось…
В воскресенье Евдокия встала пораньше. К полудню у нее уже борщ на плитке парился, аромат от пирогов по комнате стлался. Громко затрезвонил звонок. С ним случалось: то чуть бренчал, то па всю комнату заливался. Евдокия о фартук руки мазанула и к двери метнулась. Невестку увидела — к объятиям приготовилась, но не ожидала, что та сама к ней бросится: повисла на плечах — и ну всхлипывать. И Евдокия не удержалась, зашмыгала носом: шесть лет не виделись! Успокоились быстро.
— Лизонька, душенька, вспомнила все ж обо мне! Дорожка вокруг да около петляла, а ко мне в дом привела.
— Мы, чай, не десятая вода на киселе, — вытирая глаза концом своего цветастого платка, ответила невестка, но вдруг спохватилась — Я не одна. Где это моя девонька? Танюша, иди сюда!
Увидев высокую, большеглазую девушку, Евдокия всплеснула руками:
— Неужели Татьяна? Была росточек, а стала цветочек. Да какой! Розочка!
Молодая гостья робко улыбнулась. С любопытством взглянула на Евдокию. Это была дочь Лизиной сестры. Евдокия видела ее совсем девчонкой, угловатой, коротко, под мальчишку стриженной. А сейчас какой стала! Губы — маков цвет, румянец полыхает во все щеки, черные, с отливом, волосы, глаза — большие, ярко-голубые.
«На мать смахивает, та в молодости ох как цвела», — отметила Евдокия и вслух сказала:
— Глазам не верю! Ты ли была девчонкой сопливой? Танюша, поди, не помнишь, как просила меня «помудриться», пудру ты так обзывала. Вой как расцвела! От кавалеров, знать, отбоя нет. Жених-то у тебя есть?
Таня недовольно сморщила маленький носик и почему-то настороженно посмотрела на Евдокию. Лиза прервала расспросы:
— И разговорам черед придет. Давайте-ка вещи пока распакуем.
Лиза поспешно стала развязывать бечевку на бауле и вытаскивать из него свертки, выкладывая их прямо па пол в прихожей.
— Все у меня свеженькое, свойское. И творожок, и маслице, и сметанка, не то что магазинное. А яйцы в этом году у нас мелковаты. Цыплят-то я у Казанетихи взяла, да видно, она мне похуже подсунула, ушлая бабка! Вот и картошка.
— Ну куда вы нагрузились? Я здесь одна.
Много мне нужно? — подбирая банки, свертки,
качала головой Евдокия.
— Как знать, — со вздохом сказала Лиза. — Да что нам было тащить! До шоссе Миша проводил, потом автобус вез. Мы, деревенские, к тяжестям привычные. Это в городе все разнеживаются. Да нет, и мы уже не те в деревне, тоже подавай удобства!
«Лиза не та стала. В словах, глазах, нет прежней строптивости. Улыбается и то несмело. И с тела спала, будто обмякла вся. Время, конечно, молодых только красит», — убирая свертки в холодильник, думала Евдокия.
За стол сели не скоро. Прежде хозяйка гостей «с дороги, с устатку» в ванне выкупаться отправила, а сама стала накрывать на стол.
Зашла Лиза, распаренная, с аккуратно зачесанными в пучок седоватыми волосами.
— Ты, Дуся, не очень торопись, успеем нагостеваться. Не на час заехали.
— Простынет картошка, вкус будет не тот. Татьяну торопи.
Когда появилась племянница (так называла ее Евдокия) с огненным румянцем на щеках, волосами, спадающими волнами на плечи, Евдокия залюбовалась ею:
— Писаная красавица! Что бровки, что губки, — по хозяйка осеклась, заметив, что Татьяне почему-то не нравятся ее слова. Евдокия низко поклонилась гостям:
— Не побрезгуйте, пожалуйте за стол. Чем богата, тем и рада.
Хозяйка потчевала гостей по всем законам гостеприимства, которые были приняты среди родственников. Настойчиво предлагала попробовать то одно блюдо, то другое; не дожидаясь похвалы, сама расхваливала угощение. И беседу старалась направить на гладкую, укатанную дорожку, чтобы, пока едят, тревожных воспоминаний не коснуться.
Лиза ела неторопливо, но охотно. Пробовала все, что выставила хозяйка на стол. Особенно невестке понравились пирожки с яблоками.
— Тесто ты на ночь замешивала? Сдобы много. А помнишь, Дусенька, как хлебы по субботам пекли! С травами! Я-то лет десять как хлеб не ставила. Магазинным обходимся.
— А иной и магазинный ничего. В бородинский хлеб травку добавляют.
— Не то!
— У тебя, Лиза, лучше всех из деревни хлебы получались.
— Старалась. И водицу из Гурьевского родника брала, и замес выдерживала. — Лиза оживилась, но, взглянув на Татьяну, замолкла. Та сидела неестественно прямо, положив локти на стол, и снисходительно улыбалась. Ела она совсем мало, молча.
Евдокия не могла понять, понравилась ли гостям ее квартира. Лиза то внимательно рассматривала плюшевый ковер на диване и занавески на дверях, то приглядывалась к ковру у кровати. На него стоило полюбоваться. Рисунок замысловатый, яркий, как будто ручной работы.
А Татьяна то в зеркало шифоньера загляделась, то обои стала рассматривать. Да, конечно, темноваты они и рисунок мелкий.
— Вот живу одна, и руки до ремонта не доходят. — Евдокия вздохнула. — Да пока особую красоту не для кого наводить.
— Ремонт, что пожар, сил отнимает много, — откликнулась Лиза. — Ты не подкладывай больше картошки, не могу уже есть. Стол у хозяйки хорош, хозяйка и того лучше, да всему есть предел.
Евдокия кивнула, придвинулась поближе к Лизе и приступила наконец к расспросам:
— Братец как поживает? Ни привета ни ответа от него пет. А ведь не за тридевять земель обитает. Мог бы навестить сестру, хотя бы с вами заодно.
— Всему свой черед. Дом без хозяина не оставишь. А он о тебе часто заикается: сеструха, говорит, как перебралась в город, отдалилась от родственников, негоже это.
Не спеша стали судить-рядить о родных. Таня совсем заскучала. Подперев руками склоненную голову, она то и дело позевывала.
— Ой, совсем заморили нашу девоньку! — сказала Евдокия. — Нам, старухам, только дай лясы поточить. Ну-ка, Танюша, иди в спальню, ложись на кровать, отдыхай, деточка.
— И правда, зачем тебе с нами киснуть? — поддержала Лиза. — Намаялась ведь в дороге.
Таня скованно потянулась, смущенно взглянула на Евдокию, поднялась:
— Ив самом деле что-то устала. — Зевнув, добавила — Я дома ложусь рано.
Евдокия улыбнулась:
— Не забудь загадать: на новом месте приснись жених невесте.
Оставшись одни, женщины немного помолчали.
— Расскажи, Евдокия, как служит твой сынок, что пишет? Нелегко, поди, ему в армии, худющий всегда был, одни мослы.
Хозяйка сразу оживилась, отставила тарелки, которые принялась собирать.
— Ездила я к Косте в прошлом году. Не узнаешь его, такой статный, видный. Мать обогнал на две головы. Как бы сейчас на него отец порадовался… Не удалось ему взрослого сынка увидеть. Поздно решились на ребенка. То квартиры дожидались, то недостатков боялись. Как обидно! Все теперь нужное есть, а Митрича нет. — Евдокия сморгнула слезы. Закусив губу, на минуту замолчала. И снова заговорила оживленно: — По морям все мотают сынка. Ох, как писем его жду, как будто дождика в жаркий день. Костик у меня — отличник учебы.
— А он всегда малый сметливый был, — вставила Лиза.
— Да, ничего не скажешь, сынок у меня золотой. Не зря в строгости воспитывали, от баловства отучали. Не то что у некоторых, ребенок от горшка два вершка, а ему каких только нарядов не напасают! Я латки на брюки не считала зазорным ему ставить. И по дому всегда заставляла помогать. Другие только целыми днями футболы и хоккей гоняют, а мой малый и в магазин ходил, и полы мыл, стирать даже помогал… Да и авторитет отца всегда блюла. Он тоже не разрешал поперек моего слова пойти. А теперь мне будет на старости отрада. — Вздохнув, покачала головой. — И все же душа за него не на месте. Ныне молодежь погляди какая шустрая! А мой — теленок, ни смелости, ни нахальства. У него и девушки до сих пор нет. А потом нарвется на какую-нибудь, она его быстро в оборот возьмет.
— Нелегко детки даются. Кохает, пестует родитель, радости, подмоги на старости ждет, а одну маету получает. Да-да, так уж ведется, знаю про то, хоть и нет у меня детей.
И вдруг Лиза сморщила лоб, скривила губы и заплакала, как-то беспомощно, по-детски размазывая слезы кулаками. И так это было непохоже на нее, что Евдокии стало не по себе.
— Одна маета, — громко всхлипнула Лиза.
— Что хоть у вас там приключилось? — выдохнула Евдокия. — Ну, не томи душу, откройся.
— В моей семье — порядок, — обрывая рыдания, с тяжелым вздохом сказала Лиза. — А у сестры горе такое, что она и пить, и есть отказывается.
Лиза замолчала, пытливо глядя на Евдокию, и, выдержав паузу, медленно выговорила:
— Танюша-то наша затяжелела.
— Чего? — не поняла Евдокия.
— А того, спорчена девка, ребенка скоро принесет, — досадуя, что золовка не понимает, о чем речь, выговорила четко Лиза.
— Да как же так? Таня совсем зеленая. — Хозяйка недоверчиво качнула головой.
— В нынешние времена все быстро делается, и возраст не помеха.
Евдокия помолчала. Кашлянув, нетвердо начала:
— А я смотрю на девоньку и радуюсь. Какая вся, будто яблочко наливное. А оцо вон какое дело, — настороженно взглянула на гостью.
— Беда! — Лиза опять стала всхлипывать. — Как же мать берегла ее, свою единственную, сил на нес не жалела, денег. Все старалась одеть попригожее, и вот…
Евдокия не знала, то ли ей успокаивать невестку, то ли поплакать вместе с нею. Снова кашлянув, ласково заговорила:
— Да будет, невестушка, горевать. У них, у молодых, теперь закон такой, все на свой лад делать. И позора теперь в этом нет никакого. А на людей смотреть… им только дай языком почесать, посудить. Вы-то кусок, чай, не последний доедаете, поднимете малыша.
Лиза, вмиг перестав плакать, посмотрела на хозяйку строго и отчужденно:
— Что ты городишь, Дуся? В позоре разве ж одном дело? Татьяна еще девчонка сопливая, а у нее на руках дитя будет. Куда ж это гоже? И как ей на будущее свою жизнь устроить? Не каждый надумает на ней жениться, коль такой довесок, да неизвестно от кого.
— Что ж делать? Жизнь не переиначишь ведь, — растерянно произнесла хозяйка.
— Не переиначишь, — хмуро согласилась Лиза. — Мы и так, и сяк ломали голову, как бы получше все уладить, не получается складно. С врачом какими словами только не беседовали, что не сулили, она одно — поздно избавляться от ребенка.
— Понятно, — осторожно вставила хозяйка.
Лиза еще ближе к ней придвинулась и вкрадчиво произнесла:
— Мы придумали одно дельце, помоги нам.
— Что смогу, все сделаю, — с недоумением ответила Евдокия.
— Пусть пока до родов Танюша наша поживет у тебя. А потом малыша сдадим в дом ребенка. Ну, посуди сама, куда ей такую обузу? Она сама дитя. О будущем нужно стараться.
— Но… как же от дитя отказаться? Кровь-то родная, — удивленно посмотрела Евдокия. — Дитя-то — душа не провиненная. Ох, господи, грешно же это… Одно слово — тяжкое дело.
Помолчали. Хозяйка взглянула на насупившуюся невестку, тихо спросила:
— А сама-то Таня соглашается на… на такое?
— Куда ей теперь деваться. — Лиза махнула рукой. — Раньше нужно было гоношиться.
— Мы и сами неразумными были…
— Наше время с теперешним сравнила! Куда уж нам за ними! Они такие прыткие, что мы им в подметки не годимся. А тебя я прошу, Евдокия, отвечай по-прямому и по-простому, без выкрутасов — поможешь?
— Помогу! — решительно заявила хозяйка.
— Добро! Я знала, что ты не отвернешься от нас в беде. И мы твою заботу не забудем. — Лиза облегченно вздохнула. — Ну, ладно, сговорились, и хватит об этом, итак вся душа почернела. — И продолжала уже спокойным голосом: — Я так тебя и не спросила, как на пенсии, не скучаешь?
— Чего уж, обвыклась. Да и то сказать, когда скучать? Дел нет, а все на ногах колгочусь. И уставать стала быстрее, годы-то какие! Не дожил мой Митрич ни до своей пенсии, ни до моей. А ему нужно было отдохнуть, нашоферился за свою жизнь. Я — другое дело, на работе не сломалась.
— Ты так до пенсии и сидела в той будке?
— В киоске-то? Сидела. Со стороны вроде легко. Отсчитывай мелочевку и газеты подавай. А все ж хлопотное дело. Ревизия, планы, зазря деньги нигде не платят.
— А у нас теперь с деньгами повольготнее стало. И на ферме заработки хорошие. Ферму новую построили, я тебе не писала? И поят, и доят буренок, руки наши берегут. Теперь у нас, куда ни кинь, все новое.
Лиза стала рассказывать, как разрастается их колхоз. Но разговор уже не клеился. Решили пойти спать…
Сон к Евдокии не шел. Ворочалась она с боку на бок, вспоминала о беседе с Лизой.
«Чем только жизнь не удивит! Вон ведь какая история получилась! Выход в ней один — примириться. А Лиза по-своему рассудила. Не иначе это ее задумка. Она всегда все обмозгует и с такого края подступит к делу, что остается только руками развести, как все предусмотрела».
Утром хозяйка встала пораньше. И только принялась резать мясо для котлет, появилась Лиза. Потягиваясь, позевывая, опустилась на табуретку.
— Ты че, Дуся, встала ни свет ни заря? Неужто не отвыкла от нашей деревенской жизни с петухами глаза продирать?
— Ay меня спозаранку все дела ладятся.
— Вот и я такая. Думала, остарею, присмирею. А все день и ночь по дому топчусь, дела выискиваю.
Лиза, откинув голову, прислонилась к стене, отчего вены на ее шее стали еще заметнее. Евдокия только сейчас отчетливо увидела, как постарела невестка. Из каждой ее морщинки выглядывала усталость.
— Нелегко нам Татьянку на чужой стороне оставлять.
— Да ведь не с чужими людьми, — возмутилась Евдокия. — Пообвыкнется, и все пойдет на лад.
— Мне уже и уезжать пора, — просительно посмотрела Лиза.
— Уезжай, не беспокойся о Тане, все будет хорошо. Ты что — мне не доверяешь?
— Все мы на тебя надеемся. К вечеру я в путь тронусь. За твою заботу, Дусенька, в следующий раз привезу тебе мой оренбургский платок.
— Что ж я у тебя его с плеч буду снимать?
— Свои люди, сочтемся.
Евдокия волновалась: «Неделю Татьяна живет, а о прописке и о работе не заикается. Самой завести об этом речь? Ведь ничем не занята, только и знает, что у телевизора посиживает. Все помалкивает. Может, намеками ей подсказать? Но мне-то что до ее забот, не моя голова, пусть у нее болит. Эх, молода слишком, многого не понимает».
Не выдержала Евдокия, сказала:
— Ташоша, надо бы о прописке похлопотать. Можь, мне завтра в милицию наладиться?
— А я тогда работу пойду искать.
— Забот много. Не знаю, что за день успею. Не шибко я грамотная. А везде бумаги, заявления. Но, как говорится, под лежачим камнем так и будет сухо.
…В хлопотах, необычных для Евдокии, день промелькнул. Она так набегалась по коридорам ЖЭКа, райотдела милиции, райисполкома, что от усталости не чувствовала под собой ног. Домой вернулась, когда начало темнеть. А Татьяна уже около телевизора сидит, закутавшись в широкий мохеровый шарф.
Евдокия вздохнула, тяжело опустилась на диван, двумя руками стала растирать икры ног. Пожаловалась:
— С непривычки ноги гудят. Я ведь в город только на рынок выхожу. А здесь то в одной очереди постояла, то в другой. Только начальника паспортного стола дожидалась полтора часа. И какие везде все дотошные! К каждой буковке придираются.
— Я тоже устала, — отрывисто произнесла Татьяна.
«Ишь ты, и даже не посочувствует, — с обидой подумала Евдокия. — В мать, что ли, свою? Та тоже лишь о собственной головушке печется».
Тетя, нахмурив брови, наблюдала, как племянница неторопливо поднялась, подошла к столу, стала аккуратно складывать в стопочку газеты и журналы. Евдокия изо всех сил глушила в себе раздражение, но внутри все клокотало:
«Хорошую обузу на свою шею взяла! Дитя неразумное, заботься о ней. В мои годы покой нужен…»
Резкие слова готовы были вот-вот сорваться с губ Евдокии. С ней такое случалось не часто — не любила она злиться.
И теперь успокоилась быстро:
«Стоит ли на малолетке зло срывать? За что? С ласковыми словами не ластится? Стало быть, характер такой. А накричишь на нее, тут же доложит Лизе. Это совсем ни к чему. Раз уж согласилась жить с племянницей под одной крышей, не надо ее подстраивать под свой нрав».
За приготовлением ужина Евдокия и совсем успокоилась.
«Почему девка словно вареная? Спит прямо на ходу?» — подумала Евдокия. Но вдруг Татьяна показалась такой жалкой, беспомощной. Тетя мягко обратилась к ней:
— Знаешь, когда я первый раз приехала в город, так здесь плутала! Особенно в первые месяцы. Смешно сказать, по печке нашей деревенской скучала, по корове плакала. Я поздно замуж вышла, Митрич меня в город притащил. Грешным делом, тебе признаюсь: если б не надоело мне в старых девах куковать, сбежала бы из города, — вздохнула. — Чужая сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит. А теперь как обвыклась! В деревню калачом не заманишь. Здесь жить удобно. А что в деревне родится, то и в городе пригодится. И туда ты всегда вернуться успеешь.
Татьяна посмотрела на Евдокию как-то растерянно и тихо произнесла:
— А мне здесь будто воздуха не хватает. Вроде потерялась, чужое все.
— Знамо дело, сторона чужая, что мать неродная. И о матери ты, наверно, тоскуешь.
Не таясь, Евдокия вытерла фартуком слезы. И замолкла на весь вечер. Не хотела, да стала себя, молодую, вспоминать.
Татьяна устроилась работать на швейную фабрику, которую недавно выстроили недалеко от дома.
Племянница рассказывала тете:
— Цеха там большие, машины новые, работают в основном девчата. Вот только общежития там пока еще нет.
— Зачем тебе общежитие? И не думай о нем. В своем доме что хочешь, то и воротишь, а там… все не дело.
В первый рабочий день Татьяна вернулась домой рано, в три часа. Не звоня, открыла дверь ключом и, осторожно зайдя в прихожую, стала тихо переобуваться. Евдокия выглянула с улыбкой.
— Ты что осторожничаешь? Думаешь, я сплю? Меня днем не уложишь, сидела, подол платья отпускала. Село оно после стирки. Ну, как тебя встретил рабочий класс?
— Вроде девчата неплохие, а там кто их знает… — Пожав плечами, Татьяна нерешительно добавила: — На язык все там острые.
— Да уж это понятно. У иных женщин язычок острее бритвы. Но ты запомни, кто робеет, того и бьют. Дашь волю, пиши пропало, а ты с первого раза покажи, мол, я деревенская, по любой городской стою. Слов много не теряй, но скажи, как отрежь, и в пересуды не вступай.
— Какое мне дело до их забот? А сплетни я вообще не выношу.
— Вот именно, в стороне-то оно надежней. И дружбу особо ни с кем не заводи. Дружба от вражды недалеко живет. Лучше всего ни вашим, ни нашим, а сама по себе.
Евдокии понравилось, что Татьяна молчаливо выслушивает ее. И хозяйка многословно, с еще большим азартом стала поучать молодую, как с людьми себя держать, чтоб хорошую работу давали, не обижались. Внезапно спохватившись, спросила:
— А работа нравится? Нетрудная?
— Легкая. — Татьяна сдержанно вздохнула. — Но скучноватая. Сегодня восемьдесят халатов промаркировала. Номера на них ставила. Мастеру понравилось, что сделала все быстро и аккуратно, вот и отпустила домой пораньше. Завтра бирки буду клеить на спецовки.
— А ты шибко не разгоняйся, у тебя, чай, оклад и не такой уж большой.
Татьяна что-то хотела ответить, но промолчала. Евдокия пошла накрывать на стол. Когда сели ужинать, хозяйка спросила:
— Ты что во сне видела сегодня? Небось волновалась перед первым днем работы? А знаешь, как бывает, во сне — несчастье, а наяву — радость. Вот Лиза у нас на селе была главная толковательница всех снов. Так распишет, не захочешь, а поверишь в то, что наречено.
— В селе сейчас не на сны надеются.
— Вот плохо, что перестали снам верить. И бога, и черта забыли. Скажи, какой прок от неверующего? В душе пустота, и жить тяжело. Перестали люди о душе заботиться. Грехи накапливают. Придет время, каждому будет свой спрос. Сейчас-то стараются друг с друга спрос брать. А мой такой сказ. Если я к тебе не хожу обедать, меня не задевай.
— Сам по себе не проживешь, — вставила племянница.
— Коль ум есть, зачем его у других занимать? Свое ведь платье на другого не наденешь… — разгорячилась Евдокия. — Знаю, куда заводят людские советы. Делай по указке, тебя же и засмеют. Что далеко за примером ходить! У нас в подъезде один живет, на вид степенный, не дурак. Так его свои соседи и заклевали. Он советы у них все просил, как лучше обменяться квартирами с братом. Его чуть не выселили совсем, на собрании эх как расшумелись. Его же словами и били. А будь у себя на уме, по-тихому все сделал, комар носа не подточил бы.
Татьяна неопределенно пожала плечами. Евдокия многословно начала рассуждать о том, как она понимает жизнь. Высказаться хотела и словами задеть Татьяну. Ведь поест и книгой прикроется. Но, увидев, что племяннице почему-то не очень нравится этот разговор, хозяйка стала расспрашивать о деревне. О сельчанах Таня говорила с охотой, но порой очень сердито, даже о родне. Евдокия неторопливо, обстоятельно вела расспросы, а мысленно подступалась к вопросу, который давно хотела задать;
— Что ж, никто из деревенских, тебе не приглянулся? Кавалеров-то у вас хватает. А девка ты красивая.
Татьяна хмыкнула, повела плечами. Сразу видно, что-то хотела выпалить, но сдержалась и заговорила спокойно:
— Есть у нас ребята неплохие. Если их в модные тряпки нарядить, показать себя могут. Нравился мне один. Юморной парень. — Замолкла. Евдокия уставилась на племянницу в нетерпеливом ожидании. Татьяна больше обычного нахмурила брови, как-то отчужденно взглянула на хозяйку, нерешительно продолжила:
— А этот, приезжий, будто ворвался в мою жизнь.
Снова запнулась и посмотрела на Евдокию растерянно. Та ободряюще кивнула:
— Что ж ты поддалась на его выкрутасы? Запомни: свои сухари лучше чужих пирогов. Свои ребята известные, а от заезжего что можно ожидать? Он, поди, горы золотые тебе сулил!
Неожиданно Татьяну как прорвало. Она стала горячо, торопливо рассказывать, как приехал этот парень в село, как обивал пороги ее дома, какие записки писал, какие цветы дарил. И такая горечь, боль чувствовалась в ее словах, словно все происходило вчера, а не несколько месяцев назад.
Евдокия перебила:
— Он что ж, окаянный, так и сказал, что у него жена дома на печи?
Татьяна споткнулась на слове. Помолчав, упавшим голосом произнесла:
— Не сразу, но открылся. Как он меня убеждал, что не любит ее! Говорил, что я для него спасение, свет в окне. Все доказывал: без тебя я человек несчастный.
— Ах ты, батюшки, жалостью брал! — громко запричитала Евдокия. Но вдруг строго произнесла: — А у тебя голова должна быть на плечах. Что ты губы раскатала, поверила ему? Вы ж молодые теперь все насквозь знаете, неужели не догадывалась, что от этого дети бывают?
— Украсть он меня грозился, — неожиданно мягко улыбнулась Татьяна, но сразу себя как бы одернула, сердито продолжила: — Нету на свете любви! Не умеет собой управлять человек, вот и поддается влиянию другого. Не всем словам нужно верить. Что такое слово? Колебание воздуха.
— Вот сейчас ты правильно выводишь. И заруби себе это на носу. А то на красивые слова женщины падкие. Что такое мужская верность?..
Татьяна перебила ее:
— Еще бывает так: человек начинает верить тому, что говорит, даже своей лжи. Бывает так?
— Про то не ведаю. Но знаю точно: все идет оттого, что народ распустился. Раньше в нашем же селе так запросто ни один бы девчонке голову не заморочил. И заезжему не разрешили бы своевольничать.
Татьяна надолго замолчала. Руки ее расслабленно лежали на столе, брови слегка подрагивали. Неожиданно выговорила:
— Скучно вам жилось.
— Ну уж в истории редко попадали, головы не теряли.
— А я ведь и точно голову потеряла! — Татьяна закрыла лицо руками. Плечи ее напряглись. Она посидела так с минуту. Но вдруг встрепенулась, отняла руки и посмотрела на Евдокию добрым взглядом. — А какие он мне стихи сочинял! В них слова, что угли горячие.
Она снова замолчала, ушла в себя, уставившись к окно мечтательным взглядом. Евдокия ее не беспокоила, поняв, что на Татьяну нахлынули воспоминания.
— Однажды он в аварию попал, — медленно выговаривая слова, начала племянница. — Все обошлось, правда, там колесо заклинило — это его и спасло. И знаете, что он мне сказал после? Не было, мол, ему страшно посмотреть смерти в глаза, потому что изведал настоящее счастье со мной. Ну, разве можно бросаться такими словами? — со слезами в голосе спросила Татьяна.
— Да, не боится человек греха. Он, видно, пройдоха еще тот. Куда тебе было раскусить его! И что ж он, когда узнал, что ты ждешь ребенка?
— Ничего, — хмуро ответила Таня, но, помолчав, добавила: — Плакаться начал, что жена у него больная, что очередь на квартиру первая.
— Вот они какие, натворят — и в кусты. — Евдокия сердито погрозила кулаком.
— А мне даже его и жалко стало. В этот момент он забыл про все. Только и думал, как от меня защититься.
Таня помолчала, затем снова заговорила твердо и жестко:
— Да ист же никакой любви! Придумали люди красивую сказку и радуются. Одним хочется поверить ей, другим — поиграть в нее. Дела житейские!
— Эх, вы! Все пошли шибко грамотные! А в делах простых и разобраться не можете.
Татьяна только устало усмехнулась. Дальше разговор не пошел. Задумалась Евдокия. Племянница, посидев молча, уткнулась в журнал.
Не хотела Евдокия, а разволновалась на ночь. Когда легла, долго не могла уснуть. Вспоминала свою молодость. Как она любила Митрофея Казанка! Сколько переживаний у нее было, когда родители не разрешили за него идти замуж. Ох, как долго казалась ей жизнь скучной, тоскливой! Да ведь ничего, втянулась. И за те свои переживания родителей худым словом не вспоминает. Они ж о пользе ее заботились, чтоб в достатке жила. И все же другим человеком она стала, когда для себя Митрофея Казанка потеряла. Эх, жизнь…
Евдокия только теперь почувствовала, как она соскучилась по обычным материнским заботам. С Татьяной и тоска о сыне померкла — прибавилось хлопот. Евдокии хотелось постоянно опекать, наставлять племянницу. Молодая, жизни не откушала, оттого и споткнулась. Нужно научить ее осмотрительности, осторожности. Но племянница ничего не хотела рассчитывать или загадывать больше чем на один день. Знай сидела в кресле, закутавшись в шарф, вялая, молчаливая.
— Все как-нибудь устроится, — отвечала она Евдокии скучным голосом. — Что толку все предусматривать? Жизнь по-своему рассудит.
— Молодая, а говоришь, как старуха…
— Старуха Изергиль.
— Чего? — сморщилась Евдокия.
— Это я так, к слову.
— Ты меня грамотностью своей не пронимай. Я науки переросла. А ты, голубушка, свои вожжи отпустила, вот тебя и затянуло, что сама не рада.
— Да, — не без вызова отвечала Татьяна, — потому что верила в счастье, порядочность.
— Слова-то такие — пустой звон. Ты лучше поближе к жизни.
— Пусть будет, как будет. Судьбу на коне не объедешь.
— Есть и другой завет. Проживешь ладно, коли жизнь построишь складно. Где это видано, чтоб живой о живом не думал. А ты все только начинаешь, тебе на каждой версте нужно шаги считать. Хотя, эх, сколько наживешься, пока ума наберешься.
— А дуракам легче живется, — усмехнулась Татьяна.
— Пустой разговор. Что поживешь, то и пожуешь. Упрямство свое смири, не здесь оно нужно. Оглянись назад и вперед посмотри, как бы на бобах не остаться. Не успеешь и охнуть, а молодость пройдет. Газеты читаешь, телевизор смотришь, видишь, как за себя люди стоят. Жизнь играючи не проживешь. Вот тебе учиться надо, как прикыдываешь?
Татьяна недоуменно пожала плечами:
— Пока незачем голову забивать, а там будет видно.
— Эх, ты, не понимаешь, куда ветер дует. Сейчас все в науку тянутся. Глядишь, хлипенький человек, а с дипломом — ценится. И командовать над тобой его ставят. Ныне диплом дороже ума. А станешь в кресле посиживать — везде для тебя двери будут закрыты. И специальное гм тебе стоящей учиться надо. Что это быть в деле на подхвате у других? Надежный кусок в жизни нужен. Умение па плечи не давит. На себя работать не стыдно.
— Я еще молодая, а работа не волк, в лес не убежит.
Ох, как сердилась Евдокия на эти легкомысленные слова племянницы! Или она специально подзуживает тетю, добрые советы охаивает? Но Евдокия остепеняла себя:
«У молодой и думки незрелые. Придет время, поумнеет. Свой нрав ко всему подлаживать научится. Жизненные премудрости с кондачка не ухватишь. В душе у девки горечь, понимать надо. Помягче, что ли, с нею говорить?»
— Татьяна, как бы ты хотела свою жизнь устроить? — ласково спросила как-то вечером Евдокия, подсаживаясь к племяннице с вязанием. Та голову от книги подняла и с недоуменной улыбкой пожала плечами.
— Знаешь, как я всегда себя настраивала? Радуйся, что синица в руках, а на журавля любуйся. Ты хоть и таишься, а все одно — примериваешь себя к другим. Аль не так? Молодая, желания должны быть буйными.
— Я хочу испытать все самое хорошее, — поднимаясь с кресла, с сердитым озорством сказала Татьяна. Прошлась неторопливо по комнате, снова села. — Поживешь в свое удовольствие, тогда и умирать, наверно, легко.
— Хм, — Евдокия растерянно посмотрела на племянницу. — А я что-то ничего приятного не припомню в своей жизни. В молодости куски выискивала, чтоб с голоду не пухнуть, война — там не до жиру, быть бы живу. Лиха хватила, хоть в оккупации недолго наша деревня пробыла. Замуж вышла — известно, все для семьи. За любую копейку жилы тянула, себя ограничивала, чтоб мужа послаще накормить, в дом все купить, чтоб не хуже людей. Не все, правда, как сейчас вижу, предусмотреть могла. Некоторые с дальним прицелом еще тогда золото, бриллианты запасали, цены-то были не то что нынешние. А у меня в доме лучшая машинка швейная была. И стиральную самая первая из соседей купила, и поменять ее на другую успела. Вон стоит, стираю, правда, руками. Кажется мне, что белье она рвет и стирает не так, как сама — на совесть. Первыми мы и телевизор купили, тоже уже два раза меняли. А за людьми не угонишься. Теперь на цветные переключились. А мне и мой «Рекорд» сойдет. А как сын родился, в заботах потонула. Что ты думаешь, без бабок воспитывала, а он у меня сколько болел! Не чаяла, как вырастет. Не до приятностей было, — но Евдокия тут же спохватилась. — Что я буровлю? Нарадовалась и я многому. На работе меня уважали. Я на чужие удачи не зарилась и других не обижала. Со всеми, кто люб и не люб, с приветом, лаской. И муж меня ценил. Умирал и говорил: «Дусенька, на тебя не обижаюсь, ты ухаживала за мной, как за дитем». Вот эти слова и приятны.
— А самое приятное что было? — непонятно, то ли насмешливо, то ли с любопытством спросила Татьяна.
— Тот будет рад, кто найдет клад. А моя забота была для семьи сил ни в чем не жалеть. Вот и вся главная приятность.
— И мама моя только и знает, что для меня и для дома. О себе забывает.
— Без забот плохо жить. Вы, молодые, слишком себя любите.
— Но вы, тетя, сами говорите, что своя рубашка ближе к телу, — улыбаясь, ответила Татьяна.
— Нужно радеть не только о своем благе, но и о близких. Будешь друг за дружку держаться, ветром не сдует.
— Это вы о родственниках? Кто на них сейчас надеется?
— Оно по-всякому, конечно, может быть, — спокойно согласилась Евдокия. — Иной родственник до того насолит, что чужой дороже. Но русский человек, скажу тебе, без родни не живет. Чужой он и есть чужой. На его счастье не нарадуешься. А кровный, какая-никакая, а опора, корни.
— Вы-то со своими родственниками видитесь раз в год по обещанию, — задиристо заметила Татьяна.
Хотела Евдокия ответить ей:
«А ты, голубушка, ведь к родственнице пришла, когда приспичило, а не к тетке чужой», — но смолчала.
— Знаю, вы думаете, мол, сама в трудное время кров у вас нашла. А мне не по себе, что вас стесняю. И вроде теперь я вам обязана.
«Ишь ты, гордыня почище чем у Лизы!» — удивилась Евдокия.
— Помощь из родственных рук, что из своих.
Татьяна промолчала. На том разговор и закончили.
Но Евдокия про себя рассуждала:
«Племянница молодая, а о жизни судит, будто огонь и воды прошла. О своей судьбе задумываться не хочет. Кому-кому, а ей стоит пораскинуть о будущем. Напутано все, распутать бы. Вот они по Лизиной подсказке сдадут малыша в дом ребенка, но не будет ли Татьяна из-за этого маяться, матерью ведь станет. Прямо у нее об этом не спросишь. Племянницу трудно понять. То переживает, то легкомыслие проявляет… Выйдет ли задумка с домом ребенка? Как там живется детям без матерей и отцов? Каково ребенку без ласки! А что такое ласка? От нее не больно ласковыми дети вырастают. Сходить нужно в этот детский дом, чай, не вещь, а живую душу будем сдавать, — решила Евдокия. — Татьяна лишь твердит; рее устроится, а нужно знать наверняка»,
В том районе, где находился дом ребенка, Евдокия почти не бывала. На трамвае она ехала полчаса. Как сошла на нужной остановке, сразу увидела двухэтажное, выкрашенное в ярко-голубой цвет здание с деревянной резьбой на перилах крыльца. Так раньше украшали дома. Здание старое, но не ветхое. И на окнах вроде тоже наличники были, но содрали их. Еще железная загородка вокруг. Уныло как-то. А в садочке деревьев густовато. Видно, много
здесь летом зелени, тени. Евдокия старалась все подметить. Она решила зайти внутрь. Ступила за ворота, поднялась по ступенькам крыльца, нерешительно толкнула дверь. У порога ее остановила высокая блондинка с бумагами в руках.
— Сюда посторонним нельзя. К тому же дети спят, тихий час. И сегодня день не приемный. У парадного входа у нас вывешены правила для посетителей.
— Понимаю, извините, — почему-то испуганно сказала Евдокия, пятясь назад.
На улице она с минуту постояла у ворот в нерешительности. Медленно пошла к скверику, что напротив дома, осторожно обходя лужи. В глубине скверика села на краешек лавочки. Задумалась, уставясь на тщательно зашторенные окна дома, что хорошо просматривались между деревьями. Как там живется, вроде во всем порядок.
Евдокия и не заметила, как возле нее на лавочке оказалась женщина в красивом сером плаще. Она тоже стала смотреть на окна с любопытством.
— Вы, голуба, часом, не оттуда? — спросила Евдокия, но сама и ответила. — Да нет, конечно.
Этой ли холеной дамочке работать там, в хлопотах о детях так цвести не будешь. Вон она какая! В пышной прическе волосы лежат один к одному. Аккуратно, умело накрашены губы, ресницы, в меру подведены брови. А на щеках — румянец, тоже, верно, не свой. Красавицей такую не назовешь, а как интересную заметишь. И как хорошо у нее вещи подобраны! Серый плащ, серебристая косыночка, сумка с сизым отливом. Дамочка, видно, и не смущалась, что Евдокия внимательно рассматривала ее. Наверное, привыкла, что на нее заглядываются.
— Порядки там, чай, строгие, — кивнула на дом ребенка Евдокия. — Чего от людей отгораживать? Итак они от семей отъединенные.
Женщина задержала на Евдокии взгляд, будто примериваясь, ответить или нет, произнесла с расстановкой:
— Какое может быть воспитание без дисциплины и порядка.
И так уверенно проговорила, что Евдокия не решилась перечить ей.
— Летом деткам здесь хорошо, зелени много. Говорят, их на дачу вывозят. Не в курсе?
— Нет, — коротко ответила собеседница.
— Уход здесь детям по науке.
— Но все равно, эти дети — сироты, — осторожно вымолвила женщина.
Евдокии показалось, что она будто отчего-то засмущалась. Нервно стала рыться в сумочке. Достала пудреницу в форме раковины с Перламутровыми прожилками, кружевной платочек. Щелкнув замочком пудреницы, открыла ее, глядя в зеркало, провела платком по краю глаза.
«Не из учительниц незнакомка? Место ведь не прогулочное. Может, тоже кого хочет пристроить? — шевельнулась неприязнь к ней. — Ишь ты, а с виду приличная какая. Нет, неспроста она здесь. Может, правда, беда у нее какая случилась. Но вид вон какой уверенный. И голос твердый. Такая себя подать сможет. Цену и сам ей накинешь. Смотрит недоверчиво. К такой с расспросами сразу не подступишься. А если о своей заботе рассказать? Вдруг на откровенность откликнется!»
Женщина слушала с напряженным любопытством, теребя платочек в руках, кивком головы поощряла рассказ.
— Вот я и пришла сюда приглядеться, — наконец доверительно закончила Евдокия. — Грех, конечно, сдавать сюда ребенка, но что сделать, родственники настаивают. Мать нашей девчушки этого требует. Мне-то самой такое дело не по нутру. Жалко ведь малыша. Он-то чем виноват?
Незнакомка пожала плечами.
— Не знаю, как это отказаться от своего ребенка?
И вдруг уверенно, категорически высказалась:
— А вообще-то в жизни все может быть.
— Вот-вот, — поспешно подхватила Евдокия. — Жизнь жизни рознь. У иных она так протянется, всего достанется. Судить-то умники найдутся, но и судью судят.
Жизнь такое подстроит, руками разведешь.
Женщины посмотрели друг на друга понимающе, обе кивнули головой. Незнакомка оправила плащ на коленях, села более расслабленно. Настороженность в ней совсем не пропала. И видно было, что хочется дамочке своей заботой поделиться, но опасается чего-то. Евдокия, не совладев с любопытством, так прямо и спросила:
— А вас, голуба, тоже сюда беда привела?
Женщина вскинула на Евдокию испуганный взгляд, растерянно улыбнулась, вздохнула, кивнула головой.
Евдокия, почувствовав, что незнакомка сейчас поделится заботами, сказала ей:
— От бед не спрячешься. Пока их не натерпишься, не узнаешь, как жить.
— Понимаете, — нерешительно начала женщина, опустив глаза, — как бы вам это объяснить? В общем, у меня нет детей. И мы с мужем решили взять ребенка отсюда. Вот такая история.
Она пытливо взглянула на притихшую Евдокию. Та добавила:
— Дети — семье венец, без них в доме пусто.
— Муж у меня хороший, а детей любит так, что при виде их весь преображается. Разговаривает с ними так ласково, конфетами угощает, в гости зовет.
Евдокия почувствовала по тому, как женщина медленно подбирала слова, как встревоженно поглядывала, что о своей беде с другими она не говорила.
— Я, прежде чем решиться взять чужого ребенка, многое продумала. Нелегко это. Но боюсь, как бы семья из-за нашей беды не разрушилась. — Неожиданно заговорила резко, а в ее глазах появилось что-то жестковатое. — Нет, я никому не хочу отдавать своего мужа. Он очень положительный. Сейчас женщины не зевают, уведут, глазом не успеешь моргнуть. Но пусть попробуют!
Незнакомка смотрела на Евдокию с горечью и сердито.
«Да, у такой-то не очень уведешь мужа», — подумала Евдокия.
Решительным движением та поправила косынку на шее, продолжила:
— Я пока еще любой женщине могу утереть нос. Слежу за собой во всем. Хожу в косметический кабинет, группу здоровья, но, — протяжно вздохнула, — в моем возрасте все равно отцветать начинают.
— Да вы еще ничего, ничего, — почему-то игриво сказала Евдокия.
— Дом у нас — полная чаша, а все пустой, — снова вздохнула незнакомка. — Тихо, спокойно. Иногда, правда, гости с детьми приходят. Бегают, балуются, и мой с ними, как ребенок.
Евдокия слушала и дивилась. Вот еще какие заботы могут быть. А посмотришь на эту дамочку, подумаешь, что у нее все благополучно. И вдруг Евдокия встрепенулась. А ведь истинно говорят, на ловца и зверь бежит. Они же друг другу помочь могут!
Евдокия с умыслом о своей заботе завела. Незнакомка вставила:
— Каждому свое. Мне иногда кажется, а не придумываю ли я сама себе лишних бед и хлопот.
— С детьми — горе, а без них — вдвое.
Замолчали. Неожиданно женщина резко повернулась и, взглянув в упор на Евдокию, спросила:
— Послушайте, а может быть, нам вашего ребенка взять? Вы не подумайте ничего плохого. У нас в семье прекрасные условия для воспитания. Я сейчас об этом только подумала. Мы можем договориться?
— Как взять ребенка? — Евдокия притворилась непонимающей.
— А по обоюдному согласию. Вы же все равно будете ребенка сдавать.
— Вот оно что, — неопределенно протянула Евдокия.
Торопливо подбирая слова, женщина стала убеждать ее:
— Повторяю, у нас прекрасные условия для воспитания. Знаете, и чистоту я люблю. У нас все блестит. Ребенка, будьте спокойны, станем содержать опрятно. Разве я не смогу заменить ему мать? Ребенка любить нужно, — наставительно подчеркнула она. — А уж это я постараюсь.
— Да, да, и чужая ласка — сироте пасха. Дети, что цветы, уход любят, — повернувшись к незнакомке всем корпусом, приговаривала Евдокия. Она почему-то чувствовала подобострастную робость перед этой холеной, твердо знающей, что ей нужно, женщиной.
— Другие хотят брать детей у незнакомых людей. Боятся, что когда-нибудь отберут у них ребенка. А мы с мужем считаем так, — женщина снова открыла сумочку, достав пудреницу, заглянула в зеркало. — Отобрать могут и у знакомых, и у незнакомых. Я об этом много читала и слышала. Мы наоборот — хотим познакомиться с родителями, чтобы они доверять нам стали. Ведь мы с серьезными намерениями, с ответственностью берем чужого ребенка. И заботиться о нем будем не хуже настоящих родителей. Все, что положено ему, предоставим.
Евдокии нравилось, как беседует с нею незнакомка не как с первой встречной, а как с человеком, к которому расположен.
— Меня мой муж, Марк, все время убеждает, что просто так взять ребенка, неизвестно от кого — опасно. Мало ли что может быть. Передадутся от родителей какие-нибудь генетические недостатки. Они не всегда сразу проявляются.
— Э, милая, так вы хотите ребеночка без недостатков, — почему-то обидевшись, недовольно хмыкнула Евдокия. — По заказу и пирог не всегда ладно испечешь, — но оборвала себя. — Хотя и дитятко, что тесто, как замесил, так и выросло.
Женщина медленно кивнула:
— Я, конечно, понимаю, все дело в воспитании. К нему нужно подходить тонко. Учить ребенка по всем правилам. А вот в физическом, умственном развитии все не предусмотришь, риск есть. В природе такой закон — от нормальных родителей дети нормальные.
— Риску бояться, так детей лучше вообще не иметь. У одной матери и то дети разные. Где уж здесь все предусмотреть, — Евдокия поджала губы.
Выражение лица незнакомки стало нетерпеливым и досадливым.
— Вы извините, может быть, я говорю вещи нетактичные. Но я и правда представления не имею, что такое дети.
Она растерянно посмотрела па Евдокию.
— Воспитать ребенка — не дерево вырастить, — наставительно произнесла та.
— Я думаю, мы с вами друг друга поняли. — Женщина улыбнулась. — Меня зовут Александрой Павловной.
— Меня Евдокией Семеновной нарекли. Вот и познакомились. А дивчина у меня что надо. Красавица, здоровая, молодая. Какой там недостатки! Одно слово — картинка. И отец у ребенка по всем статьям — видный, работящий.
Евдокия замолкла, спросив себя:
«Чегой-то я раскудахталась? Еще подумает, с рук хочу ребенка лишь бы кому сбыть. С достоинством надо речь вести, слов много не терять».
— В общем, если будет желание, приходите к нам в гости, посмотрите на нашу Таню.
— Удобны ли будут такие смотрины? А впрочем, что в этом особенного? Поговорим, присмотримся друг к другу. По доверию всегда лучше отношения строить.
— Запишите адресок. И моей Танюше интересно тоже, в чьи руки попадет ее ребенок.
Встретиться договорились в воскресенье.
Домой Евдокия отправилась довольная. Экий случай подвернулся — пристроить ребенка в хорошие руки.
Таня в халате лежала на диване, подложив руку под голову. Выражение лица у нее было недовольное, усталое. Она всем своим видом будто говорила: меня не задевайте, не трогайте.
«Чего скуксилась? Вот всегда такая. На работе не перетруждается, почему устает?»
Евдокия поставила сумку с картошкой и яйцами, что купила в магазине, на тумбочку, в кухне. Против обыкновения, не стала сразу разбирать покупки. Подошла к Тане, присела у нее в ногах, на краешке дивана, спросила участливо:
— Тебе не холодно? Может, плед дать? Нездоровится? Румянец твой совсем поблек.
— Никак не привыкну к городской жизни, устаю. И настроение что-то паршивое.
— А у меня новость, — сдерживая себя, по все же громко и торжественно произнесла Евдокия.
— Правда? — бесцветно спросила Таня.
— Малышку нашу можно в хорошие руки пристроить! — радостно выкрикнула Евдокия, пересела поближе к изголовью. Рассказывать начала спокойно, деловито:
— Я случайно познакомилась с этой женщиной. С первого взгляда поняла се. Добрая, любит чистоту, из интеллигентов.
Евдокия утаила, что па прогулку к дому ребенка ходила специально, а представила так, будто с Александрой Павловной познакомилась случайно, в магазине.
— Скажу тебе, она к жизни с пониманием относится. Ей ребеночка очень хочется. И воспитывать его будет не хуже, чем мать.
— Хм, так уж вы ее и поняли.
— Не фордыбачься. Ежели не веришь, что она из порядочных, узнаем доподлинно.
— Как? У соседей спросите? С работы характеристику потребуете?
Таня резко встала и пошла в ванную, плотно прикрыв за собой дверь. Евдокия вздохнула и направилась на кухню. Она так рассердилась на Таню!
«Для нее стараюсь. Поделом мне, старой, побежала вызнавать. Ее беды, пусть она их и расхлебывает. Вот молодые, нет чтобы поблагодарить… Может, я не так словами все обставила? Татьяна с капризами. Ведь она как-никак все же будущая мать. Может, ревнует своего ребенка? Чужая душа — потемки. Иль не верит, что хорошие люди», — думала Евдокия, чистя картошку.
Не хотелось ей, но снова завела об этом речь за ужином.
— Муж и жена, что ребеночком заинтересовались, в гости к нам придут в воскресенье.
Таня к окну отвернулась, сжав губы.
— Объясни мне, старой, чем ты недовольна? Придут люди, что здесь особенного? — вспыхнула Евдокия.
Татьяна резко встала, пошла к двери, не оборачиваясь, сказала:
— Интересный спектакль будет. Трогательное знакомство. Мне по этому случаю надо принарядиться, чтоб встретить гостей по всей форме.
— А ты не привередничай, в твоем положении это ни к чему! — ворчливо прикрикнула Евдокия.
Таня обернулась к ней и как-то тихо, покорно произнесла:
— А мне теперь все одно положение, хоть так, хоть эдак.
— Эх, гонору в вас, молодых, — покачала головой Евдокия.
В воскресенье Евдокия проснулась рано. За окном еще не рассвело, но темень рассеивалась. А на небе вовсю сияла луна каким-то необычным праздничным блеском.
«Полнолуние, — повернувшись к окну, сказала себе Евдокия. — Красиво как! Будто вымыли луну-голубушку, скоблили да натирали. Ишь как сверкает! — Почему-то это показалось Евдокии доброй приметой в сегодняшнем дне. — Ох, подниматься пора. Сейчас и в соседнем доме окна зажгутся. Перво-наперво нужно полы вымыть. Татьяна еще вчера их попритерла. Но и сегодня их освежить не мешает».
Покашливая, покряхтывая, она поднялась с кровати, посидела, глядя в окно. Медленно начала одеваться. Стараясь не очень шлепать тапками, пошла на кухню. Постояла возле плитки, задумавшись.
«Какие-никакие, а гости нагрянут. Встретить их нужно хорошо. Разносолов готовить не к чему, а то еще скажут, мол, специально задабривают. Но себя почему бы не показать?»
Евдокия стала месить тесто для пирожков. К тому времени, как Татьяна встала, запах печеного теста гулял по всей квартире, духмяный, настоявшийся. Таня вышла на кухню с веселой улыбкой.
— Такой запах у нас по праздникам бывает! — и смачно, по-детски причмокнула губами.
Евдокия обрадовалась ее хорошему настроению и засмеялась:
— Сейчас здоровьишко у меня пошатнулось, а то ох как я любила сама пироги готовить! Муженьку моему они так нравились! Я ему и с изюмом, и с картошкой, и с яблоками— разных наделаю. С таким удовольствием ел. И сынок тоже любит печеное. По ему больше с вареньем нравится.
Быстро позавтракали. Таня начала мыть посуду, тихонечко напевая мелодию, что звучала по радио. Поставив тарелку на сушилку, она пошла в комнату, села в кресло и стала листать старые журналы «Работница». Евдокия устроилась смотреть на диване телевизор.
Ровно в одиннадцать раздался звонок. Хозяйка, взглянув на Татьяну, заметила испуг в ее глазах. А может, показалось? Спеша к двери, Евдокия обеспокоенно спрашивала себя: они ли? У порога стояла и широко улыбалась Александра Павловна, держа как-то па отлете торт в руках. А за нею возвышался темноволосый, голубоглазый мужчина, чем-то очень похожий на жену.
«Какой свеженький, здоровый на вид! Сразу видно, непьющий. Красавец!» — определила Евдокия.
Пропуская гостей в комнату, шумно приговаривала:
— Хоть небогаты, а гостям рады, а добрым гостям — вдвойне. Милости просим.
— О, вы пироги затеяли? — спросила Александра Павловна, снимая пальто. — Тогда наш торт совсем ни к чему, — обратилась с улыбкой к мужу.
— Лишь бы беседа была доброй, а угощение к ней приложится, — ласково произнесла хозяйка, глядя па мужа Александры Павловны. Он, не суетясь, ухаживал за нею. Ловко принял пальто, подставил тапочки. Повернувшись к хозяйке, церемонно поклонился:
— Марком Игнатьевичем меня величают.
Представилась и Евдокия, протянув свою пухлую руку. Гость мягко пожал ее. Хозяйка заволновалась: чего Татьяна не появляется. Гость тоже посматривал на дверь, ведущую в комнату, то и дело взглядывал на жену, как будто спрашивая: «А все ли я правильно делаю? Довольна ли ты мной?» И она ласково, снисходительно улыбалась ему. Да, теперь она была, как отметила Евдокия, во всем начеку. Голову держала очень прямо, развернув плечи, говорила мягко, будто ворковала:
— Евдокия Семеновна по характеру чисто русская женщина, добрая, гостеприимная. Я увидела и поняла ее сразу.
— Да, мы глянулись друг другу. С одним пуд соли съешь, а вовек не сойдешься, а нас потянуло, сблизило. — Евдокия споткнулась на слове. Кашлянув, закончила: — Думаю, мы сдружимся. — И улыбнулась. Она и вправду очень радовалась, что с этими людьми ей будет просто найти общий язык — понимала их.
Прежде чем пригласить всех в комнату, хозяйка оглядела гостей с легким покровительством, так, будто их объединял общий сговор.
— Проходите в мою хибарку. Живем скромненько. Не углами наша изба красна. — Хозяйка мельком взглянула в зеркало: все в порядке — и прическа, и халат, и улыбка — радушная, спокойная.
Татьяна сидела за столом, склонившись над журналами. Медленно подняла голову, как-то отстраненно посмотрела на гостей. Евдокия вспыхнула:
«Цаца! К ней только подходы осталось подыскивать!»
Хозяйка подошла к племяннице, обняла ее за плечи:
— Это наша Танюшка. Она с людьми не сразу сходится, но добрая, веселая. — Гости сдержанно улыбнулись. Но Татьяна не ответила на их улыбки. Она смотрела все так же настороженно. Хозяйка незаметно, но чувствительно нажала девушке на плечо, как бы усмиряя ее, ласково произнесла:
— Танюша наша растерялась. Ничего, обвыкнется… Я забыла у вас спросить, не плутали вы в нашем районе? Строят без конца, порядку здесь нет.
— А мы на такси, — поспешно отозвался Марк Игнатьевич. — Подкатили к самому дому, к вашему подъезду. А район у вас, по-моему, очень хороший. Далековато от центра, но зато лес рядышком. Свежий, чистый воздух, а летом побродить по лесу — одна благодать.
— Чего-чего, а воздуха у нас свежего хватает, — ответила Евдокия. — Такой порой бывает ветродуй. Белье с веревки уносит. Правда, Танюша?
Племянница, не отвечая, медленно листала журнал.
— Конечно, температура у вас на градус, два ниже, чем в центре. — Марк Игнатьевич вопросительно взглянул на жену. И она, уловив его беспокойство, растерянность, уверенно заговорила, слегка качнув ему головой:
— Я считаю тоже, что на окраине неплохо жить. В магазинах нет толкучки, в кино народ меньше ходит, в транспорте посвободнее.
Евдокия прилежно кивала на каждое ее слово. Спохватившись, что до сих пор не посадила гостей, со смехом подтрунила над собою:
— Во, разиня! Встречаю и не лестью, и не честью. Устраивайтесь поудобнее. Но за пустой стол гостей не сажают. Сейчас чайком побалуемся. Вы посмотрите телевизор. Дайте-ка занавески немного отодвину, все посветлее станет.
Излишней суетой Евдокия как бы сняла напряженность встречи. Гости заулыбались живее.
Александра Павловна вызвалась в помощницы стол накрывать. Но хозяйка замахала руками:
— Еще чего! Умела в гости звать, умей и встречать по чести. Посидите на диванчике, поговорите.
Заваривая на кухне чай в большом блестящем чайнике, хозяйка с волнением думала:
«Что ты сделаешь с этой козой! Поставила свои глаза сердитые, злющие. Опозорит перед людьми. Их обидит. От добра отворачивается. Нет, до Лизы ей никогда не дотянуться. Та с ходу видит свою выгоду. Ну, девка, будет тебе сладкая жизнь…»
Каково же было удивление Евдокии, когда она, зайдя в комнату, увидела, как мирно и даже дружелюбно беседуют гости с Татьяной. Она катала карандашик по столу и спокойно говорила:
— В большом городе легче хорошую работу найти. Есть выбор, больше организаций. И премия на фабриках и заводах чаще бывает. У нас с этим сложнее. На фабрике с прошлого года прогрессивку не платят. Хорошие места ветераны забили. Текучка в цехах маленькая. Скучно как-то — молодежи мало.
— Это большое счастье — найти хорошую работу, — назидательно произнесла Александра Павловна, взглянув на Татьяну покровительственно. Та кивнула и с непонятной интонацией спросила:
— А у вас хорошая работа?
— Мне нравится, я — бухгалтер и еще председатель профкома отдела. Без моего слова многие дела не решаются. Вот и Марк Игнатьевич любит свою работу.
Она кивнула ему, как бы передавая эстафету разговора. Он охотно подхватил, стал подробно рассказывать, как нелегко ему было в послевоенное время учиться, работать. А как тяжело было в то время работать мастером. Прибавлялся опыт. Стал инженером, потом начальником бюро. Марк Игнатьевич говорил обстоятельно и о том, как увеличилась его зарплата и как расширился круг обязанностей, количество подчиненных. Евдокия, расставляя чашечки на столе, прислушивалась к разговору. Ей нравилось, как степенно, подробно говорил гость, он будто неторопливо доказывал, что все у него в жизни правильно, как нужно. И вдруг хозяйка почувствовала какое-то беспокойство. С чего это? Беседа тянулась спокойно… Евдокия посмотрела на Татьяну и нахмурилась:
«Ох, как ловко разыгрывает она интерес!
Голову склонила, ресницами лупит, а в глазах чертики бесстыжие так и насмехаются. Чего смешного нашла? Человек рассказывает честно, гладко. Как бы не заметил, а то разобидится. Нужно самой в разговор вступить. Лаской, приветами смягчить беседу».
— Прошу всех к столу. За чайком у нас беседка пойдет ладком, — елейно улыбнулась Евдокия. — Присаживайтесь к столу поудобнее. Чай пить — душу веселить. А может, что покрепче?
— Нет, — выставил ладонь мужчина. — Для этого мы еще найдем повод. А чаек и правда хитрое дело, веселит. Ну-ка, женщины, подружнее к столу.
Марк Игнатьевич по очереди подвинул стулья Евдокии, жене, Татьяне, оживленно, приветливо улыбнувшись каждой. Сам сел между Татьяной и женой.
— Вот у нас раньше за самоваром каждый по шесть чашек выпивал, — разливая чай, сказала хозяйка.
— Но ведь это какая нагрузка на сердце! — пожала плечами Александра Павловна. — Я читала в «Здоровье», что излишняя жидкость для организма вредна.
— Сашенька, дорогая, ты забываешь, что люди много работали физически, а с потом выходило много влаги, — со снисходительной улыбкой произнес Марк Игнатьевич. — И вообще русское застолье всегда отличалось обильностью пищи.
Он весело рассказал анекдот о национальных застольях и сам смеялся больше всех. Он стал суетливым, оживленным. Женщин несколько раз назвал демократками, что, видно было, ему самому очень нравилось, казалось остроумным. Александра Павловна тоже широко улыбалась, но в ней чувствовалось напряжение: то вдруг порывистым движением поправляла прическу, блузку, то, стрельнув глазами в сторону Тани, резко отводила от нее взгляд. А Татьяна снова нахмурилась. К еде она почти не прикоснулась. На всех посматривала исподлобья. Евдокия, чтобы повеселить гостей, стала рассказывать байки. Что, где случилось, кто в этом виноват — расписывала с подробностями и пространными выводами. Александра Павловна согласно кивала на ее рассуждения. Марк Игнатьевич похмыкивал, будто удивляясь, сосредоточенно пил чай, то и дело неожиданно шумно его заглатывая.
Хозяйка принесла забытый гостями в прихожей торт.
— Порезать его доверим единственному нашему мужчине.
Марк Игнатьевич шутливо поклонился, взял нож и, подняв его острием вверх, торжественно произнес:
— Милые демократки! По праву единственного здесь мужчины позвольте вам признаться: мне ваше общество очень приятно. Я вижу, вы очень славные женщины. Здесь представители разных поколений, но объединяет всех общее. Как говорит наш советский поэт Расул Гамзатов…
Марк Игнатьевич наткнулся на насмешливый взгляд Татьяны и замолк. Виновато посмотрел на жену. Она нетерпеливо, со скрытой досадой поморщилась, но пришла на помощь:
— Все поэты воспевали женщин. Но хозяева жизни все же мужчины. — Не дав мужу перебить себя, быстро заговорила: — Женщина сильна мужчиной, который рядом с нею. С таким мужчиной, как Марк, в жизни очень легко. Он добрый, всегда помогает по хозяйству, его все уважают на работе. Сослуживцы любят бывать у нас в гостях. И не только начальство, но и его подчиненные. У нас перебывало почти все КБ Марка. Он у меня для людей всегда стараться рад. К директору института ходит просить за всех. Кому квартиру помог получить, кому путевку…
— Подчиненные должны уважать начальника, тогда на работе будут стараться вдвойне. — Марк Игнатьевич резко рассмеялся. Оборвав смех, пожал плечами: — Ну зачем говорить обо мне?
Татьяна вдруг ответила с непонятной интонацией:
— Нужно учиться у тех, кто правильно живет.
Евдокия вздернула брови: «Опять ехидничает эта коза! Как ее незаметно приструнить?»
Александра Павловна, прикоснувшись к руке хозяйки, мягко спросила:
— Как вы готовите пироги? Удивительный у них вкус.
— О, у меня без затей. Что напекла, то и съела. Не то что некоторые — и «Наполеоны», и рулеты разные делают. Но, если хотите, я расскажу про свои пироги.
— Я очень люблю готовить. Это моя стихия. А вы, Таня, любите? — осторожно спросила Александра Павловна.
— Нет, — Татьяна посмотрела ей прямо в глаза. — Я еще молода, успею полюбить.
Александра Павловна, будто не заметив колкости в словах Татьяны, стала рассказывать, что им недавно установили электрическую плиту, как удобно с нею, не то что с газовой. Она посматривала на Татьяну, вероятно пытаясь понять, сдерзила ли та специально или у нее это вырвалось нечаянно.
А Евдокия начала рассказывать, как в соседнем дворе обнаружила утечку газа. Она то и дело всплескивала руками:
— Ужас! Мог бы весь дом взорваться! Куда смотрела аварийная служба?
Марк Игнатьевич начал подробно объяснять, почему происходят утечки, и даже в блокнотике стал рисовать схему газовых коммуникаций. Заметив, что это вызвало у Татьяны интерес, заговорил живее.
И в общем, чаепитие закончилось, как определила Евдокия, благополучно. Помочь помыть ей посуду вызвался гость…
— А вы здесь пообщайтесь, — сказал он многозначительно жене, уходя на кухню.
Наедине Александра Павловна заговорила с Татьяной с более доверительной интонацией. Стала рассказывать о том, как проводит свой досуг, о том, на каких спектаклях последнее время побывала, какие книги прочла.
— А вы, Танюша, о чем любите читать?
— Про любовь. И лучше, если плохо кончается. А то авторы любят приукрашивать. А музыку предпочитаю грустную, — со скрытой усмешкой сказала Таня.
— Вот как? Но, впрочем, понятно, это для души. Но у нас такой дефицит времени, что с трудом успеваешь познакомиться с тем, что необходимо.
— Модным?
— Да, нужно иметь право судить обо веем. Это важно. Вот будете бывать в разных обществах, поймете, что значит уметь себя держать и вести разговор.
— Правда? — Татьяна будто специально обрывала себя, говоря короткими фразами. Но вдруг вкрадчиво подтвердила:
— Конечно, современная женщина всегда должна быть на уровне, знать себе цену. Всегда лучше переоценить себя, чем недооценить.
Вошел Марк Игнатьевич, улыбнулся:
— Вы здесь не скучаете?
— Знаешь, Марк, Татьяна довольно много читает. Ваша деревня, Танюша, наверное, находится неподалеку от города?
— Далеко, — коротко, опять с усмешкой ответила Таня.
— Расстояния относительны, — вмешался Марк Игнатьевич. — И потом, Шурочка, в деревнях сейчас хорошие библиотеки, а у деревенских девушек немало досуга.
Александра Павловна поднялась, нерешительно произнесла:
— Хозяйка мне обещала рецепт пирогов дать.
Она направилась на кухню.
— Ну, как вам моя жена? — с любопытством спросил гость. — Она па первый взгляд кажется строгой и даже высокомерной. На самом деле она очень добрая.
— Вы очень похожи, — уклончиво ответила Таня.
— Да, мы во многом сходимся, — с готовностью подхватил Марк Игнатьевич. — К работе относимся честно, добросовестно, отдыхать любим вместе, лучше дома. Но и дома я работаю немало: по хозяйству жене помогаю, уют налаживаю. Месяц назад вделал в стену аквариум, пятидесятилитровый, с подсветкой. И гостям, и соседям очень нравится. В большой комнате оборудовал камин, бар. Приходите к нам в гости, Танюша, посмотрите…
— Вы хорошо рассказали, я и так все представила.
— Послушаете музыку, у нас есть хорошая коллекция пластинок. Как раз на той неделе достал несколько интересных дисков. Понимаете, обожаю музыку. Раньше сам играл в институтском ансамбле на гитаре. Бросил, не солидно сейчас для меня.
— Кстати, концерт начался. — Таня подошла и включила телевизор.
— Что-то у вас с резкостью. Сейчас отрегулируем. У нас дома цветной, в нем такие сочные краски. — Марк Игнатьевич начал крутить ручки телевизора. — Ну, вот, уже лучше. Мне больше всех из артистов нравится Эдита Пьеха. А что нам сейчас Лещенко споет? Эх, веселая у них жизнь!
На звуки песни из кухни появились хозяйка и гостья.
— Ох, голосистый какой! — прицокнула на пение Евдокия. — Ну-ка, голубушка, Александра Павловна, давайте и мы послушаем.
Женщины сели на диван и стали тихонечко переговариваться о достоинствах артистов, об их нарядах.
Татьяна сидела, плотно вжавшись в кресло, и отстраненно смотрела на экран.
После концерта супруги дружно встали.
— Хорошие гости долго не засиживаются, — ласково сказал Марк Игнатьевич хозяйке. Повернувшись к Тане, церемонно поклонился.
— Можно нам еще когда-нибудь к вам наведаться? — Александра Павловна взглянула украдкой на молчавшую Таню.
Евдокия, спохватившись, стала многословно приглашать в гости:
— Милости просим всегда запросто к нам! Окажите честь. Не забывайте.
Гостей Евдокия проводила до лифта. Вернувшись, взглянула на Татьяну, рассеянно листавшую книгу, не обмолвившись словом, отправилась на кухню.
Вытирая тарелки полотенцем, она думала:
«Вроде бы все ладно получилось. И весело было. Оно и понятно, люди интеллигентные. С ними поговоришь, ума наберешься. Только Татьяна… Вот характер какой. То тихоню строит, а то так подколет, до пяток горячо. Лизаветино в ней все же проглядывает. Та тоже перцовая в разговорах бывает…»
Все-таки Евдокия не выдержала, подошла к Татьяне:
— Что-то ты с гостями сурово обошлась?
— Не целоваться же с ними! — не поднимая головы, бросила Татьяна.
— Ты к обхождениям приноравливайся. Для гостей всегда должен быть привет.
— А зачем им к нам ходить, зачем дружбу заводить?
— Ты никогда дружбой не брезгуй. Она всегда может пригодиться.
Татьяна промолчала. Евдокия на нее только рукой махнула.
Александра Павловна почему-то больше не приводила мужа. А сама стала заходить, когда Татьяна была на работе. И обязательно гостинцев приносила: то гранаты, то яблоки, то орехи.
— Татьяне витамины нужны. Сейчас знаете какое ответственное для ребенка время! — твердо заявляла Александра Павловна.
Сын написал Евдокии, что скоро должен приехать в отпуск. Поначалу она просто изнемогала, ожидая его приезда. Деньки высчитывала. Утомившись ждать, перестала вздыхать. И лишь поглядывала на календарь. И все же как ни ждала сына, он приехал неожиданно.
В воскресенье только собрались пообедать, раздались три звонка, отрывистые. Звонил так только Костя. У Евдокии руки-ноги отнялись— сдвинуться с места не могла. Вдруг резко сорвалась, бросилась к двери. Распахнула ее, замерла: Костик! Родной, улыбающийся, в форме моряка.
— Сыночек! — выдохнула Евдокия, раскрыв объятия.
Долго не могла оторваться от него. Ощупывала широкую грудь, плечи, мускулистые руки.
— Костенька, ты все растешь. А усы какие смешные у тебя, как приклеенные.
— Мамуля, как я соскучился по нашему дому, духу. Ты не замечала, у нас всегда яблоками свежими пахнет? — Сын потянул Евдокию в комнату.
Из-за стола поднялась Татьяна, с любопытством взглянула на гостя. Евдокия подумала, что нужно было ему все заранее про Таню написать, а то может неловкость получиться. А Костя уже и руку вежливо протянул, и весело улыбнулся:
— Я, мама, беспокоюсь, что ты в одиночестве томишься. А ты в таком приятном обществе.
— Это Таня, теть Манина дочка. Ты, видно, ее не помнишь. Вы здесь поузнавайте друг друга заново, а я похлопочу с угощением. Гость-то великий.
— Ну, вот, — сказала Евдокия, приглашая к столу Татьяну с сыном, — на скорую руку скатерть-самобранку развернули. А вечером, Костенька, я тебе твоих любимых картофельных блинков сделаю, пирожков с капустой, тефтелей.
— А я вас угощу блюдом собственного приготовления — шашлыком по-флотски. Объедение! Таня, вам не приходилось бывать в открытом море? Там у всех аппетит отменный. Кок у нас — первоклассный, все вкусы удовлетворяет.
Таня звонко рассмеялась:
— А мне очень макароны по-флотски нравятся. У вас в меню они часто бывают? Или только по праздникам и в день Нептуна?
— О, в день Нептуна у нас пир горой. Такие разносолы из рыб бывают! Я наелся рыбы, наверное, на всю жизнь. Эх, рыба у нас особая! И все же, как шутят моряки, лучшая рыба — это мясо. Какие вкусные есть отбивные!
— Дома все вкуснее, — поправляя волосы, заметила Татьяна. — А у вас женщины есть на корабле? Неужели это моряки придумали поговорку, когда женщина на корабле, корабль тонет.
— Вот без женщин корабль может потонуть. Они же уют на корабле создают, окружают нас заботой, без которой сохнет душа в море. Говорят, женщине в море тяжело. Предрассудок! Она терпеливее мужчины, дисциплинированнее, ей легче. Такое мое мнение. На нашем корабле есть буфетчица тетя Оля. Мы ее называем душой корабля…
Таня слушала Костю с интересом, по-детски склонив голову набок. Евдокия прежде не видела ее такой оживленной. Она задавала много вопросов, заливисто смеялась, восторженно удивлялась тому, что рассказывал Костя. Евдокии нравилось, что сын расположил к себе Татьяну. Она и раньше замечала, что многие относятся к нему с доверием с первого взгляда.
Мать поглаживала сына по руке, подкладывала ему на тарелку то салат, то вареный картофель. Он ласково улыбался ей. Вдруг вскочил, вразвалочку прошелся по комнате, поправил свой фотопортрет на серванте, щелкнул по носу сувенирную обезьянку на тумбочке. Удивленно произнес:
— Как все же хорошо дома! Отвык я от домашней обстановочки, одичал. Палуба, море, приказы…
Смущенно взглянул на Татьяну. Она дружелюбно улыбнулась, и почему-то сразу развеселились. Таня припомнила анекдот о незадачливом водолазе, Костя стал рассказывать веселые истории из корабельной жизни. Затем заговорил о друзьях.
— Мировые у нас ребята! Слов нет, какие молодцы. Настоящие мужики! Я только там понял, как важна для человека дружба.
— Преданность дороже всего, — тихо вставила Таня.
— Вот на своих ребят я могу положиться. У нас такая недавно история была… — Он взглянул на настороженно слушавшую мать, махнул рукой. — В общем, никакие запасные шлюпки не спасут, если рядом не будет таких ребят, как у нас. В море иногда страшная тоска грызет по дому, прямо хоть в воду головой, а друзья поддерживают. У нас два парня из-под Рязани, эх какие песни сочиняют! Слушаешь их и думаешь, плохой человек не сможет так сложить слова — до самой души достают…
Татьяна положила голову на руки, слушая Костю, задумчиво загляделась в окно.
— А я там, в море, как у нас говорят, по-дюжил. Теперь меня штормовой волной не сразу сшибет. — Костя весело воскликнул: — Оказывается, это очень даже приятно — чувствовать себя сильным, бывалым. Когда к нам прислали молодняк, они на старичков снизу вверх смотрели. Один парнишка совсем, видно, моря испугался, такой затюканный вначале был! Я на первых порах к нему подключился, на вахты даже с ним заступал. И какой удалой моряк в нем пробился! Самому впору теперь учиться у него…
Евдокия пристально рассматривала сына.
«Родной! Любимый! Давно ли пешком под стол ходил? Звук «р» не выговаривал. И уже настоящий жених. С усами он на отца больше похож. Взрослым хочет казаться. Баском говорит. А улыбка прежняя, детская. Не отучился и бровями водить. Мальчик еще!»
Евдокия осталась довольна, как посидели за скромно убранным столом. Вечером опять разговаривали, смотрели телевизор, ужинали.
Спать Костю положили в большой комнате, на диване. А Татьяна легла вместе с Евдокией, на ее широкую, железную кровать.
Косте год назад уже давали отпуск за то, что он отличился на учениях. Тогда Евдокия с ног сбилась, бегая по магазинам, рынкам, часами у плиты стояла. Хотелось сына накормить повкуснее. Да еще много друзей к нему приходило. Он и сам навещал приятелей. А теперь прошло несколько дней, а Костя так и не собрался пи к кому в гости. Евдокия несколько раз напомнила ему об этом, сын только рукой махал:
— Не хочется никуда из дома уходить.
Нет, Евдокия не узнавала сына. Он суетливо хватался за все, чтобы помочь ей. Ходил с матерью на рынок, в магазины, дотошно вникал в кухонные заботы. В ответ па протесты Евдокии горячо доказывал:
— Мужчины все делают лучше, чем женщины. Их только не нужно ограничивать в инициативе.
— Конечно, мужчины все делают лучше, только не хотят, — весело подтрунила Татьяна. Она теперь часто говорила в таком топе.
— Все дело в том, что мужчины не любят монотонную работу. Они во всем хотят видеть элементы творчества. Вот у нас в команде Юсупов есть, он каждый раз придумывает, как удобнее палубу мыть.
— Человек тем и отличается от обезьяны, что может придумывать, даже в море, — парировала Татьяна. — Но обед все равно женщина лучше готовит.
— Я вам сготовлю сегодня такой флотский борщ!
— Задавака! — дразнила Татьяна.
— Человек должен знать себе цену. Это придает ему уверенность. Вот сейчас примусь за борщ…
— А тебе разве не хочется отдохнуть? — встревала Евдокия. — Служба, поди, не легкое дело. Там не разнежишься, так хоть дома побездельничай.
— Я и бездельничаю. Мама, я же дома, это и есть отдых.
Удивлялась на сына Евдокия:
«Что это вдруг в домоседы записался? Веселый постоянно ходит, не робеет, как раньше. Не был он таким. Прежде соседи только и замечали, мол, сынок уж очень серьезный, на улыбки не расщедрится. И вон ишь ты, напевает…»
Костя выводил морские песни высоким, еще по-мальчишески звонким голосом. Таня шумно ему аплодировала. Костя смущался, краснел, виновато улыбался.
А то начинал над собой, матерью или Татьяной подтрунивать. Но выходило это у него неловко, резковато. То вдруг появлялась у него в словах и жестах какая-то удалая решимость, будто неожиданно почувствовал он свою силу.
«Сынок-то взрослеет!» — почему-то обеспокоенно то и дело повторяла себе Евдокия. Тревожило ее и то, что с нею наедине он будто смущаться чего-то стал. От откровенностей, что прежде у них были приняты, уклонялся, отделываясь шуточками. Евдокии казалось, что сын не такой ласковый, как раньше.
Замечала мать, что парня сердили некоторые се слова, особенно если осуждать кого начинала. Сын морщился, резковато отвечал. А раз так горячо заспорил с нею:
— Судить людей легче всего, их понять нужно. В чужом глазу бревно видно, а в своем соринку не замечают.
— Законы и правила людьми сочинены и для людей. — Евдокия поджала губы. Нет, совсем ей не нравилось, что сын перечит.
«Вот что значит вдали от матери побыть. Хорошие, говорит, там его люди окружают. Так они хорошие, пока с ними по-хорошему. Костя-то, разиня, больше для других старается».
Зато с Татьяной Костя всегда разговаривал увлеченно, так, что бросал дело, которым занимался. И даже не слышал, когда обращалась к нему мать. Говорили они об артистах, о музыке, о чем-то непонятном.
«Надо же, нравится переливать из пустого в порожнее, — хмыкала Евдокия. — А Татьяна на слова как остра, оказывается! Где нахваталась? Да, цепкие эти деревенские… Вот как Костя свой отпуск проводит, пристегнул себя к бабьим подолам. Что случилось с парнем? Может, Татьяна ему приглянулась? Нет, не должно этого быть. У Кости столько знакомых скромных девчат. Бывшие одноклассницы, как встретят, ну допытываться, как ему служится, что пишет. А блондиночка из цеха, где сын до армии работал, даже домой приходила, адрес его просила. А Татьяна… когда ее историю расписывала ему, хмурился чего-то. Осуждал, видно, распутницу. А вслух не стал…»
Евдокия не выдержала, почти приказным тоном сказала Косте:
— Так и будешь дома торчать? Сходи хотя бы в кино.
— Одному не хочется. Татьяна, не составишь компанию? Давай сделаем вылазку!
— И то правда, — взглянув на не решавшуюся племянницу, подсказала Евдокия.
— А что, айда! — весело тряхнула головой Татьяна.
Собрались молодые быстро.
Когда шли через двор, Евдокия любовалась ими из окна. Хорошая могла бы получиться пара. Беременность Татьяне шла. Высокая, стройная, она теперь приобрела мягкую основательность, уверенную неспешность. И Костя рядом, статный, пышноволосый. Но разве такую ему жену нужно…
Из кино молодые пришли поздно. Зайдя в квартиру, продолжали какой-то спор.
— Нужно быть глупцом, чтобы не понять такой случай. А ты еще пожалей и оправдай его. Ну же! — с усмешкой поддразнила Татьяна. Остановившись посередине комнаты, она уперлась руками в бока и глядела на Костю, поблескивая глазами. Он подошел к ней вплотную и погрозил пальцем:
— Оправдать можно все, и с этим граничит лицемерие.
— Мы все немного лицемерны! — нетерпеливо перебила Татьяна.
— Вот это и есть лицемерное оправдание! — ликующе воскликнул Костя.
— Ха! Всего лишь игра слов.
— Ну, рано или поздно, а розовые очки снимаешь, — примирительно сказал Костя.
Вдвоем весело рассмеялись.
Евдокия, разогревая на кухне ужин, пыталась попять, о чем разговор? Не выдержав, крикнула сыну:
— Кино-то не понравилось?
Ответила Татьяна:
— Смотреть было интересно.
— Классный фильм, — добавил Костя, заходя на кухню. — Мама, мы ужинать пе будем. Ты иди, отдыхай, а я кофе сварю. Танюша, я тебя угощу кофе, какой мы пили в Турции. Хочешь?
— Может, плов попробуете? — спросила Евдокия.
Сын взял ее за плечи и повел в спальню.
— Я завтра съем и плов, и суп с фрикадельками, и блинчики с мясом. Целый день буду есть. А сейчас ты отдыхай.
— Ну, вот, тебе уже с матерью скучно, — с обидой протянула Евдокия, снимая руку сына с плеча.
Он даже не смутился.
— Мама, тебе ведь нельзя пить кофе, особенно такой крепкий, какой я сделаю. Давай помогу разобрать тебе кровать.
— Ладно уж, сама управлюсь.
Евдокия лежала в кровати, укрывшись ватным одеялом до самого подбородка. Наверное, к непогоде ей нездоровилось. Ломило в суставах. И сон не шел. Из кухни то и дело раздавался приглушенный смех сына и Татьяны. Евдокия прислушивалась с непонятной тревогой к их голосам.
«Какие-то сегодня они шибко заводные!.. А Татьяна как изменилась! Тихоню из себя
разыгрывала! Ожила! И голову теперь как высоко держит, и тараторит, словно сорока. А то у нее слово рубль стоит. Хотя и ее понять можно. Со старухой скучно. Молодым нотации не нравится слушать. Меж собой могут о разных разностях день и ночь проговорить. Дело зеленое.
А Костя, вот разбойник, тоже кавалера разыгрывает. Как он вчера, когда спать уходил, руки додумался целовать, и той козе, и мне. То по креслам рассаживает, то форточку прикрывает. А почему-то, видать, нервничает последние дни. Ест мало, от звонков соседей вздрагивает. Уезжать ему, что ли, не хочется? Знамо дело, за горами хорошо песни петь, а жить дома лучше.
Эх, трудно подделаться под настроение молодых!
У соседей телевизор на какую программу включен? Наверное, на вторую. Веселый, видно, фильм. Вон как хохочут… Что же сон не идет?»
Евдокия не заметила, как заснула.
В воскресенье собрались уйти из дома все вместе.
Молодые решили пойти в цирк, звали с собой Евдокию, но она отказывалась:
— Я лучше по базару пробегусь. Вы не задерживайтесь, приходите вовремя обедать.
Когда молодые ушли, Евдокия стала собираться. И вдруг почувствовала легкое покалывание в ногах. Она знала этот ранний предвестник заунывной долгой боли. Может, на этот раз пройдет, если отлежаться? В спальне Евдокия легла, не раздеваясь, прикрыла глаза.
Она чувствовала себя все хуже.
«Ох, как бы не расклеиться в Костин отпуск… А он-то от матери совсем отдалился. Все к Татьяне льнет…»
Евдокия припомнила, как весело вчера смеялись молодые, как значительно поглядывали друг на друга. И тут только ей впервые пришла догадка о том, что Костя влюбился.
«Да это любому станет ясно, кто на них посмотрит. Что ж я, старая, видела, но не замечала… Вот проходимка! Опутала моего лопушка. Я ее приголубила, жизнь исправлять, бедняжке, задумала. Поделом мне старой! Не тащи чужой воз! Как малого теперь выручать? Тяжко! У него тоже норов пробудился».
Мысли Евдокии стали метаться. Терзала обида и на племянницу, и на сына. «Сговорились за моей спиной. Провести вздумали! Не на ту напали!»
Евдокия встала, заходила по комнате, выпила воды.
«Делать-то что? Э, разве сразу так путного что придумаешь, как положение исправить? На людях успокоиться легче. Пойду по делам. Авось голова что накумекает».
И впрямь на улице она пришла немного в себя, и даже боль отпустила. Евдокия стала рассуждать более спокойно:
«Еще неизвестно точно, потерял ли сын голову из-за этой паршивки. Мало ли что парень может изображать. Хотя мой-то без фантазий. Повыспрашивать у него нужно спокойно. А ежели что, наставить. Материнское слово коль горячо, в сердце проникнет».
Когда Евдокия вернулась с рынка, молодые были уже дома. Костя читал вслух книгу, облокотясь о подоконник. Татьяна сидела в кресле, поджав ноги. То и дело оба чему-то смеялись.
«Ишь ты, мадама как закатывается! То бирюком сидела, слова не добьешься, а то прямо вся рассыпается. Глаза не смотрят», — с неприязнью подумала Евдокия, присаживаясь на диван. Костя, отложив книгу, подошел к матери:
— В цирке такая программа была интересная. Клоун меня просто уморил. Кстати, он был под моряка разряжен. Как он в ванне тонул, это надо было видеть!
Сын с ужимками стал изображать клоуна. Евдокия вяло улыбалась.
«Чего хоть ломается? Не знает, как навеселить свою цацу»,
— Мам, а мы ужасно проголодались.
— Наконец-то пробудился твой флотский аппетит! — чересчур громко, как показалось Евдокии, рассмеялась Таня. — Наедайся дома про запас. А то ваш кок испугается твоего аппетита и сбежит с корабля.
— Пусть попробует! Если уйдет наш кок, вся команда разбежится. Мы его морским тросом к мачте привяжем.
— А ты не забудь прежде чем на корабль ступить — взвеситься. А то из-за лишнего груза другие могут пострадать.
«Слова-то у нее все какие-то крученые, — с еще более усиливающейся неприязнью думала Евдокия. — А мой под нее подстраивается. Ишь, в глаза заглядывает».
Костя стал подтрунивать над сонливостью
Татьяны, которая появилась у нее в последнее время. Оба заливисто смеялись.
Евдокия ушла на кухню. Она с трудом сдерживала раздражение, боясь преждевременно выдать свои мысли. Разогрев картофель с мясом и борщ, она сказала молодым, что ей нездоровится, и пошла спать.
На другой день она еле дождалась, когда Татьяна уйдет на работу. И как только за нею закрылась дверь, прямо у сына спросила:
— Ты что, совсем голову потерял?
— Это ты о Танюше? Кажется, да. — Костя улыбнулся, спокойно глядя на Евдокию. Это ее сразу взорвало:
— Неужели ты не разбираешься, что к чему? Разве такая тебе нужна жена? Она совсем неумеха. При тебе старается, за все берется. А позор-то весь при ней. Куда твои глаза глядят?
— Мама, — недоуменно спросил сын, — как ты можешь говорить так о человеке, с которым живешь под одной крышей?
— Вот именно! Я ее приютила. Хвост ее прикрываю…
— Мама! Я прошу…
— А, слова мои не нравятся! Я не хулю, а правду говорю.
Костя вскочил с кресла, снова сел. Правая щека у него вспыхнула, что, Евдокия знала, бывает, когда он сильно волнуется. Она приструнила себя и продолжала более спокойно:
— Неужели ты не можешь найти себе более подходящую девушку? У тебя так много разных знакомых. Вера Козлова чем плоха? Музыкальное училище заканчивает, вяжет, шьет. А Таня Лобанова почему не устраивает?
Скромная, обходительная, все при ней. Вы же с нею последнее время дружили.
— Все это детство, товарищеские отношения, — поморщившись, нетерпеливо перебил Костя.
Евдокия вздохнула, скрестив руки на животе:
— Там детство, здесь — любовь горячая? Чем эта краля тебя приворожила? Своими бессовестными глазами? Губки бантиком, носик крантиком. С лица воду не пить. Тебе человек для жизни нужен, а не кукла.
— Таня — добрый человек! — запальчиво выкрикнул Костя, с силой хрустнул костяшками пальцев. — Да, добрая, доверчивая. Случилось у нее такое… что, ее нужно теперь казнить за ошибку?
— Хороша ошибочка! За такую ошибку мне отец бы голову оторвал, муж в глаза наплевал, а люди дегтем ворота бы вымазали, пальцем показывали бы.
— Мама! — Костя встал, зашагал по комнате взад, вперед. — Сейчас совсем другие времена…
— Сейчас честь не в моде? — фальцетом выкрикнула Евдокия.
— При чем честь, когда девчонка ошиблась!
— Ладно, — вдруг вкрадчиво произнесла Евдокия. — У тебя любовь открылась, а у нее тоже? Вроде совсем недавно у нее к другому любовь была.
— Она просто потеряла голову.
— Сейчас тоже потеряла? — так же тихо, с особым нажимом спросила Евдокия и сразу повысила голос, загрозив пальцем. — При крыться она тобой хочет, стыд свой схоронить. А ты губы раскатал на ее улыбочки. Получи драгоценную радость, воспитывай чужого ребенка. — Евдокия раскинула в стороны руки.
— Мама! — сын стукнул по ноге рукой. — Ребенок здесь ни при чем. И не надо говорить о нем так пренебрежительно, — повысил голос. — Он — будущий человек.
— …которого она хотела упрятать в дом ребенка, — язвительно усмехнулась Евдокия.
— Это от отчаяния! — громко крикнул Костя. — У нее надломлена душа. Человек даже веру в людей потерял!
— Поэтому она прицепилась? Она так и будет всю жизнь изменять тебе.
Костя замотал головой:
— Меня не интересует, что у нее было в прошлом. Я вижу: Таня серьезная, добрая. И преданности ее не нужно учить. Она все понимает, во всем разбирается, деликатна. — Он, судорожно вздохнув, жалобно посмотрел на мать.
— Да родственница она нам! — накренилась к сыну Евдокия.
— Десятая вода на киселе.
Евдокия еле сдержалась, чтобы не раскричаться. Ей казалось, что слезы вот-вот брызнут из глаз, но голос становился все тверже:
— Глаза свои протри, затмение на них нашло. Жену берут не только для ласок, о муже она должна заботиться, уют в доме наводить, честь хранить. А эта — неумеха, лентяйка, распутница! И ты позарился на такое! Дрянь она! Мерзавка!
Костя сцепил руки, с силой разорвал их и почти зло, отчужденно посмотрел на Евдокию.
— Мама, я не хотел тебя больно задевать. Но ты сама к тому привела. Все выскажу! — крикнул он. — Я всегда уважал тебя, доброй считал, прислушивался к твоим словам. А из-за Тани увидел тебя будто другими глазами. Когда узнал, что родственнички напридумывали с домом ребенка, был просто ошарашен. Неужели ты не понимаешь, что это преступление? И не только перед ребенком, но и перед Татьяной. Мне стыдно за тебя и жалко Таню, что она попалась в ваши силки.
— Конечно, — ядовито процедила Евдокия, — ее пожалеть резон есть. Ты что, из-за жалости собираешься жениться на ней?
— Нет, с жалости все началось. Я испугался за нее. Мне хотелось ее спасти, — Костя говорил уже почти спокойно. — Вижу — хорошая девчонка, только вся растерялась. Хорошая она, я даже сам не заметил, как влюбился в нее.
— Обманываешься ты!
— Я знаю, что она стала для меня очень дорогим человеком, и хочу заботиться о ней и о ребенке.
— А мать побоку?
Костя сокрушенно качнул головой.
— Зачем ты так говоришь, мама? Ты же знаешь, я тебя никогда не обижу.
— Ишь ты, для всех хочешь хорошим быть, не получится. Или я, или она! — твердо заявила Евдокия.
Сын молча опустил голову.
Евдокия подошла к нему вплотную.
— Ты жизни не раскушал, не пробовал, какая она может быть горькая.
Костя поднял голову.
— Жизнь, мама, я знаю хуже тебя. Но я знаю уже твердо: лучше людям живется, если они между собой как в одной цепи, а не прячутся за спины друг друга. Наш капитан так и говорит…
— На корабле у вас законы морские, а здесь людские, — с еще большим вызовом крикнула Евдокия.
— Те же самые, мама, человеческие.
— Что с тобой говорить, коль ты трезвость потерял… — голос Евдокии дрогнул. Она почувствовала, как горячий комок подступил у нее к горлу, обжег все нутро. Она обхватила ладонями лицо и заплакала. Костя беспомощно, растерянно глядел на нее. Но вдруг всплеснул по-женски руками и громко выдохнул:
— Э-эх, мама!
Повернулся, пошел в прихожую. Резко стукнула входная дверь. Евдокия подняла голову, прислушиваясь к затихающим па лестнице шагам. Ей стало страшно: сын отдалился от нее. А ведь он всегда делился с нею своими заботами, ничего не скрывал, смело просил совета. Верил ей! Каким был всегда внимательным! Никогда грубое слово не сказал, умел заботиться о матери. И вот…
Евдокия подошла к двери, растерянно остановилась около нее. Взглянула на себя в зеркало. Каменное лицо с застывшими в глазах слезами! Жалкая фигура! Снова задрожали губы, всхлипнула:
— Воспитывала сынка, радовалась! В старости утехи ждала…
Слезы опять потоком хлынули у нее из глаз. Ей становилось все обиднее за себя. По чему не возвращается Костя, он бы увидел, как ей горько, тяжело. Попросил бы у матери прощения. И снова стало бы все ладно. Куда же он ушел?..
Устав от рыданий, Евдокия решила прилечь на диване. Долго лежала ома неподвижно и не заметила, как задремала. Когда проснулась, в душе уже так остро не болело, но в груди было как-то тяжело и пусто.
Несколько дней Евдокия ходила совсем разбитая — все не могла успокоиться. А тут началась еще сильная головная боль.
Внешне Евдокия старалась быть прежней. Только к Тане меньше обращалась. А та вроде бы и не замечала этой перемены.
У Евдокии стало покалывать сердце. Она все же пожаловалась молодым.
— Мама, ты лежи больше, мы сами на кухне будем вахту нести, — мягко предложил сын, виновато глядя ей в глаза.
Таня ласково произнесла:
— Сейчас же и ложитесь в постель, а я в аптеку схожу за валерьянкой и настойкой пустырника. Чай с медом вам наведем, он тоже успокаивает.
Евдокия, молча кивнув головой, подавила вздох:
«Голубушка, на все уловки идешь, лишь бы парня охомутать. Заботливой прикидываешься».
Как-то лежа бессонной ночью в кровати, Евдокия стала примеряться к той жизни, которая ее ждет с неожиданной невесткой:
«Костя твердость выказывает. Знай стоит на своем: люблю, мол. Что теперь сделаешь?
Остается к молодым приноравливаться. Видно, придется и с невесткой общий язык находить. Еще неизвестно, чем другая лучше будет. К ним, нынешним, спроста не подступишься, все с фокусами, капризами. Сколько мне маяться душой, здоровье терять? Пусть путаются, как знают…»
Буря в душе Евдокии затихла.
На другой день пораньше встала, к завтраку принялась ватрушки готовить. Когда на кухне появилась Татьяна, ласково сказала ей:
— Мое дело старческое, а ты-то что рано проснулась? Понежилась бы.
Татьяна посмотрела с удивлением, видно, чтобы скрыть растерянность, начала волосы в косу заплетать, вдруг улыбнулась лучисто, довольно:
— Денек какой сегодня светлый.
— На весну тянет, — беззаботно рассмеялась Евдокия.
Снова в доме стало спокойно, весело. Костя так радовался этому. К матери стал относиться особенно внимательно. То обнимет се будто ненароком, то в газете статью интересную предложит почитать, то пластинку ее любимую заведет.
«Меня обхаживает, а сам вокруг этой танцует, — с раздражением замечала мать. — Чай без конца ей заваривает, книги вслух читает, к фабрике по вечерам бегает встречать. А какими взглядами ласкает! Мать не пожалел из-за своей кралечки. Нет, не понимает ничего в жизни! В подкаблучники метит! Такими жены всю жизнь помыкают. А эта рада, что поймала на свой крючок. Ишь, на прогулки с ним ходит. Я в ее положении на люди стеснялась по казаться. А она как королева вышагивает. Смотрите, люди добрые: осчастливила кавалера!»
Евдокия не выдержала, сказала сыну:
— Ты не очень бы крутился вокруг своей ненаглядной. Знай и себе цену. Ты — парень видный. Гонор тоже свой имей.
Сын вспыхнул:
— Что ты, мама, все выдумываешь? Уши вянут такое слушать!
— А ты не слушай мать, она дельному не научит! Вы ведь теперь умнее матерей стали. — Замолчала, увидев, как сморщился сын.
Хотела Евдокия и Татьяне подсказать, мол, не очень забывайся. Но сдержала себя. Еще выдастся момент, чтобы слово вставить.
В общем, за этот отпуск сына Евдокия так измучилась, что даже обрадовалась, когда подошло время его отъезда.
В дорогу Косте мать собрала много припасов, наказала:
— Все сразу не раздавай. Тушенку, компоты оставь про запас. Потом съешь.
— Ну, мама, у нас по тумбочкам ничего не прячут, — скороговоркой бросил сын и повернулся к Татьяне. — Помнишь, ты мне обещала стихи списать?
— Конечно, не забыла.
— Скоро опять море. Все просто, ясно.
— В ясную погоду, — с неопределенной усмешкой ответила Татьяна.
— И ясная погода надоедает.
— А он, мятежный, ищет бури.
— Покой — состояние относительное.
Евдокия с любопытством поглядывала на молодых, упаковывая чемодан.
«У этой стрекозы не поймешь, печалится ли, расставаясь. Улыбается, шутит, вздыхает— притворство. Сынок-то, видно, понурый. Горе тяжкое — расстается с зазнобой. Эх, ты, теленочек! Хоть бы гордость показал, чего льнуть к ней, куда денется? Ишь, то по голове погладит, то руку к груди прижмет. Эх, дети — отданный хлеб…»
Когда нужно было уходить на вокзал, сын робко попросил Евдокию:
— Не ходи ты, мама, к поезду, устала ведь с этими сборами. Попрощаемся дома, а меня Танюша проводит.
Евдокия горько усмехнулась:
— Как велишь, так и сделаю.
Расставаясь, она не проронила ни одной слезы. Крепко обняла сына, поцеловала, перекрестила:
— Возвращайся поскорее. Обиды на мать ни в чем не держи. Для тебя живу.
— Пиши мне, мамуля, почаще. Скучаю без тебя. — Костя прильнул к ее щеке.
Евдокия даже за порог не вышла. Смотрела на сына из окна. Он в одной руке держал тяжелый чемодан. Другой обнимал Татьяну, прижавшуюся к нему. Так и скрылись за углом.
После отъезда Кости Татьяна замкнулась в себе. Разговаривала очень мало, гулять почти не выходила. Читала, смотрела телевизор, вязать пристрастилась. Очень быстро стала полнеть. А во взгляде у нее была то ли пустота, то ли усталость. И за какое бы дело ни взялась, двигалась неспешно, будто заторможенно. Евдокия однажды не выдержала:
— Что ты на ходу засыпаешь? Тебе двигаться побольше нужно, а то не разродишься.
Татьяна только плечами пожала.
Раздражение к ней потихоньку затихло.
«Эх, надоело с утра переживаниями умываться, днем ими закрываться, а ночью в них задыхаться. Что будет, то и будет. За полгода воды много может уйти. Неужто там, вдалеке, Костя за ум не возьмется? Авось с глаз долой — из сердца вон. Должен сам понять — не пара ему Татьяна».
И Евдокия отмалчивалась. Не хотелось теперь и ей вступать в разговоры. Подсядет на весь вечер к телевизору — и все развлечения…
Но почему-то дни бежали очень быстро. Может, оттого, что Евдокия боялась скорого приближения лета, когда Костя совсем должен вернуться.
…А лето подступало властно. Особенно это чувствовалось по утрам, когда Евдокия только просыпалась. В открытую форточку тянуло таким ароматом, свежестью, что казалось, пей — не напьешься этим нектаром.
«Ах, как душа всему радуется! — думала Евдокия, глядя в окно. — Даже на то высокое облачко завидно смотреть. Присмирело, застыло. А эта птаха, что на ветке сидит, тоже свободой, красотой наслаждается. Щебечет, летает, червячка схватит — довольна. Неразумная, а у нее можно поучиться, как нужно просто и легко жить. Радоваться тому, что получаешь. А заботы… были и прошли. Зима холодная, зато весна теплая, голодно было, зато теперь всего вдоволь. Знай радуйся жизни!»
Евдокия улыбнулась своим мыслям: эк хватила, птахе позавидовала!
Никуда не уйдешь от своих забот…
За неделю до декретного отпуска отправила тетя племянницу в роддом.
Занемогла Таня еще с утра. С постели встала с сильными отеками под глазами. Держась за живот, согнувшись, медленно походила по комнате. Снова легла, через час встала, постанывать начала.
— Давай-ка вызову «скорую помощь»! — обеспокоенно предложила Евдокия.
Татьяна только рукой махнула:
— Может, пройдет все.
После обеда сама попросила Евдокию:
— Проводите меня в роддом, он недалеко.
— Может, все же машину вызвать?
— Еще пока терпимо.
— Рано ты надумала. Сроки-то дальние.
В автобусе Татьяну тошнило. Несколько раз она капризно пожаловалась на тряску.
Евдокия глядела на ее бескровно кривящиеся губы, испуганные глаза, чувствовала жалость к Татьяне. Поглаживая ее руку, успокаивала, как могла.
В больнице Татьяну увела с собой полная, розовощекая медсестра. А Евдокия осталась сидеть в коридоре приемного покоя. Медсестра несколько раз выходила и предлагала ей уйти домой.
— Нет, я не могу, дома истомлюсь. Роженица у нас совсем молодая… И телефона дома нет.
— Но здесь вы ей ничем не поможете.
— Да как-никак человек родной рядом.
Когда медсестра вышла без халата, видимо, домой направлялась после дежурства, Евдокия подошла к ней. Сложив руки на груди, умоляюще спросила:
— Как там Нефедова? Сильно мучается? Скажите мне, пожалуйста, правду.
— У вашей дочки высокое давление, сбить не удается никак.
— А врачи там на что? Куда они смотрят? — не сдержала раздражение Евдокия.
— А вы куда смотрели? — сердито спросила женщина. — У вашей дочки еще две недели назад поднялось давление, а она категорически отказалась лечь в больницу. Даже расписку написала. Вы что, об этом не знали?
— Нет, — растерянно ответила Евдокия, сразу сникнув. — Но что же теперь будет? Вот напасть! Кто ж этого ожидал? Она — дивчина деревенская, должна быть здоровая, откуда у нее давление?
— В деревне ее холили, а здесь, вероятно, какие-то сильные переживания у нее были в последнее время. Да не расстраивайтесь вы, у нас хорошие врачи, помогут.
Евдокия, кивнув, снова села на топчан. Две женщины, сидевшие рядышком, сочувственно заговорили с нею, стали успокаивать.
— Да, конечно, теперь медицина развитая, — вздыхала Евдокия. — Всякими способами роженице помогают. Мне рассказывали, что и кровь любую вливают, и наркоз делают, и массажи разные. А сердце все одно волнуется. Не чужая ведь мне, а родители ее далеко.
— Рожать она долго будет. Затомитесь.
— Аль и правда пойти домой? — задумчиво произнесла Евдокия. — Там, может, сном забудусь. А, пойду! Все одно ничем не помогу. Не ночевать же мне здесь.
С утра, даже не завтракая, поехала в больницу.
В приемном покое сразу направилась к доске, где вывешивали объявления: когда, кто, кого родил и какого веса. Вчера еще Евдокия приметила эту доску. А сегодня хорошо, что очки захватила.
Несколько раз она прочла списки. Нефедову не нашла.
«Может, одумался малыш, что не пришел его срок?»
Евдокия подошла к окошечку справочной, попросила полную медсестру:
— Дорогая, узнайте, что там с Нефедовой? Еще вчера она так мучилась!
— Нефедова вчера родила мальчика, — взглянув в тетрадь, поспешной скороговоркой сказала медсестра.
— Слава богу, отмучилась!
— Мальчик умер от асфиксии, — сочувственно вздохнула медсестра.
— Голубушка, а что такое эта асфиксия?
— Как вам объяснить? Сердце у ребенка остановилось.
Евдокия хотела кивнуть, дескать, понятно, а сама только неловко шеей дернула. Медленно пошла к топчану, тяжело села на него.
«Ну, дела, — сказала она про себя, закусив губу. — Кто ж такой поворот ожидал? Лиза теперь будет довольна. Она словно предвидела все, потому и Татьяну спрятала. Ох, дошлая, не отнять ума у нее. Хоть и с изменениями все получилось, но по ее плану. Не будет теперь Татьяна опозоренной. Быльем все порастет. Вот жизнь какая! Главное, вовремя понять, куда ветер дует! Не зря Лизу стоумовой величают! К лучшему все получилось. Как ни крути, а дом ребенка разве это хорошо? А женись
Костя на Татьяне, он бы не отдал ребенка, на себя обузу надел бы. Чужой ребенок не станет своим, не понимает Костик пока. А, что теперь об этом думать. Нет ребенка, и делу конец. Как там Татьяна? Переживает ли, радуется? Глазком бы на нее одним взглянуть. Да разве ее поймешь! Эх, дела…»
Евдокия встала и быстро пошла к выходу. Решила посидеть в больничном садике, в заросшем кустарником уголке, который приметила из окна. Поплакать для порядка нужно. Все же живая душа преставилась.
Неловко так расположилась Евдокия в кустах. Со всех сторон — ветки, повернуться страшно— кофту порвешь. И в туфли песок насыпался.
Сжавшись в комочек, похлюпала, похлюпала носом Евдокия, вытерла глаза чистеньким, вышитым платочком. И с чувством облегчения опять направилась к приемному покою, узнать, какие продукты можно передавать в больницу.
Через три дня Татьяну выписали. Евдокия приехала за нею очень рано. Опять долго сидела в приемной, скучающе поглядывая на плакаты, что висели на стенах, где объяснялось, как ухаживать за ребенком.
Вошла старушка, подсела к Евдокии:
— Внука или внучку забираете?
— Несчастье у нас, умер мальчик.
Старушка сердобольно заохала.
— Переживаем, — стала вытирать платком глаза Евдокия. — Что не так ему было? Питалась хорошо, работа не тяжелая.
— Хлипкая молодежь пошла. Я вон пятеро дочек родила. А младшенькая моя двойней разрешилась. Сейчас отец прибежит, с работы отпросился. Ваш-то уже знает?
— В командировке он, — коротко ответила Евдокия и решила молчать, чтобы не было ненужных расспросов.
Вышла наконец Татьяна. Стройная, розовощекая, какой приехала к Евдокии несколько месяцев назад. Глаза у нее стали спокойными.
«Ей все нипочем», — почему-то с обидой подумала Евдокия и осторожно спросила:
— Танечка, как ты себя чувствуешь?
Она неопределенно пожала плечами.
«Слово вымолвить за труд считает, гордячка!»— поджала губы Евдокия. Решительно взяла сумку у Татьяны.
— Тебе еще нужно беречься.
В автобусе ехали молча. Евдокии хотелось порасспрашивать Татьяну, но сдерживалась, тихонько вздыхая: «Хороша будет невестушка. Чем хоть теперь недовольна? Разве это горе для нее? К тому и стремилась. Может, дома разговорится?»
Но и дома Татьяна молчала, выкладывая вещи из сумки. Евдокия не выдержала:
— Танюш, может, мать или тетю Лизу вызовем сюда, в письме всего не пропишешь. Да негоже писать об этом, вдруг в чьи руки письмо попадет. Или сама навестишь своих?
— Я домой не поеду, — коротко ответила Татьяна, продолжая разбирать вещи.
— Это как знаешь. Живи здесь, как жила. Скоро Костя вернется. Месяца два и осталось ему службы.
— Мне-то что! — хмыкнула Татьяна. — Он в свой угол вернется.
— Что-то я не пойму, — растерянно раз вела руками Евдокия, опустилась на стул.
— А я вас не пойму, — бросила перевязывать пакет Татьяна. — Вы так переживали, что Костя влюбился в меня, даже заболели из-за этого. Я и вправду, бессовестная, собралась за него замуж, чтобы стыд свой скрыть. Вы же сами мне говорили, помните: «Тебе, Таня, замуж бы выйти теперь». Костя хоть и решился, предложение мне сделал, а в душе мучился, жалко ему вас было. Вот я и решила: возвращаю вам Костю. — Таня исподлобья взглянула на тетю. — А вы что-то вроде и не рады. Ах, да, что вы Косте скажете? Или я вдруг сразу хорошей стала?
Евдокия прикусила губу, справляясь с растерянностью.
— Вот как ты заговорила, дорогуша! Я теперь тебе без надобности. Как туфлю разбитую с ноги сбрасываешь? Да, ты из тех… тебе дай палец, руку откусишь. Напользовалась моей добротой?
— Доброта, — резко вскинулась Татьяна, — ваша доброта… она хуже, чем зло. В ней тонешь, как в протухшем болоте. Гнилью от нее тянет. Сам сгниваешь от нее! Как я вынесла эти несколько месяцев здесь?
— Батюшки, — прихлопнула в ладоши Евдокия. — Что же это творится? Думаешь ли ты, что говоришь?
Татьяна язвительно рассмеялась:
— Я давно все высказать хотела. Сколько же сдерживаться! Радуюсь, что язык развязался. — Качнула головой. — Все, все вы на одно лицо. На кого ни посмотрю, тоска берет. Жить не хочется. О выгоде своей каждый хлопочет, за шкуру свою дрожит.
— Ты и о Косте так думаешь? — растерянно спросила Евдокия.
— Костя… знайте, я с ним поступаю, как и со мной поступили — без сожаления. Да, мне это доставит удовольствие. Не было у меня к нему никаких чувств. Правду говорят, с волками жить — по-волчьи и выть. И меня на ваши повадки потянуло. Пусть теперь и ваш сыночек помучается. Это ему на пользу, увидит жизнь без прикрас. Он добр от глупости своей, как я когда-то была.
Евдокия открыла рот, но не могла вымолвить ни слова. Вдруг пронзительно закричала:
— Да ты гадина! Змея подколодная! На груди пригрелась.
— Ага! Пропяло! — злорадно рассмеялась Татьяна. — Свое как не защитить? Больно, да? Все становится на свои места. Вы думали, я не замечала, как не любите меня. Бедняжка! Как вы страдали, терпя такую обузу. Сочувствую. Понимаю. Главное, чтобы родня не осудила, чтобы сверху все было шито-крыто. — Татьяна снова истерично рассмеялась.
Евдокия, приходя в себя, тоже неестественно рассмеялась, нарочито ласково спросила:
— Голубушка, ты уже себя в силе почувствовала, как от ребенка отделалась?
Татьяна неожиданно серьезно посмотрела на нее:
— Освободилась я от вас. — Задумалась. Потом с горькой веселостью произнесла: — А дома обрадуются: как же, дочь теперь без греха, перед людьми ис стыдно будет. О, теперь уже по-настоящему учить жизни будут несмышленую. Как же у вас не поучиться, если вы со всех сторон к жизни приладились.
— А ты не зарекайся, не плюй в колодец, может, еще напиться приспичит.
— Нет, лучше от жажды умереть, чем пить вашу отраву, — тихо сказала Татьяна. И вдруг из глаз у нее покатились слезы. Она отвернулась. Евдокия молча растерянно постояла. Подошла к племяннице ближе:
— Ты что, Татьяна? Я ж тебя понимаю. Жить тяжело.
— Как тяжело жить! — открыто всхлипнула племянница. — Как тяжело жить, — снова глухо повторила Татьяна.
Слезы навернулись и на глаза Евдокии, ей вдруг стало до боли в груди жалко племянницу, она схватила ее за руку и умоляюще попросила:
— Танюша, прости за все! — Всхлипнула. — Я сама молодой была, сама любила. И все забыла, почему это забывается?
Раздался короткий звонок. Евдокия замерла: «Кого несет? Может, и не открывать».
Татьяна нервно передернула плечами:
— А вот и свидетели задушевного родственного разговора.
Евдокия пошла к двери, сильнее обычного загребая правым, свободным на ноге тапком. Прежде чем распахнуть дверь, помедлила. На пороге стояла улыбающаяся Александра Павловна. Смущенно выглядывал из-за ее плеча муж. Евдокия посмотрела на них растерянно. Она еще не отошла от пыла ссоры, полупримирения. Мысли ее путались. И вдруг безмятежность лиц, улыбок гостей…
— Извините, может, мы не вовремя? — Александра Павловна вопросительно оглянулась на мужа. Он недоуменно пожал плечами.
— Ну, о чем вы говорите, таким гостям всегда рады, — встряхнувшись, оживленно заговорила Евдокия, пропуская мужа с женой в квартиру. Александра Павловна шагнула нерешительно. Муж прошел как-то боком.
— Давненько мы у вас не были, — виновато улыбнулась Александра Павловна. — Вот Марк болел.
— Прихватила простуда, — муж развел руками.
— Молока ледяного напился из холодильника, — осуждающе пояснила Александра Павловна. Заглянув в зеркало, поправила волосы. — Как сама за ним не усмотрю, беда.
— Ну, ты, Сашенька, скажешь, не ребенок ведь я.
Гости в комнате не успели присесть на диван, как из спальни вышла Татьяна в коротком узком платье. Выражение лица у нее было спокойное и решительное. Евдокия лихорадочно стала поправлять фартук.
— Здравствуйте, — четко произнесла Татьяна. Остановилась в проеме двери, замедленным движением подняла руку и оперлась легонько о косяк. Молча, выжидающе посмотрела на Александру Павловну, ее мужа.
Александра Павловна напряженно свела брови, всем корпусом повернулась к Евдокии и тихо спросила:
— А что случилось? Разве уже все?
Евдокия кашлянула:
— Да вот не ждали, не гадали, а в больницу попали.
— И кто, девочка или мальчик? — тихо и как-то очень осторожно спросила Александра Павловна.
— Мальчик, — со вздохом ответила Евдокия.
— Он умер, — медленно и четко произнесла Татьяна.
— Как умер? — шепотом спросила Александра Павловна и тут же поправилась: — Отчего умер?
— Сердце остановилось, — коротко пояснила Евдокия.
— Нет, нет, это невозможно! — неожиданно вскрикнула Александра Павловна, резко тряхнув головой. Она посмотрела растерянно на Татьяну, Евдокию, мужа, судорожно вздохнула. С дрожью в голосе спросила: — Что же это такое? Я так ждала…
— Успокойся, — мягко сказал муж и сжал плечо. — В жизни все бывает… всякие неожиданности. Ты сама говоришь, нельзя никогда терять присутствие духа.
— Но я… я же готовилась. Каждый день ждала. Ты сам знаешь, Марк, — она умоляюще взглянула на него. — Ну, что же это такое? Почему, почему мне так не везет? Мы же и хотели мальчика, ты хотел мальчика, — поспешно поправилась Александра Павловна. — Я уже и белье ему заготовила.
— Голубушка, пригодится еще белье, — мягко обратилась к женщине Евдокия.
— Вы не знаете, что это такое — ждать, — раздраженно ответила Александра Павловна. — Вам, вам… не понять этого.
— Сашенька, ни к чему говорить такое, — полуобнял муж жену. Она осторожно сняла его руку. Встала.
— Марк, почему мне так не везет? Разве бы я плохо воспитывала этого мальчика?
Муж с подчеркнутой настойчивой мягкостью попросил:
— Ну, Сашенька, милая, успокойся же наконец. Возьми себя в руки.
— Да, да, меня можно пожалеть… — слезы брызнули из глаз Александры Павловны. Лицо вытянулось, стало некрасивым. Взглянув на себя в зеркало, женщина, прикусив губу, перестала плакать, провела по лицу рукой, тихо сказала:
— Извините, можно умыться?
— Да, голубушка, идите в ванную, — мягко ответила Евдокия.
Александра Павловна ушла. В комнате воцарилось молчание. Марк Игнатьевич, смущенно кашлянув, взглянул па Татьяну. Увидев на ее лице легкую усмешку, выпрямился:
— Вы поймите мою жену правильно. Она очень добрая, чувствительная. За чужие неприятности переживает больше, чем за свои.
Лицо Татьяны напряглось.
— Вы извините, Марк Игнатьевич, я вам правду скажу, — в голосе Татьяны появилось что-то жесткое. — Не за чужие неприятности переживает ваша жена, за свое благополучие испугалась… так же, как и вы.
— Материнство ее боль, — с вызовом перебил мужчина.
— Ах, какого переполоху наделал мой ребенок! — с наигранной сокрушенностью сказала Татьяна.
Вошла Александра Павловна, напудренная и уже спокойная. Татьяна взглянула на нее и с жесткостью продолжила:
— Вначале моего ребенка не хотел никто. О, как переполошились мои родственники,
Для них это было страшнее грома среди ясного неба. Срочно были приняты меры, чтобы все шито-крыто. А как стали на меня давить! И я тоже не меньше их испугалась этого бедного ребенка. — Она усмехнулась с горечью. — Нас можно поздравить с успехом. Он, как говорится, превзошел все ожидания.
— Татьяна, что ты всех огулом ругаешь, — вмешалась Евдокия. — Мы уже обо всем этом с тобой переговорили.
— А я хочу, чтобы слышали и эти люди, какова их роль была. — Татьяна резко тряхнула головой. — Они ведь тоже видели рвение, с каким включились в это дело вы, тетя Дуся. Да, вам нужно отдать должное. По своей изобретательности вы переплюнули даже тетю Лизу.
Евдокия что-то хотела ответить, но Татьяна перебила ее:
— А знаете, ваш Костя тоже в душе был против ребенка. Он ведь все же ваш сынок. Да, да, я видела, как он страдал из-за вашей ссоры и желал, чтобы как-нибудь все само уладилось. Это он на словах твердый.
Татьяна остановила колкий взгляд на Александре Павловне:
— Вы-то, конечно, ждали моего ребенка. Он вам нужен для полного благоустройства быта, а не для удовлетворения чувства материнства. Да! Чтобы муж к другой не сбежал, чтобы вам было чем забавляться, чтобы в квартире был полный достаток.
— Замолчи! — громко прошептала Александра Павловна и шагнула к Татьяне, но тут же отступила и оглянулась на растерявшегося мужа.
* * *
Валентина Ивановна Амиргулова
ЖРЕБИЙ
Повести
Редактор Л. Плигина
Художник В. Александров
Художественный редактор А. Никулин
Технический редактор В. Соколова
Корректор Г. Селецкая
ИБ № 4226
Сдано в набор 18.03.86. Подписано к печати 10.07.86. А17659. Формат 70x90/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 7,02. Усл. краск.-отт. 7, 17. Уч.-изд. л. 7,05. Тираж 30 000 экз. Заказ 82.
Цена 70 коп.
Издательство «Современник Государственного комитета РСФСР но делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007 Москва, Хорошевское шоссе, 62
Полиграфическое предприятие «Современник Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 415013, Тольятти, Южное шоссе, 30
Оглавление
Одна в городе
Жребий
Переполох