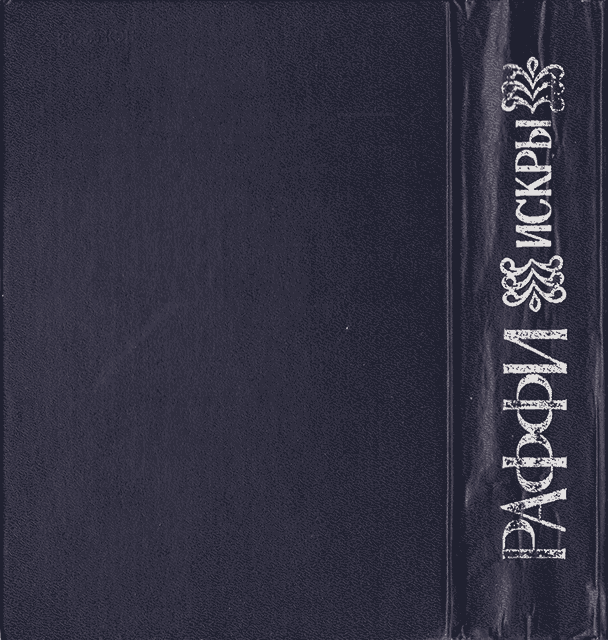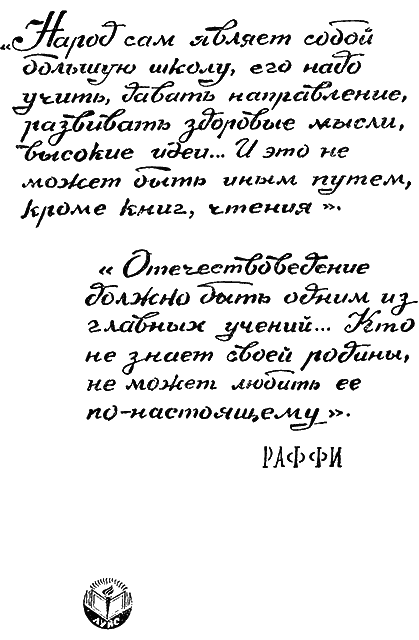
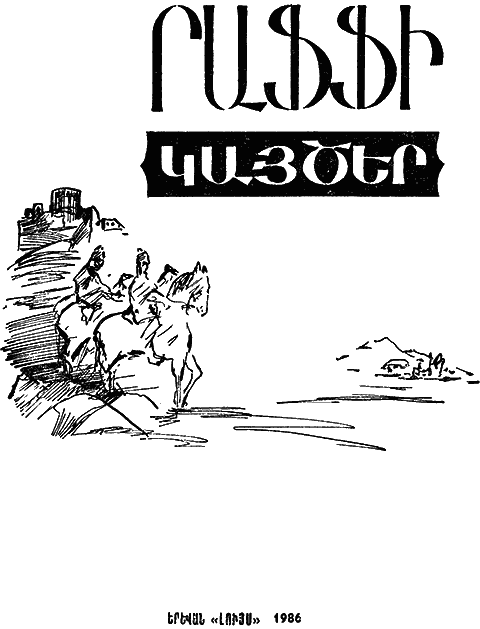

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Силой своего волшебного таланта ты воодушевила робких, внушила отвагу слабым, подняла их против сильных, чтобы омыться мученической кровью и стереть слезы рабства!»
Ов. Туманян
Акоп Мелик-Акопян, он же Раффи, что означает величавый, — действительно одна из наиболее ярких и величавых фигур среди наших писателей-классиков. Нет ни одного настоящего армянского труженика пера, ни одного человека иной профессии, который с благоговением не вспоминал бы его имя.
«Вы из тех поэтов, — писал Рафаэл Патканян, — в коих вечно здравствует божественный дух старых пророков, клокочущий до тех пор, покамест не укажет народу его знамя и верный путь в грядущее… Вы из тех поэтов-мессий, которых мы искали и не находили по сей день». И действительно, Раффи был одним из тех писателей-пророков, кому свыше было дано пламенными словами воодушевлять и «глаголом жечь сердца людей». Но Раффи стал Раффи лишь тогда, когда он вполне осознал свое высокое призвание — стать выразителем дум и чаяний родного народа. «Поэт, — говорил он, — обязан откликаться на народное горе и выражать его сокровенные думы и чаяния». Вооруженный этим сознанием высокой роли писателя, Раффи по своему собственному признанию, отложил в сторону свои творения: «Гарем», «Золотой петушок», «Таинственную паломницу», сборники стихотворений «Букеты» и один за другим создал романы «Джалаледдин», «Хент», «Давид-Бек», «Меликства Хамсы», а затем и «Искры».
Это было в период русско-турецкой войны 1876–1877 гг., когда, по словам Раффи, поэт Гамар-Катипа (Р. Патканян) также оставил свои «Крампапули», свои стихи о «девушке, воспитанной в столице» и начал писать о мушских тружениках, об их горестной судьбе. Именно в этот период и Церенц пишет свои исторические романы «Торос Левони», «Еркунк», «Теодорос Рштуни».
Речь идет о том периоде, когда народ стонал и тонул в потоке крови, когда героические сыны армянского народа вместе с передовыми частями русской армии под предводительством генерала Тер-Гукасова и других поднялись на смертный бой против лютого врага. Именно в эту пору, выступая на страницах газеты «Мшак» с романами «Хент», «Искры», Раффи тем самым, по словам Ованеса Туманяна, «растет и мужает, вместе с ним и газета „Мшак“».
«Искры» — это тот программный роман, в котором автор указывает что делать, чтобы высвободить армянский трудовой народ из-под ярма феодальной Турции и ханской Персии. Роман целиком и полностью проникнут идеями освободительной борьбы. Эта идея, сверкая подобно молнии, проходит сквозь весь роман. Носителями этих идей становятся главные герои — Аслан, Каро, Фархат, для которых вдохновляющим примером становится поднятое болгарским народом знамя борьбы за освобождение из-под турецкого ига. Не так уж много времени прошло с той поры, когда гремели раскаты национально-освободительной борьбы в горах Тавра, где зейтунские храбрецы вдребезги разбили турецкие полчища. Одним из вдохновителей восстания зейтунцев 1862 года был и почитаемый Раффи пламенный революционер Микаэл Налбандян. Раффи верил в силу народа, умеющего разрывать оковы, он верил и в силу слова, способного вывести народ из вековой спячки. Вот как охарактеризовал Егише Чаренц силу пламенного слова, сказанного устами Раффи:
Лира моя — перо мое остро, священно,
Посеяло бурю
Во мгле родной страны,
Мечты и искры.
Отсюда, доспехи взяв, пошли
Фархат и Каро.
По свидетельству видного историка Лео, работавшего в то время в газете «Мшак», наборщики романов Раффи с захватывающим интересом читали эти произведения. Вот что пишет об этом Лео: «Наборщик „Хента“ и „Искры“ признался мне, что идет, и есть другие, идущие с ним вместе на подвиг. И действительно, он ушел».
И в последующие десятилетия Раффи также властвовал на литературной, и не только на литературной ниве. Его раздувающие огонь «Искры» дошли и до воспитанников Московского Лазаревского института и воодушевили их. Образ Аслана стал самым любимым для Ваана Теряна. Вот что рассказывает по этому поводу друг поэта Погос Макинцян: «Раффи был самым любимым нашим автором. Именами его героев любили называть себя Лазаревцы. Любимым героем Ваана был Аслан из романа „Искры“. Именно Аслан был властителем дум в институте. Такую же сильную любовь питали к Раффи однокашники Теряна П. Макинцян, Ц. Ханзадян и другие, которые впоследствии выступили с блестящими статьями о Раффи.»
Ваан Терян с любовью перевел «Искры» Раффи, считая его выдающимся произведением, призывающим к освободительной борьбе против персидского, и в особенности турецкого ига, где как в «аполлонове зеркале» отражаются печальные картины армянской жизни. Раффи в романе беспощадно срывал маски с чужеземных и собственных поработителей. В «Искрах» отражено и горе пандухта-изгнанника
[1], ушедшего из-за гнета и безземелья в чужие края, оторванного от родного очага, от всего, что дорого сердцу, что согревает душу.
Искрометным, разящим пером Раффи клеймил и иезуитов-миссионеров, кишащих в Армении, а также клерикалов — этих просветителей армянского народа, тэр-тодиков, обучающих методом палки и плетки. Впоследствии Ованес Туманян остроумно назвал этот метод «педагогическим террором».
Образ Тер-Тодика, выступающего в роли учителя, прекрасно воссоздал Раффи в романе «Искры». Этот образ давно уже стал нарицательным. Сам Раффи имел несчастье учиться в такой школе, что и помогло ему столь правдиво, в реалистическом плане создать обобщенный образ Тэр-Тодика. Эта глава приводится во многих учебниках как яркий пример мучителя детей. Она была опубликована и в горьковском сборнике как один из лучших отрывков из романа «Искры».
В таком же реалистическом плане написана и глава «Труд и земля». Здесь Раффи с благоговением повествует о человеке труда, земледельце Асо, представляя его в процессе труда с песней на устах, ибо песня облегчает тяжкий труд земледельца:
Вот и солнце уже взошло,
День и светел, и погож.
Ну тяните же соху,
Мои милые волы.
Вспашем землю глубоко,
Борозду за бороздой,
И посеем, и пожнем,
И пшеницу соберем.
Вот зима! а нам не страх!
Ждут веселые нас дни
Есть и хлеб у нас, и корм
Будем сыты мы всегда…
Обратим внимание прежде всего на это так безыскусственно созданное стихотворение. Оно написано в духе и стиле народных трудовых песен, и кажется, будто не Раффи написал, а сам народ. С какой лаской, точно так, как в народных песнях, пахарь Асо обращается к своим волам, товарищам по труду, подбадривая их продолжать пахоту земли, чтобы обеспечить хлебом и кормом на зиму. На обращенный к Асо вопрос, соответствует ли действительности то, что сказано в песне, будет ли он действительно обеспечен хлебом, Асо отвечает: «Мы обыкновенно поем о том, чего нет у нас». Многое содержат в себе эти слова, сказанные Раффи устами Асо. Тут целая философия о горькой участи, о тяжкой доле земледельца-армянина. Живя в неволе в Турецкой Армении, труженики-армяне находились в постоянном страхе, турецкие и курдские разбойники, паши и беи отнимали у них не только заработанный тяжким трудом хлеб, но и волов, и жизнь. «Я тут занимаюсь мирным трудом, — говорит пахарь Асо, — пашу землю, но… у меня за поясом два пистолета, а к ярму привязано ружье. Для чего все это? Ведь я здесь пашу и, казалось бы, на что это оружие, с кем же я собираюсь воевать? Но все же оружие нужно. Враг вечно стоит за нашей спиной. Того и гляди нагрянут курды, с пиками и с песнями „ло-ло“ отпрягут волов и, айда, угонят. Все время надо зорко следить, ухо держать востро, а то не успеешь оглянуться, как волы исчезнут, и тогда — поди да паши землю. Но пока со мной они, — он указал на пистолеты, — сам черт не угонит волов Асо…». Надо, чтобы и другие земледельцы и не только земледельцы следовали примеру Асо, заключает Раффи. Все помыслы автора о том, как высвободить родной трудовой народ от гнета и ярма турецких завоевателей.
Следует отметить, что идея самозащиты является ведущим мотивом творчества Раффи. Он решительно выступает против евангельской заповеди «не противляйся злу насилием», а наоборот — «око за око, зуб за зуб». Умудренный опытом, всем ходом многовековой истории армянского народа, как и его непосредственный предшественник Хачатур Абовян, в лице русских, а не европейских держав, видит он ту силу, которая может разгромить многоголового дракона — восточных завоевателей. Армянский народ, оказавшийся волею судьбы на узловой дороге, в окружении захватнических держав, веками вел упорную неравную борьбу за свою Родину, за свое существование, на своих исконных заветных землях. В результате постоянных набегов не раз опустошалась семикратно израненная страна Наири. «На горестную судьбу западных армян, — писал Раффи, — обращали внимание русские. Кровью русских воинов вписался 16-й пункт Сан-Стефанского договора и 61-й пункт Берлинского договора, обещавшего реформами облегчить положение турецких армян». Европейские державы на деле обманывали армян. Раффи, как и многие армяне, возлагал надежду на победоносное русское оружие. Он стал выразителем чаяний родного народа и в дни русско-турецкой войны 1876–1877 гг. В его творчестве нашли отражение эти события. Герой романа «Хент» Вардан, как некогда Агаси в романе «Раны Армении», отдал на служение русской армии свою могучую десницу, разящий меч и представился генералу Тер-Гукасову, командующему русской армией. Раффи призывал армянских храбрецов стать на священную войну вместе с сыновьями гордых славян. Одновременно Раффи яростно обрушивался на церковных служителей, уповавших на господа бога. Устами одного героя «Джалаледдина» он говорит: «О, отцы наши и предки, кубок этот я осушаю не в вашу память. Если бы вместо монастырей, которые вы воздвигали так усердно на вашей родине, вы строили крепости, вместо церковной утвари готовили бы оружие, наша страна не была бы так несчастна. Курды не могли бы опустошать ее, как теперь, не резали бы наших детей, не уводили бы наших жен и дочерей. От этих монастырей пошла гибель нашей страны, они убили нашу храбрость. Через них мы впали в рабство».
Не страшась мракобесов и их приверженцев — горе-критиков, Раффи отваживается делать обобщение, беспощадно срывая маски с духовенства, к какой бы нации оно не принадлежало, наряду с ними не щадя и наших купцов: «Вы знаете, что за чудовища наши купцы или, другими словами, капиталисты. Остаются духовные лица, в руках которых образование народа, его нравственное и умственное воспитание. Представитель церкви, к какой бы нации он не принадлежал, всегда является противником личной свободы, также как и идеи национальности. Он смотрит на народ исключительно с точки зрения религии. В своей пастве он не отличает варвара, скифа и грека. Представитель церкви — противник земного благополучия людей. Он не может вынести, что человек признает известную страну своей родиной и связывает с ней свою жизнь, свое существование. Служитель церкви отрицает этот мир. Его родина — небо. И может ли народ, воспитываемый духовенством, думать, что он дитя известной нации, имеет свои особенности, свою историю и свои предания, которые столь же священны для него, как и национальная независимость, может ли он думать, что предки оставили ему клочок земли, являющийся заветным наследством, что он должен возделывать эту землю и жить на ней мирно и счастливо?».
Как в других своих творениях, так и, в особенности, в романе «Искры» многие страницы, даже отдельные главы Раффи посвятил представителям духовенства — «этим злобным преступным служителям церкви». В образе епархиального предводителя Раффи представляет исполнителя воли губернатора — паши Ванского уезда. Будучи хорошо осведомленным о жизни высшей знати восточных деспотов, романист со всеми подробностями описывает роскошь дворца паши, жившего в своей резиденции в Ванской крепости. На такой же лад устроил свою резиденцию и тщеславный епархиальный предводитель. Раффи с негодованием знакомит читателя со всеми аморальными поступками и враждебными народу действиями паши и епархиального предводителя, под властью которых стонали армяне, проживавшие в Ванском уезде, да и не только Ванском. Вводя своего героя Аслана в монастырь пустыни Ктуц, Раффи знакомит читателя с той жалкой жизнью, какую влачат монахи этого монастыря. Устами Аслана он выносит приговор монахам, безжалостно уничтожающим ненужные, на их взгляд, книги таких летописцев, как Хоренаци, Парбеци, щадя лишь молитвенники. Подобных монахов беспощадно высмеивал и Мурацан в своем романе «Апостол» при описании Севанского монастыря. Из этого темного царства Раффи переносит своего героя Аслана в соседний монастырь, расположенный недалеко от Ванского озера и именуемый Варагским монастырем, где правит делами игумен Хримян-Айрик (Айрик — означает отец). Это прозвище он заслужил от народа. К тому же соотечественники его называли и орлом Васпуракана, так как внешне он выглядел внушительно, осанисто, с орлиным носом и пристальным взглядом. Здесь, в монастыре, благодаря инициативе Хримяна-Айрика, действуют как общеобразовательная, так и сельскохозяйственная школы. Игумен лично обучает крестьян обрабатывать землю новыми сельскохозяйственными орудиями. Здесь существует и музей флоры и фауны Ванского уезда. В Варагском монастыре бережно хранятся и труды армянских летописцев, собранные и спасенные от рук невежественных монахов. Этой патриотической деятельностью Хримяна-Айрика был страшно недоволен паша, а потому, как повествует Раффи, с помощью своего сподручного, епархиального предводителя, он организует заговор с целью убийства Айрика. Однажды, встретившись с Айриком один на один, убийца-курд остолбенел перед орлиным взором Айрика, просил свой меч и, опустившись на колени, сказал: «Айрик, не смог поднять меч, рука дрогнула». Хримян-Айрик в противовес епархиальному предводителю при встрече с пашой ведет себя с достоинством, не прислуживая перед ним, говорит резко, защищает интересы народа, тем самым вызывая ненависть паши. Таким смелым и правдивым оставался Айрик и будучи католикосом всех армян. Однажды в своей Эчмиадзинской резиденции, получив приказ царя сократить якобы долго длящуюся армянскую церковную службу, Айрик в своем ответном послании писал: «Мы сокращаем лишь начало службы — она действительно лишняя». А начиналась церковная служба, как известно, с благословления царя. Не раз устами Хримяна-Айрика Раффи гневно клеймил духовенство. Все симпатии Раффи на стороне Айрика. Таким он представлен и многими армянскими писателями, знавшими Айрика лично.
Раффи не смущала риза Хримяна-Айрика, как некогда не смущала революционного демократа Микаэла Налбандяна риза монаха Гевонда Алишана, чтобы писать о нем с похвалой, как о большом ученом и поэте. Вслед за Раффи высоко оценили деятельность Айрика и Петрос Дурян, Ованес Туманян и Аветик Исаакян. Айрик получил признание и как писатель, чье творчество тесно связано с истоками армянского фольклора. «Во время моих посещений католикоса Хримяна-Айрика в Эчмиадзинской резиденции, — вспоминал Аветик Исаакян, — он дарил мне свои сочинения, в них был весь Айрик с его демократической сущностью. Он каждый раз наставлял: „Изучай народ, иди в самую его гущу. Все сущее от народа, он велик, у него большое сердце, будь с ним всегда, и ты станешь великим сердцем“». Свои воспоминания об Айрике Исаакян завершает так: «Не забудет его народ, ибо вышел он из сердца народного и шел к его сердцу». Так думал об Айрике и Раффи, посвятив ему и его деяниям целую главу в романе «Искры», считая его «лучом света в темном царстве» духовенства.
* * *
По глубокому убеждению Раффи, «без женщины нет романа; женщина — его душа, его жизнь». И действительно, во всех романах Раффи — будь это исторический, либо взятый из современной жизни роман, как, например, «Хент», «Джалаледдин», выступают и женские персонажи. В романе «Искры» наиболее удачный и реалистический женский образ — Маро, возлюбленной Фархата, со всеми ее проявлениями любви и ревности. Она типичная простая армянская девушка, порождение своего времени: любит чистой и преданной любовью. Скрыто она выражает чувства ревности к отношениям Фархата и Сони. Страницы, описывающие историю любви, согревают роман.
Раффи неспроста назвал «Искры» современным романом. В нем правдиво отображены быт, нравы, взаимоотношения людей своего времени. Читая этот роман, охватывающий период 40–60–70-х годов прошлого века, можно получить представление и о нравах, быте курдов, персов и других народов.
Все это создает необходимый колорит, делает роман более живым, придает ему немалое познавательное значение.
Будучи большим писателем-новатором, Раффи, в отличие от Перча Прошяна и Газароса Агаяна, не сужает себя в рамках деревенской жизни, особенно как Прошян, а широко охватывает все сферы жизни родного народа, тем самым он выводит армянскую романистику на широкую дорогу, подняв ее на новую ступень. Раффи избежал и свойственных романам Прошяна этнографических зарисовок. Заслуги Раффи-новатора велики и в деле развития армянской романистики, и в том, что под его пером армянский язык стал более гибким орудием, с помощью которого можно было сполна выражать думы и чаяния. Он также умело пользуется выразительными средствами из арсенала народного творчества, тем самым делая более живыми и меткими свои творения.
Будучи писателем с ярким, богатым воображением, Раффи одновременно был и большим художником. Природа Армении одухотворена и персонифицирована в его творениях. Описание родной природы в произведениях Раффи не является самоцелью, оно выполняет важную роль. Своими глубокими ущельями и недоступными горами природа способствует защите от врага. Мастерски пользуясь разными литературными средствами и приемами, Раффи не сразу оповещает об участи героев, попавших в беду, тем самым держит читателя в неослабевающем напряжении.
В «Искрах», в этом программном романе, есть и публицистическое начало, однако автор согревает его своим патриотическим дыханием. С точки зрения литературного направления в «Искрах» и в других программных романах — «Хенте», «Джалаледдине» — реализм сливается с романтизмом, На страницах романа, где автор срывает маски с иноземных и собственных эксплуататоров, а также на страницах, воспроизводящих быт и нравы народа, преобладает критический реализм. А страницы романа, повествующие о действиях идейных героев, дышат романтизмом. Благодаря могучему и большому дару повествователя, а также пламенному патриотизму, Раффи стал любимым писателем.
Когда Максим Горький намечал в 1915 году издание «Всемирной литературы», Ваан Терян для него перевел первый том романа Раффи «Искры». Почему он предпочел перевести именно «Искры», а не произведение какого-либо другого автора, скажем, Ширванзаде, Нар-Доса, или же «Самвел» того же Раффи, которое более сильно в художественном отношении? Дело в том, что Терян, кроме литературных соображений, руководствовался и политическими целями. Он предпринял перевод этого творения Раффи в том же 1915 году, в канун и в дни геноцида армян. Тем самым Терян ставил целью ознакомить широкий круг русской общественности с теми ужасами, которым подвергался наш народ в Западной Армении под игом Турции, Когда там свирепствовала кровавая жатва, ни одно другое произведение не повествовало столь ярко, не отражало бесчинства турок-османцев так, как роман «Искры». В нем Раффи пламенным языком поведал о тяжкой доле армянского трудового народа и живших с ним бок о бок ассирийцев, евреев и езидов. Сам Раффи справедливо писал об этом: «До нас ни один романист не обратил внимания на жизнь турецких армян. Мы показали их несчастное положение, мы выявили самые печальные стороны их жизни, написав „Искры“, „Хент“, „Джалаледдин“».
В. Терян высоко ценил и любил Раффи, этого писателя — пламенного патриота своей обездоленной родины. Если бы не было этой любви и признательности его к творениям Раффи, он не выступил бы как переводчик романа «Искры», тем более, в такое время, когда обучался в Петербургском университете у академика Николая Марра и был крайне перегружен изучением иностранных языков и одновременно, по поручению Горького, работал до жаркого пота и над изданием «Сборника армянской литературы». Известно, что Терян никогда не переводил, исходя из материальных соображений. Он переводил только тех авторов, которые интересовали его. «И вы неправы, если думаете, что поэты — это машины-переводчики, которые переведут все, что дадите вы», — писал Терян как-то по этому поводу. Эти слова полностью относятся и к самому Теряну. Он с усердием взялся за дело, отлично зная, что «верность подлиннику — честь переводчика». Оставаясь верным подлиннику, он дал нам превосходный перевод «Искры».
Внимательным образом познакомившись с теряновской рукописью перевода романа, которая хранится в Ереванском музее литературы и искусства имени Е. Чаренца, мы еще раз убедились, с какой ответственностью великий поэт перевел «Искры».
Перевод написан бисерным почерком. В рукописи Теряна имеется множество исправлений, сделанных красными чернилами, рукой самого поэта. Некоторые сокращения сделал поэт в тексте романа, по праву считая эти места излишними. Так, например, опущено описание ловушки охотника Аво.
Стремясь найти адекватное подлиннику в русском языке, Терян был в постоянном поиске наиболее точных поэтических слов. Его перевод отличается емкостью художественного слова. Переводил он так, чтобы «словам было тесно, а мыслям просторно», чтобы придать словам эмоциональный заряд и согреть лирическим дыханием — именно этими средствами отличается высокохудожественный перевод Теряна.
Остается лишь сожалеть, что у Теряна не было времени и возможности перевести и второй том романа. Но и этот перевод следует рассматривать как дань любви и высокой оценки литературного наследия Раффи. Целью Теряна, как это сказано выше, былo познакомить широкие круги русских читателей с тягчайшими преступлениями турецких варваров не только в прошлом, но и в том же 1915 году, в дни геноцида армян. Именно в этом и заключается политическое значение литературного подвига переводчика Раффи — Ваана Теряна.
О. Т. Ганаланян
 Часть первая
Часть первая
Глава 1.
СЕМЬЯ
Немного могу рассказать я о своем детстве. Оно промчалось так бесплодно и так быстро. Многое уже давно выветрилось из моей памяти.
Но когда я уношусь мыслью в то далекое прошлое, — нелепое и грустное, — то передо мной словно из глубокой тьмы снова встают яркие видения и в памяти воскресает невинный образ детства.
Картины далекого прошлого встают одна за другой.
Вновь вижу отчий дом, окруженный ветхой, полуразвалившейся стеной. Вижу широколиственные деревья, которые своими огромными ветвями осеняли наш домик. И снова я слышу голоса знакомых птиц и вижу их лукавые лица.
Мне начинает казаться, что очень немного прошло с тех пор. Кажется будто это было вчера…
Вот я вижу мою старую бабушку. Она сидит у дверей нашего дома. Это ее излюбленное место. Все то же старое ореховое дерево защищает ее седую голову от знойных лучей жгучего солнца.
Сидит она, как всегда, задумчивая и молчаливая. У нее на коленях дремлет старый и закадычный ee друг — огромный мохнатый кот и видит сладкие сны…
Милая бабушка! Все также добротою веет от темно-желтого, морщинистого твоего лица, все также ласково и любовно глядят на меня жалостливые твои глаза! И вот, чудится мне, что слышу мудрую твою речь.
— Фархат, дитя мое, не ходи ты в темноте с обнаженной головой, злой дух поразит тебя в голову…
— Фархат, смотри, милый, крестись, когда зеваешь, гляди как бы нечистый не проник в тебя…
— Брось ты жвачку, не жуй на ночь, — это, голубчик мой, тревожит сон мертвецов…
И сколько было этих поучений и предостережений!
Она предостерегала меня от опасностей, ожидающих человека, который подходит к развалинам, проходит один мимо кладбища… Она не позволяла мне играть с черными кошками…
Бабушку мою звали Шушан. Это имя она унаследовала у своей матери. Сколько было ей лет я и теперь не знаю. Но она была очевидцем таких событий, над которыми промчались века…
Несмотря на это, она нисколько не утратила бодрости. Неустанная, как машина, она с утра до поздней ночи была в беспрерывном движении. Всевидящим оком она следила за всем, беспокойно спрашивала обо всем и от всех требовала отчета. До самой своей смерти, она не выпускала из рук бразды правления и, как знак своей верховной власти, подобно скипетру, она держала в своей руке деревянный половник, которым сама разливала нам обед и ужин.
До самой ее смерти все в нашем доме — от мала до велика — с безропотной покорностью и смирением подчинялись ее воле и чтили ее авторитет.
Бабушка была очень трудолюбива. Я хорошо помню, как она долгие ночи просиживала на излюбленной козлиной шкурке у веретена и неустанно пряла.
Мне кажется, что вот сейчас я опять слышу ее тихий голос, напевающий какую-то грустную мелодию, в которую врывается скрип ее патриархального веретена.
В селе мою бабушку считали одной из самых умных старух, а в нашем доме она почиталась непогрешимой. Говоря по правде, в детстве я сам дивился ее премудрости. Она знала все.
Она знала значение и смысл всех сновидений. Знала — что значит, когда «дергает» глаз или какая-нибудь другая часть человеческого тела. Она понимала язык птиц, знала, что предвещает скворец, когда он садится на забор и посвистывает. Она не выносила зловещего крика филина и предлагала мне убить эту злую птицу, если она сядет на наш забор. Она знала почему мудрый царь Соломон проклял воробья и она знала, кто украсил головку потатуйки таким красивым гребешком из перьев. Чего-чего только не знала моя бабушка! Она мне рассказывала как настанет конец мира, как явится Антихрист. Она говорила, что окаянный Антихрист будет сидеть на огромном осле, а уши у этого осла длинные-длинные, такие длинные, что конец одного уха доходит до самого Запада, а конец другого до самого Востока. И вот, тогда-то и появятся, уверяла она, поганенькие «гоги и магоги» — это малюсенькие людишки, такие малюсенькие, что мои лапти могут служить для них домом.
Но больше всего я любил ее сказки.
Я еще живо помню некоторые из этих сказок, которые она мне рассказывала по ночам. Бывало, начнет она рассказывать сказку и тянет ее всю неделю. Ах, как прелестно она рассказывала! Мне все было так понятно, и так приятно было слушать ее! Но когда она начинала рассказывать о дэвах, о злых духах, о всякой нечисти и о преисподней, то мне становилось невыносимо страшно, мной овладевал ужас… А больше всего я боялся, когда она рассказывала о мертвецах…
Но когда умерла сама бабушка, я ее совсем не боялся. Она спокойно лежала в гробу и, казалось, спала. Лицо у нее было такое же доброе, приветливое как и прежде. Я нисколько не сомневался, что ее душа полетит к ангелам, так как она была добрая и никогда не била меня. На ее похоронах я очень много плакал, Мать мне говорила тогда, что настанет день и наша бабушка встанет из гроба. Господи, как это меня радовало!..
Мою мать звали Нигяр. Видели ли вы цветок, который уже увял, не успев еще распуститься? Такова была моя мать.
Бедная женщина! Никогда не забыть мне твоего бледного печального лица!
Почему ты была такая невеселая? Почему глаза твои глядели так грустно и в них почти никогда не высыхали слезы?..
Моя мать была худая, стройная женщина со слабым сложением. На ногах она всегда была больна, но никогда не ложилась в постель.
— Кто же будет смотреть за моими детьми, — говаривала она, когда ей советовали лечь в постель поотдохнуть, набраться сил, окрепнуть малость.
Целыми днями она не знала ни отдыха, ни покоя. То она пекла, то стряпала, то стирала, то шила и штопала.
Но не домашние заботы мучили ее и терзали. У нее было затаенное горе, о котором я в то время не знал, но теперь-то все знаю.
Во всем селе она славилась, как искусная швея и закройщица. Но за работу платили ей ничтожные гроши. За целую неделю она зарабатывала несколько мелких грошей, и на эти-то гроши мы и должны были жить.
После смерти бабушки вся забота о семье легла на плечи матери.
Сестры мои — Мария и Магдалина — еще слишком малы для того, чтоб помогать ей. Напротив, они скорее ей мешали работать. Родились они близнецами и так были похожи друг на друга, что я их всегда путал — принимая одну за другую. Мать сшила им шапочки разного цвета — Марии — зеленую, а Магдалине — красную, чтоб можно было их отличать друг от друга.
Я хорошо помню как эти два ангелочка ссорились из-за шапочек. Если случалось, что кто приласкает или похвалит Марию, то Магдалина хватала у нее шапочку и надевала на свою голову, чтоб самой стать Марией и удостоиться ласк и похвал…
Я был очень беспокойный мальчик, но несмотря на это, мать меня никогда не била. Ведь я был ее единственным сыном! И ее нежность ко мне доходила до того, что она прощала мне буквально все.
Рано утром выбегал я из дому немытый, непричесанный и целый день играл и бегал с уличными мальчишками.
Мать отчасти была рада тому, что я ухожу из дому, потому что, оставаясь дома, я всегда что-нибудь ломал, или портил, а то от безделия начинал бить или обижать сестер.
Бедные дети! С какой покорностью и терпением выносили они обиды и грубости своего брата! То, что я — мальчик, внушало им уже тогда сознание, что я выше их и поэтому могу их мучить и бить. Уже с самого детства внедрялась в них мысль, что они рабыни мужчины…
Я не давал покоя и нашим соседям. У них сложилось мнение, что я не настоящий сын своей матери, а отродье нечистого духа, подкинутое им моей матери, взамен ее подлинного сына, которого черти утащили в свое царство. Но я не был похож на черта. Напротив, я был довольно красивым мальчиком, но вместе с тем и большим шалуном.
Моя мать, конечно, не верила россказням соседок о моем происхождении и в ответ им как неопровержимый довод приводила то, что бабушка об этом ничего не сказывала. Уж ежели б что-нибудь подобное случилось во время моего рождения, то бабушка об этом наверняка бы знала. В этих делах она понимала толк…
Отца своего я припоминаю как сон.
Помню, он был сухой, высокий, сутулый мужчина. Голова у него до времени поседела. Звали его Сааком, сыном Айрапета.
Ему было всего 36 лет, но преждевременная старость наложила на его лицо свою печать.
Почему он так рано состарился? Почему он также как и мать был всегда грустен?..
Я редко видел его дома. Он почти постоянно бывал в поле или в саду. Всю весну, лето и осень он работал: то сеял, то жал, то молотил, а то работал в саду. Зимой он работал за ткацким станком. И, несмотря на это, он всегда бедствовал.
Он не был расточителен, не пил, не курил, одевался очень плохо… Я помню его лапти, которые чинились так часто, что от множества заплат совершенно отяжелели и трудно было в них ходить. С его шапки вся шерсть вылиняла, осталась одна голая шкурка.
Но почему же так одолевала его горькая нужда?..
Часто у нас в доме не бывало ни кусочка хлеба, и сестры начинали плакать, прося есть… А есть было нечего…
…В неурочный ночной час являлись к нам сборщики податей и налогов. Они стучались в дверь с таким остервенением, что, казалось, сейчас выломают ее, если немедленно не открыть им. Врывалась к нам целая ватага «феррашей», и дом наш превращался в ад. Всеми нами овладевал ужас. Отец бледный, как мертвец, стоял перед ними, мать дрожала в смертельном страхе… Мы с сестрами кутались в одеяло, но не могли спать… Мы замирали в ожидании страшного.
И вот «ферраши» приступали к делу.
Они крепко привязывали отца к столбу, так чтоб он совершенно не мог двигаться. Затем приносили пучок свежих прутьев и начинали его бить… Отец сперва лишь стонал, но потом он начинал неистово кричать и умолять своих палачей… Но кто обращал внимание на его стоны и мольбы!..
Им нужна была подать и, горе, если хоть чуточку задержались и не внесли вовремя требуемых денег. Надо было немедленно уплатить, иначе экзекуция принимала еще более жестокий характер. У ног отца разводили огонь и начинали прижигать его тело каленым железом.
Господи! Какие муки переносила при этом моя мать! Этого я не в состоянии описать. Она почти сходила с ума. Она снимала с головы, с шеи, все свои жалкие украшения и предлагала «фер-рашам». Она на коленях умоляла их не убивать нашего отца, подождать до утра, обещая на рассвете достать требуемую сумму и вручить им…
И сейчас еще дрожь пробирает меня, когда вспоминаю те ужасные ночи…
Ферраши всегда являлись ночью, подобно жестоким и злым детям, которые по ночам лишь отправляются разорять гнезда и ловить бедных беззащитных птиц, зная хорошо, что ночью несчастной птице негде приютиться, кроме как в своем гнезде.
Жестокие, беспощадные ночи! Сколько мук и слез стоили они моей несчастной матери. В полночь она брала из дому медный котел, или еще что-нибудь и носила в залог виноторговцу, чтоб достать для феррашей вина. Из наших кур и цыплят она ночью готовила им кушанья… И эти безжалостные, свирепые гости жрали и пили до самого утра…
Это было почти постоянным явлением, так как податям и налогам тоже не было ни конца ни меры. За все нужно было платить — и за посев, и за скот, и за души, из которых состояла наша семья… Определенной меры не было — все зависело от доброй или злой воли сборщика. Всяких статей по сбору все новых и новых налогов было так много, что я и не в состоянии их перечислить.
А платить все эти бесчисленные налоги было неоткуда. Приходилось каждый раз что-нибудь продать или заложить. В нашем доме уже ничего не осталось, наш дом походил уже на пустую могилу. Но какое было до этого «феррашу» дело? Ведь он сам заставлял нас продавать нашу корову, нашего вола, нашего буйвола и при этом вовсе не задумывался над тем, что завтра перестанет работать наша соха, и вся наша семья будет обречена на голодную смерть…
Отец за последнее время перестал обрабатывать землю, потому что доход с земли не покрывал даже податей, которые нужно было платить за эту самую землю. Но и это не спасло его от «феррашей». Их налеты продолжались.
Чем жить? Этот вопрос всегда, как дамоклов меч, висел над нашей жизнью. Чтоб не умереть с голоду, оставалось одно — занимать, занимать и без конца занимать… А какие проценты надо было платить по займам! Я тогда был мал, и конечно счетов этих не понимал, но я хорошо помню зверское лицо бессовестного заимодавца-ростовщика.
Его звали Хаджи-Баба. Это был богатый мусульманин, который, выходя на сбор своих процентов, появлялся на пороге своих жертв, как страшный ангел смерти.
Он был безграмотен и не брал со своих должников ни векселей, ни расписок. Векселем служила ему его совесть, а сроки считал он по временам года. Он с собой таскал целый пучок прутьев, на которых разноцветными нитками делал отметки. Эти прутья были его бухгалтерскими книгами. На прутиках он делал отметки также ножом. Нитки, видимо, указывали на имя должника, а отметки, делаемые ножом — размер суммы долга. Хаджи-Баба не имел обыкновения подавать в суд. Если должник ему не платил, то он судил его сам, своим собственным судом. Всем была хорошо знакома дубина Хаджи-Бабы, которой он крошил кости неаккуратным должникам. Он даже сажал их в тюрьму, а если считал нужным, то продавал имущество должника. Я помню слова жестокого и жадного ростовщика, сказанные им, когда он пришел к нам за процентами.
— Саак, — сказал он, обращаясь к моему отцу, — известно ли тебе, сколько времени прошло с тех пор как ты взял у меня деньги? Гляди на это дерево (он указывал на ореховое дерево, которое росло в нашем дворе), тогда оно только-только начинало зеленеть, а нынче оно вновь уже зазеленело… Если всех денег не можешь уплатить, то уплати хоть проценты, а то, вот видишь, у тебя две девочки, возьму и обращу их в мусульманство…
Мария и Магдалина слушая эту речь притихли и, обнявшись, начали горько плакать. Бедные, невинные дети!
Казалось, они уже знали, что за ужасная вещь гарем турка. Так проходили черные дни нашей жизни.
Отец не будучи в состоянии, живя в родном краю кормить семью, был вынужден уехать в чужие края и там искать счастья.
Мы проводили его до края селения. Мы, дети, радовались уходу отца. Нам казалось, что он отправится на большой базар и там купит нам фиников и изюму. А мать лила горькие слезы. Отец был в смертельной тоске. Я еще помню слова, которые он произнес, расставаясь с матерью:
— Нигяр, детей моих оставляю тебе в залог. Если останусь жив — я их не оставлю голодными…
— Папа, вернись скорей, да, смотри, привези нам фиников, купи нам изюм…
Но он ушел и больше к нам не вернулся.
Не прошло и года, как было получено письмо с известием о смерти отца. Эта смерть, печальные подробности которой я расскажу после, имела ужасные последствия и сделала нас вполне несчастными.
Явился Хаджи-Баба и овладел всем нашим имуществом и домом, а нас выгнал из родного угла. Мать взяла меня и сестер и переселилась к дяде. Единственное, что нам осталось от всего нашего имущества это были — Мро, огромный наш пес, и Назлу — любимый кот моей бабушки.
Они не расстались с нами.
Глава 2.
РОДИНА
Салмаст представляет из себя одну из самых богатых областей Персидского Азербайджана.
Эта область занимает западный берег озера Урмия. Она окаймлена волнообразными высотами гор и представляет из себя прекрасную долину, орошенную рекой Сала. Эта река для Салмаста — то же, что для Египта Нил. На ее рукавах недалеко друг от друга расположены селения, прекрасный вид которых далеко не соответствует печальному положению их жителей.
В древности Салмаст представлял из себя одну из густо населенных областей Армении. Впрочем, и теперь, большинство его населения составляют армяне. Меньшинство же составляют турки, курды и айсоры, но все они взятые вместе не равняются и половине общего числа армянского населения.
Начиная с глубокой древности, со времен язычества, каждое столетие оставило в этой области свой след.
Тут можно видеть следы древнего Зарехавана. Огромные груды пепла напоминают здесь об алтарях огнепоклонников — магов с их вечным, неугасимым, священным огнем. Здесь остался лишь жалкий прах всего того, что пожирал этот огонь в течение целых тысячелетий. Красивые мозаичные минареты живо напоминают здесь о владычестве арабов, о народе, который всюду, где он властвовал, распространял искусства и науки и проливал кровь. Здесь можно видеть жалкие развалины того самого замка, где великий Алаун хранил свои сокровища.
На склонах холмов видны руины когда-то величайших крепостей. Они служат памятниками былого величия феодальных князей, которые под железной пятой своего деспотизма давили все живое.
Но среди всех этих памятников древности мое внимание привлекает грустная картина, высеченная на гладком утесе, на горе Перавуш.
На этой картине изображена группа всадников в древнем одеянии и вооружении. Всадники эти пленили кого-то, видимо какого-то царя. Я не мог найти никаких определенных указаний относительно времени этого события и относительно лиц, изображенных на картине, как и о самом содержании картины. Но среди местных армян сохранилось грустное предание о том, что плененный царь никто иной, как последний царь из армянской династии Аршакидов, именно царь Арташес, после которого Армения утратила свою независимость и подпала под иго персов.
Эта картина, высеченная на камне, служит вечным укором для армян. С высоты утеса она как бы упрекает армян, говоря: «Быть вам вечно рабами, ибо вы предали врагам царя своего, вы отдали его в плен…»
И действительно, когда более или менее ознакомишься с бытом народа, нетрудно заметить, что в этом крае армянин живет как раб и пленник. Внешний вид страны обманчив и неопытного исследователя может ввести в заблуждение.
Когда в жаркий летний день издали смотришь на залитую солнцем долину Салмаста, когда открываются перед тобой поля, выделанные трудолюбивой рукой и обещающие обильную жатву пшеницы, ячменя, риса, хлопка и всяких других злаков, когда видишь плодоносные сады с деревьями, отягченными благороднейшими плодами, когда видишь ярко зеленеющие луга и пастбища, где пасутся огромные стада и табуны, словом, когда видишь с какой расточительной щедростью здесь одаряет людей природа, то невольно думаешь: «Как счастливы здесь люди!»
Но ведь вся эта роскошь, все эти щедрые дары природы принадлежат не тем тысячам-работников, которые под палящим солнцем трудятся и возделывают эти поля, обливаясь потом!
В селениях то тут, то там гордо высятся над землянками замки с зубчатыми башнями и стенами, царя над всей окрестностью. Там, в этих замках живут до мозга костей испорченные, порочные властители. Вот кому принадлежит все плодородие земли, вот кто расточает плоды труда рабочего люда!..
Когда я в детстве шалил, бабушка грозила: «Перестань, внучек, а то отдам тебя шакалу, и он съест тебя».
А мать грозила по-другому: «Не шали, Фархат, а то позову ферраша!» Говоря по правде, тогда и первая и вторая угроза действовали на меня совершенно одинаково. Шакал не был страшнее «ферраша». А когда я немного подрос, то угроза шакалом уже не пугала меня, но ужас перед «феррашем» долго еще угнетал мое сердце.
Мне чудится, что я и сейчас еще слышу свист его кнута, что я и сейчас еще слышу горький стон земледельца и вижу его распластанным без чувств и без сил перед жестоким сборщиком податей…
Дом моего дяди, куда мы переселились после постигшего нас несчастия, стоял в «Кона Шааре», т. е. в Старом городе. Эта часть города носила такое название в отличие от Нового города Салмастской области, который назывался также Дилиманом.
Настоящее название Старого города было забыто. Весьма вероятно, что это был наш древний Зарехаван или Зареванд, по имени которого и вся область называлась Заревандом.
Жители города принадлежали к четырем различным национальностям. Тут были армяне, турки, сирийцы и евреи. Представители каждой национальности занимали в городе
особый, свой квартал. У армян были две церкви, у сирийцев — одна.
Старый город вполне оправдывал свое название.
Тут было, собственно, несколько городов, построенных последовательно один над развалинами другого. При постройке нового здания не нужно было долго искать строительный материал: просто рыли землю и из под нее доставали любое количество кирпичей и тесаных камней. Нередко при этом обнаруживали огромные подземные жилища. Сколько превратностей судьбы, сколько переворотов претерпел этот город!.. Сколько народов жило в нем и исчезло бесследно! Но армянин, древнейший житель этого города, и поныне еще жив!.. От арабов осталось тут лишь обширное кладбище с прекрасными памятниками…
Дом моего дяди стоял на самом краю Старого города, на берегу большого потока, который во время весеннего половодья разливался и затоплял окрестные развалины, выкапывая оттуда и принося в своих волнах всякие предметы старины. И, когда вода убывала, мы, дети, ходили туда и на высохшем дне потока находили старинные монеты, женские украшения, которые продавали за деньги евреям-золотарям.
У армян дома были небольшие, но всегда с садом, поэтому они имели красивый вид. Говорят, по жилищу можно определить характер жильца. И правда, армянские дома как внутренним устройством, так и внешним видом выявляли не только вкус жильцов, но в еще большей степени их положение и общественный их уклад.
Дома тесно примыкали друг к другу, так что по крышам домов можно было обойти весь армянский квартал. Все дома общались между собой через потайные ходы и через щели, устроенные в общих стенах. Эти щели устраивались, конечно, где-нибудь в незаметном углу. Они иногда бывали очень маленькие — еле можно было просунуть через них руку, в этом случае они служили лишь для устных сношений с соседями. Но иногда они бывали настолько велики, что в минуту опасности можно было перенести имущество из одного дома в другой или самому перебраться к соседям и укрыться у них.
Если случалось какое-либо событие, то весть о нем немедленно передавалась через эти щели с одного конца квартала на другой. И никому при этом не нужно было выходить из дому.
Во всех домах имелись глубокие подвалы-кладовые, где хозяева дома также могли скрыть свое имущество и укрыться в минуту опасности. Ход в эти погреба-подвалы знали обыкновенно только старшие в доме или только сам хозяин.
Как я уже сказал, дом моего дяди стоял на самом краю армянского квартала. Вот в этом самом доме мы и нашли приют после постигшего нас несчастия, т. е. после того как заимодавец моего отца Хаджи-Баба выгнал нас из нашего родного дома.
Вечный страх перед ворами и разбойниками, которые неоднократно нападали на этот дом, заставил дядю окружить его высокой и толстой стеной. Стена эта от дождя и сырости совершенно позеленела. Верхняя часть стены немного развалилась, но в общем, она была достаточно крепка, чтобы оградить дом даже от самого сильного нападения. В щелях стены рос иглистый, колючий хворост, и в нем часто мелькали лукавые глаза ящериц, которых я тогда совсем не боялся и даже часто ловил. Но змей я боялся, хотя они так привыкли к нам, что никогда нас не трогали. В семье дяди рассказывали об этих змеях интересные легенды. Будто у них есть царь и царица, головы которых украшены коронами. Будто на этих коронах сияют самые драгоценные в мире камни. Рассказывали, будто мой дядя много раз их видел, но ни разу не пытался отнять у них эти драгоценности, так как счастье и благоденствие его семьи какими-то волшебными узами связано с судьбой этих змей.
Главные ворота дома вели в довольно просторный двор, осененный вековыми тутовниками и черешинами. На одном конце двора стояло помещение, состоявшее из нескольких горниц с ветхими, уже подгнившими стенами. Однако от помещения этого веяло очарованием старины. Оно было построено еще тогда, когда дед моего дяди был одним из богатейших и значительнейших жителей этого города.
С тех пор прошли сотни лет, и, несмотря на это, дом сохранил свою былую красоту. Виноградные лозы, переплетаясь с фруктовыми деревьями, держали этот домик как бы в своих объятиях. Такие дома можно еще встретить разве в лесах или ущельях гор. Небольшой ручеек, который протекал через двор, орошал весь сад и давал жильцам дома прохладу в душные дни. Вообще этот ветхий и подгнивший дом представлял очень большие удобства для громадной семьи дяди.
Дед, т. е. отец моей матери был еще жив. У него было пятеро сыновей и каждый из них, в свою очередь, имел свою семью, своих взрослых и малых детей. Моя мать была единственной сестрой своих братьев. Обыкновенно, единственная сестра пользуется особенной нежностью и любовью своих братьев. Однако с моей матерью случилось как раз противоположное, несмотря на то, что она по своему характеру была одной из тех редких женщин, которых невозможно не любить.
Почему же ее родственники относились к ней холодно и даже с некоторой скрытой неприязнью? Это сразу бросалось в глаза. Тут была тайна, которая тогда мне была неизвестна, но я не мог не заметить, что мои дядюшки встретили весть о смерти моего отца совершенно равнодушно и даже с некоторым злорадством, точно мой отец получил от бога какое-то справедливое воздаяние за какой-то совершенный им грех. Видимо, это и служило причиной того, что после смерти отца, моя мать с трудом решилась перебраться к своим братьям и если б не полнейшая беспомощность и нищета, то она не пошла бы на эту уступку.
Нас поселили в той части двора, где вовсе не было деревьев. Тут находилась конюшня, рядом с которой стояло небольшое помещение, состоявшее из передней и одной комнаты. Видимо это помещение было построено когда-то для прислуги, но так как теперь у дяди не было прислуги, то помещение это было свободно, и там был сложен всякий хлам. Этот хлам заменили мы. Впрочем наша судьба немногим отличалась от судьбы этого заброшенного, никому не нужного хлама. Но все же мы были довольны своей судьбой. Мы вычистили помещение и привели его в порядок, кое-как приспособив для жилья, хотя ни ветхий полуразвалившийся потолок, ни шаткие стены не могли защищать нас от дождей и от непогоды…
Глава 3.
СТАРЫЙ ГРЕХ
Осень уже подходила к концу.
Эта была первая осень, которую мы встречали в доме дяди.
Поля принимали печальный вид. Луга, когда-то зеленые, с каждым днем желтели и становились мертвыми.
Жестокий ветер уносил с деревьев их последние листья. По серому мрачному небу, застилая бессильное осеннее солнце, плыли темные клочья облаков. Слышалась грустная песня журавлей, которые, выстроившись в виде треугольника, стаями улетали по высокому небу в далекие чужие края. Ласточек уже совсем не было видно — они давно уже улетели. Лишь муравьиное царство кипело жизнью, усердно сбирая в свои житницы всякие злаки.
Все готовились к встрече неприятного гостя — зимы. Немало было забот в эти дни и у моей матери.
Зима — враг бедняков. Она подходила, и мы ждали ее как наказание божье.
Через несколько дней после нашего переселения в дом дяди, мать перестала пользоваться столом дяди и начала жить самостоятельно, своим трудом. Она быстро освоилась со своим новым положением и не желала быть в тягость своим братьям, которые были обременены собственной семьей и которым едва ли была бы приятна новая обуза в виде нашей семьи.
Мать много вынесла нужды и горя, но гордость, которой она обладала более чем в достаточной степени, не позволяла ей обращаться к кому-нибудь или жаловаться кому-либо на свое отчаянное положение. Всю свою надежду она возложила на бога и на свой труд. Но бог слишком часто позволяет, чтоб нужда томила и терзала людей до крайности. Говорят, что он это делает для вразумления и для того, чтоб испытать человеческое терпение. У моей матери было каменное терпение, но ведь и камень стирается, и утес можно разбить! Я никогда не забуду, как в первый раз повела нас мать собирать колосья на уже скошенных полях. Это первый шаг к нищенству, это своего рода «почетное» нищенство.
Когда у нас были свои нивы и своя жатва, то убирая ее, мы упавшие со снопов и с воза колосья не собирали, а оставляли в поле для божьих нищих и для небесных птиц. Теперь, все потеряв, мы сами стали «собирателями колосьев» на чужих полях
[2].
На ровной поверхности коротко остриженных полей сухая солома торчала острой щетиной и нещадно колола нам босые ноги. Но мы не обращали на это внимания и энергично взялись за дело.
Мария и Магдалина своими маленькими ручонками без устали собирали колосья и смеялись над моей неуклюжестью и ленью. Они связывали колосья в пучки и спорили — кто соберет больше. Бедные дети! Они чуяли, что если теперь не сделать запасов, то зимой их ждет голод! Мать печально глядела на них и плакала. Вечером каждый из нас взвалил на спину то, что успел собрать за день, и мы возвратились домой.
Мария и Магдалина встретили дядиных детишек с гордой улыбкой ревностных работниц, возвращающихся с полевой работы. Так мы каждый день с раннего утра отправлялись на «сбор колосьев» и возвращались только вечером.
Перед нашим домом образовалась целая копна. Теперь надо было молотить.
Не так много было у нас хлеба, чтоб нужно было молотить молотягой, поэтому мать стала молотить «изручь» — посредством тяжелого полена, которое я еле подымал с земли. А как смолотили — стали веять и собирать зерно. Вот и запас на зиму был готов!
Но была и другая забота: нужно было запастись топливом. Для нашего шаткого, сырого и холодного жилища немало требовалось топлива, тем более, что зима в нашем краю бывает жестокая.
Матери некогда было заниматься этим, так как она целый день была занята другой работой. Поэтому эта забота легла на меня и на сестер.
Мать сплела нам корзины, и мы стали ежедневно отправляться на сбор топлива. Шли мы в поле и собирали все, что могло пригодиться для растопки — древесную кору, хворост, сухой помет…
Ах, как прекрасен труд! Я всегда с гордостью глядел на ту огромную кучу помета, который был сложен перед нашим жилищем. Я часто досадовал на наших за то, что слишком неэкономно тратят топливо, хотя мать моя поневоле была чрезвычайно экономной.
Таким образом на зиму мы были обеспечены хлебом и топливом!
Но, увы, появилась новая и великая забота. Нужно было уплатить полугодовой налог! Правда, теперь у нас ничего не было — ни дома, ни земли, ни посева, но все же налоги с нас требовали. Требовали налог за отца. Мать показала сборщикам письмо с извещением о смерти отца, но ее не стали слушать, объявив что письмо выдумано нами для того, чтоб не платить налога.
Мать упросила их дать срок, пока она заработает требуемую сумму. Срок ей, правда дали, но не без взятки, конечно. С этих пор мать ни днем ни ночью не знала покоя, без конца она работала то иглой, то за прялкой.
Но что могла зарабатывать она в стране, где царит всеобщая нищета, где каждый сам работает за себя?
Она брала заказы от мелочных торговцев, евреев, которые платили ей сущие пустяки. Шитьем она занималась днем, а ночью пряла. Пряжу она продавала ткачам.
За вычетом расходов на освещение из ее заработка оставалось лишь столько, сколько нужно было нам для того, чтоб раз в неделю, по праздникам, покупать мясо и есть горячую пищу. Во все остальные дни мы питались почти одним хлебом.
Дарованный сборщиками месячный срок пролетел быстро, как сновидение. Мать, конечно, не сумела накопить требуемую сумму денег. Тогда сборщики, не долго думая, продали все, что еще можно было продать из нашего скарба. Был продан и запас зерна, собранный нашими руками. Представьте теперь наше горе и наше положение!
Бедность нанесла нам последний и самый чувствительный удар.
Все это происходило на глазах моего старшего дяди и его братьев. А ведь они были не так бедны, чтоб не могли нам помочь и спасти нас из когтей жестокой нищеты! Я, только спустя много времени после этого, узнал причину этого равнодушия родных матери, этого жестокого равнодушия.
Как я уже сказал, моя мать была единственной сестрой своих братьев и, когда была девушкой, пользовалась нежной любовью своих родителей и братьев. За ней сватались очень многие и не потому только, что она была очень красива, но также и потому, что семья ее отца пользовалась во всей округе великим почетом и уважением. Число женихов было так велико, что родные моей матери не знали на ком остановить свой выбор. Наконец, они остановились на сыне Мелика из села Малам. Но они конечно не спрашивали о согласии и желании невесты. И вот, в самый день свадьбы невеста исчезла из родительского дома! Соседи стали говорить, что ее утащили турки. После придумали, что она покончила с собой и, наконец, что она тайно любила юношу и убежала с ним. Тогда никто не знал правды. Знали лишь, что моя мать исчезла из родительского дома.
Прошли долгие годы. Не было никаких известий о судьбе исчезнувшей девушки. Бабушка не вынесла горя и умерла. Все остальные постепенно о ней забыли.
И вдруг она появилась с мужем и тремя детьми. Тут выяснилось, что она действительно бежала с любимым человеком. Общественное мнение беспощадно ее осудило. Не простили ей и родные братья, и отец, несмотря на то, что она была уже матерью троих детей. Но в чем же была вина этой «преступницы»?
Наконец чем были виноваты ее дети? Неужели грехи родителей ложатся и на детей?
Дядюшек моих особенно сильно сердило то, что их сестра вышла замуж за человека, которого они ненавидели, с родом которого у них была кровная вражда, который наконец был бедняком.
Иногда браки заставляют забыть старую вражду, и жажду кровной мести, связывая враждававшие семьи дружественными узами. Но моей матери не удалось примирить враждующие семьи и тем искупить свой грех. Ее отец проклял ее, и с тех пор, она не смела переступить порог родительского дома. Это продолжалось до самого того дня, когда смерть моего отца как будто несколько смягчила их жестокость.
Теперь перейдем к рассказу о горестной смерти моего отца.
Отправляясь на чужбину, мой отец имел намерение попасть в Константинополь, куда армяне часто отправляются в качестве рабочих. Ему нужно было проехать через Эрзерум. Тут, когда он
проходил по улице, на него набросился какой-то турок и ударом кинжала отрубил ему голову.
— Я выиграл, я выиграл! — радостно кричал турок, после того как убил моего отца.
Собралась толпа любопытных турок, заинтересованных этим событием. Выяснилось, что убийца моего отца держал пари со своим соседом. Они с соседом спорили — чей кинжал острее и решили испытать остроту кинжала на шее гяура — моего отца. Они условились, что если убийца отсечет голову гяура одним ударом, то его партнер должен угостить его чашкой сладкого кофе, если же не сумеет, то он сам должен угостить соседа. Толпа была в восторге от остроумия и удали убийцы и кричали ему: «Машалла, машалла!» Затем толпа разошлась, а убийца взял за руку своего соседа-партнера, и они направились в кофейню. Труп моего отца целый день валялся на улице, служа предметом насмешек и издевательств проходящих мусульман, которые выражали свое удивление тонкости и слабости шеи гяура, не выдержавшей одного удара. Другие удивлялись силе ударившего и остроте кинжала. Местные армяне днем не посмели подойти к трупу и только ночью решились подобрать его и схоронить.
История этого ужасного преступления была выслушана в нашем краю с полным равнодушием, как нечто совершенно обыкновенное. Враги наши злорадствовали, а друзья не сочли нужным предаваться печали. Наиболее мудрые люди приписывали все это неисповедимой воле провидения. Мои дядюшки считали, что отец мой был наказан за похищение из родительского дома против их воли моей матери — их сестры. Они были уверены, что такой человек не может быть счастливым. Только одно любящее сердце было глубоко пронзено при этой вести. Это было сердце моей бедной матери. Она до самой своей смерти не могла примириться с этим горем. Я и сестры еще ничего не понимали, но бессознательно плакали, видя как плачет мать. Но когда я вырос, то ясно почувствовал, что жажда мести питалась и с малых лет росла во мне с каждым днем… Что еще может так потрясти сердце сына, не лишенного чувства, и начинавшего уже понимать, что такое варварство? Шея моего отца послужила объектом ужасного опыта! Если бы подобный опыт был произведен над курицей, козлом и даже собакой, то и тогда злодей проделавший такой опыт не остался бы безнаказанным. Но жизнь армянина, жизнь гяура расценивалась ниже, чем жизнь животного. У него не было хозяина, не было защитника, он ничего не стоил и с ним можно было проделать что угодно и остаться безнаказанным.
Мои дядюшки были оружейниками. Это ремесло было унаследовано от предков. Оно переходило в их роду от поколения к поколению и было доведено в течении времени до довольно значительного совершенства. В Персии, как и в Турции все оружейные мастера были армяне. Они изготовляли оружие для своих врагов, которые сами не умели изготовлять, но зато умели искусно пользоваться оружием. Меня всегда приводила в ярость мысль, что то оружие, которым была отсечена голова моего отца, тоже было изготовлено каким-нибудь мастером-армянином.
Дядюшки мои пользовались широкой известностью во всей округе, поэтому в их мастерской работа постоянно кипела. Мастерская помещалась у главных ворот и от женской половины дома отделялась двором.
Тут постоянно можно было видеть разношерстную толпу, состоявшую из турок, персов, курдов, которые давали свое оружие в починку или делали заказы на новое оружие. Те, которые приехали издалека, оставались тут целыми неделями пока их оружие будет готово. Многие из них кормились у дядюшек и часто не платили даже за работу. В детстве я совершенно не понимал смысл этого патриархального гостеприимства, как и того, почему дядюшки работают для многих заказчиков даром. После я уже понял, что такое гостеприимство и любезность оказывали они не всем заказчикам, а только знатным. Они бесплатно работали лишь для беков, ханов, сеидов, шейхов, различных главарей курдских племен. Эти люди являлись вождями мусульман и их нужно было деликатно подкупать, чтоб заслужить, таким, образом, их милость и, затем уже, при их посредстве, получать плату за свою работу с простых смертных. В противном случае нельзя бы было работать, так как эти князья могли приказать всем мастерам работать даром на всех мусульман, или могли строить всякие кляузы. A так, ни один простой турок, перс или курд не осмеливался не платить оружейнику платы за его работу, так как он знал, что его господин уважает и при случае защитит мастера Баба (так звали они моего старшего дядю). Но была и другая причина.
Все мусульманские племена, жившие в нашем краю, были кочевниками. Весной они со своими шатрами и стадами поднимались в горы и только к зиме возвращались домой. Кочуя с места на место, они нуждались в присутствии оружейного мастера, который мог бы починить им оружие или изготовить новое. Ведь оружие для них самый необходимый предмет. Поэтому они постоянно перевозят с собой с места на место легкую оружейную мастерскую и мастера. Каждый из пяти братьев моей матери служил в качестве такого кочующего мастера при каком-либо племени. Домой он мог вернуться только к зиме. Но зато он привозил с собой целый воз масла, сыра, шерсти, большое количество овец, коров, волов и т. п. За работу курды платили натурой.
Когда сыновья уезжали, при дедушке оставался только младший сын. Мне кажется, что и сейчас я вижу этого старого, седого ремесленника за работой перед горном в кожаном переднике. То он поправляет на своем носу очки, то кует железо, то обтесывает его. Вокруг него вечно стоит какой-то гармонический шум. Достается из горна раскаленное железо и вот начинает его ковать. При каждом ударе молота по всей кузнице разлетаются яркие искры. Не знаю, почему эти разлетающиеся искры с самого детства производили на меня чарующее впечатление и имели на меня волшебное влияние. Я видел в них какую-то необъяснимую тайну. Скрытые в железе искры вылетали лишь тогда, когда железо было раскалено и его ковали, били его молотом. Когда железо холодное его искры точно дремлют, но стоит подогреть, раскалить его и первый же удар молота высекает из него искры, которые разлетаются во все стороны подобно ярким осколкам молний. Другие дети этого боялись, но я всегда смотрел на разлетающиеся пучки искр с восхищением. Я любил гром, когда он грохотал в небе и высекал из свинцовых туч огненные молнии, в то время, когда в воздухе гремела буря.
Мне казалось, что там на небесных высотах происходит какая-то грозная битва и великаны огромными молотами крушат тучи. Я слышал как грохочут тучи под их ударами и как из них, словно огненные змеи, вылетают молнии. Почему эти молнии не появляются в спокойную погоду, а лишь тогда, когда гремит непогода и бурно сталкиваются друг с другом стихии? Мне казалось, что там в небе происходит то же, что и в кузнице моего дяди.
Глава 4.
ОХОТНИК
Прошло уже несколько месяцев, несколько смертельно тяжелых месяцев после того дня, когда сборщики податей продали последние остатки нашего скарба.
Кругом царила холодная зима, которая отняла у полей и гор всю их красоту. Мороз с каждым днем становился суровей и нестерпимей, темно-серое небо мрачней и угрюмей. Солнышко отвернулось от земли и не показывало своего светлого лица. Снег тяжелым белым саваном покрыл землю.
Была темная, бурная ночь. На дворе — метель и вьюга. Ветер поднимал огромные столбы снега и раскидывал их во все стороны. Стены нашего домика дрожали. Казалось, вот-вот буран подымет наш домик и унесет в поле, в горы и там вдали разобьет в щепки…
Мать сидела у света и шила. Она была так погружена в свои думы, что не замечала, как шумит непогода. Мария и Магдалина долго просили есть, пошарили в комнате, поплакали и, голодные, легли спать. Я сидел у печки и подкладывал хворост в потухающий огонь. Сухой хворост вспыхивал, но быстро потухал и превращался в пепел. Это занятие очень забавляло меня.
Вдруг к нам постучались. Но мать не слышала стука. Я вышел и открыл дверь.
Мячиком влетела к нам в переднюю маленькая девочка, вся покрытая белым снегом. Я ее сперва не узнал. Она встряхнулась подобно кошке, и снег пушистыми белыми хлопьями падал с нее на пол.
— Маро! Чертовка, откуда ты взялась? — воскликнул я.
Но опа ничего не ответила, и не обратив на меня никакого внимания, побежала в комнату к моей матери и бросила ей на колени какой-то узелок. Потом она подошла к печке и стала греть свои посиневшие ручки. Но печь уже остыла. Заметив это, она кинулась к матери, крепко обняла ее и, указывая на узелок, сказала:
— Папа прислал.
Затем, как бы не желая оставить без ответа мой грубый вопрос, она обратилась ко мне.
— Я не такая старая бабушка, как ты, чтоб сидеть у печки и не вылезать из дому.
Грустное лицо мамы озарилось улыбкой. Она нежно прижала к себе Маро, взяла ее ручонки и стала их греть. У Маро язык развязался.
— Ах тетенька, если б ты знала сколько навалило снегу! Во сколько! — Она рукой показала как много снегу было на дворе, а затем опять обратилась ко мне.
— Фархат, поиграем утречком в снежки, да? А где же Мария? А, пусть только настанет утро — я ей тогда покажу. Я ей глаза выцарапаю! Магдалину я не буду трогать, она хорошая, а этой чертовке, Марии, я покажу. Она болтает всякие глупости. Пусть, только настанет утро, я ей задам!
— Я сама ее побью и велю, чтоб не смела говорить глупости, — успокаивала ее мать.
— А ты лучше отрежь ей язычок, тетенька, вот она и перестанет говорить глупости…
— И отрежу, — улыбаясь сказала мать.
Но Маро уже раздумала. Ей кажется слишком жестоким наказанье только что предложенное ей для Марии.
— Нет, тетенька не нужно резать ей язычка, а ты просто скажи, чтоб она больше не говорила таких глупостей, а то я сама вырву у нее волосы.
Мать обняла ее и поцеловала.
— А как хорошо в снегу, тетенька! Бежишь, бежишь и падаешь. Падаешь, а не больно! Тетенька, когда же наш пруд покроется льдом?
Эти слова относились к маленькому пруду, который был недалеко от нашего домика и на котором мы зимой играли и катались.
Мать спросила:
— А тебе не страшно было идти к нам?
— Чего мне бояться? — гордо ответила Маро. — Ведь чертей теперь нет, волков тоже — все они спрятались от холода в своих норах. Я не Мария. Это она трусит. Посмотри, посмотри тетенька, Фархат, посмотри как она дрыхнет! Разве можно в такую рань спать?
При этих словах она скорчила такую презрительную мину, что трудно было удержаться от смеха. Потом она вырвалась из объятий матери, подлетела к спящей Магдалине и, крепко ее поцеловав, схватила Марию за волосы и так сильно потянула, что та взвизгнула и в ужасе вскочила с постели. Увидев своего кровного врага, она с яростью накинулась на Маро.
— Ты чего тут безобразничаешь, черная сатана!
Полусонная она схватила было Маро за горло, но та оказалась проворней и, повалив ее на подушку, стала душить. Я бросился их разнимать, но Маро сама отпрыгнула, как кошка и, выбежав в переднюю, исчезла. Мать была в недоумении, не знала смеяться или сердиться. Она велела мне проводить эту «дочь демона».
Я быстро выбежал во двор, но ее уже там не было. Побежал я на улицу и тут заметил, как Маро подбегала к огромной фигуре какого-то человека.
Это был ее отец.
— Как ты отпускаешь такую маленькую девочку одну? Гляди какая ночь! Метель, тьма — ни зги не видать. — серьезным и важным тоном сказал я ее отцу.
— Ничего пускай привыкает, — небрежно бросил он и отошел.
Его холодный и жестокий ответ мне показался странным. К чему же должна привыкнуть эта девочка? Неужели к тому, чтоб одиноко бродить в бурную морозную, темную ночь? Я не понимал смысла слов, брошенных ее отцом. «Что за суровое и странное воспитание девочки», — думал я. Маро и без того была дика. Каждый pаз, когда она приходила к нам, дело не обходилось без того, чтоб она кого-нибудь не укусила или не исцарапала. Поэтому ее последняя проделка нисколько не удивила нас. Она была большая проказница, но мы все очень любили ее, эту полную жизни, веселую девочку.
Ее вражда с Марией имела свою историю. Дело в том, что когда-то Мария назвала ее цыганкой. И вот, этой обиды она не могла простить Марии, хотя, говоря по правде, кличка, данная Марией, была очень удачна, так как очень многим она походила на цыганку. Маро не выносила, когда напоминали ей о том, что она черная и, что у нее темные горящие глаза, похожие на глаза гадалок-«цыганок». Она бесилась, когда ей говорили, что такие курчавые волосы как у нее, бывают только у арабов. Даже не надо было ей прямо говорить об этом, достаточно было косвенно намекнуть, и она уже злилась. Достаточно было например сказать, что у Марии лицо белое и что волосы у нее золотистые. Этого было достаточно, чтоб Маро обиделась и вспыхнула гневом. Ей не нравилось даже то, что она носит то же имя, которое носит и Мария. Поэтому она была очень довольна, что ее называли не Марией, а уменьшительным именем — Маро. Это служило ей утешением.
Ко мне тоже она относилась не очень дружелюбно. Когда я сердил ее, она готова была растерзать меня, но чувствовала, что я сильнее ее и, поэтому, только грозила, что ночью придет и задушит меня.
Но зато, она очень любила Магдалину, так как та обладала чрезвычайно легким характером, всецело подчинялась ее влиянию и склонялась перед ее властолюбием. И белое лицо, и золотистые волосы Магдалины не сердили ее и как будто не напоминали ей о ее черноте.
Мы уже заранее знали, что находится в узелке, который она принесла. Там была жареная дичь с хлебом. Ее отец часто присылал нам такое угощение, несмотря на то, что сам он жил в крайней бедности.
Когда мы позвали Марию ужинать, она злобно заявила, что скорее она умрет с голоду, чем прикоснется к подаянию, которое носит эта «черная сатана».
Но мать охотно принимала эту помощь от человека, которого даже не знала лично, который ни разу не переступал нашего порога, хотя и был нашим ближайшим соседом.
О его бедности мы знали лишь по рассказам Маро, которая часто бегала к нам. Ее отец почти каждый вечер присылал нам еду из того, что у него бывало. Но никто из наших соседей не знал об этом, так как он это делал тайно.
Отца Маро звали Аво. Его настоящего имени я не знал. Это был настоящий богатырь. Он занимался охотой. В нашем городе он появился несколько лет тому назад в холодный зимний день, совершенно одинокий, как беглец. Затем постепенно собралась и его семья. Она была невелика. Она состояла из самого охотника, его дочери Маро, слуги по имени Мхэ, женщины по имени Хатун, которая занималась его хозяйством и какого-то парня по имени Асо. Кем были эти люди и откуда явились — никто не знал. Но про охотника в нашем городе рассказывали удивительные истории. Говорили, будто он приехал из Восточной Армении, где он был очень знатным человеком. Рассказывали будто он много воевал с курдами и что им убито столько курдов, сколько у него волос на голове. Трудно было судить насколько правдивы были эти рассказы. Мы наверное знали только то, что охотник Аво необыкновенно добрый и отзывчивый человек, что он лучший из наших соседей. Но многие его почему-то ненавидели и сторонились от него, как от страшного злодея. И то правда, что Аво благодаря своему молчаливому меланхоличному и замкнутому характеру для многих оставался неразгаданной загадкой.
У него на лбу был глубокий шрам, который грубым чертам его лица, похожего на лицо разбойника, придавал какое-то особенное выражение и внушал невольный страх и подозрение.
Но он был очень добр. Я, Мария и Магдалина нисколько не боялись его. Мы часто бегали к нему, и он сажал нас на колени, качал и рассказывал смешные сказки о «паршивой козе» или о «куцой крысе». Маро очень не нравилось, что ее отец Марию любит и ласкает также, как и меня и ее любимицу Магдалину.
— Ведь она тоже твоя сестрица, — уговаривал ее отец и учил не быть злюкой.
Он без конца нас баловал. Иногда он дарил нам живых птиц, к ножке которых мы привязывали нитки и целый день мучали, играя с ними.
Однажды охотник сказал мне:
— Фархат, ты мучаешь птичек, я тебе их больше не буду давать, если ты будешь с ними так обращаться.
Я, по обыкновению, за словом в карман не полез и прямо выпалил:
— Я их не убиваю, а ты убиваешь, а еще говоришь.
— Лучше, убивать, чем мучить, — ответил он.
Каждый раз, когда в нашем квартале распространялся слух, что в западню Аво попал зверь, весь квартал шел смотреть его.
Западню свою он устраивал в окрестностях города, неподалеку от нашего дома. Западня эта представляла из себя искусно вырытую круглую яму глубиной в двадцать аршин и шириной аршин в пять. В самой середине ямы, возвышался столб невырытой земли. На него каждую ночь охотник клал кусок падали, а все пустое пространство ямы прикрывал камышами, которые еле держались над ямой. Звери шли на запах падали и, не дойдя до нее, проваливались в глубокую яму.
Утром рано появлялся охотник в сопровождении Мхэ. Толпа с любопытством и нетерпением ждала, чтоб посмотреть, как выведут пойманного зверя, который злобно рычал в яме и, наводя ужас, бился, тщетно пытаясь выбраться из западни и убежать.
Мхэ, с огромным железным шестом в одной руке и с «калапчой» в другой, спускался в яму. Толпа с замиранием смотрела на отважного молодца. Был ли в яме медведь, волк, тигр, барс или трусливая лиса — для Мхэ было безразлично, он на всех зверей глядел как на баранов.
В яме начинался яростный бой между зверем и Мхэ. Мы ничего не видели, только слышали гневное рычание зверя, звук цепей и тяжелых ударов железной палки Мхэ.
Одолев зверя и надев на него «калапчэ», Мхэ становился необыкновенно ласковым и обращался с нежной речью:
— Успокойся, миленький, я тебя долго не буду держать тут. — И правда, через несколько минут он вылезал из ямы таща за собой зверя, закованного в железный намордник и уже совершенно безопасного. Но иногда Мхэ выходил из ямы с окровавленным, израненным лицом или телом. Но никогда не было случая, чтоб он не сумел надеть на зверя намордник. Я еще до сих пор помню с какой беспечностью и спокойствием вытирал этот железный человек свое окровавленное лицо. Точно не кровь вытирал он, а пот.
Мхэ помогал Аво в его охоте больше, чем все его собаки. В охотничьих делах он был чрезвычайно искусен и сметлив. Он до того тонко изучил характер и привычки зверей, что достаточно было ему увидеть на снегу след, чтоб точно определить, какой именно зверь оставил этот след и где его нужно искать.
Аво ничем другим не занимался. Он жил охотой.
Магометанская религия запрещает употребление шкуры пушных зверей, поэтому турки, персы и курды охотой не занимались и поприще всецело было предоставлено Аво. Его дом представлял из себя настоящий зверинец. Каждый раз, приходя к нему, я заставал его или за кормлением зверенышей, или за сушкой шкур. Купцы из армян и евреев покупали у него эти шкуры и вывозили в далекие страны.
Маро настолько привыкла к зверям, что их совсем не боялась. Однажды она показала мне страшного тигра и сказала:
— Гляди Фархат какие красивые на нем пятна! — И я с ужасом смотрел, как она подошла к зверю и стала гладить его по голове.
— Чего ты боишься? — сказала она со смехом, — ведь это то же, что и кошка, только большая.
Этот тигр был пойман ее отцом давно, когда он еще был зверенышем и, так как Маро очень полюбила его, то он его вырастил и воспитал. Мне казалось, что Маро и сама была таким же зверенышем, как этот и другие, так как она их вовсе не боялась и очень любила.
Глава 5.
ПЕДАГОГ И СВЯЩЕННИК
Моя мать была очень озабочена, чтоб с малых лет я научился грамоте и вышел в люди. Мне было десять лет, когда она повела меня к нашему священнику.
Это было в троицын день.
День этот особенный, говорила мать, если ребенок в этот день поступит в школу, то он многому научится, так как в этот самый день святой дух сошел на апостолов. Я еще помню те слова, которые она сказала вручая меня учителю.
— У тебя святая десница, батюшка! Отдаю тебе сына моего, как бы в рабство. Мясо его — тебе, кости — мне. Делай с ним что хочешь, лишь бы ребенок чему-нибудь выучился…
Тогда я ничего не понял из слов матери, но помню, что поп обещал дать мне хорошее образование и воспитание, научить меня грамоте настолько хорошо, чтоб я мог читать всякие книги. При этом он добавил, что покойный мой отец был его хорошим приятелем и ради этого он обратит на меня особенное свое внимание.
Отец Тодик, — так звали моего учителя, — свое образование получил в обители Ахтамар. Я не знаю почему он покинул монастырь, но всем было известно, что он вернулся из монастыря с огромным кладом знаний. Отец Тодик был известен и пользовался великим почетом не только в нашем городе, но и во всей области. Он славился как мудрый и ученый человек. Если кому-нибудь снился сон и он хотел разгадать его, то бежал к отцу Тоднку за разъяснением.
Если у кого заболевал ребенок, то он являлся к отцу Тодику и просил прочитать над больным молитвы из Нарека
[3]. Если кто хотел приступить к новому делу, он делал это не иначе, как с благословения отца Тодика и после того, как тот погадает на своих четках. Одним словом, отец Тодик был пророком своего округа. Каждый обращался к нему и следовал его советам. Боже мой! Чего только не рассказывали об отце Тодике! Говорили, что батюшке достаточно черкнуть на своем ноготке какие-то письмена и женщинам начало казаться, что перед ними море, и они оголялись. Говорили, будто достаточно ему прочитать какую-то молитву, и зерна ячменя, подобно муравьям, начнут ходить и подыматься по подпоркам дома к потолку. И, наоборот, по одному его слову мчащийся скорпион останавливался и, как окаменевший, не двигался с места. Говорили, будто он молитвой может связать у птиц клюв, и они не могут клевать на полях хлеб. Говорили, будто он ловит чертей и самого сатану, сажает их в склянку, и они становятся тогда безвредными для людей…
Много подобного рассказывали про моего учителя, и я всему этому искренно верил. В начале эти рассказы меня страшно пугали, но потом я к ним привык и думал: «Вот и я выучусь у него и буду таким же мудрым, как и он…».
И как я мог всему этому не верить, когда каждый день видел, что его дом полон армянками, турчанками, еврейками и вообще женщинами всяких национальностей. Кто приносил батюшке несколько яиц, кто петуха, кто бутылку водки, кто пару носков, одним словом, никто не переступал его порога с пустыми руками. В чем же их горе? Да вот, одна бесплодна — батюшка черкнет ей на бумаге что-то, свернет треугольником и она родит; у другой муж любит другую и батюшка всемогущей силой книги, называемой «Вецазаряк», охладит пыл любви у ее мужа и вернет его ей; третья хочет выйти замуж и батюшка силой своих талисманов открывает ей путь к счастью…
И много еще другого, в этом же роде, делал отец Тодик и все говорили, что это все исполняется. И как служитель церкви отец Тодик являлся утешителем своей паствы. Все смотрели на него, как на святого. В дни великого поста жители нашего квартала собирались в келье, во дворе церкви, и там мой учитель читал им священные книги и толковал прочитанное. Я до сего дня не забыл еще этой тяжелой громадной книги, которая называлась «Четьи Миней». Она была такая тяжелая, что я еле ее дотаскивал до церковной кельи. Я не знал, что было написано в этой книге, но много раз думал: «Ах боже, как было б хорошо, если б ты все написанное в этой книге влил в мою голову».
Но тут же я смеялся над собой: «Хорошо, говорил я себе, но как же может моя маленькая голова вместить такую уйму знаний». Но опять возражал себе: «Ведь у моего учителя голова немного больше моей, а почему же он все знает?».
Старики нашего квартала собирались в келье и ждали прихода батюшки. Я нес туда книгу, клал ее на маленький аналой, а сам становился тут же рядышком, приложив руку к груди. С каким благоговением старики встречали батюшку! Не было человека, который бы не приложился к его руке и не получил его благословения. Отец Тодик садился у аналоя, открывал книгу и начинал читать и объяснять слушателям прочитанное. Я еще помню до сих пор многие из рассказов о чудесах святых отшельников и монахов. Я помню рассказы о том, как они заставляли жареных голубей летать, как они разговаривали с ангелами, как они ловили чертей и заставляли их служить себе, как они целыми неделями ничего не ели и как бог посылал им с неба манну.
Я слышал тысячи таких историй и они наполняли мое сердце священным трепетом и горячим благочестием. И я часто думал: «Брошу лучше бренный мир, уйду в горы, поселюсь в пещере, стану отшельником и тогда, может быть, и я стану говорить с ангелами и питаться манной небесной…»
Иногда после чтения кто-либо из старцев задавал моему учителю какой-нибудь глубоко богословский вопрос. И учитель на все его вопросы давал мудрейшие ответы…
Глава 6.
ШКОЛА
Наша школа помещалась в одной из лишних комнат в доме отца Тодика. Помещение школы непосредственно примыкало к хлеву. В этой маленькой душной комнате сидело сорок учеников. Кроме того, в этой же комнате помещались три новорожденных теленка. Зимой там было хорошо, хотя комната и не топилась, потому что окно выходило в хлев. Мы открывали это окно, и теплый пар клубами вливался в наш класс, в котором сразу делалось жарко, как в бане. Мы этому страшно были рады, хотя пар и был удушлив и нестерпимо тяжел. А летом там было невыносимо плохо, потому что с одной стороны от гниющего в хлеве навоза поднимались удушливые испарения, а с другой целые тучи насекомых и блох совершали нашествие на нас. Эти насекомые были так мелки, что глаз их еле различал, но зато как жестоко они кусались!
Вся школа состояла из одного класса. В этом классе преподавался и элементарный курс наук, начиная с азбуки, и высший курс, который составляла та самая огромная книга, которую я с таким трудом дотаскивал до кельи в церковном дворе. В нашем классе было голо, как в турецкой мечети. Не было там ни скамеек, ни столов, ни стульев. Ученики поджав под себя ноги садились на сырой пол, покрытый циновками.
Учитель подстилал под себя козью шкуру, а некоторые из учеников, дети богатых родителей, приносили с собой из дому свои собственные небольшие подстилки и садились на них. Единственное, что напоминало о том, что здесь школа — были «фалахка» и пучок свеженарезанных прутьев.
Сколько раз ни крали мы, сколько раз ни ломали эту проклятую «фалахку», никак не могли от нее избавиться. Она была вечна. Наша школа никак не могла б обойтись без нее.
Уже много лет спустя после этого, прочитав об орудиях инквизиции и их различных видах, я был крайне удивлен, что католический гений, который был так силен в создании орудий для пыток, совершенно упустил из виду «фалахку» — это орудие пытки, терзающее и душу, и тело.
Голые ноги ученика втискивали в эту машину и ее подымали вверх, а затем начинали свежими прутьями бить его до изнеможения, до потери им сознания. Вот что из себя представляла проклятая «фалахка»! Ужаснее всего было то, что бить заставляли самого близкого товарища или родственника ученика. Если тот отказывался, то сам подвергался той же пытке…
Рано утром начинались уроки. Учитель садился в углу комнаты наподобие священнодействующего жреца. Перед ним стоял небольшой аналой. Это была его кафедра.
Ученики по очереди подходили к нему, целовали его руку, становились перед ним на колени и, положив книги на аналой, начинали отвечать урок или, как тогда мы выражались, «отчитываться». Обыкновенно за каждую ошибку ученик получал удар по ладони особой лопатой, которая у нас называлась «поучением». Если же урок вовсе не был приготовлен, то отвечающего ожидала проклятая «фалахка». То что наш учитель называл «поучением» было настоящим божьим наказанием. Это было особое орудие в виде небольшой лопаты, сделанной из крепкого дерева.
Из старинных книг было извлечено все, что относится к битью, и высечено на этой лопате. Например, там были следующие слова: «Кто не хочет слышать ухом, услышит спиной», или «Слуга, который не зная волю своего господина, сделает что-либо достойное побоев, да получит несколько ударов палкой, а если сделает тоже, зная волю своего господина, то да получит он множество ударов», или «Горько древо учения, но плоды его сладки»… Это орудие, называемое «поучением», специально изготовлялось для учителей, и отец Тодик с великой гордостью рассказывал, что свое «поучение» получил от своего же учителя в награду за ревность в учении и за успехи. Одно из наказаний глубоко врезалось в
моей памяти. Оно смешное и вместе с тем ужасное. Ученика заставляли стоять посреди комнаты и в высоко поднятых руках держать кирпич или тяжелую книгу «Четьи Миней». И вот, стоял бедняжка целыми часами неподвижно, как индийский факир и должен был держать тяжесть выше головы. У него уставали руки, слабели, но это еще ничего. Самое главное было то, что виновный должен был стоять на одной только ноге. Обычно приказывали стоять на левой ноге, а правую приподнять и так держать. Кто-нибудь из учеников по приказанию учителя становился рядом с наказанным с кнутом в руке. Он должен был строго следить за наказанным во время этой невероятной гимнастики. Если наказанный ступал правой ногой на землю, то стороживший ученик бил его по ногам. Я, по правде сказать, так привык к этому дьявольскому наказанию, что мог, как гусь, стоять на одной ноге, сколько угодно…
Были в нашей школе и другие строгости.
Утром мы должны были являться в школу натощак. У нас в те времена еще не знали ни чаю, ни кофе. А если б мы вздумали позавтракать, то нас ожидало в классе строгое наказание. Учитель наш говорил: «На сытый желудок нельзя учиться, потому что от еды убавляется ум». Как доказательство, он приводил пример отшельников и монахов, которые ничего не ели, а могли из своей головы сочинять и писать книги. Это требование нашего учителя мы исполняли свято. Да и не могли не исполнять, потому что он сразу угадывал, если мы нарушали его волю и ели что-нибудь перед тем как идти в школу. Узнавал он это следующим образом. Перед началом урока подзывал к себе подозреваемого ученика и рассматривал его язык. Как известно у голодного человека на поверхности языка бывает белый налет, который после еды тотчас же исчезает. Поэтому мы по утрам не только ничего не ели, боже упаси! Мы боялись даже полоскать рот, когда умывались, чтоб как-нибудь не смыть с языка белый налет и не дать учителю повод подумать, что пост нарушен.
Таким образом, до полудня мы занимались совершенно голодными. Голова кружилась, в глазах темнело от голода, но несмотря на это, мы ничему не могли научиться.
Часы нам заменяла тень на стене. Когда эта тень доходила до определенной черты, мы знали что уже полдень. Тогда мы получали разрешение обедать. С каким нетерпением ждали мы этой минуты!.. Иногда казалось, что солнце так же безжалостно и бессердечно как и наш учитель, — так оно медленно поднималось по небу и так незаметно и лениво ползла по стене тень…
Обедали мы в, классе. Обед приносили с собой из дому. Самые лакомые куски отдавали, конечно, батюшке. Поэтому его обед был всегда настолько разнообразен и обилен, что его хватало и матушке и детям нашего учителя.
После обеда нам полагалось несколько минут отдыха. Но, при этом, строжайше были запрещены игры. Игры считались шалостью, мешающей благонравию. Ученик должен быть молчалив, неподвижен, скромен и покорен. Ослушников жестоко карали, особенно, если заставали за игрой или находили у них игрушки. С этой целью в школе производились иногда внезапные, неожиданные обыски.
Для богатых учеников делалось исключение из строгих правил нашей школы. Им очень многое прощалось. В классе они сидели на первом месте. Вне класса они могли безнаказанно бить своих бедных товарищей. Одним из таких учеников был мальчик Ало — сын самого богатого в городе человека.
Отец его был откупщиком монетного двора.
В те времена в Персии монету чеканили во всех главнейших городах, и чеканка денег отдавалась на откуп частным лицам. Отец нашего Ало стоял во главе монетного двора в городе Хое. Это было привилегией их семьи и по наследству передавалось от поколения к поколению. Поэтому-то их называли «зараби».
Ало был одним из самых скверных учеников нашего класса и никто его не любил, кроме учителя. Когда нужно было кого-нибудь из учеников наказать, то Ало первый вызывался исполнять роль палача и настойчиво просил об этом учителя. Это доставляло ему величайшее наслаждение и учитель никогда не отказывал ему в этом удовольствии.
Каждый день, приходя в класс, он приносил с собой в школу какую-нибудь новую книгу и, показывая ее учителю, говорил:
— Мой папа велел читать со мной вот эту книгу.
— Хорошо, — отвечал учитель, — читай эту книгу.
Однажды я не вытерпел и сказал Ало:
— Ты, брат, и Псалтыря-то еще по складам не умеешь читать, а уже какую большую книгу взял!
— И отец у меня большой человек, — гордо ответил он.
— Отец-то у тебя большой, это правда, и я хорошо это знаю, а вот сыну-то большого человека надо еще несколько лет поучиться, прежде чем приступить к чтению такой книги…
— Чему мне учиться? Мой папа сказал: «Снеси эту книгу и читай — ты будешь первым учеником в классе».
— Как сам он первый человек в городе, — кинул я ему насмешливо.
Он ударил меня по щеке. Я, конечно, не остался в долгу и нанес ему сильный удар кулаком. Он тотчас побежал к учителю и пожаловался на меня. Предоставляю судить вам, насколько ужасно должно было быть наказание за такой, с моей стороны, дерзкий поступок. Я осмелился ударить сына главы казенного монетного двора!..
Это было неслыханной дерзостью. И с этих пор я всей душой возненавидел все казенное, всех людей, разбогатевших благодаря казне…
Предпочтение, которое давалось в школе детям богачей имело, конечно, свои причины. По праздникам они приносили учителю всякие подарки — вино, водку, масло, сыр и т. п. Их родители дарили учителю «халат», когда они, прочитав одну книгу, переходили к другой.
А мы были бедны. Мать с трудом вносила за меня ежемесячную плату за учение, а взамен подарков я исполнял разные работы в доме учителя. С утра до вечера я не знал покою. То приходилось идти по воду, то косить траву для коров, то держать телят, когда матушка доила коров… А если не было никакой другой работы, то учитель сажал меня после обеда около себя и заставлял отгонять мух, чтоб не мешали ему спать.
Иногда учителя звали на крестины или похороны. Это был для него праздник, а для нас эти дни были смертью. Ученики постарше, которые знали уже церковную службу, брали его ризу, требник, кадило и другие необходимые предметы и отправлялись с ним. А мы оставались. Казалось, что вот теперь-то мы можем вздохнуть свободно и спокойно, но увы, наша участь в такие дни была еще горше, чем обыкновенно. Учитель опасаясь, как бы во время его отсутствия мы не натворили бесчинства, выдумал сатанинское средство. Он сажал нас подальше друг от друга, широкие полы нашей одежды расстилал на полу и на них насыпал мелкий песок, на который ставил знак деревянной печатью, специально для этой цели изготовленной. Вообразите наше положение! Целыми часами мы должны были сидеть на полу, неподвижно, как пригвожденные. Малейшее движение могло стереть печать на песке, и тогда учитель выматывал у нас всю душу. За это я очень часто подвергался наказанию. Боже мой, я ведь не был мертвым, чтоб совершенно не двигаться!
Учитель возвращался с разгоряченной головой. Если печать на песке была нарушена, то нас ожидала проклятая «фалахка» или стояние голыми коленями на мелких кусочках кирпича, или на горохе. И опять требовалась полная неподвижность.
Случалось, что наказание налагалось одновременно на всех учеников.
Бывали у нас и каникулы.
Большие каникулы бывали на пасхе и на рождестве. Нас распускали на целую неделю.
После каникул, когда ученики впервые являлись в класс, их всех, без исключения, ожидала «фалахка».
Это было наказание за возможные или предполагаемые шалости учеников во время каникул. Определить, кто за праздники шалил, кто нет — не было возможности, поэтому наш мудрый учитель подвергал наказанию всех, без исключения. Эта варварская система имела и другое объяснение. Подобно тому, как хорошие наездники, садясь на коня, считают нужным подстегнуть его, чтоб он разошелся, так и наш учитель после дней отдыха путем наказания хотел навострить наше внимание, заставить очнуться и вновь войти в колею школьной жизни. Учитель наш не был злым человеком, напротив, он был очень добр. Все эти строгости, вся жестокость, которую он проявлял, были следствием его педагогических воззрений. Он был убежден, что без битья, без страданий ученик ничему не может выучиться. Он верил в силу «фалахки» так же свято, как и в силу своего колдовства и своих талисманов, посредством которых он творил чудеса…
Когда я рассказывал матери о переносимых мной в школе муках, она обыкновенно говорила мне:
— Потерпи, сынок, без мук, без страданий ничему не выучишься.
Но почему же битье не помогает, думал я, и почему, перенося столько мук, я все-таки ничему не мог выучиться? А я не был глупым или неспособным мальчиком.
Когда бабушка рассказывала мне сказки, то я их очень быстро запоминал. Когда появлялся «ашуг», я мигом заучивал его рассказы и песни. Почему же в школе я так отупел? Куда исчезли мои способности?
Дело в том, что сказку бабушки и песню «ашуга» я понимал, поэтому я их очень быстро и усваивал, но я ничего не мог понять из всего того, что преподавал наш учитель. Мне казалось, что все, что мы читаем с ним, написано не по-армянски.
День и ночь я сидел за уроками, но в голову ничего не лезло. Как только взгляд учителя встречался с моим, мной овладевал ужас, я смущался и забывал все, что знал. Во мне до такой степени были подавлены ум и чувство, до того была убита вера в свои силы, что я искренне верил учителю, когда он в гневе говорил мне:
— Никогда, ничего путного из тебя не выйдет, чертов щенок!
В самом начале учитель дал мне в руки букварь.
Как будто сейчас — вижу перед собой эту тетрадь, напечатанную мелким шрифтом. На обложке тетради был нарисован большой крест, под которым было написано: «Крест, помоги мне!»
Каждый раз, беря в руки книгу, я благоговейно крестился и повторял эти слова. Учитель говорил, что если перед уроком не попросить помощи у креста, то ничему нельзя выучиться. Но, видимо, и крест отвернулся от меня и не хотел меня вразумить…
Я и до сих пор еще не могу забыть того тяжелого впечатления, которое произвел на меня этот букварь.
Каждая буква, словно чудовище, хотела меня проглотить. Даже по ночам я не знал покоя и видел страшные сны. Мне казалось, что буква «ну» (н), похожа на обезьяну, которая присела на корточки и кривит свою отвратительную рожу, желая напугать меня. Буква «ра» (р), обратившись в огромную ящерицу, лезла ко мне за пазуху. Но больше всего я ненавидел букву «дже» (дж) — она всегда казалась мне верблюдом со скрюченной шеей, а я очень боялся верблюдов. Единственная буква, которую я любил — была буква «о»
[4]. Я ее быстро запомнил. Она была так похожа на большие глаза красивой Сони!..
Милая Соня! Произнося твое имя, я забываю все, что перенес в этом аду, называемом школой. Ты была утешением, ты одна услаждала часы моей горести и печали.
Соня была дочерью моего учителя. Я в своей жизни не встречал более доброй и невинной души. Бывало, когда учитель бил меня, Соня, спрятавшись в уголок, горько плакала…
— Бедная девочка, почему она плачет? — думал я.
Глава 7.
ПЕРВОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ
Семья у моего учителя была небольшая. Она состояла из его жены, сына и маленькой Сони.
Жену его звали Гюль-Джаан (т. е. Роза Мира), но в противоположность своему прекрасному имени она была одним из самых уродливых существ в мире. Однако, несмотря на это, отец Тодик, если и не любил, то во всяком случае, относился к ней с большим уважением. Правда временами он ее бранил, но бил ее очень редко. Это имело свои причины. Как известно, первым поклонником пророка является его собственная жена. «Роза Мира» была самой ревностной почитательницей священника. Она всячески старалась прославить его среди женщин, как чародея и великого мудреца. Она распространяла слухи об исполнившихся предсказаниях и о чудесном влиянии талисманов своего мужа. И это увеличивало число почитателей учителя.
Сын его Степан был красив и совершенно не походил на мать. Это был вечно молчаливый, бледнолицый кретин, идиот с тусклыми, угасшими глазами.
Нельзя было смотреть на него без чувства сострадания. В разговоре с ним я часто замечал, как он беспричинно улыбается или смеется, как он заговаривается и неожиданно убегает, словно боясь чего-то. Несчастный был помешан. Иногда целыми ночами он беспокойно бредил. Часто, сонный, вскакивал и бессознательно шел куда глаза глядят. Поэтому его держали на привязи. Все чародейство его отца, столь могущественное для других, было совершенно бессильно по отношению к красивому Степану и нисколько не помогало ему. Он не поправлялся. Так и остался он идиотом. Не знаю, насколько справедливо, но многие виновником недуга Степана считали его отца. Рассказывали будто Степан был таким же шалуном, как и я. И вот, однажды, его отец, рассердившись на него и, желая проучить, повесил его над глубоким колодцем. Говорили, что с этого дня мальчик и заболел. Предполагали, что у колодца черти его и околдовали, так как всем известно, что колодцы полны чертей.
Однако случались дни, когда он бывал в уме. В такие моменты он был очень мил и приветлив, и мы все его очень любили.
Дочь учителя, Соня, была тоже молчалива и пуглива. Она, несмотря на малые лета, очень много работала по хозяйству. У нее были такие же глубокие, тихие, спокойные темно-синие как у ее брата глаза, но в них было больше жизни и блеска, в то время как глаза брата совершенно утратили блеск. Волосы у Сони были несколько темнее, чем у брата, у которого они были светло-русые. Удивительнее всего было то, что никто из них не походил ни на отца, у которого черты лица были монгольские, ни на мать, которая была до того некрасива, что внушала страх.
Несмотря на то, что отец Тодик был духовным пастырем, протоиреем в квартале, состоявшем из 700 семейств, несмотря на то, что он кроме того исполнял обязанности представителя викарного епископа и получал по этой должности также значительные доходы, не говоря уже о школе, он жил очень бедно,
Несколько темненьких комнат, отштукатуренных белой глиной, окруженных низенькой оградой — вот весь его дом, который постоянно утопал в пыли и мусоре, представляя из себя грустную картину.
Соседи все это объясняли скромностью попа и его отречением от суетных мирских благ. Это было бы отчасти правильно и справедливо, если бы подобными же качествами не обладали все скряги. Ведь все купцы тоже живут в бедности и терпят лишения, как терпел их наш учитель в своем отшельничестве. Дервишизм, обыкновенно, привлекает суеверие темного люда, хотя очень часто под плащом дервиша скрывается душа корыстолюбивого эксплуататора.
За последние годы моя мать уже не в состоянии была платить попу за мое учение, поэтому учитель всю работу по дому взвалил на меня и мне уже совершенно некогда было учить свои уроки. Целыми днями я бегал по разным поручениям попадьи или самого священника. Уроками мне оставалось заниматься ночью. Но это мне часто не удавалось, так как из-за отсутствия света нам почти всегда приходилось спозаранку ложиться спать.
С семьей дядюшки мы почти не общались. Матъ не получала от них никакой помощи и, даже, от милостиво нам предоставленной квартиры, она бы отказалась, если б у нее был какой-либо иной выход из положения. Вся надежда была на благодетеля нашей семьи охотника Аво.
Но в деле моего учения и он не помогал нам. Напротив, ему было очень неприятно, что я учусь у отца Тодика. И я помню, как он однажды с отеческой добротой сказал мне:
— Ушел бы ты лучше из этого ада, Фархат! Ведь ты там можешь совершенно отупеть!
— А куда мне поступить, — спросил я, — чему учиться?
— Поступи лучше в мастерскую дяди и учись оружейному делу.
— А разве учение, образование ненужная вещь?
— Какое там, в этой твоей школе образование, какое там учение! Это не учение, — ответил он.
Затем он стал подробно и долго объяснять мне, что такое истинное образование и учение, но я тогда не понимал его как следует и только удивлялся, как этот суровый грубый человек, который вечно воюет со зверями и сам уже приобрел повадки зверя, может так хорошо рассуждать об образовании.
Охотник был большим приятелем одного из моих дядюшек — Минаса, который из дружбы к нему бесплатно починял и приводил в порядок его оружие. Охотник поговорил с этим самым дядей Минасом и уговорил его взять меня в свою мастерскую в качестве ученика.
Ремесло дяди мне нравилось. Мое сердце билось, когда я входил к нему в мастерскую. Целыми часами с восхищением я рассматривал ту массу блестящего оружия, которое изготовлялось им. Но мать заупрямилась и не позволила мне поступить к дяде в ученики. При этом она повторяла слова, которые я часто слышал от своего учителя, именно, что все оружейные мастера — грешники и их душа попадет в ад.
— А почему? — спросил однажды я.
— Потому, что они изготовляют мечи, шашки, ружья, которыми люди убивают друг друга.
И, таким образом, мне не удалось поступить к дяде, и я оставался все в том же «аду», как называл нашу школу охотник Аво.
Но в этом «аду» у меня был ангел-утешитель, который облегчал горечь моих мук. Это была Соня, дочь учителя. Что это было за чувство, которое горело в моем сердце, я не понимал тогда, да и до сего дня не понимаю.
В работе по хозяйству Соня мне всегда помогала, Когда шли мы с ней в сад за травой для коров, она мне говорила:
— Ты посиди, Фархат, поучи урок, а я буду косить траву,
— Ты не сможешь, устанешь, — отвечал я.
Она нежно улыбалась и возражала мне:
— Нет, не устану, не бойся. Ты лучше поучи урок, чтоб папа тебя не бил.
Хотя Соня и очень хотела помочь мне и дать возможность учить уроки, но из этого ничего не выходило, тем более, что ей скоро совершенно запретили ходить со мной, и с тех пор я работал один. Как было грустно, что ее нет больше со мной!..
Так провел я целых семь лет. За этим таинственным числом скрыты все мучения моего детства! За эти семь лет я прошел все ступени знания, т. е. выучился всему тому, чему тогда мог выучиться всякий, кто получал высшее образование у отца Тодика. Я успел прочесть все книги, которые были известны в нашем краю: «Псалтырь», «Служебник», «Новый и ветхий Завет», «Нарек» и даже ту огромную книгу, которую я когда-то с таким трудом подымал и нес. Я умел писать и читать писаное, знал несколько правил древне-армянской грамматики. Но я не приобрел тех знаний учителя, которые касались чародейства, духов. Эту мудрость учитель держал в тайне и, для того, чтоб приобщиться к ней, нужно было прослужить у него лет десять–двадцать…
В его школе ученики учились долгие годы. Там они старились, сидя неподвижно в течение многих лет; бородатые люди и безусые мальчики при этом сидели вместе, в одном классе.
Мне было десять лет, когда я поступил в школу, и с тех пор прошло двенадцать лет — это срок немалый. Я был уже совершенно взрослым человеком. Но, несмотря на мой возраст, учитель обращался со мной, как с мальчиком.
И «фалахка», и удары в ладонь «поучением», и стояние голыми коленями на мелких кусочках кирпича, одним словом, все прежние наказания были в силе и для меня. Но удивительно — я так привык к этим наказаниям, во мне до того было уничтожено чувство самолюбия, гордости и чести, что я терпел и выносил все это с немой покорностью животного. Но однажды наконец-таки я не вытерпел.
Это было в день пасхи. Никто из учеников не сумел подготовиться к чтению в церкви «Книги Даниила» из Св. Писания. Эту книгу обыкновенно читали в церкви дети богачей, которые за эту честь вносили в пользу церкви деньги. На этот раз наш учитель, желая выставить напоказ успехи своих учеников, потребовал, чтоб ученик, желающий читать эту книгу, выучил ее наизусть. Но где же взять детям богачей такие способности?
С первого же дня великого поста они принялись зубрить, но, когда подошла пасха, оказалось, что никто из них не сумел выучить эту книгу наизусть. Не зная, как выйти из затруднения, учитель чтение «Даниила» поручил мне. Это было в пятницу, в день страстей господних.
Сколько надо было промучиться, чтоб выучить наизусть всю эту книгу! Ведь оставался всего почти один день!
В субботу в полдень учитель спросил меня, и я мог ему ответить только три четверти книги. Быть может до вечера я и сумел бы выучить остальную четверть, но учителю не понравилось, что я еще не готов, и он выругал меня самым непристойным образом. Тогда я не вытерпел и ответил ему дерзостью.
— Я тебе покажу, чертов щенок, — заорал на меня рассвирепевший учитель, и не имея времени, чтоб тут же наказать, он арестовал меня, запер в хлеву. Своим он поручил держать меня до тех пор, пока он вернется с вечерней службы и расправится со мной. Обиднее всего было для меня то, что после того как целых семь недель я ходил в церковь, как раз в этот самый день, в день светлого праздника лишился церкви. Мне было обидно, что я не буду присутствовать в церкви, когда запоют там торжественное «свят, свят!..» В этот момент обыкновенно я получал из рук матери освященное красное яичко, которым и разговлялся…
Все мои благочестивые желания разом канули в воду. В те времена в душе у меня ярко горело религиозное чувство, искренняя вера. Все церковные обряды, все таинства полны были еще для меня священного смысла и значения. Вот почему мне было обидно, что не могу пойти в церковь. С другой стороны меня терзала зависть. Я был в школе первым учеником и несмотря на это, те из моих товарищей, которые были во сто крат ниже меня, могли в этот день участвовать в службе, в чтении священных книг, молитв и в пении, а моя бедная мать не могла в этот торжественный день услышать голос своего единственного сына!
Эти горестные мысли и чувства всецело овладели мной, и я совершенно забыл об угрозах учителя и ожидавшем меня наказании. Какое странное противоречие, думал я, скоро со мной жестоко расправится тот самый священник, который с алтаря на весь мир должен провозгласить святые слова: «Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробах живот даровав…».
А моя тюрьма! Увлеченный, охватившими меня мыслями и чувствами, я и не обратил внимания на свою темницу. Между тем, несмотря на то, что был только апрель, жара уже наступила и хлев, в котором я был заперт, был полон насекомыми, и они нещадно кусали меня. С другой стороны меня душила царившая отвратительнейшая вонь в хлеву и томил невыносимый голод.
— Что делать? Куда бежать? — думал я. Дверь крепко заперта, а выносить все это нет уже никаких сил!..Солнце уже давно зашло, и в хлеву становилось все темнее и темнее. Я был в бешенстве. Мной овладело какое-то безумие. Как зверь, запертый в тесной клетке, я кидался из угла в угол, хотел разрушить стены, пробить потолок, выломать дверь, расширить узкое окно и вырваться как-нибудь на божий свет. Эта борьба длилась несколько часов и совершенно обессилила меня. Я свалился наземь и лежал в полном изнеможении.
Мной овладел какой-то кошмар. Какие-то чудовищные и страшные галлюцинации томили меня.
Как живые встали перед моим взором те многоголовые драконы, о которых рассказывала мне в своих сказках моя бабушка. И мне казалось, что скоро станет совершенно темно, и они задушат меня…
Долго ли лежал я в этом бредовом состоянии, я не помню. Вдруг я услышал скрип двери. По всему моему телу пробежала холодная дрожь. Но скоро мой страх исчез. Смотрю, со свечкой в руке, словно ангел-благовестник, входит Соня! Она назвала меня по имени, и я очнулся от бреда.
— Беги, Фархат, — сказала она. — Беги, пока еще нет моего отца!
Я хотел обнять мою избавительницу, но она ускользнула от меня как тень и исчезла.
Я вышел из своей темницы, покинул школу, этот ад, где пытали и терзали меня с детских лет и больше не вернулся туда.
Глава 8.
СТАРЫЕ ТОВАРИЩИ
Освободившись из своей тюрьмы, я решил больше никогда не возвращаться туда.
Я не пошел домой, к матери, так как знал, что если пойду, то она утром опять поведет меня к попу и, вручая меня ему, скажет: «Мясо тебе, батюшка, а кости мне…»
Теперь я хорошо понимал значение этих ужасных слов, сказанных матерью, когда она впервые повела меня в школу. Была уже ночь, и я не знал куда мне идти. Мной овладело отчаяние и я стал думать; «Пойду брошусь в воду и избавлюсь от всего!..».
Потрясенный, бродил я по улицам нашего квартала. Никого на улицах не было видно. Кругом царила мертвая тишина.
Все уже вернулись из церкви и сидели со своими, мелькало у меня в голове, я один как беглец, как осужденный, не имею пристанища в эту ночь.
Из домов был слышен запах ладана, и воздух был напоен этим священным благоуханием. Порой до моего слуха долетали веселые возгласы и слова «Христос воскрес!». Да, думал я, воскрес бог любви и мира, но где же любовь в мире, где мир, где братство? Их нигде я не видел в жизни.
Тоскливая тревога, охватившая меня, доводила до безумия. Я уже ничего не чувствовал, ничего не слышал. Мне стали непонятны даже звуки сладких песнопений, которые долетали до меня из окон. Я стал глух ко всему.
Не помню, как я дошел до берега потока… Но когда я собрался было кинуться в пучину высоко вздымавшихся волн разлившегося потока, какой-то голос окликнул меня.
— Эй ты, стой! Что ты делаешь?
Оттого ли, что было темно или оттого, что я был слишком взволнован, я не сразу узнал этого человека, хотя в голосе его послышались мне знакомые ноты.
— Ты меня не узнаешь, Фархат?
— Ах, это ты Каро? Милый друг!.. Но нет ты не Каро… откуда ты взялся?.. Ведь про тебя говорили…
В смущении и нерешимости я распрашивал моего старого товарища, который тем временем обнял меня и глухим голосом сказал.
— Ну да это же я, я, Каро!..
Меня охватила безграничная радость. Как малый ребенок я припал к его груди и стал нежно целовать его лицо, глаза, руки… И долго я не выпускал его из своих объятий. Я рассказал ему все, что со мной случилось и объяснил почему попал сюда. Он смеялся над моей простотой и говорил:
— Ты с ума сошел что-ли?
— А что же мне было делать? — спросил я.
— А кинуть в воду этот сатанинский клубок и делу конец! — сказал он, указывая на книгу «Даниила», которую я бессознательно захватил с собой, убегая из своей тюрьмы.
Без долгих размышлений я кинул книгу в воду и мне показалось, что вместе с ней бурные волны потока поглотили и унесли муки моего сердца…
— Вот и отлично! А теперь идем!
Я и не спросил куда он меня ведет, а покорно последовал за ним.
На краю неба заблестел рог луны, и ночной мрак немного рассеялся. Прохладный ветерок освежил мою разгоряченную голову, и я вздохнул свободнее. Я уже чувствовал себя настолько хорошо, что, казалось, со мной ничего и не случилось…
Двенадцать лет тому назад Каро покинул нашу школу и куда-то исчез. Он ушел из школы, ничему там не выучившись. Но как он изменился за это время, — думал я. Худенький, маленький, болезненный Каро вырос, возмужал, стал настоящим богатырем. Его смелые движения и гордая осанка были полны величия и самоуверенности. Он был старше меня всего на четыре года, а моя голова еле доходила до его плеч. А я ведь не малорослый парень. На моем лице еще не было и следов растительности, а у него уже растут темные усы. На его загорелом бронзовом лице ярким огнем пылали знакомые мне глаза. Мне казалось, что глаза у него стали больше и приобрели какое-то полудикое выражение.
В пути он почти не говорил со мной. Только спросил:
— Неужели еще жив тот Аспид?
Вопрос относился к моему учителю, отцу Тодику. А когда я стал рассказывать ему о школе, он как будто не слушал меня и, видимо, не интересовался всем этим, так как ему все было хорошо известно. И правда, ведь ничего с тех пор не изменилось, Все оставалось по-старому. Встреча со мной, так обрадовавшая Каро в начале, видимо, потом навеяла на него печаль. Меня заставляло думать так его задумчивое молчание. Но оказалось, что я ошибся. Каро в это время думал о другом и как-бы не замечал меня. Казалось, он забыл о моем присутствии… Меня обидело его равнодушие и я нетерпеливо спросил его:
— А куда мы идем?
— Ах, я забыл тебе сказать. Сейчас я поведу тебя в одно место, где ты увидишь двух своих старых товарищей. Ведь ты не позабыл еще Аслана и Саго?
— Аслана и Саго! — воскликнул я, не в силах удержать охватившее меня радостное волнение, которое постороннему показалось бы странным при сравнении с хладнокровием и спокойствием моего спутника. — Где они? Скоро ли я их увижу? — нетерпеливо спрашивал я.
— Скоро, скоро, — ответил Каро, продолжая идти. Ночь была ясная, лунная. Я четко различал предметы. Город остался за нами. Сады Хосровии, окутанные легким флером серебристого тумана, дремали неподвижные и молчаливые. Ручейки, протекавшие у зеленых нив, сладко журчали. Нежно-прохладный воздух был напоен ароматом трав.
Мы шли все в одном направлении. Но я не знал еще куда мы идем. Вдруг Каро прервал молчание и обратился ко мне со следующими словами:
— Я не хотел, Фархат, чтоб кто-нибудь из знакомых здесь меня видел, но случилось так, что мы с тобой встретились. Я хотел бы надеяться, что никто о нашей встрече не узнает…
— А нельзя-ли мне узнать причину этого? — спросил я.
— Пока — нет. После — сам поймешь. Через несколько дней…
— Я буду молчать как мертвец, если ты этого хочешь.
— Да, хочу. Мне нужно некоторое время скрываться.
И он снова погрузился в свои мысли.
Предупреждение Каро меня очень удивило.
Казалось странным, что человек, который ушел из родного города двенадцать лет тому назад, которого все считали погибшим, теперь каким-то чудом появился и почему-то не хочет никому показываться, скрывается, не хочет встречать знакомых и родных. В чем же тайна? Этот вопрос стал тревожить мой ум.
Пройдя по степи мили полторы, мы дошли до того места, где с незапамятных времен стоят развалины каких-то зданий. Об этих развалинах бабушка рассказывала мне множество чудесных легенд.
Среди развалин уцелел лишь один минарет, который при лунном свете казался красивее, чем при дневном. Синяя мозаика на нем сияла чарующей красотой. Минарет возвышался среди обломков как богатырь и, казалось, мстительно грозил векам, говоря им:
— Вы уничтожили вокруг меня все, что было создано искусством, но я останусь и еще повоюю с вами. Но меня тогда занимали не эти мысли. В тог миг, когда мы подошли к развалинам, мной овладело страшное волнение. Все, что было рассказано мне в детстве об этих развалинах, вновь воскресло в моей памяти вместе с тем суеверным страхом, который даже днем не позволял мне подходить близко к этим заколдованным руинам. А теперь я пришел к ним ночью!
Не безумие-ли это? — мелькнуло у меня в голове. Я внутренне уже был недоволен, что Каро привел меня сюда.
Когда мы подошли близко к минарету, Каро свистнул. В ответ из минарета послышался такой же свист. Каро пригласил меня войти в минарет, и я переступил порог в глубоком смущении.
Посреди минарета на полу был разведен костер, красные отблески которого освещали темные и глухие своды минарета таинственным светом. У костра сидели два человека и жарили мясо, надев его на штыки, которые им служили вертелом.
Около них лежал хлеб и бурдючок с вином. Недалеко от них на голом полу лежали еще три человека.
Увидя Каро, они отвели его в угол минарета и неслышным голосом говорили с ним о чем-то. Это длилось более десяти минут. Меня, казалось, они и не заметили и никто не обращал на меня никакого внимания. Я чувствовал себя обиженным. Я не мог понять о чем они говорили, но, видимо, то что им сообщил Каро, их не обрадовало, так как по их лицам в это мгновение пробежала тень недовольства и печали. Я думал, что разговор касается меня. Когда они кончили свою таинственную беседу, один из них обернулся ко мне и, уставившись на меня своими косыми горящими глазами сказал:
— Ого! А ты-то откуда взялся?
Я был задет и смущен этим грубым вопросом и не нашелся что ответить. Тут Каро, как бы вспомнив о моем существовании, ответил за меня.
— Разве ты его не узнаешь, Саго?
Затем, обратился ко второму своему собеседнику и, указывая на меня, сказал:
— А я забыл его вам представить. Видите какого я вам гостя привел?
Тут я понял, что их разговор не имел ко мне никакого отношения.
— Но я вам ничего не скажу. А ну-ка узнайте его! — добавил Каро.
— Я его закрыв глаза могу узнать, — ответил косоглазый парень, подойдя ко мне ближе.
— Разве это не Фархат? — сказал он. — Но боже! Как ты изменился Фархат! Гляди, каким славным парнем стал!
При этих словах другой собеседник Каро, до этого с любопытством разглядывавший меня, вдруг весь просиял и, подбежав ко мне, крепко обнял меня.
— Да это Фархат! Господи, как это я не узнал его?
По пути Каро уже предупреждал меня, что я увижу моих старых товарищей, поэтому мне нетрудно было, в обнявшем меня молодом человеке, узнать Аслана, а в косоглазом — Саго. Они оба когда-то были моими школьными товарищами. Они ушли из школы в то же самое время, когда ушел оттуда Каро. Я сразу не узнал их, потому что они были одеты не так, как одеваются армяне в Персии. На них был костюм мушских или багэшских армян-горцев. Почти так же одеваются многие курдские племена.
Настоящее имя Саго было Саргис, но его у нас в школе прозвали «ноготком сатаны» вследствие его хитрости и живого характера. Ростом он не только не стал выше, но как будто стал даже ниже. При этом округлился и стал каким-то шарообразным. В выражении его лица появилось что-то кошачье. Но его дьявольские глаза нисколько не изменились и по-прежнему выражали живую, кипучую энергию.
Аслан почти не изменился. На его лице, сохранившем тонкие, мягкие черты, горели голубые глаза, осененные густыми ресницами. На губах его мелькала постоянно та же невинная улыбка. Только его когда-то светлые, русые волосы потемнели и кожа на лице утратила прежнюю белизну. Он несколько возмужал, сохранив однако тонкость стана и изящество движений.
В школе больше всех я любил Аслана. Он был одним из лучших и способнейших учеников и отличался необычайной добротой. Он иногда целыми часами занимался со мной. Почему он покинул нашу школу, я не знаю. Помню только, что школу он оставил с сожалением точно его что-то привлекало к этому «аду».
В школе Каро, Аслан, Саго и я жили в тесной дружбе и составляли неразрывную «четверку». Но когда они задумали покинуть наш город, меня не приобщили к своему плану, видимо считая меня неудобным для себя товарищем, так как я был значительно моложе их всех.
С тех пор я о них не имел никаких точных сведений. Правда, приходили какие-то странные, а порой и страшные вести о них, но я этим слухам никогда не верил. И вот, наконец, после двенадцатилетней разлуки судьба меня снова свела с ними.
Те два незнакомца, которые у костра жарили мясо, совершенно не тронулись с места и лишь изредка кидали на меня подозрительныe взгляды. И Каро не объяснил мне, кто такие эти незнакомцы.
— Видно ты прямо из школы и явился сюда? — спросил Аслан улыбаясь.
Саго не дал мне ответить.
— Да ты разве не видишь, что он совершенно скисся от учебы… Бедняжка, как посмотришь на него — сразу вспоминаешь все эти «азы» и «буки»… Ха, ха, ха! Не правда ли, Фархат? А как ловко я избавился от всей этой чертовщины! Подумай только, прошло уже целых двенадцать лет с тех пор, как я сжег эти проклятые книги в тонире
[5] на радость чертям… Ха, ха, ха!..
Шутки Саго уже меня не задевали, а рождали во мне горестные размышления о тех ужасах, которые мы терпели в этом застенке…
— Ребята, присаживайтесь, кто голоден, — сказал Каро.
Болтливый Саго тотчас подсел и начал ужинать. Я и Аслан остались вдвоем.
— Ну, а как поживает она? — дрожащим от волнения голосом спросил Аслан.
Я тотчас догадался, что он говорит о Соне.
— Да все так же, как прежде, — ответил я. — Улыбается, стыдливо краснеет, когда говоришь с ней и быстро убегает, когда хочешь ее обнять… Тихо плачет, когда отец бьет любимого ученика. Все по-старому, как ты видел. Единственная перемена, которая произошла после твоего ухода, это то, что она выросла и стала красивее, чем прежде…
Аслан ничего не ответил, но на его лицо легла мрачная тень.
— Ну, пойдем ужинать, ты верно голоден, — сказал он после минутного молчания.
Ужин был накрыт недалеко от костра. На голой земле был постлан кусок какой-то материи, служившей скатертью. На нем лежали — хлеб, сыр, лук и больше ничего. Молодые люди, окружили эту патриархальную скатерть, подложив под себя свои пальто. Куски шашлыка, снимали со штыков и валили прямо на «лаваш»
[6]. Все жадно ели. Недалеко от костра лежала убитая лань, мясо которой и жарилось… Тут же стоял бурдючок с вином. Кубком служила выдолбленная и высушенная тыква. Из этого единственного кубка пили все по очереди.
— Присядь ко мне, Фархат, — сказал Каро.
И я сел около него.
Радостные и печальные события этого дня меня так встряхнули, что есть мне совершенно не хотелось, хотя я целый день ничего не ел.
После двенадцатилетней разлуки встреча с дорогими друзьями детства, конечно меня очень обрадовала, но вместе с тем, я не мог никак отделаться от какого-то суеверного чувства, которое, по-видимому, было внушено мне странными и невероятными слухами, которые распускали наши горожане относительно бывших моих товарищей, их судьбы и их деятельности.
Эти скрывающиеся, переодетые молодые беглецы казались мне подозрительными людьми, особенно когда я замечал, что и они-то не очень доверчиво относятся ко мне. От меня они что-то бережно скрывали. Было в них что-то таинственное, точно они чего-то боялись или стеснялись. Почему они не могут быть со мной откровенны, — думал я. Что заставляет их, вернувшись из далеких стран, остановиться не у родных и знакомых, а среди этих развалин? Ведь совсем недалеко от этого самого места стоит тот город, где они родились, где родители некоторых из них еще живы, — думал я в недоумении. Почему бы им нe обрадовать своих тоскующих родителей, особенно в день пасхи, спрашивал себя я. Обнимая их, родители воскликнули бы не «Христос воскрес», а сказали бы: «Был погибшим наш сын и вернулся, был умершим и воскрес!..»
Моя задумчивость и грусть не могли ускользнуть от внимания моих товарищей, особенно от Саго, который сказал мне:
— Ты бы лучше покушал, Фархат, да развеселился. Чего ты омрачил свою морду, как зимнее небо? Или, может быть ты сидишь и думаешь: «А мамочка меня ведь ждет и вздыхает; куда, мол, пропал мой сыночек, уже плов остыл, пришел бы сынок, поел!» И моя мама, бедняжка, говорила так и с этими словами на устах скончалась. Да, братец ты мой, не привелось ей бедной посмотреть на сынка милого! Ха, ха, ха! Ты, брат, больше не увидишь, уже маминого плова, лучше ешь!..
И снова он громко засмеялся.
Пасхальный плов для сына бедных родителей такое великое лакомство, которое им никогда не забывается. Эта царица восточныx кушаний, которая украшает стол богачей чуть ли не каждый день, у бедняков бывает лишь в день пасхи. Но меня огорчала, конечно, не мысль о плове или ином кушаньи, которыми мать и сестры могли сегодня угостить меня, а мысль о том, как дико и грубо осмеивает Саго материнское чувство. Я отвернулся от него и мой взгляд встретился с взглядом Каро, который протянул мне чашу с вином и сказал:
— Пей.
— Я так много не могу выпить, — ответил я, взглянув на огромную чашу.
— Выпей, брат, научишься, — настаивал он улыбаясь.
Но я опять отказался.
— Эх, когда-то и я пьянел от одного только вида вина, — вмешался в разговор Саго. — А теперь?
— А теперь другие от одного твоего вида пьянеют, — сказал один из незнакомцев, который до этого молчал.
Я взял у Каро чашу и выпил до половины. Никогда я сразу не выпивал столько вина.
Беседа оживлялась. Чаша с вином переходила из рук в руки. Только Аслан был молчалив, хотя и он пил не отставая от других и каждый раз осушал чашу, когда черед доходил до него.
Я так и не узнал, кто были те незнакомцы, одного из которых называли Мурадом, а другого Джалладом. Откуда они взялись? — думал я. Одежда и выговор выдавали в них зейтунцев. Почему-то ни один из этих богатырей не внушал мне симпатии. В их движениях, манере говорить, особенно в чертах лица было что-то дикое и зверское.
Ужин кончился лишь тогда, когда кончилось вино. В потухающий костер кинули дров и он разгорелся, вновь осветив своим красным пламенем темные своды минарета. Вдруг все мои сотрапезники заговорили на каком-то совершенно непонятном для меня языке.
Сперва разговор носил характер мирной беседы, но постепенно собеседники разгорячились, и завязался жаркий спор. Только Аслан продолжал говорить с тем же спокойствием, с каким за ужином осушал чашу с вином. Саго неустанно тараторил и его кошачье лицо стало серьезным. Каро был также спокоен, как всегда, но жилы на его лбу напряглись и черты его лица стали как будто грубее. Он, видимо, внутренне был взволнован. Два незнакомца словно не говорили, а издавали какие-то дикие звуки похожие скорее на рычание зверей, чем на человеческую речь.
Минутами мне было страшно. Казалось, что вот-вот они встанут с мест и вцепятся друг в друга. Я не понимал о чем у них шел разговор, но заметил, что авторитет Каро одолел всех. Тут разговор принял более мирный характер, и они постепенно успокоились. Признаться, вся эта шумная сцена спора не доставляла мне никакого удовольствия. Я устал от нее. Мной овладела скука. Видимо от непривычки к вину голова моя стала кружиться, глаза отяжелели, и я незаметно для себя уснул…
Глава 9.
ДЕТСТВО КАРО
Тут я на время прерву нить моего рассказа, покину моих товарищей в минарете и обращусь к Каро. Этот человек играет в нашей повести одну из главных ролей и поэтому заслуживает особого внимания.
Настоящего имени Каро я не знаю. Быть может, он и сам не знал его. Было только известно, что «Каро» прозвище, под которым скрывалось его настоящее имя и его фамилия. Он не был уроженцем нашего города, но откуда он явился, этого никто не знал. Рассказывали, что однажды появилась в нашем городе какая-то никому неведомая женщина, которая и привезла с собой Каро. Она его называла своим внуком. Ее имя было Зумруд. Она была опытной знахаркой и этим ремеслом добывала пропитание себе и своему внуку.
С Каро я познакомился в школе, где все, кроме учителя, его очень любили, хотя он был очень беспокойным и шаловливым мальчиком. Я не знаю, что именно связывало меня с этим диким тигренком, который не проходило дня, чтоб не набедокурил. Всегда у него была какая-нибудь рана — то на руке, то на ноге, то на голове, то на лице. Он вечно ходил с повязкой. У него было очень доброе сердце, но с ним нельзя было особенно сблизиться. Он был похож на зверенка, которого
очень трудно приручить. Ученики его боялись и держались на почтительном расстоянии. Но одновременно и любили его. Каро был одним из самых бесстрашных и смелых учеников в нашей школе.
Учился он очень скверно, хотя был очень способным и от природы одаренным мальчиком. Беспокойный и нетерпеливый, он очень часто нарушал порядки и правила нашей школы и давала повод к шумным волнениям среди учеников.
Он возбуждал учеников и устраивал всеобщие восстания против учителя. В таких случаях его верными помощниками были всегда Аслан и Саго. Первый помогал ему своей осмотрительной и спокойной рассудительностью, а второй своей хитростью, проворным умением находить слабые струны учеников и, играя на них, подстрекать и вести их по намеченному пути.
Я до сего дня не могу понять, как мог Каро силой своего характера влиять на учеников и вести их, отупевших от гнета учителя мальчиков за собой, тех самых мальчиков, с лица которых не сходило выражение страха, в глазах которых были лишь трепет и слепая, рабья покорность. Но в силе человеческой воли есть что-то божественное, заставляющее преклоняться пред собой и обожать себя. У Каро была именно такая сила воли.
В жизни детей происходит как будто то же, что происходило в детстве человечества. Ведь герои и богатыри, которым поклонялись народы, которых причислили к сонму бессмертных были именно сильнейшими сынами этих народов, боровшимися с драконами и страшными, свирепыми зверями.
Каро, конечно, таких геройских поступков не совершал, но он делал то, что в глазах учеников имело большее значение.
Случалось, и очень часто, что ученики возвращались из школы через мусульманский квартал. Когда мы проходили по улицам этого квартала, мусульманские дети, собравшись в группу, нападали на нас. Я помню песню, которую они при этом пели. Содержание этой песни было таково: «Армянин это навозная мельница, нужно положить его в мешок и ударить об стену, чтоб он ослеп на оба глаза»… Хорошо было, когда дело кончалось выслушиванием этой оскорбительной песенки. Но беда была в том, что они очень часто нас ловили и били. Мы жаловались родителям, но что могли они сделать? Старших били старшие, а детей — дети…
Однажды Каро обратился к нам со следующей речью:
— Ребята! Эти татарские щенки будут бить нас до тех пор, пока мы не перестанем бежать перед ними. Чем бежать, не лучше ли было бы нам показать им силу нашего кулака?..
Многие из учеников воспротивились этому плану Каро, говоря, что не следует подымать руку на мусульманских детей.
— Мы сами не будем нападать, — возразил Каро, — но, если они нападут на нас, будем защищаться.
— Чем же будем защищаться? — спросил кто-то.
— Сперва нашими кулаками, — ответил Каро, — а если этого будет недостаточно, то камнями.
Опять многие не соглашались, и только десять человек согласились и приняли предложение Каро. В числе этих десяти были Аслан, Саго и я.
Каро организовал свой маленький отряд и сам выступил впереди. Саго и Аслан замыкали шествие, а я, как самый младший, шел в середине. Мы наполнили свои карманы камнями и выступили в поход.
Те наши товарищи, которые не пожелали присоединиться к нам, издали следили за нами, желая увидеть, чем кончится эта безумная затея.
Мы дошли до середины татарской улицы. Тут выступили татарские детишки и запели свою обычную песенку. Это было вызовом, брошенным нам в лицо.
— Ребята! — воскликнул Каро, — не бойтесь, будьте готовы! Начните, как только я дам вам знак.
Татарские дети подошли и отрезали нам путь.
— Пропустите нас, — крикнул им Каро.
— Не пропустим, пока не дадите нам свои белые бумажки, — ответил один из татарчат.
— Ничего не получите! — сказал Каро.
Обыкновенно мусульманские дети отнимали у нас тетради, бумагу и даже книги. Эти последние им не были нужны, поэтому они их через несколько дней возвращали, взяв с нас, конечно, денежный или иной выкуп.
Однажды они отняли у меня Евангелие и я, чтоб получить его обратно, был вынужден дать им перочинный нож. Кто внушил этим детям сознание, что они имеют право отнимать вещи у других таких же детей?..
Однако на этот раз их жадность встретила решительный отпор.
После того, как Каро заявил, что они «ничего не получат», один из нападавших кинулся к нему и схватил с его головы шапку. Каро одним ударом опрокинул его наземь и отнял обратно свою шапку. Это было в первый раз, когда сын мусульманина почувствовал на своей спине силу удара гяура. Такая дерзость со стороны гяура разъярила татарчат.
— Убей его, — крикнули они хором.
— Начинайте, — скомандовал нам Каро.
Никогда я не забуду этой маленькой детской войны.
В начале татарских детей было немного, но когда они подняли дикий вой и визг, в одно мгновение отовсюду сбежалось такое множество татарчат, что они уже числом были вдвое больше нас. Не знаю почему нами овладела такая ярость. Мы на минуту совсем позабыли, что мы армянские дети, что мы скованы по рукам и ногам, что мы не должны сметь поднимать на мусульман нашу «поганую» и осужденную на бездействие руку. Каро несся, словно буря, и перед ним направо и налево валились татарчата, как подкошенные. Его пример воодушевлял нас всех. Аслан набрасывался на врагов и душил их как львенок. Низкорослый Саго точно вырос и боролся, как дьявол, пуская в ход все члены своего тела, нанося удары кулаком и одновременно давая подножку, или подобно буйволу ударяя головой в живот противника, или вцепившись в него зубами и царапая его ногтями. Не меньше храбрости проявили и другие наши товарищи. Самым слабым и неопытным в бою оказался я. Я помогал своим товарищам лишь тем, что кидал в глаза татарчат землю и песок, давая своим товарищам возможность нападать на них.
Несмотря на то, что татарских детей было вдвое больше чем нас, они отступили с поля сражения и стали издали кидать в нас камнями.
— Берите и вы камни! — скомандовал Каро.
Мы исполнили его приказ. Но в этот самый момент подошло несколько взрослых мусульман, и мы вынуждены были бежать.
Многие из нас получили раны. У одного была рана на руке, нанесенная ножом, у другого были выбиты зубы, а у меня была ранена голова. И до сего дня у меня на голове остался след от этой раны. Когда я вернулся домой, мать страшно рассердилась и даже хотела меня побить за то, что я связываюсь с татарчатами, но когда заметила, что у меня голова окровавлена, несколько умерила свой гнев. Она не винила наших врагов за то, что они ранили меня, а винила меня за то, что я принял участие в драке. И бранила же она меня!..
На следующий день я уже не мог идти в школу и целую неделю лежал дома больной. Эта болезнь избавила меня от наказания учителя. Потом мне рассказывали о том, как учитель бил участников этого боя. Все ученики были им избиты за то, что не дали мусульманским детям бить себя… Разве не сама школа готовила из нас людей, которых бьют?.. Разве не сама школа впитывала в нас дух рабства?..
Хотя нам и очень дорого стоил учиненный нами скандал, но последствия его оказались для нас полезными. После этого мусульманские дети стали нас бояться и относиться к нам с большим уважением. И уже очень редко случалось, чтоб они били наших товарищей, когда те проходили мусульманский квартал, особенно же, когда они проходили группой и готовы были дать отпор поползновениям мусульманских детей.
После этого события Каро стал кумиром своих товарищей. Почти все стали преклоняться перед ним, признали его авторитет.
— Вот видите, — говорил нам Каро, — «пока собаку не побьешь, она не подружится с тобой…»
Зачинщиком всех этих проделок отец Тодик считал Каро. И он давно бы выгнал его из школы, если б не бабушка Каро, которая как выше было сказано, славилась как искусная знахарка и пользовалась большим почетом как среди армян, так и среди мусульман. Из уважения к ней учитель многое прощал Каро. Кроме того, старуха Зумруд, своим искусством часто приходила на помощь попадье, причем с нее за это ничего не брала.
Каро сам ушел из школы при следующих обстоятельствах. В школе был надзиратель, которого звали Халфа-Татос. Этому Голиафу было тридцать лет, т. е. он на 15 лет был старше Каро. Но он был страшный трус. Боялся скорпионов, насекомых, даже мух он боялся. Единственно кого не боялся Халфа-Татос — это были ученики. С малых лет этот богатырь служил попу, в чаянии получить от него частицу его мудрости и удостоиться поповской рясы и звания учителя. Но ему лишь один раз в жизни удалось спеть в церкви, и этот славный случай он вспоминал всегда с величайшей гордостью.
Ученики прозвали его «школьным псом», так как он каждый раз, после обеда, собирал остатки от обеда учеников. Собирал он страшно много, но и эти обильные остатки не могли насытить Халфу, который обжорством своим смело мог бы состязаться с легендарным Шарой из Ширака. Кроме того, он часто брал с учеников взятки в виде «лаваша» с тем, чтобы не бить их и несправедливо не наказывать. Но школьным псом называли его также и потому, что он всех облаивал, всех задевал, никому не давал покоя. Каро страшно его ненавидел. Не проходило дня, чтоб он не устроил Халфе какого-нибудь скандала. Бывало, в час отдыха, когда Халфа важно ходил взад и вперед наблюдая за учениками, Каро незаметно подбегал к нему и сзади привешивал ему лисий хвост. Тот, ничего не замечая, важно расхаживал, грозил ученикам, а ученики покатывались со смеху.
Однажды после обеда учитель ушел спать и нас по обыкновению заперли в классе, приказав не двигаться с места, не шуметь и не нарушать покоя учителя. Мы все были неподвижны, как статуи. Халфа с длинным прутиком расхаживал по классу с такой важностью и сознанием своего достоинства, точно он расхаживает по залам султанского дворца. В классе царила мертвая тишина. Вдруг Каро толкнул меня в бок и шепнул:
— Гляди Фархат, если отрезать уши этого осла, то из них можно будет сшить пару хороших лаптей.
Халфа-Татос, конечно, не слышал слов Каро. Но эта шутка так рассмешила меня, что я не удержался и громко засмеялся. Все обернулись в мою сторону.
— На колени! — крикнул Халфа, указывая мне на угол. Я хотел было исполнить его приказание, но тут вмешался Каро и остановил меня, громко заявив.
— Ты не будешь стоять Фархат, — сказал он.
— Почему это? Как он не будет стоять, — в ярости крикнул на него надзиратель,
— А потому, — ответил Каро, — что его рассмешил я, и он тут не виноват.
— Тогда станьте на колени оба! — приказал надзиратель снова, указывая пальцем на угол.
— Ни я, ни он не станем, — взволнованно и дерзко заявил Каро!
Я заметил, как Каро побледнел. Его руки дрожали и глаза наполнились кровью. Это служило признаком его невероятного бешенства. Я не помню, что еще говорил надзиратель, но помню, как Каро накинулся на него точно так, как тигр бросается на слона и схватил его за горло. Надзиратель качнулся и подобно Голиафу свалился на землю… Каро железными пальцами придавил ему горло, и несчастный Халфа уже хрипел… Тут Каро выпустил его шею и, став ногой ему на грудь, сказал:
— Вот тут я стану на колени!..
Всем классом мы еле спасли Халфу из когтей Каро. Но бедный Халфа целых полтора часа лежал в обмороке.
Каро тотчас ушел из школы, и уже больше не вернулся туда…
Глава 10.
ОРУЖИЕ
Покинув школу, Каро стал вести бродячую жизнь. Многие считали его помешанным. Часто его бабушка приходила ко мне поздней ночью и с отчаянием говорила:
— Фархат, милый, его опять нет…
И горькие слезы обильным потоком лились из глаз бедной старушки.
Я выходил на поиски и где только не искал его. Иногда я находил его у потока или на высоком страшном утесе, где он обыкновенно сидел, погрузившись в какие-то думы и мечты. В чем было его горе, я не знал. Что его томило и гнало в безлюдье? О чем он думал? Все это было тайной. Но было ясно, что его терзает какая-то внутренняя тревога, и он ищет спасения в одиночестве и безлюдии.
Я его ни о чем не расспрашивал, так как знал, что раз он сам что-либо не говорит и скрывает, то всякие расспросы будут только раздражать его, а ничего он не скажет.
Я спросил Аслана, которого Каро считал умнее меня и с которым часто совещался. Но все сказанное Асланом было так темно и неясно, что требовало новых разъяснений.
— Я и сам не знаю, что за злой дух вселился в него! — сказал Аслан. — Влюбленным он быть не может, так как в этом возрасте любовь не сводит людей с ума.
Затем Аслан рассказал случай, имевший место месяц тому назад в часовне св. Иоанна, в день престольного праздника. У часовни собралось множество народа, как армян, так и других национальностей. Там происходили обычные при этих празднествах игры и состязания. Во всех состязаниях, где молодые люди показывают свою силу, ловкость и искусство, Каро оказался первым и победил всех как в верховой езде, так и в беге, и в кулачном бою, и в борьбе. Это обратило на Каро внимание одного из присутствующих там, именно охотника Аво, который обнял Каро, поцеловал и пригласил к себе обедать. У охотника были какие-то незнакомые, подозрительные люди. Но Каро среди них чувствовал себя великолепно. Он без конца пел и даже танцевал. Всю ночь он оставался у охотника и совершенно забыл про Аслана, с которым они отправились на празднество вместе. Это было все, что мог мне рассказать Аслан, добавив, что вообще с тех пор, как Каро познакомился с охотником Аво, в нем произошла громадная перемена.
— А он давно знаком с охотником? — спросил я.
— Да вот, после того, как покинул школу, и это знакомство совершенно выбило его из колеи, — сказал Аслан.
Тогда я и не понимал, чем собственно мог охотник сбить о толку Каро. Охотник Аво был нашим соседом, притом лучшим нашим соседом. Я его знал с детства. Он был такой молчаливый, скрытный, замкнутый человек, что едва ли перед кем-нибудь открыл бы свою душу, тем более перед юношей Каро. Его нельзя было понять. Я знал только, что человек он добрый, хотя многие его считали почему-то злодеем. Едва ли столь добрый человек мог сбить с пути кого-либо и подбить на что-либо дурное, — думал я.
Я и сам замечал, что Каро очень часто захаживает к охотнику. Иногда, по воскресеньям и праздникам, когда у меня день был свободен, я тоже заходил к охотнику. Аво давал нам порох и мы играли. Делали фейерверки и пускали в воздух, что доставляло нам громадное наслаждение. Иногда он давал нам свое ружье и учил заряжать и стрелять.
— Учитесь, — говорил он, — когда-нибудь ружье вам понадобится…
Каро он часто брал с собой на охоту. Меня он не брал, так как я очень быстро уставал.
Я страшно любил оружие. Даже удушливый дым от пороха не казался мне неприятным. Но мы были так бедны, что я и мечтать на мог о покупке ружья. Поэтому я сам пытался делать ружье из кости быка или барана. Я срезал закрытый конец кости, затем прикреплял эту кость в виде дула к выдолбленной палочке, которая должна была служить прикладом. До сего дня у меня над бровью остается шрам, похожий на след от раны, нанесенной кинжалом… Но увы!.. Это след от раны, полученной при выстреле из моего самодельного ружья, дуло которого во время стрельбы взорвалось. Мать страшно на меня рассердилась, когда со мной случилось это несчастье.
— Дьявол окаянный, — бранила она меня, — ты от пороха подохнешь!
И она запретила мне играть с оружием. Поэтому-то, когда мой младший дядя Минас подарил мне небольшое ружье, я его прятал у Каро, и мы вместе с ним учились стрелять. Не знаю почему именно я любил оружие. Потому ли, что в мастерской дяди я всегда видел оружие, потому ли, что охотник всегда внушал мне любовь к пороху и к оружию или, может, просто потому, что мой друг Каро тоже любил оружие. Быть может, ни то, ни другое, ни третье, а то, что в каждом ребенке заложена эта любовь и каждый ребенок хотел бы прежде чем стать человеком, стать воином. И если это чувство впоследствии угасает в нем, то причиной тому условия жизни и несоответствующее воспитание. Когда мой учитель впервые дал мне в руки гусиное перо, то у меня возникла в тот миг смешная мысль: «О, если бы, — думал я, — это перо было бы немного толще и длиннее, то я мог бы из него сделать ружье, тогда и приклада б не нужно было…». Это, правда, ребяческая мысль, но не так уж странно сравнение, которое пришло тогда мне в голову, так как гусиное перо имеет сходство с дулом. Я был искуснейшим мастером в изготовлении деревянных кинжалов, шашек, мечей, луков, стрел и копий. Потому-то охотник и советовал моей матери отдать меня в мастерскую дяди, откуда я мог выйти хорошим оружейником. Но мать не соглашалась на это. Она считала, что грешно даже учиться этому ремеслу, и заниматься изготовлением орудий убийства. Отец Тодик говорил то же самое.
Каро был свободней и счастливей меня. У него не было ни матери, ни отца, ни учителя. Никто не мог запретить ему следовать голосу природы. Бабушка не притесняла его. И под влиянием охотника он стал совершенно иным, чем были его товарищи. С тех пор, как он оставил школу, я замечал в нем большую перемену. Я слышал от него непонятные для меня речи.
Однажды он сказал:
— Фархат, наши крестьяне очень бедны, многим из них нечего есть…
— А ты откуда это узнал? — спросил я.
— Вчера с охотником мы обошли несколько деревень. Он показал мне несколько крестьянских хат, и я видел там ужасную нищету.
— А что же служит этому причиной? — опять спросил я.
— Эти мусульмане сосут кровь наших крестьян. Все эти ханы и беки разоряют, грабят их и отравляют им жизнь. Охотник мне объяснил, как нужно поступить и что нужно сделать, чтоб крестьянам жилось сытнее и спокойнее.
Я ничего не ответил. А он продолжал:
— Несколько дней тому назад я видел, Фархат, как одного крестьянина связанного по рукам и по ногам пороли за то, что он не пошел к хану работать даром. Этот несчастный — единственный кормилец своей семьи, и вот, подумай, если он будет день и ночь даром работать на хана, то кто же будет кормить его собственных детей? Я как увидел эту ужасную картину, словно у меня сердце обожгли. Не мог удержать слез…
И это повторялось теперь постоянно. Он вечно говорил о крестьянах и только о крестьянах. Не помешался ли парень, часто думал я. Что ему за дело до того, мучают крестьян или нет? Не лучше ли было бы, если б он подумал о себе? Ведь он сам не счастливее тех, которым нечего есть.
Было ясно, что в Каро произошла какая-то перемена. Прежде он говорил о Кер-оглы, о Рустеме Зале и подобных героях и богатырях, повести о которых мы слышали от «ашугов» — народных певцов. Прежде он говорил о красивых девушках и насмехался над их слабостями. И вдруг все это забыто, он стал говорить только о крестьянах, думать только о них. Кто же внушил ему эти новые думы, эти новые мечты?.. Я этого не знал. А Аслан это приписывал охотнику Аво.
Глава 11.
РОД КАРА-МЕЛИКОВ
Однажды Каро сказал мне:
— Пойдем сегодня к нам Фархат, моя бабушка сильно больна. Ночью останешься у нас.
Я согласился, и мы пошли.
Их дом стоял недалеко от нашего.
Бабушка Зумруд, в самом деле, была сильно больна. У бедной женщины остались лишь кожа да кости. Она еле дышала.
Увидя нас, она немного оживилась. Попросила приподнять ее, подложить ей под спину подушки, чтоб она могла сидеть. Каро немедленно исполнил ее желание. Печка топилась и красное пламя освещало хижину и бледное изможденное лицо больной.
Она подозвала к себе Каро, посадила его к себе на постель и, взяв его руку в свою, дрожащим и слабым голосом сказала:
— Я умираю, Каро, и пока еще не закрылись мои уста, я хочу поведать тебе тайну, которую я до сего дня скрывала от тебя.
Она рассказала о том, что она не бабушка Каро, а была сперва служанкой в доме его отца, а потом стала его няней. Отца Каро звали Мир-Марто. Он был из рода Кара-Меликов, которые происходили от старинной армянской княжеской фамилии. В течение веков род этот претерпел столько же превратностей судьбы, сколько их претерпела сама Армения. Представители этого рода то возвышались до степени владетельных князей, то опускались до роли простых «старшин», а порой даже до роли земледельцев, осужденных на каторжный труд. Но они никогда не утрачивали духа благородства. В эпоху персидских «марзпанов»
[7] они сохраняли еще привилегии могущественных феодалов. Но в эпоху арабского нашествия виднейшие представители этого рода были увезены в Дамаск и там были казнены. Одна из ветвей этого рода совершенно исчезла во времена византийских куропалатов, а во времена монгольского нашествия один из представителей этого рода Кара-Мелик вновь возвысился и стал могущественным князем. Прозвище «Кара-Мелик» он получил от татарского хана вследствие смуглости своей кожи. По имени этого Кара-Мелика все его дальнейшие потомки этого рода стали называть свой род родом Кара-Меликов. В эпохи революционных бурь, проносившихся над Арменией, этот род выселялся из родного края и селился то в провинции Арарат, то в провинций Васпуракан, то в Атропатене, то в Малой Армении. В последние времена, когда в Васпуракане усилились курды, один из представителей этого рода бежал из Мараша и поселился у южного берега Ванского озера. Заключив союз с вождями здешних курдских племен, он постепенно расширил свои владения и стал властителем всей Рштунийской области. Это был Мир-Марто, отец Каро. Титул «Мир» он получил от курдов. «Мир» значит глава, вождь, князь, господин. Его укрепленный замок стоял близ Востана на неприступной горе, омываемой с одной стороны озером, а с другой стороны защищенный цепью гор.
Мир-Марто был главой всех армян и самым богатым в области человеком. Число семь приобрело в его доме особое таинственное значение. У него было семь мельниц, семь садов; семь маслобоен, семь рощ. Из его дома везли на работу семь плугов, которые вспахивали семь раз семьдесят десятин земли. На его собственных пастбищах паслось семь стад овец, причем каждое стадо было одноцветным: одно стадо составляли исключительно белые овцы, другое — исключительно черные, третье — золотистые, четвертое — пестрые, пятое — серые и т. п. Тоже таинственное число фигурировало при перечне его коров, лошадей, буйволов и т. п. И все это должно было перейти, говорила бабушка Зумруд, в наследство семи сыновьям Мира-Марто. Из этих семи сыновей самым младшим был Каро.
Быстрое возвышение и усиление Мира-Марто, его успехи в войнах, которые ему приходилось постоянно вести, возбудили зависть главы одного из курдских племен. Не будучи в силах бороться с ним открыто, он прибегнул к хитрости: подружился с Миром-Марто, прикинулся его верным другом и союзником. И однажды, пригласив Мира-Марто к себе в гости, во время ужина велел своим людям сбросить его с высокой стены своего замка…
После того как отец Каро был так коварно убит, все остальные члены семьи подверглись той же участи и были варварски истреблены самовластным курдом. Уцелел лишь один Каро, которого няня спрятала в доме какого-то сирийца.
Больная бабушка закончила свой рассказ следующими словами:
— Во время этого ужасного избиения покойная твоя мать, раненная кинжалом в грудь, одной рукой держала рану, а другой передавала тебя мне и говорила: «Бери его, Зумруд, и если бог поможет тебе, и ты спасешь мое дитя, то научи его быть мстителем». С этими словами на устах скончалась благородная госпожа…
Весь рассказ бабушки Каро выслушал совершенно спокойно. Я замечал на его лице лишь изумление, которое охватывало его по мере того, как он узнавал самого себя. Бездомный, покинутый юноша, ведущий жизнь бродяги, вдруг почувствовал в своих жилах княжескую кровь. Но когда он услышал последние слова старухи, выражение его лица сразу изменилось: губы у него задрожали, и в глазах засверкал гнев. На этом гневном и молчаливом лице, мне казалось, можно было прочесть: «Клянусь святой памятью моей матери, что я отомщу!»
— Я не могла сообщить тебе завет твоей матери раньше, — сказала старуха, — так как ты был мал. Я ждала, чтоб ты вырос, созрел. Я ничему не могла тебя научить. Но рассказ о твоем отце будет вечно напоминать тебе о мести. Я умираю со спокойным сердцем, потому что знаю — после меня ты попадешь в более опытные и искусные руки. Слушай его советы и принимай все, что он будет тебе внушать. Этот благородный человек был другом твоего отца и одним из пяти «старшин» его владений. Он подвергся тем же варварствам, после того, как был уничтожен род твоего отца. Но это все он сам расскажет тебе.
Последние слова старушки относились к охотнику Аво. Итак, он не был простым охотником! Под маской охотника скрывался какой-то таинственный человек!.. С этой минуты я понял, почему он относится к Каро с особенным вниманием.
— А теперь закрой мне глаза, — продолжала больная, опустив голову на подушку. — Если пожелаешь вновь приобрести права и владения твоего отца, то ты тут в маленьком сундучке найдешь все, что для этого тебе нужно…
Она попыталась было протянуть руку к нише, где стоял сундучок, но рука ее ослабела и бессильно упала на постель. Глаза ее снова открылись и неподвижно глядели в небо, словно там, над небесным сводом перед ней был открыт престол предвечного, и она просила у него дара, силы и удачи тому, кого она кормила и вырастила на своих руках. Ее седая голова склонилась, по лицу пробежала судорога и глаза ее снова закрылись.
— Она умерла! — сказал Каро, не проронив ни одной слезы.
Я удивлялся его жестокости. С каким хладнокровием выслушал он весь ее рассказ, — думал я. Словно все это ему давно было известно. Но ведь он о своем происхождении ничего не знал и всегда считал себя внуком старушки Зумруд!.. Однако я ошибся. Каро не был спокоен. Под бледной и холодной маской его лица скрывался ужасный огонь, подобно скрытому вулкану. Сердце его кипело от тревоги. Тогда я еще не знал, какой необыкновенной силой характера и воли обладал Каро. Но теперь я это знаю. Он закрыл лицо умершей старушки и некоторое время сидел у ее изголовья безмолвно и неподвижно.
Я открыл тот сундучок о котором говорила старуха. Он был полон изъеденными молью бумагами, исписанными персидскими, арабскими, греческими, турецкими и армянскими письменами. На бумагах были большие и малые печати. Пергамент в течение веков выцвел и пожелтел.
Каро выхватил из моих рук все эти грамоты и бросил их в печку. Пламя вспыхнуло, и более чем тысячелетние родовые грамоты превратились в пепел…
— Не нужно мне княжеское достоинство, дарованное в виде подаяния, в виде милости моим предкам, — взволнованным голосом сказал он. — Не стану я просить подаяния. Если сумею, я вновь приобрести то, что утрачено моими предками, то это я сделаю собственными силами и трудом. То, что было отнято силой меча, мечом же и должно быть возвращено! Но самое дорогое для меня — это кровь моих родителей. Вот за что я буду мстить нашим врагам прежде всего!..
Эти слова пробудили в моей глупой голове мысль, которая до этого почему-то дремала. Разве кровь моего отца не требует мщения? — подумал я. Разве из глубины могилы не призывает отец своего сына к мести? Турок держал пари с турком и ради испытания остроты меча и своей силы обезглавил моего отца и за это получил в награду чашку сладкого кофе! Какой позор! Какое унижение быть всю жизнь игрушкой этих варварских затей! В печке пергаментные грамоты еще горели, освещая хату синеватым пламенем.
— Ну-ка посмотри, что еще там есть, — сказал Каро, указывая на сундучок.
На дне его я нашел коробочку из слоновой кости, в которой находился медальон, украшенный бриллиантами. В медальоне искусной рукой был выгравирован портрет красивой женщины. Это был портрет матери Каро.
Он взял у меня медальон, взглянул на него и спрятал в карман. И я заметил, как из его глаз покатились слезы на бледное лицо… Но он быстро вытер слезы, стараясь скрыть их от меня, и, обратившись ко мне, сказал:
— Клянись, Фархат, что все, что ты слышал и видел здесь будешь хранить в тайне.
Я поклялся.
Через три дня после этого похоронили старуху Зумруд, о которой жалел весь город. Она была так добра, что не было в городе бедняка, который бы не пользовался ее помощью.
После ее похорон Каро исчез. Вместе с ним из нашего города исчезли еще три человека: Аслан, Саго и охотник Аво… Куда они исчезли — этого никто не знал…
Глава 12.
ТЕМНАЯ ТАЙНА
Вернемся к нашему рассказу.
Утром я проснулся рано, еще до восхода солнца.
Я нашел себя в том же таинственном минарете, но лежал уже не на голой земле, а на постели из сухой листвы. Под головой у меня вместо подушки лежала охапка сена, и я был укрыт. Видимо, друзья мои заботились обо мне, так как я еще не привык к суровой бездомной жизни. Двух богатырей-зейтунцев уже не было в минарете. Остальные, т. е. Аслан, Каро и Саго еще спали, на голой земле, неукрытые. Спали они глубоким и тяжелым сном. Мне казалось, что они всю ночь бодрствовали, так как видно было, что они только недавно вернулись откуда-то издалека. Грязь на их обуви еще не высохла. Спали они одетые, даже обутые. На них было оружие, хотя вечером за ужином я не заметил на них никакого оружия, за исключением кинжала.
Значит они ночью куда-то уходили, — думал я. Напоили меня вином допьяна, уложили спать, чтоб я не заметил куда они отправляются. А куда исчезли молчаливые богатыри-зейтунцы? Почему они не остались здесь? Почему Каро меня с ними не познакомил и не сказал мне кто они такие? Неужели он не доверяет мне?
Вот какие вопросы возникли в моей голове, когда я утром проснулся в минарете. Мне казалось, что я попал в какой-то заколдованный замок, что какая-то волшебная сила привела меня в это жилище злых духов, что Аслан, Каро и Саго — это лишь призраки, привидения. Не лучше ли бросить все и бежать к матери, склонить перед ней покорную голову и обещать ей, что я никогда не уйду от нее, что я буду вечно трудиться для нее и для сестер, лишь бы она не посылала меня в школу? Но когда я вспомнил страшный образ учителя, то мигом вернулось ко мне ясное сознание и наваждение исчезло. Я понял, что все, что я видел и вижу, не сон, не мечта, а действительность. И тотчас мое настроение переменилось. Нет, это не наваждение, не видение, не колдовство, думал я. Это мои добрые друзья. У Аслана ангельское сердце, Каро еще в школе любил меня, да и Саго славный, у него только язык злой, а сердце у него доброе. Нет, говорил я себе, останусь лучше здесь, не уйду от этих людей…
Когда я размышлял так, мой взгляд упал на спящих товарищей, и я вспомнил одну из сказок, рассказанных мне бабушкой. Эти три молодца мне представлялись сыновьями трех великанов, которых матери кормили не молоком, а человеческой кровью. Откуда возникло у меня такое дикое сопоставление?..
Каро спал неспокойно. Видимо, его томил какой-то кошмар. Во сне он говорил: «Убью, если не отдашь!.. Куда бежишь?.. Ведь моя пуля быстрее, чем твои ноги! Убей его, Аслан!.. Саго, осторожней, как бы кто не увидел!.. Они бежали туда, туда!..».
Эти бессвязные фразы он произносил на различных восточных языках.
Сон Аслана, напротив, был спокоен, как сон младенца. Лишь изредка он нежно улыбался. Он ничего не говорил во сне. Только один раз он произнес слово: «Соня». Бедняжка, подумал я, видимо, он любил ее раньше чем я. А может быть, он и сейчас ее любит?
Спящий Саго был такой же забавный, как всегда. Лицо его кривила насмешка. Видимо, он кого-то злит. Заря уже занималась. Отовсюду послышалось пение птиц. Дикие голуби, свившие гнездо в минарете, бились крыльями о стены и своды минарета, подымая глухой шум. Мне надоело лежать. Я встал, накинул пальто на спящего Каро и на минуту остановился около него. Он походил на огромную медную статую, которая лежала на земле. Его богатырская грудь тревожно вздымалась и опускалась. Я долго глядел на это лицо, которое внушало мне величайшее уважение и братскую любовь. И я нагнулся и поцеловал те уста, которые мне часто говорили: «Фархат, я очень люблю тебя», Он слегка вздрогнул, но тотчас же погрузился в глубокий и тяжелый сон. Я отошел.
Развалины, которые меня окружали, и минарет, в котором я находился, с детских лет внушали мне суеверный страх. Я слышал о них множество легенд и сказок. Среди этих развалин я был в первый раз, несмотря на то, что они отстоят от города на расстоянии четверти мили. Все суеверно сторонились и боялись подойти к этим развалинам. Но теперь непонятное любопытство тянуло меня туда наверх, на башню этого огромного минарета. Оттуда я хотел взглянуть на прекрасный божий мир. Я со страхом и благоговением стал подниматься по ступеням крутой лестницы. Всюду царила пустота и всюду не столько время, сколько фанатизм и суеверие превратили в развалину это чудесное произведение человеческого искусства, считая его остатком заколдованного замка царицы джинов.
Я страшно устал, пока добрался до вершины башни… Ах, как было там высоко! Весь Салмаст, освещенный лучами восходящего солнца, расстилался передо мной, словно многокрасочная чудная картина художника. Селения, сады, рощи, прекрасно возделанные поля — все сливалось в живописный пейзаж, на котором мой глаз различал знакомые места.
Вдали на высоком утесе стоят развалины Гарни-Яруга, того легендарного замка, в котором было пролито столько слёз и где погибло столько любящих сердец! По приказу из этого замка из объятий мужей вырывали прекрасных жен и доставляли подлому турецкому князю на поругание. Со всей области собирали туда красивейших невинных девушек, и ни слезы этих невинных жертв, ни мольбы родителей не могли победить похоть наглого властелина…
Направо виднелась часовня святого Иоанна. Она одиноко стояла на холме, который, наподобие сахарной головки, возвышался над равниной.
Сколько сладких воспоминаний связывало меня с этой обителью. Там в дни престольных праздников страсти и радость богомольцев горели так же ярко, как и их религиозное благочестие…
Наконец, я увидел город. Он весь утопал в садах, занимая на равнине огромный круг. Я отыскал наш квартал. Там я долго искал «ее». Мне казалось, что я увижу ее. Глаза мои наполнились слезами, и я не мог больше смотреть… Я стал спускаться вниз по вьющейся, крутой лестнице, и тут только заметил, что в башне имеется несколько тайных комнат — складов и хранилищ. Любопытство заставило меня войти в одну из этих комнат. При слабом свете, который пробивался туда через узкое окно, я увидел тут целый склад оружия, сбруи, целые мешки, наполненные чем-то очень тяжелым. Я открыл один из мешков, и там оказались патроны, порох и свинец. Было ясно, что все это принадлежит тем трем лицам, которые спали внизу, в минарете. Но для чего все это приготовлено? — думал я. Тут был запас не менее, чем на пятьдесят человек. Но где же эти люди? Все было непонятно. Мной опять овладели страх и сомнение. Тут есть какая-то тайна, думал я.
Я не хотел возбуждать в моих товарищах подозрения, поэтому не стал дольше разглядывать вещи и спустился вниз.
Они все еще спали в том же положении, в каком я их оставил. Не желая мешать им, я вышел из минарета подышать свежим воздухом.
Глава 13.
КОЛДУНЬЯ
Солнце поднялось уже довольно высоко. В свежей траве и листве, как бриллианты горели утренние росинки. Утро дышало нежной весенней прохладой, хотя настоящая весна еще не настала.
Сердце мое было полно беспредельной радостью. Почему? Я и сам не знал этого. Быть может потому, что тут я был свободен, тут меня никто не терзал, что тут не было страха ни перед матерью, ни перед учителем.
Отойдя от башни, я пошел к груде развалин. Остатки свалившихся стен, сводов, колонн были разбросаны тут и там среди густо разросшейся травы и кустарника. Здесь свободно разгуливали ежи и огромные черепахи.
Вдруг я услышал какое-то карканье, похожее на карканье ворона. Это царь развалин. Его образ с детских лет внушал мне суеверный страх. Я был уверен, что он является причиной всех этих разрушений. Я нагнулся, взял камень, чтоб убить эту проклятую птицу, но ее нигде не было видно. Я кинул камень туда, откуда, как мне показалось, слышалось карканье ворона. Вдруг я услышал какой-то человеческий визг. Мной овладел ужас…
Среди обломков я увидел наконец какую-то старуху, прижавшуюся к камню и укрытую каким-то ветхим тряпьем. Мне показалось, что это один из духов, обитающих в развалинах, или та самая колдунья, которая сторожит эти руины.
Высокая, костлявая, несколько сгорбленная, она напоминала живой скелет. Единственное, что отличало ее от настоящего скелета и оживляло ее, это были ее пылающие, дьявольски хитрые глаза. Она запросто и приветливо подошла ко мне.
— Кто ты? — спросил я.
— Так ты не Каро? — с недоумением и досадой спросила она, оставив мой вопрос без ответа.
Она говорила на ломаном татарском языке, и я по ее произношению узнал в ней «цыганку», хотя она и не принадлежала, очевидно, к тем племенам «цыган», которые встречались в наших краях.
Видно было, что старушка пришла к Каро по делу и вследствие слабого зрения меня приняла за него. Я хотел пойти, разбудить Каро, но потом раздумал и решил прикинуться им и посмотреть, что из этого выйдет. Меня на это толкало пустое детское любопытство.
— Да меня зовут Каро, — сказал я ей. — А как звать тебя?
Старуха с удивлением взглянула на меня, словно не верила своим глазам и заговорила по-персидски.
— Почему же Каро спрашивает имя своей рабыни. Каро знает, что люди называют меня Сусанной. Каро ведь все знает… Когда Динбульский хан разорил и вырезал наше племя, то Сусанна привязала к своей спине дитя Каро и одна прошла через пустыни Герата… Ах, свет очей Сусанны!.. С тех-то пор и плохо видит Сусанна…
Бессвязная речь старухи показалась мне очень туманной и темной. Я из нее ничего не понял, тем более, что она о себе говорила в третьем лице. «Дитя Каро» — думал я. А разве у Каро есть дитя? Где же это дитя? И эта старуха спасла его дитя, перенесши его на своей спине через пустыни Герата?
Все это было для меня темной загадкой. Я понял только, что, видимо, эта старуха знает Каро давно. Где-то в глубине средней Азии, в Афганистане у них были какие-то связи. Но какие и по какому случаю? Об этом я, боясь совершенно разоблачить и выдать себя, не стал расспрашивать. Я постарался исправить свою ошибку и сказал:
— Это все ведь мне хорошо известно, Сусанна, ты лучше расскажи, какие у тебя новости?..
Старуха стала бормотать что-то, словно говорила сама с собой:
— Сусанна скажет, она ведь для того и пришла сюда, чтоб сказать… Сусанна не могла удержать своих слез, когда увидела бедную девочку. Бедняжка умоляла: «Скажи, говорит, Каро, чтоб не оставлял он меня тут, я, мол, с горя умру здесь». И как она осунулась! Умрет, непременно умрет, если там останется долго… На ней лица нет! Она стала белая, как полотно. Ах, если с ней что-нибудь случится, то и Сусанна долго не проживет!..
Старуха не могла продолжать свою речь и стала горько плакать. От слез блеск ее глаз потускнел. Я всячески старался ее утешить. Когда она немного успокоилась, я, считая, что уже достаточно знаком с сутью дела, решился спросить:
— А как ты проникла к ней?
— Как проникла? — насмешливо повторила она мой вопрос, и по ее высохшему лицу пробежала дикая улыбка — А кто может закрыть путь перед Сусанной? Сусанна куда угодно проникнет! Двери ханского дворца и хижины бедняка открыты перед ней! Сусанна гадает, она знает судьбу людей, она знает, где для них скрыто добро, где зло. Дай мне руку и я погадаю тебе! — Как будто она позабыла о своем горе, о «бедной девочке», словно забыла, что она говорит с Каро. В ней заговорила дикая «цыганка». Ее недавние слезы и теперешний смех свидетельствовали о том, что бедная старушка помешанная.
— Ладно, погадаешь после, — сказал я, — ты лучше скажи, когда ты ее видела?
— Сусанна вошла в замок, когда утренняя роса еще не высохла. Служанки побежали Сусанне навстречу: «Поди, поди, старуха, погадай нам», — говорили они. А потом и повели… — Старуха не успела кончить свою речь, так как в эту самую минуту из минарета вышел и подошел к нам Каро — бледный и невыспавшийся. Старуха бросила на меня мрачный взгляд и отошла со словами:
— Ты не Каро! Ты обманул Сусанну!
В ее взволнованном голосе звучали гнев и угроза.
— Ничего, Сусанна, ничего, — успокаивал ее подошедший к ней Каро, — ведь это мой брат…
Они отошли от меня за стену, где долго беседовали неслышным голосом. Но стена была невысокая, и я видел их. Каро слушал старуху, опустив голову. Старуха ему что-то рассказывала. Теперь я уже отчасти понимал, о чем могут говорить они. Как ни темны и бессвязны были сообщения Сусанны, я все же из них сделал некоторые выводы. Видимо, жизнь какой-то девушки или женщины была в опасности. Между этой девушкой и Каро есть какая-то связь. Каро хочет спасти ее. Хитрая старушка служит орудием в этом деле. Женщина или девушка находится в «замке». А в каком замке? Кому принадлежит этот замок? Вот что оставалось для меня тайной!
Я долго смотрел на полупомешанную Сусанну. Когда она кончила свой рассказ, испустила крик, похожий на тот самый крик, который услышал я перед встречей с ней. Опять мной овладело суеверие. Вдруг я увидел маленькую девочку, одетую в какое-то пестрое яркое платье. Она быстро выбежала откуда-то, словно из-под камней, и подбежала к Каро. Каро обнял ее и поцеловал. После этого и старуха, и девочка куда-то скрылись, исчезли. Все это произошло так внезапно и быстро, что я был поражен. Мне представлялось, что эта девочка одна из тех духов, которых старая колдунья держит в повиновении, водит с собой и заставляет служить себе! Но, боже, как она была прелестна! Ее образ точно молния блеснул перед моим взором и мгновенно исчез, но исчез, оставив неизгладимое впечатление…
Почему Каро поцеловал ее? Кто она?
Я думал, что Каро от меня ничего не скроет и расскажет все, расскажет, кто эта старушка, кто — девочка, так внезапно появившаяся и также внезапно быстро исчезнувшая среди развалин. Я даже решил спросить его об этом. Но когда я увидел его взволнованное, встревоженное лицо, то ни о чем не стал его расспрашивать. Видимо, его страшно взволновали принесенные старушкой вести.
— Эта старуха помешанная? — спросил я, когда Каро подошел ко мне.
— Нет, — ответил он. — Но только, если ты еще раз ее встретишь, пожалуйста, не напоминай ей ее прошлое.
Затем он перевел разговор на другое.
— Нам придется уехать отсюда, Фархат, — сказал он.
— Куда? — спросил я.
— Пока я и сам этого еще не знаю. Мы из тех птиц, которые долго не могут сидеть на одной ветке.
Я ему на это ничего не ответил.
— Ты еще не переменил своего вчерашнего намерения, — спросил он, взяв меня за руку и отводя в сторону, как бы желая говорить со мной наедине.
Я затруднился ответить.
— Почему ты не говоришь?
— А
что мне говорить?
— Мы должны отсюда удалиться. Не хочешь ли ты вернуться к матери?
— Нет, я хочу остаться с вами.
— Брось ты нас, Фархат, иди лучше к матери, утешь ее старость. Уйди лучше от нас. Мы, люди обреченные, мы махнули рукой на все. Наш корабль плывет среди бурь и бог весть, чем все это кончится… Тебе суждено тихое счастье. Уйди лучше, женись на Соне, она ведь тебя любит. Счастливо и весело ты проживешь с ней всю жизнь. Соня хорошая девушка.
Последние слова тронули меня, и невольные слезы потекли из моих глаз. Каро притворился, что ничего не замечает и продолжал:
— Помнишь, Фархат, когда мы были еще в школе, часто говорили друг другу, что мы братья, что мы вместе будем работать и вместе будем пользоваться плодами нашего труда. Так вот, сейчас у меня есть при себе небольшая сумма, вот в этой кошели, возьми, я даю ее тебе. Мне она не нужна. На эту сумму ты купишь себе кусок земли, соорудишь соху и сам будешь возделывать свою землю. Сладки плоды, полученные от собственной земли!
Я отстранил кошель и ответил:
— Да, Каро, я помню все о чем мы клялись с тобой, когда были в школе. Но, видимо, ты забыл, что мы поклялись также в том, что будем помогать друг другу в беде. Как же теперь я могу уйти от тебя, когда ты сам говоришь, что корабль ваш плывет среди бурь?..
— Это правда. Но какое я имею право втягивать тебя в беду, которую я сам приготовил для себя.
— Мне все равно, кто ее приготовил.
— Но известно ли тебе, — продолжал Каро, — что мне в мире терять нечего. А по тебе будут тосковать мать, сестры, наконец, Соня. Ты разве не думаешь спасти ее? Ведь она в полном рабстве у своего отца-зверя.
— Думаю. И даже обещал ей это. Но я ее могу спасти и не расставаясь с тобой.
— Хорошо, — сказал он взволнованным голосом… — Все же ты должен принять эти деньги. Пошлешь их матери, чтоб она не голодала. Бог знает, может быть тебе надолго придется расстаться с ней…
Я отказался принять эти деньги, прося, чтоб он сам распорядился как знает. Каро согласился. Я заметил, как он был возбужден и как у него горели глаза. Видимо, тяжело было ему согласиться на то, чтоб я остался с ним.
— Но ты должен принять несколько условий, Фархат, — сказал он.
— Я на все согласен, — ответил я.
— Слушай же. Многое ты увидишь, — продолжал он, — но ты должен держать себя так, как будто ты ничего не видел.
— Я буду как слепой.
— Многое ты услышишь, — продолжал он, — но ты должен держать себя так, как будто ты ничего не слышал.
— Я буду нем, как камень.
— У тебя не должно быть своей воли.
— Во всем я буду подчиняться твоей воле.
— И воле моих товарищей, — добавил он.
— И воле твоих товарищей, — повторил я.
— Довольно! Дай мне твою руку.
Я протянул ему свою руку! Он обнял меня и поцеловал. И этим братским поцелуем как печатью был закреплен наш обет.
Я обещал быть глухим и немым, я обещал быть слепым орудием, я обещал быть бездушной, безвольной машиной… И я сдержал свое обещание…
В те времена в Персии только что появилось тайное общество, которое называлось «Фарамушхана», т. е, «Дом забвения». Главным условием приема в это общество было то, чтоб каждый член, выходя из этого «дома», забыл все, что он там видел и слышал. Иными словами, он должен был держать все ему известное в строжайшей тайне. Какова была цель этого общества я не знаю, как ни один член этого общества не знал, что делает другой, выше его стоявший член того же самого общества. Младший член в этом обществе был покорным и послушным орудием старшего. Он должен был беспрекословно подчиняться старшему члену и исполнять все его приказания, не зная, для какой цели это он делает. Истинные цели общества были известны лишь главарям. Все остальные члены общества были безвольными машинами в их руках. Каждый член по известным признакам мог узнать другого члена общества, при этом совершенно не зная как звать этого члена и откуда он. Лишь внутри каждой отдельной группы у членов не было тайны. Но каждая отдельная группа не имела понятия о деятельности другой группы. Я, казалось, попал в подобное общество. И от меня взяли обещание, что забуду все, что увижу и услышу. Я сдержал свое обещание. Эти строки я пишу уже спустя пятьдесят лет, когда тех лиц уже нет на свете, после того как они появились и пронеслись подобно быстрой буре.
Глава 14.
КОНЬ
С детских лет я безумно любил верховую езду. Но, за неимением коня, я довольствовался тем, что садился на свою длинную палку и целыми часами катался на ней по двору. Позже деревянного коня заменили различные животные. Нашим телятам я не давал покоя. Даже огромный, похожий на волка пес, наш Мро — и тот вынужден был служить моим наездническим забавам. Я садился на него верхом и держался за его огромные лапчатые уши. И бедный пес великодушно прощал мне все и, поворачиваясь по моей прихоти то туда, то сюда, катал меня по двору на своей спине. А когда мне исполнилось десять лет, я стал каждый вечер с нетерпением ждать возвращения с поля стада. И, когда я замечал вдали облако пыли, поднимаемое стадом, тотчас бежал ему навстречу и садился верхом на первого попавшегося ослика. Ах, как ликовал я, когда мой Пегас мчал меня по широкому полю!
Осликов заменили кобылы. Нельзя было без ужаса смотреть на меня, когда я, вцепившись в гриву молодой дикой кобылы, несся по полю, как ветер. Пастухи сердились и грозили мне, но я не обращал на них никакого внимания. И сколько раз я падал, сколько раз ломал себе руку или ногу, сколько раз возвращался домой с разбитой головой или израненным лицом! Мать начинала плакать и говорить, что я действительно дьявольское отродье, что я погибну от какой-либо беды — либо утону в реке, либо свалюсь с дерева или скалы, либо меня съедят звери в степи. Она шла к учителю жаловаться. Но ни «фалахка», ни «поучение», ни стояние на коленях не могли отучить меня от этих детских забав и игр, которые были строжайше запрещены ученикам нашей школы…
Такую же страсть я питал к оружию.
И вот, представьте мой восторг, когда заветнейшие мои желания исполнились — у меня было оружие и конь. В тот же вечер вновь появились два богатыря-зейтунца, из которых одного звали Мурадом, а другого — Джалладом и привели четырех великолепных копей. Видимо, кони эти паслись неподалеку в горах, так как среди развалин нечем было бы их кормить. Каро подозвал меня и, передавая мне одного из четырех коней, сказал:
— Вот твой конь. Надеюсь, управишься с ним.
Затем он передал мне ружье, пару пистолетов и шашку и добавил:
— А вот и твое вооружение. Надеюсь научишься им пользоваться.
Я был так смущен и рад, что не мог произнести ни одного слова благодарности. Я кинулся ему на шею и стал его целовать. Mне казалось, что я получил целое царство. Каро дал мне также одежду и велел переодеться. И в этой новой одежде меня не только мать, не только отец Тодик, но и сам черт бы не узнал. Одежда моя была точь в точь такая же, как и у моих товарищей.
— Ну, а теперь на коня! — скомандовал Каро и сам сел на своего коня.
Аслан и Саго были уже на конях.
Мы пустились в путь.
Зейтунцы остались в минарете. Видимо, им было поручено сторожить то имущество, которое я видел утром в тайных складах, в башне минарета.
Последние лучи солнца горели на вершине минарета. Я так был увлечен полученными мной подарками, что даже не спросил, куда мы едем. Мой прекрасный конь мчался, как ветер. Оружие мое блестело ярким угрожающим блеском.
Каро не ошибся. Я оказался столь же опытным в пользовании оружием, как и в верховой езде.
В стрельбе я редко давал промах. Недаром я был учеником, хотя и младшим, охотника Аво, того самого человека, про которого рассказывали столько ужасов, но который был всегда добр ко мне и к нашей семье. У него всегда можно было найти ружье, чтоб учиться стрелять. Первый опыт в стрельбе в цель я произвел по нашим курам. Мать прокляла меня, когда увидела убитого мной цыпленка. Она тотчас побежала к учителю жаловаться на меня.
Когда охотник Аво покинул наш город, мать отчасти радовалась этому, так как избавилась от соседа, который, по ее мнению, портил ее сына и сбивал его с пути истинного. Но я долго не мог забыть доброго Аво, охотничьи рассказы которого так захватывали и волновали меня…
Но как велика была моя радость, когда в дороге Саго сказал мне:
— Фархат, знаешь, куда мы едем?
— Нет, об этом Каро мне ничего не говорил.
— Ты, помнишь охотника Аво, того мрачного и молчаливого человека, который когда-то жил по соседству с вами? Мы едем к нему. Он живет вон там, в горах. — Саго указал на запад, точно в темноте я мог что-нибудь разглядеть и увидеть, где именно находится дом охотника.
— Как же, помню, — ответил я. — Теперь он должно быть совсем состарился? — спросил я. — Ведь с тех пор прошло уже двенадцать лет!
— Драконы не скоро старятся. Ты найдешь его мало изменившимся, — сказал Саго со своей обычной иронической улыбкой. — А ты помнишь, — продолжал Саго, — прежнего сына охотника Аво, которого звали Асо. Его мы в школе называли «ослиным сыном».
— Да, да, конечно, — ответил я. — Наш учитель называл его «дохлым». Это тот самый, который, ничему не мог научиться и очень быстро уставал, когда мы ходили гулять. Ученикам часто приходилось таскать его на спине, когда мы возвращались с поля, так как он сам не мог уже идти.
— Вот, вот, он самый. Если ты его увидишь теперь, совсем не узнаешь. Он страшно потолстел — теперь он похож на горного медведя. Видимо, ему горный климат помог.
— А что он теперь делает?
— Черт его знает! Теперь он отец семейства. У него свое хозяйство — пашет, сеет. У него жена, которая ежегодно рожает по паре детей. Дом его полон детьми — жужжат, как мухи.
— И опять он такой же желчный, как прежде?
— Нет, он теперь приличный человек. Когда пойдешь к нему, он готов всю душу отдать. Старается угостить всем, что только есть у него. И тогда только отпускает.
— Значит, богат?
— У него есть плуг, есть соха. Это только у нас с тобой ничего нет, Фархат.
Но меня больше всего интересовала дочь охотника, Маро, и я хотел узнать про нее, прежде чем встречу ее.
— А Маро? — спросил я.
— Маро? — повторил Саго с воодушевлением. — Теперь эта смугленькая чертовка своими черными глазами всех людей сводит с ума. И чертовски кусается и царапается как и прежде.
— У нее всегда был кошачий характер.
Но Саго почему-то впал в грустное настроение, когда мы с ним стали говорить о Маро. Он закурил трубку. Затем, видимо, желая перевести разговор на другую тему, он предложил мне трубку.
— На, кури эту чертову кадильницу, — сказал он, давая мне трубку.
Я сказал, что не курю.
— В логове разбойников не постничают, насмешливо кинул он.
Я попросил объяснить, что он хочет этим сказать.
— Очень просто, — объяснил он. — Суфии, которые сперва не курят, потом начинают жевать табак и глотать опиум. Таков уж конец всех постников.
Я взял у него трубку и она, действительно, мне понравилась, хотя я курил в первый раз.
— Вот это я понимаю! — сказал Саго с особенным удовольствием. — Наконец-то ты познал нечто ценное. Это, братец мой, нравится и человеку, и его создателю.
Саго эту свою трубку подарил мне, говоря, что у него есть еще другая и велел как только приедем, попросить у него табаку. Он уверял, что без табаку и водки путешествие теряет всю свою прелесть. И я без колебаний принял у него бутылку, которую он достал из висевшей на седле сумки и предложил выпить. Хотя я никогда не пил водки, но все же глотнул немного и вернул бутылку ему. Когда я выпил, мне показалось, что обожгли мне глотку. Сам Саго выпил довольно много.
— Согревает, — объяснил он. — На гóрах будет свежо.
И в самом деле, чем дальше мы поднимались в горы, тем становилось холоднее. Наш маленький караван двигался довольно быстро. Лошади привыкшие к горным тропинкам, пробирались по каменистой узкой дороге, как дикие козы. Мы ехали по краю ущелья, по неровной, каменистой узкой тропинке, которая то спускалась вниз, то поднималась. Нам часто приходилось слезать и идти пешком. Это меня сильно утомило. Но Саго совершенно не уставал. Словно все эти спуски и подъемы, все эти утесы и камни вливали в него еще больше энергии и вдохновения. Каро и Аслан ехали впереди нас и о чем-то без устали говорили. Ветер мешал нам слышать их голоса. Саго без конца говорил со мной о всяких вещах. Но как ни старался я выпытать что-нибудь из их прошлой жизни в чужих краях, мне это не удавалось. Он ничего не сказал мне об этом.
Но как чарующе действуют на человека горы, особенно страшные и прекрасные горы Армении! Это они вдохновили Саго, который вдруг своим прекрасным голосом затянул какую-то песню…
Глава 15.
ДОМИК ОХОТНИКА
Уже ночь подходила к концу, когда мы доехали до селения К. в Душманских горах. Постоянные нападения с этих гор на Салмаст дали повод назвать эти горы Душманскими, т. е. вражескими.
За селом на холме одиноко стоял маленький дом, окно которого в такой поздний час было, все же освещено каким-то тусклым светом.
Наш караван направился туда. В нескольких шагах от дома мы все остановились, и Каро один подошел к дому. Я не знаю, что сказал он там, но скоро двери дома широко распахнулись, и на пороге появилась богатырская фигура с лампочкой в руке. В ней я тотчас узнал охотника Аво.
Каро дал нам знак, и мы подъехали к дому. Первой нашей заботой было размещение коней. Сонному сторожу конюшни, видимо, не очень-то понравилось столь неожиданное и неурочное появление гостей.
— Сам черт в такой час не вылезает из своего логова, — пробормотал он, ведя наших коней в конюшню. Это был хорошо мне знакомый Мхэ, который прежде помогал Аво в охоте, а теперь, видимо, получил повышение и стал стражем конюшни и хлева. Наши ребята настолько хорошо знали его, что не обратили на его ворчание никакого внимания и велели ему получше накормить коней.
— Учить не надо, Мхэ сам все знает. Кажись, уже двадцать лет Мхэ имеет дело с конями, — пробурчал он хриплым голосом и ушел в сарай за кормом.
Дом охотника состоял из нескольких комнат. Одна из этих комнат была отведена для гостей. Когда зажгли свет, все мы собрались в этой самой комнате. Скоро появился и сам хозяин, который до этого о чем-то беседовал наедине с Каро.
— Ну-ка, Аво, распорядись-ка живее, ребята наши сильно проголодались, — сказал Каро.
— Как волки проголодались, — добавил Саго. — Тащи-ка сюда, хозяин, все что у тебя припрятано на черный день.
— Поздний гость не должен жаловаться на свою судьбу, — ответил охотник турецкой поговоркой. — Сейчас принесу все, чем богат.
— Где же другие? — спросил Аслан. — Что-то никого не видать.
— Асо в поле, сторожит скот. Окаянные курды, точно взбесились. Не проходит дня, чтоб не угнали чьего-либо скота. Не успеешь оглянуться — ан, скот исчез. А Маро спит, но я ее сейчас разбужу.
Он пошел хлопотать об ужине.
Я остался незамеченным. Никто из товарищей не заговорил с охотником обо мне. А мне самому было неловко подойти, поцеловать ему руку и сказать: «Это я, твой Фархат, которого ты, помнишь, всегда любил».
Но почему я так обрадовался, когда он обещал разбудить Маро? Почему мой взор нетерпеливо обращался к двери, в которую она должна была войти? Ах, как дороги нам друзья и товарищи невинного детства! Ребята сняли с себя оружие и расселись. Скоро вошла девушка, неся широкое медное блюдо с хлебом, сыром, холодной жареной дичью, кислым молоком, сливочным маслом и зеленью. Она безмолвно вошла и также безмолвно вышла, ни на кого не посмотрев. Ребята приветствовали ее, пустили по ее адресу какие-то шутки, но она им ничего не ответила.
Это была Маро.
Целыхx двенадцать лет я не видел ее! Как она выросла! Какая она стала серьезная, — думал я. А ведь бывало, вечно веселая, живая и радостная улыбка никогда не сходила с ее лица! Годы изменили ее. Но изменили к лучшему. Она очень похорошела.
Скopo она опять вернулась и на этот раз принесла глиняный кувшин с вином. Ее глаза встретились с моими и я заметил на ее лице выражение какого-то волнения. Она быстро вышла из комнаты, очевидно за тем, чтоб сообщить отцу обо мне.
Тогда мои товарищи относились ко мне еще с некоторым пренебрежением, очевидно поэтому никто из них не потрудился меня представить охотнику. А сам охотник, по-видимому, был так занят своими гостями, что меня не заметил или же не узнал. Последнее было вероятнее.
— Где, где он? — воскликнул охотник, вдруг влетая в комнату. — Где Фархат?
Я подошел к нему.
— Милый мой, Фархат. Ты ли это? Золото ты мое! — говорил он, обнимая меня и горячо целуя. И радостные слезы лились из его глаз на его седую бороду. — Да хранит тебя бог, сын мой! Как ты вырос, как возмужал! Где ты его нашел, Каро? Ведь я бы его не узнал, если бы Маро мне не сказала, что это Фархат. Каро вкратце рассказал где и в каком положении он меня нашел. Охотник долго смеялся.
— Я знал, что ты убежишь от этого окаянного твоего учителя, — говорил он. — Но как жаль, что ты так долго оставался в этом аду. — Адом он называл школу отца Тодика. Это слово опять напомнило мне муки, о которых я было стал забывать. Прекрасная Маро издали смотрела на отца, который так ласково говорил со мной и мне казалось, что ей тоже хотелось бы подойти ко мне и сказать: «И я рада Фархат, что вижу тебя». Но стыдливость армянки закрыла ей уста, и ее радость я прочел на ее просиявшем лице.
Охотник спрашивал о моей матери, сестрах, об их положении, о том, как им живется. Он ободрил меня, говоря, что у меня будет возможность им помочь, позаботиться об их благополучии и утешить их. Затем он выразил свою радость по поводу того, что я попал в кружок таких людей, как Каро и уверял, что это общество будет мне полезно. После этого он обратился к Маро:
— Ты что не подойдешь, не спросишь о Марии и Магдалине? Помнишь, как вы были с ними подругами и как рвали друг у друга волосы и царапали друг другу лицо? Но все же в конце концов мирились. Не правда ли, моя кошечка? Помнишь, да?
Я вспомнил ту вьюжную, бурную ночь, когда мы сидели в холодной, как могила комнате. Мать шила, а я возился у печки. Тусклый свет, как взор умирающего еле мерцал. Вдруг вбежала к нам живая, как чертенок, Маро. Даже ее проказы и злые шутки были милы. Я вспомнил, как она обняла мою мать и без конца болтала. Она радовалась тому, что на дворе много выпало снегу и с восторгом говорила о том, как она будет завтра кувыркаться в нем. Вспомнил я, как она набросилась на Марию и чуть было не задушила ее. Вспомнил, как она выбежала из нашей хаты и исчезла во мраке ночи…
Я живо вспомнил ту девочку-проказницу, которая теперь стояла передо мной стройная и прекрасная, как ангел. Те же огненные глаза пылали на ее чудесном, возбужденном лице, сияла та же светлая улыбка.
Несмотря на приглашение, отца, Маро не подошла ко мне. Только засмеялась и выбежала из комнаты. Но я стеснялся не меньше ее, и мы оба онемели. Я не знал, что ей сказать, с чего начать разговор и поэтому очень был рад, когда она вышла из комнаты и тем самым вывела меня из неловкого положения. И тут только я почувствовал, как я невоспитан и дик, как меня исковеркала школа.
Наши ребята уже сели за ужин. Аво тоже присел к нам. Маро прислуживала. Она то подавала, то уносила что-нибудь. Видно было, что хозяин ждал гостей и заранее приготовился к их приему. Его стол был богат всем, чем богаты земледелец и пастух. Только за ужином я заметил, что лицо охотника избороздили морщины и что его волосы совершенно поседели. Но он сохранил кипучую энергию и благородную осанку. Есть цветы, которые и при увядании сохраняют благородный свой аромат.
— Фархат, — сказал он, — как только настанет утро, я велю Маро, чтоб она повела тебя и показала наши горы. И ты увидишь как они прекрасны!
Сердце у меня забилось от радости. Я страшно любил горы. На меня, как на жителя равнины, горы производили особенно сильное впечатление. Но еще больше меня радовало то, что в прогулке меня будет сопровождать Маро. Ах, когда же настанет утро? Я не сомневался в том, что Маро будет много говорить, будет расспрашивать о моей матери, о сестрах, о знакомых. Но до утра оставалось еще довольно много времени, так как петухи пока пропели еще только второй раз. Селение К., в котором жил старый охотник, приютилось в горах, которые тянулись длинной цепью, отделяя Салмаст от Ахбака. Ахбак — одна из горных областей Васпуракана. Здесь зима долгая и лето прохладное. Благодаря этому здесь земледелие не процветает, и население занимается главным образом скотоводством.
Даже в самую жаркую пору лета снег в горах не тает. Поэтому воздух здесь пропитан бодрящей влажностью, и никогда не высыхают источники и ручейки, журчащие в ущельях.
Среди гор и долин Ахбака разбросано множество армянских селений, в которых население живет жизнью первобытных людей. Землянки, которые служат жилищем, как для них самих, так и для их скота, представляют из себя какие-то подземные лабиринты. Они почти не возвышаются над поверхностью земли и лишь по утреннему дыму, который подымается из окон прорубленных на крышах домов, можно угадывать, что в этих подземных норах живут люди…
Ранней весной жители этих селений подымаются вместе со своими стадами в горы и там живут в шатрах до поздней осени. В самих селах почти не остается мужского населения. Остаются только старики, которые стерегут дома от воров и поджигателей.
Кроме армян в горах Ахбака бродит множество курдских пастушеских племен, у которых нет оседлости. В теплые месяцы они живут под открытым небом, а зимой устраиваются в армянских селах. При этом каждая армянская семья обязана содержать одну курдскую семью с ее стадом. Армяне терпят из-за этого массу неприятностей и неудобств. Не говоря уже о том, что дом армянского крестьянина очень тесен и еле может вместить его собственную семью, но главное, тут зима долгая, и курд, поселившийся в доме армянина, истощив свои запасы, сидит на шее гостеприимного хозяина дома, которому приходится кормить курда, его семью и стадо до самого того времени, пока в горах снег растает и курд удалится в горы, где он кормится и кормит свое стадо божьей пищей. Всякое сопротивление со стороны армянина влечет за собой опасность для его жизни, так как гость вооружен с ног до головы и пользуется этим оружием, пускает его в ход по своему усмотрению, в виду того, что никакой закон ему этого не запрещает. Эти полудикие племена, которыми управляют шейхи и беки, сохранили все качества народа, который никому не подчиняется и свободу видит в своем оружии и грубом насилии. Злосчастной жертвой этого насилия является народ, который давно уже утратил свою независимость, в котором давно уже угас дух свободы и самозащиты, и который свою голову с немой покорностью склоняет перед всякой неправой силой.
Глава 16.
МОГИЛЫ ВЛЮБЛЕННЫХ
На другой день я проснулся поздно. Никогда в жизни я так не уставал и никогда не спал так долго и так спокойно. Уже никого из моих товарищей не было в комнате, где мы ночевали. Я тотчас оделся и вышел.
Прекрасно утро в горах! Воробьи весело чирикали на тенистых ивах, которые осеняли домик охотника, и в залитом солнцем дворе куры жадно набрасывались на семена, которыми Маро их кормила.
Выйдя из комнаты, я впервые заметил, что дом Аво по чистоте и убранству представлял из себя настоящий дворец в сравнении со всеми остальными домами села. Он был высок и состоял из нескольких комнат с узкими окнами, которые были заклеены бумагой за отсутствием стекол. Стены как снаружи так и изнутри были замазаны белой глиной, которая плотно прилегала к стене и как-то особенно блестела. Часть здания была отведена под хлев, конюшню и сарай. Маро, увидя меня, вбежала со двора в дом и с насмешливой улыбкой сказала:
— Видишь, они ушли, а тебя оставили! Что ты за мужчина? Можно ли так долго спать? Подумаешь, много проехал — уж и устал! Лентяй! Я до самого Варфоломеева монастыря шла пешком и то не уставала. Папа все время предлагал мне сесть на коня, а я ни разу не села, потому что дала обет, что пойду пешком. А когда дошли, поверишь-ли, Фархат, я всю ночь не спала — всю ночь прыгала и плясала… Ах, как хороша была та ночь. Жаль что тебя там не было, Фархат. Всю ночь богомольцы играли и пели, всю ночь до самого рассвета!..
Как ни приятно было мне слушать рассказ Маро о ее поездке на богомолье, все же я прервал ее простодушный и бессвязный рассказ и спросил, куда ушли мои товарищи и почему они меня не разбудили.
Она объяснила мне, что мои товарищи не захотели меня беспокоить и что они поехали на охоту и просили передать мне, что я их могу найти в долине Хана-Сора.
— Хочешь, скажу Мхэ, чтоб оседлал твоего коня. Но ты бы раньше поел чего-нибудь, ведь дорога долгая, ты проголодаешься. Я спрятала для тебя сливки, хочешь принесу?
«Спрятала для тебя!» Эти слова звучали сладко, как слова нежной сестры. Значит, она чувствует себя такой же близкой мне, как в те времена, когда она была маленькой девочкой, и когда из дома своего отца приносила нам еду, которой добрый охотник угощал нас, своих бедных соседей.
— А что же, принеси, покушаю, — оказал я. — Но почему же ты спрятала именно для меня? — спросил я немного погодя.
— А потому, — сказала она, — что «лучше новый черт, чем старый поп!» — и засмеялась. — Аслан и Каро, — добавила она, — еще немного стесняются, а Саго прямо покою мне не дает. Я его терпеть не могу! А с тобой ведь мы старые приятели, не правда ли, Фархат?
— А я думал, — сказал я, — что когда ты меня увидишь, то скажешь: «Ты мне не приятель, ты бил меня, когда я была маленькой!»
— Ну что ж с того! А я била Марию. Помню, я однажды до крови исцарапала ей лицо. Ах, как я хотела бы ее видеть сейчас! Она меня теперь не будет дразнить «цыганкой». Небось она теперь умненькая стала, да, Фархат?
— Да, более, чем Магдалина, которую ты любила больше Марии.
— Правда. Но ведь Магдалина была бедненькая, а Мария глядела зверем. Ах, боже мой, дня не проходило, чтоб мы с ней не подрались. Какие были мы глупенькие!
Воспоминания пробудили в ней какие-то грустные чувства, и ее светлое лицо вдруг омрачилось печалью.
— Ах, Фархат, как прекрасен был Салмаст с его садами и огородами!.. Здесь, в этих горах, ничего нет, кроме мелкого кустарника… А там — как там было прекрасно! Ой! Я совсем позабыла о твоем завтраке, — воскликнула она и вбежала в дом.
Я пошел в комнату, которая была отведена нам. Старая служанка охотника, Хатун, уже убрала мою постель и навела в комнате порядок и чистоту. Она меня не узнала. Пристально взглянув на меня, она что-то пробормотала под нос и вышла.
Немного погодя Маро принесла мне завтрак, который состоял из сливок с медом и белым хлебом. Я стал завтракать, а Маро, стоя около меня, пряла. Ее пальцы неустанно работали и казалось, что эти прекрасные пальцы не могли оставаться без работы. Так они привыкли к работе.
— Ты ведь не скоро уедешь от нас, Фархат, — спросила она, продолжая свою работу, — Ах, какая негодная шерсть, — с досадой сказала она, — как ни стараюсь, никак не могу прясть потоньше!
— А ты хочешь, чтоб я остался дольше?
— Почему же нет? Но тут в деревне нехорошо, Фархат. Я скажу папе и мы поедем в кочевку, там в шатрах прелестно! Утром встанешь, кругом зелень и всюду цветы горят, точно разноцветные бусы. Повсюду бегают овцы и барашки…
В эту самую минуту появился богатырь Мхэ, который, не входя в комнату, сказал:
— Лошадь готова! — Затем он косо взглянул на Маро и ушел.
Я взял ружье и приготовился в путь.
— А дорогу-то ты знаешь? — спросила Маро.
— Нет, не знаю, но найду как-нибудь.
— Я тебя доведу до «Камня со щелью», а оттуда дорога идет прямо до самого Хана-Сора:
— А ты сама потом как одна вернешься домой?
— Я? Я и ночью не боюсь ходить одна по горам, — ответила она с улыбкой.
— А наши поехали верхом?
— Нет, они пешком пошли.
— А я то, тогда, почему еду верхом? — Тогда и я пойду пешком.
Я сказал Мхэ, что лошадь мне не нужна.
— Как не нужна? — воскликнул он с недоумением и досадой, бросив на меня мрачный взгляд. — Об этом надо было раньше подумать и не заставлять зря трудиться, — добавил он,
— Что, он с ума сошел, что ли? — спросил я, когда Мхэ отошел.
— Он очень славный человек, но только любит ворчать, и без этого никак не может обойтись, особенно, когда ему что-нибудь не нравится.
К «Камню со щелью» вела узенькая тропинка, которая вилась среди холмов и долин.
Маро была одета в простенькое ярко-пестрое платье, которое обыкновенно носят курдские пастушки. Ветер развевал ее чудесные локоны. Самая сильная лань не могла поспорить с ней своей грацией и легкостью. От быстрой ходьбы щеки у нее горели, как алые розы.
Я был очарован ее дикой и легкой грацией. Никогда я не видел таких прекрасных, черных глаз, осененных густыми длинными ресницами с такими тонкими, дугообразными бровями, которые еле заметной черной черточкой соединялись на переносице. Как много уверенности и бодрости в движениях этой подлинной и вольной дочери гор! — думал я. Невольно я сравнивал ее с прелестной Соней, каждое движение которой выражало стыдливость угнетенной и измученной девушки. Какая огромная разница!
По пути мы встретили какую-то кучу камней. Маро наклонилась, взяла камень и кинула на холм. Я спросил, причину этого таинственного поступка. Она ответила, что холм этот называется «могилой влюбленных» и рассказала мне старинное предание. Юноша любил девушку, и она отвечала ему взаимностью, но отец девушки не хотел выдать ее за того, кого она любила. Тогда юноша похитил ее с ее же согласия, и они убежали в горы. Отец погнался за ними, настиг их в этом месте и вонзил свой кинжал в грудь своей дочери. Юноша бросился со скалы и тут же умер. Маро показала у подножия скалы другую кучу камней и добавила — вот там похоронен юноша, а тут девушка. С тех пор и положено, чтоб каждый прохожий бросил камнем в могилу той, которая опозорила своего отца и в того, который любил ее. Они оба прокляты.
— Ты тоже считаешь ее дурной и побиваешь ее могилу камнями? — спросил я.
— А разве не дурно, если девушка идет за чужим юношей против воли своего отца? — ответила она.
— А как же ей быть, если она его любит? Разве любить нехорошо?
Она громко рассмеялась, словно я сказал какую-то невероятную глупость.
— Как же может девушка любить юношу, если ее родители его ненавидят? Ну ладно, пусть любит, но зачем же бежать с ним, с чужим? Разве это не стыдно? — Я хотел возразить, но она не далa мне говорить, сморщив свое прелестное лицо и сказав с досадой:
— Будет тебе говорить о глупостях, надоел мне этот глупый разговор!..
И быстро побежала вперед.
Путь был ей знаком и привычен, поэтому она не чувствовала, что он длинен. А я почти уже устал. Взобравшись на холмик, она стала громко звать:
— Дибо! Дибо!
На ее звучный голос горы отвечали эхом.
Из-за противоположного холма появились какие-то маленькие фигуры, которые быстро подбежали к ней. Это были три почта полуголые девочки. Они пасли барашек и козлят селения К. Маро угостила их хлебом и сыром. Маленькие пастушки с радостью принимали ёе дары и тут же принялись есть.
Я заговорил с одной из них, с той, которую Маро называла Дибо.
— А что ты сделаешь, если волк утащит твоего барашка?
— Соро не даст, — ответила пастушка, сумрачно глядя на меня.
— А кто такой Соро?
Вместо ответа она приложила к губам два пальца и издала свист.
Из-за скалы появился серый пес и, махая хвостом, подбежал к Дибо, покорно ожидая ее распоряжений. Увидя этого зверя, я невольно отступил назад.
— Ты не бойся, — сказала Дибо. — Я скажу, чтоб Соро тебя не трогал.
Маро обняла Дибо и крепко поцеловала ее в обе щечки.
— Ну тут мы расстанемся, — обратился я к Маро.
— А то я доведу тебя до самого Хана-Сора? — весело спросила она. Боюсь, как бы ты не потерял дорогу.
Я ответил, что это будет для нее утомительно, тем более, что солнце уже поднялось довольно высоко и сильно жгло. Я попросил только показать, как мне идти? Она мне объяснила и притом настолько ясно, что мне казалось, я и с закрытыми глазами дойду до назначенного места.
Было видно, что все тропинки в этих горах ей великолепно знакомы. Ей был известен тут каждый ручеек, каждый родник, каждая скала. Даже отдельные группы кустов она узнавала и отличала от других. Она стала на «Камень со щелью» и следила за мной до тех пор, пока я не прошел за холм, который скрыл от меня ее прекрасное лицо.
Глава 17.
ДВЕ ДОБЫЧИ РАЗОМ…
Солнце было уже в зените, но горная прохлада ослабляла силу его лучей.
Как сладко дышать горным воздухом, напоенным ароматом диких цветов!
За каждым холмом, за каждой долиной открывались передо мной все новые и новые виды — один прекраснее другого. Словно чья-то чудотворная рука расписала чарующие картины. Всюду поверхность земли покрыта высокой свежей зеленью, в которой пестреют тысячи цветов. То тут, то там журчит ручей, стыдливо скрываясь под зеленью, лишь изредка показывая свою серебристую струю и опять скрываясь. Чайки весело порхают над водой. Обращаешь взор к Душманскому ущелью и там виднеются обломки когда-то могущественного неприступного замка. На зубцах одной из уцелевших башен одиноко сидит черный орел и задумчиво смотрит в пропасть, зияющую перед ним. Он сидит неподвижно и величественно. Его зоркий взгляд ищет в ущелье добычу. Я невольно вспоминаю предание. Не он ли тот богатырь, который владел этим замком и которого колдун обратил в орла? Этот богатырь, властитель замка, давил все живое. Где бы он ни появлялся, цветущую землю обращал в безлюдную пустыню… С вершины этой самой башни, где сидит сейчас орел, каждый день перед рассветом бросали в пропасть последнюю жертву. Жертву, у которой владелец замка отнял ее девичью невинность…
Очарованный красотой окружавшей меня природы и, вспоминая старинные легенды, я продолжал свой путь. Но постепенно чувства мои притупились и мной овладела какая-то дремота. Только прекрасный образ Маро горел ярко и пленительно… Но разве есть в ней сердце, горячее, любящее сердце? — спрашивал я себя. Разве чувствует, понимает она, что такое любовь? Нет, она этого не чувствует и не знает… В святилище ее сердца никогда еще не горел этот огонь, иначе она так безжалостно не бросала бы камни в «могилы влюбленных». Маро такая же рабыня, как и Соня, думал я. Но в то время, как Соня рабыня своих родителей-насильников, Маро рабыня старых предрассудков. А предрассудки ведь сильнее давят и вернее уничтожают в душе все живые ростки чувств…
— Да, пусть любит, но не по своей воле, — вот смысл слов Маро.
Да и правда, разве есть у армянки своя воля? Разве она свободна в своих чувствах?
Предавшись таким размышлениям, я совершенно забыл указания Маро и сбился с пути. Но об этом я догадался лишь тогда, когда передо мной открылась глубокая пропасть ущелья… Идти дальше было некуда. Вернуться обратно я не мог, так как не помнил, как я шел.
Я был страшно смущен и раздосадован.
Солнце уже склонялось к закату. Вечерний холод становился невыносимым Меня томили усталость и голод. Сколько времени я бродил? — спрашивал я себя. Ведь Маро говорила, что часа через два я буду у Хана-Сора. А теперь уже вечер. Лучи заходящего солнца горели на вершинах гор, а на долины уже сошла тень. Я вспомнил, что Маро положила мне в охотничью сумку какую-то бутылку. Открыл я сумку, достал бутылку и в ней оказалось вино. Тут же я нашел холодную закуску. Обед был готов. Сел я на мягкую траву и начал есть. Я утолил голод, немного отдохнул и силы вновь вернулись ко мне. Но что же теперь делать? Куда идти? — в недоумении, спрашивал я. Я решил подняться на ближайший холм и оттуда посмотреть — может найду дорогу. Через четверть часа я был на холме. С высоты я увидел узкую долину, где, как мне показалось, двигались какие-то черные точки. Я решил, что это стадо и очень обрадовался. Пойду к пастухам, подумал я, и они мне укажут путь в селение К. Я начал спускаться вниз, но скоро был разочарован. Зрение обмануло меня. Точки, которые я видел, оказались просто кустами, разбросанными по всей долине. Что же мне теперь делать? Я был в отчаянии. Меня смущало не то, что я ночью останусь под открытым небом и не страх перед зверями, а мне было стыдно перед Маро и товарищами, которые с первого же раза увидят, как я беспомощен и не деловит.
Вдруг до меня донесся какой-то треск, на который горы ответили многократным эхом. Треск повторился еще и еще. Ясно было, что стреляют. Но кто же это стреляет? Несомненно это не мои товарищи, подумал я, так как место, где я находился по моему предположению, должно быть далеко от Хана-Сора. Стало быть, решил я, это какие-нибудь другие охотники или же разбойники, которые угоняют скот. Но в конце концов мне было безразлично, кто эти люди — ведь они люди, и этого мне было достаточно, я был им рад.
Я направился туда, откуда слышалась стрельба. Уже слышался лай собак. Теперь я не сомневался, что встречу охотников. Едва я поднялся до половины холма, как совсем близко от меня послышалось дикое рычание, и тотчас же, в двадцати шагах от себя я увидел огромного кабана. Мигом я снял с плеча ружье, прицелился и выстрелил. Я не промахнулся, но пуля попала в ногу зверя. Кабан, видимо, и не почувствовал боли. Он кинулся на меня. Нападение произошло так быстро и стремительно, что я не успел вновь зарядить ружье. Момент был решительный. Разъяренный зверь был уже близок, я видел его злые пылающие глаза. Я бросил ружье и патрон, который приготовил и держал в руке, чтоб вновь зарядить ружье, достал кинжал и в одно мгновенье вонзил его в бок зверя. Кабан заревел, но уже потерял силы. Однако он попытался пустить в ход свои острые клыки. Тут я прыгнул ему за спину и нанес ему новый удар в живот. Зверь все же продолжал еще сопротивляться. В эту самую минуту, когда я боролся со зверем не на жизнь, а на смерть, вдруг раздался выстрел и пуля попала прямо в голову кабана. Тут кабан бессильно свалился на землю… Я оглянулся, смотрю — передо мной с ружьем в руках стоит Маро и весело улыбается. Кто может описать мою радость! Я, весь окровавленный, подбежал к ней и крепко обнял мою спасительницу.
Она рассказала, что расставшись со мной, не ушла домой и стоя на холме смотрела мне вслед. Она видела, как я свернул с пути и пошел не туда, куда было нужно. Она начала кричать, но я ее голоса не слышал. Тогда она побежала за мной, но потеряла меня из виду. Она долго искала меня и вот наконец нашла. Оказывается она кричала мне, предупреждала, что стреляет, но я в пылу борьбы и этого ее крика не слышал. Она стреляла из моего же ружья, которое я бросил в сторону, когда увидел, что зверь слишком близок и нужно действовать кинжалом.
Увлеченные этим разговором, мы с Маро не заметили, что с вершины холма за нами наблюдают четыре человека. Они подошли к нам. Это были охотник Аво и три моих товарища — Аслан, Каро и Саго.
Старик обнял меня и Маро и радостно воскликнул:
— Оба вы достойны называться детьми охотника Аво!..
Глава 18.
ЯБЛОКО РАЗДОРА
Вечерний сумрак окутал голые вершины гор. В долинах свет потускнел и лишь золотистые облака, которые огромными глыбами плыли по высокому небу, горели в пурпурных лучах заходящего солнца. Был чудный вечер. Был один из тех часов горного вечера, когда сладко звучат песни пастухов, когда так приятно прислушиваться к разноголосому блеянию возвращающихся с пастбищ овец и веселому ржанию лошадей, целыми табунами радостно и быстро спешащих к своему ночному пристанищу. В этот час ветерок нежно касается лица и мелодичным тонким голосом напевает: «Вдыхай в себя полной грудью благоухание, похищенное мною с тысячи цветов!..»
Но я не чувствовал этих звуков, я не слышал ни мелодии зефира, ни песни пастуха — я был очарован одной только Маро. Я постоянно видел ее и слышал только ее голос, хотя она ничего не говорила.
Возвращение в деревню К. длилось довольно долго, потому что мы шли теперь по совершенно другой дороге. Уже давно нас окутал сумрак, и звезды летней ночи сверкали дивным блеском.
Предметом разговора была последняя охота. Старик Аво в шутку насмехался над промахами Аслана и Саго. Оба они неудачно стреляли в кабана. Саго старался оправдать себя, приводя различные причины, Аслан же ничего не отвечал, он погрузился в тяжелые думы. Каро был веселее обыкновенного. Он с братской сердечностью положил руку на мое плечо и сказал:
— А ты, Фархат, не лишен смелости, из тебя что-нибудь да выйдет.
Маро шла впереди нас со своим отцом. Она хранила глубокое молчание. Казалось, гордость ей не позволяла выслушивать похвалы, которые сыпались на нее, или же она не хотела напоминать, из какого трудного положения она меня спасла. Она старалась, чтоб возможно меньше говорили об этом. Я несколько отстал от своих товарищей и беседовал с Каро. Саго подошел к нам и без всякого повода с нашей стороны, как бы сам про себя, сказал:
— Удивительная вещь, судьба! Говорят, она чудовищная женщина с двумя лицами, спереди и сзади. Переднее лицо свежее и красивое с вечно улыбающимися глазами, которыми она смотрит на своих любимцев. Другое лицо — дряхлое, морщинистое, как у отвратительной старухи. Только один глаз на мрачном челе, да и тот слепой. Она всегда обращает ко мне это лицо — коварное с ужасными морщинами, и я всегда слышу, как ее сухие и бледные уста произносят: «Не жди от меня никакого добра…»
После минутного молчания, он продолжал еще более взволнованным голосом:
— Говорят, в наши дни не бывает чудес. Что же это, черт возьми, как не чудо: две добычи разом…
Теперь я понял, что полупомешанный Саго язвительно намекает на меня и Маро.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил я.
Он ответил с еще большим волнением:
— Именно две добычи: одна — кабан, а другая — сердце Маро!
Эти слова он произнес так, что я пришел в ярость. Но он продолжал, не обращая на меня внимания.
— Ведь Маро не маленькая добыча… чтоб ее поймать, нужна великая отвага…
— Если ты будешь продолжать говорить такие глупости, то… станешь третьей моей добычей, — сказал я и в руке моей сверкнул обнаженный кинжал.
— Стоит ли из-за этой дикой кошки драться? — вмешался Аслан, подойдя к нам…
— А! Видно и тебя она оцарапала! — обратился я к Аслану еще больше разгневанный.
Он ничего не ответил.
— С кошкой нужно обходиться по-кошачьи, чтоб не испытать на себе, каковы ее когти, — сказал с огорчением Саго.
— С собакой она никогда не может жить мирно, — сказал я.
— Стыдно, ребята, — властно вмешался Каро и с быстротой молнии отнял у меня кинжал.
Аслан не тронулся с места и даже
не дотронулся до своего кинжала. Это пренебрежение еще больше оскорбило меня. А Саго стоял поодаль и смеялся. Он взял Аслана за руку и отведя его в сторону, сказал:
— Пойдем, не стоит связываться с ребенком…
Я и Каро остались одни. Старый охотник и его дочь далеко опередили нас и не могли понять, что произошло между нами.
Каро начал говорить, что мой гнев был совершенно неуместен, что я напрасно оскорбил своих лучших товарищей, которые меня так же любят как и сам Каро. Он сказал, что я не только не мог бы одолеть Аслана, но что и маленький Саго так ловок в бою, что непременно убил бы меня, и что они только пожалели меня. И преподав мне много наставлений, он добавил, что Саго не виноват, потому что уже несколько лет как он влюблен в Маро, хотя и не пользуется взаимностью с ее стороны. Вот все, что я понял из слов Каро. Большая часть его слов осталась для меня непонятной, вследствие волнения, которым я был охвачен в ту минуту. Я еще дрожал всем телом. Язык мой, казалось, был связан и я ничего не мог ответить.
— Ты еще молод, Фархат, я тебя не обвиняю, — прибавил Каро. — Твои товарищи хорошие люди, они опять полюбят тебя и простят.
Дорога наша в селение К. пролегала мимо пашни Асо, приемыша охотника. Мы прибыли туда поздно ночью. Ребята решили переночевать у Асо. Тут приемный сын старого охотника построил из хвороста легкий шалаш, который служил прекрасным приютом в весеннюю ночь.
— Останьтесь здесь и веселитесь, — сказал старик-охотник и затем прибавил, — мои старые кости не переносят ночного холода. Я уйду домой и вышлю вам вина и хлеба, а мясо для шашлыка у вас уже есть. Выпьете, конечно, и за мое здоровье. Смотри, Асо, хорошенько поухаживай за гостями. Ну, Маро, идем.
Они еще не успели отойти. Маро подошла ко мне и тихо шепнула на ухо:
— Фархат, ты простудишься, здесь бывает холодно. Я тебе из дому пришлю что-нибудь, чтобы укрыться. — В ночном сумраке никто не заметил нашего разговора. Я поблагодарил Маро за ее доброту и сказал, что я привык спать и без покрывала, потому что дома у меня не было постели, покрывалом мне служило изношенное отцовское пальто, а матрацем — холодная циновка.
— Ты, Фархат, молодчина, не простудишься, — весело сказала она и слегка хлопнув по плечу, убежала от меня. В это время старый охотник позвал ее во второй раз:
— Маро, где ты, пойдем, детка.
Асо тотчас развел перед палаткой громадный костер. Сухая трава быстро разгорелась, и свет распространился далеко вокруг нас. Только тогда я и заметил, как сильно изменился мой старый товарищ Асо, который много перенес после того, как мы расстались с ним. Изнуренный и расслабленный мальчик, которого мы называли «ослиным седлом», преобразился в доброго, здорового парня. Вот какая разница между поповской азбукой и земледелием! Первая изнурила, измяла его детство, не дав ему при этом никакой умственной пищи, второе — напротив, восстановило его упавшие силы и наполнило дом его престарелого отца хлебом. Однако в этом неотесанном работнике не было видно ни доброты отца, ни живости сестры. Асо был из числа суровых и мрачных натур. За все время он только несколько раз заговорил со мною, да и то все сказанные им слова были кратки и безответны. Саго верно заметил, что «Асо любезен и ласков только со своими волами, которые тащат его соху». Несмотря на это, я всегда относился к нему с симпатией, так как он был братом Маро.
Село было невдалеке от хуторка, и мы скоро получили обещанные охотником хлеб и вино. Из мяса кабана уже был изготовлен шашлык, ужин был готов. Сильно проголодавшиеся ребята тотчас принялись за ужин. Я отказался от еды, говоря, что у меня аппетита нет, да я и не совсем хорошо себя чувствовал. И действительно, голова у меня сильно болела и после неприятного происшествия в дороге я находился в каком-то лихорадочном возбуждении, которое, по мере того как я вспоминал свое неуместное поведение с Асланом и Саго, усиливалось.
Они же, казалось, все забыли и ничем, даже малейшими намеками не напоминали о случившемся, напротив они рассказывали Асо о том, как мы с Маро убили кабана и восхваляли нашу храбрость и отвагу. Но их снисходительность была тягостна для меня. Я считал оскорбительным обидеть кого-нибудь и, не дав ему удовлетворения, получить от него прощение. Это своего рода милостыня, а милостыни просить я не хотел.
Ужин был накрыт в шалаше и ребята собрались там. Я лежал в нескольких шагах от шалаша, так что мог слышать их разговор.
— Правда, что он болен? — спросил Асо.
— Нет, у него особенная болезнь… — ответил Саго и с двумя стаканами вина вышел ко мне, распевая красивую песенку. Из палатки единодушным хором вторили ему.
Звуки голосов, раздававшиеся в ночной тиши, вылетая из искренних горячих сердец юношей, собравшихся в шалаше, были так трогательны и так воодушевляли, что во мне пробудили все братские и товарищеские чувства со всей их оживляющей силой. Сердце мое наполнилось священным миром и буря, волновавшая мою душу, стихла. Я не мог скрыть моих слез и взяв из рук Саго стакан с вином подошел с ним вместе к кружку. Все мои товарищи, также со стаканами в руках, стояли вокруг стола. Каро спокойно и медленно произнес небольшую речь. И слова, вылетевшие из его уст с необыкновенной силой и убеждением, так подействовали на меня, что я их до сих пор не забыл, хотя с тех пор прошло уже пятьдесят лет, а это немалый ведь срок…
— Дорогие товарищи, — говорил он, — мы все — дети того народа, который лишившись своей земли, рассеялся по всем концам света. Мы дети того народа, который живет в стране, где его хижина редко согревается огнем, так как ему нечем топить ее, где его дом после захода солнца не освещается светом, потому что ему нечем освещать его, где его дети ночью ложатся спать голодными, потому что им нечего есть, нет у них хлеба! Солнце жжет его детей, холод замораживает, дождь мочит их до костей, потому что их одежда до того изношена, что уже не защищает их от суровости природы. Однако этот народ не ленив. Он беспрестанно трудится, трудится даже больше чем позволяют силы человека. Его, жена, дочь, даже малые дети его помогают ему в работе. Вы видели женщин, которые жнут на полях и сами на своих плечах приносят свои снопы для молотьбы. Вы видели девушек, которые с большой энергией очищают посевы от сорных трав. Вы видели детей, которые сидя на ярме, погоняют быков и помогают таким образом отцу в работе.
Да, этот народ не ленив, он трудится, он целый год не имеет отдыха — и все-таки он живет в нищете, в жалкой, горькой нищете.
Почему же это так?
Земля, на которой он живет, хотя некогда принадлежала его предкам, теперь сделалась собственностью чужих «ага». Он обрабатывает чужую землю… Условия же, который ага заключает с работником до того тягостны и невыгодны для последнего, что большая часть плодов его земледельческого труда попадает в руки помещика. Рабочему остается такая незначительная часть, что ею он не может удовлетворить даже свои первые потребности, без которых нельзя существовать.
Таковы и другие условия жизни крестьянина. Его хижина стоит на земле «аги», и за нее он платит налог. Его стада пасутся на пастбищах «аги», и он за это платит налог. Сам крестьянин, его семья — живут на земле, которой владеет ага, там они гуляют, пьют воду и, чтоб сберечь свою голову, опять-таки должны платить налог. Одним словом, у крестьянина кроме своих рабочих рук ничего нет: всей окружающей природой владеет ага и для того, чтобы работать среди этой природы, он должен жертвовать большей частью своего труда.
Вот, дорогие товарищи, в чем скрывается причина того, что наш народ, не находя себе пропитания на родной земле, беспрестанно переселяется и в чужих краях ищет счастья. Но возвращаются ли переселенцы? Нет. Вы знаете, сколько тысяч семейств осталось без мужчин, сколько тысяч домашних очагов угасло вследствие того, что мужчины погибли на чужбине. Мы, сидящие за этим столом, вышли из подобных же семейств. Большая часть из нас не имеет отца, матери, крова, родственников — все они погибли, исчезли без следа… Следовательно, нам понятна участь работников в этой стране, так как мы с самого детства испытываем всю эту горечь, потому что в груди каждого из нас еще остались неизлечимые раны, нанесенные грубой рукой притеснителей. Семья не могла дать нам, своим питомцам, такого воспитания, такого направления, чтобы мы сбросили с себя иго «аги» и освободились от его притеснений и эксплуатации. Она не в состоянии была научить нас истинным условиям жизни, при которых мы могли бы трудиться для себя, без того, чтоб плоды наших трудов отнимал у нас чужой. Семья не могла нам этого дать, потому что сама была порабощена и, что печальнее всего — рабство вошло в плоть и кровь народа. Он не протестует против насилия. Он думает, что бог его затем и создал, что он должен быть доволен своей судьбой, потому что даже единой буквы в своей судьбе он изменить не может… Школа, ученики которой собрались сегодня здесь, еще больше укрепила в нас рабство. Школа убила в нас всякое стремление к самодеятельности. Священник-учитель воспитал в нас слепое повиновение — покоряться и подчиняться всяким властям, как бы тягостно ни было налагаемое ими бремя. Потому что он и сам обращался с нами так, как говорил. Он говорил нам, что земная жизнь тщетна, и преходяща, и что чем горестнее она, чем больше в ней страданий, тем больше наград получит человек на том свете, который нас ждет, когда мы сойдем в могилу.
Но нашлась рука, которая вывела, похитила нас из нравственно и физически разлагающей нас школьной атмосферы. Она поставила нас на верный путь. Она научила нас тем условиям жизни, при которых человек может жить спокойно и обеспеченно. Она научила нас помогать также и тем, кто несчастен подобно нам, чтобы и их жизнь текла спокойно, чтоб и их пропитание было обеспечено. И мы посвятили себя делу народного благосостояния…
Выпьем же, братья, за здоровье того человека, который пробудил в нас этот дух, выпьем за успех того дела, которое является нашим священным обетом!..
Все чокнулись и выпили за здоровье охотника Аво при единодушных криках: «Да здравствует доброе дело!»…
Глава 19.
СОН
Снова запел он свою старую песню, подумал я, слушая речь Каро. Это те же его старые мечты об избавлении крестьян от бесправия и нищеты.
Цели Каро и его сторонников казались мне не только неосуществимыми, но просто плодом больного воображения, несбыточной мечтой, бредом. Разве можно дать крестьянину спокойную жизнь, избавить его от притеснений «аги», у которого такая могучая сила, который пользуется столькими привилегиями и преимуществами. И каким образом возможно оградить крестьянина-работника от притеснений и насилия со стороны «аги», когда нет закона, который ставил бы какие-либо преграды перед его произволом или сколько-нибудь ограничил бы его, когда даже указы правительства бессильны перед произволом помещиков — «ага». Я мог привести сотни примеров того, как указы правительства, изданные для блага народа не применялись. Тех, которые доставляли эти указы, ханы и беки принуждали есть эти самые указы или же били их и заставляли везти указ обратно, говоря им: «Поди и сообщи это все своему царю». И эти звери, которые пили народную кровь и не подчинялись никакой власти, всегда оставались безнаказанными.
Каро, полный фанатической веры и энергии, хотел вместе со своими самоотверженными товарищами изменить старое положение, произвести переворот, хотел разбить цепи рабства, которые ковались в течение веков. И посредством чего? Каким образом?..
Сам Каро, справедливо отметил в своей речи, что «рабство вошло в плоть и кровь народа», стало его второй натурой. А легко ли изменить природу человека? Легко ли вырвать из души народа то, что веками в нее внедрялось? Что пользы в том, что несколько энергичных личностей проснулись, поняли в чем благо народа и старались помочь его нужде, что пользы в этом, если все рвение этих
нескольких личностей должно было погибнуть бесплодно и бесследно исчезнуть среди всеобщего равнодушия и косности? Их слово будет гласом вопиющего в пустыне и их союз, как союз заключенный с жителями могил, не мог привести к каким-либо благим результатам. Каро и сам это хорошо понимал. Он знал, что масса находится в том состоянии, в каком находятся сумасшедшие или пьяные люди, которые купаются в грязи и не чувствуют этого, бьются головой о стены и не чувствуют боли, хотя и кровь сочится из ран. Они валяются на улицах и всякий малыш бьет их и толкает ногой, плюет на них, но они не чувствуют оскорбления и обиды — лежат себе спокойно и безмятежно. Каро знал все это. Он знал, что народу нечего есть, не во что одеваться, что он страдает физически, но терпит, выносит все это. Он знал, что народ страдает и нравственно, потому что нередко его дочери и сыновья становились жертвой страстей и прихотей помещика, но он терпел… Терпел, потому что позор и страдания свои он не считал чем-то выходящим из ряда явлением, а думал, что иначе и не может быть, так как ведь он подданный, а потому «ага» имеет право делать с ним все, что ему заблагорассудится… И вот, попробуй теперь, изменить, уничтожить вековой предрассудок! Что ты можешь сделать, когда масса сама не протестует против своих притеснителей и угнетателей, когда она с немой покорностью и терпением переносит все свои несчастья и бедствия, когда она, как верно заметил в своей речи Каро, все это приписывает предопределению свыше, считает это законом, утвержденным самим богом?..
Но неужели таковы были мои рассуждения в то время? Неужели так думал я тогда?.. Нет. Я и сам тогда не был свободен от тех предрассудков, которые владели народом, потому что я был истинным, верным сыном народа. Я смеялся над мечтами Каро, как и тогда, когда он только что ушел из школы отца Тодика и поступил в новую школу, школу охотника Аво, когда он стал последователем учения этого таинственного человека, происхождение и родина которого не были никому известны, человека, который живя под маской охотника, внушал этим горячим юношам новый дух и новые идеи.
За ужином было весело, но я не мог веселиться и поэтому был очень доволен, когда мои товарищи легли спать. Но сам я не мог заснуть, вышел из шалаша и стал бродить в ночной темноте. Тысячи неясных мыслей томили меня. Бывали минуты, когда я готов был пойти и задушить спящих Аслана и Саго. Но скоро я отказывался от этой мысли, говоря себе: «Ведь они все забыли и все простили!». Да, они простили. Но мог ли я сам простить им такое неучтивое отношение к Маро? Моя голова была занята этими неясными мыслями, когда я наконец лег спать рядом со своими товарищами.
Луна постепенно поднялась из-за гор и своими серебристыми лучами осветила горы. Но прекрасная картина не произвела на меня никакого впечатления. Голова моя еще была полна этими темными мыслями, сердце мое томили тревога и досада. Не знаю, почему мной овладело вновь волнение, которое терзало меня. Вскоре мне стало так тяжело, что слезы полились из моих глаз и я стал горько рыдать.
Ночь я провел в каком-то лихорадочном бреду. Перед рассветом только мной овладела дремота, но и тогда я не успокоился, так как меня стал томить целый рой сновидений… Боже, чего только я не видел во сне! Мне снились ангелы и дьяволы, ад и рай, одним словом, тысячи радостных и грустных видений волновали мое сердце то радостью, то печалью и страхом… Когда я проснулся, все мои сны рассеялись как туман. Но одно сновидение запечатлелось в моей памяти, и я до сих пор его помню…
Мне снилось, будто река Сола разлилась как во время весеннего половодья. Волны ее подымались даже выше, чем во время весеннего разлива. Поток бешено бурлил, кипел и пенился. Он увивался, подобно страшному дракону. Его мутные волны уносили с собой все, что встречали по пути. На моих глазах они несли мебель, утварь, трупы людей, младенцев вместе с их люльками…
Господи, думал я, сколько домов разорено этим бушующим потоком, сколько семей уничтожено?.. Я видел, как несчастные жертвы бурных волн всплывали на поверхность воды и как их снова поглощали жадные волны. Иногда эти жертвы плыли совсем близко от берега — стоило протянуть руку и можно было бы их спасти, думал я во сне…
Я видел Каро, Аслана и Саго. Они были такие же маленькие, как в то время, когда мы вместе учились в школе, когда мы шли вместе собирать на дне высохшего потока вещи, выкопанные и принесенные его волнами из развалин Кеойна-Шаара. То не было сном. А теперь я видел моих товарищей в том же возрасте, и они показывали мне плывущих в волнах потока погибающих людей и говорили: «Гляди, Фархат, как погибают эти несчастные люди, давай спасать их!».
Когда я вновь посмотрел на бурно несущиеся волны, я увидел там несколько знакомых мне лиц — Марию, Магдалину, моею отца, мою мать. В глазах у меня потемнело, я бросился, чтоб спасти их, но в этот миг рыхлый берег провалился, и я полетел в пучину вод… Как легкую перинку носили меня волны. То я погружался в глубину, то вновь всплывал на поверхность. Я вновь видел милых, дорогих мне людей с бледными от ужаса лицами… Я пытался приблизиться к берегу и выбраться из воды, но это было невозможно. Силы мои слабели, я уже тонул… Я звал Каро, Аслана, Саго, прося их спасти меня, но вдруг я увидел, что и их несут бурные воды потока…
Вдруг появились две женские фигуры, которые протягивали мне руки и пытались спасти меня. Одна из них была грустна и слезы лились из ее глаз, другая была радостна и глаза сверкали огнем. Мне казалось, что это два ангела, сошедших с неба… Вдруг я узнал их — одна из них была Соня, другая — Маро… Но тут я погрузился в воду и больше не всплывал на поверхность…
Когда я проснулся, около меня стоял Каро.
— Ты болен, Фархат, — сказал он взволнованным голосом. — На тебе лица нет! Ты говорил во сне ужасные вещи…
Я ответил, что сон мой был неспокоен, и я чувствую себя не совсем здоровым, что голова у меня сильно болит и во всем теле чувствую ломоту, словно меня били… Каро мне сказал, что они по «одному делу» отправятся в монастырь св. Варфоломея и оттуда вернутся на следующий день вечером. Он посоветовал мне остаться у старого охотника, прибавив при этом, что я вероятно простудился, кочуя под открытым небом. Он велел мне выпить чего-нибудь горячего, вспотеть хорошенько и сказал, что тогда я скоро поправлюсь. Когда они сели на коней, чтоб отправиться в путь, ко мне подошел Саго и глухо прошептал:
— Поди домой, счастливчик, там прелестная Маро исцелит тебя…
Глава 20.
ТРУД И ЗЕМЛЯ
Заря только что занималась, а Асо уже не было в шалаше. После отъезда товарищей я остался один. Что мне делать? Куда идти? — думал я. Пойду-ка домой, к старому моему другу, там «Маро меня исцелит…» Но нет, не пойду. Пускай Маро не узнает о моем нездоровье, у нее слишком мягкое сердце, пожалуй, еще заплачет… Пойду лучше немного погуляю, может быть свежий, горный воздух оживит меня.
Утренняя роса еще не высохла и ярко блестела под лучами восходящего солнца. Воздух был пропитан мягкой влажностью, которая освежала лицо. Дальние горы были еще окутаны легким покровом тумана.
Мое расслабленное тело немного освежилось и окрепло, хотя мной еще владело волнение. Я шёл безмолвно, погрузившись в размышления. Куда шел, я и сам не знал. Но что-то тянуло меня дальше от всякого человеческого жилья. Вчерашний сон не давал мне покоя. Я все еще был во власти ужасных картин, виденных мной во сне. Что значил этот страшный поток? Что значило бурное течение его волн, которые пенились и глухо ревели, которые несли столько несчастных жертв и в числе их дорогих моему сердцу людей?.. Наконец, что значило появление Сони и Маро и их попытки помочь мне, спасти меня? Разве от них зависело мое спасение, разве могли они меня спасти? Нет! Уже до их прихода я погружался в пучину волн, я уже был обречен, меня волны хоронили в холодной и сырой могиле…
Разве наша жизнь не была таким же сновидением? Разве нас не несло также течение жизни в своем бушующем потоке?..
Я шел по долине, где возделанные поля обещали обильную жатву. Всюду кругом кипела работа. Тут пашут, там сеют, а там дальше пасутся стада. Все в движении, всюду жизнь, всюду труд!.. Да, «не ленив этот народ», вспомнил я слова Каро. И вот такой народ так несчастен!..
Вдруг до меня донеслись звуки песни, которые сладко различались в свежем утреннем воздухе… Ясно и отчетливо слышал я слова песни:
Вот и солнце уж взошло,
День и светел, и погож,
Ну, тяните же соху,
Мои милые волы.
Вспашем землю глубоко, —
Борозду за бороздой.
И посеем, и пожнем,
И пшеницу соберем…
Вот зима! А нам не страх!
Ждут, веселые нас дни
Есть и хлеб у нас и корм
Будем сыты мы всегда…
Потяните же волы
Вспашем землю поскорей.
Пусть не скажет мне сосед,
Что ленивы были вы!..
Пел эту песню, как оказалось, Асо, который неподалеку пахал. Я подошел к нему.
— Бог в помощь! — сказал я.
Асо принял мое приветствие и продолжал свою работу. Я спросил его, соответствует ли действительности то, что говорилось в его песне, действительно ли его положение таково, что он зимой будет обеспечен хлебом, а его скот кормом? Он ответил, что мы обыкновенно поем о том, чего нет и добавил, что лучше работать бесплодно, чем сидеть без дела, ибо безделье удел мертвых.
— Эта земля не помещичья, — сказал он.
— А чья же?
Он ответил, что эту пашню его отец купил у жены какого-то курда, которая сильно нуждалась и вынуждена была продать свою землю и поэтому за нее Асо не платит налог, она собственная и свободна от налогов. Когда я высказал мнение, что хорошо было бы, если б каждый крестьянин владел клочком земли, Асо ответил, что правда, это было бы хорошо, если б только позволили. Затем он добавил, что ведь у крестьян нет денег, чтоб купить землю, а если и покупают, то помещики начинают враждовать и притеснять их — то воды не дают для орошения, то подсылают своих людей, которые портят посевы, то поджигают стога жатвы, одним словом, делают все, чтобы отбить у крестьян охоту иметь собственную землю, и чтоб крестьянин вечно оставался при убеждении, что он без помощи и покровительства «ага»-помещика не в состоянии жить…
— Ты своими собственными глазами видишь, — продолжал Асо, — что у меня за поясом два пистолета, а к ярму привязано и ружье. Для чего все это? Ведь я здесь пашу и казалось бы на что оружие, с кем же я собираюсь воевать? Но оказывается, оружие нужно. Враг вечно стоит за нашей спиной. Того и гляди нагрянут курды с пиками и с пением «ло-ло». Того и гляди, вылетят из ущелья, отпрягут волов и айда, угонят. Все время надо зорко следить, ухо держать востро, а то не успеешь оглянуться, как волы исчезнут, и тогда поди да паши землю! Но пока со мной они, — он указал на пистолеты, — сам черт не угонит волов Асо!..
— Но ведь тоже может случиться и с теми работниками, которые пашут на помещика?
— Нет, брат, помещики сами грабят своих работников, но не позволяют, чтоб другие грабили их покорных рабов. Везде всякий зверь защищает свою добычу от других зверей…
— Безразлично кто грабит, сами или чужие. Ведь и в том, и в другом случае работник-крестьянин оказывается ограбленным.
— Нет, не безразлично. Ты, вероятно, знаешь, басню о курице, которая ежедневно несла своему хозяину по золотому яичку. Рабочий-земледелец является именно такой курицей для «ага»-помещика, поэтому этот последний его не убивает, чтоб сразу вынуть из живота его сокровище. Он оставляет его жить, чтоб тот нес ему золотые яички. А разбойники его не жалеют и думают сразу разбогатеть, поэтому они и не щадят жизни работника…
— В течение какого времени ты успеешь вспахать эту полосу земли? — спросил я, желая переменить тему разговора, который производил на меня гнетущее впечатление, так как я думал: чем же гарантирован крестьянин, если ему нужно всегда с оружием в руках защищать от нападений и свой скот, и плоды своего труда. Тем более, что, думал я, ведь не всякий крестьянин сын охотника Аво, умеющий обращаться с оружием и пользоваться им, что могут сделать те, у которых нет даже простого ножа?
Асо, видимо, не расслышал меня и мне пришлось повторить свой вопрос.
— Ежели бог поможет, то не трудно вспахать. Правее, Марал! — крикнул он красному волу. — Видишь, созвездие «Алуга» было там — он указал на небо — когда я начал сегодня пахать — и вот, как видишь, я вспахал порядочно. Благословен ранний труд, а то, когда солнце уже поднялось, не только грешного человека, но и бессловесное и неразумное животное не следует заставлять трудиться. Солнце прямо жжет, дышать невозможно. Ну, Джейран, чего ты дохнешь! — обратился он на этот раз к серому волу.
И его волы словно понимали указания своего хозяина — так они разумно вели себя. Но, видимо, Асо хотел избавиться от меня, так как я отрывал его от дела своими расспросами, и он сказал;
— Ты любишь свежие огурцы, Фархат? Если любишь, поди вон там, в траве я спрятал несколько огурцов, чтоб сохранить их холодными. Возьми их и покушай. Это хорошо действует на сердце. Если у тебя нет ножа, то на, мой, бери и иди…
Я поблагодарил его, сказав, что не имею привычки натощак есть фрукты, и простившись с этим трудолюбивым работником, удалился.
Вспомнились мне слова Асо: «Лучше бесплодно трудиться, чем оставаться без дела, так как безделье удел мертвецов». И снова я погрузился в думы. Тогда я не понял значения этих слов, по теперь стал понимать. Труд, как он ни был невыгоден, все же в конце концов вознаградит человека, принесет ему пользу, труду принадлежит главное — будущее. А безделье, на самом деле — смерть. Как бы напрасно не проливал свой пот работник, каким бы отчаянным ни было его положение, он ведь все же действует, он борется с препятствиями, которые мешают его существованию, в нем не умирает сила самосохранения. И в этой борьбе на жизнь и на смерть он готовит себя для того боя, когда воцарятся право и справедливость, когда он избавится от притеснений и эксплуатации «ага»-помещиков. Тогда настанет царство рабочего человека, того самого человека, который имеет дело с верной и чистой природой, который не хочет добывать себе пропитание посредством эксплуатации труда других, таких же, как он сам, людей…
Да, эта истина тогда была еще непонятна мне. Только я, я один был без дела среди этих огромных пространств, где все были заняты трудом. Кто ввел меня в заблуждение, кто убил во мне влечение к труду? — спрашивал я. И вспомнил опять отца Тодика, который поучал своих учеников, говоря им: «Человек должен жить, как птицы небесные, которые не пашут, не сеют, не жнут, но всегда сыты, ибо бог доставляет им пищу». Эти слова он не из своей головы выдумал, их он взял из книги. И опираясь на них, отец Тодик развивал эту мысль дальше: «Не нужно, мол, заботиться о земной, о здешней жизни, потому что она преходяща». Он говорил далее, что господь заранее определил — что нужно каждому человеку, и он доставляет каждому человеку столько, сколько им предопределено. Одному он дает меньше, другому больше, но он не допустит, чтоб человек умер с голоду. От человека, говорил он, ничего не зависит, и как бы человек ни трудился, сколько бы он ни бился, он ни на волосок не может увеличить или уменьшить свою долю, которая предопределена для него самим богом.
Учение священника внушало мне беспечность и заставляло все свои надежды возлагать на бога и на его предопределение, а учение Асо, напротив, звало к деятельности и предлагало возлагать свои надежды на свои же рабочие руки, на свой труд. Кто же из них прав? — спрашивал я и приходил к заключению, что прав священник, так как я видел как люди работают без конца, из кожи лезут, а все же остаются бедными. Видимо, думал я, им так суждено свыше, им предопределена бедность и нужда. А «ага», видимо, всегда останется помещиком и богатым, потому что он не пашет, не сеет, и не жнет, а стол его всегда богат и обилен.
Размышляя таким образом, я находил фантастическими цели, которые поставили себе Каро и его товарищи и мне было жалко, что они впали в такое заблуждение.
И я не один так думал. Так думал весь народ, потому что весь народ тоже был учеником таких же отцов Тодиков, как и я.
А Каро трудился для блага народа, который находился в тисках таких предрассудков!..
Глава 21.
ПРЕДСКАЗАНИЕ
Был знойный полдень. Солнце нещадно палило и тяжело было дышать. Расставшись с Асо, я шел по узкой тропинке, ведущей в ущелье, к роднику. Там, среди группы тенистых деревьев серебрилась вода. Я поспешил туда, чтоб немного освежиться и отдохнуть. Эти деревья были посвящены часовне, развалины которой еще продолжали служить предметом поклонения для благочестивого окрестного населения. Жалкие остатки часовни тесно прижались друг к другу и как бы прятались среди кустарника, а священные деревья величественно осеняли эти обломки старинного святилища своими широкими, тенистыми ветвями. К веткам деревьев привязаны были разноцветные куски материи. Моя бабушка давно уже объяснила мне значение таких деревьев. «Когда человек привяжет к ветке священного дерева кусочек от своего платья, то все его горести и болезни переходят на дерево…» У меня тоже много горестей и тяжелых мыслей, думал я, не привязать ли кусочек от своей одежды к дереву и тем облегчить себя от этой тяжести?.. Я вытянул из шва моего «архалука» нитку и дрожащей рукой привязал к ветке священного дерева…
— Этого недостаточно, — сказал мне кто-то.
Я был в ужасе. Гляжу — за деревом спряталась какая-то женщина. Сам дьявол во всей своей уродливой отвратительности не мог быть так страшен, как это мрачное существо.
— А если ты хочешь лучшего, то Сусанна даст тебе талисман, и тогда все пойдет как по маслу…
— Ах, это ты, Сусанна? — воскликнул я обрадованный — Что ты тут делаешь? Как ты меня испугала! Скажи-ка, Сусанна, ты «ее» видела или нет?
— Ты не Каро, — ответила старуха, не двигаясь с места. — Ты больше не обманешь Сусанну…
Она еще не забыла моей проделки у арабского минарета. И я, желая немного смягчить то впечатление, которое у нее осталось, сказал:
— Ты ведь знаешь, Сусанна, что я друг Каро, я его лучший друг. Он сам тебе это сказал, разве ты забыла?
— Сусанна этого не забыла, она это знает…
Я присел к таинственной старушке, которая под сенью этих священных деревьев казалась мне одним из тех сверхъестественных существ, которые постоянно меняют свой вид… И на самом деле, Сусанна сегодня была уже не такая, как в тот раз, когда я встретил ее среди развалин. Теперь она не казалась мне столь высохшей, уродливой и страшной, как тогда. Напротив, сегодня на ее потускневшем лице видны были следы былой красоты, которая увяла. На ее изнуренном лице сохранились еще следы былой привлекательности и ее черные глаза выражали глубокую печаль. Эти глаза служили зеркалом, в котором отражались все страдания ее измученного и скорбного сердца.
— Сусанна, ты встречала Каро после того дня? — спросил я, приветливо глядя на нее.
— Сегодня люди еще не успели сесть за обед, когда Сусанна встретила Каро.
— Какую же ты весть принесла ему о той девушке, которая в замке?..
— Этого ты не спрашивай. Сусанна тебе этого не скажет.
— Ведь ты знаешь, что Каро ничего не скрывает от меня.
— Пусть он сам и скажет тебе.
Мне стало ясно, что этой тайны у нее не вырвешь. Поэтому я бросил всякие расспросы. В эту самую минуту Сусанна приложила палец к губам и издала свист, похожий на посвист птиц. И тотчас же из-за кустов, которые были неподалеку, послышался такой же ответ. Не прошло и минуты, как оттуда выскочила маленькая девочка и, подбежав к Сусанне, прижалась к ее груди. Она обняла Сусанну своими загорелыми ручонками и стала ее нежно целовать.
Эта картина растрогала меня и вместе с тем пробудила во мне таинственные силы суеверия. Не является ли эта девочка одной из тех таинственных духов, через которых Сусанна приводит в исполнение свои колдовские замыслы? Эти мои мысли подкрепляло и то фантастическое, чарующее платье, которое было на этой девочке, и которое так шло к ее изящному телосложению и пленительной дикой красоте. Это была та же девочка, которую я уже видел один раз у развалин арабского минарета, где я впервые встретил Сусанну.
Увидев меня, она бросила Сусанну и с улыбкой на лице подбежала ко мне. Она держала себя как старая знакомая.
— Купи, господин, этот талисман, Гюбби сама, собственными руками его изготовила, — сказала она мне.
Она снова улыбнулась и глядела на меня своими черными блестящими глазами. В руке она держала, предлагая мне, четырехугольный кусочек агата. Это был талисман, украшенный различными письменами и рисунками. Таких талисманов я видел много. Женщины носят их на шее. Я дал единственную серебряную монету, которая была у меня и купил у маленькой колдуньи этот талисман. Она поклонилась мне и снова побежала к Сусанне.
— Гюбби, спой что-нибудь для господина, он ведь дал тебе больше, чем стоит твой талисман, — сказала старуха.
Девочка нисколько не стесняясь, смело запела какую-то песню на незнакомом мне языке. Я слов не понял, но ее свежий, чистый голос произвел на меня приятное впечатление. Когда кончила петь, она снова подбежала ко мне и сказала:
— Дай руку, Гюбби погадает для тебя, — и она схватила мою руку своими маленькими ручонками.
Я не отнимал руки. Она уселась рядом со мной. До сего дня я не могу забыть с какой таинственной серьезностью приступила маленькая гадальщица к своим предсказаниям, читая по линиям правой ладони мою судьбу. Ее слова были бессвязны, как у жрицы, но не были лишены известного содержания и смысла. Содержание ее слов сводилось к следующему:
— Путь твоей жизни тернист. На каждом шагу перед тобой расставлены сети. Ты будешь попадать в них и выходить оттуда, храбро побеждая все трудности и препятствия. Эта борьба будет длиться долго, до тех пор, пока твои черные волосы станут седыми. Тогда пробьет для тебя час мира и покоя. И тогда солнце твоей жизни, которое ныне покрыто черными тучами, взойдет во всей своей яркости…
Она на минуту остановилась, потом продолжала:
— Ты любишь двоих. Они обе прекрасны, как райские гурии. Они своим горячим сердцем нежно привязаны к тебе, но ни одна из них…
— Довольно, — прервал я ее, — я знаю, что ты скажешь…
Она с грустью посмотрела на меня и отпустила мою руку, по-видимому, обиделась на то, что я недостаточно серьезно отнесся к ее искусству.
— Гюбби, ведь ты для всех гадаешь также.
Она с достоинством ответила.
— Гюбби не лжет. Она говорит только то, что ей сообщает высший дух.
Как с маленькой гадальщицей, так и с Сусанной мы говорили по-персидски. Но по их правильному произношению я видел, что они не принадлежат к тем племенам «цыган», которых я видел в Персии. И тонкие их черты и цвет кожи, который не был особенно смуглым, и мягкость их характера, не лишенного присущей этим племенам живой страстности — все указывало на то, что они принадлежат к какому-то более благородному племени «цыган». Но меня удивляла маленькая гадальщица. Сусанна была слишком стара, для того, чтоб можно было ее принять за мать этой девочки. Но тогда кто же она? — думал я.
Я спросил у старухи. Но та не успела открыть рта, как Гюбби скороговоркой ответила мне.
— Гюбби внучка Сусанны. Гюбби несчастная девочка. Ее мать пропала. Гюбби ищет свою мать, и ее отец…
Тут старуха не дала ей договорить и на каком-то совершенно незнакомом мне языке сердито сказала ей что-то. Бедная девочка тотчас замолкла. Я не понял слов Сусанны, за исключением одного слова, произнесенного ею по-персидски — это слово означало: «Молчи!»…
По-видимому, неосторожность Гюбби сильно встревожила старуху. Она встала и на том же непонятном мне языке что-то пробормотала. Девочка тоже встала, и они ушли. Сусанна, уходя, и не взглянула на меня, но Гюбби, немного отойдя, обернулась ко мне, посмотрела на меня своими сверкающими глазами и с улыбкой помотала головой. Затем она продолжала путь вместе с таинственной старушкой. Через несколько минут они скрылись за ближайшими холмами.
«Гюбби несчастная девочка…». «Ее мать пропала». «Гюбби ищет свою маму и ее отец…». Кто ее отец? — думал я. Хитрая старушка не дала девочке договорить. Видимо, происхождение маленькой гадальщицы было связано с какой-то тайной, и она по неосторожности чуть было не выдала этой тайны. Поэтому-то Сусаннa так рассердилась на нее и потом поторопилась уйти от меня, опасаясь, что девочка по неосторожности еще что-нибудь скажет мне. Тут несомненно была тайна, которую надо было узнать. Но как узнать? Хитрая старушка исчезла, как привидение. Где еще можно будет ее встретить? А что означают ее частые встречи с Каро? Что общего у Каро с этой бродячей старухой? Видимо их связывает какое-то третье лицо — девушка из замка… Вот где главная тайна, — думал я, — но она покрыта непроницаемым мраком.
Образ маленькой ворожеи не покидал меня. В первый раз я встречал в жизни такое прелестное дитя. В ней было столько невинной смелости, столько неподдельного чувства! Я верил ее предсказаниям, верил тому, что «высший дух» именно таким чистым существам, и только им, и может открыть тайну грядущей судьбы людей. Вот, думал я, поистине верные дети природы, которые живут как небесные птицы: «не пашут, не сеют, не жнут».
Но и они нищие и живут подаянием, мелькнуло у меня в голове. И снова овладели мной черные мрачные мысли. Сердце снова охватила томительная тревога. Я лежал под сенью священных деревьев. Сон не заставил себя долго ждать и положил конец всем треволнениям моего сердца.
Глава 22.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Когда я проснулся, была уже ночь, тихая теплая весенняя ночь. В небесной вышине миллионы звезд горели словно бриллианты, и среди них тихо плыл задумчивый полумесяц.
Лежа на мягкой, свежей траве, я лениво переворачивался с одного бока на другой и прислушивался. Кругом царила тишина. Все отдыхало. Лишь тихий ручеек неустанно журчал, катя вдаль свои жемчужные струи. Ему нет ни отдыха, ни покоя. Нежный ночной ветерок коснулся моего лица и умчался вдаль. Казалось, он шепнул мне: «Вот видишь, и я не сплю». Я глядел в звездное небо. Как прекрасны божьи светила! Стал я искать среди них свою звезду, но долго не мог ее найти. Но вот две звездочки, которые мне знакомы. Я их много раз видел и нежно ласкал. Они всегда приветливо улыбались мне. Я узнаю вас, прекрасные звезды! Вы напоминаете мне грустные глаза Сони в тот миг, когда она открыла мне дверь моей тюрьмы и шепнула мне: «Беги, Фархат!». Но вот две другие звездочки. С какой гордостью и самоуверенностью сияют они. Как похожи они на глаза Маро, на пылающие ее глаза в тот миг, когда она стояла около меня с ружьем в руках и радостно мне улыбалась. Улыбалась в тот момент, когда я весь в крови стоял у мертвого кабана.
Люблю вас, прекрасные звезды!
Но вот примчалось облако и скрыло от меня прекрасные глаза Маро и Сони…
— Соня! Маро! — вздыхал я.
— Что? — послышалось мне.
Я быстро обернулся. Передо мной стояла какая-то тень. Я думал, что это ночное привидение и мне стало страшно.
— Это я, Фархат.
— Ах, Маро! — воскликнул я.
Представьте себе мою радость, радость юноши, охваченного пламенной страстью, когда он неожиданно находит свою возлюбленную вдали от людского жилья…
Маро села около меня, взяла мою руку и положила на свои колени. Она стала весело, как всегда, рассказывать, о том, как узнала от отца о моем нездоровья, как побежала к брату и там меня не нашла. От брата она не могла узнать, где я нахожусь. Она долго меня искала и лишь к вечеру встретила старуху-цыганку, которая ей и сказала, что я нахожусь здесь, у обломков старинной часовни.
— А ты знаешь эту старуху? — спросила я.
— Я ее встречала только два раза.
— А когда ты видела ее в первый раз?
— Года два тому назад. Тогда она была одета так же, как и теперь и с ней была та же девочка, которую я сегодня опять увидела с ней. Боже, какая прелестная девочка! Она такая хорошенькая, что я не удержалась, взяла да поцеловала. А ведь грех целовать некрещеных. Но она была так хороша, что я не удержалась…
— А где ты ее видела два года тому назад?
Маро, видя, что ее рассказ интересует меня, продолжала.
— Ее я видела в ущелье, у часовни. Она беседовала с Каро, но о чем, я не знаю, потому что я не понимала языка, на котором они говорили. Спустя несколько дней после этой встречи, Каро исчез из нашего дома. Мы не знали, куда он отправился. Долго мы не имели от него никаких вестей. С тех пор и старуха больше не показывалась. А когда появился Каро, появилась вновь старая цыганка, которая опять стала бродить в наших краях.
— А Саго и Аслан были тогда вместе с Каро?
— Нет, их тогда не было, но когда он появился после исчезновения, то вместе с ним появились и они — Аслан и Саго. Ведь всего две недели, как они появились.
— А ты сегодня не встречала Каро?
— Ведь я тебе уже говорила, что с утра я ищу тебя. Где только не искала? Ну как ты себя чувствуешь? Здоров ли? Ты целый день ничего не ел. Какой ты сумасбродный, Фархат!
— А Каро славный, не правда ли?..
— Да, он славный, но…
Она на минуту остановилась, а потом продолжала.
— Знаешь, Фархат, на днях Каро с товарищами должен отправиться в одно место, ты с ними не отправляйся.
— Почему же не отправляться?
— Так… не отправляйся… Я не могу тебе сказать. Папа убьет меня, если я скажу тебе… Но умоляю тебя, Фархат, не отправляйся ты с ними…
Глаза доброй Маро наполнились слезами. Она крепко прижалась к моей груди и долго умоляла, чтоб я не участвовал в предстоящем походе Каро и его товарищей. Но что это был за поход, какова была цель этого похода, я не знал, и скрытная Маро мне ничего не говорила об этом.
— Ах, Каро… нет у него сердца, — говорила она… Он зверь, а не человек… Ему ничего не стоит зарезать человека. Я не вру, Фархат, я это видела своими собственными глазами… Ах, будь ты подальше от этого человека, Фархат. Не разгневай его… у него нет бога… Для него не существует ни товарища ни друга — он неумолим…
Маро такими отрывочными фразами предостерегала меня и сама еле удерживала слезы. Но я не мог себе представить, чтоб Каро был таким диким и жестоким, как описывала его Маро. Не может быть зверем человек, который посвятил себя столь человеколюбивому делу, — думал я. Я хорошо знал Каро, я знал его с детства. Неужели он мог так измениться?..
— Нет, Маро, я не верю всему тому, что ты рассказываешь, — сказал я. — Не таков Каро. И я никогда не расстанусь с ним. Я всюду буду следовать за ним, куда бы он меня ни повел.
Маро
рассказала мне о том, как однажды ночью Каро убил одного из своих товарищей, молодого армянина из Индии, которого подозревал в том, что тот выдает его тайну. Она сказала мне, что даже может показать мне труп этого индийского армянина, так как убийство произошло всего несколько дней тому назад. Но она не решалась, видимо, говорить со мной более откровенно, т. к. боялась своего отца.
— Я буду всегда верен Каро и никогда не изменю ему.
— Да, милый, с ним нужно быть таким, — сказала Маро, успокаиваясь. — Ведь я не говорю, что он нехороший человек. Он нехорош с нехорошими, с теми, кто идет против него. Но его каменное сердце сразу смягчается, когда он встречает какого-нибудь бедного или несчастного человека. Сколько раз я видела, как он посещает хаты беднейших крестьян и помогает им деньгами. Он готов последний свой кусочек отдать другому, когда видит, что кто-нибудь нуждается…
— А каковы по-твоему Аслан и Саго?
— Аслан хороший, но Саго я не люблю, он нехороший. Ты знаешь, Фархат, однажды мы стояли с ним вдвоем и разговаривали и вдруг эта лиса — ведь он похож на лису, не правда ли — обнял меня и сказал: «Милая Маро, дай поцелую тебя!». Я отскочила от него и дала ему звонкую пощечину. Чуть было его косые глаза не ослепли!
— А если я скажу — дай поцеловать тебя, — мне тоже ты дашь пощечину? — спросил я.
Она ничего не ответила, только засмеялась.
Я склонился к ней и наши уста слились в долгом и жгучем поцелуе. Мы ничего не обещали друг другу — ни вечной любви, ни вечной верности. Мы ни о чем подобном не говорили. Но сердце своим тайным языком сказало сердцу все самое священное, самое божественное, все то, что лишь сердце способно понять.
— Ну пойдем, — сказала наконец Маро, очнувшись от глубокого восторга.
— Который час? — спросил я.
Она посмотрела на небо и ответила:
— Уже полночь.
Мы встали.
Мы шли по извилистой дороге. Я совершенно не помнил, как прошел по этому пути. Чтобы я делал, если бы Маро не нашла меня? Ведь я не только ночью, но и днем бы не нашел дороги в хутор Асо.
Маро шла прижавшись ко мне, волнуя меня своей близостью. Она без устали говорила, переходя с одной темы на другую. Говорила о том, как она горевала бы, если б ей не удалось найти меня и как она искала бы меня всю ночь, о том, что место, где я лежал, очень опасное, оно называется Ганли-Дара, что значит Кровавое ущелье, и что в этом месте нередко находят трупы убитых людей. Она радовалась, что со мной ничего не случилось. Кроме того, тут люди подвергаются опасности и со стороны зверей, особенно, если у них нет при себе оружия. Она упрекала меня за то, что я не был вооружен и говорила, что нужно всегда иметь при себе хоть пару пистолетов и кинжал.
— А как же ты не убоялась пойти сюда безоружной, — спросил я.
— Как же можно ночью ходить невооруженной, — ответила она, смеясь над моей наивностью и показала два пистолета, которые были у нее за поясом.
Если б был день, то Маро заметила бы, как я покраснел от стыда.
Глава 23.
ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА
Когда мы пришли, дома все спали. Дверь открыл Мхэ, который сообщил нам, что хозяина нет, и что мои товарищи еще не вернулись «с поездки». Видимо, их что-то задержало.
Асо был в поле. Все лето он проводил под открытым небом и лишь зимние холода заставляли его возвратиться домой. Маро накормила меня ужином, приготовила мне постель и, пожелав спокойной ночи, ушла спать.
Утром я проснулся поздно. Долгий сон укрепил меня и я чувствовал себя здоровым и бодрым. И в сердце было как-то веселее, чем прежде. Мир казался мне прекрасным и милым. Сердце горело любовью к той, которая любила меня.
«Прелестная Маро исцелит тебя», — вспомнились мне эти слова Саго. Он сказал правду, думал я, хотя и произнес он тогда эти слова с язвительной иронией.
Я снова опустил голову на подушку и стал глядеть на лучи, которые падали на постель. В этих лучах играли мириады пылинок, горящих разноцветными огнями. Вот что значит свет, подумал я, ведь вся эта комната представляет из себя море таких пылинок, но пылинок этих не видать в бесцветном воздухе, а между тем в этой тонкой полоске света как они ясно видны! А если бы был мрак, то я не видел бы ничего, даже и самых больших предметов. Ах, какая прекрасная вещь свет, который открывает глаза человеку и дает ему возможность видеть. То же самое бывает и в жизни. Когда царит умственный мрак, то люди не замечают даже самых крупных своих недостатков, даже не видят пути, по которому они идут. Не знают, куда он ведет и не замечают препятствий, которые их ожидают, о которые они спотыкаются и падают. Они ничего не видят и блуждают в темноте…
Эти размышления приводили меня к тому выводу, что дело, предпринятое Каро и его товарищами, кончится неудачей. Не может Каро, думал я, поставить на правильный путь народ, который коснеет во тьме, не может он направить его по иному пути. Нужно прежде всего рассеять тьму, которой окутан народ, и тогда он сам найдет свою дорогу…
— Но так ли? — думал я. Неужели эти истины почерпнул я из той полоски света, которая падала из окна моей спальни? Нет, я ничего не видел в этой полоске, кроме пылинок, которые скоро мне совсем надоели, и я перевернулся на другой бок, чтоб их больше не видеть. Тогда мое внимание привлекла парочка воробьев влетевших в мою комнату, сделав несколько кругов по пустой комнате, они сели рядышком и стали друг с другом любезничать. Но в эту самую минуту влетел другой воробей-самец, и подсел к возлюбленной первого воробья. Это возбудило ревность последнего, и бой начался. Два самца кинулись друг на друга, стали душить и щипать друг друга, а тем временем самка, воспользовавшись удобной минутой, вылетела в окно. Тут боровшиеся воробьи оставили друг друга и кинулись за самкой, которая послужила для них яблоком раздора.
— Разве не то же самое произошло между мной и Саго? — думал я. — Я размозжу его маленькую голову, если только он посмеет еще раз произнести имя Маро, — говорил я про себя. — Неужели я буду слабее этого воробья, который ценой собственной жизни защищает свою любовь.
В ту же минуту казалось, что до меня доносится какое-то глухое и горестное рыдание. Мне казалось, что я снова в школе, что отец Тодик опять поставил меня на колени на мелких кусочках кирпича, а из окна вижу Соню, которая обыкновенно сидела там под сенью деревьев. Голова у нее опущена на грудь, и она горько плачет. Почему она плачет? О ком она плачет? Почему она всегда плачет, когда ее отец бьет меня или наказывает? Бедная девушка! Как бы ты плакала, если б теперь видела меня!.. Так томился я в каком-то полусне. Вдруг услышал стук — словно что-то тяжелое упало на пол.
Я очнулся. У моей постели стоял богатырь Мхэ и что-то бормотал.
— Тысячу раз я просил, — говорил он, — не давайте, мол, бога ради, мне в руки легких вещей. Дали такую легкую штуку, что сам черт тут может смутиться и уронить. Стоит подышать на него, и он летит…
Мхэ уронил деревянный поднос, на котором нес мне завтрак. Ему казалось, что он рожден для того, чтобы таскать тяжелые вещи.
Мхэ хотел бросить все и уйти, но тут вошла Маро.
— Фу, косолапый! Что это ты сделал? — с досадой говорила она смущенному Мхэ. — Когда же ты научишься чему-нибудь?
— Никогда! — грубо и сердито бросил Мхэ. — Никогда не научусь я этим дьявольским делам. Это не наше дело, это дело женское. Наше дело не такое. Вот положила бы мне на спину мешок с пшеницей — понес бы на мельницу и ни одного зернышка бы не уронил наземь, или заставила бы вытащить телегу из грязи — это я понимаю, это дело наше. А то, поручила мне какое-то дьявольское дело — вот еще, стану я заниматься этим!
— Ну ладно, ладно, не серчай, Мхэ, бог с тобой. Я и не думала бранить тебя, — успокаивала его Маро. — Ведь ты знаешь, что Хатун ушла из дому, вот почему я побеспокоила тебя…
— Это другое дело, — сказал Мхэ и вышел из комнаты. Маро начала смеяться и рассказывать мне о характере и привычках Мхэ.
— Удивительная привычка у этого животного! Если ему сказать: Мхэ, ты знаешь, что такого-то человека надо убить — он тотчас убьет. Ты только скажи ему: «Мхэ такому-то человеку надо залепить пощечину» — и он тотчас же исполнит твое желание. Он все сделает, если ему при этом сказать: «ты ведь знаешь, Мхэ». Но дело должно быть достаточно трудным и тяжелым. Легких дел он не любит.
— При получении своего месячного жалованья он просит, — рассказывала Маро, — давать ему не серебро и не золото, — а только медь. Он не любит легких и мелких монет — подавай ему медяшки, и тогда он доволен, если даже вместо каждой золотой или серебряной монетки дать ему одну большую медяшку. У дикого и верного Мхэ была своя особая ласковость и своеобразная доброта. Он бил свою жену, если та обидела ребенка и заставила его плакать, но бил и ребенка за то, что тот рассердил мать. Он единственный человек, который любит волов Асо так же как и их хозяин — сам Асо. Потому-то Асо был им очень доволен и всю власть в хлеве передал ему. И Мхэ со своей семьей там в хлеву и поселился.
Кроме Мхэ у старого охотника служила также старуха Хатун. Ее 15-летней девочкой охотник купил у каджарских сарвазов
[8], когда те, в числе многих других армянок и ее увели в плен из Васпуракана. После этого охотник даровал ей свободу и предложил вернуться на родину, но Хатун не пожелала уйти из того дома, где ее так любили и уважали. Кроме того она узнала, что на родине никого из ее родных не осталось — большая часть их в эти годы гонения и плена были перебиты персами или погибли от холеры.
Маро с детства была сиротой и добрая Хатун заменила ей мать. Она с подлинно материнской заботливостью ухаживала за девочкой. Но Маро, находясь больше под влиянием отца, чем Хатун, не усвоила духа ее воспитания, которое было проникнуто горячей религиозностью. «Я охотник, — говаривал Аво, — и моя дочь, если она и не станет таким же как я охотником, то должна по крайней мере любить кровь и оружие». По этой же причине между Маро и Хатун издавна существовало глухое противоречие. Маро часто посмеивалась над фанатично-религиозной Хатун, которая все свои деньги отдавала попам и постилась сверх установленных дней. Перед праздником святого Саргиса она три дня ничего не ела и не пила. Казалось, что после пленения осталась в ее душе какая-то тяжесть, какой-то грех, который она старалась искупить через попов и религию.
Жену Асо я видел только несколько раз, но она ходила с закрытым лицом и, следуя обычаю своей родины, не разговаривала со мной. Она вообще показывалась редко, так как все время была занята своими детьми, число которых было огромно. По счастливой случайности девушкам обычай разрешал ходить с открытым лицом, без покрывала, а то я бы и не увидел лица Маро.
Особенно бросалось в глаза то, что старый охотник тут не казался таким бедным, каким он казался, когда он жил в Салмасте. У него было больше ста овец, десять коров, его соха работала на собственной земле, его дом был полон всяким добром.
Это все было заработано мозолистыми руками Асо. «Работник только тогда может быть сытым, когда он проливает пот на собственной своей земле», — говаривал старый охотник.
Как я уже говорил, охотник пользовался большим почетом среди населения Ахбака. Он всюду вносил дух миролюбия. Одним своим словом он разрешал самые запутанные споры и ссоры среди крестьян, которые смотрели на него как на своего главу и патриарха. Хотя Аво и получил официально титул «мира» и считался главой или представителем местных армян, имея свое место в «меджлисе» шейхов, однако он сохранил свое простое и сердечное отношение к простонародью. При сношениях с простым народом он ни в чем не выказывал того, что он официальное лицо, что он выше простых людей и смотрел на народ так, как отец смотрит на своих детей. Он даже не оставил своих старых привычек и прежнего своего ремесла. По нескольку раз в неделю он отправлялся на охоту, и это он делал не ради забавы, а как бы воздавая должное уважение своему ремеслу.
Аво и в этом краю, как и в Салмасте, был переселенцем. Почему он покинул свой родной край? Где его родина? Это было тайной его семьи, которая никому ее не открывала. И когда спрашивали старого охотника о его прошлом и о его родине, то его доброе лицо хмурилось и омрачалось печалью. Видимо, прошлое было связано с печальными, неприятными и может быть страшными воспоминаниями, которые терзали сердце этого несчастного человека.
Глава 24.
МАЛЕНЬКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Старый охотник вернулся на следующий день вечером. Каро и его товарищей не было с ним. Он сказал, что неожиданное обстоятельство задержало Каро и его товарищей и они не могли поехать по тому делу, из-за которого они думали куда-то поехать. Какое дело? Куда должны были поехать? Об этом старик-охотник ничего не сообщил. Я попросил его рассказать в чем дело, но он, сославшись на усталость, попросил сперва поесть, обещав после ужина все рассказать. Маро мигом исполнила желание своего отца. Я был сыт и не ужинал. Я глядел на Маро, которая сидела около отца и неустанно вязала, рассказывая охотнику о том, как и в каком положении она нашла меня у часовни, о том как у нее тогда мелькнуло в голове прикинуться разбойником и ограбить меня, пользуясь тем, что я спал, так что она могла связать мне руки и ноги. И тогда она могла бы похвастать своей ловкостью и пристыдить меня перед Каро и товарищами. Хотя мне не особенно приятно было слушать все, это, однако я не мог удержаться от смеха, когда она едко насмехалась надо мной или острила на мой счет.
Охотник добродушно улыбался, гладя свою дочь по головке и говоря: «Маленькая ты моя разбойница». Маро, наклонилась ко мне и шепнула:
— Ведь ты не сердишься, Фархат?
После ужина охотник стал веселее, чем до ужина и даже веселее обыкновенного и, дымя своей трубкой, долго рассказывал о событии этого дня.
Событие заключалось в следующем.
Отряд Каро с охотником во главе ехал в монастырь св. Варфоломея, где он должен был устроить с настоятелем монастыря совещание по поводу каких-то «важных дел». Они проезжали через горы Асбастана, где паслись стада какого-то армянского селения, которое было расположено неподалеку от этого места. Вдруг они услышали крики и шум, а затем увидели бегущих к ним раненых, окровавленных пастухов, которые им сообщили об угоне стада курдами и просили о помощи. Каро со своими товарищами поспешил туда, куда, по указанию пастухов, угнали стадо курды. По пути они встретили крестьян, которые возвращались с поисков своего стада, потеряв всякую надежду найти и вернуть его. Крестьяне сообщили Каро и его товарищам, что уже нет надежды вернуть стадо, т. к. разбойники угнали его уже за горы, а там их уже нельзя преследовать, потому что там их территория, которая совершенно неприступна. Каро, уже осведомленный о том, когда было угнано стадо, успокоил крестьян, говоря, что разбойники не могли угнать стадо так далеко, как думают они, и что поэтому есть надежда догнать их и отбить у них стадо. При этом он говорил им, что хорошо знаком с этой местностью и знает кратчайшие пути. Он уговаривал их отправиться вместе с ним и его товарищами на поиски стада. Такие случаи угона не были редким явлением для крестьян этого края, но несмотря на это, они не соглашались последовать за Каро и печально вернулись к себе домой.
— Я не виню разбойников, — с огорчением сказал Каро крестьянам, — они верны своему ремеслу. Я виню вас в том, что вы не умеете защищать свое добро. Правду говорят курды, что даже слепая курица мужественнее армянина.
А затем он обратился к своим товарищам и сказал:
— Товарищи, отправимся мы и покажем курдам, что не все армяне таковы, как думают о них курды.
Каро объяснил своим товарищам, что курды-разбойники прежде чем попасть к себе, должны пройти через ущелье. Стадо овец не может двигаться быстро, поэтому разбойники, раньше чем в полдень, не пройдут это ущелье. А до полудня времени еще много, можно их догнать, если проехать прямым, кратчайшим путем. «К этому ущелью, — говорил Каро, — мы прибудем за час до полудня и можем преградить разбойникам путь у узкого выхода из ущелья. Таким образом разбойники попадут в ловушку».
И, действительно, путь, указанный Каро, оказался короче, хотя вел по труднопроходимым и опасным местам. По этому пути трудно было ехать верхом, поэтому разбойники со своей добычей и не попытались проехать тут.
В назначенный час Каро с товарищами был у узкого выхода из ущелья. Ворота ущелья казались так тесны, что всадникам через него можно было проехать лишь поодиночке. С одной стороны прохода возвышался отвесный утес, а с другой была пропасть. Достаточно было одного неверного шага, чтоб поскользнуться и полететь в бездну.
Разбойники числом пятьдесят человек благополучно добрались до этого места. Каро разделил отряд на две части. Он сам с Асланом занял вход в ущелье, а старый охотник с Саго заняли выход из него. Каро велел своим товарищам никого из разбойников не убивать, а только запугать, чтоб те бросили стадо и убежали. Если убить кого-нибудь из них, они будут мстить несчастным крестьянам.
Вышло как раз так, как хотел Каро.
Он из засады приказал главарю разбойников оставить стадо и уйти восвояси, если они дорожат своей головой. Главарь дал на заявление Каро ответ, полный пренебрежения и велел своим гнать стадо.
Каро снова обратился к нему и заявил, что он пока что пощадит надменную голову главаря разбойников и будет метить в его шапку. В то же мгновение раздался выстрел и шапка главаря разбойников слетела с его головы.
Но главарь разбойников продолжал упорствовать.
Каро в третий раз обратился к нему, заявив, что, видимо, господин главарь разбойников не дорожит своей шапкой, но что Каро снова готов пощадить его и на этот раз прицелится в правое ухо его коня. Раздался выстрел, и конь вождя разбойников упал вместе со своим хозяином. Примеру Каро последовали и его товарищи. Аслан прицелился в кнут одного из разбойников — и кнут вылетел из его рук, причем рука нисколько не пострадала. Саго прицелился и попал в коня одного из разбойников, а охотник Аво в пику другого.
Все попытки разбойников убить своих противников были тщетны, т. к. Каро и его товарищи скрывались за скалами, которые господствовали над ущельем. Бой длился уже около получаса, но разбойники не хотели сдаваться.
— Ребята, — велел тогда Каро, — попробуйте немного поцарапать этих молодцов…
И товарищи Каро стали целиться и попадать одному в ухо, другому в руку, третьему в ногу, пытаясь их ранить, но не смертельно.
Разбойники вынуждены были оставить свою добычу. Каро приказал им оставить также четырех коней, т. к. он и его товарищи пришли сюда пешком и устали. При этом он обещал вернуть коней, после того как стадо будет доставлено хозяевам. Он назначил место, где разбойники потом найдут своих коней. Разбойники приняли и это условие Каро.
Кроме того, Каро поставил условием, чтоб разбойники оставались на месте до тех пор, пока его товарищи выведут стадо из ущелья. И это условие также было принято разбойниками.
Каро и старый охотник остались охранять выход из ущелья, а Саго и Аслан сели на коней, оставленных разбойниками, и стали гнать стадо обратно. Когда стадо было угнано, достаточно далеко, Каро отпустил разбойников.
Стадо пригнали в деревню вечером, когда уже темнело. Крестьяне от радости потеряли голову и не знали даже как благодарить Каро и его товарищей. Они благословляли их имена, а женщины целовали их оружие…
Сколько ни просили они Каро и его товарищей остаться у них в деревне ночевать, Каро решительно отказался от этого, а только попросил коней, которые были взяты у разбойников, отвести в указанное им место.
Кончив свой рассказ, старый охотник добавил:
— Видишь, сын мой, иногда один человек стоит тысячу людей, а иногда тысяча людей не стоят одного. Вот и Аслан с Каро и Саго — люди, и те крестьяне — тоже люди, а между ними такая же разница, как между львом и кошкой. Армянский крестьянин, когда видит курда, то бежит и скрывается в своем доме, чтоб спасти хоть свою голову, а все свое добро, свой скот оставляет в поле и враг может грабить и увести. А Каро со своими товарищами отнимают стада обратно у разбойников и возвращают крестьянам. Ведь и те и другие — люди, и в жилах тех и других течет одинаковая кровь.
— Говорят, что виновато тут рабство, — продолжал охотник. — По кто же может отнять у человека его свободу, кто может сделать его рабом, если только сам человек этого не хочет, если он сам не обрек себя на столь печальное положение, если он сам не позволяет, чтоб сели на его шею? И это очень выгодно для насильника, он как раз этого и хочет. Да, человек сам подготовляет себя к рабству, и корень этого нужно искать в семье. Как только ребенок откроет глаза его связывают по рукам и ногам и кладут в колыбель — это начало рабства. Первые слова песни, которыми мать баюкает своего ребенка — это слова, расслабляющие дух, отнимающие энергию, убивающие волю и мысль, слова полные предрассудков. Это — первые уроки рабства. Затем ребенок начинает расти и чувствует на себе грубое насилие родителей — получая от них пощечины, слушая их угрозы, которые устрашают и отупляют, которые отнимают у него всю его силу. О школе я и не говорю, сын мой, т. к. ты сам испытал на себе ее пагубное влияние. Но еще большее зло представляет поп, который к тому же пользуется именем бога. Чем же виноват бедный крестьянин, когда его учат быть рабом? Каждый день он слышит от попа: «Если кто бьет тебя, перед тем ты покорствуй, если кто отнимает у тебя пальто, дай тому и рубашку, если кто ударяет тебя в левую щеку, поверни к нему правую, никогда не пользуйся мечом, потому что обнаживший меч от меча и погибнет, потому-то Христос, господь наш, отнял меч у Петра». Всего не перечислить! Тысячею таких глупостей заполняют голову бедного человека и из него выходит не человек, а «слепая курица», как говорят курды.
— А наши образованные говорят, что это воспитание и образование…
— Но курды, персы и турки, которые отнимают у нас наш хлеб, которые пьют нашу кровь, воспитываются совершенно иначе. В семье они воспитываются и растут так, как дикое дерево, которое свободно распространяет свой корни в недрах матери-земли и широко распускает свои ветви над ней. Ничто его не давит, ничто не мешает его росту. В школе они читают не «Четьи Минеи» и «Нарек» — они изучают историю героев своего народа, вдохновляются своей родной поэзией, которая посвящена главным образом деяниям и храбрости этих богатырей и героев. Даже их религия и религиозные книги полны поэзии, пропитанной воинственным духом. Потому что все; начиная с Мухаммеда и до халифов и имамов — все были воинами. Ты послушай, чему учит магометанский мулла: «Если кто побьет тебя, то и ты бей его, кто не из твоего стана — добро того ты безнаказанно можешь отнимать, борись с врагом и, если в борьбе будешь убит, то попадешь в рай, а если убьешь, опять попадешь в рай». Он говорит как раз противоположное тому, что говорит наш армянский поп.
— Мухаммед дал своему народу меч, а Христос — крест — вот в чем разница между нами и магометанами.
— Конечно, дурно проливать кровь и отнимать чужое добро, но не особенно приятно дозволять, чтоб проливали твою кровь и отнимали твое добро, обрекая твоих детей на голод. Весь мир представляет из себя огромное поле битвы, где сильный поглощает, уничтожает слабого, и всякий должен уметь беречь свою голову. Разве можно с волком быть агнцем. Нет, со зверем надо быть зверем, чтоб сохранить свою голову. Собака и та кусается, когда ее беспокоят, кошка и та царапается. Это оттого, что их родители и учителя не учили их терпению. А вот наши крестьяне сколько их ни угнетай, сколько ни притесняй, — все они терпят, потому что с детства их учили терпеть. Однако Каро и его товарищи — люди иного сорта. Они именно таковы, каким должен быть человеком. Они были круглыми сиротами, и поэтому их семья не испортила. От учителя-попа они ушли скоро, поэтому школа не успела убить в них живое детство. Попавши в иной круг, под влиянием хороших людей, среди бурь и треволнений жизни, у них выработался совершенно иной характер. Если бы хоть небольшая часть сынов армянского народа состояла из таких людей, то этот народ был бы счастлив…
— Армяне составляют большинство населения этого края. Но курды, которые по численности меньше армян, курды, будучи кочевниками, все же господствуют вад армянами, владеют ими. В чем же причина этого? А в том, что курд живой человек, а армянин — мертвый. Дело не в численности. Дело в мужестве. Что может сделать человек, у которого нет мужества? Сегодня я видел собственными глазами, как три молодца-армянина бились с более чем пятьюдесятью курдами и одолели их. Этих разбойников я знаю. Во главе их стоит Мурад-бек, который мог бы опустошить и ограбить целый край… А теперь послушай меня, сын мой, — обратился ко мне старый охотник: — «С волком тебе надо быть волком, с агнцем быть агнцем. Не склоняй своей головы и не покорствуй — а то много найдется охотников бить тебя. Будь милостив к слабейшим, но врага не щади. Утирай слезы несчастного, утешь его, если даже для этого понадобится отдать свою жизнь».
Во время длинной проповеди старого охотника я не столько слушал его, сколько смотрел на Маро. Меня всецело поглотило созерцание ее живого и выразительного лица. Видно было, что слова отца глубоко западают в ее сердце, подобно добрым семенам, которые попадают в разрыхленную землю. Ее глаза разгорались, тонкие губы дрожали, румянец исчез с ее лица и оно стало темно-желтым, как медь. Что же так взволновало сердце полудикой девушки? Неужели и ее терзало и томило несчастное положение армянского народа?..
Глава 25.
КУРДЫ И ТУРКИ
Учение старого охотника не было человеколюбивым, в нем было что-то дикое, не миролюбивое, но оно представляло из себя протест против существовавшего в его время варварства и эксплуатации. Человеку, подобному охотнику Аво, потерпевшему столько невзгод, столько тяжких ударов от рук насильников и притеснителей, не мог думать иначе. Сама жизнь, сама окружающая его обстановка, сами обстоятельства внушали ему жажду мести и ненависть ко всякой несправедливости и насилию, вырывающему у мирного земледельца его добро, лишающего его насущного хлеба, отнимающего даже его семейную честь.
Дом охотника Аво был расположен на том горном хребте, который служит естественной границей между Турцией и Персией. Обе стороны плоскогорья населены главным образом армянами. В персидской части плоскогорья находится область Адербейджана (Атропатена)
[9], разделенная на несколько мелких административных единиц, вроде уездов. В турецкой части плоскогорья лежат области Васпуракана, Тарона и Эрзерума со своими внутренними подразделениями. О каждой из этих областей я сообщу все, что я помню и все, что требуется для моего повествования.
Страшные были тогда времена!..
Это были те времена, когда Тарон и Васпуракан составляли часть Турции, но различные курдские племена, пользуясь слабостью государства султана, господствовали в этих двух областях Армении, простирающихся от юго-восточного берега Черного моря до границ Месопотамии и Персии.
Упомянутые области заключали в себе следующие уезды: Хакари, Баязет, Ахбак, Ван, Багеш (Битлис), Муш, Шатах, Сасун, Хизан, Мокский край, Чарсанджак, Кегу и др. Всеми этими уездами владели курды.
Кроме курдов, население здесь составляли армяне, сирийцы, евреи, турки, езиды и различные кочевые племена. Армяне составляли большинство населения. Для того, чтобы знать, каково было положение армян в эту пору, нужно сперва познакомиться с характером и политической организацией господствовавшего населения, именно курдов.
Курды разделялись на племена, главнейшими из которых являлись следующие: Мукури, Такури, Миланци, Айдаранли, Шави, Джалали, Раванд, Бильбаст, Мамекали, Артоши, Шикак, Архи, Езиды. Они все мало отличались друг от друга своим характером и обычаями. Говорили они все на различных диалектах мидийского языка. По религии они были магометанами-суннитами, за исключением езидов, которые поклонялись добрым и злым духам и домашнему очагу. Быть может, они представляли из себя остатки поклонников Аримана и Арамазда. Они сохранили некоторые обряды древних магов.
У курдов не было письмен и литературы. Только шейхи умели читать по-арабски и сообщали своему народу веления религии, сводившейся к нескольким простым и легким правилам, относящимся к античным обрядам. Единственное, что усваивал каждый курд из религии, это был намаз, которые он совершал механически — точно в определенные часы, совершенно не понимая, значения тех арабских слов, которые он произносил при совершении этого обряда. Кроме этого, курд знал имя великого пророка — Мухаммеда и первых халифов Омара, Османа, Абу-Бекра — и больше ничего.
Но среди курдов еще жива была устная народная поэзия. Источником этой поэзии является сама народная жизнь, поэтому ее дух и характер вполне соответствуют характеру и духу самой жизни народа. В ней господствуют пастушеские песни и героический эпос — первая как выразительница быта пастушеского племени, второй — как выразитель воинственного духа племени. Пастушеские песни грустны и меланхоличны и вполне созвучны с глухими звуками пастушеской свирели. А героический эпос полон огня, мужественности, гордости. Песни этого рода похожи на воинственные марши, которые звучат под аккомпанемент барабанов.
Ни одно более или менее значительное явление или событие в жизни курда не проходит бесследно. Народная песня увековечивает как мужество, так и трусость — восхваляя одно и понося другое. Если кто-нибудь трусливо притаился во время боя или убежал с поля битвы, то на следующий же день женщины и девушки слагают про него песню, полную едких насмешек и порицания. Песня делается достоянием всего племени — и все от мала до велика поют ее.
Шашка, пара пистолетов, щит и копье составляют как бы неотделимые части тела курда, а ружьем он пользуется в серьезных битвах. Перед его шатром всегда наготове стоит оседланный конь. Он верный друг курда и владелец его любит больше, чем своих сыновей. Курд под своим шатром гостеприимен как Авраам, но это нисколько не мешает ему безжалостно ограбить того же самого гостя, когда тот отъедет от его шатра на одну милю. Кровная месть у курдов как и у всех полудиких племен переходит от поколения к поколению. Убитый не может успокоиться в могиле до тех пор, пока взамен его крови не прольется кровь убийцы или его близкого родственника, и таким образом не совершится месть. Убийца может избавиться от мести лишь в том случае, если он отправится в дом своего врага, бросит свое оружие ему под ноги и попросит прощения. Но едва ли найдется курд, который унизится до этого.
Курд мстителен и злопамятен. Он до смерти не забудет обиды или оскорбления, если только не получил полного удовлетворения. Вместе с тем он часто горд и благороден. Он прекращает борьбу, если с противной стороны вмешиваются в бой женщины. Курд не унижает себя до того, чтобы сражаться со слабым полом, хотя жена курда на поле битвы так же мужественна и свирепа, как и ее муж. Считается позором, если вдова убитого или умершего курда вторично выйдет замуж. Она вечно должна оставаться вдовой, утешая себя тем, что ее супруг был «хорошим разбойником», не опорочил себя трусостью, никогда не повернул к врагу свою спину, любил свою жену так же, как любил своего арабского коня и его не соблазнила ни одна, даже самая красивая девушка племени. Мать рассказывает своим детям о деяниях их отца и учит следовать его примеру и еще больше прославить его имя.
Курд с детства учится управлять конем и владеть оружием, он постоянно упражняется, чтобы развить ловкость. Он считает доблестью воровство и похищение всего того, что нужно ему для жизни. Даже невесту себе он похищает. Брак считается счастливым тогда, когда жених похитит себе невесту из дома ее родителей. Женщина, вышедшая замуж таким образом, смотрит на своих подруг с гордостью.
Самой нерушимой клятвой курда является клятва «талахом». Он берет камень и кидает его, говоря: «Пусть мой талах» будет также откинут как я кинул этот камень, если только я сделаю то-то и то-то. «Талах» — это его брачный союз, который считается расторгнутым, если поклявшийся окажется клятвопреступником. Такую клятву берут с человека лишь тогда, когда требуется в каком-либо деле залог исключительной верности и преданности, Это случается, обыкновенно, когда дело касается вопроса, имеющего важное общественное значение.
Вольный сын природы, курд живет беспечно и просто, довольствуясь тем, что у него есть — своим скотом. Он пастух. У него нет постоянного местожительства. Его приют — шатер, который он ставит там, где находит пастбище для своего стада. Лишь зимние морозы гонят курда c гop в долину, где он как незваный гость находит приют у какого-нибудь армянина. Там он проводит зиму вместе со своим стадом, а весной опять уходит на лоно гор.
Пищей курду служат: молоко, сыр, простокваша, сливочное масло и сливки. До мяса своего скота он не дотрагивается. Вся одежда курда изготовлена из шерсти и шкур. Изготовляет ее его жена. Мужчина не вмешивается в хозяйство — он воин. Земледелие и ремесло курд считает низким занятием, он их презирает, считая, что ими может заниматься райя
[10]. Торговля у курдов сохранила свои патриархальные формы. Курд отдает примерно двадцать овец и покупает коня. Он меняет имеющееся у него масло, сыр, шерсть на муку земледельца или на то или иное орудие изготовленное ремесленником. Во всем этом он чрезвычайно наивен и прост. Во всякой торговле его обманывают. При всякой мене торговцы из армян или евреев надувают его и наживаются. Это происходит оттого, что в таких делах курду приходится пускать в ход не силу и оружие, а искусство и ум, которые у него чрезвычайно слабо развиты.
Курд не обманщик, он верен своему слову. Долг свой он платит честно и аккуратно. Для него одинаково священны как принцип уплаты того, что взято в долг, так и ограбление и присвоение чужого имущества. В первом случае — уплачивая долг, он оберегает свою честь и данное слово, во втором случае — право и справедливость. Потому что, по понятию курда, он не нарушает нисколько права и справедливости, когда отнимает что-нибудь силой меча через победу над владельцем отнимаемого имущества.
Сила и меч определяют справедливость и правоту курда или его противника.
Так поступает всякий разбойник. Так поступает и всякое общество, которое обладает тем же характером. Так поступает и целое государство, исполняющее роль разбойника… Считая, что сказанное достаточно характеризует курдов в их семейной жизни, переходим к характеристике их политической организации.
Племенами курдов управляют «эль-агаси», т. е. главы племени и шейхи.
Глава племени называемый «мир»-ом (т. е. господином), не избирается, а является наследственным патриархом племени. Все племя покорно подчиняется ему. Рука, меч, воля всякого курда из этого племени всегда готовы служить ему, беспрекословно исполняя его волю, если даже воля его ведет ко злу, если даже желание его — варварское. Глава племени является судьей, разрешающим всякие споры и тяжбы, он делит добычу между участниками грабежа или войны, он является вождем и предводителем племени в войне, он организует и отправляет отряды за добычей… Каждое утро глава племени принимает у себя в шатре выдающихся мужей племени, которые являются к нему в полном вооружении и получают от него приказания. Гостеприимный хозяин угощает своих гостей трубкой и чашкой горького кофе. Этот «салам» происходит каждое утро.
Шейхов назначает главный шейх — духовный глава. У шейхов есть свои муфтии и кази. Шейхи являются служителями религии и исполнителями религиозных обрядов, каковые суть — брак, обрезание и общественный намаз. В войне они участвуют в качестве воинов. Участвуют они также в грабежах как главы разбойничьих шаек. Однако, несмотря на это последнее обстоятельство, они пользуются сочувствием среди курдов, поскольку в них, как в сынах полудикого народа сильно религиозное чувство. Вся область Тарона и Васпуракана была поделена между различными племенами курдов. Во главе каждого мелкого деления также стоял свой глава и владетель.
«Райя» платил множество различных налогов: за пользование землей, за свой скот, за свое ремесло, за место своего жилища, за свою голову или душу, одним словом, за все, что необходимо для того, чтоб он мог жить. Для налогов не существовало каких-либо общих норм или меры. Размер налога определялся совестью взимающего. Те, которые имели право владеть «райей» и пользовались привилегиями брать налоги, назывались «хафирами» или «дарабейями». Это были влиятельные в племени дворяне. У главы племени есть, например, родственники — он им дает на житье одну или несколько деревень, доходами с которых они и должны жить. Эти и называются «хафирами», последние, в свою очередь имеют своих служащих, которым вместо жалованья отдают несколько семейств из числа имеющихся в их собственном владении. С этими семействами получающий их мог обращаться, как со своей собственностью, как со своими подданными. Таким образом, деление страны доходило до мельчайшей единицы — семьи. Как власть над делениями страны, так и право собственности, принадлежало главе страны и постепенно доходило до мельчайших делений. Но страна не была наследственным владением «ага-калифов». Она была завоевана силой оружии. Поэтому она переходила из рук одного владетеля в руки другого. И таким образом, никогда не прекращалась война между различными владетелями. Во время войны положение населения, как в случае победы, так и в случае поражения было ужасно. Например, если какое-либо племя задумало овладеть той или иной территорией, то это племя либо побеждало и овладевало территорией с населением, либо, если не побеждало, грабя все и убивая, отступало на свою территорию.
В таких случаях народ бросает все и ищет спасения в неприступных горах. Война длится долго. Враг угоняет стада, оставленные без присмотра, возделанные поля портятся, жатва пропадает и после войны наступает новый враг — голод.
Народ живет в постоянном страхе и отчаянии. Он не уверен в завтрашнем дне, потому что за его спиной стоит враг. Если попорчены его посевы — он уже лишен куска хлеба, потому что у него нет запасов на будущее, да где ему и думать о запасах, когда нужно спасать свою голову, а всякая лишняя тяжесть является обузой и помехой при бегстве. Благодаря войнам население переходит из рук одного владельца в руки другого, но этот переход никогда не обходится без жертв, которые уносят как огонь и меч, так и голод.
В случае, если прежний владелец края считает себя побежденным, он поджигает целые деревни и города, поджигает жатву, превращая весь край в пустыню, чтоб враг не мог воспользоваться всем этим добром. И только тогда он отступает из края, который принадлежал ему.
В таких случаях курд ничего не терял, т. к. все, что сжигалось, как например, дома или иные постройки, посевы и прочее имущество, принадлежало не ему, а армянам или иным оседлым народам, а курд жил тут как гость.
Так же варварски поступал и наступающий враг, когда он видел, что не в силах удержать в своих руках захваченную территорию и ему придется отступать. И он отступал с поля сражения, оставляя за собой пустыню и развалины.
Народ всегда находился в положении птицы, гнездо которой разорено злыми детьми. Он жил в вечной неуверенности и страхе за завтрашний день. У него не было уже охоты восстановлять разрушенные жилища, не было охоты сеять, ибо он не знал, доживет ли он до жатвы и воспользуется ли плодами своих трудов. Вся домашняя утварь и все орудия его обычно лежали под землей или в тайных подземных пещерах, скрытые там от врагов. Но не всегда, или вернее, редко удавалось скрывшему достать из-под земли свое имущество, т. к. он часто погибал во время войны и уносил с собой тайну скрытого имущества. Вот почему и до сих пор в Армении, копая землю, находят так много медных, железных вещей и женских украшений. Это все — имущество, которое было зарыто во время войн и нашествий, имущество, владельцы которого погибли.
Таково было в то время положение армян в Тароне и Васпуракане. Главное несчастье заключалось в том, что курды не являлись владетелями края. Все курдское население составляло конгломерат различных бродячих племен, которые, подобно, буре носились по земле, нигде не засиживаясь и уничтожая на своем пути все живое, все, что произвели ремесло и человеческий труд. У курда не было государственного тщеславия и ему непонятна была гордость завоевателя. Он смотрел на покоренные им народы так же, как смотрел он и на травы в горах, где паслись его стада. Народ доставлял все, что необходимо было ему, курду, а горы все, что было необходимо его стадам. И как не заботился он о траве, которой кормился его скот, так и о народе, который кормил его. Курд был уверен, что мир просторен и всюду открыто перед ним поприще, что всюду он найдет пастбище для своих стад, пока меч его остер, а рука сильна.
В областях Васпуракана и Тарона кроме внутренних смут, распрей и войн случались и нападения извне, со стороны внешних врагов. Нередко происходили нашествия со стороны персов, которые целыми ордами налетали на край. Результатом этих войн были массы погибших, уничтожение имущества, захват добычи и пленных, которых уводили в неволю. И в этих случаях страдало опять местное оседлое население, потому что курды, когда видели, что не могут сопротивляться врагу, бросали край и уходили в горы, ожидая, пока враг уйдет. Нередко случалось и так, что Оттоманское правительство посылало войска с целью умиротворить пограничные области, усмирить и покорить непокорных курдов. Турецкий аскер поступал так же варварски, как и персы, потому что турецкое владычество не укреплялось вовсе или устанавливалось лишь временно. И аскер, чтоб не вернуться домой с пустыми руками, грабил все, что встречал на своем пути.
Вот в каком положении были в те времена области Эрзерума, Баязета, Ахбака, Вана, Битлиса, Муша, Шатаха, Сасуна, Хизана, Чарсанчака, Кехуа и Мокский край — с многочисленным армянским населением.
Над ними господствовало какое-нибудь племя разбойников, у которого в руке блестел меч, под которым был быстрый конь, жилище которого составлял легкий шатер, родина которого была всюду, которому жатвой служило несчастное человечество, которому законом служила его воля, целью жизни которого было — уничтожение и разрушение и, наконец, двигающей силой которому служило его
железное сердце, дикая ярость и отвага зверя…
Глава 26.
ПЕРСЫ
Сказанного достаточно о Васпуракане и Тароне. Обратимся теперь к Адербейджану (Атропатену), т. е. к персидской части.
Я упомяну лишь те области Атропатены, которые населены армянами. Это следующие области: Салмаст, Хой, Маку, Гуней-истан, Маранд, Урми, Сулдуз, Совухбулах, Духарган, Марага, Табриз, Карадаг, Ардабил.
В этих областях, кроме армян, живут еще так называемые кизилбаши, которые составляют большинство населения, кроме того в этих областях тут и там рассеяны евреи, сирийцы, курды и цыгане. Господствовали здесь персы, которые тоже делились на различные племена: лаки, авшары, таты и разные «элаты» Карадага, которые мало отличались друг от друга по типу, говору и обычаям. Говорили на татарском языке, который много отличается от оттоманского турецкого языка. По религии они были магометанами-шиитами. Представителями религии являлись муллы — народ лицемерный, тщеславный и хитрый. Надев на себя маску благочестивых аскетов, они пользовались глубоким уважением со стороны народа, которому они внушили слепое суеверие и темный фанатизм. Среди мусульман предрассудки, касающиеся немусульманского населения доходили дб абсурда. Всякий народ, не исповедующий ислама, считался поганым, лишенным благ как этого, так и потустороннего мира, благ, которые созданы аллахом лишь для магометан-шиитов. Поэтому магометанин смотрел на иноверца не только с ненавистью, но считая грехом входить с ним в какие-либо близкие сношения. Магометанин не ел пищи приготовленной иноверцем, он не надевал на себя одежды, которую носил иноверец, он не пользовался в своем доме посудой, изготовленной руками иноверца, словом, он считал поганым все, что производилось иноверцами. Он считал поганым также и личность иноверца. Например, в дождливый день армянин, еврей или сириец не должны были касаться до магометанина своим мокрым платьем. Это считалось святотатством и совершивший его нес наказание. Все эти различия между магометанами и иноверцами не только подвергали этих последних преследованиям со стороны мусульман, но лишали их возможности пользоваться своим производством и наносили им экономический ущерб. В этом была главная причина бедности армян, сирийцев и евреев.
В руках мулл, кроме духовного руководства и наставления находилось также и применение шариата, т. е. отправление правосудия, завещанного богом через Магомета.
Всякое дело, как уголовное, так и гражданское, решалось ими. И тут также, как во всем прочем, иноверцы лишены многих прав, которыми пользуются магометане. Например, если шла тяжба между мусульманином и христианином, последний не мог в защиту своего права привести свидетелей из своих единоверцев, потому что свидетельское показание христианина считалось действительным лишь в том случае, когда это показание давалось в пользу магометанина, показание христианина против магометанина не имело силы. Таким образом, христианин должен был найти свидетелей в свою пользу из магометан, но ни один магометанин не согласился бы свидетельствовать в пользу христианина, ибо это он считал грехом. Итак, и в том и в другом случае христианин лишался права приводить свидетелей и поэтому не имел возможности выиграть дело в суде, где решения принимались в большинстве случаев на основании свидетельских показаний.
В качестве защитников в суде могли выступать лишь магометане. Но защитник магометанина не мог защищать христианина, если тяжба шла между христианином и магометанином. Христианин сам должен был говорить в свою защиту на суде, законы которого ему были совершенно незнакомы. Таким образом, и в этом случае он не имел возможности защищать свое право и проигрывал дело.
Я не хочу подробно останавливаться на том, как хитрый шариат ограничивает права тех, кто не исповедует ислама, как он лишает их всех моральных и материальных благ, отмечу лишь, что все это делается для того, чтоб привлечь иноверцев в лоно магометанства. Было обычным явлением похищение девушек и подростков и обращение их в магометанство. Но были и другие способы, которыми христиане привлекались в лоно магометанства.
Христианин, перешедший, в магометанство, получал от своих новых единоверцев довольно значительное пособие и сразу приобретал почет и уважение с их стороны. Помимо того, он получал возможность мстить тем из своих бывших единоверцев, с которыми почему-либо враждовал или против которых таил злобу. Вместе с тем он становился наследником всего имущества своих родственников. Так, если член какой-либо христианской семьи принимал магометанство, то он получал право завладеть всем имуществом, принадлежавшим его прежней семье. Подобные привилегии служили приманкой для многих недобросовестных христиан, которые ради них переходили в магометанство, особенно если у них была распря с родственниками или единоверцами-христианами. Такие случаи были весьма нередки.
Кроме всех этих преимуществ и благ, получаемых на этом свете, перешедший в магометанство приобретал особые преимущества и на том свете: семь поколений его потомков освобождались небесным судьей от ответственности за все свои грехи, как бы тяжки они ни были. Магометане открыто насмехались над религиозными обрядами христиан, изображая их в комическом или уродливом виде. Это было обычным явлением. Но они шли и дальше. Нередко ханы во время свадебного пиршества или иного празднества звали армянского священника, и ради забавы заставляли его служить обедню, либо совершить тот или иной христианский обряд. Я никогда не забуду одного случая, когда во время какого-то празднества хан, призвав армянского священника, велел снять с него облачение, в котором тот служил обыкновенно обедню, и надеть это облачение на собаку. При этом сам священник должен был кадить ладан перед этой собакой. Священник, конечно, отказался исполнить приказание хана. Но за это он был втиснут в мешок вместе с собакой, и его публично били палками. Вопли священника сливались с воем и визгом собаки и это забавляло безжалостных варваров.
У мусульман не было казарм для войска. И вот, во время войн казармами служили существовавшие при армянских монастырях комнаты для гостей. В этих комнатах и селились мусульмане-солдаты. А святой храм в виду своей просторности обращался в конюшню. Разумеется, при этом все что имелось в храме, грабилось. Часто храмы обращались в зимний хлев для скота. И кто из армян мог осмелиться этому воспрепятствовать? Кто мог молвить против этого хоть слово? Если бы таковой нашелся, то ему немедленно отрезали бы язык.
Запрещено было обновлять или перестраивать разрушавшиеся либо пришедшие в ветхость храмы и монастыри. Если в крыше открывалась щель, то ее нельзя было заделывать. Дождь лился через щель в храм до тех пор, пока священник или монах сам не починял крышу. Но днем этого они не могли делать, так как всякая починка, обновление, ремонт были запрещены и нарушитель закона строго карался, поэтому им приходилось делать это ночью, тайком. Запрещалась также постройка новых храмов и монастырей. Право на постройку нового храма можно было купить у местного князя за большую сумму. Колокольного звона не было слышно в этом краю, т. к. было запрещено звонить в колокола. Преследуя христиан, магометане не только притесняли религию, но они не щадили и семейной их чести. Я знаю сотни и тысячи примеров, когда жена или дочь армянина становились жертвой грязной похоти магометанина. Я не могу забыть случая, имевшего место в нашем городе. Посланные ханом люди требовали у одного армянина его дочь. Армянин долго умолял этих людей пощадить его и его дочь. Но они были неумолимы. Тогда армянин схватил нож и вонзил в сердце своей дочери, сказав: «Теперь берите этот труп и несите своему хану!». В тот же день у несчастного был сожжен дом, а сам он умер в тюрьме. Я знал девушку, которую в поле встретил сын хана и сказал: «Какие красивые у тебя глаза!». Когда на следующий день пришли, чтоб унести ее для ханского сына, то нашли ее слепой на оба глаза. Девушка сама ослепила себя, чтобы спасти свою честь. Но таких отцов и таких девушек было немного. Большинство подчинялось насилию и отдавало себя на поругание. Армянка, попавшая в гарем мусульманина, уже оттуда не выпускалась. Хан удовлетворив свою похоть, выдавал ее замуж за кого-либо из своих слуг, подобно тому, как свое старое платье дарил своим слугам в виде знака своей благосклонности, называя это «дарением халата».
Если кто-либо добровольно или подчиняясь насилию, принял мусульманство, то он уже никогда больше не мог вернуться к своей прежней религии. Если бы он сделал подобный шаг, то всякий магометанин имел право его убить, если же такой шаг сделала женщина, то ее сажали в тюрьму и мучили до тех пор, пока она вновь не примет магометанства.
У кизилбашей-турок не было своей национальной литературы, но у них процветала арабская и персидская письменность. Города и села полны мечетями, при каждой мечети имелась школа. Право преподавания было исключительной привилегией мулл. Светские люди не могли преподавать в школах. Поэтому учение носило чисто религиозный характер. Старое поколение было пропитано религиозным фанатизмом и нетерпимостью, а новое поколение следовало за ним, т. к. руководителями его являлись муллы. Этим и объясняется ревность мусульман в преследовании и притеснении иноверцев. Вместе с армянами этим преследованиям и притеснениям подвергались в равной мере и сирийцы, евреи и «цыгане».
Кроме мулл были также «сеиды», которые считались детьми великого пророка. Это ленивое сословие, которое ничем не занимается, живет десятиной, которую каждый магометанин обязан платить в их пользу. Никакой закон не может ограничить их насилия, потому что они как потомки законодателя-пророка считаются непогрешимыми. Не только христиане, но и сами магометане терпели от сеидов неслыханные притеснения и насилия. Земной суд не мог их судить: смертный не мог судить детей неба. И поэтому сеиды творили всякие бесчинства и всякое своеволие. У меня и теперь волосы дыбом становятся, когда вспоминаю, сколько ужасов творили они, сколько опустошений, насилий и злодейств совершили, сколько семей они сделали несчастными, сколько пролили невинной крови…
Атропатена — часть Персии, но благодаря господствовавшему там феодализму, весь край был раздроблен и поделен между отдельными владельцами — ханами, шахзадэ и прочими дворянами. Они все назывались «ага». Эти «ага» считались вассалами шаха. Но кроме «ага» имениями владели также великие муллы, как представители духовенства, а также сеиды, как потомки великого пророка. Вассалы иногда платили шаху часть своих доходов в виде дани и помогали ему во время войны. Но часто они восставали и не исполняли своих обязанностей. Нередко те же ханы, беки, шахзадэ вели войны между собой, нападая друг на друга, грабя, беря в плен и опустошая страну. Пленники представляли для них тоже товар, который они после войны возвращали их прежнему владельцу, получая за них выкуп. Эти войны между феодалами были постоянным явлением. Таким образом, все села были поделены между владетельными «ага»-помещиками. Иногда одно село принадлежало двум «ага». Но здесь отношение помещиков к крестьянам и формы управления были не такие, как в Васпуракане и Тароне, где господствовали курды. В Атропатене (Адербейджане) ага считался помещиком-землевладельцем. Земля, которую давал шах своим слугам, чтоб доходами с нее они кормились, стала переходить по наследству от поколения к поколению и наконец сделалась собственностью. Ага имел право заложить или продать свою землю, и вообще, пользоваться ею как хотел. Между тем, курды не были помещиками-землевладельцами. У них, если кто-нибудь из князей захватывал землю, то любой князь мог силой оружия отнять эту землю и обратить в свою собственность. И таким образом земля постоянно переходила из рук в руки.
Отношения помещика-«ага» к «райяту»-подданным и условия землепользования не везде были одинаковы. В каждом селе были свои особые условия и законы. В одном селе крестьяне платили десятину, в другом — пятую часть урожая, в третьем — третью часть, но были и такие деревни, где помещик-ага брал себе половину урожая. Встречались даже такие помещики, которые брали себе три четверти урожая и лишь одну четверть оставляли работнику-крестьянину. За домашних животных крестьянин должен был платить налог. От этого налога были свободны лишь те животные, которые работали в поле: волы, буйволы, кони. Не освобождался от налога и сам работник. Он был несчастнее своих волов. Налог платили и за домашнюю птицу. Из десяти кур крестьянин пять кур должен был отдавать землевладельцу. Помимо этого он отдавал помещику и несколько десятков яиц. Различных видов налога было так много, что долго было бы здесь перечислять их. Скажу лишь, что за всякий свой труд, за всякое занятие — было ли это ремесло, была ли торговля, было ли земледелие — за все крестьянин обязан был платить налог. И размер налогов в различных местах зависел от тех или иных личных качеств помещика. Но еще больше, чем прямые налоги, стесняло население косвенное обложение всякими пошлинами. Все продукты облагались, если только они выносились на рынок для продажи. Таким образом обложено было косвенным налогом все производство ремесленников и все сельскохозяйственное производство. Обложены были и все мелкие предприятия, например, красильни, винодельни, маслобойни, дубильни и т. д.
Кроме прямых и косвенных налогов, которые взимались в пользу помещика-«ага», существовали и общегосударственные подати и налоги, которые собирали представители центральной власти в провинции. На каждое селение была наложена определенная подать в пользу казны. Однако чиновники центральной власти не обращали внимания на это обстоятельство и взимали сколько заблагорассудится. Причиной этому служило то, что правительство отдавало упомянутым чиновникам на откуп сбор всех податей с провинций. Чиновники тоже, в свою очередь, передавали право сбора податей частным откупщикам и, таким образом, назначенное правительством количество податей росло неимоверно, ложась всей своей тяжестью на плечи крестьян и рабочих. Крестьянам приходилось платить много больше, чем было назначено центральным правительством.
Помещики-ага имели право судить крестьян и налагать на них наказания и штрафы. И при этом они руководствовались, конечно, не законом и не справедливостью, а личным произволом. А центральная власть, как бы она ни хотела, была бессильна ограничить сколько-нибудь произвол всех этих ханов, шахзадэ, беков, мулл и сеидов.
Вот в каком положении находилось тогда многочисленное крестьянское население областей Салмаста, Хоя, Маку, Гунейстана, Маранда, Урмии, Сулдуза, Совухбулака, Духаргана, Марага, Табриза, Карадага и Ардабиля.
Таким образом, жизнь населения в персидском Азербайджане (Атропатене) представляла полную противоположность жизни населения в турецких областях Васпуракана и Тарона. В персидской части края господствовали турки-кизилбаши и персы, а в турецкой части — курды. Персидские ага захватили землю и, обратив ее в свою собственность, выжимали плоды труда крестьян. Курды временно захватили землю и пользовались ею. Персы фанатично преследовали и притесняли всех иноверцев, не допуская существования какой бы то ни было иной религии, кроме магометанской, всячески стараясь крепче привязать свой народ к мечети. Курды, вольные сыны природы, еще не были заражены религиозным фанатизмом. Перс коварен, фальшив и лицемерен, он жалит подобно змее, ползая по земле, а курд — дик и героичен. Он подобно зверю не грешит против природы. Он действует без коварства. Он смотрит на свою жертву, как зверь на свою добычу. Перс подобно вечной засухе все иссушает и превращает землю в пустыню. Курд подобен бурному потоку, уносящему все, что встретится по пути, но после него земля вновь зеленеет и дает плоды. Один является хитрым эксплуататором, другой — великодушным разбойником. Но и от первого и от второго терпит несчастный крестьянин…
Каро объяснял мне все это и говорил, что судьба крестьянина улучшилась бы, если б общество было организовано по-другому. Тогда, говорил он, не будет зла, все люди станут добрыми, и жизнь всех будет обеспечена. Пройдет век «ага»-помещиков, и настанет царство права и справедливости. Он долго объяснял мне, как должно быть организовано общество, чтоб сильный не угнетал слабого, чтоб никто не мог отнимать у работника плоды его труда, и чтоб рабочий человек был всегда сыт, чтоб, наконец, воцарилось равенство…
Каро говорил мне и много иного, но я был тогда слишком глуп, не воспринимая всего, что он мне говорил и многое оспаривал. Я утверждал, что все происходит по воле бога, и что если бог пожелает, то сам он даст народу покой и благоденствие, сам направит его на правый путь. Видимо, говорил я, богу неугодно, чтоб народ избавился от этих несчастий, ибо эти невзгоды и несчастия — наказание за грехи.
Каро крайне печалили мои мысли и соображения. Но после я понял, что он был прав в своих суждениях. Да, я понял, но слишком поздно…
Глава 27.
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Что же, однако, связывало армянина с этой страной, где он, обливаясь потом и кровью, не пользовался безопасностью жизни, где его имущество не было обеспечено от хищений и грабежей, где нарушали его семейную честь, где подвергалась поруганию его религия и все, что было для него свято? Что же могло связывать армянина с этой страной? Любовь к родине.
Родина была полна множеством воспоминаний, которые говорили армянину: «Это твоя земля, на ней жили твои предки и здесь они умерли, тебе дóлжно умереть тут и смешать свой прах с их прахом».
В Васпуракане на огромных глыбах крепостной стены Вана и на утесах холмов армянин видел множество клинообразных надписей, которые целыми тысячелетиями боролись с разрушающей силой времени и, уцелев, сохранили память о древнейших армянских царях. В этих безмолвных знаках и письменах армянин читал о своем былом величии.
В той же стране армянин еще не забыл своих старых богов, с которыми он мирно жил в течение веков, которым приносил жертвы и у которых спрашивал совета и наставления.
Астхик, прекрасная богиня Аштишата, и теперь еще продолжала по своей старой привычке ранним утром купаться в волнах Евфрата. И в этот самый час молодые боги Армении собираются на Таронской горе, чтоб оттуда смотреть на прекрасное тело богини. Но Астхик окутывает все горы и долины Муша густым туманом, и этот туман, подобно тяжелой занавеси, скрывает ее купальню от любопытных взоров. В озере Аршака еще живы были русалки, и юноша-армянин в страстном томлении бродил лунной ночью у берегов озера, охотясь за «огненными девушками».
Древний бог Армении — старый Арег — огненный и сияющий в короне из золотых лучей, продолжал еще отдыхать в Ванском озере, на дне которого была его златотканная постель. Там нежные русалки сладостными песнями баюкали уставшего от дневного пути бога света и солнца. Там же на холмах Лезк жили аралезы, которые лизали раны героев-армян, павших на полях битв и воскрешали их. В этой самой стране, проходя через Айское ущелье (Армянское ущелье), армянин вспоминал своего родоначальника Айка и его борьбу с титанами. Он показывал своим сыновьям гору Немрут, куда наш предок Айк поднял труп убитого им Немврода. И чтобы показать своей стране надменную гордость этого титана, пригвоздил его труп к вершине горы и сжег его. И до сих пор еще стоят у подножия этой горы окаменевшие верблюды Немвродова каравана, те самые верблюды, которые везли на себе провиант для армии Немврода и, по повелению армянского бога, окаменели тут. И армянин всегда с гордостью вспоминает победу своего праотца, героя Айка. Он с гордостью думает о том, что он потомок такого великого человека, который происходил от богов.
В этой стране еще не высохли те четыре реки, которые вытекают из божьего рая. И глядя на цветущее поле Бингеола, армянин говорил своему сыну: «Вот здесь была обитель нашего праотца и нашей праматери». Он показывал сыну «деревья Каина», под которыми отдыхал первый земледелец. Он показывал «замок Гамеха», замок того храброго охотника, который убил осужденного первенца Адама. Он показывал поля, где первый пастух Авель пас свои стада, а в Маранде он находил могилу жены Ноя — Ноемзары.
Сын армянина видел, что со времен праотца и праматери он был неразлучен с землей, где жила первая пара людей, созданная богом.
Даже всемирный потоп не мог выгнать армянина из родной страны. Глядя на гору Гргур, он вспоминал о том, как Ноев ковчег, еле коснувшись ее вершины, проплыл к горе Сипан и попросил, чтоб она приняла его на свою вершину, но гора Сипан скромно ответила, что она самая младшая среди гор Армении и указала на своего старшего брата, на гиганта Арарата, сказав: «Иди к Масису
[11], он выше меня».
Вот какими воспоминаниями связан армянин со своей родиной, где сохранились в народе тысячелетние предания, предания языческих времен и напоминали ему легендарное прошлое.
Эти воспоминания хранили гиганты-горы, которые возникли вместе с самим временем и существовали, пока существовало само время. Эти воспоминания хранили великие реки и озера, которые жили неисчислимые века, с незапамятных времен. Наконец, эти воспоминания хранила душа народа, которая никогда не умирает.
Армянин не хотел покидать свою родину. Родина была его святыней. Там каждый камень, каждая руина напоминали eмy о его былом величии. Еще не исчезли обломки крепостей и замков, откуда вожди народа распространяли свою власть. Еще остались руины городов, в обломках которых жило искусство и ремесло армянина, которые повествовали о том, как спокойна была жизнь горожан и как процветала среди них наука. Еще не исчезли следы множества водопроводов, подземных труб, которые целой сетью были раскинуты по всем полям, проведенные через самые неприступные горы, указывая на то, как плодотворен был труд работников, как он тесно был связан с землей и природой.
А ныне там царит пустота и безлюдье…
Единственное, что хранилось нерушимо, как в сердце народа, так и на земле — это была религия и его памятники. Везде, даже в безлюдных глухих ущельях встречались величественные храмы и обители, куда в дни праздников стекалось множество народа и куда в обычное время не ступала нога богомольца.
Только благочестивая монастырская братия совершала ежедневно обычную службу. На холмах и в ущельях гор были рассеяны часовенки, в которых похоронены были останки того или иного отшельника. Среди недоступных утесов на склонах гор виднелись темные пещеры, куда удалялись отшельники от суеты мирской и где посвящали себя богу. Видимо, эти пещеры когда-то служили жилищем для первобытных людей и потом только превратились в кельи для отшельников. Немало было и тех памятников, которые называются «крестными камнями». Эти камни обыкновенно стояли на склонах гор, где отшельники во время притеснений или нашествий проливали кровь свою за веру. Народ благочестиво чтил их память и курил ладан перед их могилой. А церквам не было числа. Каждое селение, даже самое незначительное, где ютилось несколько жалких землянок, имело великолепную церковь. Эти церкви строились в древние времена, когда население этих селений было многочисленно и богато.
Я не запомнил названия всех монастырей этих областей, но названия некоторых из них я сохранил в своей памяти до сих пор. В области Маку находился монастырь апостола Фаддея, который по просьбе нашего царя Абгара был послан в Армению и здесь принял мученическую смерть. В той же области находился монастырь святого Степана-Предтечи. Тут же находятся исторические Артаз, Аварайр и Тигмут, и тут армянские герои доблестно бились с Яздигердом и его магами за веру и отечество. На Ванском озере, на острове находились пýстыни Лим, Ктуц и Ахтамар со своими суровыми и строгими монахами-аскетами. В Ахбаке находился монастырь апостола Варфоломея, который прибыл в Армению после Фаддея и также принял мученическую смерть.
Монастыри являлись не только средоточием религиозной жизни армян и хранилищем национальных святынь, но также и хранилищем памятников древнейшей письменности — пожелтевших от времени пергаментных рукописей.
В монастырях находились могилы великих армян. Так, в храме Аштишата, в Муше, были похоронены останки Саака Партева, останки того великого первосвященника, который так долго боролся с хитрой и коварной политикой Персидского двора и Византии и сумел сохранить шаткий в то время трон Аршакидов. В монастыре св. Лазаря или Апостолов находилась могила Моисея Хоренского, который ввел в Армению греческую науку и дал армянам историю их предков, подобно тому Моисею, который дал Израилю Ветхий Завет. В том же монастыре находилась могила «Непобедимого», философа Давида, товарища Хоренского, того Давида, который принес из Афин в Армению греческую письменность и научил армян философии и здравому мышлению. Там же находились могилы переводчиков Иоанна и Лазаря. В монастыре Востана в области Рштунийской находилась могила Елисея (Егише), певца, вдохновенно воспевшего мученическую смерть армян-героев, павших в поле Аварайра. В Нарекском монастыре находилась могила Григория Нарекского, книга которого для каждого армянина священна. В Духовом монастыре в провинции Андзевациац была могила Тиридата Великого, того могучего царя, который просветил Армению верой христианской. В Варагском монастыре близ Вана находится могила Сенекерима Арцруни. Там же были похоронены останки царицы Хошош и Петра Гедадарца. В Копском монастыре близ Муша находится могила блаженного Даниила, внука Григория, просветителя Армении. В монастыре Басенском или Асан-Калэ находится могила Григория Магистра. В Хекском монастыре, в Айоц-дзоре — находится могила Авраама-Исповедника. В монастыре св. Предтечи, в Тароне находятся могилы Мушега и Ваана-волка. В церкви села Ишханагам — могила Варда Патрика.
Были и такие монастыри и церкви, в которых хранились мощи святых, оправленные в золото и серебро. Так, в церкви св. Вардана, в Ване находился палец Вардана Мамиконяна. В монастыре св. Предтечи в Муше находились мощи св. Леонтия. В монастырях хранились и другие святыни. Например, в монастыре Востана хранился тот крест, который Саак Партев дал внуку своему Вардану, и этот христов воин и крестоносец снял с себя в поле Аварайра этот крест и передал его Елисею (Егише), говоря: «Оставляю тебе это на память, бери его, пусть рука перса не дотронется до него».
В церквях и монастырях было много мощей святых отшельников, апостолов, мучеников, отцов церкви. Все эти мощи были оправлены в золото и серебро и украшены драгоценными камнями. Хранились они в драгоценных коробочках. Если ко всему этому прибавить серебряные паникадила, дарохранилища, подсвечники, Евангелия в переплетах из серебра и прочую церковную утварь из благородного металла, то можно было сказать, что все богатства нации в то время были сосредоточены в монастырях и церквях. Эти богатства постоянно привлекали жадных грабителей мусульман и нередко монастырские ценности попадали в плен. Курды чтили захваченные ими святыни и не уничтожали их. Для курда святыня христианской церкви имела то же значение, что и различные талисманы, которые давал ему шейх и который он пришивал к правому рукаву, дабы обезопасить себя от вражеских пуль и мечей. И курд возвращал священную добычу, получив за нее большой выкуп. У персов и турок не было такого почтительного отношения к христианским святыням, и они безусловно уничтожили бы их, если бы видели, что золото и серебро, которое было в этих вещах стоит больше, чем тот выкуп, который они получат за эти вещи. Но выкуп, всегда представлял бóльшую ценность, чем вещь, за которую им платили. Я помню один такой случай. Правая рука апостола Варфоломея, которая находилась в Ахбакском монастыре, посвященном имени того же апостола, попала в руки персов. Народ уплатил в виде выкупа слиток золота, который весил в десять раз больше, чем эта рука. Женщины всей области лишились своих золотых украшений. Они несли настоятелю монастыря свои кольца, пояса, ожерелья, золотые головные уборы, чтоб спасти из рук неверных святую руку апостола, «защитницу нашей страны».
Я хорошо помню до сих пор эту огромную богатырскую руку. Десятикратный вес золота представлял непосильную тяжесть для народа, но последний жертвовал всем, лишь бы не лишиться своей святыни, ибо от этой святыни зависело его счастье и благоденствие, как на этом, так и на том свете, от нее зависело спасение его души и тела…
Во время засухи народ обращался к настоятелю монастыря, прося вынести святыню. И на обширных полях устраивался грандиозный крестный ход. Огромное множество народа, возглавляемое духовенством, медленно двигалось по полям, орошая их слезами, оглашая воздух грустным меланхолическим пением шаракана
[12], которым он вымаливал жалость неба, ища примирения с богом. Народ нес впереди священную руку, как заступницу, подобно тому как Израиль нес Ковчег завета.
Каждая святыня обладала особой чудотворной силой. Одна славилась тем, что исцеляла одержимых, другая тем, что исцеляла калек, третья — исцеляла от лихорадки и т. д. И народ с горячей верой обращался к святыням каждый раз, когда его поражал тот или иной недуг. Чудотворной силой обладали также и те или иные рукописные Евангелия и Нареки, писанные рукой того или иного святого. Эти пергаментные книги, украшенные красочными миниатюрами в драгоценных переплетах, обыкновенно тщательно обматывались в пестрые шелковые платки и хранились так, что были совершенно недоступны народу. Их мог открывать лишь настоятель монастыря и то очень редко, в самых крайних случаях, если нужно было прочитать главу Евангелия над больным, ради его исцеления.
Я считал Каро безбожником и нечестивцем, когда он говорил, что эти святыни загубили наш народ, что они всегда являлись орудием в руках корыстолюбивых монахов и наших врагов. Он говорил, что если бы имел возможность, уничтожил бы все эти святыни, потому что золото и серебро, которое в них заключалось, ему бы очень пригодилось…
Беззастенчивые слова Каро до того раздражали меня, что однажды я задумал вонзить кинжал ему в грудь, где не было страха божьего и уважения к церковным святыням. И только спустя много времени я понял свою ошибку и то, что он все эти богатства хотел употребить на великое и благое дело…
Хотя в монастырях и церквах и были тайные хранилища, где скрывали в минуты опасностей и смут эти богатства, однако очень часто настоятель монастыря или священники не выдержав пыток, которым их подвергали, выдавали тайну хранилища. Но бывали и такие, которые умирали от пыток, но тайны этой не открывали врагам.
И в самом деле, прав был Каро, говоря, что священные предметы служили орудием корыстолюбия монахов и священников. Не говоря уже о том, что монахи пользуясь этими святынями, выжимали из тощего народного кошелька немало серебра, часто народу приходилось выкупать эти святыни из плена. Часто случалось, что князь накладывал на тот или иной монастырь или храм штраф. Поводов и причин было много. Так, например, выдумывали, будто армянские священники украли мусульманского мальчика и выкрестили его, или подкидывали в монастырский двор труп, мусульманами же убитого мусульманина. Этого было достаточно, чтоб возбудить фанатизм и ярость магометанской черни. И, она начинала грабить армянские села, или же требовала уплаты огромной пени за убитого мусульманина. У народа наличных денег не оказывалось, и тут-то на сцену появлялся ростовщик, который ссужал деньгами за огромные проценты, тем более, что уплата обеспечивалась сокровищами монастыря. Ростовщик-еврей или магометанин великолепно знали, что если армянин заложил своего сына или дочь и не в состоянии уплатить долга, то может отказаться от своего сына и дочери, но что от церковной святыни он никогда не откажется и никогда ее не оставит в руках иноверца. Часто причиной смут являлось поведение самих настоятелей монастырей — монахов или викарных начальников. Некоторые из них подкупали тюркских или персидских князей и при их помощи отнимали у других монастыри и власть. Такие захваты обходились очень дорого. Настоятель или викарный закладывал святыни монастыря и занимал деньги на подкуп князя. Но затем долги, сделанные им, опять ложились на народ.
Я помню следующий случай. На одном из островов Ванского озера находилась обитель Ахтамара. Там сидели католикосы, из которых один сумел привлечь на свою сторону шатахских, а другой — сасунских полудиких армян-горцев. И они вели постоянную борьбу за католикосский престол. Таким образом, создались в народе две партии и смута привела к пролитию крови. Один из католикосов одержал верх, пользуясь поддержкой какого-то курдского князька. Поддержка обошлась ему в несколько десятков «кошелей» серебра, которые он занял, заложив священную утварь монастыря. Утвердившись на престоле, его святейшество пожелало освободить заложенное имущество монастыря и с этой целью послало во все концы края монахов-сборщиков. Один из старейших монахов говорил, что он сумеет из самого монастыря добыть нужную сумму на уплату долга, если только ему это позволит его святейшество. По его совету католикос созвал всю братию на обед. После обеда католикос велел запереть всех монахов в столовой, а сам отправился с обыском по кельям, отказавшихся от мирской суеты святых отцов. И действительно, в шкатулках монахов он нашел больше золота и серебра, чем требовалось для уплаты монастырского долга. Кто мог подумать, что эти святые отшельники, покинувшие мир с его соблазнами и суетой, не принимавшие в монастыре богомолок, носившие власяницы, ходившие босиком, питавшиеся только хлебом и солью, и боявшиеся серебра больше, чем дьявола, могли иметь в своих сундуках столько золота и серебра?
Старый монах, открывший эту тайну, был вознагражден: спустя несколько дней море выбросило на берег труп этого несчастного старика.
Несмотря на то, что в монастыре совершались такие преступления, благочестие народа не уменьшалось, и он продолжал также чтить святые места. Народ, которому нечего было есть, дети которого ходили в лохмотьях, одевал и кормил своих духовных отцов, служителей храмов, домов божьих, молитвами которых он сам жил, и которые служили посредниками между ним и небом… Народ уделял монахам их долю от всего, что он имел. Он давал им и масло, и сыр, отдавал свой труд, работая даром вместе со своими волами и своим плугом на монастырской земле, одним словом, он давал монахам больше, чем позволяли его скудные средства. Вот что связывало армянина с его родиной. Но Каро утверждал, что монахи такие же эксплуататоры, как и «ага»-помещики, курды и турки…
Это меня сердило.
Глава 28.
ПРИЗНАКИ ВИДНЫ
Старый охотник говорил об армянах с пренебрежительным сочувствием. Он считал армян нравственно и физически убитым, павшим, опустившимся народом. Это его мнение я считал правильным относительно армян, живших в Персии, а именно в области Адербейджана (Атропатена). Что же касается армян, живших в Турции, именно в областях Тарона и Васпуракана, то их я считал довольно живым и бодрым еще народом, сравнивая их с соотечественниками в Персии.
Это обстоятельство имело свои причины, которые коренились в местных условиях.
Области Адербейджана, за исключением горного, лесистого Карадага, представляли из себя равнину с теплым климатом. Земледелие, которое являлось единственным источником пропитания народа, крепко привязывало народ к земле и ставило их в полную зависимость от землевладельца «ага». Притеснение помещика-аги здесь было явлением длительным, постоянным, переходящим из поколения к поколению. В таком положении человек теряет свою свободу, а вместе с ней и живость ума и духа. Широкое поле, равнина приручает его, превращает его в оседлого жителя — миролюбивого и вместе с тем трусливого. Между тем как горы и леса сохраняют в человеке его первобытную дикость, а следовательно и его мужество, его стойкость.
Рабство возникло и развилось на равнинах, в теплом климате. Равнина делает человека податливым, мягким, уступчивым. А горный житель также прям и стоек, как и окружающие его высокие клинообразные утесы. Однообразная равнина не дает своему жителю возможность укрыться от притеснителя. Между тем как горы и леса всегда могут дать приют и укрыть.
Области Адербейджана (Атропатена) представляли из себя обширные долины, окруженные горными хребтами. Народ привязался к земле, твердо осел — у него были тут дома, сады, имущество. Поэтому как бы ни притесняли, как ни преследовали его, он не расставался с насиженным местом, с родной землей. Он терпеливо переносил все, т. к. не хотел покидать плодов своего многолетнего труда. Он был пригвожден к земле, подобно дому, который он построил, подобно деревьям, которые были посажены им, потому что с их существованием было тесно связано его существование. Хотя тут народ больше работал на помещика-ага, но эти последние оставляли работнику столько, чтоб он мог кое-как поддержать свое существование, чтоб он мог работать на них. Помещику-ага невыгодно было вовсе лишить жизни работника, точно также, как невыгодно ему убивать рабочий скот.
Адербейджанский армянин имел лишь земледельческие орудия. Об орудиях самозащиты, или убийства он и понятия не имел. Он боялся крови, также, как дьявола. Теплый климат ослабил его мозг, его жизненную силу. Равнина сделала из него добычу помещика, которая от него не могла убежать. А земледелие сохраняло в нем скотское тупоумие и терпение вола.
Тарон и Васпуракан представляют из себя более холодную и гористую страну. Долгая зима, беспрерывные дожди, в летнее время засуха не дают возможности жителям этих стран заниматься земледелием. Вся эта страна, за исключением южных берегов Ванского озера и пограничных с Ассирией южных частей края, представляла плоскогорье, где можно было заниматься лишь скотоводством. Поэтому главным занятием населения этих областей является скотоводство.
Армяне занимают главным образом те земли, на которых можно заниматься земледелием. Но одно земледелие тут не может их прокормить, поэтому они одновременно земледельцы и пастухи. Зиму они проводят в своих землянках, в селах, а остальное время в шатрах, на горах.
Этот полукочевой, полуоседлый образ жизни придал их характеру некоторую двойственность. С одной стороны, живя в подземных лачугах, похожих на подземные жилища пресмыкающихся, они приобрели коварство и мстительную злобу змеи: при первом удобном случае они готовы ужалить… С другой стороны, жизнь в пастушеских шатрах на горах у водопадов, под открытым небом, среди гигантских скал, придала их характеру черты присущие дикарям и зверям.
Пастушеская жизнь при всей своей патриархальной простоте отличается также дикой жестокостью. Оседлая жизнь земледельца-работника вместе с трудолюбием развивает в человеке малодушие и трусость.
Армянин являлся хотя и родным, но испорченным сыном родных гор. Курд был любимым приемышем этих гор. Армянин не был ни совершенным земледельцем, ни совершенным пастухом. Курд оставался верен своему ремеслу — он был пастухом душой и телом. Поэтому он и господствовал, властвовал.
Пастухи всегда властвуют, как над своими стадами, так и над ближайшими народами. Первые властители над людьми были пастухами. Наш родоначальник патриарх Айк тоже был храбрым пастухом. В Тароне и Васпуракане армянин является и пастухом и земледельцем. Он ведет полукочевой, полуоседлый образ жизни.
В своих селениях он живет в подземельях, землянках, подобно зверю, живущему в логове. В поле, на пашне он вооружен лопатой и косилкой, в горах он вооружен ружьем и саблей. Двойственная жизнь сообщила его характеру двуличие. Он являлся одновременно и покоренным народом со всем присущим этому последнему терпением, но одновременно он был и буйным мятежником, когда обстоятельства складывались благоприятно для этого.
Поэтому-то Каро и говорил, что от этого народа еще можно ждать чего-то, что народ этот еще не умер, что он когда-нибудь свергнет иго курда.
И его соображения не были неосновательны. В Шатахе, Сасуне и Мокском крае армяне, не отличавшиеся по укладу своей жизни от курдов, были совершенно независимы и самостоятельны. Очень часто они соединившись с курдами, грабили те или иные области. И удивительно то, что при этом они не щадили и своих единоверцев-сородичей. Сасунский армянин, раз обнаживши меч, не вложит в ножны, пока не омоет его кровью своего противника. Он с трудом обнажает меч, но обнажив, он уже не останавливается ни перед чем и действует решительно и беспощадно.
В этом краю, как я заметил, сердце каждого армянина подобно потухающему костру — стоит только немного раскопать пепел и тотчас появляются все новые и новые искры, немного бы пищи им, небольшое дуновение и пламя уже вспыхнет, огонь разгорится. Рана не так опасна, когда раненый чувствует боль — это признак жизни. Армяне в Тароне и Васпуракане не окончательно замерли. Они еще чувствовали в своем сердце раны, нанесенные грубой рукой деспотизма. Поэтому в их сердце всегда кипит яд мести. К этому побуждала их не столько любовь к родине, или самолюбие, сколько преследования, которым подвергались со стороны мусульман их религия и церковь. Армянин все вынесет, все вытерпит, но он не вынесет и не потерпит притеснений своей церкви, своей единственной святыни. Церковь — цель жизни армянина, его высший идеал. Каро хорошо знал слабую струнку армянина и его свидание с настоятелем монастыря апостола Варфоломея имело тайную цель. Я бы этого не знал, если бы случайно не пришлось мне осведомиться наполовину с его замыслами.
Как уже известно читателю, Каро вместе со своими товарищами отправился в монастырь апостола Варфоломея, обещая через несколько дней вернуться обратно. Но вот прошло уже больше недели, а от него не было никаких вестей. Старый охотник сильно беспокоился и не знал чему приписать это опоздание. Однажды ночью прибыл к нам человек, одетый по-курдски, и передал охотнику письмо. Я только тогда и узнал, что охотник грамотный человек. Узнав, что письмо прислал Каро, он с жадностью начал читать. Я сидел рядом с ним, но он ничего не сообщил мне о содержании письма и как бы забыл о моем существовании. Прочитав письмо, он велел Мхэ оседлать коня и приказал Маро принести ему его оружие. Все это в доме Аво было обычным явлением, поэтому Маро принесла оружие и даже, когда охотник сел на коня,
она не спросила отца, куда он едет. В это время старик, заметив меня, сказал:
— Я вернусь через несколько дней.
Посланный Каро отправился вместе с охотником.
Когда я вошел в комнату, Маро с обычной улыбкой на лице сказала мне:
— Опять мы остались одни…
Но я был так взволнован внезапным отъездом охотника, что ничего не ответил Маро. Она, видимо, обиделась на мою холодность и сморщив лицо, сказала:
— Какой ты злой, Фархат!
Сказав это, она больше и не взглянула на меня, засмеялась и выбежала из комнаты. Я остался один. Мое волнение росло. Меня возмущал поступок охотника, который не удостоил сообщить мне содержание письма Каро, несмотря на то, что хорошо знал, как я интересуюсь всем, касающимся моих товарищей и их дела, и как меня радует каждое известие о них. Почему он лишил меня этой радости? Почему я не мог знать, где находится человек, которого я не только уважал, но и любил?
Пока я размышлял, взгляд мой упал на то место, где сидел старый охотник и в глаза мне бросилась бумажка, которая там валялась. Я поднял ее. Это было письмо Каро. Старик Аво второпях позабыл забрать с собой письмо. Моей радости не было границ. Некоторое время в волнении рассматривал сложенный надвое лист бумаги, не будучи в состоянии читать. Весь лист был мелко исписан.
В школе отца Тодика Каро не доучился. Нo где же он научился так хорошо писать? Письмо было написано твердой, уверенной рукой, которая владеет пером также умело и искусно, как и мечом.
Письмо все больше и больше возбуждало мое любопытство. В письме Каро был тот же, что и в своих речах. Он говорил просто, ясно, без всяких прикрас и красноречия. Фразы его были кратки, вразумительны и вместе с тем глубоко содержательны. В письме его был тот же стиль. Впервые я видел человека, который писал так же, как говорил. А почему мой учитель не писал так, как люди говорят? То, что он писал, всегда оставалось для меня загадкой, которую понять было невозможно, о которой можно было лишь строить догадки.
Но и в письме Каро были места, которые остались непонятными мне. Темная, иносказательная форма тут скрывала, видимо, какую-то тайну, которая была известна лишь адресату письма.
Я приведу здесь несколько отрывков из этого письма, отрывков, которые я запомнил, которых никогда не забуду:
«С настоятелем монастыря апостола Варфоломея я уже виделся. Он оказался таким, каким я его хотел видеть. Все было готово. Этого монаха можно считать человеком, который является господином своего слова. Он не похож на монаха. Редкое исключение! Еще месяц тому назад он начал продавать ненужные монастырю вещи и образовавшуюся сумму употребил на покупку оружия. У несчастных крестьян тут до этого не было и ножа, которым они могли бы разрезать лук, а теперь в его округе у каждого крестьянина есть оружие. Всё это случилось благодаря настоятелю монастыря. Монастырь станет главной крепостью. Он по местоположению удобен для этого. Сам настоятель будет предводительствовать над ахбакцами. В битве у Асбистана он показал, что он на это способен».
Асбистаном называлось поле близ монастыря апостолов, где несколько лет тому назад произошло кровавое сражение между армянами и курдами из-за пастбищ. Новое племя курдов, переселившееся сюда из провинции Мар, не позволяло армянам пасти свои стада в Асбистане, который издавна принадлежал армянам. Спор разрешил меч и разрешил в пользу армян.
Через несколько строк Каро писал:
«На совещании с настоятелем того же Варфоломеева монастыря выяснилось, что противник сильнее, чем нам казалось. Два брата Омар и Осман, которые враждовали из-за власти над племенем Джалали, теперь примирились. Обе партии, на которые распалось племя, теперь вновь объединились. Вождь племени Шикак Махмуд, выдал свою дочь за сына Гадира, главы племени Раванд, и таким образом между обеими племенами дружественные отношения возобновились. С другой стороны, возобновилась старая вражда между племенами Мукры и Мамекан. Жена ага Рашида, не дождавшись, чтоб братья ее убитого мужа отомстили убийцам, сама, переодевшись, подстерегла убийцу и отомстила за мужа. Как тебе известно, эти два врага являются вождями двух различных племен».
Меня удивляло то, что Каро радуется, когда два курдских племени враждуют и печалится, когда они мирятся. Но подробности последнего события я узнал позже. Рашид был сыном главы племени Мамекан. Его подлинное имя было Крпо, но его прозвали Рашидом за великую его храбрость. Он был убит через коварство сына главы племени Мукри. Жена Рашида поклялась, что не снимет с лица своего траурного покрывала, пока не успокоит мужа в могиле. Это на языке курда значит: пока убитый не будет отомщен. Для роли мстителя отца она стала готовить своего двенадцатилетнего сына, но тот вскоре заболел и умер. Тогда она на несколько дней исчезла из шатра. Ее нашли у могилы мужа в тот момент, когда она, возложив голову убитого врага на могилу мужа, говорила: «Ныне да успокоятся твои кости!».
«Последние события могут служить залогом союза сирийского католикоса с нами, — продолжал Каро. — Здешний шейх разрушил древний сирийский монастырь и камни его употребил на постройку бани. Это был тот самый монастырь, в котором несториане издавна хоронили своих епископов. Как я слышал, католикос взбешен этим варварским поступком шейха. Сегодня был у меня его посланный. Католикос зовет меня к себе. Завтра утром я отправлюсь в Джоламерк. Удобный случай — нужно им воспользоваться…»
Сирийский католикос жил в Джоламерке, в селе Качанис, которое расположено у границы Ахбака. Сирийское племя, называвшееся Джуло, с незапамятных времен поселилось в горах Джоламерка и сохранило свою независимость, подобно лезгинцам в Дагестане. Католикос, который назывался Мар-Шимоном, являлся духовным и светским главой племени. У него было до тридцати тысяч воинов или, иными словами, вся его паства умела пользоваться оружием. Сам католикос носил меч. Джоламерк, окруженный Кордухскими горами, представлял из себя маленький Китай, который был закрыт для иноплеменных. Там жили только джуло и армяне. Если кто-либо из чужих попадал туда без особого разрешения сирийского католикоса, то каждый встречный джуло мог его убить. Все население этого края занималось скотоводством. Все свои нужды население удовлетворяло тем, что получало от своих стад. Племя джуло совершенно не сносилось с внешним миром. Оно жило совершенно замкнуто. Это племя отличалось раздражительным, гневным, надменным характером. Люди этого племени были одновременно и храбры, и добродушны. По зачем было Каро заключать союз с этими дикарями и с их патриархом?..
«Здесь (в монастыре апостола Варфоломея) я получил несколько писем. Н. К. В. пишет из Варагского монастыря, что дела там плохи. Курды напали и ограбили Айоц-дзор. Селение Артамед за свое сопротивление превращено в пепел. Враги подожгли село ночью. Более ста человек — стариков и детей, не сумевших убежать, сгорели. Это чрезвычайно грустное по существу известие все же меня обрадовало. Айоц-дзор хоть теперь почувствует свою сшибку. Он долго не хотел участвовать в общем деле… О лечении начинают думать тогда, когда больной сляжет…».
Читая последние строчки, я пришел в ужас. Жестокость Каро переходила всякие границы. Более ста стариков и детей сожжены, и это его радует, потому что он может использовать этот случай для своих дьявольских целей. А цель? Я не знал, в чем она заключалась.
«Из Муша и Битлиса нет никаких известий. Старшина Дадвана пишет, что „там все готово“. В Шатахе народ снова волнуется. Архимандрит из Духова монастыря продолжает свое предательское дело. Как быть с этим Васаком? Пошлите к нему Мхэ. Мне кажется, что он сумеет успокоить этого черного демона…»
На следующее утро, после отъезда охотника, Мхэ исчез. Через несколько дней до нас дошел слух о том, что архимандрит Духова монастыря был убит в своей келье. А дня через два после этого появился Мхэ.
«Аслана я отправил в Муш и Битлис узнать, каково там положение. Саго поедет через Хнус в Эрзерум и Баязет и вернется через Хой. Мурад и Джаллад отправились в Мокский край и в Сасун. Каждому из них дан месячный срок, в который они должны окончить свое путешествие-исследование, и сделать соответствующие распоряжения. Каждому из них я дал необходимые инструкции. Сегодня двадцатое июля, стало быть к двадцатому августа все снова соберутся в монастыре апостола Варфоломея с отчетом о своей деятельности».
Мурад и Джаллад это были те два молодца из Курдистана, которых я видел в арабском минарете. С тех пор они исчезли с моих глаз. Теперь я видел, что они связаны с делом Каро.
«А ты, мой старый друг, как только получишь настоящее мое письмо, поезжай к главе езидов Мир-Масуму. Он твой старый приятель, поэтому было решено дело заключения условий с ним возложить на тебя. „Ручку топора, которым рубят лес, делают из дерева…“. Курд против курда будет хорошим орудием в наших руках…».
Езиды, как читатель помнит, представляют из себя курдское племя, отличающееся от других племен своей религией. Другие курдские племена их всегда преследуют. Это племя было единственным, которое жило с армянами в мире и дружбе, хотя и обладало всеми разбойничьими чертами характера, которые свойственны курдам.
Курды-магометане считали езидов неверными и относились к ним крайне враждебно. Езиды представляли первоначальный тип мидийского племени и сохраняли привычки магов. Прочитав то, что писал о езидах Каро, я понял, с какой целью уехал старый охотник.
В письме несколько строк было посвящено мне.
«Очень беспокоюсь о Фархате. Я его оставил больным. Как его здоровье? Сообщите мне о нем. Позаботьтесь и поухаживайте за этим диким тигренком, в нем скрыты богатые силы, хотя и в необработанном виде…».
Читая последние строки, я пришел в умиление, и слезы потекли из моих глаз. Я не мог уже продолжать чтение…
Глава 29.
ПОХОД МХЭ
Истинная цель Каро, однако, опять оставалась для меня тайной. Я не знал, что он намеревается предпринять и зачем рассылает товарищей в разные стороны. Какова была цель поездки самого Каро к сирийскому католикосу, к этому полудикому воину и первосвященнику. Каро был не из тех людей, которые строят воздушные замки и гонятся за неуловимой мечтой. Он сеял лишь там, где наверняка надеялся собрать жатву. Но какую же пользу мог извлечь он из всех этих тайных приготовлений?
Вот какие мысли овладели мной после чтения письма. Я знал Каро, когда он был еще подростком — молчаливым, задумчивым и ненавидящим всякое зло. Но я не знал, что сталось с ним после того, как он покинул школу. Где он был все это время? Что делал? Зачем снова вернулся? Общественное мнение было не в его пользу. Его считали не более, не менее, как смелым авантюристом. Но мог ли быть авантюристом человек, который всегда думал о благе бедняков и несчастных, человек, который трудился ради спокойствия угнетенных?
Внутренний голос отвечал мне: «нет».
Однако, вместе с тем, при всей доброте своей, Каро совершал такие поступки, которые не были поступками доброго человека. Тайну, которую открыла мне Маро у развалин часовни в Ганли-Даре, под сенью священных деревьев, тайну о том, как Каро убил одного из лучших своих товарищей, юношу из Индии, из-за простого подозрения — я еще не забыл, я помнил еще это ужасное преступление. А теперь в своем письме он предлагал старому охотнику новое злодеяние — «успокоить» архимандрита из Духова монастыря, отрубить голову помазанника, причем роль палача возлагалась на полупомешанного Мхэ. «Будет ли участвовать в таком кровавом предприятии старый охотник?» — спрашивал я.
С неудержимым хохотом вошла Маро. Приложив руки к груди, она старалась удержать душивший ее смех, но это ей не удавалась. Она упала на стул и умирала от смеха.
— Что случилось? — спросил я.
Она не могла ответить.
Вдруг двери с шумом широко распахнулись и послышался голос Мхэ.
— Какой черт унес мои лапти?
Огромная фигура его металась по комнате в яростном гневе. В руке он держал огромный кнут.
Маро сквозь смех стала уверять Мхз, что она не виновна в утере его лаптей и очень сочувствует ему. Затем она добавила, что лапти были сделаны из совершенно сырой кожи и целый год висели на стене в хлеву, т. к. Мхэ их не носил, а прятал, чтоб надеть их на пасху. Лапти совершенно высохли и скорчились. Сегодня Мхэ снял их со стены и положил в воду, чтоб они размякли и можно было бы надеть на ноги. Но проклятая собака, воспользовавшись отсутствием Мхэ, украла его лапти, и Маро только что видела, как пес в углу уплетал лакомый свой ужин — лапти Мхэ.
Маро все это рассказала непринужденно и шутливо, и это еще больше взбесило Мхэ.
— Ты ведь знаешь, как я люблю тебя, Мхэ, — добавила она. — Так неужели ты думаешь, что я могла бы отнестись невнимательно к твоим лаптям?
— Знаю… — пробормотал Мхэ и, кинув на прекрасную девушку дикий взгляд, вышел вон.
— Ты знаешь, Фархат, ведь этот дурак влюблен в меня, — сказала мне Маро.
— Разве можно увидеть тебя и не влюбиться?
Она сделала вид, что не услышала моих слов.
— Несчастный! Он до сих пор хранит в кармане мой чулок. Вот уже сколько лет! Сколько раз я видела, как он достает его из кармана, любуется, целует и опять прячет. Однажды я заболела. Была зима. И он, бедняжка, всю ночь не спал. Сидел за дверью и прислушивался через щель как я дышу, как вздыхаю или стону. Часто я слышала, как он плачет. Такой зверь, а плакал! Ведь моя комната выходит во двор — вот он там на дворе и сидел, на снегу, в холоде.
— Должно быть он иногда говорит тебе комплименты.
— Нет, не говорит. Он только смотрит на меня. Задумчиво смотрит и очень радуется, когда я его браню.
— Видимо, это его забавляет.
— Да, что-то в этом роде. Однажды он сказал мне: «Маро, дай коснуться рукой твоих волос».
— Ты рассердилась?
— Нет, не рассердилась. Если бы это сказал Саго, то я бы рассердилась. Но чтобы Мхэ ни говорил, я на него не рассержусь. У него чистое сердце. Он не понимает, что такое любовь.
— А ты понимаешь?
Маро ничего не ответила, т. к. в эту самую минуту послышался визг собаки, который, однако, сразу же умолк.
— Боже, этот дурак, видно, убил собаку, — сказала Маро и, захватив свет, выбежала вон.
Я тоже вышел. Действительно, собака неподвижно валялась во дворе. Мы с Маро при свете увидели, что голова собаки совершенно размозжена ударом кнута с железным наконечником.
— Хоть сам бы околел, дуралей этакий, — говорила Маро. — Чего ради убил собаку-то бедную?
Мхэ, стоявший тут же у своей жертвы, ничего не ответил. Он пошел к воротам, отодвинул камень и, открыв ворота, ушел во тьму,
— Куда он ушел? — спросил я.
— Бог его знает. Раз он взял свою дубину и надел лапти, стало быть ему далеко идти. А то целый год ходит босиком. Обувь кажется ему лишней обузой.
— Но у него и сейчас не было обуви.
— Да ведь собака же съела! Запри-ка ворота, Фархат.
Я подошел к воротам. Камень, который Мхэ отодвинул в сторону одной ногой, как щепку, я пододвинул с великим трудом. Маро, увидя это, засмеялась.
— Ведь этак и я бы могла подвинуть камень.
— А ну, попробуй.
И действительно, Маро взяла да подняла камень с земли.
— Ты на самом деле сильная, Маро, потому-то Мхэ и любит тебя, что ты также сильна, как и он.
— Чтоб сгинул ты, окаянный! Я его больше не буду любить, — ответила она, взглянув на убитую собаку, огромный труп которой лежал во дворе.
Другие собаки подошли и лизали рану своего товарища. Словно хотели исцелить его.
Мы вошли в комнату.
— Маро, я знаю, куда ушел Мхэ.
— Куда?
— Не скажу. Боюсь как бы ты не проговорилась.
— Я же не ребенок.
Я рассказал ей все, что знал о цели путешествия Мхэ.
Лицо ее покрылось тенью, и она заговорила дрожащим сердитым голосом.
— Я этому верю. Он сделает. Он готов сделать все, что ему прикажет мой папа. Ах, папа!..
Она замолкла.
Через минуту она сказала:
— А ты знаешь, Фархат, что Мхэ убийца.
— Как?
Маро рассказала мне о том, что Мхэ не здешний, а из какой-то далекой-далекой страны, название которой она не помнит. У Мхэ была сестра, по его словам очень красивая. Сын помещика их села заглядывался на его сестру. Сестра сказала об этом Мхэ. Сын помещика был перс. Однажды, когда сестра Мхэ вышла в поле, сын «ага» поймал ее и мучил… Тут Мхэ налетел на него и ножом отрезал ему голову. А затем покинул родину и убежал сюда…
Я заметил, что Мхэ не виноват, т. к. и я бы так поступил, если бы кто-нибудь осмелился обесчестить мою сестру.
— А я сама бы убила такого нахала и не позволила бы, чтоб за меня вступился брат, — ответила Маро. — Но Мхэ и тут много чего натворил…
— Что именно?
— Не спрашивай, я не могу сказать. Отец велел никому об этом не говорить.
— И мне тоже?
— Да, и тебе.
Я ясно видел, что у Маро невозможно вырвать эту тайну, т. к, она была не из наивного десятка. Тогда я спросил:
— А почему твой отец держит у себя убийцу?
— Именно потому, что он убийца.
— А разве убивать хорошо?
— Дурных людей, конечно, хорошо.
— Почему же ты сердишься на Мхэ?
— А потому, что он убил собаку.
— Разве собака лучше человека?
— Многих людей, дурных, конечно, как например курды. Собака охраняет наш дом, а курды разоряют его.
«Точь в точь отец», — подумал я.
— Ты знаешь, какие воры эти курды? У них даже дети воры. Как только вылезут из колыбели, тотчас начинают воровать. В прошлом году каждый день у нас пропадала по одному цыпленку. Из двенадцати осталось всего три цыпленка. «Кто их крадет?» — спрашивала я. Отец уверял, что их уносит ястреб. Мхэ говорил, что лисица. Я заделала все щели, чтоб лиса не могла бы проникнуть во двор. Одну только щелку оставила, чтоб если пройдет, поймать ее. Сидела ночами и сторожила — но никакой лисы не увидала. Днем не только ястреб, но и ворон не пролетал над нашим домом. «Кто же уносит наших цыплят?» — опять спрашивала я. Однажды, смотрю, Гюли, дочь курда, нашего соседа, тихонько вошла в сарай и стала звать цыплят. Цыплята, привыкшие к ее голосу, тотчас сбежались. Она стала кормить их зерном, и увела от дома, к обрыву. Видишь, какая хитрая? Я настигла ее, когда она сцапала цыпленка и хотела унести. «Чертовка, куда это ты несешь нашего цыпленка?» — крикнула я и схватила ее за волосы. Она хотела оцарапать мне лицо. Тогда я повалила ее наземь и стала душить, пока не явился Асо и не отнял ее из моих рук.
— А большая была она? — спросил я.
— На целый аршин выше меня ростом. И до сих пор еще она таит злобу и говорит, что когда-нибудь убьет меня. Несчастная! Нашла кого убивать! Орех не для ее зубов!
Последние слова Маро произнесла с особой гордостью.
— Ведь все курды такие, — продолжала она. — Как только заметят, что ты боишься их, они тотчас садятся тебе на голову. А если разок покажешь силу, тогда они и не подойдут больше. С тех пор ни одна из наших кур не пропадала. Ну, я заговорила тебя! Может подумаешь: «Чего она тараторит, как трещотка!..».
— Нет, я этого не скажу. Ты хорошая девушка.
— В самом деле?
— Ей богу.
— Тогда дай ухо, я что-то тебе скажу.
Я приблизил ухо к ее лицу, она что-то прошептала, и я почувствовал, как ее горячие уста коснулись моего лица.
Глава 30.
КУРДИЯНКА И АРМЯНКА
Утром я проснулся очень рано.
Из окна я видел, как Маро доит коров. У нее рукава были засучены до самых локтей. Как прекрасны были эти полные круглые руки! Я жадно смотрел на них. Она была без передника, и через ворот рубашки видна была прекрасная грудь. На голову она надела платок, из-под которого выбились ее густые волосы, развеваемые утренним ветерком. Никогда Маро не казалась такой пленительной, как в это утро. В своей красной рубашке, которая доходила до самой земли, она представляла воплощение всей невинности пастушеского быта.
Она кончила доить и погнала коров к стаду.
Хатун была занята топкой «тонира». Жена Асо, невестка охотника, укрытая покрывалом, как привидение, ходила вокруг «тонира», исполняя поручения старухи Хатун. За все время моего пребывания у охотника мне ни разу не удалось увидеть ее лицо или услышать от нее хоть слово. Она ни с кем не разговаривала, за исключением Маро и своего мужа. С последним, однако, она могла говорить лишь с глазу на глаз, наедине, когда не было третьего лица.
Больше никого из домашних я не видел. Толька дети Асо толкались около матери, прося есть, а та била их по головам, приказывая ждать. Маро была права, подумал я, когда после отъезда отца сказала: «Мы опять остались одни».
И в самом деле. Охотник уехал к вождю езидов. Мхэ исчез, как черт. Асо с поля не возвращался домой. Он был занят своей работой. Старая Хатун после стряпни на кухне садилась в тени под навесом и пряла. Жена Асо не знала покоя от своих детей. Кто же оставался? — Я и Маро, у которых было довольно много свободного времени: сиди, болтай и смейся, сколько душе угодно!
Скоро Маро вернулась и подошла к моему окну. Она хотела узнать сплю я или уже встал. Увидя меня уже одетым, она вошла ко мне в комнату. Лицо ее было печально.
— А знаешь, Фархат, когда я возвращалась через село, то из всех домов слышен был запах «назука», «гаты» и халвы. Все готовятся на богомолье.
— Куда?
— Разве ты не знаешь? Ведь сегодня четверг, завтра пятница, а послезавтра…
— Суббота.
— Ну да. А в субботу праздник св. богоматери. Весь Ахбак будет там, в монастыре…
— И весь Салмаст будет там, — добавил я.
И в самом деле, в этот день в монастырь богоматери стекалось огромное множество богомольцев из Салмаста и Ахбака.
Не знаю, почему, имя богоматери напомнило мне детство. Каждый год моя мать везла меня с сестрами туда, на богомолье, на празднество.
— Что же, все пойдут, а я останусь? — с досадой спросила Маро.
— Поезжай и ты.
— С кем же? Отца нет дома. Мхэ исчез. Брат не охотник до таких вещей. Кто же меня повезет?
— Я.
— Ты шутишь, Фархат.
Я ее уверил, что не шучу, что я сам бы с удовольствием поехал туда, в монастырь на престольный праздник, т. к. в числе богомольцев будут многие из наших горожан, а может быть и некоторые из моих родственников, с которыми я давно нахожусь в разлуке.
— Может быть ты там увидишь свою мать и сестер своих, — сказала Маро.
— Очень возможно.
— Ладно. Но я ведь без разрешения брата не могу ехать. Попроси ты его, чтоб отпустил меня с тобой. Скажи, что сам ты собираешься туда и вот хотел бы меня тоже взяты с собой. Асо тебе не откажет. Ну, скажешь, да?
— Хорошо. Скажу. Я сейчас же пойду к Асо и получу для тебя разрешение.
Маро, радостная; нежно обняла меня, точно ребенок, которому обещали купить игрушку, а затем оставила меня и выбежала из комнаты, говоря:
— Погоди, принесу немного молока, выпей и так отправляйся, а то ты ведь голодный.
Скоро она принесла огромную чашу с молоком и кусок хлеба.
Позавтракав, я тотчас отправился к Асо.
Сперва Асо затруднялся отпустить Маро, говоря, что за домом некому будет смотреть, что дом нельзя оставлять без присмотра, т. к. часто случаются кражи, что если он ее и меня отпустит, то сам должен вернуться домой и некому будет тогда сторожить его пашню. Затем он прибавил, что проклятые курды — настоящие варвары, грабят беспощадно, берут все, что могут, а остальное уничтожают и так только уходят. Он рассказал мне и о том, как он целыми ночами не спит с ружьем в руках, сторожа пашню и скот. Не успеешь оглянуться, говорил он, как угонят скот. И наконец, он добавил, что Мхэ и охотник уехали, надеясь на меня, что если и я уеду, кто же будет смотреть за домом и т. д.
Я возразил ему, что наша поездка продлится не больше недели, и что не трудно будет на это время нанять кого-либо, в качестве сторожа.
Тогда Асо глухо намекнул на то, что общественное мнение осудило бы наше столь непривычное для здешних нравов поведение. Девушке, по здешним обычаям, нельзя ехать на празднество с чужим молодым человеком.
Хотя намек Асо был правилен, но я возразил, заметив, что для меня Маро является тем же, чем она является для него самого: она моя сестра. Ведь мы все, добавил я, с детства росли вместе, как члены одной семьи.
— Это правда, — сказал Асо, — но разве ты видел у нас, чтоб сестра отправлялась куда-нибудь в далекое место на богомолье со своим братом?..
— Нет, не видел.
— Чего же тогда разговариваешь? Корову привязывают к корове, вола к волу, теленка к теленку. Так и люди.
Асо имел привычку приводить примеры из жизни животных.
— Тогда я поеду один, без Маро, — сказал я.
Асо ничего не ответил. Он погрузился в размышления.
— И может, больше не вернусь, — добавил я.
Это его смутило, т. к. в моем тоне он заметил обиду. Кроме того, он знал, что его отец хочет держать меня у себя. Он не хотел давать мне повода, чтоб я ушел от них в отсутствии отца, т. к. тогда ответственность легла бы на него.
Асо был искренним человеком и не умел лицемерить или хитрить. Он сказал, что Каро, уезжая, поручил меня его попечению, а отец велел обращаться со мной, как с братом, чтоб в доме я не чувствовал стеснения. Затем он шутливо добавил:
— Ты ведь с детства был упрямым, Фархат. Притом, я знаю, что если и успокою тебя, то Маро не удастся успокоить. Ведь она настойчивее тебя. Поезжайте. Бог с вами. Делайте, как хотите, я умываю руки.
— Маро хочет, чтоб это было по твоей воле.
— Тогда пусть берет с собой и Хатун.
— Опять «корову с коровой»?..
Асо засмеялся и сказал:
— Сестра моя чересчур любит тебя, Фархат.
— Откуда ты знаешь?
— Она сама мне сказала.
— Пусть любит, тем лучше.
— А ты?
— Я? Мы всегда любили друг друга, когда еще были детьми.
— Та любовь была иная.
— Любовь одна. Она не меняется.
— Ты человек начитанный, Фархат, тебя не переспоришь, — сказал Асо и поднял кнут, чтоб погнать волов, запряженных в соху.
Я удалился.
Было удивительно, что я считался начитанным, ученым, образованным человеком, хотя всего-то знал почти только несколько «шараканов». Конечно, в глазах Асо всякий начетчик был ученым. А мне моя тогдашняя ученость кажется теперь смешной. От пашни Асо до дома было довольно далеко. А я торопился домой, чтоб обрадовать Маро полученным мной от ее брата разрешением ехать на богомолье. Поэтому я избрал кратчайший путь через ущелье и холмы. Нужно было мне спуститься в ущелье и затем немного пройти по холмам, на одном из которых и стоял дом охотника. Солнце уже давно взошло, но его не было видно, т. к. день был мглистый. Глухое и темное ущелье походило на могилу. Тропинка спускалась в ущелье то извиваясь среди скал и утесов, то пропадая среди травы. По этой крутой и узкой тропинке могли спускаться только дикие козы.
Я был погружен в думы и почти не замечал трудности пути. Меня бесконечно радовала предстоящая поездка в монастырь богоматери. Я думал о том, что могу там встретить многих из наших горожан, а главное, может быть встречу мать и сестер своих. Моя мать каждый год в день престольного праздника отправлялась в монастырь богоматери на богомолье. Как она обрадуется, увидя меня, думал я. А как обрадуются сестры — Мария и Магдалина. Они должно быть стосковались по мне, а может быть считают меня совсем погибшим.
Наконец, думал я, может встречу Соню, отец которой, как священник, вероятно приедет вместе с горожанами (ведь это день жатвы для него!) и со своей семьей. Что скажет Соня, когда увидит меня?
Я впервые после приезда к охотнику вспоминал с тоской о нашем доме, о родном крае и о тех людях, с которыми вместе рос и воспитывался.
Среди зелени показался ручеек, который катил свои чистые струн в ущелье. Я нагнулся, чтоб напиться, но оказалось, что ручеек несет массу песчинок и пить из него невозможно. Тогда я стал искать родник, откуда он вытекает. Я стал подниматься по склону холма, ища исток ручья. В тумане передо мной мелькали какие-то две фигуры, но я не мог их ясно различить. Они то сходились, то снова расходились. Вот они слились и образовали какую-то движущуюся массу. Я подошел ближе. Две женщины, сцепившись, душили друг друга. В руке одной из них блеснул нож. Я подбежал к ним. Маро повалила наземь какую-то женщину и старалась вырвать у нее нож. Картина была жуткая. Они дрались как разъяренные львицы. Противница Маро была курдиянка. С большим трудом удалось мне их разнять.
— Я тебя, окаянную, все-таки убью, ты от меня не уйдешь, — сказала курдиянка, обращаясь к Маро. Ее прекрасные глаза горели как глаза рассвирепевшего зверя.
Маро ничего не сказала. Она была так взволнована, что не могла говорить и лишь окинула свою противницу насмешливо-презрительным взглядом. Курдиянка прекрасна, когда она охвачена яростным гневом. В такие минуты больше гармонии между ее душой и внешностью. В такие минуты душа ее проявляется во всей своей героической отваге.
Я не мог не любоваться этой вольной дочерью гор, хотя она всего за минуту до этого пыталась убить Маро.
— Почему ты хотела убить эту девушку? — спросил я у курдиянки.
— Ты не знаешь, ага, — она приняла меня за турка. — Как хитра эта девушка, точно она и не «фла». Она осмеливается поднять руку на меня. Она хотела задушить меня. Разве какой-нибудь армянин посмеет сделать это?
— А почему же армянин не может сделать этого?
— Армянин — собака, как только залает, бей его по башке, и он успокоится.
Кровь ударила мне в голову. Руки мои дрожали. Но чем была виновата курдиянка, когда она поносила нацию, которая сама своей низостью дала повод к такому мнению о себе.
Но Маро не вытерпела. Она снова бросилась на курдиянку и одним ударом свалила ее с ног. Мне с большим трудом удалось вырвать из ее когтей, ее, не менее разъярившуюся, жертву.
— Пусти, я хочу задушить ее, — говорила Маро.
— Сука! — кричала курдиянка.
Я заметил, что у Маро рука ранена. Когда она пыталась отнять у курдиянки нож, ранила себе палец, но увлеченная борьбой, не чувствовала боли. Я хотел перевязать ей рану, но она не позволила, сказав, что перевяжет сама. Она пошла к роднику и стала мыть рану. Курдиянка накинула на плечо мешок, в котором лежал барашек, и направилась в село.
— Куда несешь барашка? — спросил я.
— Несу «божьему человеку», — спокойно ответила она.
— Кто такой «божий человек»?
— Он пишет талисманы и ими может внушить юноше любовь.
— Значит, ты любишь кого-то?
— Да, сына Ахмета, Сафо. Он отважный охотник.
— А этот барашек из стада твоего отца?
— Нет, я украла его по пути.
— Должно быть у армян, не правда ли?
— Конечно. У курда я не стала бы красть.
— А далеко отсюда до шатра твоего отца?
— Наш шатер за Хана-Сором. Я оттуда ушла еще до рассвета. Отец не заметил, как я ушла.
Курдиянка прошла более трех миль. Она посмотрела на небо, чтоб узнать время и, собираясь уходить, сказала:
— Мне придется идти долго. «Божий человек» живет далеко. Вон там, за синими горами, Если когда-нибудь тебе придется пройти через Хана-Сор, спроси шатер отца Гюли. Его называют Рахимом сыном Рахмана. Он вождь племени билбасов. Гюли тебя очень полюбила, ты помог ей. Глаза твои похожи на насурьмленные глаза ее Сафо. Гюли даст тебе отдых в шатре своего отца и месячного барашка зарежет для тебя.
Мне захотелось на ласковые слова курдиянки ответить комплиментом и я сказал:
— Гюли похожа на Кяфар-гюли.
[13]
На темном прекрасном лице курдиянки появилась улыбка, но она быстро отвернулась от меня и, указывая на Маро, сказала:
— Бог даст, когда-нибудь я убью эту чертовку проклятую.
Маро уже вымыла и перевязала рану. Я подошел к ней.
— Знаешь, кто такая была эта девушка? — спросила она.
— Гюли. Она шла к колдуну, чтоб взять у него талисман и этим приворожить сердце своего возлюбленного.
— Откуда ты узнал это? Ты знаешь даже как ее звать!
— Она сама мне сказала.
— А ты значит, Фархат, порядочно пококетничал c ней. Ты хитрый!
— Она мне, говоря по правде, очень понравилась,
— Потому что ранила мне палец? Да?
Глаза Маро загорелись ревностью,
— Нет, не потому, а потому, что она красивая девушка.
— Дурак!
— Я хотел только разозлить тебя, Маро.
— Я без того зла.
— На меня?
— Да. Почему не дал, чтоб я ее убила.
— А ты знаешь, что бы с тобой сделали курды?
— Убили бы. Ну и пусть. Когда-нибудь должна же я умереть, не все ли равно когда умереть?
— Тогда я остался бы без Маро.
Она ничего не ответила. Через минуту она спросила:
— А что сказал Асо?
Я ей ответил, что Асо согласился на нашу поездку, но только выразил желание, чтоб и Хатун поехала с нами.
— А рана твоя не помешает нашей поездке? — спросил я.
— Нет, это пустяк. Рана небольшая, — ответила она.
— Она пошла к колдуну за талисманом, — сказал я.
— Несчастная! Ее отец глава племени, а она полюбила какого-то бедного охотника из-за того только, что тот хорошо поет и что у него красивые глаза.
— А как ты с ней встретилась?
Маро объяснила, что не вытерпела и пришла мне навстречу, чтоб поскорей узнать о результатах моих переговоров с Асо. Гюли сидела у родника и как только увидела, сразу накинулась на нее с ножом.
— А почему она враждует с тобой? — спросил я.
— Это старая история, — ответила Маро, — Однажды племя их зимовало в нашем селе. Гюли жила недалеко от нашего дома. Каждый день мы замечали, что одной курицы у нас не хватает. Отец думал, что кур наших крадет лиса. Однажды я села сторожить и вместо лисы появилась Гюли. Она тихонько вошла в сарай, поймала двух кур и хотела сбежать. В эту минуту я вышла из засады и схватила ее за волосы. Я повалила ее и хотела задушить, но Мхэ вырвал ее из моих рук. Вот с тех пор она и враждует со мной.
— Ты и сегодня бы ее задушила, если б я не подоспел. Но я эту историю о Гюли уже слышал от тебя.
— Слышишь, никому не рассказывай о сегодняшнем случае, — сказала она.
— А рана на твоей руке?
— Я скажу, что сама поранила.
— Хорошо.
— Ну пойдем.
Глава 31.
ПАЛОМНИКИ
Рана Маро оказалась не такой легкой, как ей казалось. Но она не обращала на нее внимание и целый день была занята приготовлениями к поездке. Я видел, как она одной рукой месила тесто для хлеба и для «назуков», и как старательно она приготовляла халву.
Старушка Хатун тоже суетилась. Она побежала к молочному торговцу купить свечки и ладан. Эти вещи она покупала на те деньги, которые сэкономила и припрятала для таких душеспасительных дел. Она старалась поскорее связать вторую пару носков, предназначенных для настоятеля монастыря, чтоб он в своих молитвах поминал бедную Хатун.
Все это делалось с благочестивым рвением и горячим вдохновением.
Только Маргарит, жена Асо, была грустна. Ей было тяжело, что Маро и Хатун поедут на торжество, а она останется дома. Отчего ее не отпускали? Разве у нее нет души? Разве она не хотела бы приложиться к святыням? Наконец, ведь и ей нужно бы хоть раз вырваться из хаты охотника и взглянуть на вольный божий мир. Маро живет вольной птицей, уходит куда вздумается, нет ей запрета, а Маргарит должна сидеть дома и это только потому, что Маро еще девица, а она уже замужняя женщина… Должно быть так думала Маргарит, хотя и не произносила ни одного слова протеста, кипевшего в глубине ее сердца.
И действительно, в армянской семье положение невестки иное, чем положение девушки. Девушка пользуется довольно широкой свободой. Она с кем угодно может говорить, она может бывать всюду — у соседей, в поле, конечно, в пределах скромности. Ее лицо не закрыто фатой, и язык не связан. Но с того дня, как она обручилась, она порывает все свои связи с внешним миром. Она становится собственностью мужчины. Ее мир замыкается стенами дома ее мужа. Уста ее закрываются. Она не сможет говорить ни с кем. Лицо ее покрывается густой фатой. Она никому не сможет показывать своего лица. Она живет лишь для своего мужа, как его святыня, скрытая от всех. Никто не может взглянуть на нее.
Именно в таком положении и была Маргарит.
Это положение должно было внушать ей чувство зависти к вольной жизни Маро и, даже, к жизни старой Хатун, которая уже прожила свой век и стала негодной для жизни. Юность и дряхлость были свободны от гнета семьи.
Накануне нашей поездки я пошел в конюшню к помощнику Мхэ — Ато и велел хорошенько накормить лошадей, когда еще воздух свеж, могли выехать. Когда я вернулся в свою комнату там было уже темно. Но против обыкновения, ко мне в этот вечер Маро не пришла с лампой. К моему удивлению, на этот раз лампу принесла Маргарит. Вместе с ней, держась за полу ее платья, вошла и маленькая Салби — старшая дочь Асо. У девочки было такое испуганное лицо, и она так крепко держалась за полу матери, точно кто-то собирался у нее отнять ее мать. У Маргарит лицо было покрыто густой красной фатой, которая спереди спускалась до груди, а сзади покрывала всю ее спину. Не подымая фаты, она молча поклонилась мне и поставила лампу на стол. Мне показалось, что она не хочет уходить, она задержалась и, видимо, что-то хотела сказать мне. Она стала у дверей, а маленькая Салби стала перед ней. Мать толкнула дочь в бок. Девочка подняла к ней свои блестящие глаза и спросила:
— Что сказать?
Мать нагнулась и что-то шепнула дочери на ухо.
— Скажи, блатец, ведь и я бедная…
Салби смутилась. Она успела позабыть половину фразы матери. Мать снова толкнула ее в бок и снова шепнула ей, чуть слышно:
— Дура, не так!
Девочка-переводчица громко повторила слова матери, относившиеся к ней.
— Дула, не так!
Мать рассердилась на свою переводчицу и еще сильнее толкнула ее в бок. Салби покачнулась и чуть было не упала.
— А как? — с досадой спросила она.
— Чертовка, хоть бы сдохла ты! Скажи: «Братец, все отправляются на богомолье, а я одна должна остаться, разве я не бедная?».
Салби передала:
— Чертовка, хоть бы сдохла ты…
Мать снова толкнула ее, и девочка, заплакав, выбежала из комнаты.
— Сестрица, я понял в чем дело, — сказал я ей.
Она неподвижно и молча ожидала, что скажу я дальше.
— Ты тоже хотела бы поехать с Маро на богомолье, не так ли?
Она утвердительно кивнула головой.
— А почему же Асо тебя не отправляет?
Она повела плечами — мол, не знаю.
— А ты хотела бы, чтоб я попросил Асо?
Она поклонилась — мол очень буду благодарна.
В эту минуту вошла Маро. Лице ее выражало удивление.
— Ты что тут делаешь? — спросила она у Маргарит. Невестка указала на лампу — мол, лампу принесла. — Маргарит тоже хочет поехать с нами, — сказал я. — Пусть поедет, тем лучше. Но что скажет Асо?
— Я его попрошу.
Маро обрадовалась, подошла к Маргарит, подняла ее фату и сказала:
— Перед кем ты закрываешь свое лицо? Почему ты с Фархатом не говоришь? Разве можно сестре не разговаривать с братом? Фархат и мне, и тебе — брат.
Маргарит скоро опять покрыла лицо фатой, однако, я успел увидеть ее лицо. Оно походило на цветок не видевший солнца и увядший в тени.
Маро снова попыталась открыть ее лицо, но Маргарит что-то шепнула ей и выбежала из комнаты. Маро смеялась.
— Что она тебе шепнула? — спросил я.
— Она говорит — «Разве не грешно говорить, что Фархат тебе брат?»
— А почему же грешно?
— Потому что, когда парень и девица становятся названными братом и сестрой, то они…
— Не венчаются.
— Да. В нашем селе один парень с девицей целовались, когда венчались, и назвались братом и сестрой. Потом родители хотели их поженить, но они не поженились, сказав, что это грех, хотя еще до сих пор они любят друг друга.
— Но ведь когда венчаются, тоже целуют Евангелие и крест.
— Да, но тогда они не становятся братом и сестрой.
— А чем же становятся?..
— Разве сам не знаешь чем?..
— Знаю. Ты змея Маро. Ты открыла лицо Маргарит, и она вероятно рассердилась.
— Нет, она не рассердится. У Маргарит хорошее сердце. Она тебя очень любит. Когда мы поедем к богоматери, я заставлю ее заговорить с тобой. Станьте там с ней братом и сестрой! Тогда она будет говорить с тобой и не будет закрывать при тебе своего лица. Но теперь нельзя, порядок наш не таков, она стесняется.
— А когда ты станешь невестой — тоже закроешь лицо и не будешь разговаривать с людьми.
— А как же? На то и буду называться невестой!
— А как же ты укротишь свой соловьиный язык?
— Научусь. Ведь муж бьет ее, если жена показывает свое лицо чужому мужчине.
— Я не буду бить.
Маро засмеялась.
— А что скажут другие? Разве не скажут — «какая она бесстыдная невестка?»
Вошел Асо. Узнав, что мы утром рано выезжаем, он пришел с поля, чтоб сделать распоряжения по дому.
Хотя и с трудом, но мне, все же, удалось убедить Асо, чтоб он отпустил с нами и Маргарит. Но тут возникло другое затруднение. К нашей группе прибавилось еще два человека — Маргарит и маленькая Салби, которая узнав о том, что ее мать отправляется на богомолье, расплакалась и заставила нас включить в состав идущих и ее. А у нас были только три лошади и ослик. На ослика решено было нагрузить наш провиант и маленькую Салби. Для Хатун не было лошади. В селе нельзя было нанять лошадь, так как ни у кого в этом селе, кроме охотника, не было ни лошадей, ни ослов. Но Хатун сама вывела нас из затруднения, заявив, что она дала обет семь раз отправиться на поклон к богоматери пешком. Шесть раз она уже ходила, теперь хотела пойти в седьмой раз. Хотя и трудно было бы старухе целых три дня идти пешком, однако она не хотела отказаться от своего обета и уверяла, что сумеет пройти путь без особого труда. Мы все же обещали временами сажать ее на коня, чтоб дать ей передышку.
Маро и Маргарит долго спорили, кому из них сесть на коня Асо и кому на кобылу. Победа осталась, конечно, за Маро. Маргарит пришлось согласиться ехать на кобыле.
Маро была тщеславна. Она хотела появиться среди богомольцев на хорошем коне и показать себя ахбакским девушкам, как достойную дочь их «мира». О мужчинах она не думала, а хотела лишь возбудить зависть своих подруг.
«Мир» являлся главой племени и пользовался большой популярностью и авторитетом. Отец Маро был «миром» ахбакских армян. Поэтому все ее знали, и поэтому Маро старалась не ронять достоинства своего отца и поддержать его престиж некоторым внешним блеском. Не шутка быть дочерью «мира»! И Маро заботилась о своем наряде и внешности. Наряд ее состоял из головного убора, украшенного золотыми и серебряными монетами, серег, которые она носила на ушах и на носу, колец, ожерелья, серебряного пояса и массы разноцветных бус.
Она позаботилась и обо мне. Она не хотела, чтоб я появился в своем поношенном костюме. После того как я удрал из школы отца Тодика, я не менял своего костюма, так как у меня не было другого.
Поздно ночью ко мне явилась Маро совершенно усталая и сказала, что она не хочет, чтоб я появился в монастыре богоматери в моем поношенном костюме, поэтому она принесла мне совершенно непоношенный костюм своего брата и подарила мне.
— Но ведь костюм Асо на мне будет широк, — сказал я, — Асо толще меня и ростом ниже.
— Я ночь не буду спать и переделаю. И Маро, сняв с меня мерку, ушла.
Ахбакская женщина шьет для дома все. Костюмы у них скроены, так что всегда можно их, если понадобится, переделать — расширить и удлинить.
Армянам, торжества, устраиваемые в дни предстоящих праздников, обходились очень дорого. Паломники отправлялись большими караванами в сто–двести человек, но и при этом условии не избегали опасностей в пути. Они часто нанимали курдов-наездников в качестве охраны, платя им за это деньги. Но нередко товарищи этих же курдов, которые взялись охранять паломников в пути, нападали и грабили караван. Охрана при этом только делала вид, что оказывает разбойникам сопротивление.
В пятницу утром мы выехали без всякой охраны, не смешиваясь с толпой крестьян-паломников. Это было с нашей стороны слишком смело, но мы сочли недостойным поручить себя охранять курдам и понадеялись на то, что имя старого охотника, пользовавшееся большим почетом во всей округе, послужит нам охраной. Курд умеет уважать величие. На вождя он смотрит как на богом поставленного человека. Старый охотник был главой ахбакских армян.
Глава 32.
ПРАЗДНЕСТВО В МОНАСТЫРЕ СВ. БОГОРОДИЦЫ
В субботу вечером мы приехали в монастырь.
Моей первой заботой было разбить палатку на удобном месте. Больше всех утомились Маргарит и Хатун. Как только доехали до монастыря, они повалились наземь, как мертвые. Маро гордо скрывала свою усталость, всячески помогала мне и смеялась над Маргарит. Маленькая Салби, как только сошла со своего ослика, побежала в монастырь, говоря:
— Я пойду посмотреть на боголодицу.
Наша палатка, согласно желанию Маро, была разбита в великолепном месте. В четверть часа все было готово.
Монастырь святой богоматери был расположен на берегу Ванского озера, против пустыни Лим, среди Кордухских гор. Каждый монастырь в Армении пользовался славой исцелителя от того или иного определенного недуга. Монастырь богоматери в Кордухских горах пользовался славой чудотворного исцелителя от чесотки, язвы, проказы и различных ран. Но он не только исцелял больных, которые обращались к нему с верой, но также награждал этими недугами тех, кто заслуживал его гнев, кто не подчинялся его братии или не удовлетворял его требованиям. Поэтому в народе такие болезни, как проказа, чесотка, язва на теле назывались «язвами богородицы», т. е. наказанием, которому подвергла грешника богоматерь за его грехи.
Богородица Кордухских гор была мстительна и жестока, она гневалась на людей и от этого страдал даже скот этих людей. Все домашние животные, на которых были пятна другого цвета, чем вся кожа, считались собственностью богоматери. Хозяин не мог пользоваться своей коровой, волом или лошадью, если на них имелся «знак богородицы». Хозяин сам должен был привести свое животное в монастырь или ждать, пока придут монастырские «мугдуси» и уведут его. Каждый год эти самые монастырские «мугдуси» ходили по всей области и собирали скот со «знаками богородицы». Ни один армянин не имел права покупать или продавать их, так как они считались собственностью монастыря, Около монастыря было селение, которое называлось «монастырским селением». Тупые и ленивые жители этого селения ничем не занимались, но только служили монастырю в качестве «мугдуси» и назывались «богородицыными мугдуси». Источником пропитания служил им монастырь. Нельзя было смотреть без боли на это множество людей, которые не знали иного занятия, как служение монастырю. Они служили сильным орудием в руках монахов. «Мугдуси богоматери» — обыкновенно безграмотен. Но он знает наизусть целые главы из Евангелия, он поет церковные песни и молитвы. Все эти свои знания он проявляет, когда берет с собой какую-либо святыню из монастыря и разъезжает по деревням, собирая подаяния для монастыря. Открывая святыню в доме благочестивого армянина, он читает соответствующую молитву и дает присутствующим приложиться, а затем получает подаяния. Этих «мугдуси» можно встретить всюду. Я помню как они являлись к нам. Доставали крест, рукописное Евангелие или мощи какие-нибудь, которые ставили на сито и начинали читать разные молитвы. Мать сажала меня, Марию и Магдалину под ситом, на котором «мугдуси» держал святыню. Через сито благословление и молитвы, по ее мнению, сыпались на нашу голову. Затем они освящали воду и окропляли нас ею. Денег у матери не бывало, но она никогда не отпускала «мугдуси» без подаяния. Отрывала с головы какое-нибудь украшение или серебро и отдавала им. Эти святыни отдавались «мугдуси» монахами на различных условиях: или за определенную плату на откуп, или же на условии дележа сбора пополам. Но нередко «мугдуси» злоупотребляли доверием народа. Многие «мугдуси» имели у себя в доме различные кресты и иные «святыни». И они часто разъезжали с этими подделанными святынями и делали сбор.
Слава о чудотворной силе богоматери отовсюду привлекала в монастырь массу паломников — больных. Были такие, которые оставались в монастыре годами и, конечно, очень редко выздоравливали и возвращались домой. Большая часть их погибала, будучи лишена ухода и правильного лечения. Я только теперь понимаю, какое зло представляло из себя то суеверие, которое распространяли в народе монахи. Часто совершенно здоровый богомолец возвращался из монастыря больным, так как среди больных оказывалось множество заразных, которые, не будучи изолированы, заражали здоровых. И те, которые заразившись какой-либо болезнью, возвращались с богомолья, считали себя наказанными богородицей за какой-либо грех. Особенно часто заражались жители монастырского села, так как они постоянно сносились с больными. Поэтому среди сельчан было очень много больных проказой и другими болезнями, передававшимися по наследству из поколения в поколение.
Моисей установил особый закон о заразных больных. И до сих пор еще во всех восточных странах общества изгоняют их из своей среды. Между тем «мугдуси» бесконечно рад, когда его жена рождает ребенка «со знаками богородицы». Он берет своего ребенка, сажает на ослика и бродит из края в край, показывая его людям, вызывая в них благочестие и страх, и, собирая подаяния. Эти больные назывались «бедняками богородицы». Когда их возили по деревням — это вызывало страх перед гневом богородицы и перед монастырем, и это увеличивало число богомольцев. Поэтому монахи, блюдя интересы монастыря, никогда не препятствовали обману «мугдуси».
У армян есть проклятие: «Да падет на тебя язва богоматери». И никто не может без страха вспомнить о Кордухской богородице. Ибо она жестока и мстительна.
И я тогда заблуждался и был полон суеверия. Всему этому я верил. Но когда я прочел историю Армении, понял, что все эти предания о монастыре богородицы находились в тесной связи с нашим прошлым, с тем временем, когда Нерсес Великий построил в Армении множество монастырей. Многие из этих монастырей служили убежищем для прокаженных и калек. Все эти больные люди жили вдали от народа, в монастырях, где за ними был установлен уход и попечение. Но это человеколюбивое предприятие с течением времени приняло совершенно иной характер и превратилось в свою противоположность. Однако 15 веков тому назад все эти монастыри имели совершенно иное назначение. Они преследовали человеколюбивые цели.
Наступила темная ночь. Но никто из богомольцев еще не спит. Вокруг монастыря на огромном пространстве разбиты шатры. Перед шатрами висят разноцветные фонари, которые придают всей картине волшебный, таинственный характер. В каждой палатке разместилась какая-либо семья, но есть семьи, которые остались под открытым небом. В этой пестрой толпе можно было встретить армян, прибывших отовсюду, начиная с Малой Азии и кончая Персией и Араратской областью. Но жители Ахбака, Вана, Муша и Битлиса были здесь в значительной своей части.
Я вышел из нашего шатра посмотреть — не приехал ли кто из Салмаста. Маро выразила желание пойти со мной. Маргарит и Хатун были очень утомлены дорогой и остались в шатре. Маленькая Салби уже спала. Долго гуляли мы с Маро по лагерю богомольцев. Всюду замечалось движение, сумятица, толкотня, всюду слышалось пение, шум, смех, брань, молитва и изредка слетавшие с молодых уст слова любви.
В последнее время, читая в истории Греции о торжествах и празднествах в честь олимпийского и дельфийского Аполлона, я вспоминал свое паломничество в монастыре богородицы. Я вспомнил это празднество, в котором выражались в первобытном виде все суеверия, накопившиеся в душе народа, начиная с глубокой древности, с первобытных языческих времен. Никакое новое учение не может уничтожить, стереть без следа в сердце народа то, что унаследовано от прошлого. Языческие обряды, церемонии, культ веками укоренились в душе армянина, стали частицей его характера, Христианство не могло сразу очистить Армению от старых предрассудков, пока время и воспитание не преобразят их.
Мы продолжали гулять среди богомольцев, натыкаясь на каждом шагу на новую картину. Маро была молчалива. Она почти не говорила. Ее внимание привлекала то одна, то другая картина, и она походила на беспокойную бабочку, которая перепархивает с цветка на цветок. Любопытство ее было ненасытно. Все быстро надоедало ей.
Вот выступил «ашуг»
[14] с «сазом»
[15] в руках. Прижав свой инструмент к груди, он играет и поет старую народную былину. Толпа любителей сказок окружила его и с глубоким вниманием прислушивается к его рассказу, ободряя певца похвалами и подарками.
В другом месте два ашуга выступили на состязании. Они вдохновенно борются подобно двум отважным бойцам, которые борются на поединках. Это борьба талантов. Один из них в форме песни предлагает вопрос, другой отвечает. При этом размер стиха, мотив и рифмы должны быть у обоих одинаковы. Вопросы и ответы слагаются с необыкновенной скоростью, без предварительной подготовки. Участник состязания, который ответит невпопад или запоздает, считается побежденным. Победитель отнимает у побежденного, его «саз», дар муз — это служит премией для победителя.
Когда я думаю теперь о празднествах при монастырях и о выступлении «ашугов» в качестве народных поэтов, мне становится ясным, что это тот же языческий обычай, который существовал в древности, когда певцы выступали на празднествах при языческих храмах. Но куда девались плоды их творчества?
В другом месте «сазандары» играют на «зурне»
[16] и «нагаре»
[17]. Они стоят на ровном месте и вокруг них собралось веселое общество. Начинают танцевать «ялли»
[18] или «гванд»
[19]. Мужчины, женщины и девушки, взяв друг друга за руки, образуют круглую цепь. Музыканты стоят в середине цепи. Пестрая цепь движется вокруг них. Лица у женщин закутаны, у девушек открыты. Один из молодых людей стоит с пестрым платком в руке, помахивая им, как флагом и ведет хоровод. Он начинает «джан-гюлум»
[20], поет один куплет, а весь хор подтягивает припев. Иногда поют по очереди. Тогда в состязание вступают молодые люди и девушки. Они отвечают друг другу различными остротами. Каждому роду танцев соответствуют особые движения ног. Иногда круг цепи получает извилистую форму, тогда образуется какой-то лабиринт, однако ни один из танцующих не теряет своего места.
— Хочешь пойдем танцевать? — спросил я Маро.
— Нет, посмотрим лучше что-нибудь другое, — отвечала она. Прорезывая толпу, мы подошли к паперти монастыря. Тут представилось нам другое зрелище. Маро пришла в ужас.
Толпа окружила молодую женщину, которая в припадке неистовства билась о землю. Ее рот пенился, глаза блестели безумным диким огнем. Вся она дрожала, и исступленный вид ее показывал, что ее томила и терзала какая-то невидимая сила, Порой из ее уст вылетали глухие, темные, бессвязные слова.
Это была одержимая. Около нее стоял монах с маленьким крестом в руке. Его борода и губы дрожали, он молился. У одержимой снова начался припадок. Она была охвачена каким-то высшим наитием. Несколько минут она лежала недвижимая. Потом она стала испускать стоны и вздохи, произносить бессвязные слова и называть имена ангелов, демонов, сатаны и святых.
Монах положил крест в рот кликуши. Она жадно прижала его губами. Через несколько минут монах дернул за цепочку, на которой висел крест, и вынул его изо рта кликуши. Одержимая начала мало помалу приходить в себя. Но пока еще ее лицо ужасно, и глаза выражают страшное возбуждение.
Монах снова прикладывал крест к ее устам, и это повторялось три раза.
Больная, почти совсем придя в себя, начала говорить:
— Пусть придет сюда Шушан-Хатун из Вана, «Ага» (т. е. богородица) ее зовет.
Скоро появилась дрожащая, от страха Шушан-Хатун. Она жена богатого купца. Она замужем уже более десяти лет, но не имеет еще детей.
Кликуша начинает бормотать.
— Елизавета возвестила… Дева Мария зачала… Гавриил обрадовался… Сын во чреве возликовал… Кто разбивает оковы бесплодия?.. Святая богоматерь! Радуйтесь, народы! Ликуйте, богомольцы! Врата господни разверзлись… Льется сверху свет… Блажен кто видит… Блажен кто слышит!..
Монах начинает объяснять слова кликуши. Он говорит Шушан-Хатун, что «Ага», т. е. «божья матерь» вняла ее просьбе и разбила цепи ее бесплодия. Она родит сына, который до семи лет должен считаться посвященным монастырю и ежегодно в праздник богоматери должен приезжать на богомолье и давать милостыню «беднякам» богородицы.
Шушан-Хатун ликует и, сняв с шеи дорогую цепь, украшенную золотыми монетами, кидает кликуше.
Пророчица опять впадает в восторженное состояние. Рот ее начинает пениться, на лице появляется выражение ужаса. Ее губы что-то шепчут, словно она говорит с невидимым существом. Монах опять пускает в ход крест. Несколько придя в себя, она говорит:
— Позовите Григория-ага Мушского.
Является Григорий-ага.
Кликуша изрекает:
— Недостойных ждет жестокое возмездие. Черные куры, красные кошки… Пусть она будет дарящей мною по заслугам… Отчего твое сердце не ликует? Где не сея, не жнут… Алак… Балак… Бери… Кругом парча — в середине шелк… Поди, принеси… Радуйся!..
Монах так объяснил эти слова пророчицы:
— Радуйся! Конец все же вышел хорош. В конце концов будет радость.
В эту самую минуту по лицу монаха быстро пробежала хитрая фальшивая улыбка. И он продолжал:
— Алак, балак — означает — разноцветное, т. е. шелковую материю или бархат, обшитый парчой. — Это занавес храма. Богоматерь требует ее от вас, — обратился он к Мушскому купцу Григорию. — После этого вы возрадуетесь, и ваша просьба исполнится. Завеса храма богоматери обветшала.
Пророчество кликуши продолжалось. Удивительно было, то, что «Ага», т. е. богоматерь через посредство пророчицы призывала только именитых и богатых богомольцев, съехавшихся со всех сторон. И они с глубоким благоговением выслушивали ее приговоры.
Потом пророчица падает в обморок. Монахи уносят ее, уверяя, что она останется в таком состоянии в каменной пещере до следующего монастырского праздника.
— Несчастная, — сказала Маро, — как она будет там жить? Разве она не помрет там? Фархат, я бы хотела, чтоб кликуша и мне что-нибудь сказала. Ты не веришь в нее?
— Верю, — ответил я.
И правда, я верил. А если бы Маро спросила меня сейчас, я сказал бы ей, что в то время, когда люди поклонялись идолам, жрица Плэя, стоя на треножнике, изрекала такие же слова.
[21] Это тоже старый обычай, сохранившийся в Армении от времен язычества.
От церковной пророчицы мы перешли к народной. В стороне на скале сидела маленькая девочка. Ее бледное, худое лицо, намазанное ореховым маслом, блестело при свете факела, который горел около нее. На ней было пестрое фантастическое платье. Толпа девушек окружала ее. Она тоже пророчествовала.
Мы подошли к ней.
— Это та самая девочка, — сказала Маро.
— Ее зовут Гюбби.
Гюбби узнала и меня и Маро.
— Подойдите, погадаю вам, — обратилась она к нам, улыбаясь, — я с вас денег не возьму.
— Когда ты пришла сюда? Где твоя мать? — стал я смущать ее разными вопросами.
Не успела она ответить мне, как появилась Сусанна, подозрительно посмотрела на меня и, обращаясь к Гюбби, пробормотала несколько непонятных слов. Маленькая колдунья спрыгнула со скалы, на которой сидела, и обе они исчезли в ночной тьме.
— Почему они убежали, когда увидели нас? — спросила Маро.
— Не знаю. Старая колдунья всегда остерегается, как бы Гюбби не встретилась со мной.
— Настоящий чертенок эта девочка, — сказала Маро.
— Она уверяла меня, что мать украла ее из колыбели дьяволов, — проговорила девочка, стоявшая около нас. — И она говорит правду, — добавляет соседка, потому что если бы она не была чертенок, разве могла бы, будучи такой маленькой девочкой, знать так много? Она рассказала мне все, что было в моем сердце, все, что я делала…
Когда мы отошли от толпы, Маро сказала мне:
— Видимо, или Каро, или кто-нибудь из его товарищей находится здесь.
— Почему ты так думаешь?
— Эта колдунья и маленькая ворожея всюду следуют за ними. Где бы ни находился Каро — там тотчас появляются и они.
— Но я не понимаю, что может быть общего между Каро, его товарищами и этими цыганками.
— Я тоже не понимаю, — отвечала Маро. — Только одно скажу тебе, Фархат. Эта маленькая колдунья, которую зовут Гюбби, говорит по-армянски и притом как настоящая армянка.
— Цыгане говорят на всех языках.
— Нет, она непохожа на них. Однажды я сказала ей: «Гюбби, приходи к нам и живи в нашем доме, я буду за тобой ухаживать, ты будешь моей сестрицей». Она мне ответила: «Нет, я должна идти к маме, мама меня очень любит». Эти слова она произнесла по-армянски. Но как только старуха услышала это, рассердилась и увела Гюбби.
— Она ищет пропавшую мать, но где она, неизвестно. Бедняжка все время вспоминает о ней.
— И я это знаю, — сказала Маро.
Возвращаясь к нашему шатру, мы прошли через «долину испытания». Там находилась «скала судьбы». Она называлась так, потому что на ней богомольцы пробовали свое счастье. Каждый из них подходит к скале, поднимает с земли камень и кидает на скалу. Если брошенный им камень прилипнет к скале, значит ее молитва услышана. А если камень падает, то пробующий свое счастье с грустным лицом удаляется от таинственной скалы. Маро подошла попытать счастье, но там толпилось столько народу, что она не нашла себе места. Мы отложили это на будущее время.
Глава 33.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ МОНАСТЫРСКИХ СВЯТЫНЬ
Уже было довольно поздно, когда мы с Маро вернулись в палатку. Старая Хатун не спала. Она сторожила палатку. Маргарит спала, крепко обняв маленькую Салби. Она позабыла закрыть лицо фатой. Лицо у нее было открыто. Старуха, увидя меня, тотчас закрыла лицо Маргарит. Маро засмеялась. Это рассердило старушку.
— Ты не знаешь ни страха, ни стыда, Маро, — сказала она с досадой. — Одному богу известно, чем это кончится для тебя. Маро улыбнулась и ничего не ответила.
Хотя Маро и обещала мне, что по пути постарается сделать так, чтоб Маргарит заговорила со мной и ходила при мне с открытым лицом, однако это ей не удалось. Маргарит оставалась безмолвной и закрытой, подобно идолу, скрытому под завесой.
На утро должно было наступить господне воскресенье, день приношения жертв. Поэтому перед каждой палаткой, в яме, вырытой в земле, был разведен огонь и на нем в котлах варилось мясо жертвенных животных. Воздух был напоен приятным запахом, и все дышало благочестием. В некоторых палатках еще только резали жертвенных животных. Монастырские «мугдуси» суетливо бродили в лагере богомольцев, исполняя то или иное поручение. Они-то и продавали овец для жертвоприношения и доставляли богомольцам все, что им было необходимо. И из этого они извлекали свой доход. Задняя нога каждого жертвенного животного принадлежала им, а шкура — монастырю.
Тут же слонялись монахи, собирая шкуры.
Старая Хатун уже успела купить у «мугдуси» молодого барана для жертвоприношения.
— Что-то уж очень опаздывает святой отец. Должен был прийти освятить соль.
— На что освящать соль? — спросил я.
— Разве ты не армянин, не сын христианина? — сердито сказала старушка. — Целых пять лет в школу ходил, книжки читал, а и этого не понимаешь…
Маро мне объяснила, что освященную соль дают барану прежде, чем его принести в жертву.
Наконец явился монах. Он был так занят, что еле успел взять горсть соли, поднести к своим устам и пробормотать несколько слов — видимо он читал молитву. Затем он соль передал старой Хатун. Старуха благоговейно взяла соль, приложилась к руке монаха и сунула что-то ему в руку. Монах поблагодарил, благословил и вышел, говоря: «Да примет господь вашу жертву и да будет благословение богоматери над вами».
Соль мы дали барану, который съел ее с жадностью, нисколько, очевидно, не чувствуя, какая горькая участь ожидает его после этого.
Хотя я долго бродил среди богомольцев, но цели своей все же еще не достиг: никого из салмастцев я не встретил. «Мугдуси» мне сообщил, что караван салмастцев остановился на другом склоне холма, так как он прибыл поздно и все места поближе к монастырю были уже заняты другими богомольцами. Я заплатил ему два «куруша», и он согласился проводить меня туда.
И правда, богомольцы-земляки останавливались вместе, рядышком. Целых полчаса мы шли через эту густую разношерстную толпу, пока добрались до назначенного места. Но мой проводник все же не был доволен «жатвой» монастыря, он находил, что богомольцев прибыло гораздо меньше, чем в прежние годы.
— Плохие настали нынче времена, — говорил он, вздыхая. — В прежние годы было не то: кругом яблоку негде было упасть, все холмы и долины переполнялись народом, которому не было числа. А теперь и половины того, и четверти того не будет. А чем жить? Дома у меня семья в двенадцать человек! Просят хлеба, одежды — откуда их взять? А ежели что и перепадает от богомольцев, то отнимают святые отцы. А не дашь — выгонят из монастырского села. Вот поди и живи после этого…
Помолчав минуту, «мугдуси» продолжал:
— Все мои дети на мое горе вышли здоровыми. Хоть бы один из них родился «несчастным» и стал бы «бедняком богородицы». Может он бы помог моему горю.
Я ужаснулся, услышав подобное заявление из уст отца, который жаждал, чтоб кто-нибудь из его детей родился калекой или прокаженным со «знаками богоматери», дабы мог посредством уродства или порока своего исцелить горе отца.
— Ты хотел бы чтобы один из детей был «бедняком?» — спросил я «мугдуси», как бы проверяя его.
— Как не хотеть, ага. Если бы я возил «бедняка» по разным странам, то каждый год давал бы до пятисот курушов, а это как раз и хватило бы на пропитание моей семьи. А на что они нужны теперь, когда здоровы-здоровехоньки? Какая от них польза?
— А почему ты хочешь чтоб «бедным» был именно кто-либо из твоих детей. Ведь таких тут, в монастыре, так много. Ты мог бы взять кого-либо из этих и с ним разъезжать и собирать подаяния.
— Мог бы. Ну а ты думаешь, так и дадут мне «бедняка» наши святые отцы задаром во имя спасения своей души? Как бы не так! За это удовольствие они возьмут с меня больше, чем я мог бы собрать. Мне бы осталось лишь мучение, а весь доход взяли бы они себе. Вот тебе пример. Мугдуси Ако взял у них одного и бродил с ним в Ванской области. Привез он с собой более тысячи курушов, но и ста курушов ему не оставили — все забрали отцы святые. А ежели бы «несчастненький» был одной крови со мной, мой собственный сын, тогда и отцы святые не могли бы опустошить мой кошелек.
Теперь я понял смысл речи «мугдуси». Он хотел иметь пораженное недугом дитя, как собственность, дабы не брать такового на откуп у монахов. Кроме того, я заметил в мугдуси Торосе не только недовольство эксплуатацией монахов, но и глубокую ненависть к их священной особе. Эта ненависть имеет свои причины.
— Видимо ты не в очень хороших отношениях с монахами, — сказал я.
— Монахи! — воскликнул он, понизив голос. — Что ты, братец мой, говоришь? Разве это люди? Это настоящие дьяволы! Они дадут кусок хлеба лишь такому «мугдуси», который на все отвечает им «да». Но «мугдуси» Торос не таков, он правду любит, если скажут ему дурное, он не ответит «да».
Вообще я заметил, что люди благочестивы и верят монахам и монастырям лишь тогда, когда они далеки от них. Все, кто жил поближе к монастырям, питали к ним отвращение. В чем была причина этого, я тогда не знал, но было ясно, что все эти люди относились с недоверием ко всему тому, чему свято верил каждый армянин. Очень часто ведь дурные качества управляющего каким-либо предприятием отвращает клиентов от самого предприятия. Не то же ли самое происходило с нашими монастырями и монахами?
Я с детства обладал некоторой хитростью и умел находить слабую струнку людей и узнавать их тайну.
Услышав последние слова мугдуси о том, что монахи вознаграждают лишь тех служителей монастыря, которые покорно исполняют их волю, которые на каждое слово их отвечают «да», я хотел узнать, в чем истинная причина недовольства мугдуси. Хоть и не очень охотно, но все же он мне ответил:
— Нас было двое братьев, — начал он свой рассказ. — Младший мой брат женился, но не прошло и месяца после этого, он умер. Его молодая вдова жила у нас в доме. Однажды отец Карапет позвал меня к себе и сказал: «Мугдуси Торос, что делает дома жена твоего брата?». «Что же ей делать, отец святой, — ответил я, — она шьет, стирает, ходит за моими детьми, работает в доме. Ты знаешь, святой отец, что моя жена больна. Вот невестка и смотрит за моими детьми.» Монах сказал: «Что тебе пользы от всего этого. Ты бы лучше прислал ее доить овец монастырских — много бы больше выгоды извлек от этого — масла, сыру, шерсти получала бы она вдоволь. А тебе дал бы я тогда мощи чудотворца, пошел бы ты с ними в Табриз и в другие места, собирал бы себе»…
Я было обрадовался. Думаю и правда возьму похожу с мощами-то, соберу и с помощью бога заплачу долги, было у меня несколько сот курушов долгу. Но затем задумался. Хорошо, говорю я себе, жена моего брата молодая невестка, всего-то месяц, как она вышла замуж, притом она в трауре, как же я могу отпустить ее чтоб доила овец монастырских? Но, видимо, черт меня попутал. Ладно, думаю, все жены наших сельчан ведь ходят, работают в монастыре — пекут, шьют, стирают, прядут, одним словом все делают. И мужья их пользуются почетом у монахов, всем пользуются — едят, пьют, одеваются. Почему же мугдуси Торос должен отстать от них? Я исполнил волю отца Карапета. Вдова моего брата пошла доить овец. А я взял чудотворные мощи и пошел в область Табриза. Собирал я там больше чем полгода. Когда вернулся, смотрю невестки нет. Спрашиваю у жены: «Где наша невестка?» А она мне рассказывает, что невестка каждый день жаловалась, не хотела ходить в монастырь, но каждый раз святой отец присылал за ней и заставлял идти. Он говорил: «Тебя отдал мугдуси Торос на службу монастырю, и ты должна служить до тех пор, пока он вернется». И вот однажды, смотрим — невестки нет. Ночь настала, а она все не возвращается. Утром обошли монастырь, холм, долину — а ее нигде нет. Боже, куда же она девалась? Пошли наконец к озеру, смотрим волны выбросили ее труп на берег. Она утопилась. Недалеко от нее мы нашли новорожденного ребенка, которого растерзали звери. Мугдуси поднес руку к лицу. Мне показалось, что он вытер слезы. Затем он указал мне на склон холма и сказал:
— Вот тут остановились богомольцы из Салмаста..
Я расстался с ним под тяжелым впечатлением его рассказа.
Глава 34.
ВСТРЕЧА
Велика была моя радость, когда среди богомольцев — салмастцев я встретил мою мать с сестрами. Они приехали с семьей дяди Петроса. Палатка матери была разбита рядом с палаткой дяди. Меня повел туда один из моих земляков.
Никогда в жизни я не понимал так ясно, чем в минуту встречи — как велика нежность матери и любовь сестры к брату. Сперва они были так ошеломлены, что не находили слов, чтоб выразить свою тоску и любовь. Они нежно обнимали и целовали меня, проливая слезы. И я не мог сдержать своего волнения и прослезился.
— Слава тебе, господи! Не умерла и увидела сына! — говорила мать. — Милый мой, дитя мое дорогое! Свет очей моих! Как же ты нас покинул? Разве у нас есть еще кто-нибудь, кроме тебя? Пусть меня заживо похоронят, если тебя не будет! Дорогой мой, почему ты нас оставил, почему ушел?..
Так говорила мать и плача, и радуясь. А сестры — Мария и Магдалина не выпускали меня из своих объятий.
Как я уже упомянул, мать приехала на богомолье вместе о семьей дяди Петроса. Этот человек был моим духовным отцом. Одно время он в нашем селе был старшиной. Дядя Петрос пользовался в Салмасте славой опытного, дальновидного и умного человека, а также славился своими путешествиями по разным странам света.
— Ты с кем приехал, Фархат? — спросила мать. — Откуда ты узнал, что мать здесь?
Я ответил, что приехал с семьей охотника Аво и назвал тех лиц, которые вместе со мной приехали. Мария и Магдалина очень обрадовались, узнав о том, что и Маро находится среди богомольцев.
— Фархат, милый, поведи нас к Маро, — попросила Мария.
— Ты ведь отпустишь нас к Маро? — говорила Магдалина, обращаясь к матери.
Я предложил матери перейти в палатку семьи старого охотника и остаться там до конца празднества. Мать ответила, что это неудобно, так как если она уйдет, семья дяди Петроса обидится. Но она ничего не имела против того, чтобы Мария и Магдалина пошли к Маро. Только она просила не оставаться там ночевать и вернуться поскорее. И сама она обещала утром после обедни придти, повидаться с Хатун и с Маргарит. Мать добавила, что она всегда была очень довольна охотником Аво и считала его добрейшим человеком. Она говорила, что когда я исчез, то ее более или менее успокоило то, что я нахожусь у охотника.
— Откуда ты узнала, что я нахожусь у него? — спросил я.
— Сам охотник прислал человека с вестью о тебе.
— А ты знаешь, как я очутился там?
— Тебя увел Каро. Я все знаю…
При последних словах ее голос задрожал. Не знаю, почему имя Каро взволновало ее.
— Ведь Каро очень хороший человек, мама.
— Хороший, но… Оставим лучше, после поговорим о нем…
— А! Появился беглец! — Раздался громовой голос дяди Петроса, он вошел в палатку.
Я встал и, по обычаю того времени, поцеловал у дяди руку. Он поцеловал меня в лоб и посадил рядом с собой.
Дядя Петрос был в веселом настроении духа. Мне показалось, что он немного пьян. Он только что вернулся с семьей с гулянья.
— Ну, что ты поделываешь? — спросил меня дядя Петрос. — Что делает «старая лисица»?.. Тут люди стараются для души, а он там у вождя езидов, бог весть, какие козни строит… И своих цыплят рассылает в разные концы… К чему все это? Что может выйти из всех этих глупостей?.. И ты, друг мой, ветрогон, нечего сказать, в хорошее общество ты попал! Точно мышь в мышеловку!
Мне было ясно, к кому относятся насмешливые намеки дяди Петроса. Он имел в виду охотника Аво и моих товарищей, которые недавно гостили у охотника. Но откуда он узнал, что охотник или как он выражался «старая лисица» отправился к вождю племени езидов? Ведь это была тайна, которой я и сам бы не знал, если бы случайно не попало в мои руки письмо Каро. И откуда узнал он, что «цыплята» охотника, т. е. Каро и его товарищи разъехались в разные стороны. И что именно не нравилось в их поведении дяде Петросу и вызывало в нем подозрение? Все это было для меня загадкой, которой я не мог разгадать. Однако мне очень не понравились презрительные слова дяди Петроса по адресу тех людей, которых я очень уважал. Я хотел раскусить его, узнать суть дела, но в эту самую минуту в палатку вошел один из монахов монастыря богоматери. Это был отец Карапет, тот самый монах, который так бессовестно и жестоко погубил невестку мугдуси Тороса и стал причиной смерти двух несчастных жертв…
Мария и Магдалина уже давно знаками просили меня кончить разговор с дядей Петросом, и они очень обрадовались, когда монах прервал наш разговор и мне удалось уйти из палатки.
— Ты ведь придешь еще к нам, Фархат? — спросил дядя Петрос.
— Конечно, — ответил я.
— Ну ладно, иди.
Монах и дядя Петрос уселись рядышком и о чем-то стали перешептываться.
Со мной из палатки вышла и мать. Она сказала, что очень хотела бы оставить меня у себя, но раз семья охотника приехала без мужчин, она не хочет разлучать меня с ней и попросила днем бывать у нее, а ночью оставаться с семьей охотника и охранять ее.
— Но эту ночь пусть сестры останутся со мной, — попросил я у матери.
— Ладно, пусть останутся, — сказала мать и, поцеловав меня, отпустила нас.
Когда мы немного отошли от паломников-салмастцев, я спросил у сестер, кто еще приехал из наших знакомых. Они назвали несколько имен, а потом Мария добавила:
— А знаешь, Фархат, Соня тоже приехала с нами. Она приехала со своим отцом и братом. Что теперь скажет тебе священник, если увидит?
— Что ему говорить, — смеясь сказала Магдалина, — возьмет его за уши и скажет: «Фархат, почему ты убежал от своего учителя?»
— Ну это дудки! Теперь я сам возьму его за уши, — ответил я.
— Как! Разве это не грех? Ведь он поп.
— Фархат шутит, — сказала Мария.
— А Соня знает, что я здесь? — спросил я.
— Нет, она этого не знает. Утром она мне говорила: «Ах, как бы хорошо было, если б Фархат был здесь!». Ты знаешь, она хочет тебя видеть. А почему она этого так хочет? — спросила Мария.
— Не знаю — ответил я. — А где они остановились?
— А ты разве не видел? Ведь их палатка была рядом с нашей. Но они тебя не увидели. Они куда-то ушли. Их не было в палатке, — сказала Мария.
Сестры сообщили мне последние новости нашего города. Жена моего учителя, несчастная Гюль-Джаан умерла. Это меня отчасти радовало, так как несчастная избавилась таким образом от мучений, которые переносила столько лет, почти никогда не вставая с постели. Но на меня произвело тяжелое впечатление сообщение Магдалины о том, что причиной смерти попадьи послужили побои, которые наносил ей поп в последние дни ее жизни. Это было вполне правдоподобно, так как я хорошо помнил, как священник безжалостно, варварски колотил меня и моих товарищей. И такой человек являлся учителем и священником! Такой человек шел во главе своей паствы на поклон храму божьей матери!..
Затем сестра рассказала мне о том, что кроме Сони отец Тодик привез с собой в монастырь и сына своего, Степана. Здоровье ухудшилось и священник привез его с тем, чтобы оставить его в монастыре, включить его в число «бедняков богородициных». Теперь он считал болезнь Степана наказанием, ниспосланным богоматерью. Я не знаю насколько было правильно это мнение попа, однако хорошо знаю, что он обращался со своим больным сыном варварски, что он его повесил над колодцем, где тот висел целых полчаса, и что с тех пор помутился у него разум. Он страшно боялся и терял рассудок при виде воды или глубокой ямы. Это мне хорошо было известно.
Я был очень рад, что у матери не встретил отца Тодика. Для меня было бы невыносимо встретить снова того человека, который причинил столько горя и боли.
Дойдя до нашей палатки, мы нашли Хатун и Маргарит спящими. Но Маро не спала. Она ждала меня. Трудно мне описать ту радость, с которой Маро встретила своих подруг детства, трудно описать их излияния, взаимные ласки, объятия. Все это невозможно описать пером. Это можно только видеть и чувствовать.
В сердце армянской девушки есть нечто истинно ангельское. Оно останется всегда непонятным и загадочным для простых смертных. Это нечто чистое, непорочное, божественное. Оно излучает нежный, тихий свет, оно похоже на тонкое, сладкое благоухание, но вместе с тем оно совершенно неуловимо…
Главa 35.
КУРД У ХРИСТИАНСКОГО СВЯТИЛИЩА
Рассвело. День был воскресный. Утром мать пришла к нам, и мы все вместе отправились в церковь. В шатре осталась только старушка Хатун, чтоб варить мясо жертвенного барана.
Лагерь богомольцев волновался и проявлял ревностное благочестие. Всюду движение, всюду во всей своей божественной силе проявляется пламенная вера. Толпа стремится в храм, чтоб присутствовать на обедне и приложиться к могиле богоматери. В этой пестрой толпе можно видеть армян, приехавших отовсюду. Бросается в глаза пестрота головных, уборов. Тут можно увидеть и османлисскую феску, и курдскую чалму, и высокие меховые персидские шапки. И у женщин самые различные наряды. Армянка каждой страны приняла наряд господствующей в этой стране нации.
Армянин любит подражать. Он не сохраняет своих отличительных особенностей, своей национальности.
И язык, на котором говорили богомольцы, распадался на множество различных диалектов. Речь одного была почти непонятна для другого. Печальнее всего было то, что многие из этих армян говорили на языке той нации, под ярмом которого они томились и совершенно позабыли свой родной язык.
Мне казалось, что в этой пестрой массе национальное единство разрушено, все связующие нити порваны…
Но одна из этих нитей уцелела и сохранилась. Эту нить не мог порвать меч насильника. Она объединяла, связывала в одно, разрозненные части целого. Этой нитью была религия и церковь.
Но могла ли эта связующая нить сохраниться в своей божественной крепости, когда попечение о ней находилось в руках таких монахов как отец Карапет и таких священников, как отец Тодик?
Да и теперь еще мной овладевают горестные сомнения, когда я думаю об этом вопросе.
Празднество в честь богоматери было обращено в торжище, где тайно состязались двоякого рода торговцы, выставившие для продажи свои товары. Таковыми являлись с одной стороны ванские купцы, а с другой — монахи этого монастыря.
Ванские купцы выставили на площади свои мелочные товары, женские украшения, разноцветную парчу, одним словом пестрый хлам, который, однако, способен был привлечь внимание покупателей, ласкать глаз, вырвать из кошелька, даже самых скупых людей несколько курушов. Продавцы стояли около своего товара и громким голосом зазывали покупателей, расхваливая свой товар.
Пройдя ряды ванских торговцев, попадаешь в ряды торговцев-монахов, и перед тобой открывается зрелище целого учреждения — монастыря, представляющего из себя настоящую выставку.
Всходишь на паперть. Там по обеим сторонам входа расположились в два ряда «бедняки» монастырские. По этому ряду, как по улице, где по обеим сторонам стоят торгующие, доходишь до дверей храма. Изрытые язвами, отвратительные лица «бедняков» внушают ужас, вместе с тем, благоговейный трепет перед величием всемогущего бога, который проявил свою мощь на этих несчастных.
Когда мы проходили сквозь строй этих бедняков, какой-то голубоглазый, бледный юноша с золотистыми волосами вскочил с места, и обняв меня, сказал:
— Я боюсь его, Фархат!
Юноша указал на «бедняка», рядом с которым его посадили.
Я его сразу узнал. Это был сын отца Тодика — Степан.
Прежде чем я успел сказать ему что-нибудь, подбежал один из монахов, который стоял рядом с «бедняками», и объяснял прохожим, за какой грех богородица наказала того или иного из них.
Он оттянул от меня Степана и посадил его на старое место. Юноша печально посмотрел на нас и опустил голову. Бедный мальчик! Мало того, что семья сделала его несчастным, она не только не чувствовала своего варварства, но, наоборот, шла еще дальше, выбрасывая вон свою несчастную жертву.
Мы вошли в храм.
Тут на алтаре подряд расставлены мощи святых, вделанные в большие и малые золотые и серебряные кресты. Богомольцы по очереди подходят к каждому из этих крестов, целуют его и кладут свои денежные приношения в поставленное рядом блюдце.
Поклонившись святым мощам, мы направились к могиле богоматери. Всюду расставлены блюдца и чаши для приношений. У мощей стоят монахи, которые рассказывают о чудотворной их силе, возбуждая этим благочестие богомольцев и их щедрость.
Конечно, в те времена все это я воспринимал не так, как теперь, когда пишу эти строки. То, что я пишу теперь, является преображенным отражением моих тогдашних впечатлений. А в те времена я был полон теми же предрассудками и суевериями, которыми жила вся масса богомольцев.
До сего дня не могу забыть как я обрадовался, когда Маро сказала, обращаясь ко мне и к Маргарит:
— А ну-ка поцелуйтесь и станьте братом и сестрой.
Мы с Маргарит одновременно поцеловали святые мощи и дали обет быть братом и сестрой. Маро поцеловалась с Марией и Магдалиной, а мать со старухой Хатун, которая окончив свое дело, пришла в церковь.
Внутренний вид монастыря богоматери был такой же, как во всех прочих монастырях, построение которых относят к пятому веку. Собственный храм был отделен от передней части, которую называли «воротами» храма. Народ стоял в передней части, а служба происходила в самом храме, так что молящиеся не видели служителей церкви. Из храма в переднюю часть вела дверь, откуда появлялся священник согласно обряду службы.
В храме служили обедню. Хотя я и не видел священника, который служил, однако по голосу узнал в нем отца Тодика. Было великой милостью со стороны настоятеля монастыря позволить чужому священнику, притом в такой высокоторжественный день служить в монастырском храме обедню. Это представляло также и материальный интерес. Сколько приношений получит служащий обедню поп от этого множества богомольцев на «помин души» того или иного раба божьего!
Это обстоятельство обратило мое внимание на отца Тодика. Другим обстоятельством, привлекшим мое внимание, было то, что у алтаря, там, где были расставлены кресты с мощами, рядом с монахами стоял какой-то курд и сторожил приношения богомольцев. Другой курд стоял у могилы богоматери, исполняя те же обязанности.
Мне объяснили, что это люди ага-Айдара, которые приставлены тут для того, чтоб монахи не могли утаить действительного размера дохода монастыря за этот день, и чтоб ага-Айдар мог получить свою установленную долю с этого дохода. Мне передали также, что сам ага-Айдар находится в монастыре и сейчас в гостях у настоятеля монастыря.
На меня произвело гнетущее впечатление, что нога курда переступает
даже порог христианского святилища, что курд вмешивается в хозяйственную жизнь монастыря.
Между тем как я предавался этим размышлениям, кто-то потянул меня за полу платья. Я обернулся, смотрю — передо мной стоит Соня, разговаривающая с Маро. От множества народа было так тесно, что никто не заметил поступка Сони. Она, посмотрев на меня, повела бровью и продолжала беседовать с Маро. Знак, поданный ею, был мне понятен: она предупреждала, чтоб я держался подальше от нее, так как около нее стояла тетка. Что это значило?
Я не мог глядеть на ее бледное и печальное лицо без восторга. В своей бледности она казалась еще прекрасней.
— Говорят, в горах поймали какого-то отшельника, — говорила Соня.
— Да и я слышала об этом, — отвечала Маро, — Будто привели его и заперли в одной из келий монастыря, на следующий день пошли, отперли дверь, смотрят — отшельник исчез. Теперь не знают, отшельник был это или сатана.
— Маро, грешно тебе говорить так, — сказала Соня. — Какой же тут может быть сатана? Ведь отшельники тоже иногда делаются невидимыми. Бывает так: смотришь — стоит отшельник и вдруг он исчезает куда-то, становится невидимым.
— Говорят, тут есть один монах, который отшельничает в горах. То показывается глазу человеческому, то становится невидимым, — вмешалась тетя Сони.
— Пойдемте посмотрим, — сказала Маро.
— Я боюсь, — ответила Соня.
— Чего ты боишься, ведь отшельник человек, а не дьявол, — уговаривала Маро.
— Я и нашего Степана испугалась, когда увидела его среди «бедняков» монастырских.
Сестра боялась своего собственного брата, с которым вместе росла, с которым тысячу раз целовалась, боялась потому, что он теперь находился в обществе тех, которые общаются с духами…
Толпа богомольцев все больше и больше наполняла храм. Было так тесно, что нельзя было двигаться. Было душно и трудно дышать. Толпа монахов то криком, то наставлением, то бранью старалась поддержать в храме порядок и тишину. Но толпа неугомонно шумела и волновалась.
Я предложил нашим выйти. Нам с трудом удалось протесниться к выходу. Когда мы выходили из храма, Соня незаметно шепнула мне: «Как только зайдет солнце, приходи к „Молочному ключу“».
Глава 36.
ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХ
К «Молочному Ключу!» Теперь я понимаю, почему Соня назначила мне свидание именно там. «Молочный Ключ» — это из тех родников, которые в глазах народа имеют особое, священное значение. Родник этот называли «молочным» по той причине, что в народе сохранилось предание будто в этот источник капнула капелька святого молока богородицы. И вода этого источника обладала поэтому сверхъестественной целебной силой. Тот, кто купался в этой воде, исцелялся от всех своих недугов, и все желания его исполнялись. Купающийся выбирал такое время, когда никто не мог нарушать его покоя в тех таинственных условиях, при которых должно происходить купание.
Ах, с каким нетерпением ждал я в тот день захода солнца. Но солнце стояло неподвижно, словно пригвождено было к небу рукой Иисуса. Я не вытерпел и пошел туда раньше назначенного Соней часа.
У монастырской стены ходил по веревке канатный плясун, привлекший массу любопытных, которые с восторгом глядели на отважного артиста в пестром наряде. Богомольцы с благоговением повторяли имя Мушского султана Святого Карапета, который одарил канатного плясуна столь удивительным искусством.
«Хорошее время выбрала Соня, — подумал я. Сейчас вся толпа богомольцев занята канатным плясуном, и у „Молочного ключа“, вероятно, никого нет.».
«Молочный ключ» находился в тесном ущелье среди огромных скал, образовавших каменную пещеру, где вода собиралась в небольшом бассейне. В этой священной купели и купались богомольцы в надежде на исцеление от недугов и на духовное одарение. Вход в пещеру был так широк, что издали можно было видеть половину пещеры.
Я думал, что Соня еще не пришла, так как она обещала придти после захода солнца, и что я, нетерпеливый, пришел на целый час раньше назначенного времени. Но я издали увидел сложенное у входа в пещеру платье. Любопытство заставило меня проверить — женское это платье или мужское. «Быть может, это сама Соня, — думал я, — пришла купаться, а мне назначила время попозже, чтоб успеть к тому времени искупаться».
Я стал издали смотреть вовнутрь пещеры. Молодыми людьми часто овладевает такое нескромное любопытство. Вдруг на поверхности воды показалось прекрасное тело, чудесное тело! Распущенные волосы падали на свежую молодую грудь. Она с детской радостью играла с волнами в бассейне. Последние лучи солнца падали на ее бледное лицо. Как пленительно было это девственное лицо! Но она повернула лицо, словно не хотела, чтоб солнце своими золотыми устами касалось ее невинной груди. И она показала свою чудесную спину. Это длилось лишь одну минуту. Тело снова скрылось в воде.
Так, «огненные девы» появляются на поверхности Ванского озера, пленяя юношей, которые, горя страстной любовью, бросаются в пучину вод. Русалки похищают их и уносят в бездну вод и там в хрустальных палатах ласками своими тешат их.
Русалка снова показалась над водой. На этот раз она была спокойна и не резвилась. Сидя в воде, она расчесывала свои длинные волосы. Это она, Соня. Мне знакомы эти шелковистые волосы, этот ангельский образ.
И вдруг мной овладело чувство, страшное чувство, которое испытывает преступник, согрешивший перед святыней.
Мучения совести ужасны для сердца еще не утратившего силы жизни. «Я любил эту невинную голубку, — думал я, — но Маро, полудикая Маро, похитила мое сердце, принадлежавшее Соне». Мои размышления прервал человек, который, как мне показалось, шел прямо к пещере. Он с ног до головы был одет в черное платье, сделанное из грубой шерстяной материи. По всему было видно, что это какой-то монах-отшельник. Он шел медленно и спокойно, распевая какую-то грустную мелодию.
Я тотчас побежал к нему и, загородив ему дорогу, сказал:
— Не подходите к пещере, там купается девушка, моя родственница.
— Я иду сюда, — ответил он, — указывая в сторону озера и, бросив на меня пытливый взгляд, удалился.
Но какой был он таинственный! Наверно это один из отшельников, удалившихся от мира в пустынные горы. Когда он немного отошел, запел громче и я был удивлен тем, что он пел не духовную песнь или молитву. Такие песни можно услышать в степях Аравии, когда бедуин одиноко бродит по пустыне.
В ту же самую минуту я увидел, как из-за кустов появилась Сусанна с маленькой ворожеей и подошла к отшельнику-монаху. Монах обнял Гюбби, поцеловал ее, и они все вместе скрылись за холмом.
«Что за странное явление? — думал я. — Что общего между отшельником-монахом и старой гадалкой? Видимо, и песня его имела особое значение, и она-то вызывала скрывавшуюся в кустах старуху. На каком языке он пел?»
Эти размышления меня увлекли, и я не заметил, что солнце уже зашло, в долине уже сгущался мрак, и Соня давно уже оделась и вышла из пещеры.
Подходя к ней, я бы полон сладостных желаний. Мне казалось, что Соня обнимет, поцелует меня, расскажет о своей тоске, скажет много ласковых красивых слов. Но всего этого не случилось.
— Фархат, — сказала она сдержанно-холодным тоном, — найди какое-нибудь место, где бы нас не видели, мне нужно сказать тебе несколько слов.
Мы поднялись на соседний холм, покрытый дикими миндальными деревьями и сели под прикрытием скалы. Оттуда был виден огромный лагерь богомольцев, расположенный вокруг монастыря, освещенный разноцветными фонарями. Издали доносились звуки музыки и пения. Но Соню ничто не привлекало. Она была печальна. Бедная девушка! Никогда я не видел ее веселой…
Сперва она рассказала мне о себе, о своем положении. Лишившись матери, она нашла утешение в брате Степане, который за последнее время чувствовал себя лучше. Но несмотря на это, отец ее решил, что болезнь Степана есть наказание, ниспосланное богородицей, поэтому привез его и отдал в монастырь, где его включили в число «бедняков» богородицы. Она умоляла отца не отдавать Степана в монастырь, обещая ухаживать за ним и беречь его, но все ее мольбы остались тщетными. Отец Тодик был неумолим. И вот, Соня, не желая расстаться с братом, решила поехать с отцом на богомолье, надеясь, что ей удастся отговорить отца от его жестокого намерения. Все это она рассказала мне с печалью, но без слез. Она, бедняжка, была столь несчастна, что уже не могла плакать. Затем, взяв с меня клятву, рассказала следующую тайну. Против охотника Аво и его гостей, т. е. Каро и товарищей готовится большой заговор. И Соня рассказала мне о том, что у ее отца происходили собрания, на которых присутствовали: настоятель монастыря богородицы отец Карапет, мой дядя Петрос, один курдский князь и несколько других лиц, которых она не знает. Она иногда подслушивала их разговоры и, хотя многого не понимала, однако узнала, что разговор шел об охотниках Аво, Каро и их товарищах, причем говорили о них много дурного и размышляли о том, как бы погубить их «дабы искоренить смуту».
— Хорошо, в чем же они виноваты? — взволнованно прервал я ее.
— Я не знаю, Фархат, — ответила Соня, тоже волнуясь. — Говорят, что они злые люди, разбойники, где ни появятся, там сеют смуту, там проливается кровь…
— Я этому не верю, Соня.
— И я не верю, но что поделаешь, не зажмешь рот у того, кто говорит. Когда я услышала все это, мной овладела тоска. Я знала, что и ты с ними, значит и тебе грозит опасность. Глаза ее наполнились слезами. И она, рыдая, продолжала:
— Как только я узнала это, побежала к твоей матери и все ей рассказала, с тем, чтоб она известила тебя об этом… Но она не успела. Она была очень огорчена и говорила: «Пропал мой сын!»
Я был глубоко взволнован и не мог понять, как это священник-армянин, монах-армянин и мой дядя Петрос объединились с каким-то курдским князьком и строили план заговора против тех, которые задались целью служить народу, осушить его слезы. Мне было непонятно, что эти заговорщики могли мириться с невыносимым игом курдского князя, чья поганая нога переступила даже священный порог храма, и подстерегала его доходы, как я это видел собственными глазами.
Однако, Соня боялась не только за меня, но и за Каро и товарищей. «Они хорошие ребята, — говорила она, я их никогда не забуду».
Соня советовала мне немедленно сообщить им о плане заговорщиков и предостеречь их от грозящей опасности.
Уже совершенно стемнело, когда мы с Соней вернулись в лагерь богомольцев. Как я, так и Соня, были так взволнованы и огорчены, что ни о чем другом больше не говорили. Она шла рядом со мной грустная и безмолвная. «Бедная девушка, — думал я, — она теряет сразу два утешения — своего единственного брата, которого отдают в монастырь и того человека, которого она любила и с которым шла.»
Когда мы подошли к лагерю богомольцев, она сказала:
— Доведи меня до палатки нашего дьячка Татоса и удались.
— А он тоже здесь?
— Да. Он приехал со своей семьей и родственниками.
— Разве он женился?
— Уже несколько месяцев как он женился. Надеется стать священником.
— Все повенчались, — сказал я, — один я остался без жены…
— Бог милостив и ты женишься, — многозначительно сказала Соня, и я заметил как по ее грустному лицу пробежала улыбка.
Дьячок Татос читателю уже знаком из предыдущих глав нашего дневника. Этот болван был в нашей школе надзирателем и его ученики прозвали «школьным псом». Теперь он женился и оказывается собирается стать священником! Неужели он заслужил такую честь?
Доведя Соню до палатки дьячка Татоса, я удалился.
Глава 37.
МАСКА СРЫВАЕТСЯ
Было уже поздно, а я, увлеченный размышлениями, блуждал, не зная куда идти. Сведения, сообщенные Соней, не давали мне покоя. Я был ими крайне смущен.
Вдруг передо мной, словно из земли вырос дядя Петрос.
— Пойдем, — сказал он важно и деловито, — пойдем ко мне, заблудившаяся овца, мне нужно с тобой поговорить.
Я покорно последовал за ним, так как с детства привык почитать его, как отца. Он повел меня к себе в палатку. Жене и всем, кто находился там, он велел уйти к соседям и, оставшись со мной наедине, начал говорить. Разговор касался охотника, Каро и других моих товарищей… Слова дяди подтверждали все, рассказанное мне Соней. Новостью было для меня лишь то, что рассказал мне дядя о молодости, о полном превратностей громком прошлом старого охотника. Дядя Петрос рассказал о том, как старый охотник, скрывающийся под именем Аво, когда-то бежал в Персию из Мокского и Сасунского края, скрываясь от преследования. Прежде его звали не Аво, а Мелик-Мисак, и он был князем всего Мокского и Сасунского края. Там был у него свой замок, богатые поместья и целое войско. Весь Сасун и все полудикие племена Мокского края трепетали перед его могуществом. Он обуздал и покорил не только всех армян, но и все курдские племена.
В своем управлении страной Мелик-Мисак ничем не отличался от крупных, самовластных князей курдов. Он также шел походом на непокорных соседей, захватывал их земли или военную добычу, уводил жителей в плен. Таким образом, ему удалось покорить и подчинить себе не только всех армян, но и несколько курдских племен. Эти последние были так привязаны к своему мелику-армянину, что охотно принимали участие в его походах против соседних курдских же племен.
Тут я прервал рассказ дяди Петроса, спросив:
— А разве курды не также поступают с армянами?
— Да, поступают, но разве достойно для армянина брать пример с разбойника курда?
Мне вспомнились слова старого охотника и я ответил дяде:
— С разбойником надо поступать по-разбойничьи. Нельзя поступать как отшельник, когда имеешь дело с разбойником. Когда курд идет на нас с мечом, идет с тем, чтоб разорить наш дом, захватить наше имущество, обесчестить нашу семью, мы должны встретить его не с крестом и евангелием в руках, а с мечом, дабы защитить нашу честь.
— Заразился бедняжка! — сказал дядя Петрос, качая головой. — Так может говорить только усердный ученик старого охотника.
— Правда, я прежде думал не так. Мне казалось, что создав армянина, бог осудил его на жалкое существование раба, написал на его челе, чтоб он трудился на других, чтоб он терпеливо и покорно выносил побои и поношения, одним словом всякое бесчестие. Но теперь я понимаю, что бог не хочет того, чтоб армянин был беден и жалок и что, если он находится в таком печальном положении, то в этом виноват он сам…
— Ты заразился… Бедный мальчик! — произнес дядя Петрос, соболезнующим тоном. — Ты повторяешь слова знаменитого разбойника (старого охотника). Это слова «старого волка», для которого жизнь человека, что жизнь мухи, который убил столько людей, сколько у него волос на голове, который разорил тысячу семейств, у которого нет ни совести, ни жалости…
Последние слова дяди еще больше рассердили меня. Это была беззастенчивая брань, направленная против человека столь великодушного, столь добросердечного, столь отзывчивого на горе и нужду бедняка. Я готов был схватить дядю за горло и задушить его, но внезапное появление гостя помешало мне проявить свою ярость.
— Мир вам, — услышал я за своей спиной чей-то голос и в палатку вошел мой учитель, отец Тодик.
— «Блудный сын», появился! — сказал он, увидев меня. — Но раскаялся ли он?
— Напротив, он еще больше ожесточился, — ответил дядя Петрос. Я молчал.
Священник уселся.
Дядя Петрос вкратце передал ему содержание нашего разговора и самыми темными красками обрисовал перед попом мое упрямство и заблуждение.
Поп начал упрекать меня за мои мечтания и стал развивать передо мной свою обычную церковно-религиозную философию.
— Мы грешные рабы божьи, ничто не в наших руках, ничего мы не можем сделать. Все совершается по воле бога. Против его воли и лист не слетит с дерева. Бог создал всех и судьбу каждого предопределил сам. Вола он создал для того, чтоб он пахал пашню человека, овцу создал, чтоб она давала человеку молоко, мясо и шерсть, лошадь создал он для того, чтоб она таскала тяжести. Так каждого создал господь и каждому определил его назначение. Человек не может требовать, чтоб молоко и шерсть давал ему волк, и от льва он не может требовать, чтоб тот пахал, равно и от медведя не может требовать, чтоб он таскал тяжести. Это звери, которых создал бог как наказание для других животных. Их назначение захватывать, грабить, отнимать, их назначение, — питаться кровью и мясом других.
Я обратился к своему бывшему учителю и не смущаясь, спросил:
— Какая же аналогия между теми, о которых вы говорите и людьми?
— Очень простая, — ответил поп. — Люди созданы также. У одного нрав овечий, у другого — волчий.
— Какой же нрав у нас, у армян?
— Мы агнцы божьи, — ответил он, приведя цитату из евангелия, — «паси овец моих» — сказал господь наш Иисус Христос апостолу Петру. Отсюда ясно, что мы не должны быть такими как звери — курды.
В словах попа я не нашел ничего нового. Он повторял свои старые проповеди, слышанные мной тысячу раз. Но теперь все это не лезло мне в голову. Теперь я понимал, как вредны эти проповеди.
Еще более неприятно было мне то, что поп пришел и помешал нашему разговору с дядей Петросом. Рассказ последнего о прошлом охотника остался недоконченным. Мне страшно любопытно было узнать до конца историю жизни этого скрытного человека.
Но дядя Петрос сам дал повод к продолжению этого рассказа.
— Видишь, сын, — сказал он, — вот и батюшка говорит то же, что и я. Уйди ты от этих людей, если не хочешь погубить себя.
— Я хочу узнать их лучше и ближе. Расскажите, пожалуйста, как произошло падение Мелик-Мисака, и каким образом он появился в Персии под видом простого охотника.
— Это очень длинная история, подробности которой мне самому неизвестны, — сказал он. — Только я знаю, что в Сасуне и Мокском крае имелись и другие князья и старшины армяне, которые были против Мелика и составляли особую партию. Они объединились с местным архиереем и привлекли на свою сторону нескольких монахов, стали возбуждать народ против Мелика. Они заявили: «Мы не хотели, чтоб над нами княжил армянин, для нас курд лучше. Армянин не может быть беком (князем)».
Затем дядя Петрос в презрительном тоне описал падение Мелика. Из всего этого рассказа я приведу лишь следующее.
В те времена в Амедии княжил некий курд, который стоял во главе нескольких племен и имел в своем распоряжении многочисленное войско.
Он был злейшим врагом Мелика. И вот армянский архиерей вместе с несколькими старшинами отправляется к этому курду и заявляет ему, что они, как и большинство народа, недовольны Меликом и хотят свергнуть его иго. Поэтому они приглашают курда-князя придти и править ими. При этом архиерей и старшины обещали курду всячески содействовать ему при покорении страны и служить ему верой и правдой.
Я прервал речь дяди Петроса, спросив:
— Какая же была бы польза архиерею от того, что армянский народ перешел бы под власть курдского князя?
— Очень большая, — ответил он. — Если бы Мелик был устранен, то архиерей остался бы единственным представителем народа, как духовным, так и светским. А при Мелике он оставался в тени, являясь лишь высшим духовным сановником.
Спустя много лет после этого, я понял вечную борьбу армянского духовенства против светской власти. Это я понял лишь тогда, когда изучил историю нашего народа и познакомился с нашим печальным прошлым…
То, что предлагал армянский архиерей со своими единомышленниками, было заветной мечтой курдского князя.
План заговора составлен, а приведение его в исполнение должно было состояться на страстной неделе, в субботу вечером. Как раз в назначенный день, в тот час, когда Мелик вместе со своей семьей сидел мирно за ужином, его замок был осажден многочисленными вооруженными курдами. Замок был со всех сторон подожжен и огонь быстро проник во внутренние покои. Окружающие замок стены рухнули и толпа хлынула в замок. Началась страшная резня. Мелик долгое время храбро сражался, но получил много ран и свалился.
Мхэ схватил почти бездыханное тело своего господина и под дождем пуль унес. Вся семья Мелика погибла, за исключением маленькой Маро, которую спасла ее кормилица.
Но этим дело не кончилось. Большинство народа осталось верным своему вождю, который отечески заботился о нем и защищал от врагов его честь и жизнь. Народ поднялся на защиту своего главы и попытался оказать врагу сопротивление, но что мог сделать народ без вождя, без предводителя? На несколько недель Сасун и Мокский край превратились в арену кровавой борьбы и беспощадной резни, Мелик был бессилен, он мог лишь издали следить за борьбой и рычать, как раненый лев. Меч курда беспощадно истреблял и ему помогали те же армяне, злобные, преступные служители церкви…
Наконец народ был покорен и подчинен игу иноземца. Курдский князь овладел страной.
После этого тысячи людей искали Мелика, так как среди убитых в замке его трупа не нашли. Но Мхэ давно перенес его через неприступные горы и ущелья в Персию.
Рассказ дяди Петроса произвел на меня потрясающее впечатление. Я всем телом дрожал. Но еще больше взбесили меня сентенции священника, которыми он как бы заключил рассказ дяди Петроса.
— Клин клином вышибается, — сказал он. — Обнаживший меч, от меча погибнет.
Затем он добавил:
— Подобные люди губят не только себя, но ввергают народ в пучину горя и крови…
— Правильно ваше слово, батюшка, — ответил дядя Петрос. — Перебравшись в Персию, — продолжал свой рассказ дядя, — Мелик долгое время скрывался под видом простого охотника, лелея в душе тайные свои цели. Но когда он учуял, что скоро его разоблачат, покинул Салмаст и переселился в Ахбак
[22]. Народ там дик и некультурен, а ему именно такой народ и нужен. Он быстро сумел привлечь на свою сторону простонародье и с согласия всех был избран «миром». С тех пор и пошла смута. Удачная для него битва при Аспистане ободрила его. Теперь он отчасти достиг своей цели. Но он хочет в Ахбаке играть ту же роль, какую играл когда-то в Сасуне.
— Такие люди подобные чуме, — сказал поп, — они всюду несут с собой смерть и гибель.
— Ежели цель охотника заключается в том, — ответил я, — чтобы армянский народ был освобожден от иноземного ига и сам управлял своим домом и своей страной, то в этом я не вижу ничего дурного. Я сам буду первым, кто отдаст свою кровь во имя этой его цели.
— И ты будешь первым безумцем… — послышался чей-то голос. Оказывается, будучи сильно взволнован, я не заметил как вошло в палатку дяди Петроса новое лицо — какой-то монах. Вглядевшись, я узнал в нем того самого монаха, которого я днем встретил у «Молочного Ключа». Он присел. По тому, как его приняли дядя Петрос и отец Тодик, было видно, что они высоко чтят этого монаха.
Когда зажгли свет, я заметил, что у него длинная седая борода. Одежда у него была самая простая. Так одеваются пустынники, отшельники. Но несмотря на его старость, у него глаза горели живым блеском и энергией. Не обращая на меня никакого внимания, он стал разговаривать с дядей Петросом и с попом. Скоро я почувствовал, что мое присутствие тут совершенно излишне и не особенно им приятно, поэтому пожелав им доброй ночи, удалился.
Глава 38.
ГНЕВ МАРО
Я почти выбежал из палатки дяди Петроса. Долго я не мог забыть отшельника, который явился в конце нашей беседы. В этом пустыннике было что-то таинственное. Несколько часов до этого я встретил его у «Молочного Ключа». Тогда он появился и, напевая какую-то арабскую песню, исчез, как привидение. Его голос вызвал из-за кустов Сусанну. Он обнял Гюбби и скрылся за холмом. Теперь я его встретил уже в обществе двух заговорщиков. Что может быть общего у друга Сусанны и Гюбби с врагами Каро и старого охотника? Этого я не мог понять.
Размышляя, я, незаметно для себя, прошел через лагерь богомольцев и дошел до нашей палатки. Все спали, за исключением Маро. Она сидела у входа в палатку и ждала меня.
— Где ты пропадал? — спросила она, увидя меня.
Я ничего не ответил и заметив, что в палатке женщины спят, уселся рядом с ней на траве. Мое молчание еще больше рассердило Маро.
— Очень нужно! Подумаешь! И не хочет говорить, — сказала она, как бы про себя. — Словно красная невеста, ждет подарка, чтоб открыть свои уста!
[23]
Эти слова она произнесла с едкой насмешкой. Трудно было удержаться от смеха, но я решил сохранить серьезный вид и скрыл от нее свою улыбку.
Маро сидела у входа в палатку, а я на траве недалеко от нее…
— Если подойдешь ко мне поближе, я с тобой заговорю, — сказал я.
— Скажите пожалуйста! Какой важный дядя! Нужно еще исполнять его капризы! — презрительно сказала она.
«Видимо, Маро сердита», — подумал я и сам подсел к ней, желая узнать причину ее гнева.
— Ты сегодня много говорил, — сказала она, — лучше бы лег спать, должно быть устал.
— Откуда ты узнала, что я много говорил? — с удивлением спросил я.
— Знаю… Но ты нехороший товарищ, Фархат, да будет тебе стыдно… Девушка, которая назначила тебе свидание, так торопилась, что оставила у «Молочного ключа» свой гребешок. А ты оказался настолько невнимательным, что этого не заметил. На, бери и передай ей, да похвались, что ты подобрал его и спрятал…
Тут я понял причину ее гнева.
Она передала мне гребешок Сопи, позабытый ею у «Молочного ключа», когда она там купалась. Но как попал он к Маро?
— Кто дал тебе этот гребешок? — спросил я.
— Я сама нашла.
— Ты нас видела?
— Не слепая, чтоб не видеть.
— А почему же мы не заметили тебя?
— Иногда я бываю невидимой как демон, — сказала она и рассмеялась.
Зная ее хитрости, я не сразу ей поверил и сказал:
— Врешь, милая, признайся, что гребешок попал к тебе как-нибудь иначе.
— Не веришь? — сказала она повышая голос. — Я тогда расскажу тебе. Она купалась, а ты, как шальной, глядел на нее. Вдруг появился в ущелье отшельник, который пел какую-то грустную песню. Потом появились Сусанна и Гюбби, а вы с ней поднялись на холм, сели под миндальными деревьями, среди кустов. Если хочешь, я расскажу о чем вы говорили.
— Теперь я верю, — сказал я.
После минутного молчания Маро сказала:
— Бедная Соня, как она несчастна! Я не могла удержать слезы, когда она рассказывала о смерти матери и о горестной судьбе брата. Поверишь ли Фархат, я сидела под кустами и плакала. — Я заметил, как при последних словах глаза Маро наполнились слезами.
— Да ты и сейчас вот плачешь, — сказал я.
Она ничего не ответила. Но вдруг она болезненно вздрогнула и выражение ее лица сразу изменилось.
— Фархат, ей богу, я убью ее отца, как собаку, — сказала она. — Пусть он поп, я не боюсь греха, я знаю, что он дьявол.
— Но он отец Сони.
— Это правда. Соню я очень люблю, она славная девушка. Если бы у меня была сестра, то ее я любил бы не больше, чем Соню. Но своего отца я люблю больше.
Причина бешенства Маро была известна, но ее волнение мне показалось смешным и чтоб испытать ее, я спросил:
— Чем виноват поп?
— А ты думаешь, я не слышала? — ответила она. — Я все знаю. Я знаю, какую яму роет ее отец для папы, Каро и его товарищей. Что они сделали дурного? В чем они виноваты?
Я пытался успокоить разъярившуюся Маро, от которой всего можно было ожидать.
— Нехорошее дело ты задумала, Маро. Правда, против твоего отца существует заговор, но нам нужно быть благоразумными, нам нужно поторопиться вернуться домой и обо всем рассказать твоему отцу.
— Нечего торопиться, потому что через день он все узнает, — беспечно ответила Маро. — Но свою клятву я исполню.
— Оставим твою клятву. Ты лучше скажи мне как может твой отец узнать это?
— Я отправила к нему человека.
— Когда? Кого?
— Полчаса тому назад Мхэ был здесь. Ему было по пути и он зашел сюда поклониться богоматери. Ему сказали, что мы здесь и он, радостный, пришел к нам. Он не сказал мне откуда он идет, но он был очень весел. Ему я рассказала все, что знала. Он так рассердился, что даже не пошел поклониться богородице, а взял свою дубину и пустился в путь к папе.
— А он знал, где твой отец?
— Знал. Это что за дьявольская затея! — сказал он — Пойду поскорее расскажу охотнику. Хотя папа сейчас в Шатахэ, до которого отсюда несколько дней пути, но я знаю, что Мхэ мчится как ветер и послезавтра будет у папы.
Мхэ не сказал Маро — откуда он шел, но я знал, где он был и откуда он возвращался. Он явился сюда, чтоб кровавыми устами прислониться к образу богоматери. Удивительно, думал я, даже у преступника теплится в сердце религиозное чувство. Однако можно ли считать его преступником?
Распоряжения Маро несколько успокоили меня, но все же я настаивал на том, что нам нужно поскорее вернуться домой. Маро возражала.
— Я не уйду, пока не исполню своего обета. Я собиралась уже в эту ночь… но…
Издали послышалось тихое пение. Это был тот же голос, который я слышал у «Молочного ключа».
Услышав пение, Маро переменила тему разговора.
— Это поет «отшельник», — сказала она. — Прислушайся — смотри как он хорошо поет, Фархат.
И действительно, в ночном безмолвии песня звучала чудесно. Маро долго слушала песню, а потом спросила.
— Ты знаешь кто это?
— Я его не знаю. Сегодня в первый раз я видел его у «Молочного ключа», тогда он пел эту же самую песню. Затем я его видел в палатке дяди Петроса.
— Как ты наивен, Фархат.
— Почему?
— Потому что ты не узнал своего давнишнего товарища.
— Кто он?
— Аслан.
— Не верю, Маро, ты смеешься надо мной.
— Ну вставай, пойдем, он зовет нас. Я понимаю смысл его песни. Ну не мешкай. Еще раз увидишь его, тогда поверишь мне.
Хотя эти слова Маро произнесла с твердой уверенностью, однако мне не верилось, чтоб дряхлый отшельник, которого я видел, мог быть Асланом. Но Маро в подтверждение своих слов привела соображение, которое она высказала, когда впервые увидела тут старуху Сусанну с Гюбби: «Либо Каро, либо кто-нибудь из его товарищей находятся тут, так как эта старуха появляется там, где находится кто-либо из них».
И правда. Я ведь сегодня еще видел их у «Молочного ключа» в тот момент, когда пустынник-монах проходил мимо и встретился с ними. При этом он нежно обнял и поцеловал Гюбби.
Мои сомнения рассеялись и я согласился пойти к отшельнику. Однако как оставить палатку без мужской охраны?
— Святая богоматерь охранит своих паломников, — сказала Маро. Но это меня не успокоило и, когда она вошла в палатку, я позвал проходящего мимо крестьянина и заплатив ему несколько курушов, попросил посторожить палатку, пока мы вернемся. Через несколько минут Маро вышла из палатки. Она укуталась в широкую ванскую «аба» и надела на голову повязку на курдский лад.
— Кто это? — спросила она, увидя крестьянина.
— Я попросил его посторожить палатку, ответил я.
— Хатун не спит… Ладно, пойдем.
Когда мы немного отошли, она сказала:
— Ты ведь не знаешь, Фархат, он сам может обворовать… Здесь все разбойники.
— Нет, он монастырский. А эти богобоязненны.
— Ничего подобного! Я собственными глазами видела как монах взял себе деньги, пожертвованные мной для церкви, когда я положила их на блюдце, которое он нес. Они нас обманывают, Фархат, они не такие, какими себя показывают. Папа много рассказывал мне об их проделках.
— Что это у тебя звякает под плащем? Оружие, что-ли? — спросил я.
— Отец велел мне ночью никогда безоружной не выходить. По пути я спросил ее, как она узнала «отшельника».
— Сперва я не узнала его, когда увидела у «Молочного ключа». Такую хитрец бороду сделал себе и парик! Лицо он покрасил и превратил в лицо дряхлого старика. Даже морщины были у него на лице! Но глаза его остались те же, как и раньше. А кто не узнает прекрасных глаз Аслана, если хоть раз их видел?
— Но какой же дьявол привел тебя туда, к «Молочному ключу»? — Маро откровенно призналась, что она в церкви слышала, как Соня назначила мне свидание у «Молочного ключа» и что у нее появились сомнения и ревность… Она не вытерпела и пришла туда.
— И что же, сомнения твои рассеялись? — спросил я.
— Не совсем. Но мне все равно. Соня хорошая девушка, я люблю ее. И ты ее должен любить…
Эти слова Маро произнесла быстро и резко, словно они жгли ей уста. Но она не была виновата. Ревность знакома всем, в ком есть чувство.
Теперь мы ясно слышали пение отшельника.
— Пойдем сюда, — сказала Маро, — мы его найдем в горах.
Глава 39.
СКРЫТНЫЙ АСЛАН РАЗОБЛАЧАЕТ СЕБЯ
«Отшельника» мы нашли вдали от монастыря в прибрежных горах. Он сидел в каменной пещере, которая глядела прямо на пустынь Лим. Мрачный островок чернел на ясной поверхности озера, залитого серебристым светом луны. Каменная пещера, в которой нашли мы «отшельника», представляла из себя жилище какого-то пустынника. На полу пещеры видны были ямки, которые, как говорило предание, образовались от частых коленопреклонений божьего человека. В пещере не было света. В углу горел костер, который и освещал и согревал холодное жилище отшельника. Недалеко от костра спала старая ворожея Сусанна. «Отшельник» не спал. Он был погружен в размышления. Положив голову на его колени, мирно спала маленькая Гюбби. Прелестная картина!
Когда мы вошли, «отшельник» очень осторожно подложил под голову маленькой ворожеи свое пальто и встал. Он обнял и поцеловал сперва меня, а потом Маро, которая нисколько этому не сопротивлялась, так как нельзя было отказаться от этого братского чистого и невинного поцелуя. Затем отшельник оглядел Маро с ног до головы и сказал:
— Вот это хорошо. Это я люблю.
Мы сели.
— Теперь я сниму маску, — сказал он, — при друзьях, мне нечего скрываться под маской.
Он снял парик и бороду и предстал перед нами в прежнем своем виде.
В кратких словах я объяснил ему цель нашего посещения и рассказал все, что узнал я от Сони у «Молочного Ключа», а также и все то, что говорил мне дядя Петрос в своей палатке. Я изложил все, что знал о плане заговора против старого охотника и его друзей. Маро сообщила о сделанных ею распоряжениях, о том, что она отправила Мхэ с этой вестью к своему отцу.
— Благодарю вас за ваши заботы, — сказал он с грустью, — но все это мне было уже известно. Мне удалось, пользуясь своим монашеским видом, проникнуть на собрания заговорщиков в качестве их единомышленника. Однако все их старания напрасны.
Видимо Аслану было грустно, и наше посещение не обрадовало его, быть может он не хотел разоблачать себя перед нами, считая нас неопытными и боясь, как бы мы не выдали его тайны. После некоторого молчания он сказал:
— Меня не удивляет такое положение вещей, но конечно крайне огорчает, потому что каждый раз, когда затевается заговор против армянского народа, то среди заговорщиков всегда можно найти предателей из армян же. Это преступление повторялось в истории нашего народа из века в век. Это одно из дурных свойств армянина…
— Чем кончится предпринятое нами дело, трудно предугадать, но мы уверены в успехе, так как действуем согласно общим законам природы. Как в природе, так и в человеческом общежитии ничто не происходит без причины. Мы видим, что всякая сила, чем больше она сдавлена, тем больше проявляет сопротивление. В конце концов должен произойти взрыв, сдавленная сила должна разбить сковывающую ее оболочку и получить соответствующую ее природе свободу. Народ, толпа — это тоже сила. Эта сила не может долго терпеть давящего, угнетающего ее насилия. Она должна выстоять и разбить сковывающие ее цепи, свергнуть иго деспота.
Пробил уже час. Вот в каком положении находится теперь наш народ…
— Дяди петросы, — продолжал он, — и отцы тодики — пасынки народа, они оторваны от массы, они служат своим личным, эгоистическим интересам. Их не мало и притом, что особенно прискорбно, они являются руководителями народа. В этом-то и наше несчастье.
— Какие же у них могут быть интересы? — спросил я.
— Дядя Петрос состоит поставщиком двора у одного знатного курдского князя, — ответил Аслан. — Он доставляет дому князя все необходимое. Ему предоставлены широкие полномочия в области хозяйства княжеского дома. Все в доме князя за всем необходимым обращаются к нему и он доставляет все, начиная от съестных припасов и одежды, и кончая всякой мелочью.
Конечно, ему желательно вести подобную торговлю с курдом, который не имеет никакого представления о торговле. «Щахбанда» — поставщик сам оценивает свои товары и ведет запись всему, что им отпущено. В конце года он предъявляет князю огромный счет. Наивный курд вынужден счет этот принять, но у него обыкновенно не бывает денег для уплаты по счету, притом он не привык оплачивать счета серебром. У него есть продукты, и он взамен одних продуктов отдает другие. Достаточно было князю совершить набег на ту или иную соседнюю страну, и он возвращался с огромной военной добычей в виде овец, лошадей, коров и ковров. Но нужен человек, понимающий толк в торговле, который мог бы весь этот товар вывезти в далекий край и обменять на серебро. И вот дядя Петрос тут как тут. У него всюду есть агенты, которые могут сплавить ворованный, награбленный товар. В уплату по счету вместо серебра он получает натурой именно добычу, награбленное князем добро. А ворованный товар покупается обыкновенно по дешевой цене…
— Дяди петросы, — продолжал Аслан, — те же разбойники, только в образе торговцев. У каждого курдского князя имеется такой торговец. И каждому «дяде петросу» желательно, конечно, чтоб власть князя, у которого он состоит поставщиком, была крепка и безгранична, хотя все они знают, что добро, которое берут они за бесценок у князя в счет их долга награблено у многих тысяч бедняков-армян. Но что им слезы и стоны армян! Им важно то, что они наживаются.
Аслан говорил спокойным и тихим голосом, точно речь шла о самых обыкновенных вещах. Но он говорил без устали, так как сердце его было переполнено. В эту минуту я не мог смотреть на Маро без ужаса: ее губы дрожали, она то бледнела, то краснела — все ее существо выражало неодолимую ярость.
— Нужно уничтожить всех этих петросов, — сказала она после долгого молчания.
— Это особой пользы не принесет, — с обычным хладнокровием ответил Аслан, — Уничтожая в обществе разбойников, мы не уничтожили разбоя. Это грубая азиатская форма борьбы со злом. В жизни общества ничто не появляется без причин, кроющихся в недрах этого же самого общества. Если мы возьмем какого-нибудь разбойника, убийцу или раба и изучим историю его жизни, то увидим, что сами условия жизни сделали разбойника разбойником, раба рабом и убийцу убийцей. Измените условия их жизни, и они превратятся в порядочных людей. И поэтому мы можем скорбеть, что в нашем обществе появляются такие негодяи, но осуждать их не можем, потому что эти люди являются продуктом прогнившей общественной организации. И если мы хотим уничтожить преступность, то мы должны стараться исправить, изменить дурную организацию общества. Тогда все члены общества будут хорошими.
— Мне непонятны ваши суждения о том, почему люди становятся такими или иными, — сказала Маро, — Я знаю одно, что нужно размозжить голову змеи, когда видишь, что она готовится ужалить тебя. Я поклялась уничтожить дядю Петроса за то, что он враг моего отца. Фархату я уже говорила о своем намерении.
— Это частная цель и подобным поступком ты не поможешь «общему делу», — сказал Аслан. — Если бы тут был наш товарищ Каро, то он быть может и согласился бы с тобой, но я считаю это вспышкой молодого сердца, больше ничего.
После некоторого раздумья он опять заговорил:
— Если бы змея, как ты сказала, была одна, тогда нужно бы было размозжить ей голову, и мы были бы освобождены хоть от одного злодея, но к сожалению их слишком много.
Я бывал в Азиатской Турции, в Константинополе, Египте, одним словом везде, где есть армяне. Я более или менее изучил как прошлое нашего народа, так и его современное положение. И я видел, что как при дворе ничтожного курдского князька, так и при дворах правителей провинций — пашей, при дворах везиров и при высочайшем дворе султана имеются свои «дяди петросы». И чем выше положение того, кому они служат, тем они, эти «дяди петросы» вредоноснее. Все они похожи друг на друга. Разница заключается лишь в видах воровства. Вор не опасен, когда он у одного ворует его барана, у другого его осла. Я говорю о тех ворах, которые наносят вред всему народу. Они являются удобным орудием в руках наших поработителей. Они давят и уничтожают всякую силу, которая стремится создать покой для бедняка. Такими ворами являются, как я уже сказал, руководящие слои нашего общества…
Оставим мелких петросов и перейдем к крупным. При султанском дворе все управление финансами и хозяйством находится в руках армян «сарафов». Они носят высокий титул и называются «амира». Теперь посмотрите в чем заключается должность этих «амира» (сарафов). Сбор податей с провинций, а также отправление правосудия правительство дает на откуп какому-нибудь паше. Но паше правительство не доверяет. Оно не надеется на то, что паша вовремя представит сумму подати, наложенной на данную провинцию. Паша должен представить поручителя. «Амира» охотно поручается за пашу, потому что доля дохода паши достается ему. Но откуда берется этот доход? Он добывается путем эксплуатации массы несчастных, угнетаемых и притесняемых. Этот доход является пóтом этих эксплуатируемых масс. Паша собирает подать не останавливаясь ни перед какой жестокостью и собранное посылает придворному поручителю своему, который в свою очередь эту подать сдает в государственную казну. Но он вносит в казну не серебро, а бумаги («фусула»), которые ему были выданы из казны вместо денег и, таким образом, он сплавляет свои залежавшиеся бумаги.
— Но откуда попали к нему эти бумаги? — спросил я, не поняв хорошенько того, что говорил Аслан.
— Придворный «амира», — ответил он, — связан с высочайшим двором всякими торговыми делами. Он является поставщиком войска или ведает хозяйством гарема. Лучшими и драгоценнейшими камнями мира украшает он жен султана и доставляет им на наряды лучшие в мире ткани. За все это он не получает наличных денег, ему дают лишь бумажки. Вот эти-то бумажки он и возвращает в казну, исполняя долг поручителя за пашу.
— Теперь для вас, я думаю, ясно, — продолжал Аслан, — что придворный «амира», заведующий хозяйством двора, откупщик податей такой же разбойник, как и «шахбанда» курдского князька, как и дядя Петрос. Но те же «амира» являются одновременно и вождями
нашего народа, они правят и распоряжаются судьбами нашего народа так, как им заблагорассудится… Какая же может быть у нас надежда на этих людей, которые сосут нашу кровь, которые отнимают плоды нашего труда… Им выгодно всякое беззаконное и деспотическое правительство, ибо они в мутной воде ловят рыбу. Они равнодушны к слезам и крови, проливаемым народом. Они думают лишь о том, как бы потуже набить себе мошну…
— Итак, капиталисты, вышедшие из нашего народа, т. е. лица, у которых есть материальная сила, не только не помогают, чтобы рабочие и крестьяне имели хлеб и покой, но сами же укрепляют цепи их рабства. Хотя они это делают не непосредственно, однако, ведь все равно — быть разбойником или орудием в руках разбойника. А нация, невежественная и простодушная нация, гордится «славой» своих «амира», преклоняется перед ними в благоговейном трепете.
— Но каким образом столь дурные люди достигают такого высокого положения? — спросил я.
— «Армянин верен, — говорит турок, — он хорошо служит». Да, он верен и этой верностью он заслужил доверие правительства. Но слово верность в устах деспота имеет совершенно иной смысл. Именно тот смысл, который вкладывает в это слово глава разбойников, называя верным «служащим» того или иного негодяя из своей шайки.
— Этого рода «верность» армян-капиталистов с одной стороны дала им возможность служить у правительства, а с другой, отстранила их от более прочного и обширного поприща, именно поприща справедливой и совестливой торговли. Это поприще всецело осталось в руках греков. «Грек неверен», — говорит турок и не доверяет ему, не поручает ему своих дел. И он прав, потому что грек настолько горд, что он не может унизиться подобно армянину до того, чтоб примириться со своим врагом, с покорителем и поработителем своей родины. Поэтому греческие капиталисты не пожелали стать сарафами «амира» и государственными откупщиками. Они взялись за свободную торговлю и стали заниматься вывозом из страны и ввозом в страну иностранных товаров. И вот в настоящее время вся обширная торговля Турции находится в их руках.
— Но ведь и армяне все-таки занимаются такой торговлей, — сказал я.
— То, что ты видел — не торговля, — ответил Аслан, — а нечто вроде ростовщичества, которым занимаются также и евреи. Возьмем для примера Ванскую область, которая вам более или менее знакома. Если мы возьмем деятельность наших капиталистов в этой области, то увидим, что она почти ничем не отличается от деятельности армян-капиталистов в столице. Разница лишь в том, что одни являются мелкими эксплуататорами, а другие — крупными, или иными словами — одни крупные разбойники, а другие — мелкие.
Наши крестьяне постоянно нуждаются в деньгах для уплаты податей. Деньги они получают от купцов-капиталистов, но конечно платя им огромные проценты.
Кроме того, крестьяне в кредит покупают у торговца все необходимое для их семьи. Настает день, когда нужно платить долг торговцу, а денег у крестьянина не оказывается. Тогда торговец берет у него за бесценок все продукты его земледельческого труда. Итак, могут ли подобные разбойники желать, чтоб положение крестьянина улучшилось, могут ли желать, чтоб он не нуждался в деньгах? Прибавьте к этому также хищения сборщиков податей курдов и турок. Как может крестьянин удовлетворить всех этих хищников? Земледельческое его хозяйство стоит еще на низкой ступени и приносит слишком скудный доход. Он не знаком с ремеслами, чтоб пользуясь ими, вывозить свои продукты в чужие края в обработанном виде. Чем же он может кормить свою семью, когда у него отнимают весь его скудный заработок? Отсюда-то и возникает то грустное явление, что наш народ не может добывать себе пропитание на родной земле. Плоды его труда у него отнимают. Он вечно бедствует, вечно нуждается в куске хлеба и поэтому вынужден покинуть родной край и искать счастье в чужих краях. Сколько тысяч несчастных семейств остались без мужчины. Только в Константинополе сейчас находится более сорока тысяч эмигрантов, выселившихся главным образом из Ванской области. Как может крестьянин не выселяться? Мало того, что его грабит турок, курд, государственный чиновник, его грабит также единоверец-сородич, армянин, который высасывает все соки его жизни и ввергает его в нищету и горе. Все города Турции полны армянами-рабочими, армянами «амалами» (т. е. носильщиками). А это ведь живая сила нашей страны, гибнущая на чужбине.
— Как видите, — продолжал Аслан, — армяне-капиталисты, армяне-купцы, представляют из себя самую испорченную, самую вредную часть общества. От них мы не ждем никакого добра. Он поклоняется лишь своей собственной мошне. У купца нет отечества, его отечество там, где выгода. И подобное купечество (если только можно его назвать — купечеством) становится еще опаснее, когда у них есть связи с чиновниками правительства, и когда они участвуют в их бесчинствах. Вы не раз были свидетелями того, как крестьянин, не имея денег, предлагает сборщику податей часть продуктов своего земледельческого труда и, как сборщик отказывается принять ее, вместе с тем, не давая крестьянину срока, чтоб тот мог продать свои продукты и уплатить подать. Вы видели, как появляется в этот самый час армянин купец и, пользуясь тяжелым положением крестьянина, за бесценок покупает его продукты. Теперь вам ясно, что все они являются петросами и отличие их лишь видимое. Петросам всегда выгодно объединяться с курдскими князьями и устраивать заговоры против нас…
Все, что говорил Аслан, я понимал, потому что все это было мне хорошо известно. Мне казалось, что все это я знал давно, хотя никогда не задумывался над этими вещами и не обращал на них внимания. Слово жизни всегда понятно человеку, как бы он не был бесчувственен, потому что это слово непосредственно касается его существования.
— Все это я хорошо понимаю, — сказал я. — Понимаю, почему «дяди петросы» поступают так, но я одного не понимаю: почему «отцы тодики» объединяются с ними, какая у них выгода от этого?
— Они тоже своего рода торговцы, — ответил он, — у них тоже своя монополия, только религиозная. Разница лишь в товаре, которым они торгуют. И торговец всегда обманщик, всегда бесчестен и несправедлив. Как пример, приведу настоятеля этого самого монастыря отца Карапета. Раньше он был настоятелем одного из незначительных монастырей этого края, именно монастыря св. Иусика
[24]. Монастырь этот не из доходных. И вот он задумал захватить в свои руки монастырь св. Богородицы. Каким же образом он достиг этого? Он обещал одному курдскому князю половину монастырского дохода, если тот поможет ему стать настоятелем этого монастыря. И это ему удалось. Он достиг своей цели. Вы своими собственными глазами видели в монастыре агентов курдского князя, стерегущих доход монастыря. Теперь я спрошу вас: не находите ли вы сходство между этим служителем церкви и откупщиком податей?
Наш разговор прервала старая ворожея, которая начала говорить во сне. Фразы, которые она произносила, были бессвязны, но она говорила на чистом армянском языке. Это меня крайне удивило.
Она очень часто произносила имя Рипсимэ.
— Я сожгу замок… — говорила она, — разрушу его стены… Моя Рипсимэ грустит здесь… Я освобожу ее… близок день… великий день тревоги… Кровь, огонь и буря очистят землю… Рипсимэ, ты много страдала… Я осушу твои слезы…
— Эта старуха постоянно говорит о каком-то «замке» и о девушке, которая скрыта там, — сказал я Аслану.
— Это бред, — ответил он. — У помешанных бывают такие навязчивые идеи, от которых они не могут освободиться.
— Она говорит по-армянски и как хорошо она говорит! — сказала Маро. — Я никогда не слышала от нее армянской речи.
— Цыгане говорят на всех языках, — с улыбкой ответил Аслан. — Видимо, она чувствует, что находится в Армении…
— А почему молчит эта маленькая колдунья? — спросила Маро и обняв, крепко поцеловала Гюбби.
— Она умница, — ответил Аслан и переменил тему разговора. — Вы бы лучше сделали, если бы сейчас ушли отсюда, вот уже скоро взойдет солнце. Лучше, если вас не увидят тут.
И правда, восток алел. Мы незаметно просидели всю ночь. Но Аслан хотел удалить нас не столько потому, что рассвело, сколько из опасения, как бы мы не услышали из уст старой ворожеи какое-либо неосторожное слово, которое могло объяснить нам тайну отношений Каро с его товарищами и Гюбби со старой ворожеей или тайну «девушки из замка», которая стала неотвязной мечтой старухи, или «ее навязчивой идеей», как уверял нас Аслан.
Однако, мы согласились с Асланом и уже готовились уйти, когда он сказал:
— Пока вы тут, приходите почаще, нам нужно видеться, обо многом еще нужно нам поговорить.
Глава 40.
РАССУЖДЕНИЯ АСЛАНА
Пока мы дошли до лагеря богомольцев, солнце уже взошло. Маро старалась пройти через лагерь неузнанной.
После этого я несколько раз виделся с Асланом. В своем монашеском одеянии он показывался в различных кружках богомольцев.
— Здесь, — говорил он, — по случаю этого празднества собрались армяне отовсюду и я, чтоб лучше изучить их, переменил свой внешний вид, так как знал, что монаху легче подойти к ним ближе. Эти люди не лишены чувства и энергии, они понимают всю уродливость своего положения, но изнуренные вековым гнетом, они до такой степени ослабели духом и телом, что всю горечь своей участи считают естественной. Они думают, что иначе и не может быть, что они рождены для рабства. Чья-то рука, чья-то могучая рука должна поднять их из этого состояния и утвердить их в правах свободных людей…
Затем он еще долго беседовал со мной на различные темы. Я до сих пор не забыл его речи и могу слово в слово записать их. Он говорил:
— Правда, случается, что целый народ сам встаёт на ноги и без чужой помощи сбрасывает иго рабства. Но это бывает лишь тогда, когда он уже понял, что такое свобода. Если бы руководящий класс нашего народа поставил его на этот путь, если бы он дал ему такое направление, чтоб он осознал наконец, как тяжело находиться под гнетом чужой грубой силы и как хорошо жить свободно на своей родной земле, трудясь в поте лица, тогда наша нация легко и быстро пошла бы вперед…
Но кто же является руководителем нашего народа? Дворянского сословия у нас нет, у нас есть купечество и духовенство.
Вы знаете, что за чудовища наши купцы, или, другими словами, капиталисты. Остаются духовные лица, в руках которых образование народа, его нравственное и умственное воспитание. Представитель церкви, к какой бы нации он не принадлежал, всегда является противником личной свободы, также как и идеи национальности. Он смотрит на народ исключительно с точки зрения религии. В своей пастве он не отличает варвара-скифа и грека. Представитель церкви противник земного благополучия людей. Он не может вынести, что человек признает известную страну своей родиной и связывает с ней свою жизнь, свое существование. Служитель церкви отрицает этот мир. Его родина — небо.
И может ли народ, воспитываемый духовенством, думать, что он дитя известной нации, имеет свои особенности, свою историю и свои предания, которые столь же священны для него, как и национальная независимость, может ли он думать, что предки оставили ему клочок земли, являющейся заветным наследством, что он должен возделывать эту землю и жить на ней мирно и счастливо? Я сообщу тебе статистические сведения только о Ванской области, или, как ее называли в древности, о Васпуракане, и ты увидишь, какое важное место занимает там, по сравнению с народом, элемент церковный со своими монастырями и обителями. Он достал из-за пазухи небольшую записную книжку, и начал читать.
«В Ванской области 24 округа, которые расположены вокруг Ванского озера. В этих округах деревень с армянским или смешанным населением уцелело 1652. В них живет 43.750 армянских семейств, состоящих приблизительно из 350.000 душ. Помимо деревенского населения в городе Ване живет 20.640 армян. Итак, во всей Ванской области обитает 370.640 душ армян.
В деревнях и Ване 382 церкви, при которых состоит 270 священников. Значит, во многих деревнях нет церквей и у многих церквей нет священников, но есть и такие деревни, в которых вместо одной церкви их несколько. В противоположность этому сравнительно очень велико число безбрачных духовных лиц, монахов, а также число монастырей и обителей.
В Ванской области 87 монастырей и обителей, в которых живёт до 1500 епископов, монахов и отшельников. В противоположность этому обилию церковных учреждений, в области нет ни одного народного училища. Правда, устроены в кельях некоторых монастырей небольшие школы, но они подготовляют только будущих служителей церкви, а в простом народе даже на тысячу человек не придется одного грамотного.
Вообразите себе, 87 монастырей и обителей с 1500 монахами в одной только области — ведь это очень много! Но прежде число монастырей было гораздо больше — от некоторых из них остались только развалины, другие исчезли бесследно. Относительно монахов тоже говорят, что число их ныне наполовину уменьшилось, но оставшихся все-таки много. И этим ленивым, мечтательным „небесным гражданам“ мы обязаны тем, что наш народ коснеет в глубоком невежестве и отупении.
Но были времена, они относятся к далекому прошлому, — когда наше духовенство было не таким, каково теперь. Они не вели неестественного образа жизни, как нынешние монахи, они были отцами семейств и жили в семье. Поэтому они знали, что такое жизнь, что такое мир и как нужно заботиться, чтоб людям жилось спокойно и счастливо. Будучи отцами семейств, они в то же время являлись отцами народа. Чувство отеческой любви возбудило в них горячую любовь к толпе и от всего сердца они отдавались заботам о благоденствии народа. В те времена монастырь не был как теперь жилищем лентяев, бежавших от мирских дел и посвятивших себя духовным мечтаниям. В те времена монастырь не был местом торговли благодатью, местом, где процветает колдовство и царят гнусные пороки. В те времена монастырь был духовной и светской школой, в которой неутомимая община занималась воспитанием детей, переводом книг, писанием самостоятельных сочинений и распространением звания и света в народе. Духовенство в то время являлось могущественным защитником, как религии и церкви, так и просвещения и отечества. Когда возникали раздоры между нашими царями и нахарарами
[25], то представители духовенства являлись их примирителями. Когда начиналась война с неприятелем, духовенство воодушевляло народ, призывая его храбро биться, защищая родину. Когда нужно было с каким-нибудь царем заключить мир, то в качестве посла направлялось духовное лицо. Когда отечеству грозила опасность и приходилось просить помощи у иноземного царя — духовное лицо становилось посредником. Одним словом, высшее духовное управление тесно было связано с царской властью и эти две гармонические силы, соединенные в одно целое, в полном согласии, двигали вперед дело управления государством. И, в эту пору Армения была счастлива!..
Все то, что тогда делало духовенство, конечно, не соответствовало его религиозному характеру. Но наше духовенство составляло тогда замечательное исключение во всем христианском мире. Оно было вполне народным. Оно соединяло в себе жизнь духовную и материальную, реальный мир и небо. А теперь?..
Теперь духовные лица являются для нас мертвым элементом. Снова вдохнуть им жизнь было уже слишком поздно. Поэтому мы принуждены обратиться к другим средствам, чтобы восстановить наш народ, в котором еще не совсем заглохли жизненные силы. Да, они не заглохли, но от них остались только слабые искры, которые нужно одухотворять, которые нужно раздувать, пока они не разгорятся… А этого можно достигнуть посредством основательного образования и воспитания, благодаря которым народ сам поймет, как прекрасна свобода, как мирно и радостно проходит жизнь человека, когда он свободен… Ho наш друг Каро держится иного взгляда. Он родной и вольный сын природы. Он говорит: „Чувство свободы одно из прирожденных инстинктов человека, вместе с ними оно родилось и возникло“. Он говорит: „В природе все, что обладает способностью к жизни и развитию стремится жить и развиваться свободно. И если человек выносит рабство, то только против воли. Удали от него ту силу, которая его угнетает и ты увидишь, что он существо свободное. Нет особенной нужды для человека, — говорит Каро, — понимать, что такое свобода, для того, чтоб он чувствовал к ней влечение. Человеку не нужно знать, что такое воздух, из каких химических элементов состоит он и что дает его организму для того, чтоб он мог понимать, что нужно ему дышать воздухом, что если он перестанет дышать им, то умрет. Свобода является для общественной жизни человека тем воздухом, той атмосферой, в которой он совершенствуется и достигает высшего своего назначения. Чем сдавленней, чем темнее эта атмосфера, тем бессильней, ленивей и ограниченней человек. Человек учится понимать, что такое свобода, лишь пользуясь этой свободой“.
Я отчасти согласен с Каро, — продолжал Аслан. — Да, к свободе человек привыкает, живя свободно. Но главный вопрос состоит в том, каким образом можно освободить угнетенный народ, когда тысячи могучих рук этому противятся?.. Кто должен руководить народом на пути к свободе?..
Наши капиталисты, как ты уже видел, начиная с первого „амира“ и кончал последним — „дядей петросом“ — хищники, они живут кровью и потом народа. Представители нашей церкви, начиная от патриарха и до последнего „святого отца Карапета“ — такие же хищники. Патриарх покупает себе апостольский престол ценою взяток Высочайшему двору султана, а отец Карапет покупает звание настоятеля монастыря у курдского князька. Они оба должны грабить и притеснять народ, чтоб удержать за собою свою власть.
У нас чувствуется недостаток и в том, что составляет главную силу всякого общества — свежего подрастающего молодого поколения. Оно могло бы через посредство школы, литературы и прессы пробуждать и подготовлять народ. Но, к сожалению, такой молодежи у нас нет. Есть у нас только в Константинополе несколько невежественных, лишенных всякого образования болтунов, которые являются ничем иным как малограмотными дьячками. Кто еще остается? Несколько лиц вроде Каро, лиц, правда благородных и деятельных, но ведь один в поле не воин…
Тем не менее, мы не отчаиваемся, у нас есть хотя и не разработанная, но великая сила — масса… И этого достаточно.
Из статистических данных, которые я тебе приводил, видно, что хотя большая часть армянского населения Ванской области была истреблена мечом врага, голодом, огнем и варварскими притеснениями, однако 370.640 душ все-таки представляют собой крупную цифру. Столь значительное число армян живет еще компактно на родной земле! Помимо того, в области есть и другие национальности, которые разделяют с нами общую участь. Положение евреев, езидов, цыган и сирийцев еще хуже, чем положение армян. Эти несчастные тоже люди, люди подобные нам и им также нужна свобода. Они наши добрые соседи и мирные сожители. Они готовы работать вместе с нами.
Сосчитав численность живущих в Ванской области курдских, турецких и других мусульманских племен, мы увидим, что она едва равняется половине общего числа армян. Но они господствуют над всеми, потому что у них есть грубая, дикая сила. Все эти области лишь номинально принадлежат Турции, фактически ими владеют курды. Под владычеством этих варварских племен, которые совершенно не поддаются культуре, другой более способной национальности невозможно развиваться и стремиться к прогрессу. Вот главная причина, почему армяне здесь так отстали и живут в таком мраке. Повторяю, армянин способен к культуре, потому что он христианин, потому что у него есть богатый язык и обширная многосторонняя литература. У него есть, наконец, историческое прошлое. Тяжкое преступление против человечества — оставлять без помощи такой народ, и дать ему погибнуть в нравственном, умственном и физическом отношении под игом дикого курда и турка. Армянин и сириец могут явиться на востоке апостолами науки и религии, как это было в древности, но сперва нужно дать им свободу.
Однако, никогда чужой не станет заботиться о человеке, который сам о себе не заботится. Народная пословица говорит: „Пока дитя не заплачет, мать груди не даст“. Мы и к этому прибегали, много плакали, много кричали, но не было никого, кто бы слушал наш голос… И это происходило оттого, что весь мир заботится только о своем брюхе и о своем кошельке… Как константинопольский придворный „амира“ во имя своих личных выгод постоянно курит фимиам разлагающемуся и беспорядочному правительству, молясь о его долголетии, так и существуют целые христианские государства, у которых есть торговые сношения с турками и которые, имея в виду свои частные интересы, предоставляют различным несчастным национальностям томиться под игом турецкого деспотизма. Они купцы, а от купеческого сердца всегда далеко чувство человеколюбия.
Чужая помощь не спасет нас. Жалок и всегда останется жалким тот народ, который будет нуждаться в чужой помощи. Никто, конечно, не станет нам помогать ради спасения души. Вдесятеро он должен вознаградить себя за то, что он нам даст. „Лицо просящего подаяние всегда будет черно, а кошелек — пуст“. Человек должен стать на ноги только благодаря своему личному труду и своим собственным силам. Чужая помощь подобна подпорке, которую стоит только отодвинуть назад, чтоб увидеть, как снова упадет державшийся на ней предмет…
Нашей главной помощницей является природа нашей страны, ее топография. Ван-Тосп
[26] со своими неприступными горами, глубокими ущельями, узкими горными проходами представляет собой гигантскую крепость. Туда с большим трудом может проникнуть чужой, незваный гость. Там не раз римляне, греки, персы, мидийцы и арабы теряли свои легионы. Ванской области самой природой предназначено стать для армян
центром свободной жизни. С четырех сторон от нее расположены такие области, которые и в наши дни густо населены армянами. С севера примыкает обширная Эрзерумская область с округами Карским, Баязетским и Маку, с юга Диарбекирская область, — с округами Сасунским и Мокским. С запада тянутся обширный Тарон с округами Битлисским и Мушским, наконец с востока — округи Хой, Салмаст, Урмия и Ревандуз.
Кроме упомянутых, много областей и округов, которые расположены вокруг Ван-Тоспа, с юго-восточной стороны у нас есть хороший сосед, горная область Джоламерик, которая по своей дикости может считаться Дагестаном Армении. Этот край, который в старину был известен под названием Тморик или Кордик ныне заселен сирийским племенем „джоло“. Они христиане и принадлежат к несторианской секте. „Джоло“ храброе племя, с незапамятных времен сохранившее свою независимость в горах Джоламерика. Власть курдов и турок до сих пор не имела к ним доступа. Что же тому причиной? Племя „джоло“ по численности значительно уступает здешним армянам. Их не более 50 тысяч, что равняется восьмой части армянского населения Ванской области. Так почему же они свободны?
Все племя вооружено, все являются воинами. Даже их жены и девушки носят оружие. Они поняли, что в наш век нельзя сохранить свою жизнь, не прибегая к оружию. Одни только ангелы не носят оружия, потому что им нечего защищать. Hо и они, когда нужно — вооружаются.
Племенем „джоло“ управляет их патриарх, который называется Мар-Шимоном и является одновременно и духовным и светским главой племени. Нынешний Мар-Шимон храбрый молодой человек, который соединяет в своих руках крест Христа и меч свободы. Весь народ подчиняется ему с сыновней покорностью. Пример Мар-Шимона представляет собой исключительное явление во всем христианском мире. Духовное лицо, патриарх выступает одновременно в качестве простого воина, защитника родины. Мар-Шимон воин, обладающий всеми благородными свойствами воина.
Страна Мар-Шимона в значительной степени очищена от чужеплеменников. Там есть только небольшое количество армян и несколько, курдских племен, которые подчиняются власти патриарха. Страна Мар-Шимона прочно ограждена Китайской стеной, за которую не смеет переступить нога чужеземца. Но Каро теперь находится там. Он поехал туда, чтоб сделать распоряжение относительно
некоторых дел. Я надеюсь, что его свидание будет иметь благоприятный исход!..
Пример племени „джоло“ для нас, армян, должен быть поучительным. Он доказывает, что и мы могли бы свободно и мирно жить, если б только пожелали защищать нашу свободу мечом и кровью. Но есть ли у нас такие духовные лица, как Мар-Шимон? Есть ли у нас такой народ как племя „джоло“? Ведь армянин страшится меча как „черта“!..»
Глава 41.
БОРЬБА ЛЮБВИ
Празднество кончалось.
Начался разъезд богомольцев. Семья старого охотника тоже готовилась к отъезду. Утром она должна была выехать. Но во мне произошла странная перемена: я забыл Маро, забыл Соню, забыл мать и сестер, которые меня так любили и старались увести с собой домой.
Я был влюблен в Аслана!
Казалось, что этот вдохновенный человек приворожил меня. Я не хотел с ним расстаться. Хотя слова Аслана были темны для меня, и я не совсем ясно представлял себе цель, к которой стремились он и его близкие товарищи, однако я решил быть с ними и работать с ними. Они благородные люди, — думал я. Поэтому, когда Аслан сказал мне, что по «одному делу» собирается ехать в Ван, я стал просить, чтобы он взял меня с собой. Но он не соглашался, говоря, что нельзя бросать семью охотника на произвол судьбы, и что я должен ее сопровождать домой. Однако, Маро, присутствующая при нашем разговоре, обычным своим небрежным тоном заявила, что я им не особенно нужен, что они и без меня могут вернуться домой, что никто не посмеет тронуть семью охотника. Эти слова могли бы меня обидеть, если бы не знал, какое у Маро сердце. Но, зная ее, я только улыбнулся, когда она сделала свое гордое заявление.
Это было вечером. Беседа наша происходила вдали от монастыря, на холме, куда мы отправились с Маро собирать цветы богородицы
[27], и где встретились с Асланом. Он опять перерядился и теперь уже имел вид ванского купца.
Маро со своей стороны также попросила Аслана взять меня с собой, говоря, что я еще до сих пор не видел города и что мне нужно, наконец, увидеть город. После долгих просьб, Аслан, наконец, согласился меня взять.
— Я выеду сегодня, после захода солнца, — сказал он. — До этого остается еще полтора часа.
Я попросил его выехать немного позже, чтоб я мог повидаться с матерью и сестрами.
— Нет ждать я не могу, — ответил Аслан, — послезавтра утром мне необходимо быть в Ване…
— Значит ты и ночью не будешь останавливаться на отдых? — спросила Маро.
— Нет, — ответил он, — так как отсюда до Вана три дня пути.
— Стало быть, я не успею повидаться с матерью? — спросил я, Аслан подошел ко мне совсем близко и еле слышным голосом сказал:
— Кто хочет следовать за нами, должен оставить и мать, и отца, и сестер и братьев своих… Понял?..
Затем Аслан сказал, что хотя он и согласился взять меня с собой, однако он выедет отдельно, без меня и мы встретимся с ним в пути, на первой остановке, до которой отсюда не так далеко. Он велел мне тотчас же пойти, сесть на коня и выехать. После этого он нежно обнял Маро и меня и расстался с нами. Мы с Маро поспешили к палатке.
— Что ж, поезжай Фархат, хорошо ты делаешь, что уезжаешь. Увидишь город Ван. Но, смотри не забывай Соню…
Последние слова показались мне странными и я спросил, почему она говорит это.
— Соня любит тебя, Фархат, а ты ведь дал ей слово… мужчина должен быть верен данному слову…
— А ты откуда знаешь, что я дал ей слово? — спросил я.
— Я все знаю… Я знаю как вы проводили те дни, когда ты был учеником у ее отца… Я все знаю…
Ее слова очень смутили меня.
— Кто тебе рассказал все это? — опять спросил я.
— Сама Соня. Она все это рассказывала с такой горечью, что я не могла удержаться от слез, — ответила Маро.
Я молчал.
— А ты знаешь как несчастна Соня? — продолжала она. — Ты теперь ее единственное утешение. Если ты ее обманешь, она не выживет…
Каждое слово Маро поражало меня, как гром. Я не знал, что мне отвечать. Все, что говорила она, было правдой. Соне я дал слово…
— Соне ты дал слово, — как бы угадывая мои мысли, повторила Маро. — Нехорошо, когда мужчина нарушает данное им слово…
— А если нарушает девушка? Тогда?
— Тоже нехорошо, — ответила она.
Последние слова она произнесла глухим, дрожащим голосом.
— Ведь и ты дала мне слово, — сказал я.
— Правда, дала, но я не хочу питаться крошками с чужого стола, остатками любви…
Я, хотя и понял смысл ее слов, однако спросил:
— Что это значит?
Она ответила не сразу, но я заметил, что ее глаза горят гневом. С глубоким возмущением она мне сказала:
— Я знала, что у тебя нет совести, но теперь вижу что нет у тебя и ума. Я не могу любить человека, который может обманывать…
— Значит, между нами все кончено? — спросил я.
— С той самой минуты, когда у «Молочного ключа» Соня сидела рядом с тобой и рассказывала тебе о своем несчастии…
Как ни гадки и оскорбительны были для меня слова Маро, однако в них была правда. Я чувствовал свою вину. И я не мог ни сердиться, ни просить прощения.
После некоторого молчания она спросила:
— Если хочешь, чтоб мы остались друзьями — то ты должен любить Соню.
— Я хочу чтоб мы остались друг для друга тем, чем были.
— Это кончилось. Ты ответь мне на мой вопрос. Будешь любить Соню или нет?
— Я уже сказал.
Она остановилась на пути. Она вся дрожала. Побледневшее лицо ее выражало дикую ярость.
— Здесь мы расстанемся. Ты не посмеешь переступить порог палатки охотника. Подожди тут. Я пойду, вышлю твоего коня и оружие и тогда поезжай, куда хочешь.
— Ты меня изгоняешь?
— Как хочешь, так и понимай.
— Безжалостная.
Она отвернулась, чтоб я не видел ее лица. Затем быстрыми шагами начала идти к лагерю богомольцев. Но как ни был взволнован, я все же заметил, как из ее глаз лились слезы, словно брызги огня.
До сего дня не могу я забыть и никогда не забуду ее скорбного лица, горевшего справедливым и мстительным гневом.
Несколько минут я стоял, как вкопанный. В глазах потемнело, ноги стали дрожать и я свалился на землю…
Когда я очнулся, было уже совершенно темно. Но как велика была моя радость, когда я увидел около себя Маро! Моя голова лежала на ее коленях. Она поцеловала меня в лоб и сказала:
— Прости меня, Фархат я разбила твое сердце.
При этих словах она начала горько рыдать.
— Рана твоя не опасна, Фархат, — сказала она. — Я ее обмыла и перевязала. Кровь уже остановилась. Теперь тебе ведь лучше?
И правда, я весь был в крови, Я понял, что, падая, ударился о камень и разбил себе голову… Видимо, Маро увидев это, вернулась, чтоб помочь мне.
— Я виновата, — говорила она, — Я буду любить тебя, вечно буду любить тебя, Фархат… Не кляни меня, ради бога.
Если б я был даже мертв, то и тогда б эти слова оживили меня.
Однако потеря крови истощила мои силы и словно сквозь сон я слышал ее слова и чувствовал прикосновение ее губ к моему лицу…
Вдруг я почувствовал, как чьи-то богатырские могучие руки подняли меня с земли. Кто-то взвалил меня на свою спину и понес, как перышко.
Я слышал голос Мхэ, который говорил:
— Черт побери, от пустяка свалился наземь и барахтается… И не стыдно! Можно ли терять сознание от вида крови?..
Я проснулся уже поздно ночью. Палатка старого охотника освещалась тусклым светом фонаря. Маро сидела у моего изголовья. Все остальные спали на дворе, перед палаткой.
Маро спросила о моем самочувствии. Я ответил, что чувствую себя хорошо, но очень жалею, что отстал от Аслана.
— Мхэ тут, — ответила она. — Когда ты поправишься он повезет тебя в Ван. Аслан останется в Ване несколько дней. — Ты его застанешь там.
— Я выеду рано утром, — сказал я. — Аслан обещал подождать меня у первой остановки. Я догоню его.
Но утром я чувствовал себя не совсем хорошо. От потери крови я очень ослабел. И только спустя несколько дней я мог сесть на коня и пуститься в путь. Маро предложила мне взять с собой Мхэ.
— Для чего приехал Мхэ? — спросил я.
— Он приехал за нами, — ответила она.
— Кто его прислал?
— Отец.
— В таком случае как же я могу его отнять у вас?..
— Мы и без него доедем.
— Что же, значит, только я, как слепая курица не могу пуститься в путь?
— Можешь, — ответила Маро, — но потеряешь дорогу. Кроме того, Мхэ привез письмо от отца к Аслану. Он должен поскорее его доставить.
Уже до восхода солнца мы с Мхэ пустились в путь. Мхэ не имел обыкновения ехать верхом.
— Грех ехать верхом, — говорил он. — Для чего тогда бог дал мне ноги?
Он шел впереди с огромной своей дубиной, которую нес на плече. Он был молчалив и на мои вопросы давал лаконичные ответы.
Только в пути я вспомнил о том, как неделикатен был, расставаясь с Маро.
Я ей не сказал ни слова. Она провожала меня и, видимо, ждала от меня ласкового слова. Я вспомнил, что расставшись со мной, она не пошла в палатку, а долго сидела, опустив голову на колени у дороги. Мхэ еще некоторое время оставался с Маро и потом догнал меня. Я спросил его о Маро.
— Она плакала, — сказал сопровождавший меня геркулес,
— Почему она плакала?
— Одному лишь дьяволу известно, почему девица плачет…
Мхэ был не так глуп, как я думал прежде. При этом он был очень скрытным человеком. И как ни старался я, не мог вызвать его на откровенность относительно цели его поездки в Ван. На все мои вопросы он давал один и тот же пренебрежительно-насмешливый ответ.
— Много будешь знать, скоро состаришься.
Мы доехали до первой стоянки, где должны были встретиться с Асланом. Но его там не оказалось. Это было небольшое селение, населенное наполовину армянами, наполовину курдами. Когда мы подъехали к селению, к нам подошел человек, который, видимо, поджидал нас, и, вынув из-за пазухи запечатанное письмо, передал его мне.
В письме было написано следующее:
«Фархат! Обстоятельства вынудили меня свернуть с дороги, ведущей прямо в Ван. Извини, что не подождал тебя. Человеку, который передаст тебе мое письмо, поручено мной проводить тебя ко мне. Ему известно, где я нахожусь. Аслан».
Когда я кончил чтение письма, человек передавший его мне, спросил:
— Если вы не намерены здесь передохнуть, — то я готов сопровождать вас.
Человек этот был одет по-курдски, и если бы не заговорил по-армянски, я его принял бы за курда. И вооружение у него было курдское: длинная пика, пара пистолетов за поясом, огромный, покрытый железом щит и кривая сабля.
С Мхэ он заговорил по-курдски. Видимо, они были знакомы. Его лицо и мне показалось знакомым. Его я где-то видел.
Вдруг я вспомнил, что это один из тех двух зейтунцев, которых я видел в арабском минарете, когда впервые встретился с Каро и его товарищами. Теперь я понимал, почему Аслан свернул с пути. Видимо, этот зейтунец принес ему какую-то неожиданную весть, и он отложил поездку в Ван.
Когда беседа их кончилась, Мхэ обратился ко мне;
— Теперь я знаю, где Аслан и прямо поведу тебя к нему. Этот человек нам не нужен.
— А дорогу ты знаешь? — спросил я.
— Как сам черт.
— Ну, раз вы не хотите здесь отдыхать, — сказал зейтунец, — подождите минуту я вынесу вам поесть.
И он побежал в дом, который стоял на краю селения.
Скоро он вынес оттуда сито, в котором были какие-то круглые толстые желтые блинчики, сверху покрытые медом. Это были сушеные сливки.
Мхэ взял сразу пару и сложив в трубку мигом проглотил.
— Этими чертовскими штуками не накормишь Мхэ!
— Принеси-ка хлеба! — сказал Мхэ.
А я больше половины блинчика не мог съесть.
— У меня хлеб есть в сумке, я дам тебе в дороге, когда проголодаешься, — сказал я Мхэ.
— Ты давай сейчас, когда в животе у меня пусто.
Зейтунец не дал мне открыть сумку, в которой были припасы, данные мне на дорогу Маро. Он пошел и принес два огромных ячменных хлеба. Мхэ их быстро уничтожил.
Тогда мы пустились в путь.
Солнце уже склонилось к закату…
Глава 42.
ПАСТУХИ-АРМЯНЕ
Мхэ, дикий сын армянских гор, вел меня по неведомым тропинкам, где сам черт бы заблудился.
Извилистая, каменистая тропинка вилась среди гор и ущелий, то спускаясь в долину, то круто подымаясь ввысь по склону над глубокой пропастью ущелья.
Мне пришлось слезть с коня и вести на поводу. Но путь был очень труден, и конь двигался медленно и осторожно. Это сердило Мхэ.
— Оставил бы ты это паршивое животное, на что оно годится! — ворчал он.
Спорить с ним было бы напрасно, поэтому я старался его раздобрить.
— Этот конь — подарок Каро, — говорил я, зная как чтит и любит его Мхэ. — Разве ты не любишь Каро?
Мхэ на некоторое время успокаивался и переставал ворчать, но скоро он опять начинал браниться. Невозможно было таскать за собой коня по этой дороге. Мхэ предложил передать коня кому-нибудь кто доставил бы его, куда нужно, а самим идти быстрым шагом. При этом он добавил, что очень торопится, ему нужно как можно скорее передать письмо Аслану, что потому-то он и выбрал этот путь — трудный, но зато очень краткий.
Соображения Мхэ были основательны. Но кому же передать коня?
— Я найду человека, которому можно доверить, — сказал Мхэ и, попросив меня минуту обождать, сам поднялся на вершину горы и начал озирать окрестность. Увидя какого-то пастуха, он приложил пальцы к губам и издал пронзительный свист, который эхом отдался в горах. В ту же минуту послышался ответный свист. Я тут впервые увидал, как люди в горах переговариваются издали, друг с другом.
Немного спустя к нам явился пастух-курд.
Мхэ поговорил с ним по-курдски и передал ему коня.
— Ну, а теперь идем! — сказал он, обращаясь ко мне.
— Как идем? Отдаешь ты коня разбойнику и думаешь, что он вернет его?
Мхэ успокоил меня, говоря что, правда, тот, кому он передал коня — разбойник, но разбойники свято берегут то, что им поручаешь по доверию и потом возвращают владельцу. Кроме того, Мхэ говорил, что ему хорошо известно, чьи стада пасет этот пастух, и в случае, если б он присвоил коня, то Мхэ сумеет в ответ на это похитить у него целое стадо.
Мхэ в этих делах знал больше толку, чем я, поэтому я согласился, спросив только, когда именно пастух, доставит коня.
— Через день, — ответил Мхэ. — Он приведет коня по другому, более длинному пути.
Мы снова пустились в путь.
— А скоро мы приедем к Аслану? — спросил я.
— Если всю ночь будем идти, то завтра в полдень будем там.
— Как же мы можем всю ночь идти без отдыха? Я и теперь уже устал.
— А если не можешь идти, тебя также оставлю, как твоего коня. Мне некогда возиться с красными невестами, — холодно отрезал Мхэ.
— Ведь тебе хорошо известно, — мягко обратился я к нему, — что я не привык долго ходить по таким тропинкам.
— Вот и привыкай.
— Привыкну, но нельзя же сразу.
— Если устанешь, я тебя возьму на спину и понесу.
— Ребенок я, что ли?
— А кто же ты? — дико улыбаясь, ответил Мхэ.
Я был недурным пешеходом и слабость моя объяснялась потерей крови. Но для такого железного человека, каким был Мхэ, рана моя была пустяком, о котором не стоило и говорить. У него на теле было множество глубоких следов от ран, при получении которых он никогда не слабел, не терял бодрости и мужества…
Солнце зашло.
К нашему счастью ночь была лунная.
Я был вынужден подчиниться воле моего жестокого спутника. При ночной прохладе идти легче, чем днем, но все же в полночь я совершенно обессилел. Мхэ это заметил и, видимо, ему стало жалко меня.
— Пройдем еще чуточку, тут вблизи палатки пастухов, там я дам тебе отдохнуть.
Но все большое казалось Мхэ небольшим, и долгое — коротким. Только за два часа до рассвета мы дошли до ущелья, где были палатки, о которых он говорил. Бешеные псы не допускали нас близко, а в палатках все спали. К тому же Мхэ напугал меня, сказав, что пастухи, проснувшись могут принять нас за разбойников и застрелить. Но я так устал, что не обратил внимания на его слова.
— Лишь бы немного отдохнуть! — думал я.
Мхэ издал какой-то звук, который должен был означать, что мы гости. Два ночных сторожа подошли к нам.
Здесь Мхэ заговорил уже по-армянски.
И этого было достаточно, чтоб развеять все сомнения пастухов. Увидя, что мы армяне, они тотчас пригласили нас в палатку главного пастуха.
Нас принял старший сын хозяина. Он велел развести огонь и приготовить нам ужин. Я заявил, что есть не хочу и что был бы очень благодарен, если б они отвели мне уголок, где мог бы немного отдохнуть.
— Пусть он поспит, — сказал Мхэ, — а я поем, я умираю от голода.
В углу палатки, где спали дети, приготовили мне постель и не успел я положить голову на подушку, как заснул.
Как приятно утомленному человеку забыться сном! И как сладок сон под мирным шатром пастуха!..
Не знаю сколько часов я спал, но когда проснулся, был полдень. Мхэ уже не было. Он исчез.
Старик-хозяин сообщил мне, что Мхэ поужинал и ушел не дожидаясь рассвета, говоря, что он очень торопится и ждать не может.
Поступок полупомешанного Мхэ страшно меня возмутил. В уме я упрекал Маро за то, что она связала меня с таким дураком. Домохозяин старался меня успокоить.
— Не огорчайся, — говорил он, — ты не у чужих. Чувствуй себя, как дома. Отдохни хорошенько, а там, когда пожелаешь уехать, мой сын тебя проводит туда, куда нужно.
— Но дело в том, что я не знаю, куда мне идти. Меня должен был довести тот дурак, — с огорчением ответил я.
— Мы знаем, куда, — спокойно сказал старик. — Твой спутник велел доставить тебя к палаткам С.-бека. Его пастбища недалеко отсюда.
— Кто такой С.-бек?
— Глава езидов.
Я немного успокоился. К тому же вспомнил о том, что Мхэ нес Аслану письмо, которое надо было доставить как можно скорее, потому-то он и торопился и не мог ждать меня. Из слов хозяина я заключил, что Мхэ ничего не сообщал ему о цели нашей поездки, что он ни словом не обмолвился об Аслане. Он выдумал будто в монастыре богородицы, куда мы отправились на богомолье, у нас украли лошадь и, будто, мы узнали, что лошадь находится у племени езидов и потому-то идем туда. В словах Мхэ была какая-то видимость правды, так как моя лошадь находилась у пастуха-езида. И мы нашли бы лошадь у езидов.
Старик-хозяин, согласно патриархальному обычаю гостеприимства, все время старался угощать
меня и занимать.
— Вы оскорбите мой шатер, если уйдете недовольным, — говорил он.
Мне сразу бросилось в глаза, что ни дочери хозяина, ни его невестки не скрывались от меня и не покрывали лица, как это было принято у армянок в Персии.
Все они говорили со мной, словно я был их старым знакомым. Их речь была так трогательно простодушна и невинна, что нельзя было не проникнуться симпатией к ним.
— У тебя есть сестры? — спрашивала взрослая дочь хозяина.
— Есть, даже две, — ответил я.
— А они вяжут тебе носки и моют тебе ноги перед сном?
— Нет, они ленивые.
— А ты их не бьешь за это?
— Есть у твоих сестер вот такие серьги? — спрашивала другая дочь хозяина, показывая свои серьги. — Это купил мне братец, — добавила она.
— Нет, у них нету, — ответил я.
— Значит, ты их не любишь?
— Сколько лет твоей невесте? — спросила одна из невесток хозяина.
— У меня нет невесты, — ответил я.
— Гм! Значит ты не из храброго десятка, раз ты девицам не нравишься, — сказала она смеясь.
— А может они ему не нравятся? — вмешалась другая невестка хозяина.
— А может он хочет стать монахом? — сказала жена хозяина.
Но я был так огорчен, что отвечал им нехотя. Они это заметили и скоро перестали говорить со мной.
А сыновья хозяина совершенно не вмешивались в разговор. Видимо, стеснялись отца.
Все они были вооружены. Сам хозяин, несмотря на свой преклонный возраст, сидел в палатке с двумя пистолетами за поясом. Когда я спросил, почему он не снимает с себя оружие, тем более что сидит у себя дома, в мирное время, он ответил:
— Мы же не отделяем своих рук и не бросаем их, когда кончается работа и когда мы сидим без дела!
— Но руки нам во всякое время нужны.
— Меч также, — ответил он. — Бог всем животным дал оружие, потому что у всех есть враги. Человеку он не дал оружие, но зато дал ум, чтоб он умел делать себе оружие сам. Зверь без разума, но и тот всегда оружие свое носит при себе. Было бы глупо, если б мы оставались когда-либо безоружными. Ведь наш враг гораздо более жесток, чем враги зверей.
— Кто же наши враги? — простодушно спросил я, желая испытать старика.
— А ты разве не знаешь? Кто украл твоего коня? — спросил он.
— Курд.
— То-то. Теперь небось понял, кто наш враг? Наш враг тот, кто отнимает у нас наше добро. Вот ты путешествуешь. Что ты сделаешь, если курд загородит тебе дорогу и, приложив к твоей груди меч, скажет: «Ну-ка раздевайся».
— Что ж я могу сделать? Разденусь и отдам ему все, что есть у меня.
— Тогда ты останешься без рубашки.
— Ничего не поделаешь.
— Почему же нет! — сказал старик возбужденно. — Тело курда не из железа. Ведь он такой же человек, как и мы. Ты также можешь приложить к его груди свой меч, либо убьешь его и спасешь свою рубаху, либо будешь убит, и тогда пусть себе уносит, что хочет, потому что мертвому одежда не нужна.
— Но ведь Христос велел не противиться злу и, если кто попросит у нас рубаху, отдать ее.
— Если б у Христа была рубаха, он этого бы не сказал, — насмешливо ответил старик.
Эти слова не были для меня новостью. Я их много раз слышал от старого охотника. Меня удивляло только то, что у армян-пастухов совершенно иной нрав, чем у армян земледельцев и горожан. Последние совершенно мертвые люди. Аслан говорил: это потому, что пастухи редко видят попов. Эти армяне, живя в своих горах и не общаясь с испорченным обществом сохранили всю первобытную простоту нравов. Я когда-то слышал об этих армянах рассказ, который мне казался неправдоподобным. Однажды среди них появилась холера. Они стали обивать порог церкви и молить святой Крест (имени, которого была посвящена церковь) избавить их от эпидемии.
Но св. Крест не внимал их мольбам, и холера продолжала свирепствовать. Толпа, возмущенная таким равнодушием со стороны св. Креста, решила прибегнуть к иным способам воздействия на Крест. Она заперла церковь и начала стрельбу по ней, при этом угрожая разрушить церковь, если святыня не придет им на помощь. К счастью, эпидемия холеры прекратилась, и храм не был разрушен.
После слов гостеприимного старика этот рассказ перестал казаться мне столь неправдоподобным, как прежде. И вправду можно было ожидать от этих людей подобное поведение, тем более, что они на святых смотрели точно так же, как слуга смотрит на своего хозяина. Если хозяин не кормит его или не платит ему жалованья, то он перестает работать, а то начинает с ним враждовать… Так и эти люди.
Как ни приятно было гостеприимство пастуха, однако мне нужно было скорее пуститься в путь, иначе я рисковал не застать Аслана.
За последнее время я присмотрелся к нему и убедился, что для него не существует ни друзей, ни приятелей, раз они мешают его «делу», которое стояло для него на первом плане. Я даже допускал, что он совершенно позабыл о моем существовании, как забыл о существовании Сони, которую когда-то так нежно и пылко любил.
— Эта маленькая любовь, — сказал он однажды, — не имеет никакого значения в сравнении с той великой любовью, которой переполнено теперь мое сердце…
Палатки пастухов были расположены в ущелье. Каждая семья имела свою палатку. Здесь было несколько сот палаток, расположенных отдельными группами. Каждая группа палаток принадлежала жителям одного села. На кочевку все они выезжали вместе, но жителям каждого села было отведено в горах отдельное пастбище. Все они занимались не только скотоводством, но и земледелием. На кочевку, в горы уходила лишь часть семьи. Другая часть оставалась в селе и обрабатывала землю. Она легко справлялась с обработкой, так как посевы искусственно не орошались. Вся забота об орошении лежала на самой природе. Мужчины здесь пасут стада и охраняют их. Все заботы о домашнем хозяйстве ложатся на женщин. В этом трудолюбивом обществе никто не сидит без дела. Женщины занимаются не только молочным хозяйством, но также прядут всю шерсть и ткут из нее ковры. Ими изготовлены все тонкие ткани, которыми гордится Ван и из которых шьют себе одежду богатые князья. Эти женщины знают из каких растений и из какой руды можно добыть ту, или иную краску и сами же красят пряжу в те красивые цвета, которыми славятся ванские шерстяные ткани. Из всего этого нетрудно заключить, что этот народ давно вышел из дикого состояния и давно уже знаком с ремеслами. Женщина здесь — человек в полном смысле этого слова.
Отношения женщины и мужчины совершенно свободны. Эти отношения сохранили всю свою патриархальную простоту и свободны от лжи и лицемерия, гаремных нравов, господствующих в других частях Армении и в Персии, где армянки под влиянием магометан утратили национальные особенности своего характера.
Еще более свободны здесь девушки. Правда, они не привыкли говорить о любви и не умеют кокетничать с юношами. Однако им не воспрещается говорить с молодыми людьми и гулять с ними. Благодаря этому здесь укоренились простые, спартанские, невинные отношения между мужчиной и женщиной. Они относились друг к другу, как дети одной семьи, как брат и сестра.
«Свободу можно найти на двух противоположных полюсах человеческой жизни, — говорил Аслан, — там, где человеческая жизнь еще не утратила своей патриархальной простоты и там, где она озарена светом высшей культуры. А между этими двумя полюсами царит рабство».
— Здесь жизнь народа стоит еще на первом полюсе, — думал я. Старик-хозяин, видя, как я спешу уехать, велел приготовить лошадей и приказал своему среднему сыну проводить меня до шатров С.-бека.
При этом он говорил:
— У тебя украли коня. Было бы для меня позором не подарить коня приемному сыну одного из лучших моих друзей, гостившему у меня в шатре и допустить, чтоб он ушел от меня без коня. Поэтому ты должен принять в дар коня, на котором сейчас поедешь.
Я отказывался, но меня связывала ложь Мхэ о том, что у меня украли коня.
Старик настаивал на своем, заявляя, что он будет очень обижен, если я нарушу их обычай гостеприимства и не приму его дара.
— Хорошо, — ответил я, — ведь вы даете мне коня взамен моего, которого украли. Я возьму коня с условием, что если найду своего, то верну вам вашего коня.
Старик, однако, настаивал, говоря, что он дарит мне коня не только потому, что у меня нет коня, а желая чем-либо почтить меня как гостя, как сына «своего друга».
— Какого друга?
— Старого охотника, — ответил он.
— А вы откуда узнали, что я им усыновлен.
— Я все знаю, — таинственно ответил он.
Семья хозяина ласково прощалась со мной и проводила меня, как родного. Казалось, будто я годами жил среди этих людей. Мы пустились в путь.
Сын хозяина, сопровождавший меня, был настоящим воином-рыцарем. Он держал себя так, точно он и его конь составляли одно целое. Я никогда не забуду того, что он сказал мне по пути: «Мы живем среди мечей…»
Мы ехали по ровному пути, а не по тем тропинкам, по которым вел меня Мхэ.
Вечером мы прибыли к шатрам С.-бека.
Глава 43.
ЕЗИДЫ
Мы прибыли к палаткам бека езидов вечером. Солнце уже село. Два человека ждали нас на полдороге и повели нас прямо в палатку бека.
Аслан был там.
Увидев меня, он сказал:
— Наконец-то ты приехал! — и что-то, похожее на улыбку, скользнуло по его холодному лицу.
Палатки езидов были разбиты в зеленой долине. Их было несколько сот. В самом центре была разбита палатка бека, которая отличалась от других величиной и красотою. Она была разделена на четыре части. В одной из них, где нас приняли, сидел сам бек и с подзорной трубой в руках беспрестанно смотрел то в ту, то в другую сторону. Казалось, он всегда находился в опасении, как бы не случилось неожиданного нападения неприятеля. Это отделение палатки было его приемной комнатой. Перед ним в порядке было воткнуто в землю несколько длинных копий, сделанных из того камыша, который растет на берегах Тигра и который до того гибок, что, кажется, сама природа предназначила ему быть орудием смерти. На столбах в приемной было развешено разного рода вооружение — щиты, мечи и всевозможное огнестрельное оружие. На правой стороне приемной было привязано несколько оседланных лошадей. Это было сделано для того, чтобы в случае опасности хозяева могли вскочить на них и выйти навстречу врагу. Налево стояли телохранители бека, которые неразлучны с ним. Они набирались из близких его родственников, в которых он был более всего уверен. В самой глубине приемной просторное помещение служило женской половиной, в которой находилась семья бека. Все эти части палатки так удобно были отделены друг от друга занавесками, что вся палатка представляла из себя красивый подвижной дом со всеми удобствами. Но во всем замечалась патриархальная простота и отсутствие роскоши.
Сам бек был человек сухой, среднего роста, можно сказать, даже, ниже среднего. Ему уже давно перевалило за 50, но еще ни один волос не поседел на его голове. Его темно-желтое лицо было очень меланхолично, но в глазах его пылал дикий огонь. Его хищнический взгляд производил на меня очень дурное впечатление. Но он весьма учтиво обратился ко мне со следующими словами:
— Я очень рад, что ты переступил порог моей палатки, потому что ты товарищ моего «хорошего друга». — При последних словах он взглянул на Аслана.
Я поклонился и ничего не ответил.
По обеим сторонам входа в палатку, как ангелы-хранители стояли 5 сыновей бека, положив руки на свои мечи. По выражению их лиц было очевидно, что по малейшему мановению отца они тотчас же зарубили бы первого встречного.
Отец велел одному из них сказать, чтоб подали ужин.
Бек говорил и обращался со мной как с ребенком.
— Сколько лошадей украл ты? Скольких людей убил? — спрашивал он. — Приходилось ли тебе похищать девушек?
Много подобных вопросов задавал он мне с таким видом, с каким бы кто-нибудь спросил школьного ученика:
— Прочел ли ты Нарек, или, сколько «шараканов» прошел?
Когда я ответил, что не делал ничего из того, о чем он меня спрашивал, он смеялся, говоря:
— Какой же ты, однако, лентяй!..
Аслан, слыша эти слова, тоже смеялся.
Я начинал сердиться.
— Ты сделаешься хорошим парнем, — сказал бек, — я буду держать тебя среди моих сыновей, и ты научишься быть храбрым.
Я мысленно сказал себе, что если храбрость заключается в разбойничестве, то я не имею никакого намерения учиться храбрости.
— Бек, я не так труслив, как вы полагаете, — сказал я внятным голосом.
— Это мы можем проверить, — сказал он. — Для этого, как раз представляется хороший случай. Твою лошадь Мхэ вручил одному пастуху, который принадлежит к племени равандов. Несчастный, он обещал вернуть лошадь, но все еще не вернул. По-видимому, он намерен оставить ее у себя. Стада равандов пасутся за горой, недалеко от нас. Если у тебя есть мужество, тотчас же отправляйся и уведи у них нескольких лошадей. Завтра они принуждены будут привести твою лошадь и увести своих.
Я удивился такому предложению бека и ответил:
— Положим, какой-нибудь лукавый пастух, воспользовавшись наивностью Mxэ увел мою лошадь и не намерен вернуть ее, но какое же я имею право уводить чужих лошадей вместо своей?
Бек ответил:
— Теперь стало ясно, что ты не только трусишь, но и не знаешь порядков жизни…
Я думал, что он говорит все это ради шутки, но после того как Аслан рассказал мне несколько фактов из жизни курдов, я убедился, что это вовсе не шутка.
У курдов получил силу закона тот обычай, по которому, если кто-либо из племени похитил собственность человека, то этот последний имел право, взамен своей потери захватить имущество другого человека, принадлежащего к племени похитителя, хотя бы последний совсем не был замешан в дела упомянутого воровства. Отсюда происходят беспрерывные похищения, совершаемые людьми различных племен и дающие повод к постоянным спорам. Такой методу мести с недвижимого имущества переходит и на личности. Человек, принадлежащий к одному племени за кровь убитого родственника может убить кого-нибудь из другого племени. Это вытекает из того начала, что племя у курдов составляет как бы семью, связанную материальными и нравственными интересами и отдельные личности, образующие племя, ответственны один за другого. Эта связь при своих дурных сторонах, заключает в себе и хорошие с общественной точки зрения стороны. Например, если бараны одного из членов племени погибли от болезни, и он остался без средств, то обязанность каждого из единоплеменников — отдать одного барана и таким образом пополнить потерю пострадавшего.
Во время нашего разговора с беком издали послышался лай собак. Два его сына тотчас выбежали узнать о причине шума. Через несколько минут появился Мхэ, гоня перед собой целый табун лошадей.
— Черт побери, — говорил он, ворча про себя, — поранили мне руку!
И действительно, мы увидели, что с его руки текла кровь, а рана оставалась без присмотра, неперевязанною. Из женской половины вышли несколько старух. Они стали доказывать Мхэ, что рана опасна и просили его позволить перевязать рану и лечить ее. Он согласился с большим трудом. Рана произошла от удара копьем. Одна из старух начала лизать рану и высасывать кровь. Это была мера предосторожности, чтоб тело не заразилось, если бы оружие оказалось отравленным. Эта операция удивила меня, так как я видел ее в первый раз. Но когда недавно, читая армянскую историю, я встретился с именами Арлеза или Аралеза, я понял, какую роль играли эти боги-врачи. И это очень естественно, так как звери всегда излечивают свои раны лизанием, и первобытные люди должны были следовать их примеру.
Так или иначе, курды пошли довольно далеко в искусстве излечивать раны. Жизнь и ее нужды заставили их сделать успехи в этой области.
Но что же было причиной всего этого шума? Откуда привел Мхэ всех этих лошадей?
— Смотри, вот каков должен быть храбрец, — сказал бек, обращаясь ко мне. — Видишь ли ты Мхэ — он вместо одной лошади пригнал сюда целый десяток!
Я понял, что Мхэ совершил то похищение, которое бек несколько минут назад предлагал совершить мне. Мхэ сделал это, никому об этом не объявив заранее. В первый же день, когда он прибыл к Аслану и узнал, что мою лошадь еще не вернули, он исчез, не посоветовавшись даже с Асланом, и вот теперь возвратился с большой добычей. Хотя Мхэ ничего нам не сказал, но вероятно он боролся с курдскими пастухами, потому-то он и был ранен.
Не дождавшись, пока подадут ужин, Мхэ попросил несколько хлебов и большой кусок сыру, съел все это и, выпив огромный ковш воды, ушел спать. Несчастный в продолжении трех дней не имел ни минуты покоя.
Было уже довольно поздно, но во многих палатках еще светился огонь. Нам подали ужин. Он состоял из очень простых кушаний, среди которых главное место занимал жареный барашек.
После ужина бек захотел развеселить нас и велел позвать певца. Это был маленький человечек, хромой, очень похожий на наших ашугов, которые почти никогда не бывают свободны от физических недостатков. Певец играл на инструменте, напоминавшем скрипку.
До тех пор мне не приходилось слышать песни, которая бы так соответствовала национальному характеру и так ярко выражала национальный дух, как курдская песня. Слушая эту песню, человек всегда представляет себе курда, сидящего с копьем в руке, на горделивом коне и мчащегося по горам с быстротой молнии.
То, что пел ашуг-курд не было простой песней. Это была целая поэма, отражающая боль. Это было эпическое стихотворение, в котором яркими штрихами изображалась борьба, происшедшая между беком и другими курдскими племенами, борьба, в которой были убиты два сына бека и похищены его стада.
— Так, — сказал Аслан, — когда-то в домах наших нахараров пели гохтанские певцы, но их голос смолк с того дня, как в армянской жизни угас дух героизма…
В продолжении всего пения бек был грустен. В его глазах горело пламя мести, потому что он слышал про кровавую битву, где его дорогие сыновья так храбро бились и, наконец, сложили свои головы.
В то же время за занавеской, которая отделяла от нас женскую половину, послышались горькие рыдания. Оттуда вышла служанка и, подойдя к беку, сказала:
— Госпожа просит не петь этой песни.
Кто была госпожа? Это была жена того самого человека, храбрость которого воспевал ашуг, и который был убит…
По правде сказать, на меня тоже произвели очень тяжелое впечатление мужественные и печальные слова певца. Видимо, и сам бек был далеко не в веселом настроении. Он попросил нас извинить его и пошел спать. После его ухода удалился и певец. Затем Аслан, рассказал мне, что это событие дало езидам повод к родовой мести другому племени, которое известно во всей Ванской области по своему варварству, и под властью которого так томятся армяне…
Услышав это, я отчасти понял цель посещения Асланом езидского бека, понял также, какая тайна заключалась в той части письма Каро, в которой он предлагал старику-охотнику послать к беку езидов и почему тот, получив письмо, тотчас же ночью пустился в путь. Это было несколько недель тому назад, а письмо случайно попало мне в руки…
Нам тоже приготовили постели. Но Аслан долго не ложился. Он написал несколько писем, которые Мхэ должен был отнести на другой день утром. Он не сказал мне к кому были эти письма, а я не имел смелости спросить его об этом. Я только спросил его, как может Мхэ при своей ране отправиться в путь?
— Пойдет, — сказал он, — такие раны не имеют значения для Мхэ.
«Как безжалостны эти люди!» — думал я.
Я мог дождаться пока Аслан кончит свои письма. Едва я положил голову на подушку, как сон стал овладевать мною. Я взглянул на одно из писем: буквы мне показались совершенно незнакомыми, они не походили на алфавит какого-либо языка. Словно это был особый, выдуманный алфавит, тайна которого была известна лишь отправителю и получателю письма…
Рано утром Аслан разбудил меня. Я был очень недоволен. Этот человек, словно демон, никогда не спал, да и меня беспокоил. Мхэ уже ушел. Я не мог его повидать. Аслан, заметив мое недовольство, сказал:
— Я знал, что сон сладок для тебя, но я тебе покажу одно зрелище, и ты извинишь меня за то, что я тебя разбудил.
В эту минуту я услышал звуки грустной песни:
Вот одежда храбреца,
Я ее сама шила.
Кровью залили ее,
Я ж слезами омыла.
Вот одежда храбреца,
Ты отцом бы звал его.
Из могилы он зовет,
Он взывает: «Месть врагу»!
Так расти же, мой сынок,
И злодея выпей кровь,
Сердце матери утешь.
Отца местью успокой…
Моим глазам представилось ужасное зрелище. Молодая женщина посадила своего маленького ребенка на кучу пепла и надела на него рубашку, обрызганную кровью. Она сгребала рукою пепел с земли, посыпала его на ребенка, плакала и грустным голосом напевала вышеприведенную песню.
— Это та госпожа, которая послала ночью к беку свою служанку попросить, чтоб не пели те песни, которые пробуждают в ней грустные воспоминания. Каждое утро перед восходом солнца я вижу ее, она все также плачет и учит сына быть мстителем за смерть отца. Она учит его быть храбрым… Так воспитывает своего сына геройская мать, так готовит его к той жизни, которая без меча и крови — не жизнь.
Аслан произнес эти слова с особенным чувством.
После минутного молчания он продолжал:
— А чему учит своего сына армянка-мать? Учит смирению и терпению. И уже в колыбели ребенок учится рабству, «быть смиренным и терпеливым». Прекрасные слова, слова христианского миролюбия. Но мы живем совсем в другом мире, мы еще должны следовать тому закону, который говорит: «око за око».
Аслан был по натуре молчалив, но когда он начинал говорить, то речам его не было конца.
— Курдская женщина из своих детей воспитывает зверей, — сказал он, — а армянка воспитывает — агнцев. Какое может быть между ними сравнение, когда им приходится жить вместе? Не должен ли последний сделаться жертвою свирепости первого, по причине своей слабости. Правда, и я против дикой свирепости, но самозащита настолько же священна для человека, насколько справедливо чувство мести.
Речь Аслана прервал слуга, который, входя, сказал, что бек в своей комнате и зовет его. Он тотчас встал и ушел. Я остался один. Вошли дочери князя и убрали наши постели. Одна из них принесла воды и подала мне умыться. Эта родная дочь гор была красивая девушка, замечательно привлекательная в своей дикой красоте.
— Твою постель приготовила я, — сказала она. — Покойно ли ты спал, хорошие ли сны видел?
— Да, я видел хорошие сны! Я всю ночь разговаривал с девушкой, которая была также прекрасна, как и ты.
Я сказал эти слова в шутку, но они тронули сердце милой девушки и она, прослезившись, выдала мне какую-то тайну, которая меня очень удивила.
— Я вовсе не хороша, — сказала она, — я ненужное тряпье, которое топчут ногами.
Я ничего не нашел, чтоб ответить ей, так как не понял смысла ее слов. В эту минуту вошли ее братья, и она удалилась.
Солнце только что начало восходить.
Аслан вернулся из комнаты бека и объявил мне, что должен уехать и велел ждать его возвращения.
Лошади перед палаткой были готовы. Аслан и бек сели на них и уехали, взяв с собой несколько слуг.
— Куда они едут? — спросил я у сына бека, который стоял около меня.
— Неподалеку от нас находится развалившаяся крепость, отец имеет намерение поправить ее, они едут посмотреть эту крепость, — сказал он.
Это меня не особенно интересовало, так как куда только я не ехал, везде встречались развалины крепостей. Ванская область полна разрушенными крепостями, и они меня не привлекали. В ту минуту мои мысли были заняты красивой девушкой. Я думал о тех словах, которые она мне сказала и недоумевал, почему она так огорчилась. Где бы я мог увидеть ее еще раз?
Вскоре нам подали завтрак. Завтрак у курда очень вкусный. Он состоит из сливок, масла и кислого молока, смешанных с медом и приправленных горными растениями. Хлеб они пекут на особом широком железном блюдце. Рано утром я видел, как женщины старательно приготовляют хлеб. И несмотря на то, что бек был главой всего племени, все же в его женах, дочерях, невестках не замечалось той неподвижности, при которой госпожи, сидя спокойно, передают все работы по дому служанкам и слугам. Курдская женщина, будь она княгиня, или простая пастушка, сама исполняет все домашние работы. В курдском домашнем хозяйстве не участвует только мужчина. Встав утром, он или играет со своей лошадью, или чистит свое оружие, или приготовляет порох и пули, и, если не имеет другого дела, то находит себе товарища, сидит с ним, курит и рассказывает ему свои приключения. Главное ремесло, которым он доставляет выгоду своей семье, это — разбой. В этом деле курд не ленив.
После завтрака сыновья бека захотели позабавить меня и предложили пойти на охоту. Я согласился.
Все было приготовлено для охоты: лошади, собаки и соколы. Мы вышли в поле. Было еще прохладно. В той долине, где были разбиты палатки езидов, находился обширный зеленый луг. Тут сыновья бека вздумали джигитовать. Женщины, стоя у палаток, смотрели на нас. Они очень опытные судьи в деле оценки ловкости и отваги мужчин. Мне очень трудно описать их игру. Надо видеть их своими глазами, чтобы понять насколько ловок, проворен и дьявольски хитер курд, когда он сидит на своем коне. В то время как лошадь мчится во весь опор, курд как волчок, вертится на ней во все стороны. То он сделает прыжок, перескочит через шею лошади и опять сядет на седло, то вдруг видишь, как он не вытаскивая ног из стремян, нагнулся и руками подбирает с земли камни, палки или брошенное им самим копье и кидает их в противника, которого преследует. А лошадь мчится все время без остановки. Главное, что дает курду возможность воевать, сидя на коне, это то, что его руки вовсе не заняты, он совершенно оставляет узду и управляет конем ногами. И умное животное до такой степени привыкло к этому, что понимает все, почти предугадывает мысль своего хозяина. Таким образом, руки всадника остаются на свободе, он может повертывать лошадь в разные стороны и в то же время пускать в ход свое оружие: стрелять из ружья, вновь заряжать его, затем опять стрелять, хотя лошадь все время находится в движении. Словом, конь и курд действуют, точно они составляют одно тело.
Такими именно я видел сыновей бека, джигитовавших на лугу. Они предложили мне тоже принять участие, но я отказался, потому что вовсе не был к этому привычен и не хотел себя позорить.
Но меня сильно удивили их лошади. Они были замечательно обучены для походов. Курд никогда не позволит другому сесть на своего коня, будь то даже его родной брат. Как он сам, так и его лошадь знают друг друга. Посторонний человек, незнакомый с характером лошади, не сумеет управляться с нею и испортит ее. Поэтому-то у курдов и существует поговорка: «Есть две вещи, которые нельзя отдавать другому — жену и лошадь».
Наша охота прошла довольно удачно. Если я выказал полное свое неумение в джигитовке, зато во время охоты мне удалось показать себя. Курды более приученные к борьбе копьем, пистолетом и кинжалом, не особенно метко стреляли из ружья. Я несколько раз попадал в летевшую куропатку, валил на землю зайца на бегу, а из них только двоим удалось это.
Аслан не назначил мне времени, когда вернется, поэтому я старался не очень запоздать, думая, что быть может он уже вернулся. Мы в полдень вернулись к палаткам. Но Аслана еще не было.
Я был очень голоден, а обедать дали поздно, потому что надо было приготовить что-нибудь из убитых нами птиц и дичи. Кроме того, ожидали возвращения бека и Аслана.
Не желая сидеть без дела в палатке, и как незваный гость ждать, пока подадут что-нибудь поесть, я вышел на воздух и направился к ручью, который журчал среди поля.
Был полдень.
В этот час пастухи загоняют овец в находящиеся близ палаток закуты, куда приходят женщины и девушки доить молоко. Они уже кончили свое дело и, поставив на голову кувшины с молоком, возвращались из овечьих стойл. Редко случалось, чтоб эти девушки или молодые женщины, проходя мимо меня, не обратились бы ко мне с какой-нибудь шуткой или остротой. Они говорили мне что-нибудь и, не дождавшись ответа, смеясь, проходили мимо. Я как одураченный, смотрел им вслед и молчал. Наконец встретилась та, кого я искал.
Тути, как звали ту девушку, которая утром во время моего умывания, привела меня в недоумение, возвращалась из овечьих стойл, держа на голове кувшин с молоком, так же, как и ее подруги. С нею была та молодая женщина, которая утром пела печальную песню. Увидев меня, они отделились от толпы и подошли ко мне.
— Не выпьешь ли молока? — спросила меня Тути.
Хотя я не был большим охотником парного молока, но чтоб не обидеть Тути, ответил утвердительно. Она наполнила маленькую деревянную чашку, бывшую при ней, и, улыбаясь, подала мне ее.
Они присели отдохнуть на берегу ручья. И действительно, они порядком устали, так как шли издалека. Тути умылась студеной ключевой водой и отерла лицо своим платьем. Ее спутница молчала. Днем я лучше мог разглядеть черты ее грустного и прекрасного лица. Мне захотелось развлечь их.
— У вас ведь много служанок, — сказал я, — почему же вы сами себе задаете труд?
— Мы же не больные, чтоб сидеть спокойно и ничего не делать, — ответила Тути.
— И у служанок есть своя работа, — отвечала другая более кротко.
— Где твой товарищ? — спросила Тути.
Я понял, что она спрашивала об Аслане.
— Уехал с твоим отцом, но куда, не знаю.
— В его сердце сидит сатана! Знаешь ли ты это? — спросила Тути сердитым голосом.
— Зачем ты так говоришь, сумасшедшая! — с упреком говорила ее спутница. — Аслан очень хороший человек.
— Но он холоден, как снег.
— Почему? Потому что не ухаживает за тобой?
Из их спора я тотчас понял причину ненависти Тути к Аслану. Видимо, несчастная девушка любила его, а холодный и безжалостный Аслан отверг ее. Но Тути не успокоилась и после слов своей спутницы, еще более рассердившись, сказала:
— Я всегда буду говорить, что в его сердце сидит сатана. У него совести нет, поэтому ни одна девушка не сочтет его за хорошего человека.
Я заметил слезы в ее глазах. Она дальше не стала ждать, взяла свой кувшин и пошла по направлению к палаткам.
После ухода Тути, ее спутница рассказала мне, что однажды в палатке бека собралось несколько курдских князей на совет. С ними был и Аслан. На совещании поднялся горячий спор, во время которого Ахмэ, сын Абдуллаха, словом оскорбил Аслана. Этот Ахмэ был известен среди курдов своей угрюмой жестокостью и необыкновенной силой. Аслан не вытерпел, бросился на обидчика и, связав его как ребенка, выгнал из собрания. Вытащив его из палатки, он хотел убить его, но все князья бросились к ним и едва удалось им освободить богатыря Ахмэ из рук Аслана. Тути видела эту борьбу, и с того дня несчастная сходит с ума по Аслану.
— Но насколько он храбрый, — добавила рассказчица, — настолько и хороший человек. Часто он утешал меня в горе по моем славном муже, часто давал советы, как я должна воспитывать моего милого сынка. Он настоящий «шейх», только корана ему недостает.
Мне очень нравился сочувственный отзыв о благородном человеке.
— Тути сумасшедшая, — сказала она, — она его не знает.
Она направилась к палаткам, оставив меня одного на берегу ручья.
Аслан вернулся с беком гораздо позже, чем мы полагали. Он тотчас попросил есть, поел и велел мне приготовиться, потому что через полчаса он и должен ехать в Ван. В то же время он открыл коробку для бумаг и хотел вложить туда толстый лист на котором, как мне показалось, была нарисована картина. Я подошел посмотреть картину. Он не скрыл ее от меня и показал. Это было изображение крепости, которую он ходил осматривать. На бумаге была нарисована крепость с башнями и развалинами, горы, тропинки и все окрестности. Все это было точно живое. Это было делом рук талантливого Аслана. Он с большим искусством пользовался черным карандашом. Я в первый раз видел такой чудный рисунок!
Аслан, увидев, что мне это очень понравилось, показал мне несколько других бумаг. Но то не были картины. Я в них ничего не мог понять. Мне представлялись только начерченные на бумаге штрихи, которые отличались друг от друга разными цветами.
— Что это такое? — спросил я у Аслана.
— Географическая карта Ванской области, — отвечал он.
Я опять-таки не мог ничего понять.
— На этих бумагах, — сказал он, — начерчены все деревни, горы, реки, поля Ванской области, словом все, что сотворили природа и люди.
— Покажи мне деревню, — сказал я ему.
Он показал мне что-то вроде буквы «о», около которой нарисован был маленький крест.
— Это, — сказал он, — деревня богоматери, куда ты ходил на богомолье. А этот крест — монастырь.
— Какая же это деревня, когда в ней не видно ни одного человека? — спросил я.
Он только засмеялся и ничего не ответил.
— Эти карты тоже рисовал ты сам?
Он утвердительно кивнул головой.
— А на что они нужны?
— Когда доктор хочет лечить человека от какой-нибудь болезни, он прежде всего должен познакомиться с устройством его тела, — отвечал он. — И если мы хотим принести какую-нибудь пользу нашему отечеству, мы прежде всего должны узнать его.
Наши лошади стояли перед палаткой. Для меня бек велел оседлать одну из своих лошадей. Я объявил ему, с каким условием я принял лошадь, подаренную мне предводителем армян-кочевников, и прибавил, что теперь я имею право взять его подарок, так как моя лошадь не найдена. Поэтому, мол, беку не к чему было тревожить своих лошадей.
— Ваша лошадь находится в числе найденных, так как вместо нее у нас теперь десять лошадей, — сказал бек серьезным тоном. — А лошадь, подаренную тебе начальником армян-кочевников, я уже давно возвратил ее хозяину.
Я был вынужден принять подарок бека, к которому он прибавил еще пару пистолетов, говоря:
— Примите и эти пистолеты, как подарок от меня. Они сделаны в Бахчисарае. Каждый раз, когда вам удастся убить ими кого-либо из ваших врагов, вспоминайте всегда езидского бека.
Аслан был до такой степени близок к семье бека, что вошел даже в женское отделение и попрощался со всеми. Все провожали нас очень радушно. Только одно лицо было недовольно. То была прекрасная Тути. Она плакала стоя одна за палаткой.
Солнце зашло, когда мы сели на лошадей. Я никак не мог понять, почему Аслан отправлялся в путь всегда ночью…
Глава 44.
СУМАСШЕДШИЙ СВЯЩЕННИК И ДОКТОР
На следующий день утром мы прибыли в армянское село, расположенное недалеко от Вана.
— Здесь нужно будет немного отдохнуть, — сказал Аслан.
Я был очень доволен, так как мы всю ночь ехали и ни на минуту не смыкали глаз.
Аслан подъехал к дому, который, как выяснилось, принадлежал священнику. Я последовал за ним.
Священник был известен в этих краях под прозвищем — «дали кешиш», что означает «сумасшедший священник». Но он был не из тех сумасшедших, которые лишены разума. Прозвище это он получил за свою дикую отвагу.
Когда мы подъехали к дому, священник был занят тем, что перед домом избивал каких-то связанных людей.
— Что это, батя? — спросил Аслан. — Опять ты взял в руки посох справедливости!
— Этих негодяев надо немного проучить, — небрежно ответил он и подошел к нам. — Ну, слезайте, у меня есть хорошая водка и вино, только что привезенные из Вана.
— Но прежде чем мы приступим к выпивке, вели-ка отпустить «этих негодяев», — смеясь, сказал Аслан.
— Нет, уж вы не вмешивайтесь в мои судебные дела. Негодяи должны быть наказаны, — отвечал он. — Войдите в дом.
Преступники были два курда, угнавшие из стада деревни трех коров. Узнав это, Аслан уже не ходатайствовал об их освобождении.
Мы вошли в дом.
Священник ввел нас в горницу, которая служила и гостиной и спальней. Но он называл ее «диванхана», т. е. «дом суда».
Я думал, что найду тут различные колдовские книги или «Четьи Минеи», как в комнате отца Тодика, но к моему удивлению здесь не было ни одного клочка бумаги. Зато комната была полна оружием: здесь были копья, ружья и иные предметы вооружения.
Очевидно, священник ждал Аслана и знал, откуда он идет. Я понял, что Аслан и священник — старые знакомые, быть может близкие друзья. «Но что может быть общего между умным Асланом и „сумасшедшим священником?“» — думал я.
Священник был сухой человек высокого роста. Его движения и черты лица выражали дикость. Но еще более неприятное впечатление производил его громовой голос. Три пальца у него на левой руке были отрублены, видимо, мечом. На голове и на шее у него также были видны следы ран. Если бы Аслан не сказал мне заранее, что этот человек священник, то я его принял бы за разбойника, который всю жизнь занимался грабежом и убийствами.
Как только мы вошли в «дом суда», он подошел к шкафу, отдернул занавеску и достал оттуда огромную бутылку водки. Сперва он налил себе и выпил, а затем предложил Аслану, а после него предложил и мне, говоря:
— Выпей, она укрепляет кости, к тому же ты устал.
Увидя огромный стакан, я ужаснулся.
— Водки я не пью, — сказал я.
— Почему же это, дьячок? — спросил он, глядя прямо на меня своими страшными глазами.
— Он не дьячок, — сказал Аслан.
— А очень похож, — насмешливо сказал священник.
— Мы его освободили от этого, — многозначительно ответил Аслан.
— Это хорошо, — сказал священник, подойдя к нише. — Я дам тебе «водку для красных невест», — сказал он, доставая другую бутылку с каким-то желтым напитком.
Я выпил. Напиток был сладкий и приятный на вкус. В это время священник подошел к окну и крикнул:
— Матушка, куда пропала, черт тебя побери!..
Появилась женщина низенького роста и поздоровалась с Асланом. Это была попадья. Она была довольно симпатична.
— Слепая, поди, поцелуй и нового гостя, — обратился к ней поп.
Она подошла ко мне, обняла и стала целовать меня.
— Ну, а теперь тащи все, что хранится у тебя на черный день. Они голодны.
Поподья слегка улыбнулась и вышла из комнаты. Было видно, что она рада гостям. Она пошла приготовить нам завтрак.
«Сумасшедший священник» мало-помалу начинал мне нравиться. Первое неприятное впечатление сглаживалось, и он казался мне простым и добросердечным человеком. Аслан спросил у него, где хранятся «вещи».
Он указал на другую комнату, и Аслан вошел туда. Я остался со священником наедине.
— Ты учился? — спросил он.
— Учился, — ответил я.
— У кого?
— У нашего священника, отца Тодика.
— Понимаю… Не околел еще этот разбойник?
— Нет, еще жив, — ответил я. — А вы откуда его знаете?
— Кто же его не знает, этого негодяя? Он был слугой у старшины в Дадване. Каких только злодеяний не натворил там! В конце концов убил старшину, ограбил его и бежал в Салмаст, где под другим именем стал попом. А теперь надувает народ колдовством! Не правда ли?
Меня крайне удивил рассказ священника.
— А как ты от него избавился? — спросил он.
— Я убежал из его школы.
— Умно сделал. Жаль только, что ты не бежал вместе с Каро. Если бы ты убежал с ним, то теперь был бы совсем иным человеком. Ах, если б этот негодяй попался в мои руки!
— А что бы вы с ним сделали? — спросил я.
— Что? Отправил бы его к покойному его отцу…
Наш разговор прервал человек, который вышел из той комнаты, куда вошел Аслан.
На глазах у него были очки, и с ног до головы он был одет в европейский костюм. Я впервые видел человека, одетого так. В ту же минуту вошла попадья, неся нам завтрак. Увидев европейца, она перекрестилась и воскликнула:
— Ой! Боже мой!
Поп стоял в углу и смеялся. Приглядевшись, я в европейце узнал Аслана, который преобразился, подобно тому как преображался, переодевшись в монаха или ванского купца.
— Гм! — обратился он к простодушной матушке. — А что бы ты подумала, если бы увидела меня таким ночью?
— Что? Перекрестилась бы и ты бы сгинул.
— Я ведь не сатана, чтоб бояться креста, — смеясь сказал Аслан.
— Чем же не сатана! — ответила она. — Разве не жалко было тебе менять ту одежду на эту, — с досадой и укоризной сказала она.
— Клянусь святой богородицей, это нехорошо. Ты только посмотри, на что похожи эти узенькие брюки.
— Ну, пока оставим это, лучше посмотрим, на что похож тот завтрак, который ты принесла нам.
Священник отдернул третью занавеску и достал оттуда большую бутылку вина, которую, присаживаясь к столу, поставил около себя. Мы тоже сели. Завтрак был хороший. Совершенно не было видно, что его готовила простая деревенская женщина. Однако Аслан после мне рассказал, что попадья не деревенская, а из Вана, что она вторая жена попа, который, несмотря на запрещение, женился на ней после смерти своей первой жены. «Сумасшедший священник» был не из тех, которые подчиняются церковным канонам. Он при всех случаях пускал в ход силу и кулак. Видимо поп и попадья жили в мире и в любви.
За завтраком Аслан спросил, какие новые вести из Вана?
— Национальные дела обстоят недурно, — серьезным тоном ответил священник. — П… жив и здоров. Ночи он проводит с цыганскими щенятами, заставляя их плясать и по очереди обнимая их… Подучивает курдов поджечь скирды урожая того или иного монастыря, чтоб ночью было светло. Во время празднеств не уклоняется от общественного веселия и нравственно утешает свою паству. Устраивает похищение девушек и молодых женщин, дабы размножался род армянский… Если к нему приходит с жалобой отец обесчещенной девушки (куда же несчастному обратиться, если не к нему?), то он сперва его поучает словесно, а потом… палкой, чтоб «кости просителя немножечко смягчились…», а после этого он говорит просителю: «Иди брат, этот мир устроен не для таких как ты, ты не умеешь чтить старших». Тот слушается и отправляется на тот свет… Есть у него и другая привычка, которая показывает доброту его сердца. Когда курды-разбойники грабят армянские селения и, когда этих курдов ловят, то он отправляется к паше и великодушно освобождает арестованных разбойников. Вследствие этого, курды называют его «отцом». Есть у него еще одно хорошее правило — когда он хочет кого-либо проучить, то берет у него деньги, «ибо ни одно наказание не может огорчить адамова сына так, как отдача денег, — говорит он, — ибо сильно любит их».
— Но как же вы до сих пор остались свободны от поучений? — взволнованным голосом спросил Аслан.
— «Когда безумец видит безумца, то прячет свою палку», — ответил он турецкой поговоркой. — Он разбойник, но ведь и я не агнец божий…
— Хорошо, а как смотрят на его
добродетели князья города? — спросил Аслан.
— Они не из неблагодарных. Они очень ему признательны, — опять серьезным тоном ответил поп. — Они хорошо знают свои обязанности и ежемесячно отправляют в Константинополь благодарственные послания, в которых сравнивают его с великими людьми. Но и то нужно сказать, что он не забывает их, когда в его руки попадает большая добыча, он и им уделяет по ломтику…
— А в каких он отношениях с пашой?
— В наилучших.
— А это тот самый паша, который на алтаре армянской церкви устроил цыганские танцы и пил вино?
— Он самый. Ведь и этот у паши научился забавлять себя цыганскими танцами.
Все эти речи были мне понятны, но они, видимо, кололи сердце Аслана, как острие меча. Его ясное чело омрачилось, в его голосе слышались гневные ноты.
— Мне это кажется совершенно невероятным, — сказал он. — Ванский народ при патриархальной своей простоте не мог бы потерпеть столько злодеяний. Пример этого человека, занимающего высокое положение, является соблазном для простонародья и оскорбляет его чувства.
— «Тот, кто собирается красть, прежде ищет место, где он спрячет краденое», — ответил поп. — Он очень искусен в словах, которыми оправдывает себя. Когда его упрекают в том, что он дружит с пашой или разбойниками-курдами, или цыганками-танцовщицами, то он отвечает словами апостола Павла о том, что с евреем надо стать евреем, с язычником быть язычником. При этом он уверяет, что дружит с этими людьми и чтит мусульманские обычаи во имя блага своей паствы, с той целью, чтоб угодить этим людям и использовать их для защиты интересов нации.
— Злодей! — воскликнул Аслан. — Васаки-предатели
[28] всегда так оправдывают себя.
Хотя Аслан до этого говорил, что он очень голоден, но почти ничего не ел. Поп, заметив это, спросил;
— Почему ты не кушаешь?
— Аппетит пропал, — ответил Аслан.
— На, — сказал поп, — подавая Аслану огромную чашу с вином, выпей, забудешь горе.
Аслан принял чашу и одним духом осушил ее до дна.
— А ты не потерял аппетита! — сказал священник. — Это потому, — добавил он, — что ты нисколько не беспокоишься о том, что творится в Ване.
— Я потому и иду туда, — сказал я, — чтоб посмотреть, что это за город.
— Лучше бы ты там посмотрел, как люди живут, — сказал священник.
После этого Аслан и священник уединились в другой комнате и горячо о чем-то спорили. Я ничего не мог понять из их разговора, так как до меня доносились лишь обрывки слов. Аслан вышел оттуда возбужденный и велел тотчас приготовить лошадей.
— Вы подумайте, может что-нибудь забыли, — сказал Аслану священник.
— Все, что нужно, я взял и поместил в двух ящиках, — отвечал Аслан. — Но вы приготовьте лошадь, на которую можно было бы навьючить эти ящики и найдите слугу, который поедет со мной.
— Через полчаса можете пуститься в путь, — сказал священник, — а пока выпейте-ка эту чашу.
Аслан взял чашу с вином и выпил.
В разговоре священник обращался к нам то на «ты», то на «вы», не придавая этому никакого особого значения.
— Где же ваши ребята? Никого из них не видно, — сказал Аслан.
— Все они взяли своих дам и отправились в горы, на кочевку, к овцам. Алмаст тоже там. Дома остались только мы с дорогой моей матушкой. Тяжела служба священника! — добавил он.
— И ты верой и правдой несешь ее, не правда ли? — сказал Аслан, смеясь.
— Во всяком случае, я несу службу лучше, чем наш отец Марук, который даже грамматике обучался. Все дети, которых крещу я, выходят потом лучшими христианами, а те, кого я хороню, никогда не встают из могилы.
— Расскажи-ка, как ты однажды обварил в купели ребенка, — сказал Аслан.
— Ну это старая история. Теперь я таких вещей не делаю.
— Ты расскажи все-таки, пусть и Фархат послушает.
Священник в очень смешной форме рассказал как это случилось. Зимой, когда детей приносят в церковь крестить, то вместе с ними приносят горячую воду для купели. Однажды принесли очень горячую воду и он, не попробовав, налил ее в купель и окунул в нее ребенка. Ребенок обыкновенно кричит, когда его священник окунает в воду, но на этот раз он вдруг притих и не подал крика. Тут-то священник понял, что ребенок умер. Тогда он нисколько не смутившись, обратился к крестнику и сказал: «С этим ребенком дело не вышло, давайте другого, если есть».
Священник нас не задерживал. Видимо, и он торопился и хотел, чтобы мы поскорее уехали. Он и его жена провожали нас до самого края селения и трогательно с нами простились.
Селение, где жил священник, было расположено на склоне горы и с четырех сторон окружено естественной стеной — холмами. Благодаря этому оно было похоже на неприступную крепость.
— Видишь, это селение, — сказал Аслан, когда мы стали от него удаляться. — В нем живет не более пятидесяти семейств, а недавно они вели борьбу против 500 курдов, которые не могли взять его приступом и вынуждены были отступить.
— Да, потому что оно неприступно, по своему положению, — сказал я.
— Нет, не только потому, а еще потому, что жители его храбрые люди.
— Потому что у них такой «сумасшедший» священник.
— Это удивительнейший человек, — сказал Аслан. — Ты не суди его по его шуткам. Он очень неглупый человек, притом очень добрый.
После этого Аслан рассказал мне несколько эпизодов из жизни этого священника, который вырисовывался, как человек отчаянно смелый и великодушный, какой-то искатель приключений, всю жизнь боровшийся против всяких невзгод. Он даже обагрил свои руки кровью, не раз убивал и похищал добычу, брал людей в плен. Но и не раз бывал он побежден и ограблен врагом. Его первая жена и сыновья погибли от меча врагов. После этих-то событий он немного тронулся.
— Но несмотря на это отец Месроп очень любим. Около десяти армянских селений в этом крае находятся под его покровительством. И все чтят его, как отца. Однажды во время голода он распродал все, что имел, заставил всех богатых сделать то же и таким образом спас жизнь множества бедняков. Хотя он и неподходящий священник, но администратор он хороший. Потому-то и мог он держать под своей властью все армянские села расположенные в этих горах и не позволял туркам вмешиваться в их общественные дела.
— А он грамотный? — спросил я.
— Нет. Он едва умеет подписывать свое имя, но, по-моему, такие священники лучше, чем те, которые закисли в изучении богословских вопросов и которые затемняют сознание народа, ввергая его в
духовное омертвение. А такой народ не может иметь твердой почвы под собой и жить на земле.
— Отец Месроп, — продолжал он, — не является типичным армянским священником. Он скорее похож на курдского шейха, который постоянно живет одной жизнью с народом. Во время войны он храбрый воин, во время мира священник и судья. Всегда такими и были священники у кочевых племен. Такими были и Авраам, Исаак, Яков, и их преемники. Один из наших товарищей, священник. Я не хочу пока его называть. Он владеет греческим, еврейским, латинским языками, читал все касающееся бога книги, начиная с того момента, когда возникла среди людей идея божества. Но этот ученый богослов отложил в сторону всю премудрость, так как хорошо знает, что народ его не поймет. Но народ отлично понимает язык отца Месропа, потому что он вышел из народа и проникнут его же идеями, он не начетчик.
Слова Аслана о том, что один из наших товарищей священник, погрузила меня в раздумье. Я знал всех его товарищей. Кто же из них «отложил свою богословскую мудрость и теперь играет мечом?» Я не спросил об этом Аслана, так как он заранее сказал, что не хочет назвать этого товарища. Не менее удивлял меня европейский костюм Аслана. Особенно разжигали мое любопытство его слова о том, что он целых шесть лет ходил в таком костюме. Где? В какой стране? Между тем как я был погружен в эти размышления, Аслан сказал мне:
— Фархат, сегодня мы приедем в Ван. Там меня никто не знает кроме нескольких друзей. Там я явлюсь в виде европейца-врача. Ты будь осторожен, не выдай меня.
— Я не так глуп, — ответил я. — Но что же ты сделаешь, если к тебе привезут больного?
— Я его вылечу.
— Как же ты можешь его вылечить? — спросил я с удивлением.
— Могу, — решительным тоном сказал он. — Видишь ли ты два ящика, которые везет слуга отца Месропа? В них находятся лекарства и медикаменты, которые я часто везу с собой.
Я лишь спустя много времени узнал, что Аслан был не простым врачом, но искуснейшим доктором медицины. Этому искусству он учился в Америке, когда он поехал туда из Армении. Он знал много европейских языков и любил искусство и науку также, как и дело общественного блага. Да, я лишь спустя много времени узнал, что он после бегства из школы отца Тодика посвятил себя высшей науке.
— Хорошо, раз ты врач, что же смущает тебя? Чем я могу тебя выдать? — спросил я.
— Я там должен скрывать, что я армянин… — ответил он взволнованным голосом. Казалось, ему тяжело было выговорить эти слова.
В тот же день вечером, когда уже мрак окутал землю, мы въехали в город Ван.
 Часть вторая
Часть вторая
Глава 1.
ВАН
По приезде в Ван мы остановились в Айгестане
[29] у мастера Фаноса, красильщика по профессии, известного всему городу лица.
Хозяин дома показался мне человеком добрым и честным. Он был сложен на славу, имел открытое ясное лицо. На востоке хорошее телосложение зачастую служит условием преуспеяния в жизни. Но мастер Фанос притом был человек опытный, умный, остер на язык. Вероятно, потому его и выбрали, несмотря на молодой возраст, членом квартального совета, куда охотнее избирают седобородых стариков.
В Айгестан мы прибыли в сумерки.
Аслан начинал, как говорится, считать меня за человека. В гостиной он познакомил меня с хозяином, заявив, что я друг его детства. Мастер Фанос окинул меня острым, пронизывающим взглядом и дружелюбно заявил, что рад познакомиться со мной.
По всему видно было, что Фанос был давно знаком с Асланом и ждал его приезда в эту ночь и знал, откуда приехал Аслан.
— Почему так долго продолжалось твое паломничество? — спросил Фанос Аслана с каким-то особенным, таинственным видом.
— Так… случилось, — ответил Аслан.
— Надеюсь, пресвятая богоматерь исполнила твое желание?..
— Она не обходит своими милостями паломников…
— Весьма рад, — заявил мастер, крутя правый ус; видимо, он был вполне удовлетворен ответом, — Недурно было бы выпить нам по стаканчику водки по случаю твоей удачной поездки.
— Что ж, выпьем; недурно было бы и закусить — мы порядочно проголодались.
— Ну, разумеется, — улыбнулся в ответ мастер Фанос и отправился заказывать ужин.
Аслан растянулся на кушетке, подложив под голову левую руку, и уставился глазами в потолок, бревна которого потемнели от времени и были засижены миллионами мух. Он погрузился в думу.
Задумался и я. Как это ни покажется странным, первым моим желанием по приезде в город было увидеть прославленных ванских котов. «Неужели в этом доме не водится кошек?» — спрашивал я сам себя, и глаза мои блуждали беспокойно по сторонам. Не знаю, какая психологическая тайна кроется в том, что внезапно появляется перед глазами человека предмет его мысли. И вдруг, величаво выступая, в комнату вошла белая, как снег, красавица-кошка с длинной шелковистой шерстью и бархатистыми лапками. Она молчаливо прошлась по комнате, подошла ко мне, нежно прикоснулась кудрявой головкой и пушистым хвостом к моему лицу и направилась к Аслану. Томно мурлыча, она несколько раз плавно прошлась вокруг него и присела. Умное животное, казалось, понимало, кто из нас достоин большего почтения. Аслан принялся ласкать ее милую головку, спину и хвост. Необычное явление вдруг привлекло мое внимание. Чем быстрее Аслан проводил рукой по ее головке и спине, тем чаще ее длинная шерсть издавала особый треск и испускала снопы огненной пыли.
— Что это такое? — спросил я.
— Искры… — ответил он и стал объяснять мне, что искры получаются от трения.
Никто из обитателей дома, кроме кошки, нс показался. Женщины, по обычаю этих мест, избегают показываться посторонним мужчинам, а дети, очевидно, спали — детских голосов не было слышно.
Айгестан поистине заслужил данное ему название.
[30] Это — одно из красивейших предместий города, покрытое густолиственными садами; по обеим сторонам широких улиц, под сенью ив и тополей, протекают ручьи. С улиц не видно домов, не видно и окон — стоит сплошная стена, в которой пробита лишь одна дверь. Эта дверь ведет в дом, обращенный своими окнами в сад или цветник. Каждый дом стоит особняком и живет особой замкнутой жизнью. Такого типа был и дом мастера Фаноса.
Отведенная нам во втором этаже довольно уютная комната предназначалась, по-видимому, только для гостей. Сюда были снесены имевшиеся в доме красивые предметы домашнего обихода. На подоконниках — разновидная китайская и персидская утварь, оставшаяся с незапамятных времен и вышедшая из употребления: медные чаши, большие круглые подносы, тарелки, подсвечники, — все прекрасной художественной работы. Бросалось в глаза множество наргиле
[31] и чибухов
[32] с предлинными мундштуками из жасмина или ширазской вишни. Очевидно, здесь было в обычае иметь в доме столько чибухов и наргиле, сколько предполагалось гостей. По стенам развешены были всевозможные принадлежности военного обихода, начиная с допотопных железных секир, щитов, шлемов и броней вплоть до современных копий, карабинов, пистолетов и ружей; рядом — разнообразные местные музыкальные инструменты: саз, сантур, чонгур
[33], свирель, бубен, барабан и др. Вероятно, хозяин дома умел играть на них; быть может, они предназначались и для гостей. Все это убранство дополняли несколько картин, как мне показалось, старинных мастеров. Кого изображали они — я так и не мог понять; судя по облачению и доспехам, это были цари и князья. Повсюду — букеты из засохших цветов: среди них выделялся бессмертник; цветы гор Васпуракана, и увянув, сохраняют свою красоту. Все говорило о том, что мастер Фанос был не только хорошим ремесленником, он обладал развитым вкусом, знал толк в редкостных вещах. Выбеленные известью стены были расписаны в персидском вкусе. На одной стене изображена была охота на тигра: юноша на слоне с длинным копьем в руке борется со страшным тигром; собаки окружили его, но ни одна не смеет подойти; зверь когтями впился в могучий хобот слона, а юноша вонзил копье хищнику в бок. Вот — церемония «салама»
[34]. Какой-то восточный царь, усыпанный сверкающими драгоценными каменьями, торжественно восседает на троне; пред ним склонились сотни голов; подле трона — придворный оратор, с высоко поднятой рукой, восхваляет милости царя и несодеянные им подвиги. Далее изображен одряхлевший мусульманин — эфенди
[35]. Склонясь на бархатные «мутакá»
[36], разлегся он на мягком ковре; во рту у него еле дымится змеевидная трубка наргиле; две юные девушки нежно проводят ладонями по его вытянутым ногам; третья обвевает его старческое лицо опахалом из пальмовых ветвей. Вот — четыре чернокожих раба. Полунагие, босые, они несут на плечах роскошные носилки, на которых восседает их господин в златотканных одеждах. Две последние картины в особенности привлекли мое внимание.
Мне приходилось встречать в домах зажиточных персидских армян разукрашенные картинами комнаты; но те картины, обыкновенно, бывали бессодержательны: цветы, плоды на тарелках, сады или красивые женские лица. Но здесь, в гостиной мастера Фаноса, картины имели определенный смысл, словно были написаны по специальному заказу…
Пол комнаты не имел дощатого настила, но зато был покрыт камышовыми подстилками, а поверх устлан прекрасными персидскими коврами — изделие местного кустарного промысла. У стен были сложены свернутые постели. Судя по их количеству, можно было заключить, какой заботливостью окружал Фанос своих гостей и насколько он был подготовлен к их приему; а гостям в его доме не было переводу. Ни у кого из жителей Вана мне не случалось встречать европейской мебели. Здесь я увидел письменный стол и несколько стульев, хотя ими никто не пользовался. Под окнами комнаты выступал балкончик, осененный грушевыми и абрикосовыми деревьями; подымавшаяся от земли виноградная лоза, обвивая столбы, придавала балкону вид беседки.
В комнате стоял спертый воздух. Я вышел на балкон, взглянул на сад. Деревья были погружены в вечерний мрак, ни один лист не шевелился. Кругом было тихо; лишь неугомонный сверчок где-то поблизости тянул свою однообразную заунывную песенку.
Внизу во дворе горел огонь. Вокруг огня суетились почти все члены семьи Фаноса — готовили для нас ужин. Летней порой айгестанцы стряпают, едят и спят под открытым небом. С балкона было видно, как соседи на плоских кровлях совершали вечернюю трапезу. Стол освещала своеобразная восточная деревянная лампа, подобие высокой клетки, внутри которой горел огонь; поверх лампы был надет белый колпак из тонкого полотна для защиты огня от ветра.
В Ване царили те же обычаи, что и в наших краях. Ужинали на кровлях. За столом сидели только мужчины, женщины прислуживали им и садились кушать лишь тогда, когда мужчины кончали еду; девушки тут же готовили постели, а рядом матери баюкали младенцев. Как приятна жизнь на кровле под открытым небом, сколько незабываемых воспоминаний связано с ней!.. Глядишь вверх — над тобой усеянное звездами небо, вокруг — беспредельная ширь, льются ароматы цветов…
С кровель неслись звуки песен… Пели главным образом духовные песни. У ванцев мало светских песен, да и те весьма грустны и заунывны. Это признак безнадежного самоувеселения, — когда человек, лишенный светских удовольствий и их радостей, стремится к духовному, к небу. Кое-где играли на чонгуре. Звуки песен отдавались в безмолвии ночи, словно горькие стенания наболевшей души; даже застольная песня ванца смочена слезами…
Я слушал и слушал… Временами ночную тишину нарушал смешанный шум голосов. Гул постепенно нарастал… Вот раздался глухой выстрел… И все вновь смолкло… Наступила глубокая тишина…
— Опять перебесились негодяи, — проговорил мастер Фанос, быстрыми шагами проходя мимо меня, — утром опять будут убитые или раненые.
Там убивали, а здесь распевали духовные песни…
Но наш гостеприимный хозяин, по-видимому, был не из тех людей, которые довольствуются одной молитвой. Он вошел в комнату, поставил перед Асланом бутылку водки и тарелку с жареной сельдью, затем снял со стены ружье.
— Куда вы? — спросил Аслан.
— В нашем околотке буянят, пойду погляжу, — ответил он и быстро направился к выходу. Но что-то вспомнив, остановился на пороге.
— На ваше имя получены письма, — добавил он.
Вынув из-за пазухи целую пачку, Фанос передал их Аслану и бегом спустился по лестнице.
Аслан молча взял письма, подошел к свету и принялся внимательно читать. Я сидел поодаль и следил за выражением его лица. Он был взволнован, его кроткие и спокойные глаза загорались гневом. Всегда сдержанный и осторожный, он в эту минуту как будто забыл о моем присутствии. Не докончив читать, он швырнул одно письмо на пол, с отчаяньем поднес руку ко лбу и закрыл глаза. Что случилось? Дрожавшие губы машинально произносили: «Несчастный!» Только крупная неудача могла так взволновать Аслана. Он поднял с пола недочитанное письмо, дочитал его и поднес к огню: тонкая бумага мгновенно превратилась в пепел. Аслан стал просматривать остальные письма. Он несколько успокоился, но морщины на лбу не расходились. Порой он делал какие-то отметки в записной книжке и что-то высчитывал на пальцах. Одно из писем он помазал какою-то жидкостью — между писаных строк вдруг появились новые буквы светлозеленого цвета… Я был поражен — откуда эти буквы? Но не осмелился спросить его…
Закончив чтение писем, он их сжег. И лишь тогда обратил внимание на жареную сельдь и бутыль с водкой.
— Ванская сельдь!.. Сколько семей питается только этой маленькой рыбкой! — воскликнул он, принимаясь за еду. — Ты не любишь селедку? — обратился он ко мне.
Мне не хотелось есть. Дорога утомила меня; только полный покой и длительный сон могли восстановить мои силы.
Аслану было не до сна. Этот железный человек не знал, что такое отдых. С нетерпением ожидал он возвращения хозяина дома. Вскоре вернулся мастер Фанос. Он повесил ружье на прежнее место, прошелся несколько раз по комнате..
— Это невыносимо… До каких же пор! Нет сил терпеть! — повторял он про себя.
— Чем окончился ваш поход? — спросил с улыбкой Аслан.
— Все закончилось до моего прихода… Курды сделали свое дело, — ответил он, потирая посиневшие от краски руки… — Нет сил терпеть! — продолжал повторять он.
— «Терпеньем жизнь сохранишь!» заповедали нам наши деды, — возразил ему с усмешкой Аслан.
— Но и терпению должен быть предел, — произнес мастер, продолжая потирать свои синие пальцы, — а наше терпенье — терпенье мертвецов.
— Расскажите же, в чем дело? — спросил Аслан, и лицо его приняло серьезное выражение.
— Как будто не произошло ничего особенного. Каждую ночь почти одно и то же; крадут в садах фрукты. Курдские или турецкие крестьяне, привозящие в город продукты на продажу, возвращаясь ночью обратно в свои деревни, постоянно обворовывают сады армян. Добро, если бы только воровали. Негодяи срубают и деревья. Проходит молча днем мимо сада какой-нибудь курд или турок, облюбует вишневое или грушевое деревцо, подходящее для починки поломанной сохи, сделает пометку, а ночью срубит и увезет. Годами растишь, ухаживаешь за деревцом — и вдруг нет его! Сад обезображен! Сколько горя несчастному владельцу сада! Я видел своими глазами семьи, которые днями просиживали у пеньков любимых деревьев, плакали навзрыд, словно над могилой погибших детей…
К происшествию, так глубоко возмутившему мастера, Аслан отнесся совершенно спокойно. В этой стране считалось вполне естественным, чтоб одни трудились, возделывали сады, взращивали деревья и плоды, а другие — невежественные бездельники и ленивцы — присваивали, отнимали плоды чужого труда.
— Вместо того, чтоб самим плакать, недурно было бы заставить плакать грабителей, — прервал Фаноса Аслан.
— Да, было б недурно, — ответил с глубоким вздохом Фанос, — но трудно, очень трудно… На их стороне грубая сила, они вправе творить беззакония… Мы связаны по рукам и ногам, а им предоставлена полная свобода. У нас в руках нет даже простой палки, а у них имеются шашки. Словом, мы лишены всех видов самозащиты. Если владелец сада рискнет оказать хоть малейшее сопротивление и не допустит срезать дерево, будьте уверены, что на следующую ночь войдут в его дом и перережут ему глотку, а злодеи останутся безнаказанными… Ведь, в наших краях голова армянина дешевле луковицы…
— Если б у каждого армянина было в доме оружие, как здесь, ему не посмели бы отрезать голову, — заметил Аслан.
— Да, если б было оружие, — взволнованно ответил мастер. — Власти привыкли не считаться с армянином. Заметят у него в руках оружие, сейчас же отбирают, говоря: «Оружие тебе не подстать, лучше займись своим аршином!» И в итоге — армянин служит беззащитной дичью для курдов и турок… Жгут его хлеб, вырубают виноградники, а хозяин стоит, сложа руки, видит все это — и вздыхает.
— Неужели правительство до такой степени несправедливо? — спросил я.
— Какое правительство? Его здесь нет и в помине. Здесь господствуют лишь угнетатели и самозванцы, которые творят зверства и насилия. Расскажу вам один случай, и вы поймете, что за люди местные управители. В нашем городе испокон веков не существовало казарм: солдат размещали по окрестным деревням в домах армян. Каждая семья обязана была содержать нескольких солдат. Представьте себе бесшабашного башибузука в армянском доме: он считает себя полным хозяином всего и самовольничает. Крестьяне долго терпели эти безобразия, а как стало невтерпёж, обратились к губернатору-паше; обещали построить на свои средства за городом казармы, лишь бы освободили их от бесшабашных гостей. Паша дал согласие. Собрались, обсудили, подсчитали расходы по постройке и, распределив между собою, внесли требуемую сумму. Но… большая часть собранных денег разошлась по карманам… А необходимый для постройки лесной материал опять-таки вырубили в садах тех же крестьян…
— Даром?
— Ну, конечно, даром. Но этого мало. Бесчеловечность перешла пределы. В руки владельца сада давали топор и заставляли рубить собственное дерево: все равно что дай отцу нож и прикажи перерезать глотку сыну.
— А чего смотрели епархиальный начальник и ваши эфенди? Почему не протестовали эти почетные народные представители?
— Вся шутка в том, что сами эфенди и заставляли крестьян рубить деревья: они-то и взяли с подряда постройку казарм. А епархиальный начальник — им друг и приятель.
— Кто же по-вашему во всем виновен?
— Разумеется, наши «народные» представители: они во стократ зловреднее турок и курдов.
Аслан и мастер Фанос долго еще беседовали на эту тему.
Мне надоело слушать. Глаза мои слипались, голова, точно налитая свинцом, отяжелела; мне было стыдно, не то я разделся бы и лег.
«Что за охота, — думал я, — спорить без конца об одном и том же: одни угнетены — другие угнетают, одни преследуемы — другие преследуют, как облегчить тяжелое бремя порабощенных… Будто они были учениками великого сына божьего, который обратился с призывом к угнетенному человечеству: „Придите все алчущие и страждущие, и я упокою вас“».
Ужин избавил меня, наконец, от этих разговоров; нить словопрений прервалась. В комнату вошли несколько слуг и стали подавать ужин. В доме мастера Фаноса слугами были его же ученики из красильного заведения. Ученики-подростки быстро принесли и поставили на стол все, что было приготовлено к ужину: один нес хлеб, другой — соль, третий — вино, четвертый — блюдо с кушаньями. Увидя их, я очнулся от дремоты. Сон совсем слетел с моих глаз, когда я заметил, что эти сорванцы глядели на меня с усмешкой; один из них даже наступил нарочно мне на ногу. Но у меня было больше повода к смеху: у всех руки по самый локоть были синего цвета, даже лица и носы были вымазаны в синюю краску. Да мудрено быть учеником красильщика и не покраситься! А я? Чей я ученик?.. В какую краску должны окраситься мои руки?.. Эти вопросы не давали мне покоя…
После ужина я попросил мастера Фаноса дать мне отдохнуть. Он приказал одному из учеников приготовить постель в гостиной. Опрятная постель служит главным показателем зажиточной жизни семьи, а такой чистой постели, какую предоставили мне, я в жизни не видывал. Не успел я положить голову на подушку, как глаза мои сомкнулись.
В полночь я проснулся от нестерпимой жажды. Отведать соленой ванской селедки и притом на ночь — нелегкая вещь. Меня крайне удивило, что Аслан еще не ложился спать: он сидел перед масляным светильником и писал.
— Что ты пишешь? — спросил я его.
— Письма. Завтра утром отъезжает посыльный. — Но куда и к кому — он мне не сказал.
— Если будешь писать охотнику, передай мой привет.
— Хорошо, — ответил он, продолжая писать.
Я понял, что мешаю ему, и смолк. Спать больше не хотелось. Лежа в постели, я с изумлением глядел на Аслана. Он был живым воплощением энергии. Но куда была направлена эта неиссякаемая, вечно движущаяся сила, — мне было непонятно. Гусиное перо порой быстро носилось по бумаге, как его быстрокрылая мысль, порой двигалась медленно с какой-то предусмотрительной осторожностью. Если б я имел возможность прочитать его письма, ничего б не понял, хотя они и были написаны на армянском языке и армянскими буквами. Лишь много позже я усвоил эту условную форму письма, понятную лишь пишущему и адресату.
Аслан все писал. Я продолжал смотреть на него. Разнообразные мысли, смутные и бессвязные, мелькали в моем незрелом уме, и трудно было мне разобраться в них. В моем воображении выплывали и вновь исчезали, подобно виденьям, те превращения, многократные и разнообразные, в которых мне пришлось видеть этого загадочного человека. Вот он в арабском минарете, среди безмолвных руин, со своей разбойничьей шайкой сидит у пылающего костра в ожидании, когда сгустится ночная мгла, прекратится движение, люди погрузятся в спокойный сон, — чтоб выйти на большую дорогу и приняться за темное дело… Вот он в одежде схимника, спустился в ущелье «Катнахпюр»
[37], медленным размеренным шагом прошел он мимо меня и исчез среди скал, словно призрачное видение. До сих пор звучит в ушах моих его грустная песня бедуина, которой он вызвал из густого кустарника старую колдунью и маленькую девочку Гюбби… Вот он в костюме ванского коробейника в шатре езидского князя. Красавица Тути воспаленными страстью глазами глядит на него из-за полога шатра, не подозревая, что в сердце сурового и жестокого юноши нет места для женской любви. Вот он в доме «сумасброда» с глубоким волнением и гневом слушает грустную повесть сердобольного священника о бесчинствах, творимых епархиальным начальником. А теперь я вижу его в доме какого-то загадочного ремесленника; он — доктор, человек с высшим образованием… И мне запрещено говорить, что он армянин. Почему он открещивается от своей национальности, почему беспрестанно меняет свой облик сообразно с местом и обстоятельствами? Все эти вопросы долгое время занимали меня, но я не мог придти к определенному выводу.
Особенно заметно было с первых же дней нашего путешествия, что его постоянные таинственные свидания происходили, главным образом, с лицами, протестовавшими против правонарушений и бесчинств в стране; и всех этих лиц, принадлежавших к разным племенам и национальностям, связывала какая-то неведомая нить, она соединяла воедино их сердца и волю. Но в чьих руках находились концы нити, кто именно направлял волю всех к единой определенной цели — это и по сие время остается для меня тайной. Каро, Аслан, охотник и все их единомышленники являлись отдельными составными частями механизма довольно сложной машины. Но что за сила приводила в движение и направляла эту машину? Это был, казалось мне, высший дух существующий в неизвестности, дух могущественный и недосягаемый, своей невидимой рукой правящий и руководящий сердцами и мыслями людей…
Аслан кончил писать и стал запечатывать конверты. Светильник тускло горел, освещая его бледное лицо. На нем был ночной халат. Духота в комнате заставила его расстегнуть пуговицы, из-под полуоткрытого воротника выставлялась его широкая могучая грудь, иа которой я заметил большой рубец, вероятно, след от ружейного выстрела. С удвоенным любопытством я стал всматриваться. Не знаю, почему раны и рубцы всегда возбуждают во мне особый интерес. Быть может потому, что с ними связана память о каком-нибудь выдающемся случае в жизни человека. Аслан запечатал письма, запер их в ящик, чтоб поутру отправить с посыльным, и лег в постель. Я решил удовлетворить свое любопытство. Аслан обладал странным характером: временами он до того бывал приятен, словно мед стекал с его уст, временами до того суров и злобен, что, казалось, с глаз его и лица брызжет жёлчью. В такие минуты опасно было говорить с ним. Я все-таки не вытерпел и осмелился задать ему вопрос: «Что за рубец у него на груди?».
— Почему ты спрашиваешь? — желчно спросил он.
— Так… Хочется знать…
— А зачем тебе знать?
Я смолчал. Он понял, что огорчил меня.
— Никто не вправе вмешиваться в тайны другого, — ласково ответил он мне, — если б ты спросил, как устроена моя грудная клетка, с какой стороны находится сердце и какую работу оно выполняет, где расположены легкие, я тебе объяснил бы, потому что ты чему-нибудь научился бы. Но какая тебе польза знать историю моего рубца? Никакой!
Я почувствовал себя более оскорбленным.
— Ты всегда считал меня за глупого, ничего не смыслящего ребенка, с которым можно только шутить.
— Я не шучу. Но ты не так уж смышлён, как тебе кажется…
Глава 2.
МАСТЕРСКАЯ ФАНОСА
Ночь я провел тревожно, меня трясла лихорадка. Проснулся довольно поздно. Аслана не было в комнате. Не видно было и Фаноса. Я чувствовал слабость, тело ломило, голова словно в тумане была. Как во сне припоминались мне события вчерашней ночи. Побаливало горло. Заглянув в зеркало, я заметил на шее светлосиние пятна. От рубахи пахло лекарством: по-видимому ночью Аслан применял медицинские средства.
Один из младших учеников Фаноса принес мне воды. Я умылся, оделся и вышел на балкон.
Чудесный вид открылся предо мной: окрестные горы, живописные долины, город с двумя рядами стен и башнями, высокие минареты, купола армянских церквей, грозная цитадель и гладкая поверхность лазурного моря
[38]… Я сгорал от нетерпения увидеть все это вблизи. Приехав в Айгестан ночью, я, конечно, не мог разглядеть этот восхитительный уголок города, весь утопающий в зелени. Деревья, отягощенные разноцветными плодами, при утреннем освещении казались еще восхитительнее, чем ночью. Солнце, словно дозорный, глядело с небес и наводило страх на ночных воров и грабителей. Теперь настал черед дневных воришек. Огромная стая воробьев с громким чириканьем слетела на абрикосовое дерево; густолиственные ветви гнулись под тяжестью маленьких разбойников. Перепрыгивая с ветки на ветку, они радостно праздновали победу, поклевывая сочную сладкую добычу. Но вдруг вдали затрещала трещотка садовника, и шаловливая стая мгновенно слетела с дерева. Какая разница между курдами и этими невинными существами? И те и другие живут чужим трудом! Но воробьи добросовестнее: они не губят деревьев!..
Вернулся Аслан. Завидев его, я вошел в комнату,
— Я не хотел будить тебя. Хорошо, что ты уже на ногах, — промолвил он тоном врача, навещающего незнакомого больного, — Дай осмотрю тебя.
Я подошел.
— Небольшая опухоль в горле, но скоро пройдет, — сказал он и дал мне какую-то жидкость, для полоскания и мазь для втирания.
— В этом городе я твой первый пациент? — смеясь спросил я.
— Нет! Я только что от больного, — ответил он с обычной холодностью, — бедняк едва ли выживет.
Он надел широкополую европейскую шляпу и вышел, предупредив меня беречься и не выходить из комнаты. Я остался один,
Мастера Фаноса, вероятно, не было дома, не то он явился бы проведать меня. Пришла его мать, разбитная, рассудительная, острая на язык женщина, способная заткнуть за пояс любого мужчину. Детей таких женщин знают в обществе по имени матери. Звали ее Санам, и мастера Фаноса по ее имени называли — сын Санама.
— Слышала, сынок, — обратилась она ко мне, — что тебе нездоровится. Что болит? Сказали, что горло припухло. Пусть ниспошлет тебе пресвятая богоматерь исцеление… Я тебя сейчас же вылечу, не бойся: слегка надавлю пальцем и, с божьей помощью все пройдет. Намедни с сыном соседа то же приключилось, коснулась я рукой — и тотчас полегчало.
Я вежливо отказался от применения ее врачебных приемов, заявив, что вполне здоров. Она все же не успокоилась, предупредила меня, что в городе свирепствует коклюш, много детей перемерло, выживают только взрослые.
— А все же, — так закончила она свои наставления, — осторожность — дело хорошее. — И посоветовала мне посетить мастерскую сына.
Какое же целебное действие на коклюш может оказать красильное заведение? — недоумевал я. Старуха ничего не объяснила мне. Я все же последовал ее совету, но с иной целью: хотелось осмотреть мастерскую Фаноса.
Сойдя вниз по лестнице, мы встретили во дворе жену Фаноса с детьми. Мальчик и девочка, ухватившись за полы ее платья, назойливо кричали и чего-то просили. Завидев меня, они приутихли. Как были прелестны эти ангелочки — резвые, здоровые, чистенькие! Опрятность детей свидетельствует об аккуратности самих родителей. Третий ребенок, старший сын, выходил из дому с книжками в руках — вероятно, шел учиться. Когда он удалился, двое малюток стали опять вопить. Мать подошла ко мне и поздоровалась без слов, кивком головы. Она не закрыла лица, приняв во внимание мой юный возраст. Ее лоб украшали золотые монеты, шею и грудь — нити крупных кораллов. Все это придавало особую прелесть ее красивому, привлекательному лицу. На ней была, доходившая до пят, широкая длинная красная рубаха, надетая поверх платья из тонких тканей. Так одеваются во время работы, чтоб не испачкать одежды.
— Почему не заговоришь с ним? — сказала старуха-свекровь, — ведь он брат твой.
Невестка все же не раскрыла рта: приличие требовало, чтоб первым заговорил я. Но я был неопытен, не знал, как говорить с женщинами, искал слов и не находил. Крик детей вывел меня из неловкого положения и дал тему для разговора.
— Почему они кричат? — произнес я наконец.
— Хотят пойти с братом.
— Учиться?
— Где им учиться! Пойдут туда, станут играть, будут мешать и брату и учителю.
— А кто обучает вашего сына?
— Отец Егише.
— У него школа?
— Была, да закрыли… Теперь он занимается ежедневно по нескольку часов с моим сыном и детьми наших родственников.
На этом иссякла тема для разговора.
— Как зовут старшего?
— Айк.
— Младшего?
— Арам.
— А хорошенькую дочку вашу?
— Шамирам.
— Исторические имена, — заметил я и удивился своей находчивости.
— Имена царей, — добавила старуха, — отец часто рассказывает об их жизни и их делах, чтоб дети знали, чье имя они носят.
Время было раннее. Молодуха, видимо, торопилась по домашним делам. Наш легкий разговор она перевела на более реальную тему. Она сказала, что нужно постирать наше белье, потому что мы прибыли издалека; сегодня у них будет стирка, она просит послать белье, мое и Аслана, послать также, если есть что починить.
— Это ваш дом, братец, — добавила она, — не стесняйтесь, требуйте все, в чем нуждаетесь, как у матери или сестры вашей.
Я поблагодарил, и она удалилась. Дети перестали кричать, успокоились, казалось, забыли о старшем брате и побежали за резвившимся во дворе котенком. «Они также любят ванских котов, шерсть которых испускает искры» — подумал я.
В Ване, как и у нас, считается знаком особого расположения и почета показать гостю свое домашнее хозяйство. Поэтому я с удовольствием изъявил согласие на предложение старухи осмотреть ее дом. Сперва она повела меня в погреб, находившийся под землей, где в летний зной чувствовалась приятная свежесть. Здесь рядами были закопаны до половины в землю огромные винные карасы
[39].
— Это все из нашего виноградника, — сказала с невинной хвастливостью старуха.
Немного подальше в небольших кувшинах лежали: масло, сыр, мед, соленая сельдь и всевозможные соленые и маринованные продукты из винограда, овощей, плодов и зелени. Подобного изобилия мне не приходилось еще видеть.
— Кто же все это будет есть? — удивился я.
— И мы съедим, и другие поедят, — добродушно рассмеялась старуха. — Ведь господь послал это добро не только для нас, — мы должны уделить и беднякам.
— Вы покупаете все это?
— Ничего не покупаем. Все свое, домашнее. Масло и сыр получили от наших коров и овец, мед от наших пчел, остальное все также. Нередко курды приносят нам масло, сыр, творог, но их продуктов мы не едим, отправляем для продажи.
Я вспомнил, что так же поступают и в Персии — армяне не едят зарезанную магометанами скотину, считают погаными все их продукты продовольствия; магометане так же относятся к приготовленным армянами кушаньям.
Потом вошли в амбар. Это было сухое, хорошо проветриваемое помещение. Огромные закрома наполнены были зернами и мукой. Всюду были расставлены мешки и огромные кули с очищенной пшеницей, бобами, чечевицей, горохом, рисом и разными крупами. Все это хранилось для постных обедов.
— Все, кроме риса, получено с наших земельных угодий, — сказала старуха, — разведение риса здесь не удается, у нас воды мало, говорят, рис воду любит, — Старуха была сведуща и в сельском хозяйстве,
Потом мы прошли в торию. Это был просторный сарай, закрытый с трех сторон, открытой стороной обращенный во двор. Он был приспособлен для летней поры. Здесь пекли хлеб и варили обед. Толпа горничных и слуг неустанно суетилась, будто собиралась прокормить целую армию. Всем заведовала, за всеми присматривала жена мастера Фаноса. Я удивился, почему не старуха руководит хозяйством. В наших краях очень редко встречается такая уступка своих прав. Пока свекровь жива, невестка не имеет голоса в домашнем хозяйстве.
Отсюда мы вошли в помещение для хранения различного имущества. Здесь находилась домашняя утварь, и можно сказать, большая часть богатства мастера Фаноса. Грудами лежали красивые подстилки, роскошные ковры, скатерти и цветные войлочные изделия. Медные котлы и кастрюли, подносы, чаши — все чистые, недавно луженые, слепили глаза своим блеском. Постели со всеми своими принадлежностями были завязаны и сложены на полках. «Для кого?» — подумал я, — семья мастера Фаноса слишком малочисленна для такого обилия. Старуха рассеяла мое недоумение.
— Бывают дни веселья — крестины ли, праздники ли божьи, бывают и дни траура, поминки устраиваем. Свыше сотни людей садятся за наши столы, но ни разу ни одной ложки даже не брали мы у соседей. Все у нас свое, почитаем за стыд занимать у других. После смерти мужа я жила в бедности, кормилась своим трудом. Когда же сын мой возмужал, слава всевышнему, опустевший отцовский дом вновь наполнился всякой благодатью. Те, которые прежде издевались над нами, теперь завидуют…
Слова старухи и все то, что я видел, повергли меня в глубокое раздумье: как радостно видеть дом зажиточного армянина, где везде замечаешь следы довольства и труда, где люди живут весело и счастливо. Но рядом с ним сколько несчастных семей изнывает под бременем нищеты!.. В чем же причина? В дальнейшем я имел повод близко, очень близко познакомиться с этими причинами…
В сопровождении старухи я вошел в длинное строение, в котором помещалась мастерская Фаноса. Здесь, один за другим, стояли огромные котлы с красками. Красили во все цвета, но преимущественно в синий цвет. Крестьяне понавезли полотняные и шерстяные ткани собственного изделия, а также бумажные и шерстяные нитки. Среди приезжих были армяне, турки, курды, айсоры и другие. Платили за окраску обычно продуктами сельского хозяйства: маслом, сыром, пшеницей, шерстью,
мехами и др. По этой причине Фанос принужден был войти в компанию с одним торговцем для реализации получаемых продуктов. Иные не платили ничего.
Работа кипела в руках неутомимых рабочих. Младшие и старшие ученики, вымазанные в краску, сновали во все стороны. Синяя краска оставила свой мрачный след на их одежде, руках и даже на лицах. В синий цвет были окрашены столбы, пол, потолок, выштукатуренные глиной стены. Синими были и длинные жерди, на которых вешали для просушки окрашенные материи. Даже свет, проникавший через узенькие окошечки, отливал лазурью.
Мое внимание привлекла следующая картина: подмастерье с больным ребенком в руках молча подошел к котлу с синей краской. Только что взболтанная краска была покрыта густой пеной. Подмастерье три раза обвел младенца вокруг котла, потом торжественно окунул палец в синюю пену и крестообразно помазал шею его. Старая кормилица, стоявшая поодаль и со страхом наблюдавшая эту церемонию, приняла ребенка с рук подмастерья, вознаградив за лечение синецветным петушком.
— Ребенок страдает коклюшем, — пояснила мать мастера Фаноса, стоявшая возле меня. Она посоветовала мне применить тот же метод лечения.
Вскоре показался мастер Фанос с привычной улыбкой на лице. Его появление не произвело того впечатления, какое обычно наблюдается на производстве при появлении мастера — шум стихает, все принимаются за работу, восстанавливается тишина и порядок. — Нет! порядок соблюдался и в отсутствие Фаноса. В нем не было ни строгости надменного фабриканта, ни грубого властолюбия восточного мастера — простыми, дружественными узами были связаны подчиненные со своим хозяином.
Мастер Фанос деловито подошел к котлам с красками, осмотрел выкрашенные ткани, задал несколько вопросов, отдал несколько, распоряжений и удалился. Достаточно было ему одного лишь взгляда, чтоб заметить промах. Затем он подошел к посетителям, поздоровался с ними, стал расспрашивать про состояние здоровья, поинтересовался их положением — каков урожай, здорова ли скотина, каково состояние здоровья родителей, жены, детей и т. п. Обо всех расспрашивал, всех знал по именам.
Бросалась в глаза чрезвычайная близость, короткость отношений как с мастером Фаносом, так и со всей его семьей. Один курд подошел к его матери и попросил зашить рукав его антары
[40]. Другой курд привез пару живых куропаток для младших детей мастера. Я был поражен: человек, с такой горечью говоривший вчера с Асланом о курдах, сегодня ласково приветствует их. Неужели это фальшь? Неужели он им льстит с целью наживы? Нет, мастер Фанос не был ни льстецом, ни корыстолюбцем. Он хотел поддерживать дружеские отношения со всякими людьми, особенно с крестьянами.
Для наезжавшей отовсюду разношерстной массы людей дом мастера Фаноса был как бы гостиницей. Его мастерскую я сравнивал с оружейной мастерской моего дяди, но там нажива была на первом месте.
Приехавшие издалека поместили своих мулов в конюшне мастера, там был обеспечен для них корм и уход. Сами устроились на ночлег в смежной с конюшней комнате; туда приносили им кушанья из кухни Фаноса. Многие разместили привезенные из деревни продукты в его доме, чтоб завтра отсюда отвезти на базар для продажи. Дом Фаноса был для них как бы продуктовым складом. Покупки свои также складывали в доме Фаноса до самого отъезда в деревню. Все пользовались гостеприимством хлебосольного хозяина столько времени, сколько им надобно было для завершения всех дел в городе, после чего с благодарностью уезжали к себе.
Когда случалось мастеру Фаносу отправиться к курдам на кочевье, те принимали его также гостеприимно и относились к нему с большим уважением. Они не отпускали его неделями, месяцами, каждая семья любезно приглашала его в свой шатер, кормила, поила и отпускала с различными подарками. Один дарил ему красивого коня, другой — плотно валяный войлок или ковер, третий — несколько овец для «каурмы»
[41], четвертый — полный бурдюк сыра, масла или меда.
Поразительно моральное влияние этого энергичного, толкового, сведущего в делах человека на курдов. Среди курдских племен, знавших его, он пользовался неслыханным авторитетом. Бывала ли драка среди курдов, вражда, кровная месть — достаточно было Фаносу появиться и сказать несколько слов, наступал мир и спокойствие. Часто курды обращались за разрешением спорных вопросов не к шейхам своим, а к Фаносу. До такой степени он был авторитетен, что даже в самых затруднительных случаях добивался восстановления мира между враждовавшими сторонами. Дружба мастера Фаноса с курдами немало приносила пользы армянским крестьянам.
Мне рассказывали поразительные случаи.
Если курды отнимали у армян корову, вола или овцу, достаточно было пострадавшему знать кто вор или из какого племени. Он не обращался к паше или муфтию, а направлялся с жалобой к Фаносу. Мастер Фанос посылал его к главе курдского племени, укрывшего награбленное. Пострадавший крестьянин заявлял: «Похищена моя такая-то скотина; говорят, ее украл ваш „эл“
[42]. Мастер Фанос послал меня к вашей милости, просил найти награбленное». Если похищенная скотина была здесь, она немедленно возвращалась хозяину. Если же пострадавший неправильно указал племя, курды посылали его, куда следовало (у курдов ни одно воровство не совершается тайно). Он отправлялся по указанию с тем же заявлением и получал обратно похищенное.
Замечательно то, что подобные поручения передавались устно. Но во избежание сомнений в правдивости слов жалобщика, Фанос давал пострадавшему свой нож, свои четки или гребенку для расчесывания бороды. По этим условным знакам курды узнавали посланца от мастера Фаноса.
Если на армянина по дороге нападали курды, достаточно было сказать, что он — слуга мастера Фаноса, и его не трогали. Конечно, подобным уважением он пользовался лишь со стороны тех племен, которые были с ним в дружеских отношениях. Враждовавшие племена грабили не только армян, но и курдов, если те были из неприятельского эла. Воровство, грабеж, хищничество являются обычным средством существования курдов.
Раз я спросил мастера Фаноса.
— Ведь ты ненавидишь курдов, зачем же поддерживаешь с ними дружеские отношения?
— «Собаке потрафляй, про палку не забывай!» — говорит пословица.
Мастер Фанос был начитанный человек. Хорошо знал древнюю армянскую литературу. Из трудов Егише, Тома Арцруни он знал наизусть целые страницы. А историю Мовсеса Хоренаци
[43] изучил настолько досконально, что мог безошибочно сказать, что написано в такой-то главе, на такой-то странице.
В дни его детства славился своим подвижничеством иеромонах Лазарь «чудотворец». Этот своеобразный монах не мог ужиться ни с одной монастырской братией или, вернее, монахи не уживались с ним, поэтому он уединился в своем доме, окружил себя детьми и стал заниматься их воспитанием. Среди учеников был и юный Фанос, отличавшийся большими способностями. Наставник очень любил его и советовал не вступать в монашество. В то время учились исключительно с целью постричься в монахи. Зная, что Фанос не имеет отца, видя его блестящие способности, наставник стал уделять мальчику исключительное внимание. По совету своего наставника Фанос поступил в одно красильное заведение… При прощании наставник сказал ему: твоих познаний вполне достаточно для ремесленника, теперь ступай, научись ремеслу, чтоб своим трудом добывать хлеб свой.
В красильной мастерской Фанос оказал успехи так же, как и в маленькой школе своего учителя. В продолжение нескольких лет он вполне овладел техникой производства. Увидя его способности, мастер произвел его в подмастерья. Фанос блестяще повел дело. Нередко мастер предлагал войти к нему в компанию. Фанос благодарил его, но отказывался. Когда он скопил маленькую сумму денег, открыл собственную небольшую мастерскую. Дело постепенно расширялось, совершенствовалось и дошло до того состояния, в каком мы его застали.
В год ухода Фаноса из школы с его наставником случилось несчастье. Летом он часто водил своих учеников на берег озера купаться. Однажды один из учеников утонул, Хотя родители мальчика простили иеромонаху его неосторожность, но сам он никак не мог утешиться — это был слишком большой удар для его чувствительного сердца. Чтоб рассеять душевную боль, иеромонах решил заняться труднейшим делом, в котором жизнь его постоянно подвергалась бы опасности и, быть может, окончилась бы смертью, к великому его счастью. С этой целью он распустил своих учеников и исчез. О нем рассказывали удивительные истории: что он проповедует христианскую веру среди диких курдских племен и обучает их армянскому алфавиту, что творит чудеса, основывает армяно-григорианскую церковь и имеет множество последователей. Но где находился этот новоявленный апостол, в какой стране — об этом никто ничего не знал…
Глава 3.
АСЛАН — ДОКТОР
Весть о приезде доктора-европейца быстро разнеслась по всему городу и дошла до губернатора-паши. Паша изъявил желание повидаться с доктором. Все известные и малоизвестные лица стали приглашать Аслана; многие приходили к нему на дом. Аслан не знал покоя, я видел его редко. Иногда по целым дням его не бывало дома. Возвращался он лишь ночью, уединялся с мастером Фаносом и долго с ним беседовал. Эти беседы лишали его ночного отдыха. Иногда приходили к нему какие-то незнакомые люди в странных одеяниях, говорили на непонятном языке и исчезали, словно тени. Аслан в моем присутствии ни о чем не говорил: видимо, он пока мне не доверял. Его скрытность угнетала меня.
Дом мастера Фаноса был вполне подходящим для Аслана, здесь он мог встречаться с кем угодно, В красильное заведение приходило и приезжало из окрестных мест много народа; помимо того, профессия Аслана давала право принимать у себя всех, не вызывая никаких подозрений. К нему приходили действительно больные и мнимо-больные, рассказывали о своих недугах. А недуги были самые разнообразные: нравственные, душевные, экономические, развившиеся от непорядков в стране… И жалобы, жалобы без конца. Каждый требовал лекарства. Но разве в состоянии был Аслан врачевать и эти болезни? Имелось ли в его медицинском лечебнике какое-нибудь средство против загнивания и немощности общества, против мертвящего застоя? Тогда еще у меня не было ни достаточных знаний, ни развития, чтоб ответить на эти вопросы. Но могу сказать одно: как врач Аслан был неоценим…
Аслана можно было сравнить с бродячим лудильщиком, который пред пасхой переходит из села в село лудит ржавые котлы; крестьяне приносят всю свою медную посуду, нуждающуюся в полуде, зная, что целый год не увидят его. Точно так же и жители Вана торопились полечиться у врача, принимая в расчет, что доктор недолго пробудет в городе. Аслан, как человек незаинтересованный материальной выгодой, никому не отказывал в помощи.
Боль в горле у меня прошла, и через несколько дней я был в состоянии выходить из дому. Но у меня не было приличного костюма. В кое-как залатанном платье стыдно было показаться в городе. К великой моей радости Аслан заранее позаботился и об этом и купил мне на рынке прекрасный костюм.
Я быстро оделся. Аслан сообщил мне, что намерен посетить больных и берет меня с собой. После легкого завтрака Аслан выбрал необходимые лекарства и инструменты, часть их передал мне. В городе не имелось аптеки, и Аслан сам снабжал пациентов лекарствами: бедных бесплатно, но с богачей брал деньги.
— Фархат, а знаешь ли ты свою роль? — обратился он ко мне, когда мы вышли на улицу.
— Какую роль? — спросил я, совершенно позабыв о наставлениях, данных им по дороге в Ван.
— Помни: ты проводник, сопровождаешь доктора-европейца во время его путешествия.
— Понимаю, — машинально ответил я.
Но как я мог быть проводником, когда не был знаком со страной и не знал языков? Я являлся лишь немою тенью Аслана и бессознательно следовал за ним.
Аслан обычно ходил пешком, несмотря на дальность расстояния. Он был в длинных до колен сапогах, серой широкополой мягкой шляпе, темных дымчатых очках, совершенно скрывавших его проницательные глаза, не нуждавшиеся вовсе в стеклах; подмышкой — ящик с лекарствами, в руках — палка, похожая на дубинку.
Было свежее летнее утро. Солнце только что поднялось на небе; от громадных ив и тополей, окаймлявших длинными рядами улицы Айгестана, веяло приятной прохладой. В их тени, по обеим сторонам улиц, бежали ручейки, орошавшие окрестные сады и виноградники. Глядя на утопавшие в деревьях дома, человек несведущий мог подумать: как весело и мирно живется здесь людям!..
— Армянин, — говорил Аслан, — умеет жить; даже в условиях рабства сохраняет свое благосостояние; в этом заключается его жизнеспособность, жизнестойкость, которая на протяжении веков не раз заглушалась гнётом, но никогда не умирала.
Я в первый раз вышел на улицу; каждая вещь занимала меня, как ребенка. В этот ранний час молодухи с завесочками на лицах и девушки с открытыми личиками подметали перед домами улицу, наперед поливая землю водой из протекавшего ручья. Купцы-армяне, сидя на осликах, торопились с особенной деловитостью в город открывать лавки. Они раскланивались направо и налево и в тоже время продолжали недоконченную утреннюю молитву об удачном исходе торговли.
— Зайдем в этот дом, нужно навестить больную, — сказал Аслан.
Дом, куда мы вошли, был, как видно, когда-то прекрасным строением, но долгие годы не ремонтировался, обветшал и превратился почти в развалину. Уцелела лишь одна комната. Впервые привелось мне наблюдать картину крайней, беспросветной нужды. На сыром полу лежала молодая женщина, едва прикрытая старым изодранным одеялом; под головой вместо подушки лежало ее рваное платье. Подле нее, обняв руками колени, в безнадежном отчаянии сидела старуха-свекровь, полунагой ребенок ползал у постели больной и тихо бормотал. Завидев нас, старуха привстала и молча поклонилась. Аслан подошел к больной.
— Теперь ей лучше, — произнес он, — опасность миновала: лекарств давать не надо; необходимо больную содержать в чистоте; побольше свежего воздуха и света, и главное — хорошее питание
— Питание!.. — повторила старуха с глубоким вздохом. — А где его достать? Когда-то дом наш был полная чаща, сотни бедняков кормились нашим хлебом, а нынче… сами видите, что осталось… Все прахом пошло…
Рыдания душили старую… Она смолкла.
Аслан положил старухе в руку несколько золотых монет и направился к выходу.
Старуха отказалась от денег.
— С нас довольно и того, что вы несколько раз приходили к больной; заплатить не могу, но буду молиться за вас.
Старуха и в нужде сохранила родовую гордость.
Аслан все же старался убедить ее взять деньги.
— На что мне они? — возразила она взволнованно. — Могу показать их кому-нибудь, могу купить на них хоть чего-нибудь?
— А почему нет? — удивился Аслан.
— Нет, не могу, — с грустью ответила она. — Прослышат заимодавцы, что у меня завелись деньги и подумают, что я получила их от своих с чужбины, и отымут за долги. Да еще в суд подадут, станут донимать меня: много, дескать, получила, дай все.
Аслан, заинтересовавшись печальной повестью старухи, искал, куда присесть, но, не найдя ничего подходящего, сел на поломанный сундук.
— А много у тебя близких на чужбине? — спросил он.
— Пять сынов: двое в Стамбуле, а чем промышляют, не знаю; о других — ни слуху, ни духу. Старик-отец отправился за ними, да и сам пропал…
Глаза старухи опять наполнились слезами.
С глубокой скорбью слушал я ее речь и вспоминал моего, пропавшего на чужбине, отца… безутешную мать… сестер-сироток… и нашу развалившуюся хижину, откуда выгнал нас ростовщик-заимодавец… «Что ж это такое?.. — думал я. — Неужели армянин навсегда обречен на такую участь?.. Неужели он вечно должен томиться, влачить свои дни на чужбине и умереть, не увидав родной земли?.. Неужели роковое проклятие преследует его и гонит из родного края?..»
— Дом наш был полон детей… — продолжала старая, утирая слезы, — много было в нем и отцов и матерей… а теперь — сами видите — осталась лишь больная невестка да этот мальчонок, — она указала на полуголого ребенка, который вертелся вокруг постели матери. — Все пропали… перемерли… ведь смерть ходит всегда по пятам за нуждой!..
Ребенок отошел от матери, подполз к Аслану и, ухватившись за сапоги, стал на ноги, начал играть с цепочкой от часов. Я всегда полагал, что у Аслана каменное сердце. Но он не выдержал, когда малютка посмотрел на него блестящими черными глазенками, улыбнулся и пролепетал несколько слов. Дитя страданий заговорило… заговорило внушительно… и в его лепете послышался протест: «Разве я виноват? Зачем меня произвели на свет божий, почему я должен страдать и только страдать?»…
Аслан поцеловал ребенка, встал с сундука и, положив на подушку больной золотые монеты, вышел из дома скорби.
— «Смерть всегда ходит по пятам за нуждой», — повторял он по дороге мудрые слова старухи. — Неоспоримая истина! Там, где царит голод, нищета, смертность весьма высока. Ни один народ не может нормально увеличиваться в численности, если ненормальны его материальные условия. Понятно поэтому, что наш народ день за днем численно уменьшается. Этому способствует и уход на заработки. Мужчина, растратив свои свежие силы на чужбине, лишается возможности быть отцом семейства, производить потомство, а тем временем дети, оставшиеся на родине, умирают в нищете..
— Мы только что удостоверились, как вымирает многочисленная семья. А сколько тысяч таких семей в городе! В этих прекрасных домах, — Аслан указал рукой на Айгестан, — обитают две крайности: роскошь, мотовство и крайняя нужда. Роскошествуют богачи-угнетатели, а под бременем долгов стонут угнетенные бедняки…
По дороге мы встретили мастера Фаноса.
— Больная выживет? — спросил он Аслана.
— Если будет питаться, выживет, — ответил взволнованно Аслан.
— Я уже позаботился об этом, — ответил еле слышно мастер Фанос и прервал свою речь.
Мимо нас проходил человек низенького роста, в лохмотьях, жалкий и робкий на вид.
Мастер Фанос учтиво поклонился ему.
— Это самый богатый человек в нашем околотке, — молвил он, когда незнакомец удалился.
— Этот нищий? — изумился Аслан.
— Да, этот, похожий на нищего человек!
— А почему он так жалко одет?
— В нашей стране даже богачи принуждены прикидываться нищими, так как их имуществу грозит опасность, — ответил с особой грустью мастер. Того и гляди турки взведут на него напраслину и приберут к рукам его имущество.
— Разве это возможно? — поразился я.
— А почему нет, если и права в руках врагов, и суд. Пусть ярким примером послужит та несчастная семья, которую привелось вам видеть. Это были первые богачи, самые почтенные люди в нашем городе. Просыпаются как-то утром, и о ужас! На дворе валяется труп турка… Несчастных обвинили в убийстве, засадили в тюрьму, выжали все соки; выпустили их лишь тогда, когда ограбили дочиста!
— Но ведь не всегда возможно возводить на людей ложные обвинения, — заметил я.
— Но всегда можно к чему-нибудь придраться и оклеветать: одного в том, что он поносил магометанскую веру, другого — что он с вожделением посмотрел на турчанку, третьего — что хранит дома оружие и порох, четвертого — что въехал в городские ворота верхом на лошади, и т. п.
Последние слова мастера сделали для меня понятным то, что я увидел утром: армяне ехали на базар на ослах. Им было запрещено ездить верхом на лошадях. Здесь, как и в Персии, благородное животное — лошадь — предназначается для магометан, а низшее — осел — для христиан.
Мы вошли в глухую улицу.
— Подобные явления, — продолжал мастер, — случаются преимущественно с богатыми людьми; вот почему они и прикидываются нищими. Но и это не помогает. Магометанин изворотливее и ловче армянина-богача. Как ни старайся армянин скрыть свои деньги, все равно разузнают. Богач похож на лису, спрятавшуюся в своей норе; охотники напускают дыму перед входом, и бедное животное принуждено выползти. У паши имеется целая свора мастеров ставить ловушки. Это такие ловкачи, что и черту недурно бы у них поучиться.
В новом костюме я стал считать себя за человека и уже начинал вмешиваться в разговор.
— Стало быть, здесь ничье имущество не обеспечено? — спросил я.
— Не только имущество, но и жизнь и честь человека. Вот почему армяне в Ване пускают в ход те средства, какие применяли в различных городах Турции во времена янычар. Каждая семья находила себе покровителя из янычар, и он защищал ее от зверств других янычар; он говорил: «Не смейте трогать его, он мой
гяур». Но подобное покровительство очень дорого обходилось несчастным армянам: они превращались в рабов янычар, вынуждены были исполнять все прихоти их. Имущество, а зачастую и семейная честь приносились в жертву необузданным страстям покровителей. Это было покровительство волка своей жертве против других хищников, чтоб самому наедине сожрать ее. Те же ужасы творятся у нас и теперь. Многие семьи вынуждены искать покровительство влиятельных курдов или турок, но они так же бесчеловечно обращаются со своими подзащитными, как в былое время янычары.
Аслан слушал, видимо, без особого интереса. Казалось, все это было ему более знакомо, чем мастеру Фаносу. Но моему возмущению не было предела. «Что за участь, — думал я, — разве смерть не лучше такой жизни?».
Мы продолжали путь по длинным улицам, обсаженным деревьями.
— Лиходеи-покровители, — продолжал мастер, — дают деньги в долг своим «гяурам», когда те отправляются на поиски счастья в чужие края. Главным образом, стараются спровадить на чужбину тех, у кого в семье красивая жена или дочь. Уходящему на чужбину нужны деньги на дорогу, необходимо и семье оставить малую толику на пропитанье — и он берет их у своего «покровителя». Вначале долг составляет несколько сот курушей, но в течение ряда лет сотни становятся тысячами и вылезть из долгов становится невозможным. Основная сумма остается все одной и той же, выплачиваются лишь проценты. Но чтоб выплатить проклятые проценты, здоровые, сильные мужчины принуждены работать грузчиками в таможнях или каравансараях Константинополя. Во всем Ване вы не найдете ни одной семьи, несколько членов которой не находилось бы на чужбине. Вначале уходили на заработки только мужчины, а теперь уходят и женщины. Женщина-ванка, не покидавшая никогда родимой кровли из опасения, как бы не увидел ее лица посторонний мужчина, теперь на чужбине забывает свою патриархальную стыдливость…
— Кажется, и среди местных армян находятся лица, которые исполняют роль магометан-покровителей? — спросил Аслан, прервав печальное повествование мастера.
— Да, и таких немало. Негодяи только по имени армяне, а на деле — настоящие янычары.
— Как же это они могут не скрывать своего богатства и жить припеваючи?
— У них имеются покровители повыше — среди высокопоставленных сановников; пользуясь их заступничеством, они душат слабых.
Мы проходили мимо церкви, откуда с книгами подмышкой выходили дети.
— Здесь, вероятно, школа? — спросил Аслан.
— Да, одна из лучших в нашем городе. Если располагаете временем, можете осмотреть и составить понятие об умственном развитии нашего молодого поколения.
Мы вошли в школу, находившуюся во дворе церкви. Я вспомнил школу тер Тодика
[44] во всем ее уродстве! Здесь также, сидя в беспорядке на циновках, дети читали хором, но разное, потому что и книги у всех были разные. Дома отец давал сыну оставшуюся от прадедов какую-нибудь книгу — будь это Псалтырь, Часослов, сказание о Медном граде
[45], старинный лечебник или сонник — и наказывал сыну: «Скажи учителю, чтоб по этой книге учил тебя». Разница между этой школой и школой тер Тодика заключалась лишь в том, что здесь я услышал впервые названия книг: грамматика, риторика, логика и т. п. Они служили лишь для развития механизма чтения, читали их, как читают Евангелие. По-видимому, дома у учеников не нашлось других, более подходящих книг.
Учителя звали достопочтенный Симон. В Константинополе он работал цирюльником и, как все цирюльники, был довольно упитанный толстяк. От постоянного пьянства лицо у него было синекрасного, как гребень индюка, цвета: кожа на лице затвердела, потеряла эластичность и походила на кожуру апельсина; на огромном носу, занимавшем значительную часть лица, выступали подозрительные красные пятна. Подобные лица способны на всяческое лицемерие, да и подхалимство им под стать. Его одежда представляла забавную смесь азиатского с европейским. На голове — красная турецкая феска, поверх которой, по курдскому обычаю, повязаны были два платка — так называемая «язма»; одет он был в длиннополую ванскую антарý, а поверх — короткий европейский сюртук темно-желтого цвета. Короткое пальто и длинная антара были несколько раз стянуты вокруг живота толстым шерстяным кушаком. Узкие панталоны едва закрывали его голени. По-видимому, эти жалкие панталоны он купил на толкучем рынке, потому они были столь коротки. В классе он носил особого рода туфли с деревянными, в три пальца толщины, подметками; во время ходьбы по кирпичному полу туфли издавали весьма странные звуки.
Единственным предметом, подтверждавшим его профессию, была огромная чернильница, засунутая за пояс у самого живота. Эта своеобразная чернильница состояла из длинной четырехугольной медной трубки, к концу которой был приделан граненый стаканчик с чернилами; в стаканчике плавали черные шелковые нити, впитавшие чернила и мешавшие им пролиться. В медной трубке находилось все, что угодно: перо и перочинный ножик, щипчики для выщипывания волос из носа, бритва, которой брился достопочтенный, ложечка для ковыряния в ушах — этой же ложечкой он наливал воду в стаканчик, когда высыхали чернила. С пояса достопочтенного свешивались и другие предметы, в их числе коротенькая трубка с деревянным мундштуком, громадный пестрый кисет с табаком и щипцы, которыми он накладывал в трубку огня, а в случае необходимости, схватывал ими за нос своих питомцев.
Увидев гостей, достопочтенный Симон в первую очередь принялся наводить порядок. «Сс… сс… молчать!» — заорал он и стал бегать по классу, размахивая палкой: одного обругал, другого схватил за уши, третьего за волосы и усадил на место… Наконец, ему удалось восстановить порядок. Ученики смолкли и замерли на местах. В результате наведения порядка в полутемном классе поднялось облако пыли, сквозь которое можно было разглядеть, как перепуганные дети осовелыми глазами поглядывали на нас. Достопочтенный подошел к нам и обратился с приветствием, как хозяин дома к гостям.
— Добро пожаловать… Честь и место! Милости просим!
Не знаю, до чего б дошла его любезность, если б один из учеников не фыркнул и не прервал речи Симона. «Ужо покажу тебе, мерзавец», — пробормотал он, пригрозив кулаком провинившемуся.
— Чему вы их обучаете? — задал вопрос Аслан.
— Всем наукам, милостивый государь, — отвечал достопочтенный, ковыряя указательным пальцем в ноздре. — На любой вопрос соловьем они защёлкают.
— Прекрасно! — ответил Аслан.
— Вот этот малыш, сударь, — он указал на мальчугана лет восьми — может прочесть вам «Отче наш» наи́зворот.
— Как это «наи́зворот»?
— А так… К примеру… С конца до начала
[46], — ответил достопочтенный, запинаясь.
— Вероятно, в подобном методе обучения имеется особый смысл? — спросил серьезно Аслан.
— Как же, сударь, имеется особый смысл, — повторил Симон наставническим тоном, — когда прочитаешь «Отче наш» наи́зворот, глянь — сатана-то и пригвожден к земле на хвосте и ни с места. На опыте проверено, сударь, и не однажды.
Аслан обернулся к малышу.
— А ну-ка, мой удалец, покажи, как сатану пригвождают к земле на хвосте?
Мальчик поднялся с пола, прижал обе ладони к груди, раза два кашлянул и, выпучив невинные глазенки, стал читать:
— Лукавого от нас избави, но искушение во нас введи не и…
— Довольно, — прервал его Аслан, — на сей раз оставим лукавого в покое.
По-видимому, достопочтенный остался доволен ответом мальчугана и указал на другого ученика.
— А этот так твердо знает «Верую», что может сказать назубок, сколько в нем
аз и
буки — одним словом, сударь, знает все буквы, ответит как по писаному.
— Вероятно, вы и арифметику проходили с ними по тому же методу?
— Нет, сударь, — ответил Симон с каким-то особо таинственным видом, и на его поблекшем лице мелькнула кислая улыбка, — тут другая мудрость.
Я вспомнил, как тер Тодик заставлял нас зазубривать, сколько раз слово «господь» повторяется в песне «Даруй нам, боже» каждый раз обещал объяснить, какая глубокая тайна заключается в повторениях, но так и не объяснил. Не пояснил и почтенный Симон, какая мудрость кроется в исчислении букв «Верую».
Затем наставник задал ученикам ряд вопросов.
— Петрос, ответь мне: кто дважды родился и единожды умер?
— Пророк Нонна, учитель.
— Торос, какое животное заговорило человечьим голосом?
— Валаамова ослица, учитель.
— Мартирос, которую из птиц проклял Соломон мудрый?
— Воробья, учитель.
— Степан, какой плод съел Адам и стал наг, съела Ева и лишилась разума?
— Плод смоковницы.
— Видите, сударь, — обратился Симон к Аслану, — все отвечают как по писаному. — Кисло-сладкая улыбка вновь пробежала по его лицу, и покрасневшие веки образовали смешные линии.
— Моих учеников знает весь мир, они первые умницы в городе; с ними ни поп не может тягаться, ни благочинный, такие задают вопросы, что всех ставят в тупик. Его преосвященство в восторге от них; чуть не каждый месяц посещает нас. Эта чернильница — его подарок… — И, желая обратить наше внимание на чернильницу, он указал рукой на свой вздутый живот.
— А еще каким предметам обучаете детей?
— До обеда учатся письму, чтению, всякой премудрости, а после — вежливому обращению, деликатности и подобным вещам. — И достопочтенный поднес указательный палец к носу, стал козырять в левой ноздре, как-будто там что-то мешало ему. Затем, желая показать на примере правила вежливого обращения, обратился к одному из учеников:
— А ну-ка, Оганик, почти приветом гостя.
Мальчуган ростом с вершок стал пред Асланом, положил одну ладонь на другую, раскрыл их и протянул к Аслану. Аслан не знал, как ему быть. Достопочтенный с улыбкой подсказал ему, что надо положить руку на ладонь малыша. Аслан последовал совету учителя. Тогда малыш сперва поднес его руку к губам, поцеловал, затем ко лбу и положил себе на голову.
— А ну-ка, Авак, поклонись гостю!
Но Аслан не разрешил, говоря, что не надо беспокоить учеников. Достопочтенный старался продемонстрировать все умственные и нравственные качества своих питомцев. Затем он предложил ученикам пропеть несколько песен: о соловье и розе, о вине, о меджлисе, при этом, прибавил, что его ученики знают все песни до единой.
— А историю Армении они проходят? — спросил Аслан.
— А кому она нужна, история Армении? — возразил учитель с улыбкой, — ведь все армянские цари были язычниками!
Аслан ничего не ответил. Достопочтенный решил, что посетитель остался весьма доволен школой и потому осмелился спросить:
— Вы, сударь, кажется, доктор?
— Да, я врач.
— Должен сказать вам… нос мой… уж очень беспокоит меня.
И он принялся ковырять указательным пальцем в правой ноздре. Аслан посмотрел ему в лицо и ответил:
— Поменьше пейте водки, и все пройдет.
Мы вышли из класса. У дверей мы заметили двух наказанных учеников: они стояли в застывшей позе голыми коленями на мелком, режущем щебне, держа в руках по большому кирпичу, Третий ученик стоял рядом с палкой в руках и следил, чтоб они не изменили положения.
— В чем провинились эти несчастные дети? — спросил Аслан.
— Я, сударь, приказал моим питомцам, чтоб они вне школы ни с кем не разговаривали, даже с родными, словом, постоянно хранили молчание — ведь молчание главный признак скромности… А они, мерзавцы, нарушили мой приказ.
— А как вы узнали?
На лице учителя вновь мелькнула обычная улыбка. И налитые кровью глаза на сей раз совершенно исчезли за толстыми веками. Все морщинки лица волнами набежали на глаза и заслонили их.
— Я, сударь, все знаю, от меня ничего не скроешь — ответил достопочтенный с особым хвастовством. — Если я заподозрю кого-то, кто нарушил наказ, у того я измеряю рот и тотчас же узнаю: говорил он вне школы, или нет.
— Следовательно, у того, кто говорил, рот увеличивается?
— Ну, конечно, сударь, увеличивается.
Аслан на этот раз не в силах был удержаться от смеха. Достопочтенный решил, что его блестящее открытие поразило доктора, набрался храбрости и обратился к мастеру Фаносу, за все время не проронившему ни слова:
— Вы, мастер, можете подтвердить, какие у меня ученики. Могут ли найтись еще такие?
— Конечно, нет, — язвительно заметил Фанос, — подобных учеников воспитать можете только вы…
Достопочтенный принял его ответ за чистую монету.
Мы вышли из школы под весьма тяжелым впечатлением.
В школе тер Тодика было многое множество правил и строгостей, но там никому не приходило в голову измерять рот ученика с целью проверить, не разговаривал ли он вне школы.
— Как я ни старался удалить этого мерзавца из школы — ничего не вышло, — сказал на улице мастер Фанос.
— Почему?
— У него много сильных покровителей — его преосвященство и губернатор-паша.
— А что ж они находят в этом негодяе, почему защищают его?
— Именно потому, что он негодяй. Вы не сыщете человека более безнравственного и испорченного. Он в полном смысле — преступник, Его следовало б стереть с лица земли.
Представьте себе: по вечерам он берет с собой учеников к паше; они остаются там всю ночь — поют, пляшут, развлекают пашу..
— Да, высокой нравственности научатся они там… — произнес Аслан с отвращением.
— Паша не знал, что у армянских детей приятные голоса, Что они умеют петь красивые песни. Раз, ночью, он был в гостях у его преосвященства и приметил юных певцов. Узнав, что дети понравились паше, его преосвященство приказал Симону отправлять во дворец лучших певцов каждый раз, как потребует паша.
— А родители разве не протестуют?
— Они такие же мерзавцы, если не хуже; они считают особой честью, что их дети служат украшением пиров у паши.
Было уже за полдень, когда мы вернулись домой. Аслан удалился в свою комнату, мастер Фанос — в красильню. А я спустился в сад полакомиться фруктами.
Глава 4.
ГУБЕРНАТОР-ПАША
Однажды утром Аслан объявил мне, что ему в этот день назначена аудиенция у губернатора, и он намерен взять меня с собой. Я очень обрадовался: никогда не приходилось мне видеть турецких сановников.
Губернатор-пашá жил в городе, точнее в крепости. От Айгестана было недалеко, тем менее пашá прислал за нами верховых коней в роскошной азиатской сбруе, в сопровождении двух гавазов
[47].
Мы тронулись в путь; гавазы ехали впереди. Хотя христианам запрещено было въезжать в город на лошадях, но губернатор сделал исключение, желая оказать особый почет прибывшему в его город гостю.
Город произвел на меня чарующее впечатление — быть может оттого, что мне впервые приводилось видеть такой обширный населенный пункт.
Город Ван расположен на берегу Ванского озера. Его опоясывал глубокий ров и двойной ряд крепостных стен с пирамидальными башнями.
— Во время осады города, чтоб задержать неприятеля, — пояснил мне Аслан, — ров наполняют водой и подымают мосты. Кроме внешних укреплений, имелась и цитадель, созданная самой природой: посреди города, в его северной части, высилась огромная скала в полфарсаха
[48] длиною; постепенно суживаясь кверху, она принимала клинообразную форму. На вершине этого клина стоял еще с незапамятных времен пышный замок, построенный, по словам армянских легенд, ассирийской царицей Шамирам
[49].
При въезде в город непонятная дрожь пробежала по моему телу: мне было и приятно, и вместе с тем страшно. Город глухо и тяжело гудел. Мне представлялся гигантский муравейник, где вместо маленьких насекомых суетилось бесконечное множество людей и животных. По улицам стаями бродили собаки. Мы продвигались вперед с трудом. Гавазы расчищали путь. Со всех сторон были устремлены на нас сумрачные, полные неприязни взгляды. Магометанин не переносит «гяура»
[50] в более или менее приличном виде. Аслан оставлял впечатление европейского консула или посла. Я, по его распоряжению, был в полном вооружении: пара пистолетов привязана к седлу, другая пара — за поясом; за плечом легкое ружье европейского образца, сбоку — шашка, вся в серебре, привлекавшая общее внимание. Почет, оказанный нам, производил не очень благоприятное впечатление и на армян. Не зависть говорила в них, а боязнь — как бы не вызвать гнева магометан. Сидя в своих лавчонках, утопая среди парчи, они были заняты своим аршином и не желали глядеть на нас.
Наконец, мы достигли дворца паши́. Внешне он не отличался роскошью, но внутри он блистал великолепием палат восточного деспота. Вокруг струились фонтаны, в цветущих садах разгуливали горделивые павлины, всюду сновали белолицые и чернокожие слуги. У главного входа нас встретил крупный государственный служащий. Мы прошли несколько дворов, один живописнее другого. Каскадами ниспадавшие воды, зелень и цветы, излюбленные предметы благолепия у людей оживляли дворы чарующей роскошью. Окна комнат сверкали разноцветными стеклами, стены были расписаны эпизодами из легенд и преданий.
В пышной листве и цветах утопал особняк паши. Там ночи напролет проводили в игре, пляске и пении, там в щелку и драгоценных камнях угасали красивейшие женщины страны. Это был рай любви и неги — и в то же время ад, полный слез и ужаса. Наверху, в роскошных залах гремели песни, а внизу в подземельях гремели кандалы, раздавались стоны тысячи заключенных. Мраморные плиты тонущих в зелени дворов не раз орошались кровью безвинных жертв, и прекрасные густолиственные деревья не один раз служили виселицами. При свете луны спокойное зеркало бассейнов отражало чудовищные, полные ужаса, злодеяния. Внешний мир никогда не мог знать, что творилось за глухими стенами дворца… Любовь, ликование, распутство царили здесь вместе со звериной жестокостью…
С малых лет я привык испытывать страх пред сильными мира сего. А потому, прежде чем представиться пашé, я порядочно-таки натерпелся страху. Аслан видя мое замешательство, принялся упрекать меня и подбодрять.
— В тебе еще живет чувство раба… Чего ты трусишь? Разве пашá не такой человек, как и ты? Разве ты собираешься предстать пред грозным богом?..
Чувство стыда взяло верх — и я немного приободрился.
Пашá походил, если так можно выразиться, на глыбу мяса: толстый живот, объемистая голова, грубый голос — словом ничего утонченного во внешности. Утончены были лишь присущий каждому турецкому сановнику природный ум, хитрость и доходившее до коварства лицемерие.
Он принял нас с изысканной вежливостью. С помощью юных прислужников, подхвативших его под руки, он встал с места, подошел к Аслану и пожал ему руку.
— Я счастлив до бесконечности, — сказал он, — что порог моего дома переступил такой дорогой гость, как вы, господин доктор.
Затем он усадил Аслана подле себя справа, не выпуская его руки. Я стал у дверей зала. Вооруженные слуги (мне был известен этот обычай) должны прислуживать своему господину в той комнате, где хозяин имеет аудиенцию. Слуга в данном случае выполняет роль телохранителя: держа руку на рукояти сабли, он с крайней осторожностью следит за господином и, в опасную для его жизни минуту, как ангел-хранитель приходит ему на помощь. Я принял именно такую позу. Пашá говорил до такой степени плавно, увлекательно, что казалось, будто всю неделю твердил он эти горячие, исходящие от полноты сердца слова. Но их он твердил не неделю, а всю свою жизнь: эти чудовища очень любезны и вежливы с иностранцами, со своими же — жестокосердные, лютые звери.
Затем разговор принял обычный характер. Он говорил о том, о чем вообще говорят с приезжими.
— Как прошло ваше путешествие, господин доктор? — спросил пашá. — Надеюсь, никаких неприятностей не приключилось?
— Нет, никаких. Всюду я встречал радушный прием.
— Да иначе и быть не могло. Я счел бы за личное оскорбление, если б вы подверглись во вверенной мне стране хотя бы малейшим неприятностям. Европейцы, вообще неблагоприятно отзываются о нашей стране, считают нас за дикарей, будто мы отрубаем людям головы, чтобы использовать волосы… И потому мы весьма рады, когда в наши края заглядывают путешественники-европейцы: они хотя отчасти могут рассеять подобное постыдное мнение о нашем народе.
— Но некоторые европейцы очень хорошо отзываются о вашей стране.
— Разумеется… Справедливость требует этого. Необходимо, чтоб европейцы перестали бояться нас: тогда лишь будет возможно установить с ними хорошие отношения, и все это поможет расцвету культуры в нашей стране. Не скрою: отдельные случаи нарушения порядка у нас имели место (да и где их не бывает), но не теперь, а в давнем времени. Конечно, с моей стороны было б слишком нескромно хвалить самого себя, но я считаю долгом заявить вам, а это могут вам подтвердить и другие, что с того дня, как я был назначен губернатором, в моей области волки и овцы живут рядышком, как родные братья,
— Да… Я это видел, — улыбнулся Аслан.
Вошел хорошо одетый молодой прислужник, держа в одной руке маленький серебряный кофейник, в другой — изящный серебряный поднос с двумя прелестными китайскими чашечками на серебряных блюдцах. Согласно обычаю, он налил одну чашечку и поднес пашé. Пашá, желая оказать особый почет гостю, собственноручно передал ее Аслану. Аслан поблагодарил. Прислужник подал другую чашку кофе паше.
Выходя из комнаты, прислужник тихо толкнул меня в бок; это означало, что мне следует также выйти из комнаты и выпить кофе. Но я, к великому удивлению юноши, не подумал и тронуться с места.
После кофе другой, еще лучше одетый прислужник, принес наргиле изумительной красоты. Головка наргиле, где находились табак и огонь, была вылита из золота и украшена драгоценными каменьями, змееобразный наконечник длиною с вершок был из
желтого янтаря в золотой оправе. Нижняя часть наргиле, до половины налитая водою, была сделана из прозрачного, блестящего, как алмаз, хрусталя и вся разрисована цветами. Пашá принял наргиле из рук прислужника и предложил Аслану.
— Вы, должно быть, уже привыкли к нашим обычаям, — смеясь, заметил он: — вам нравится наргиле?
— Я курю с большим удовольствием, научился в Константинополе.
— О чем у нас шла беседа? — спросил паша, желая возобновить прерванный разговор.
— Вы сказали, что теперь волки и овцы живут в мире и согласии…
— Да, да, г. доктор, сердце мое переполнилось, простите за излишнюю болтливость. Европейцы обвиняют нас в негуманном обращении с христианами, будто мы их притесняем, преследуем; каких только страшных обвинений не взводят на нас… Но уверяю вас, доктор, что христиане живут в гораздо лучших условиях, чем магометане: христианам у нас повсюду оказывают предпочтение. Они освобождены от целого ряда повинностей, к примеру, от воинской, которая тяготит их. Я лично проявляю особую заботливость в деле улучшения участи христиан во вверенной мне области, стараюсь всячески облегчить тяжесть налогов, обеспечить их материальное благополучие. Я благодарен, что христиане ценят мои заботы о них и чуть ли не каждый месяц изъявляют свою признательность. Я покажу вам, г. доктор, еще недавно составленный мирской приговор, написанный в двух экземплярах: один для отправки в Константинополь патриарху, другой — в Блистательную Порту; армянское общество тысячами подписей выражает глубокую благодарность за моё управление и подтверждает свое благоденствие и полную счастья и довольствия жизнь.
Пашá приказал прислужнику принести портфель и достал оттуда несколько бумаг, покрытых многочисленными подписями и скрепленных печатями; среди них особо выделялись печать и подпись армянского епархиального начальника, подписи армянских беков, эфенди и прочих влиятельных лиц.
Аслан и я были крайне удивлены. Впоследствии мастер Фанос объяснил нам, из каких мутных источников исходят подобные изъявления благодарности.
Пашé показалось, что коллективные заявления произвели на гостя благоприятное впечатление.
— Нам весьма было б стыдно пред культурной Европой, — продолжал пашá, — если б в наш просвещенный век существовало в нашей стране неодинаковое отношение к различным народностям, вероучениям и гонениям на христиан потому лишь, что они не турки и не магометане. Правда, наш народ пока не совсем свободен от вековых предрассудков и в известной мере фанатичен. Но скажите, в какой стране нет фанатизма? Даже в просвещенной Европе по сие время кое-где имеют место гонения на евреев. Наше правительство со своей стороны всеми мерами стремится искоренить подобный фанатизм: в стране со дня на день растет число учебных заведений, мы заботимся также о преуспеянии армянских школ. В Айгестане, например, имеется известная всему городу школа, находящаяся под моим личным попечением, и я из личных средств выплачиваю жалованье учителю.
— Какого вы мнения об учителе? — спросил Аслан, — подходит ли он к должности и сведущ ли в своем деле?
— Препочтеннейший человек! Первый ученый среди армян нашего города.
Аслан притворился, будто совершенно не знаком со школой достопочтенного Симона.
Разговор опять был прерван.
Прислужники внесли на красивых серебряных подносах разнообразные душистые шербеты, сладости и ароматные мучные изделия с миндалем. Пашá собственноручно отобрал наиболее вкусные яства и предложил гостю.
— Попробуйте вот этой «пахлавы»
[51] — епархиальный начальник весьма уважает ее. Если он у меня в гостях и не отведает пахлавы, он остается очень и очень недоволен.
— И вполне прав, — ответил Аслан, — прекрасно приготовлена.
— Вы знакомы с ним?
— Нет, пока не пришлось.
Непременно познакомьтесь… Мой искренний совет! Останетесь весьма довольны… Почтеннейший человек… Препочтеннейший… Побывать в Ване и не повидаться с армянским епархиальным начальником, — все равно, что поехать в Рим и не увидеть папу.
— Воспользуюсь вашим советом, — ответил Аслан, — не повидавшись с ним, не уеду из города.
Дружеские связи паши́ и епархиального начальника были нам уже известны и потому стало понятно, почему губернатор убеждал Аслана повидаться «с препочтеннейшим человеком». Паша был уверен, что епархиальный начальник в свою очередь даст о пашé отзыв, как о достойнейшем человеке. Таким образом, в записной книжке путешественника-европейца прибавится еще несколько блестящих отзывов о двух высокопоставленных представителях страны.
— Он мой близкий друг и энергичный помощник во всех моих начинаниях, — выдал сам себя паша, — а я, г. доктор, большой поклонник европейской культуры. Обладай даром чудотворца, я бы в несколько мгновений превратил нашу страну во Францию. Но, к сожалению, это невозможно. Многое нам надо сделать. Мы слишком отстали; чтобы догнать просвещенные народы запада, мы должны делать скачки.
Легкая улыбка скользнула по лицу Аслана.
— Чтобы наладить дело народного образования, нет необходимости в скачках; культура должна развиваться естественным путем, но при одном главном условии, руководство народным просвещением должно быть поставлено на правильный путь и, не отступая от этого пути, стремиться к намеченной цели.
— Ваше замечание вполне справедливо, — ответил пашá с видом знатока. — Но вся беда в том, что наши передовые люди, за редким исключением, недобросовестны. Сколько раз я предлагал великому визирю ассигновать определенную часть взимаемых налогов на местные нужды, но постоянно получал отказ. Необходимо расширить строительство: вы, конечно, видели наши дороги, мосты, водопроводы — все требует капитального ремонта; настоящую причину упадка торговли и земледелия в нашей стране следует искать в плохих путях сообщения.
Турецкие чиновники все до одного умеют прекрасно кроить, но сшить что-либо у них не хватает способностей. Они несравненные мастера составлять всевозможные проекты, но осуществлять их совершенно неспособны. Им только деньги отпускай на осуществление проекта — они в первую очередь свои карманы набьют. В разговоре с европейцами они стараются показать себя людьми свободомыслящими, поклонниками образования, исполненными мечтаний о народном благе и прогрессе, но… к сожалению, неблагоприятные объективные условия служат помехой для осуществления благих порывов.
Исчерпав дипломатическое красноречие, пашá от полуофициальной беседы перешел к обыденным темам: стал жаловаться на желудок, на отсутствие аппетита, бессонницу, ревматизм, на какую-то воображаемую болезнь, которой толком так и не мог объяснить, быть может, стыдясь говорить откровенно.
— Я хочу омолодиться, — заявил он наконец, — омолодите меня, г. доктор; говорят, будто европейские врачи владеют этим секретом омоложения.
— А в чем оно по-вашему заключается? — с улыбкой спросил Аслан.
— Седые волосы становятся черными, старики превращаются в семнадцатилетних юношей.
— Чтоб волосы почернели, употребляют краску, но чтоб старика сделать молодым, в Европе пока не найдено средств.
— А не существует ли такого лекарства чтоб хоть немного прибавить сил… мощи… — В этом вопросе пашá показал себя настоящим турком. Он пытался представиться развитым, образованным, разрешающим экономические и общественные вопросы, а оказался человеком, одержимым предрассудками. Он требовал эликсира, которым восточные дервиши обольщают властителей страны. Аслан вежливо обошел молчанием его просьбу.
— Мне передали, что ваш сын болен, прикажите проводить меня к нему.
— Ну зачем вам беспокоиться, он сам может придти к нам, — ответил пашá, видимо, не желая, чтоб доктор посетил гарем, где находился больной.
Через несколько минут евнух ввел в зал десятилетнего, довольно слабого с виду, но хорошенького мальчика, одетого в красиво расписанный золотом темно-розовый турецкий костюм. Мальчик страдал перемежающейся лихорадкой. Аслан осмотрел больного, дал несколько советов и обещал прислать лекарств.
Во время беседы с пашóй, затянувшейся довольно долго, Аслан показал себя талантливым дипломатом. Он больше заставлял говорить пашу, чем сам говорил. Он был так привлекателен в обращении, что пашá, казалось мне, влюбился в него. И в самом деле, он заявил, что был бы весьма счастлив иметь при себе такого врача; он создаст для него все удобства, если г. доктор соблаговолит, пока он в городе, поселиться у него во дворце.
Аслан поблагодарил пашу, но отказался; к сожалению, он не может воспользоваться столь лестным предложением его высочества, так как предполагает пробыть в городе лишь несколько дней, но обещает до отъезда ежедневно навещать пашу и лечить как его, так и сына.
— Почему вы так торопитесь, г. доктор?
— Мне необходимо через два месяца быть в Индии. Терять время не могу. В этот город я заехал с целью ознакомиться с местными древностями; отсюда намерен проехать в Мосул, чтоб осмотреть развалины древней Ниневии, оттуда направлюсь в Багдад, чтоб увидеть Вавилон, а затем морем в Индию.
— У нас в Ване много еще неисследованных древностей, и вы вполне правильно поступили, посетив наш город.
— Меня весьма интересуют клинообразные надписи, которыми, если не ошибаюсь, так богат Ван.
— Да, да, вы правы… Я предоставлю вам проводника; он побывает с вами повсюду; надеюсь, вы посетите и цитадель, где так много замечательных надписей.
Аслан завел речь о клинообразных надписях именно с целью осмотреть цитадель, а потому, услышав обещание паши́, выразил ему благодарность, встал и откланялся.
Поднялся с места и пашá, проводил Аслана до дверей и на прощанье осыпал «дорогого» гостя тысячью льстивых комплиментов…
С теми же церемониями и почестями, как и во время приезда, гавазы проводили нас в Айгестан до дома мастера Фаноса. Аслан подарил каждому из них по золотому. Они с благодарностью удалились; Войдя в отведенную нам комнату, Аслан со смехом отбросил в сторону шляпу, удивленно покачал головой, стал посреди комнаты и обратился ко мне:
— Умный народ эти турки… Мастаки… Если б я на самом деле был европейцем и не знал, что за негодяи они, я без сомнения был бы очарован пашóй.
Вошел мастер Фанос и с явным нетерпением спросил о результатах визита. Аслан вкратце рассказал ему обо всем, а затем добавил:
— Если бы вы владели европейскими языками и могли прочитать, что пишут европейские путешественники о турецком народе и турецких чиновниках, вы бы сочли этих путешественников сумасшедшими. По их описаниям, турки добры, трудолюбивы, способны к прогрессу; турецкие служащие и чиновники лестны, великодушны, исполнены прекрасных стремлений, гостеприимны, щедры, — словом, эти изверги наделены всеми лучшими качествами. В чем же причина подобного восхищения? — Представьте себе, что какому-нибудь заурядному европейцу, которого на родине ни во что не ставят, взбрело на ум совершить путешествие по востоку. Его всюду ждет теплый прием, так как он европеец, гражданин той или другой великой державы. Кроме того, у него в запасе много рекомендательных писем от своих консулов или послов. В случае плохого обращения с ним, консул или послы его страны сумеют дать острастку.
На родине подобного субъекта князья и даже простые дворяне по целым часам заставляют ждать в своих прихожих. Но в Азии пред ним открыты двери самых влиятельных лиц: ведь путешественник, и притом европеец, может распространить о них дурную молву, может написать в газетах. И понятно, что его всюду ожидает радушный прием, всяческие удобства, предупредительное отношение. Эти люди ему кажутся добрыми, честными, великодушными, ему неизвестно, что это они убийцы злосчастного Шульца, что теперь они принуждены действовать иначе только лишь под давлением создавшихся условий. Из рассказов радушных хозяев за обедом иностранец черпает все сведения об экономике и социальном состоянии страны и пишет под его диктовку… А обед такой обильный, столько заманчивых превкусных блюд — такого обеда никогда он и не видал. Европеец ошеломлен, потерял голову. Он с жадностью отправляет в свою утробу всевозможные ароматные шербеты или прекрасно приготовленную «пахлаву» и с тем же рвением заносит в записную книжку ложные и вздорные рассказы хозяина. А затем все эти нелепые данные, разумеется, вполне благоприятные для магометан, попадают в прессу и оказывают огромное воздействие на общественное мнение европейцев. Подобный путешественник-европеец, увлекшись пленительной скорлупой, не исследовав ядра, составляет превратное понятие и вводит в заблуждение соотечественников. Предположим даже, что путешественник — человек осмотрительный, беспристрастный, добросовестный и не лишен наблюдательности; но что он может вынести из поспешных и быстрых переездов, обозревая все поверхностно, с птичьего полета, в особенности, когда руководителями являются паши́ или подобные им лица. Чтоб исследовать состояние и жизнь народа, необходимо обратиться к самому народу, а не его правителям.
— Преступники, — продолжал Аслан, — вообще привыкли быть своими адвокатами. Все служащие, начиная с великого визиря и кончая последним заптием
[52], все до одного прекрасно сознают свои провинности и. потому у них всегда наготове устный арсенал оправдательных речей. Точно такую же речь произнес сегодня и пашá.
Признать его глупым — нельзя; наоборот, он показался мне довольно умным. Я представился ему, как путешественник-европеец. Сообразно с этим и принял он меня. Он прекрасно знал, какое мнение, какие предубеждения мог иметь европеец; он знал, какие требования предъявляет к нему, как верховному правителю страны, современная культура; он знал, какой беспорядок царит в управляемой им области. Все это ему было известно. И вот свою беседу он свел к тому, чтобы правительству и лично ему самому выйти сухим из воды. Будь я наивным европейцем-путешественником, незнакомым с положением дел, я, конечно, составил бы весьма благоприятное мнение о нем и о его управлении. Люди, подобные пашé, обладают удивительной способностью выставлять себя в выгодном свете и очаровывать людей. Возьмем, к примеру, хотя бы жестоких главарей курдских племен: даже они обладают врожденным даром приводить в восторг наивных европейцев, когда те гостят в их шатрах; ведь путешественник не понимает того, что его потчуют награбленным у сотен несчастных, что хлеб этих разбойников обильно полит кровью их жертв. Беда в том, что правда, настоящая действительность берется под подозрение: в Европе отказываются нам верить, когда мы выступаем с протестом против зверств и насилий. А общественное мнение Европы имеет для нас громадное значение. Правда, мы бы не желали вводить европейцев в заблуждение, как это делают магометане, но мы хотели б, чтоб, наконец, поняли наше положение…
Аслан от природы был человек молчаливый, но когда горячился, он говорил слишком длинно и долго. В такие моменты невозможно было его прервать: он должен был высказаться до конца. Наша аудиенция у паши́ произвела на него слишком неприятное впечатление.
Несмотря на обеденное время, мастер Фанос не прерывал Аслана, он слушал с особенным интересом.
— Насколько представители магометан, — продолжал Аслан, — мастера вводить в заблуждение и обольщать чужестранцев, настолько наши представители, армяне, бездарны, и грубы. Когда европеец стучится к армянину, тот запирает пред ним двери дома; а если и впустит его, то своими бесконечными жалобами и причитаниями изводит гостя. Армянин вообще не способен защищать как подобает свои права. Чаще он молчит, предоставив все провидению. Путешествуя по востоку, европеец в большинстве случаев оставляет в стороне деревни и предпочитает города; а так как здесь не имеется приличных гостиниц — существуют лишь грязные караван-сараи
[53] — он ищет приюта у частных лиц. Турецкие правители с большим удовольствием принимают их у себя.
Чужестранец никогда не останавливается в доме крестьянина или ремесленника-армянина, которые выкладывают пред божьим гостем все, что имеют; они свой патриархальной простотой могли б очаровать иностранцев. А если и случается им заходить к армянам, то непременно или к государственным чиновникам или к подрядчикам и богатым купцам. Чиновник или подрядчик не осмелится плохо отозваться о правительстве, которое поит и кормит его. А купец, как и везде, своекорыстен, он безучастен и равнодушен к общественным бедствиям. Как на беду, европейцам приходится сталкиваться лишь с армянами-купцами и потому у них, словно гвоздь в голове, засело превратное понятие, будто армянский народ состоит сплошь из купцов. А этот гвоздь и по сию пору не удается вытащить из головы европейца, убедить его, что на востоке, там, где живут армяне, процветают ремесла и земледелие; что именно они, трудолюбивые армяне, угнетены, но трудами своих рук кормят ненасытных угнетателей…
Глава 5.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
На следующий день мы с нетерпением ожидали прихода обещанного пашой проводника, который должен был показать нам древности города и окрестностей. Не знаю почему, мастер Фанос был против этой экспедиции, но Аслан настоял на своем.
Наконец, явился проводник с двумя, уже знакомыми нам, гавазами. Паша прислал нам двух оседланных коней, наилучших из своей конюшни. Фанос узнал проводника. Это был секретарь паши́, слывший за человека с образованием. Он был молод, веселого нрава и, как все чиновники-турки, любил выпить; вероятно потому, мастер Фанос за утренним завтраком слишком налегал на вина.
Было за полдень, когда мы тронулись в путь. Достигнув подошвы гигантской скалы, на вершине которой стояла крепость, мы сошли с лошадей и стали подниматься по стертым каменным ступеням.
Подавляющее впечатление произвела на меня крепость! Глядя на нее, человек словно становится ничтожным, теряет бодрость душевную. Эта скалистая громада, безмолвная и полная тайн, хранила в себе печальные воспоминания нашего исторического прошлого…
Аслан не пожелал сейчас же войти в крепость и принялся за обследование окрестностей. Кругом — следы глубокой древности, продолговатые клинообразные надписи на плитах. Я спросил Аслана, что это за письмена. «Меня вовсе не интересуют мертвые буквы», — безучастно ответил он.
Я был крайне удивлен. Что же в таком случае интересовало его? Что он разыскивал среди пустынных скал? Что он так часто заносил в записную книжку?
Наш молодой проводник, которого пашá рекомендовал, как человека развитого и большого знатока древностей, своей излишней болтливостью скорее мешал Аслану.
— Обратите внимание на сию глубокую расщелину: она спускается до самого низу, до земных недр, а затем извилистыми зигзагами доходит до дна озера; там раскрывается золотая дверь и показываются волшебные хрустальные чертоги. Под сенью вечнозеленых дерев там разгуливают гурии и нимфы, более светозарные, чем восходящее солнце в пурпурных лучах; там «азаран бюльбюль»
[54] питается жемчугами и в клетке из слоновой кости распевает тысячи мелодий, переливается на тысячи ладов. Очарованные звуками его песни, благоуханные розы застыли в немом восторге; там живые существа не знают старости и вечно юные наслаждаются, вкушают любовь. Но золотые врата открываются не пред каждым смертным; они заколдованы, необходимо владеть таинственным талисманом, чтоб открыть их. Старик дервиш видел эти врата собственными глазами и обещал подарить мне талисман.
Аслан с улыбкой выслушал наивный рассказ турка-археолога. Указанная им расщелина представляла один из подземных ходов, служивших в давние времена дорогой для бегства или же способом сообщения с другими укрепленными местами, находившимися неподалеку от крепости.
Таких расщелин было много. Казалось, в глубине утеса помещался гигантский муравейник со множеством углублений и ходов. Но мое внимание привлекли выдолбленные в скале большие и малые пещеры, числом более тридцати. Нам удалось осмотреть лишь некоторые из них. Всюду следы былого зодчества и ремесел; на многих клинообразные надписи.
— Предание относит эту крепость и пещеры ко временам царицы Шамирам, — заметил Аслан, — здесь якобы находились кладовые, амбары и бани, здесь хранилась казна ниневийской царицы. Но, в действительности, они древнее эпохи Шамирам, хотя наш историк Хоренаци в своей археологической наивности также приписывает их ей.
— А что говорит Хоренаци? — заинтересовался я. Казалось, Аслан знал книгу Хоренаци так, как я знал Псалтырь. Он процитировал наизусть соответствующее место из истории Хоренаци на древнеармянском языке и затем перевел на современный.
— «А в пещере, обращенной к солнцу, в столь твердой скале, на которой ныне никто не в силах провести железом хотя бы простую линию, Шамирам воздвигла храмы, покои для жилья, казнохранилища и длинные пещеры, выдолбленные неизвестно с какой целью. По всему лицу камня, словно пером по воску, начертала множество письмен, приводящих смотрящего в изумление».
Я не мог судить о непреложности воззрений Хоренаци, но одно мне было ясно — все описанное им имелось налицо. Аслан говорил, что это — наследие древнейших времен, когда люди не умели еще возводить жилища, когда они жили в пещерах. Мне было ясно, что в этих огромных пещерах легко мог уместиться весь древний род.
После осмотра окрестностей мы вошли в крепость. Неприступная твердыня стоит на вершине скалистого утеса, уходящего в небо, и грозно царит над всем городом. Повсюду видны надписи, которые безмолвно глядят нам в лицо: кажется, будто они сейчас заговорят: «Не старайся разгадать нас, под покровом вечной тайны обретает древний мир»…
Бродя по крепости, Аслан лишь мимоходом осматривал надписи и прочие памятники древности, скорее для того, чтоб показать вид, будто интересуется ими. А наш молодой проводник, увлеченный легендарными повествованиями, не замечал, какое отношение проявлял к его рассказам Аслан. Он без умолку болтал. От моего внимания не мог ускользнуть глубокий интерес, с каким Аслан обследовал продуктовые склады, цейхгаузы, набитые порохом и всевозможным оружием, казармы, старинные заржавевшие пушки, дула которых были направлены на город и держали его в постоянном страхе. В старое время янычары бомбардировали отсюда Ван.
Особенно тщательно изучал он щели и потайные ходы, спускавшиеся с вершины скалы и пропадавшие бог весть где. Орлиным взглядом он обследовал их направления, размеры. Чтоб не подать повода к подозрению. Аслан, улыбаясь, задал вопрос:
— А как вы полагаете, г. секретарь, вот этот ход также ведет к хрустальному дворцу, где гурии и нимфы, возлежа под сенью вечнозеленых дерев, наслаждаются трелями «азаран бюльбюль»?
— Вы изволите шутить, г. доктор, — усмехнулся проводник, — хрустальный дворец стоит в глубине вод, а указанный вами ход, прорезая скалу, выходит к тому оврагу, часть которого видна за холмами. — И он указал рукой в сторону оврага.
— Простите, г. секретарь! Вы, разумеется, примете за шутку мое замечание. Ваше объяснение весьма заинтересовало меня. Я видывал много крепостей, но подобный ход встречаю впервые; очевидно, выход его закрыт.
— Ну, конечно, закрыт и вот по какому случаю. Несколько лет тому назад один из караульных солдат занимался кражей пороха, который он выносил через этот ход и продавал лавочникам-армянам. Солдата и лавочников строго наказали; и с того времени выход остается закрытым.
— Как пышно здесь процветали в старину ремесла! — воскликнул Аслан в восхищении, — эти ходы сделаны настолько искусно, что в течение тысячи лет не разрушились и по сие время сохраняют свое значение.
— Но вы еще более будете поражены, — с некоторой хвастливостью ответил проводник (как будто эти чудеса были созданы его предками), — когда ознакомитесь с тайными ходами Топрак-Кале и Чархи-Фалак. После осмотра крепости я сведу вас туда: они находятся довольно далеко отсюда. Вы там увидите еще более удивительные подземные ходы — некоторые из них столь длинны, что сообщаются с этой крепостью.
Аслан достал из кармана золотые часы и предложил их проводнику.
— Вы столь любезны, г. секретарь, что мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память.
Проводник отказался от подарка или, точнее, показал вид, что отказывается.
— Благодарю за ваше внимание, но мне неудобно лишать вас часов, столь необходимых во время путешествий.
— Вы правы, — возразил Аслан, — но согласитесь, что золотые часы большая приманка для грабителей, и мне желательно освободиться от них; у меня имеются еще серебряные. Не откажите принять, г. секретарь.
Секретарь принял с благодарностью. Ему не впервые приходилось получать «пешкеш»
[55] за услуги. Если б ему не предложили, то он, наверное, не постыдился бы сам потребовать.
Но меня поразило другое обстоятельство. Правда, наградить секретаря было необходимо, хотя бы из уважения к пашé, предоставившему нам в качестве проводника одного из самых близких лиц, но одаривают, обыкновенно, когда услуги уже выполнены. Почему же поторопился Аслан? Быть может потому, что, получив подарок заранее, проводник с большим рвением станет выполнять возложенную на него обязанность.
Проводник положил часы в карман жилета и долго размышлял, куда красивей заложить цепочку, справа или слева. Он обратился ко мне за советом, я высказал свое мнение. Тем временем Аслан поднялся на вершину одной из башен и со страшной высоты долго молча и грустно озирал окрестности. Лицо его было бледно, глаза лихорадочно горели, губы дрожали — он был, видимо, в страшном смятении. Изумленный смотрел я на него…
Мы спустились вниз по тем же, стертым от времени, каменным ступеням, выдолбленным, по словам Аслана, по приказу Гагика Арцруни.
Внизу нас ожидали гавазы. Мы сели на лошадей и направились к развалинам крепости Топрак-Кале. Чудная панорама открылась пред нами, когда мы выехали из города, справа утопающие в зелени Айгестан и Варагские горы с живописным монастырем, слева сверкало, словно бирюзовое зеркало, озеро Ван. Это овальное зеркало находилось в великолепной оправе, опоясавшей его живописные берега мягкими волнистыми складками гор: Артос, Аркос, Сипан, Небровт и Гркур. Огромный бассейн воды был крепко стиснут в их могучих объятиях.
Казалось, памятники язычества и христианства соревнуются меж собой. С одной стороны, печальные развалины заброшенных капищ и роскошные постройки с клинообразными надписями свидетельствуют о глубокой языческой старине, с другой — множество храмов и монастырей, в которых по настоящее время пребывает многочисленное духовенство.
Наконец, мы достигли Топрак-Кале. Ее называют также Акрну-Кар или Змп-Змп Магара. Из тех наименований ни одно не является старинным: они сравнительно позднего происхождения. Как называлась крепость в древности — история умалчивает. Некогда она была большим городом, а теперь, исчезла под земляными холмами, почему турки и называют ее Топрак-Кале, т. е. земляная крепость. Быть может, этот исчезнувший город был именно тем заколдованным «Медным градом», печальная память о коем сохранилась до наших дней в преданиях Вана. Злая колдунья весь город со стенами, домами и населением превратила в неподвижную медь. Эта легенда, по словам Аслана, показывает, что развалины относятся к медному веку. Проводник подтвердил предположение Аслана, заявив, что здесь были найдены разнообразные медные украшения, медное оружие, медная домашняя утварь и даже медные люди…
Развалины и могильники воскрешают в моем воображении жизнь в прошлом: когда-то жили люди, работали, с течением времени умирали, оставив после себя живые памятники. Глядя на могилы предков, человек с особой гордостью убеждается, что они были лучшими людьми своей эпохи. Даже во прахе могил сохранилось их былое величие, вызывающее бодрость и чувство гордости в сердцах людей грядущих поколений! Из пыли развалин возникает цемент, связующий сердца современников с сердцами предков.
В горе Топрак-Кале имеются так же, как и в крепости Шамирам, пещеры, подземные ходы, вырытые в самых твердых скалах. Мы вошли в одну из таких пещер — Змп-Змп Магара, т. е. звучащая пещера. Самый тихий звук отдается здесь гремящим эхом. В скале открывается широкая расщелина, спускающаяся сотней каменных ступеней в глубь горы. Два просвета, выдолбленных в камне, бросают сверху тусклый свет в эту подземную яму. У последних ступеней открывается широкая четырехугольная пещера; особый коридор ведет в недра земли, но где он кончается — бог весть. Проводник опять стал рассказывать о подземных палатах. О том же повествовало народное предание. Озираясь вокруг себя, я готов был верить, что здесь действительно существовал подземный мир.
Аслан не обмолвился ни единым словом. Он все исследовал коридоры с целью узнать, действительно ли они имеют сообщение с крепостью Шамирам. Он зажег лампу и отправился внутрь пещеры. Никто из нас не осмелился последовать за ним.
— Пропадет, — сказал мне проводник.
— А почему?
— Там обитают джинны (злые духи); ни один смертный не возвращался оттуда…
Через час Аслан вернулся. Мы вышли из пещеры и продолжали путь на вершину горы. Проводник хотел показать нам вход в подземный коридор Чархи-Фалах. Этот подземный ход напоминал только что виденные нами подземные коридоры; с вершины горы он врывался в ее недра. О нем среди ванских армян существует множество чудесных преданий. Одно из них рассказал нам проводник.
— Подземный ход спускается к берегам реки Гайл, протекающей под горой; роскошные берега окаймлены пальмами. Здесь судьба торопливо вертит колесо мира — Чархи-Фалах. На каждой спице колеса начертаны таинственные письмена. На одной, например, значится, как отыскать секретные сокровища, на другой — как приготовить эликсир, превращающий любой металл в золото; на третьей — где находятся бирюзовые горы; на четвертой — как и где найти живую воду; на пятой — заклинание, с помощью которого можно достичь власти и славы. Колесо вращается без перерыва. Останавливается в год раз, и то лишь на одну минуту, в ночь вознесенья, когда сплетаются в объятиях земля и небо.
[56] Люди с нетерпением ждут этой минуты. Если удастся им достичь Чархи-Фалаха, они должны иметь наготове восковые листочки, чтоб в момент остановки колеса приклеить их к спице. Таинственный талисман отпечатается на воске, и человек получит предопределенный судьбой дар. Но это случается весьма редко: в момент, когда колесо останавливается, людьми овладевает глубокая дрема, а роковое колесо продолжает свой стремительный бег…
Нам оставалось осмотреть еще одну древность, на чем и должна была закончиться наша экспедиция — врата Мгера. На продолжении той же скалы, с западной стороны, высится обтесанный с лицевой стороны в виде четырехугольника камень. Этот камень в своей громадной оправе наподобие рамы имеет большое сходство с дверью, — вся глубоко вдавленная поверхность его испещрена клинообразными надписями. В народе зовется она — врата Мгера. Это — самые обширные ванские клинообразные письмена. По преданию, за этой дверью, в глубине пещеры заключен со своим конем Мгер-великан. Наступит день, и он разобьет оковы, вылетит на коне из пещеры, отомстит врагам и очистит армянскую землю от зла…
Подобное предание могло сложиться лишь у армян. Незавидная, полная горя, жизнь в течение многих веков создала для него источник надежд и упований. Мигр, или как произносит народ Мгер, — армянский бог солнца; это древнейшее божество пребывает в заключении, и в армянской стране царят мрак и зло. Будет день, оно выйдет из темницы и вновь прольет на армянскую землю свет и возродит справедливость. Народ благоговейно повествует об этом, верит и ждет…
— Мгер уже появился, — сказал мне Аслан, когда я заговорил с ним по дороге об этой легенде, — но народ не замечает его…
Глава 6.
КУПЦЫ
Вернувшись в Айгестан, мы не застали мастера Фаноса. Он на один день уехал в ближайшие деревни. Аслан не стал расспрашивать, куда и зачем; по-видимому, это ему было известно. Я лег спать раньше обыкновенного. Аслан долго еще сидел за столом и чертил что-то на толстой бумаге. Утром он показал мне чертежи виденных нами мест. Я был изумлен: какой удивительной памятью обладает этот человек!
Сегодня он был в хорошем настроении, что случалось лишь тогда, когда он добивался намеченной цели, даже стал шутить со мной. Белая кошка, заходившая к нам поутру раньше хозяев, на этот раз сначала подошла ко мне; промурлыкав и мазнув меня по лицу хвостом, она направилась к Аслану.
— Теперь и она считает тебя за человека, — улыбнулся Аслан.
— Не только она, даже конюх мастера, завидя меня, встает с места; вчера он назвал меня «ага»
[57].
— А знаешь, куда мы сегодня поедем?
— Должно быть, опять будем лазить в дыры…
— Нет. Сегодня мы отправимся с визитом к его преосвященству епархиальному начальнику.
— О нем что-то плохо отзываются.
— Знаю, вот потому и необходимо повидать его.
— Говорят, будто он отъявленный преступник.
— Иногда преступники могут служить мощным орудием в руках порядочных людей. Апостол Павел тоже был преступником, но впоследствии стал ревностным поборником христианства.
— А Васак?
— Он тоже крупная личность своей эпохи; если б возможно было потрясти мозги всех армянских нахараров, то едва ли вытрясли б половину того ума, каким обладал Васак.
— Но он был злодеем, причинил много вреда родине.
— Это потому, что историки, писавшие о нем, принадлежали к противной партии. Если б соотечественники последовали советам Васака, он оказал бы большие услуги родной стране.
Я был поражен: хоть и не читал я армянской истории, но о Васаке я слыхал много плохого.
— Какую же пользу мог принести Васак, — ответил я, рассердившись. — Дьявол никогда не может стать ангелом.
— А почему же нет? — рассмеялся Аслан, заметив мое волнение. — Ведь дьявол когда-то был ангелом, но обстоятельства сделали его злым духом. Васака нужно понять, а для этого следует знать историю Армении. Не спорь со мной, дорогой Фархат, ты должен читать и много читать.
Он подошел ко мне и положил руку на плечо.
В эту минуту в комнату вошел один из учеников мастера Фаноса и сообщил, что к Аслану пришли несколько человек, хотят видеть его.
— Узнай, кто они, — попросил меня Аслан, — скажи, чтоб подождали, пока я оденусь.
— Подождут! — ответил ученик лукаво, — до вечера готовы ждать… Они еще с утра сидят у ворот…
Я вышел на улицу. Трое купцов-армян, сидя рядком у ворот на земляной тумбе, перебирали чётки и беседовали.
Местные купцы, узнав, что Аслан интересуется древностями, тащили к нему все, что находили у себя дома: кусок железа, глиняный черенок или еще что-нибудь в надежде сорвать с него несколько золотых.
Завидев меня, они встали с мест, поздоровались и стали расспрашивать, как я поживаю; совсем, как старые знакомые. Один из них даже назвал меня «ага». Он был второй (после конюха мастера Фаноса), удостоивший меня этим титулом.
— Что вам угодно? — спросил я.
Они молча принялись вытаскивать из-за пазухи, из карманов разнообразные предметы, завернутые в тряпки,
— Зачем вы мне показываете, я не покупаю.
— Не беда и тебе посмотреть, ага, — сказал один из них; я заметил у него на руках синие знаки паломника, побывавшего в Иерусалиме. — Душа моя, мы слыхали — твое слово перед господином доктором не нуждается в повторении…
Он намекал на мою близость к господину доктору, который с первого же слова исполнит мою просьбу.
Я недоумевал: чем могу быть полезен махтеси
[58]?
— Мы знаем, — пояснил паломник, — г. доктор собирает редкостные вещи; мы и принесли ему такие редкости, каких на всем свете не сыщешь. Если он купит их, мы пред тобой в долгу не останемся… И тебе кое-что перепадет…
— Ну, конечно, и тебе перепадет, — повторили хором другие.
— А что мне перепадет? — спросил я, волнуясь.
— Не понимаешь? — спросил махтеси, слегка потрепав меня по плечу. Он таинственно покачал головой, лукавая улыбка скользнула по его чисто выбритому лицу, он прищурил левый глаз, подмигнул мне и несколько раз потер большим пальцем указательный палец.
— Вот что!
Негодяй хотел подкупить меня. Он принял меня за слугу доктора и, по привычке обделывать делишки с помощью слуг, решил, что я ему помогу. Если б я проявил сочувствие, они предложили бы мне целую программу действий — как вести себя, что говорить при докторе. Купцы прекрасно знают, как обирать приехавшего на восток неопытного европейца при помощи слуги-переводчика из местных жителей.
Наглость купцов настолько возмутила меня, что я хотел было вытолкать их и сказать, что доктор не покупает антикварных вещей, но воздержался из опасения, что это не понравится Аслану. Я повел их в дом.
Войдя в комнату, все трое молча отвесили поклон и выстроились в ряд у дверей… Аслан, одетый, пил кофе.
— Прошу садиться, — произнес Аслан, указав им место подле себя.
Купцы продолжали стоять молча, нерешительно поглядывая друг на друга.
— Прошу присесть, — повторил Аслан. — Почему вы стоите?
— В вашем присутствии, г. доктор, мы не смеем садиться, — ответил купец-махтеси жалостливо и прижался к стене. Остальные последовали его примеру.
— Я ведь не пашá, — засмеялся Аслан.
— Ты выше паши́, г. доктор, — ответил стоявший подле паломника низенький старичок, — ты свет очей наших! Да ниспошлет всевышний долгие годы тебе… Пашá иной веры, а ты, хотя и франг, но исповедуешь нашу веру, мы все одному кресту поклоняемся, одних святых чтим.
Будь на месте Аслана кто-нибудь другой, он приписал бы их льстивые слова скромности или наивности. Аслан же быстро сообразил, с кем имеет дело, но не показал вида.
— Ну разве подобает, чтоб убеленные сединами старцы стояли перед юношей, — ответил он и вторично попросил их присесть. — Я уважаю ваши преклонные годы.
— Да благословит тебя господь, — воскликнули купцы в один голос и уселись, но не там, куда их приглашал Аслан, а около двери.
Расспросив купцов о цели прихода, он попросил показать принесенные вещи. Один из них из вежливости обернулся к стене и два раза кашлянул. Кашель был условным знаком: махтеси в ответ два раза чихнул, «из вежливости» приподнял край одежды и вытер рот; третий перекрестился, возблагодарил бога и произнес: к добру!
— У нас такой обычай, г. доктор: если кто два раза чихнет — хороший знак. Будем надеяться, что очаг ваш будет нам к добру.
— Что за очаг? — подумал я. — Ведь это — не наш дом, а мастера Фаноса…
— Я также надеюсь, — ответил, смеясь, Аслан.
Это подбодрило купцов. Один за другим они стали подходить к Аслану и раскладывать редкости: старинные монеты, браслеты, медные серьги, прозрачные разноцветные бусы, наконечники копий и стрел, часть огромного щита, медную бычью голову, большие и малые глиняные сосуды… Все это вытаскивали они из-за пазухи, из карманов и даже из-под фесок. Но всего интереснее был способ показа: сперва самые обыкновенные вещицы, если не находили одобрения, доставали более ценную вещь, уверяя, что больше ничего нет, и лишь в конце извлекали из-под одежды новый предмет и опять клялись, что это последнее. Но… за «последним» следовало множество других вещей.
Я удивлялся долготерпению Аслана. Будь на его месте, я б их выгнал из комнаты. Но он и вида не показывал, что проделки купцов противны ему. Наконец, он выбрал несколько вещиц и просил назначить цену.
— Ну что вы, г. доктор! Неужели мы станем с тебя брать деньги. Коли речь зашла о цене — им цены нет.
— Тогда как же я могу приобрести их? — в свою очередь удивился Аслан.
— Берите так, уважаемый доктор, от этого мы не будем в убытке пусть это с нашей стороны будет «пешкеш». Но зато вы увезете хорошую память о нашей стране.
— Благодарю вас, — ответил Аслан, — я уверен, что денег у вас не убудет; по всему видно, что вы люди богатые, но я не привык получать «пешкеши».
Таков уж обычай у азиатских купцов: сперва скажут: «бери даром, это тебе подарочек», а затем, когда предложишь продать, заломят бог весть какую цену.
— Вы не верите, почтенный доктор? — молвил, махтеси Торос, — спросите у моего кума Мко, и он подтвердит вам, как один инглис (англичанин) за эту бычью голову предлагал пятьдесят золотых, но я не отдал. Не так ли, Мко?
— Клянусь моей душой, он говорит правду, — поддакнул кум Мко и приложил руку к сердцу.
Но можно ли было поверить куму Мко, у которого «душа» от постоянных клятвенных заверений совсем износилась.
В свою очередь Мко, когда Аслан взял у него несколько вещиц, привел в свидетели махтеси Тороса, будто тот собственными ушами слышал, как некий «франг» предлагал ему громадную сумму, но он не продал.
— Пусть ослепнут глаза мои от света, виденного в святом храме Иерусалима, пусть буду я одним из тех, кто вбил гвозди в руки Христа, если говорю неправду, — ответил махтеси Торос, — франг предложил ему громадную сумму, но он отказался продать.
— Но я обыкновенный врач, и у меня нет таких денег, — сказал Аслан, передавая обратно выбранные вещи.
— Не стесняйтесь, уважаемый доктор, — заговорили все разом, — берите, мы с вас денег не просим.
На этот раз Аслан вышел из терпения.
— Не знаю, что мне делать с вами: когда хочу купить — заламываете чрезмерно высокую цену, когда отказываюсь — предлагаете взять даром.
Тут купцы заговорили совершенно иным языком: чтоб разжалобить Аслана, прикинулись бедняками: мы-де люди неимущие, терпим нужду, семья у нас на шее, мучимся в руках «нечестивцев», все наше спасение — вот эти вещи и потому вынуждены продавать их так дешево. Даже намекнули: если б нашелся покупатель, они с радостью продали б детей своих, только бы не лишиться таких редкостных вещей.
Чтоб избавиться от гнусных попрошаек, Аслан выбрал несколько вещиц, сказав, что остальные ему не нужны, и бросил купцам деньги, купцы опять рядком выстроились у дверей. Излив весь запас благодарностей и благословений, они хотели было удалиться, но передумали и опять застыли в смешных позах; казалось, вот-вот подымут рёв.
— Имеете еще что-нибудь сказать? — спросил Аслан.
— Ровно ничего… Счастливо оставаться! — ответили они, но не тронулись с места.
Я дал им понять, что нельзя без конца надоедать г. доктору.
Махтеси Торос незаметно протянул в мою сторону руку и опять принялся тереть большим пальцем указательный. Другой купец заявил, что у них дома имеются вещи получше: не пожелает ли доктор взглянуть на них.
— А ведь вы уверяли, что у вас больше ничего не имеется! — улыбнулся Аслан.
— Эх, уважаемый доктор, — ответил махтеси Торос, — а вы не знаете турецкую поговорку: «У волка в логове всегда найдется кость».
— Понимаю.
— Прикажете принести?
— Принесите.
Купцы отвесили глубокий поклон и вышли из комнаты. Во дворе махтеси Торос сунул мне в руку пять курушей. В сердцах я хватил его монетой по лбу.
— Что за шутки! — засмеялся он в ответ, поднял с земли монету и сунул в карман. — Ну и горяч же ты, как погляжу!
Эти люди оскорбление принимают за шутку, потому что у них не хватает ни мужества, ни самолюбия ответить на оскорбление оскорблением.
Мать Фаноса издали увидела купцов и позвала.
— Милости просим, махтеси Торос, милости просим, Мко, милости просим, Ако! Куда вы, не пивши, не евши?
Купцы сперва с благодарностью отказались от приглашения: время-де базарное, спешат на рынок, по делам, но затем, чтоб не обидеть старуху, согласились и вошли с ней в погреб, где хранились вина.
— Кто они такие? — заинтересовался я. — Почему с таким уважением отнеслась к ним старуха? — спросил я у слуги, который нес завтрак в подвал.
— Да разве вы не знаете их? Это первые богачи в нашем городе. У свиньи нет столько жиру, сколько у них золота.
Я вернулся в комнату.
— Что за низость, что за подлость! — повторял Аслан, крайне взволнованный, расхаживая по комнате.
— Представь себе, — сказал я Аслану, — эти купцы первые богачи в Ване.
— Я и не сомневался. Ну скажи мне, какое мнение я должен был составить об армянах, если б на самом деле был европейцем? Подобные мерзавцы срамят всю нацию, а европейцы, глядя на них, составляют превратное мнение о нашем народе.
Он бросил взгляд на купленные предметы, швырнул их в сторону.
— Выбрось эти монеты!
— Почему?
— Все они поддельные.
— А ты разве не знал?
— Знал, но все же купил и нарочно выбрал именно поддельные.
— И почему ты пошел на обман?
— Пусть подумают они, что я интересуюсь и занимаюсь только древностями, что я наивный европеец-путешественник и притом плохой археолог.
— Ты боишься их? А чем они опасны?
— Если узнают, что я армянин, они сейчас же выдадут меня.
— А ведь они обещали принести еще вещей — и ты приобретешь?
— Да, приобрету.
Откуда у Аслана столько денег, недоумевал я, он так щедро раздает их, словно луковичную шелуху…
Глава 7.
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК
— Сегодня мы отправимся с визитом к епархиальному начальнику, — предупредил меня Аслан, — но к нему с пустыми руками не пойдешь. Надо будет понести подарок, На востоке чиновные лица очень любят получать дары.
И он достал из ящика изящную табакерку,
— Но, ведь, ты паше ничего не понес?
— Взамен я пользую его сына.
Мы сели на лошадей, предоставленных нам мастером Фаносом, и направились в город. Сегодня с нами не было гавазов, мы были одни. По дороге Аслан вновь напомнил мне, чтоб я не забывал своей роли…
Дом епархиального начальника находился рядом с храмом святого знамения.
Помещение, занимаемое архиереем, не отличалось роскошью дворца паши́, но по всему внутреннему устройству очень походило на него. Разница была в том, что тут не было евнухов, чернокожих рабов и гарема. Зато здесь была та же тюрьма, где людей подвергали различного рода взысканиям, где процветало взяточничество, душившее всякое правосудие.
Его преосвященство умел соблюдать внешнее благолепие, подобающее его высокому сану. Навстречу нам высыпала толпа слуг; помогли слезть с лошадей и повели в приемную. Здесь нам пришлось прождать минут десять, прежде чем представиться его преосвященству.
Гостиная, куда нас ввели, была сплошь устлана роскошными коврами. Отсутствовала, как и везде в этом городе, европейская мебель. В почетном углу комнаты, против входа, на мягких подушках, покрытых черным бархатом, сидел его преосвященство; ему было лет под пятьдесят: среднего роста, с роскошной черной с небольшой проседью бородой и с серьезным, подобающим его сану, взглядом. Голову он чуть наклонял набок и имел скромность смотреть снизу вверх. На нем была надета длинная широкая ряса из черного атласа с широкими рукавами на красной шелковой подкладке. Из-под рукавов виднелись красивые подрукавники из розового бархата, застегнутые серебряными пуговицами. В правой руке он держал длинные четки из крупного желтого янтаря, часть которых была обмотана вокруг кисти; на мизинце сверкал архипастырский золотой перстень с крупным розовым камнем. Этот почтенный человек совмещал духовное звание с великолепием властителя.
Аслан подошел к его преосвященству, хотел приложиться к руке, но тот не дозволил, любезно пожал ему руку и усадил его справа, рядом с собой,
Я поцеловал руку его преосвященства и остался стоять на ногах.
— На каком языке могу вести беседу с вами, г. доктор? К сожалению, я не владею ни одним из европейских, языков, — сказал архиерей.
— Я говорю почти на всех языках востока, за исключением армянского, — ответил Аслан по-турецки.
— И весьма похвально, что европейцы, посещающие нашу страну, владеют местными языками: им гораздо легче ознакомиться с нашим краем. Вы, г. доктор, как мне сообщили, прибыли к нам, главным, образом, для изучения клинообразных надписей. Но без знания армянского языка, думается мне, вам очень трудно будет разобраться в клинописи.
— Вы заметили весьма правильно, ваше преосвященство; правда, я не владею разговорной армянской речью, но я достаточно хорошо изучил древнеармянский язык.
— Простите за неуместное любопытство: где вы изучали эти языки?
— Я провел долгие годы в Индии и там изучил персидский и древнеармянский языки; затем я жил в Египте и усвоил арабский и турецкий.
— Какое богатство владеть столькими языками, — заявил епископ с чувством особой удовлетворенности. — Разумеется, г. доктор, вы отлично усвоили и обычаи востока?
— Можете убедиться в этом, ваше преосвященство, — ответил, смеясь, Аслан, — я сижу на подушке по-восточному, поджав под себя ноги.
Преосвященный также рассмеялся.
В гостиную вошел довольно привлекательный, хорошо одетый юноша с серебряным кофейником в правой руке и с серебряным подносом в левой; на подносе стояли две китайские чашечки на серебряных блюдцах. Великолепная посуда с ароматным напитком сверкала от чрезмерной чистоты. Он медлительно, важно подошел к нам, разлил по чашкам кофе, сперва поднес гостю, а затем его преосвященству. После кофе другой юноша принес серебряный наргиле. Все это напоминало угощение во дворце паши́.
— Как вижу, г. доктор, вы действительно в достаточной степени усвоили наши обычаи!
— Представьте себе, ваше преосвященство, я полюбил их, — ответил Аслан, поняв, что расспросы епископа принимают характер допроса. — Когда я возвращаюсь к себе на родину, я привожу в подарок своим родным и домашним восточные ковры, шали и утварь. Моя рабочая комната убрана в восточном вкусе. Восток увлекателен, ваше преосвященство; даже на лиц духовного звания, не любящих роскошь, он оказывает определенное воздействие.
— К примеру — на меня! — ответил епископ, поняв скрытый намек собеседника. — Я, г. доктор, следую примеру одного из наших известных патриархов. Он одевался очень богато, опрыскивал себя благовонными маслами, посыпал бороду и волосы золотистым порошком, жил в роскоши. Раз во дворце за обеденным столом султан сделал ему замечание, что духовному лицу нe подобает такая роскошь и изнеженность.
Вместо ответа патриарх отвернул ворот облачения: под роскошным шелковым одеянием на голое тело была надета грубая колючая власяница из козьей шерсти, какую в прежние времена надевали на преступников, чтоб причинить им больше страданий; впоследствии власяница вошла в обиход у пустынников, подвергавших тело самым тяжелым испытаниям.
Аслан был уверен, что у его преосвященства под черной атласной рясой не имеется власяницы, но все же согласился с ним.
— Да, на востоке внешний блеск имеет большое значение.
— Да, он необходим, — вставил архиерей, — местное население думает больше глазами, чем головой. Возьмем моего предшественника. Когда он являлся к паше, его заставляли ждать часами. А почему? Лишь потому, что он приходил пешком, в обычной монашеской рясе. Со мной так не поступают…
— Ваш пашá вполне корректный человек, — прервал его Аслан, желая переменить тему беседы.
— Препочтеннейшая личность! Человек он высоких нравственных правил, любит народ, умело правит страной; подобного ему не сыщешь. Он в восторге от вас, г. доктор… и сравнивает вас с Лохманом
[59]: за короткий промежуток времени вы оказали большую помощь и самому пашé и его сыну. Я на днях был у него; он без конца говорил о вас. Пашá все спрашивал, чем он может отплатить вам.
— Особых услуг я не оказал ему, — ответил Аслан, — но готов, если позволит время, еще больше услужить ему, — он вполне достойный человек тем более, что вы отзываетесь о нем с такой похвалой.
— Вполне правильно! Он заслуживает всяческих похвал, — повторил епископ.
— Разумеется, и народ доволен таким достойным правителем.
— Все весьма довольны, в особенности христиане, но…
Епископ неожиданно оборвал речь и бросил взгляд на меня. Аслан знаком приказал мне удалиться. Я вышел из гостиной и сел у дверей. Их беседа и здесь доходила до меня от слова до слова.
— Вы что-то хотели мне сказать, ваше преосвященство.
— Да! Народ весьма доволен, в особенности христиане. Но среди нас появились какие-то выскочки-сумасброды, бессмысленные мечтатели; своими глупыми речами о свободе они сеют смуту и совращают с пути истинного людей наивных. Вся беда в том, что эта небольшая кучка молодежи, недовольная правительством, выражает свой протест в противозаконных и преступных проступках. Пользы от этого — никакой, а вред — громадный.
— Какой же именно вред? — спросил Аслан.
— Дело в том, что благодаря этой преступной кучке сумасбродов берется под подозрение весь народ; мы теряем доверие пекущегося о народном благоденствии правительства, доверие, которое мы приобрели вековым самоотверженным служением.
— Неужели среди армянской молодежи имеются подобные элементы? — удивился Аслан.
— К сожалению, да! Они только нарождаются и организуются. Но и я и сам пашá считаем священным долгом приложить все усилия, чтоб задушить, пресечь это зло в зародыше.
Аслан не возразил ни слова, вызвал меня из передней и переменил тему разговора.
— Будьте любезны, ваше преосвященство, сказать мне, не имеются ли в ваших монастырях старинные лечебники; как врач я весьма интересуюсь древней медициной. Армянские лечебники большей частью переведены с арабского, причем много арабских подлинников утеряно. Я надеюсь найти эти утерянные книги в армянских переводах.
— В наших монастырях можно найти рукописные лечебники, — ответил архиерей, — мне они часто встречались, найдете их и у частных лиц.
— Вам, конечно, известно, в каких монастырях они сохранились в достаточном количестве?
— Ну, разумеется! Например, в Варагском монастыре, в каждой из пустынь на трех островах озера, да и в других обителях подведомственной мне епархии.
— Вы очень обяжете меня, ваше преосвященство, если распорядитесь дать мне письменное разрешение ознакомиться с рукописями, имеющимися в монастырях вашей епархии. Я их даже не сдвину с места, но в случае, если найду что-либо подходящее для моих изысканий, разрешите мне обратиться с просьбой переписать для меня.
— С большим удовольствием, г. доктор. Я прикажу сегодня же приготовить предписание; в нем будут указаны все монастыри, где имеются рукописи.
— Премного благодарен вам. Ваше предписание одновременно послужит мне своего рода путеводителем.
Архиерей распорядился вновь подать кофе и вызвал секретаря.
— Пока вы выкурите наргиле, предписание будет готово.
Секретарь выслушал приказ его преосвященства, поклонился и вышел.
— Европейцы, переняв у народов востока искусство врачевания, стали забывать своих учителей. Правда, даровитый ученик способен еще более развить и усовершенствовать усвоенное, но все же еще многому он может научиться у прежнего учителя. Я восхищен армянским народным врачеваньем, и потому во время путешествий я заезжал преимущественно в армянские деревни, чтобы изучить там народную медицину. Мне посчастливилось сделать несколько научных открытий, неизвестных в медицине.
Аслан не лгал. Он, действительно, интересовался народной медициной, но не это являлось подлинной целью его путешествий. Он обладал удивительной способностью использовать всевозможные обстоятельства. Еще поразительней было его уменье выполнять задуманное руками своих же противников. Он решил, например, отправиться в Варагский монастырь, и я знал, с какой именно целью; посещение монастыря могло вызвать подозрение со стороны епископа, так как его преосвященство относился, к Варагу весьма недоброжелательно. И потому Аслан так ловко повернул дело, что сам епископ собственноручно подписал направление в монастырь, хотя, я в том был уверен, библиотека Варага мало интересовала Аслана.
— Мне бы хотелось видеть также и особого рода соль, добываемую в Ване, — заявил Аслан.
— Она приготовляется в деревне Аванц, — ответил архиерей, — всего в нескольких часах езды от Вана. Ее добывают из морской воды, называется она «борак» — селитра; ее употребляют для стирки белья: поразительно хорошо очищает от грязи,
— Это не селитра, — заметил Аслан, — это, по всей вероятности, другой химический состав; если это — предполагаемая мною соль, в чем я нисколько не сомневаюсь, можно надеяться, что со временем она станет источником богатства ванских жителей.
— В нашей стране много богатств, — добавил епископ с чувством сожаления, — много серебряной и медной руды, мышьякового колчедана, нефтяных источников и каменного угля в горах… Чего только нет у нас! Но, к несчастью, не имеется добытчиков. Если б путешественники, подобно вам, почаще заглядывали в наши края, изучали страну, мы были б весьма счастливы.
— Вы правы, — ответил Аслан и посмотрел на часы, — простите что я отнял у вас много драгоценного времени. Путешественники вообще люди словоохотливые, но я превысил всякую меру. Данные вами сведения весьма и весьма ценны для меня, я не премину ими воспользоваться.
— Весьма рад, г. доктор, — ответил епископ добросердечно, — вы доставили б мне большое удовольствие, если б за время вашего пребывания в городе, почаще наведывались ко мне. Быть может, я бы мог быть полезен вам и в чем другом.
— Премного благодарен, ваше преосвященство.
Епископ встал с места и удалился в смежную комнату. Спустя некоторое время, он возвратился с какой-то вещицей в руках.
— Прошу принять от меня на память эту безделушку и поместить ее среди ваших антикварных вещей.
И он вручил Аслану какую-то странную вещицу из слоновой кости, похожую на маленькое весло; ручка блистала весьма тонкой отделкой, головка напоминала изящную женскую ручку с мягкими выступами на ладони.
Аслан долго рассматривал эту забавную вещицу.
— Я так люблю древности, — сказал он, обрадовавшись, — что если б вы и не подарили мне ее, я был бы готов украсть у вас.
— А я, как лицо духовное, отпустил бы вам этот грешок, — ответил смеясь епископ.
Я не мог удержаться и также рассмеялся.
— Как видно, ваше преосвященство, я плохой археолог; представьте себе, не могу понять назначения этого предмета.
— Он выдуман нашими монахами и называется, как ни странно, «госпожа». Именно в этом названии кроется его назначение: исполняет ту же работу, что и хозяйка у себя дома. В армянских семьях до сих пор сохранился старинный обычай: хозяйка дома чешет на сон грядущий спину свекру, свекрови и даже почетным гостям, растирает ноги. А у монахов, как вы знаете, нет хозяйки, которая расчесывала б им спины; вот они и придумали этот прибор.
— Весьма остроумное изобретение, — сказал Аслан, — а какого оно века?
— По всей вероятности, XII века. Эту «госпожу» поднесли в дар католикосу Давиду, положившему начало ахтамарскому католикосату в XII веке.
Аслан, будто с трудом, прочел надпись на чесальном приборе: «В дар его святейшеству католикосу Ахтамарскому». «В Индии».
— Да, этот гребешок сделан в Индии, По-видимому, еще в XII веке армяне имели там поселения.
— Не могу вам сказать, — отвечал епископ.
— Скажите, подобные «госпожи» и по сию пору в ходу у монахов?
— Да, главным образом, в обителях, где монахи абсолютно лишены возможности общения с внешним миром.
— Прекрасный образец искусства! — заявил с неподдельным восхищением Аслан, — эта «госпожа» может стать украшением знаменитых музеев Европы. Но я сохраню ее для себя в знак памяти. Разрешите, ваше преосвященство, и мне преподнести вам на память!
Аслан посмотрел на меня. Я подал табакерку из слоновой кости в изящном футляре.
Епископ принял с благодарностью.
— Всякий раз, как я возьму в руки табакерку, уста мои с благословеньем будут произносить ваше имя, г. доктор.
Секретарь принес заготовленную бумагу. Архиерей подписал, приложил печать и передал Аслану. Он поблагодарил и хотел было откланяться, но архиерей на минуту задержал его.
— В воскресенье вечером у меня будут гости — пашá и несколько именитых граждан города; прошу вас также пожаловать.
— С большим удовольствием! — ответил Аслан.
Мы вышли.
У дверей нас ожидал секретарь, словно кот в засаде.
— Дай ему денег, — напомнил я Аслану.
— Знаю.
Подозвал секретаря и сунул ему в руки золотой. В знак благодарности секретарь подбежал к лошади и поддержал стремя. Аслан отказался от столь унизительной для секретаря услуги.
— Епископ человек довольно учтивый, — сказал я по дороге Аслану,
— И не глуп.
Глава 8.
ВРАТА ГАВАНИ
От епархиального начальника мы направились в деревню Аванц, где добывают морскую соль. Выехав из городских ворот Искале-Капуси («Врата гавани»), мы направились к пристани. Дорога шла по возделанным полям и зеленым лужайкам, мимо ферм, среди садов. Навстречу нам попадались путники; они с удивлением озирались на европейца и, отвесив поклон, проезжали мимо. По краям дороги, там и сям, сидели на голой земле какие-то люди с неразлучными чибухами в зубах, бессмысленно глазевшие на проезжавших. Появление европейца нарушило покой этих зевак, способных часами сидеть неподвижно и без цели глядеть на дорогу. Они вставали с мест и, поклонившись в пояс, опять опускались на землю.
Мы нагнали караван курдов, напоминавший мне тот первобытный период жизни пастушеского народа, когда из домашних животных приручен был только бык. В самом деле, караван состоял исключительно из быков; курд взвалил на них купленные в городе припасы и усадил свою жену с маленькими детьми; одного ребенка женщина прижала к груди, другой был привязан к ее спине. Караван направлялся к пристани. Послушные животные, без узды и вьючных седел, медленно шагая, тащили тяжелую поклажу. Они не нуждались в биче: их направлял голос хозяина. Вся эта разношерстная масса запрудила дорогу вдоль и поперек. При нашем приближении караван раздался на обе стороны, и мы проехали посередине: даже грубый курд испытывает уважение при встрече с европейцем.
Миновав Искале-Капуси, мы добрались до колоссальных каменных глыб, будто руками гигантов наваленных друг на друга. Из их расщелин выбегали прозрачные холодные ключи, мох густо покрыл зеленым бархатом всю поверхность чудовищного творения древнего искусства.
В преданиях ванских армян об этих каменных глыбах рассказываются чудеса. В доисторические времена, когда люди были великанами, они вели борьбу с вишапами и дэвами
[60], метали во врагов огромные скалы, словно легкие мечи. Ванцы говорят, что глыбы эти нагромоздили не мужчины, а слабая женщина по повелению матери.
Я просил Аслана объяснить мне смысл легенды.
— По-видимому, — сказал он, — в давние времена какая-то царица жила в Ване или в окрестностях и творила великие дела. Виденные нами камни являются остатками колоссальной плотины или стены, некогда воздвигнутой для того, чтобы не дать возможности морским водам подступить к городу. Историк Хоренаци постройку плотины приписывает царице Шамирам; он говорит, что на постройке ее было занято двенадцать тысяч рабочих и шесть тысяч ремесленников. Но из его описаний явствует, что он или не видел Вана или видел когда-то, но многое позабыл ко времени составления им истории Армении. Если б Хоренаци остался верен сохранившимся в народе преданиям, он приписал бы эти великие дела не царице Шамирам, а другой царице из местного населения, имя которой забыто в наше время, но сохранилась память о ее делах. Народ говорит, что эти глыбы нагромоздила какая-то девушка; если б Хоренаци в свое время спросил у жителей, ему назвали б, кто была она.
Перед нами расстилалось во всей своей красоте море в лучах полуденного солнца. Живописные высокие берега, окаймленные кустами и зеленью трав, постепенно спускаясь, сливались с прозрачной синевой вод, стараясь превзойти бирюзовую ясность неба. Сипан, наивысшая из окружающих море гор, блистал своей величавой вершиной. Шаловливые стаи пигалиц с острыми клобуками на гребнях
[61] и крылышками, напоминающими полумесяц, вылетали из глубины вод и с пронзительным криком неслись к берегам. Казалось, эти резвые, вечно радостные птицы были душами монахов, которым наскучила неволя монастырских келий, они покинули пýстыню Ктуц и помчались в мир, к людям, к свету…
Мы достигли деревни Аванц, находившейся на берегу моря. Здесь была пристань, и отсюда город Ван имел сообщение водным путем с Мушским, Битлисским и другими прибрежными уездами. Деревня Аванц населена исключительно армянами, занимающимися лодочничеством и добыванием морской соли. В деревне до 300 домов; более 70 семей имеют собственные лодки. Занимаются также и земледелием. Виноградники аванцев — лучшие в окрестностях Вана.
В деревне мы встретили мастера Фаноса, беседовавшего с группой крестьян. Он, видимо, ждал нашего приезда.
— Что вы здесь делаете? — спросил его Аслан.
— Приехал долги собирать. Не знаю, как поступить. Привозят ко мне в мастерскую пряжу для окраски, а денег не платят. Вы, г. доктор, приехали, наверное, для исследования местной соли, стало быть, останетесь у нас. Если даже и пожелаете уехать, мы вас не отпустим. Здесь много тяжелых больных; вы должны оказать им помощь. А пока что надо найти вам место для отдыха.
У мастера Фаноса в деревне было, по-видимому, много знакомых. Со всех сторон посыпались предложения. Он повел нас к одному крестьянину, который нуждался в медицинской помощи: у него, как заявил маляр, была в доме тяжело больная.
Дом, куда нас привели, стоял почти на берегу моря; обилие морского воздуха и примыкавший к дому густой тенистый сад делали его весьма удобным помещением в летние дни. Обширный четырехугольный двор был обнесен каменной стеной, вышиной в полтора локтя, настолько низкой, что с улицы нетрудно было перепрыгнуть. Хозяин дома, по-видимому, не боялся ночных грабителей. В стороне, на четырех столбах — открытый навес, называемый «чардах»; под ним валялись старые и новые доски, куски неотесанных бревен и разный строительный материал. На первый взгляд весь дом оставлял впечатление мастерской плотника. За навесом открывалась дверь в маленькую избушку, откуда доносились звуки строгаемого дерева; там работал седовласый заезжий плотник, которого наняли для работы и временно поселили в избушке.
Кругом — ни души; лишь несколько вернувшихся с берега гусей искали убежища от палящих лучей солнца; один из них направился под тень и с гоготом созывал туда своих подруг.
В ожидании прихода хозяина мы разгуливали по двору.
Наконец, появился и хозяин, рослый, плечистый, с крепкими мускулами, с пронизывающим, словно стрелы, взглядом. На нем была рубаха из белого полотна и расшитый голубыми и красными нитками головной убор — «арахчи». Из-под украшенного узорным шитьем ворота рубахи выпукло выставлялась обросшая волосами могучая грудь. Подпоясан он был шелковым кушаком, с которого свисал большой нож. Голубые шальвары, вверху широкие и постепенно суживающиеся книзу, доходили до колен; голени были обнажены, ноги босы; рукава засучены до локтей. По всему было видно, что он пришел с моря. Этот, достойный резца талантливого скульптора, молодец был лодочником и имел на пристани собственную лодку.
Не обратив на нас особого внимания, он подошел к мастеру Фаносу и заговорил с ним. Европейцы, видно, были ему не в диковинку. Затем он подошел к нам и, не поздоровавшись, спросил:
— Чего вы здесь стоите?
Его невежливое до грубости обращение оскорбило меня; Аслан не сказал ни слова.
Вместо нас ответил мастер Фанос:
— Чудак человек! А куда нам идти? Целый час дожидаемся, не видать ни хозяина, ни хозяйки!
— Ну, скажем, они люди чужие! Но ты-то свой человек! Почему не проводил их? Идемте, — обратился он к нам.
Мы поднялись на открытый с одной стороны балкон (эйван), выходивший в сад. С балкона вела дверь во внутренние комнаты. Здесь летом жила вся семья.
— Цовинар, где ты? — крикнул хозяин.
Дверь отворилась, и вошла хорошенькая девочка лет четырнадцати. Из-под головного убора, сплошь усеянного золотыми и серебряными монетами, спускались на плечи распущенные волосы, до половины закрывавшие ее смуглое личико. Девочка оказалась гораздо вежливей отца; отвесив издали поклон гостям, она остановилась в ожидании приказаний отца.
— Принеси коврик, пусть гости присядут, — распорядился отец.
Девочка быстро сбегала за водой, ловким движением расплескала на глиняном полу, разостлала широкую камышовую рогожу, а сверху постлала несколько цветных ковриков.
— Для господина, — сказал отец, указав на Аслана, — принеси миндар
[62], он — франг, привык сидеть на мягком, а мы — люди простые, можем и на голом полу.
Девочка опять выбежала, принесла миндар и разостлала в почетном углу.
Аслан уселся.
— А ты чего торчишь, словно аршин проглотил? Садись! — обратился хозяин ко мне и, схватив своей тяжелой, словно из железа выкованной рукой, приплюснул меня к полу. Я не знал, как отнестись к подобной грубой любезности.
Девочка, закрыв руками лицо, со смехом выбежала в другую комнату. Это еще больше взбесило меня… Я принялся про себя бранить мастера Фаноса… Неужели во всей деревне не нашлось более приличного дома?
Я посмотрел на Аслана: на лице ни признака недовольства.
— Цовинар! — крикнул вновь хозяин, — приготовьте им чего-нибудь поесть, должно быть, проголодались в пути.
Он не говорил — гремел!
— Сперва следует дать корму лошадям, — возразил мастер.
— Коли тебе порядки известны, ступай и накорми сам: сено вон там, — указал он на стог. — Сам видишь, что слуг нет дома.
Мастер Фанос вышел дать корму лошадям.
— Престранный народ эти горожане! Привыкли, чтоб за них работали крестьяне, а самим сидеть, сложа руки, — заметил он Аслану.
Нашего гостеприимца звали Берзен-оглы, что означает в переводе — сын грека. По происхождению он был армянин; греком прозвали его за то, что долго жил в Греции и бродил по Балканскому полуострову. Я невольно вспомнил «сумасброда». Между добросердечным, правдолюбивым священником и грубым лодочником разница была лишь в том, что последний показался мне желчным и озлобленным. Возможно, что бродячая жизнь, неудачи и неведомые мне обстоятельства сделали его столь черствым и мрачным. Неужели человек, имеющий дело с морем, смеющимися волнами и лунными ночами, лелеемый сладкой мелодией морского ветерка, может быть таким желчным?
— Вам приходилось бывать в Черногории? — спросил его Аслан.
— Исходил и Черногорию, и Сербию, и Болгарию… Всюду побывал… — ответил он с грустью.
Аслан улыбнулся.
— Что тут удивительного? Куда только не отправляется ванец! Его можно встретить во всех уголках света. Кто-то увидел в Индии хромого ванца и со смехом заметил: «Если хромой ванец добрался до Индии, то здоровый шагнет и за Китай!» Так уж нам на роду написано.
Девочка принялась накрывать на стол. Вероятно, она приходилась дочерью хозяину. Но где же хозяйка? В здешних селах сохранилась простота нравов; женщины не скрываются от гостей, как это принято в городах, они даже разговаривают с посторонними.
Стол был обильнее и богаче обычного крестьянского стола. Видно об этом заранее позаботился мастер Фанос.
После обеда мы тотчас же отправились к морю. Аслан хотел видеть, как добывают соль. Способ добычи весьма прост. На берегу вырыты небольшие ямы; их заполняют морской водой; под лучами солнца вода испаряется, и на дне ямы остаются блестящие соляные кристаллы.
Аслан взял немного этой соли. Крестьяне с любопытством стали расспрашивать, для чего она ему понадобилась. Он объяснил, что соль, употребляемую ими только для приготовления мыла, можно использовать и для многих других надобностей, тогда ванцы будут получать большие доходы. Крестьяне удивились и обрадовались. Я заметил, как эти добрые люди стали с особым почтением относиться к Аслану. Когда крестьянина научишь чему-нибудь, сулящему выгоду, он становится твоим лучшим другом.
Затем мы отправились на пристань. Здесь не было ни одного парусного судна; были только лодки старого и нового типа. Самые старые из них, называемые плотами или сандалиями, походили на первобытные суда, когда человек еще впервые пустился путешествовать по воде. Несколько бревен одинаковой величины и толщины, соединенные друг с другом, образовывали квадрат; квадрат был покрыт деревянным настилом, края ограждены барьером в фут вышиной; по четырем углам квадрата, снизу, были подвязаны надутые воздухом бычьи или воловьи мехи.
— Эти плоты, — заметил с улыбкой Аслан, — напоминают древние челноки из кожи, описанные Геродотом, которые армяне употребляли несколько тысяч лет тому назад. Они имели круглую форму и были сплетены из ивовых прутьев; снаружи покрыты шкурами, чтоб вода не проникала внутрь. Они были легки и настолько вместительны, что могли перевозить большие грузы. Купцы-армяне взваливали на них товары, забирали с собой несколько ослов или мулов и совершали плаванье по Евфрату до Вавилона. Распродав товары, они уничтожали челны, оставляли лишь шкуры. Шкурами нагружали мулов и возвращались в Армению сухопутьем. Подобные челны нетрудно было изготовить: шкур имелось много, а ивовых прутьев было в изобилии по берегам рек.
— Зачем вы восходите ко временам Геродота, — вмешался в разговор Берзен-оглы, — такие лодки в ходу и теперь у армян — на Евфрате и Тигре, с той лишь разницей, что вместо шкур они свои корзинообразные лодки покрывают кожей, выделке которой они уже научились.
На пристани стояло несколько лодок нового типа; среди них выделялась красотою и удобством лодка Берзен-оглы.
— Она сделана тем мастером, который сейчас работает у меня, — сказал Берзен-оглы. — Он может построить даже парусное судно. Этим ремеслом он долго занимался на пристанях Константинополя. Его челны легки, ими можно управлять, как хорошo выезженным конем.
Берзен-оглы остался на пристани, а мы вернулись в деревню. Аслан с Фаносом отправились навещать больных (так заявили они мне). Я же отправился домой.
Я был один, не знал, чем заняться. На дворе ни души. Тишина… Даже листья на деревьях не шевелились. День был невыносимо душный. Гуси спали в тени ив, засунув головы под крылья. Заслышав мои шаги, один из них поднял голову и несколько раз лениво прогоготал.
Из мастерской доносились звуки тесла. От нечего делать я заглянул туда. Кругом все было завалено досками и другим плотничьим материалом. Здесь латали старые лодки и строгали новые. Старый мастер работал с учениками и подмастерьями. Они посмотрели на меня, не прервав своей работы. Старик только отложил в сторону циркуль, поднял голову, поправил очки на носу и спросил:
— Вы, верно, приехали с тем франгом?
— Да…
— Присядьте, пожалуйста.
Я не знал, куда сесть: кругом доски, лесной материал. Пришлось сесть на пороге. Мастер вновь взялся за циркуль.
— Мешаешь притоку воздуха, — сказал один из учеников, отирая со лба пот, — и без того жара нестерпимая!
Замечание было сделано довольно грубо, но вполне уместно. Свет и воздух проникали в мастерскую лишь через дверь, окон не было. Правда, в потолке был ердик
[63], но оттуда не веяло прохладой. Я встал и молча продолжал наблюдать. Кругом стоял такой невообразимый шум, что слов не было слышно, пилили, строгали, сверлили. Все работали, один я был без дела. Я находился в глупом положении. Поглядел, поглядел, — наскучило и вышел из мастерской.
На балконе, где мы обедали, никого не было. Аслан с мастером Фаносом еще не возвратились. Разостланные на полу скатерти оставались на местах. Я разлегся на том миндаре, где за обедом сидел Аслан.
Стал глядеть в сад. Он был отделен от балкона лишь деревянной решеткой. Деревья в саду были отягощены созревшими плодами. Солнце пекло невыносимо. От каждого дерева, куста, от каждой травки, от цветов и плодов лился аромат. Мне нравится это нежное, наводящее истому, благовоние, источаемое садом в полуденный зной. Воробьи, скрывшись в густых ветвях дерев, тихо подремывали; ласточка, свившая гнездышко под кровлей, нежилась в сладкой истоме подле своих птенчиков. Но я не мог уснуть.
В голове у меня царил полный хаос от виденного и слышанного за последние дни. Тяжкие раздумья мучили меня. Я не мог найти выхода. Куда я шел? К чему стремился? К чему приведут мои скитания? Я брел, словно ощупью, во мраке неизвестности и сомнений. «Лучше уж совсем не верить, — думал я, — чем верить наполовину». И лишь одно поддерживало меня, являлось оплотом в минуты отчаянья — горячая любовь к Аслану. Я обожал этого молодого человека, что-то подкупающее, манящее было в нем — но что именно, я никак не мог понять.
Всюду, где мне приходилось бывать, я видел лицемерие, фальшь и ложь. Глаза мои словно затянуты были пеленой, и я не видел дали. Кто знает, сколь ужасна эта даль, а Аслан не желал сорвать с глаз моих волшебной повязки, чтоб грядущее не предстало предо мной во всем своем ужасе… Быть может, он не хотел пугать меня. А, может быть, эта даль была настолько прекрасной и заманчивой, что Аслан не решался сразу открыть предо мной мир очарований?.. Ведь я не был настолько подготовлен, чтоб разобраться во всем. Да, я и сам хорошо сознавал свою пустоту, свое умственное убожество. «Тебе еще многому следует учиться», — говаривал мне не раз Аслан.
Шелест листьев прервал мои тягостные раздумья. Я поднял голову: на яблоне, находившейся недалеко от меня, сидела Цовик, дочь домохозяина. Вот еще существо, которое бодрствовало в этот зной! Однако чем она была занята? С ловкостью обезьяны девочка перепрыгивала с ветки на ветку, но яблок не рвала, они еще не поспели. Она выбирала самые крупные, наиболее правильные по форме и что-то наклеивала на них. Я тотчас сообразил, в чем дело. Яблоки этой породы при созревании становятся яркокрасными, а пока они были светлоголубые. Цовик наклеивала на них красивенькие листочки: когда яблоки созреют, непокрытые места, благодаря солнечным лучам, покраснеют, а заклеенные листочками останутся светлыми — осенью яблоки будут с прекрасными узорами на кожице. В народе они зовутся «яблочки для милого дружка». У армян яблоко, вообще, служит символом любви. Приглашенному на свадьбу посылают красное яблочко, а такие разукрашенные яблоки взрослые девицы тайком шлют своим возлюбленным.
Но для кого готовила маленькая Цовинар свои яблоки? Ведь она еще не могла знать, что такое любовь! Вероятно, она заметила, что так поступают взрослые девушки и, не понимая, подражала им. «Вот еще одна безотчетность в поступках, — подумал я, — не познав любви, она уже готовит подарки любви». Разве я не делал того же? Разве я не готовил себя на всякие жертвы во имя любви, не зная предмета моего почитания?.. Но Цовик действовала разумнее меня: она выбирала красивейшие из яблок, не изъеденные червями. У меня же не было выбора, я не знал, в какой мере целесообразна моя жертва… Я следовал примеру старших так же, как Цовик подражала взрослым девицам…
Вдруг раскрылась дверь, и на балкон из комнаты выскочил мальчуган, вероятно, сын домохозяина: так он был похож на него. Он, как пуля, пролетел мимо меня, добежал до садовой калитки и принялся трясти ее. Калитка была заперта; в сердцах бросился было обратно, но увидел меня, подбежал как к давнишнему знакомому и обнял меня.
— Если б я мог войти в сад, я принес бы тебе абрикосов.
— А почему не вошел? — спросил я, гладя его хорошенькую головку.
Он посмотрел на меня своими большими голубыми глазенками и с досадой произнес:
— А дверь заперта! Ты не знаешь, что за черт эта Цовик; всегда закрывает за собой калитку, боится, чтоб я не вошел. Ты, говорит, портишь цветы. Разве я из таких, скажи сам?
Не знаю, почему шалуну вздумалось привести в свидетели меня.
— Как тебя зовут?
— Котот!
[64] — ответил мальчуган и улыбнулся.
— Котот? Недурное у тебя имя!
— Но я хороший мальчик, — произнес он с гордостью. — Отец прозвал меня медвежонком. Сам посуди, разве я похож на медвежонка?
— А ты видел медвежонка?
— Видел! К нам во двор приводили… Ой, ой, какие у него мохнатые лапы! Скажи, разве у меня мохнатые руки?
И он положил мне на ладонь свои красивые ручонки.
— Нет, не мохнатые.
— А почему меня зовут медвежонком?
— Я скажу отцу, чтоб тебя больше так не называли.
В знак благодарности он вновь обвил мне шею руками и крепко поцеловал.
— Скажи отцу, что Цовик врет: ведь я не порчу цветов, ты ведь знаешь, а?
— Знаю. А как отец?
— Сердится, запрещает ходить в сад и есть фрукты!
— Ну, так я скажу отцу, что ты умный мальчик, попрошу, чтоб тебе позволили ходить в сад и не запирали калитку.
Мальчик, по-видимому, остался доволен моим обещанием.
— А ты скажи еще отцу, что и мама умная; попроси, чтоб и ее дверей не запирали на ключ. Она теперь в комнате, я хотел пойти к ней, а дверь заперта, — произнес мальчуган с такой грустью, что мне стало не по себе.
— А почему запирают ее на ключ?
— Не знаю… Мама все кричит, плачет… И я тоже плачу…
На глазах у ребенка навернулись слезы.
— Сейчас она в комнате?
— Да… Далеко там… Отец не позволяет ей выходить оттуда.
В эту минуту два голубя слетели на изгородь сада. Мальчуган, забыв про свое горе, лукаво посмотрел на меня, прищурил глазенки и знаком дал мне понять, чтоб я молчал. Изогнувшись всем телом, он стал подкрадываться к голубям… Но они оказались хитрее малыша. Заметив в засаде врага, вспорхнули и уселись неподалеку на дупле срубленного дерева. Мальчик опять за ними… Вскоре голуби и мальчик скрылись из виду. Мне редко приходилось встречаться с таким живым и резвым мальчиком.
«Домашние тайны выведай у ребенка», — говорит поговорка. Теперь я стал понимать, хотя и смутно, почему не появлялась хозяйка: ее намеренно держали взаперти.
Цовик, вероятно, сидя на яблоне, заметила меня. Она принесла в корзине самые отборные плоды и предложила мне:
— Выбирай по своему вкусу!
— Все хороши! Ты плохих не нарвешь, — ответил я, глядя на ее раскрасневшееся лицо. Она усмехнулась и быстро скрылась: на балкон вошли Аслан и отец.
— Вы, молодые, счастливее нас, — молвил Берзен-оглы, заметив корзину, — вам незнакомы еще невзгоды жизни.
Потом он продолжал, обратившись к Аслану:
— Посмотрите, как они умеют оказывать уважение друг другу… Яблоки, конечно, принесла Цовик.
Аслан и Берзен-оглы вошли во внутренние комнаты и долго оставались там. Когда Аслан вышел, я спросил:
— Что там такое?
— Там больная… — отрывисто произнес он.
Глава 9.
НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ АВАНЦ
Вечером все собрались на балконе. Аслан сидел на миндаре, мастер Фанос подле него, а я на своем месте. Домохозяин то садился, то выходил, отдавал распоряжения.
На высокой деревянной подставке была установлена светильня в виде голубя, наполненная конопляным маслом; голубь давно почернел от масла и дыма. Горевший в его клюве фитиль озарял балкон тусклым зеленоватым светом.
Разговор шел, главным образом, о море: в какое время года оно неспокойно, где имеются пристани, перечисляли количество имеющихся лодок, сколько товару можно перевезти и в какое время года; разъяснения давал, конечно, Берзен-оглы. Он прекрасно был знаком с озером, и окружавшими его окрестностями, знал все заливы, берега, все пути сообщения с материком. На основании этих данных Аслан пришел к выводу, что два парусных судна могут вполне выполнить ту работу, какую проделывают бесчисленные челны и плоты.
Они долго спорили, обсуждали, но я не слушал их. Я все думал о матери Котот: слова мальчика не выходили у меня из головы. Утром Аслан, выходя из внутренних комнат, сказал мне, что там больная — разумеется, это была жена лодочника. Наивный рассказ Котот о матери внушал мне некоторое сомнение относительно состояния больной. «Здесь кроется какая-то тайна», — подумал я.
Цовик и Котот подали нам ужин, а сами отправились спать на кровлю. Крестьянские дети ложатся с заходом солнца и встают до восхода. Нам постлали на балконе. Приятно лежать в прохладе, на чистом воздухе и в бессонные ночи глядеть на небо, усеянное мириадами звезд. Но в ту ночь меня более пленял доносившийся издали глухой и таинственный гул моря.
Работа в мастерской закончилась: там было тихо; только из открытой двери тускло светил огонек. Видно, старик еще не ложился спать. Лодочник повел Аслана и Фаноса в мастерскую показать какие-то работы. Я не пошел. Доски и древесина не интересовали меня, я достаточно нагляделся на них днем, Я остался лежать в постели в вскоре уснул под рокот волн.
Меня разбудил странный шум… Как будто хлопнули дверью. Я поднял голову, посмотрел на дверь — она была открыта настежь. Когда мы ложились спать, я видел ее закрытой. Масло в светильнике было на исходе; фитиль то вспыхивал, то погасал. Но на балконе было светло: полумесяц еще не скрылся за горизонтом. Постели, приготовленные для Аслана и мастера
Фаноса, пустовали. В мастерской еще светил огонек. Я положил голову на подушку, но не мог заснуть…
Не прошло и нескольких минут, как легкий шорох, подобный шелесту платья, привлек мое внимание. Я поднял голову и увидел в тени какую-то неподвижную фигуру… Вот она тронулась с места и тихо, без малейшего шума, прошла, словно проплыла по воздуху, не касаясь земли, и спустилась по ступенькам во двор. При свете месяца очертания ее стали яснее и определенней: красная бязевая рубаха доходила до пят, ноги были босы, распущенные волосы, обрамляя ее лоб, густыми прядями ниспадали на спину. Она остановилась посреди двора и оглянулась на балкон: под голубым светом луны я различил страдальческий лик молодой женщины… Она постояла и вновь направилась к саду…
Дрожь пробежала у меня по телу. Мне почудилось, будто покойник встал из могилы и бродит в ночной тишине. Сон окончательно слетел с моих глаз. Я натянул одеяло на голову, чтобы не видеть призрака; несколько раз со страхом выглядывал из-под одеяла: виденье продолжало маячить предо мной… Я стал шептать слова молитвы и немного успокоился.
Призрак бесшумно, медленными шагами, прошел через весь двор, подошел к садовой калитке, дотронулся до задвижки, но, заметив, что калитка заперта, отошел прочь, стал пробираться к воротам и вскоре совершенно исчез. Я до такой степени был объят ужасом, что не в силах был подняться с места и проследить, куда направилось видение. Что это было? Сон? Или бред расстроенного воображения? Я не мог пошевельнуться, словно крепкими цепями прикован был к постели.
Не прошло и получаса — призрак появился вновь. Медленно поднялся по ступеням, обошел вдоль стен весь балкон и остановился подле наших постелей, словно разыскивая что-то. Глаза горели, лицо по-прежнему было мертвенно-бледно.
— Господин доктор, — промолвил призрак, подойдя к моему изголовью, — вы не поняли моей болезни, да и не могли понять, потому что я вам всего не рассказала.
Страх мой несколько рассеялся. Это была жена лодочника. Она приняла меня за Аслана.
— Я не больна, г. доктор, — продолжала она с грустью в голосе, — я здорова; хорошо ем, пью; могу гулять, если только разрешат выходить из комнаты.
Она намекала на мужа, который держал ее взаперти. Я вспомнил слова Котота.
Присев к моему изголовью, она опустила голову на колени, закрыла лицо руками и несколько минут оставалась безмолвной. Густые волосы волнистыми прядями закрыли ее лицо. Ее склоненная фигура напомнила мне женщину, скорбящую над могилой любимого друга. Вдруг она подняла голову, с ужасом вперила взор в дверь, вскрикнула и зарыдала.
— Помогите ему, доктор… Еще не поздно…
Я вздрогнул от страха.
— Вы не верите? Поторопитесь… еще можно помочь… Его тело не остыло… Он движет руками… Он истекает кровью…
И вновь опустив голову на колени, она закрыла руками глаза, чтоб не видеть ужасной картины.
— Помогите, г. доктор, — бормотала она, надрываясь от рычаний, — встаньте… скорей к нему на помощь… еще не поздно… он здесь… недалеко от вас…
Мне показалось, что за стеной в самом деле произошло нечто ужасное, — и сорвался с места. Она крепко схватила меня за руку и показала на пол…
— Смотрите… вот капли крови… еще не высохли… Я вижу их… вот… вот…
Я понял, что несчастная бредит.
Она поднялась с места… Протянула руку к двери. Непонятный ужас охватил меня.
— Капли крови тянутся от самых дверей до берега… Дело было ночью… изверг вытащил из комнаты окровавленное тело в мешке… Из мешка каплями сочилась кровь… Я бросилась за ним в сад… Он быстро добежал до озера, положил мешок в лодку и взялся за весла…
Голос несчастной женщины прерывался… Она поднесла руку к глазам, хотела отереть слезы… Но глаза были сухи… Я с изумлением глядел на нее. Вероятно, в этом доме было совершено ужасное преступление…
Она вновь подсела ко мне.
— Я расскажу Вам все, — произнесла она надрывающимся голосом, — Вы должны узнать все, г. доктор… Пока не узнаете, не сможете вылечить меня… Вы слушаете, доктор?
— Слушаю, — машинально ответил я.
— С того дня прошло много лет. Часто по ночам я выхожу на берег, зову его, долго, долго… Он слышит мой голос и вдруг появляется из воды. Вот и сейчас я оттуда… Увидела его, целовала его. Он не изменился, все тот же, как и в последнюю ночь, когда вынес его из дому этот зверь… Горячая кровь все еще сочилась из раны… Угасающим взором смотрел мне в лицо…
Она умолкла, чтоб, подобно клокочущему вулкану, с новой силой извергнуть лаву.
— Он не виновен, доктор… Ведь он любил меня… И я любила… Еще с детских лет… Я была в отцовском доме, он был юношей и только научился владеть веслами. По ночам я не смыкала глаз, сидела на кровле и ждала его… Он приходил, мы вместе шли на берег… Он усаживал меня в лодку, и мы проводили на воде целые ночи… Я склонялась головой к нему на грудь, он бросал весла… Лодка неслась по озеру, и никогда не мешала нам…
При последних словах она обессилела, голова ее затряслась, руки беспомощно упали на колени.
— Наши родители знали об этом, но глядели на все сквозь пальцы, — ведь мы были обручены, шли приготовления к свадьбе. В это время из чужбины вернулся на родину этот зверь. Говорили, будто он привез с собой много золота… Родители мои польстились на богатство… Меня разлучили с возлюбленным и выдали за этого изверга. Я старалась полюбить его, но сердце все же принадлежало первому. Когда муж перевозил товары в Муш или Битлис, любимый приходил ко мне. Соседи стали перешептываться, сплетня дошла до мужа. Раз вечером он объявил, что едет в Датван за пшеницей. Я снарядила его в дорогу, сама отнесла провизию в лодку. На расставание он поцеловал меня и отплыл. Я вернулась домой радостная. Но негодяй обманул меня. В полночь он постучался ко мне. Я замерла в страхе… Возлюбленный был у меня… Мы долго не открывали двери. Злодей ударом ноги взломал дверь… Я умоляла его, плакала… Но не смогла разжалобить его… Он вонзил нож в грудь милому… Кровь брызнула из раны, он зашатался и упал на пол. Злодей положил тело в мешок и поспешно потащил его к берегу. Идемте, доктор, он еще не мертв, помогите ему!..
Последние слова она выкрикнула, схватила меня за руку и хотела силой потащить меня. Но в эту минуту во дворе мелькнула чья-то тень и быстро вошла на балкон. Это была спустившаяся с кровли Цовик.
— Боже мой! Кто это открыл дверь?
Как видно, Цовик с кровли услышала голос матери и поспешила к ней на помощь. Не сказав ни слова, она схватила лунатика за руку и повела в комнату. Мать беспрекословно последовала за ней. Девочка, видно, уже свыклась с болезнью матери и знала, как следует обращаться с ней. Успокоив больную, она вернулась и заперла за собою дверь.
— Каждую ночь происходит с ней это? — спросил я Цовик.
— Нет, редко, — ответила с грустью девочка, — чаще в лунные ночи. Отец всегда бывает при ней и следит… А сегодня, как назло, куда-то ушел.
— Он, кажется, в мастерской столяра.
Цовик направилась в мастерскую.
— Подожди, пойдем вместе.
По дороге я спросил:
— Твоя мать говорила про кровь. Чья это кровь?
— Не знаю. Она постоянно твердит о крови, когда ей не по себе. Отец всегда удаляет нас, чтобы мы не услышали, о чем она говорит…
— А тебе и Кототу не страшно?
— А чего нам бояться? Ведь она нам мать. А вот соседи боятся; говорят, будто она одержима бесами.
— Она всегда так бредит?
— Нет, не всегда. Бывает, и слова не проронит, молча выйдет из комнаты, побродит по двору, войдет в сад, а оттуда на берег. Стоит часами у моря и долго, молча, глядит на воду.
Бедная девочка! Если б она знала, какие горести таятся в душе матери!..
Мы подошли к мастерской. Аслан сидел у светильни, а против него поместился старик-мастер. Пред ним на широкой доске, служившей вместо стола, разложены были, насколько я мог понять, чертежи различных частей корабля. Аслан, указывая на чертежи, пояснял внимательно слушавшему его мастеру размеры, устройство, длину и т. п. В стороне сидели Фанос и Берзен-оглы и иногда вставляли свои замечания.
Появление Цовик в такое неурочное время крайне поразило всех. Девочка шепнула отцу что-то на ухо. Тот сейчас же покинул мастерскую.
Аслан, по-видимому, кончил свое дело и тоже недолго задержался в мастерской, передав чертежи плотнику, вышел вместе с Фаносом.
— Вы думаете, он сможет приготовить? — спросил по дороге Аслан красильщика.
— Он приготовит и спицы для бесовской колесницы, — смеясь ответил Фанос. — Я уверен, что он выполнит ваше задание. Более десяти лет работал он, как ссыльный, на английских верфях. Он человек даровитый, да и, кроме того, имеет несколько прекрасно обученных им учеников…
Глава 10.
БУРЯ
Душная летняя ночь прошла неспокойно: мне суждено было выслушать печальную историю многострадальной женщины; Аслан просидел над чертежами, лодочник и Фанос также не сомкнули глаз. Несмотря на это, мы должны были подняться спозаранку, так как Аслан намерен был отправиться в пýстынь Ктуц.
Чуть забрезжило утро и в воздухе прозвучали первые удары колокола, призывавшие к молитве, как меня разбудил громовой голос лодочника. Проснулся и Аслан. Фанос продолжал храпеть.
Грубость домохозяина возмутила меня. Негодуя, я оделся и вышел на улицу умыться — по деревенскому обычаю — у протекавшего за воротами ручейка. Однако же мое негодование оказалось напрасным: вся деревня была уже на ногах. Старики и старухи направлялись в церковь, молодежь — на полевые работы.
Цовик возвращалась с родника с кувшином на плече.
— А я думала, что ты уже уехал… спешила… — сказала она, подойдя ко мне.
— Не простившись с тобою? — ответил я, краснея.
Она расхохоталась.
— Куда ты ходила за водой?
— Далеко, ой как далеко!.. вон на ту гору…
И указала на терявшийся в утренней мгле холм.
— В этом году воды в роднике мало… Говорят, из-за несносной жары… Приходится долго ждать пока наполнится кувшин… А негодные девчонки рвут друг дружке волосы, не хотят дождаться очереди… Я чуть было не подралась с одной.
В Аванце и во всей Ванской области земля пропитана морской водой, в ней много солей и поэтому вода в источниках неприятна на вкус. Но текущие с гор и холмов родники превосходны. Вот почему Цовинар пошла за чистой водой в такую даль, притом же дома были гости.
Цовик не хотела уходить. С тяжелым кувшином на плече, она стояла и все время мило болтала. Она стала расспрашивать, откуда мы, куда едем, сколько у меня сестер и братьев, какие подарки повезу им и т. п.
— Ты разве не устала? Ступай домой…
— Устала?! — в ее голосе прозвучала обида.
— Я еще должна сходить за водой, одного кувшина не хватит…
И она опустила кувшин на землю.
Я уже умылся и теперь расчесывал гребнем волосы.
— А ну-ка покажи мне, — и протянула руку за гребнем.
Я подал ей гребень: он имел вид полумесяца и был сделан из черного буйволиного рога.
Цовик с восхищением рассматривала вещицу.
— Нравится тебе?
— Очень!
— Возьми его себе.
— А ты останешься без гребня?
— В городе куплю другой.
— Нет, лучше поменяемся.
— Ладно.
— Но мой сломанный.
— Не беда… Твой гребешок будет для меня очень…
Она не дала докончить фразы, сунула мне в руку свой гребень и, приветливо улыбнувшись, побежала с кувшином домой.
Подобные взаимоотношения между юношей и девушкой могли означать и нечто другое, но простодушная Цовик не понимала этого; она радовалась, что доставила мне удовольствие, и сама была довольна.
Удивительная была Цовик! Насколько целесообразнее было бы направить живость и энергию сельской девушки на более полезную деятельность. Такая разумная девушка творила бы чудеса!
Когда я вернулся на балкон, все уже были готовы к отъезду. Аслан на минуту задержался у больной.
Мы пришли на пристань в то время, когда совсем рассвело и восток уже заалел. Берзен-оглы подошел к колу, к которому был привязан челнок, взялся за бечеву и крикнул:
— Марш ко мне!
Он разговаривал с лодкой, как с послушным конем. Челнок подплыл к берегу. Берзен-оглы одним прыжком очутился в лодке, хотя она находилась довольно далеко.
— Прыгай! — крикнул он Цовик.
Девочка прыгнула вслед за отцом и уложила на дно лодки корзину с приготовленными на завтрак жареными курами, сыром, белыми лавашами и бутылкой вина. Аслан также прыгнул в лодку, а я, как дерево, стоял на берегу. Для меня положили доску, я перешел по ней. Можете себе представить, до чего мне было стыдно перед Цовик?
Мастер Фанос пожелал нам счастливого пути и с Цовик направился в деревню. Я с Асланом сели на коврик. Лодка отчалила.
Озеро было спокойно. Лодка мерно подвигалась по морской глади. Моей радости не было предела: ведь я впервые совершал путешествие по воде. Аслан был в приподнятом настроении, но молчал. Без сомнения, не прелестное утро на озере с восхитительными видами вдали привлекало его внимание. Кто знает, о чем он мечтал? О том ли, как использовать громадный водный бассейн, организовать на нем регулярное судоходство, чтобы завязать более тесные сношения между соседними областями? Или о том, — что казалось мне несбыточной мечтой, — как прорыть канал в западной части озера до реки Евфрат, которая прорезывает всю Мушскую долину, и, слившись с Тигром, впадает в Персидское море? Таким образом, из сердца Армении открылся бы водный путь через Аравийское море и Индийский океан к богатым армянским колониям в Индии. Трудно было угадать, о чем он думал. Я знал лишь одно: он не имел привычки думать о пустяках. Теперь он направлялся в обитель Ктуц для исследования рукописей, как заявил он епархиальному начальнику. Не было ли это лишь предлогом, под которым скрывались иные цели?..
Я также молчал, но мои мысли были далеки от моря, судоходства и речных каналов, я думал только о Цовик. Воображение уносило меня далеко, я вспоминал наши встречи с ней. Мне представлялась она в знойный полдень, когда она перепрыгивала с ветки на ветку и расписывала яблоки узорами, вспоминал, как в ночной тиши, заслышав голос матери, сбежала с кровли вниз, чтоб успокоить злосчастную страдалицу; вспоминал Цовик ранним утром, только что вернувшейся с дальних родников, вспоминал ее задушевные речи и… поломанный гребень!.. Я стеснялся достать при Аслане этот дорогой подарок и любовался им без конца… Воспоминания нахлынули на меня, в них сверкало трепетное сердце и наивная душа резвой девушки. Невольно я сравнивал ее с Маро и Соней…
В туманной дали стали вырисовываться очертания обители Ктуц. Еще в детстве я слышал много удивительных рассказов об отцах-пустынниках Ктуца, и страстно хотелось мне поскорее увидеть их, чтоб удостоиться их животворящего благословения. Мне передавали, как они простирали свои рясы над бушующим морем и плыли на них по волнам, куда им было угодно; как они звали с берега рыбок и те, послушные их зову, резвыми стаями подплывали к берегу, а святые брали их в руки, любовались ими и опять бросали в воду: «Живите себе счастливо, не зная забот!» Каких чудес не наслышался я о пустынниках! При этих воспоминаниях сердце мое преисполнялось священного благоговения, я был бесконечно счастлив увидеть святых отцов.
Лодочник Берзен-оглы, по-видимому, ни о чем не думал — он дремал, изредка машинально греб веслом, не выпуская его из рук. Послушный челнок знал свое дело: он плыл по тому направлению, какое предназначал ему хозяин.
Озеро было спокойно.
Но вот с восходом солнца подул с юга ветер. Спокойная гладь вод заволновалась. Ветер постепенно крепчал. Лодочник не замечал перемены погоды; закрыв глаза, он двигал руками, подобно утомленной, сраженной сном матери, которая машинально качает люльку своего неспокойного ребенка. Аслан выхватил у него весло и принялся грести, как опытный гребец. Лодочник ничего не почувствовал. Волны подымались все выше и выше и уже стали захлестывать лодку. Лодочник проснулся, позевывая, поднял голову, потер рукою лоб, как бы стараясь согнать сон — и удивленно посмотрел вокруг. На вершинах гор Небровг и Гркур показались серые тучи; мгла густела. При виде этого толстые губы лодочника скривились в насмешливую улыбку и обнажили его крупные белые зубы.
— О-го-го! — крикнул он, — скоро грянет буря!
Туман ширился с юга и охватил большую часть горизонта. На востоке, однако ж, улыбалось восходящее солнце. Изредка падали крупные капли дождя, хотя над нами небо было ясно.
Аслан усиленно греб. Лодочник, стоя на корме, следил за ним, казалось, не хотел его лишить этого небольшого удовольствия.
— Держи направо, к берегу, не то попадем в водоворот, — крикнул он Аслану.
Затем обратился ко мне:
— А ты умеешь плавать?
— Нет.
— Когда через несколько минут лодка погрузится в воду, хватайся за мой пояс, — невозмутимо проговорил он.
Я содрогнулся от ужаса.
А лодочник продолжал спокойно стоять, упершись ногой в край лодки, словно тяжестью увесистой ноги своей старался сохранить равновесие судна. А лодка, как старая деревянная посудина, вздымалась под разъяренными волнами. Горячий ветер с юга, пронесшись над знойными пустынями Месопотамии, освеженный на вершинах горного хребта Тавра, — этот вестник Торя и бед все свирепел, яростно сгибал тонкую жердь, на которой шумно трепыхался черно-красный флаг Берзен-оглы.
— Дай мне весло, ты устал, — сказал он Аслану, — а ты, юнец, не сиди без дела: возьми ковш и черпай воду из лодки.
Я схватил ковш и стал выбрасывать воду, которая все стремительнее лилась в лодку.
Солнце совершенно скрылось за тучами. Туман, сгущаясь и расширяясь, охватил весь горизонт. На расстоянии нескольких шагов ничего не было видно. Остров скрылся из глаз… Дождь усиливался. Сверху лились потоки, под нами бурлило озеро…
Изредка доносились до нас слабые звуки колокола, заглушаемые ревом ветра… Этот заунывный звон был знаком мне: я слышал его во время похорон.
Он производил на меня гнетущее впечатление. Неужели скоро пробьет час и нашей кончины, разверзнется водяная бездна и поглотит нас?..
Аслан был погружен в думы. Лодочник отчаянно боролся с разъяренными волнами. Я замер от ужаса.
— Что это за колокольный звон? — спросил Аслан.
— Там, на острове молятся. В сильную бурю монахи обыкновенно выходят на берег и совершают крестный ход.
— Стало быть, мы находимся недалеко от острова?
— Да, недалеко.
Я немного успокоился.
Необходимо было выбросить в воду все тяжелые вещи. Лодочник швырнул за борт корзину с фруктами, предназначенную для монахов. Груши, яблоки, несколько секунд покачивались на гребнях волн и быстро исчезали. Пришлось выбросить весь запас хлеба, уложенный для нас Цовик на дно лодки. Аслан швырнул в море полученную от его преосвященства в знак памяти «госпожу» из слоновой кости.
По глупости и я выбросил в воду деревянный ковш.
— Эх ты, дурья голова, — смеясь заметил лодочник.
Каждую минуту мы ждали, что вот-вот пойдем ко дну.
Но вот мы очутились между островом и береговым выступом.
— Ну, теперь опасность миновала, — молвил лодочник.
— Наоборот, — ответил Аслан, — теперь-то и грозит главная беда.
— Как так?
— Ветер дует с запада и гонит нас на восток к берегу, волны понесут лодку на прибрежные скалы и разобьют в щепы.
— Как бы не так… Я не допущу…
И он предложил добраться до острова вплавь.
— Я не намерен явиться в монастырь, как мокрая курица, — ответил Аслан.
— Иного выхода нет.
— Есть.
— Лодка через несколько минут вместе с нами разобьется о скалы…
— Но если будем плыть в этом направлении — не разобьется.
— Там водоворот…
— Он и спасет нас.
— Вы убеждены?
— Как дважды два четыре.
— Попробуем.
Теория и опыт вступили в соревнование. Аслан пришел к такому выводу, следя за направлением волн и ветра. Лодочник, основываясь на опыте, настаивал на противоположном — он вновь предложил оставить лодку и вплавь добраться до острова. Опасность была велика.
Лодочник замолчал, он не имел склонности к теоретическим спорам.
Вдруг он бросился в воду, держа в руках конец длинной бечевы, привязанной к лодке, и сразу погрузился в воду, как тяжелый якорь, который, опустившись на дно, удерживает судно в бушующем море.
«Он погиб», — подумал я, объятый страхом, но вскоре он показался на поверхности и поплыл к острову, таща за собой лодку.
Аслан опешил.
Сквозь туман я различал очертания острова, черные фигуры монахов, вздымавших руки к небу.
Несколько раз волны, с неимоверной силой устремляясь на лодку, готовы были унести нас, как перышко. Я инстинктивно схватился за жердь флага. Аслан рассмеялся.
— Не бойся, — сказал он, — остров близок!
— Усилия Берзен-оглы пропали даром, — вдруг перебил себя Аслан, и на его лице отразилось необычное для него волненье. — Бечева лопнула…
Что произошло после этого — я и по сию пору не могу ясно себе представить. Смутно помню лишь, что волны вновь разбушевались и я, словно во сне, почувствовал, что под ногами нет лодки, что я погрузился в воду. Волны бросали меня из стороны в сторону, я то опускался на дно, то всплывал на поверхность; какая-то невидимая сила поддерживала меня. Долго мы носились по водной стихии, но невидимая сила не отпускала меня.
И эта сила вынесла на берег меня полуживого, в бесчувственном состоянии. Это был не кто иной, как мой спаситель, мой друг Аслан! Когда я пришел в себя и раскрыл глаза, увидел подле себя монахов. Они воссылали хвалу творцу за наше спасение.
Глава 11.
ПУСТЫНЬ КТУЦ
Монахи привели нас в монастырь и предоставили нам самую удобную келью. Развели огонь. Мы обогрелись и стали сушить одежду у камина. Берзен-оглы остался на берегу, чтоб узнать о судьбе лодки. Аслан не сказал ему ничего, не запретил, как врач, идти в мокрой одежде к берегу моря, где буря продолжала свирепствовать, дул холодный, пронизывающий ветер. Да и едва ли Берзен-оглы послушался бы совета врача, когда погибала его любимица, его лодка!
Ветер проникал в комнату из отверстия камина, и маленькая келья была полна дыму… Я дрожал всем телом… Никогда огонь не был мне столь приятен, как сегодня.
Когда я порядочно обогрелся, первой моей заботой было узнать, при мне ли подаренный Цовик гребешок. К великой моей радости, я ощутил его за пазухой.
Аслан также направил свою руку за пазуху, но достал оттуда совершенно иную вещь, а именно рекомендательное письмо епархиального начальника, промокшее и измятое, и передал приставленному к нам монаху.
— Прошу отнести настоятелю монастыря бумагу его преосвященства; правда, буквы местами стерлись, но все же возможно понять, с какой целью я приехал в обитель.
При слове «епархиальный начальник» монах с особенным почтением взял бумагу, повернул ее несколько раз, попробовал прочесть и промолвил с видом человека, сделавшего открытие:
— Печать его преосвященства!
И тотчас вышел. Мы остались одни.
— Недурно было бы выпить чего-нибудь, чтоб отогреться… Хотя бы вина…
— А разве здесь водится вино?
— Вряд ли.
В это время вернулся монах и объявил, что отец игумен готов исполнить все наши желания. Аслан спросил про вино.
Монах смутился.
— Как будто немного вина и можно будет раздобыть, — промолвил он после долгого раздумья. — У отца настоятеля припрятано полбутылки для причастия.
Он подсел к нам и с особым сердечным сокрушением поведал о тех затруднениях, которые испытывают они, когда кончается вино для причастия… Но всегда на помощь отцу настоятелю приходит чудо. И рассказал нам один случай. Существует около Вана монастырь, прозываемый «Журавлиным». Как-то раз во время богослужения святой отец, служивший обедню, заметил, что вина в чаше нет. Не желая прерывать обедни, он обратился с мольбой к всевышнему, и вдруг, по божьему веленью, сквозь окно храма спустился с неба журавль с виноградной кистью в клюве и подлетел к алтарю; святой отец взял кисть, выжал ее в чашу. С той поры монастырь зовется «Журавлиным».
Мы, разумеется, отказались от вина, не желая ставить монахов в столь затруднительное положение: добывать вино с помощью птиц.
Впрочем, юный монах не это имел в виду, он хотел показать, что и он кое-что знает.
— У нас в обители, — добавил монах, — никаких напитков, кроме воды, не употребляют. Да и богомольцам запрещено приносить с собой вино.
Зазвонили к обедне.
По уставу всякий приезжий обязан выполнять монастырские правила, однако монах, в виду нашего злоключения, не потребовал от нас отправиться к обедне.
Он извинился и, уходя, обещал после литургии повести нас в трапезную.
Отведенная нам келья была, конечно, самой чистой и удобной во всем монастыре, но она скорее походила на темный курятник. На глиняном полу была постлана рогожа из болотных трав, а для особого почета сверху застлали куском старого ковра. Стены были из нетесаного камня: связующий их цемент с течением времени обветрился и вывалился, отчего образовались уродливой формы щели и впадины, служившие убежищем для насекомых и гадов.
Я страшился только скорпионов и змей.
Вместо них из расщелины выползла сероватая ящерица; она, видимо, привыкла к прежнему обитателю кельи и потому не избегала присутствия людей. Сделав несколько кругов по келье, она проползла между мной и Асланом, приподняла остроконечную головку и, убедившись, что это не ее любимец-монах, с недовольством уползла обратно в щель. По келье свободно бегали мыши. В монастыре не держали кошек, да и вообще никаких животных, даже кур, которые уничтожали бы насекомых.
В келье было темно. Два узких окна находились под самым потолком. Свет не достигал пола, такие окна можно встретить лишь в тюрьмах. Но там они умышленно устроены высоко, чтоб заключенные не могли убежать. Каково же их назначение здесь?
— Ты не понимаешь, почему окна так узки и высоко пробиты? Это сделано с целью, чтоб монахи не соблазнялись внешним миром и проводили жизнь в благочестивых духовных размышлениях. Ужасное самоотречение! Люди по доброй воле отказывались от созерцания прекрасного божьего мира, — в особенности здесь, в непосредственной близости чудесного моря, роскошных картин природы!
Все кельи в монастыре, а их было более ста, походили одна на другую. Двери открывались не наружу, откуда возможно было бы что-нибудь увидеть, а в извилистые, наподобие лабиринта, проходы, где даже средь бела дня нужно было ходить со свечой, чтобы не разбить головы. Здесь обитали ушедшие из мира отшельники. Но, как ни странно, многие из них находили могилоподобные кельи слишком удобными и уютными; они покидали их и выкапывали в скалах острова пещеры, где и селились, чтоб не иметь совершенно сношений с людьми. Среди них был и сам игумен, редко показывавшийся братии. О нем рассказывали много чудес.
Сегодня, по случаю нашего приезда, он спустился с горы из своей пещеры.
До приезда в пустынь я предполагал увидеть там чистые светлые комнаты, обращенные к морю залы с прохладными балконами, в кельях — все удобства для занятий, полные священных книг шкафы, стены, украшенные портретами святых отцов, потрудившихся ради веры и родины, — словом, я ожидал увидеть мирную, благовидную жизнь инока, который вдали от мирской суеты окружает себя предметами, пробуждающими возвышенные идеи, облагораживающими сердце, вселяющими человеколюбивые качества, высокие добродетели. Что же я увидел? Пустые, мрачные комнатушки, совершенно без мебели, лишенные света и воздуха. Бумага, чернила и книги были не в обиходе монастырского быта.
На подоконнике отведенной нам кельи лежал запыленный, изъеденный молью псалтырь в деревянном переплете, обтянутом кожей. К какой эпохе относилось издание этой книги? Это был единственный предмет в келье, привлекавший внимание. Ни одного шкафа, очевидно, в тех видах, чтобы лишенные собственности монахи не поддавались искушению дьявола и не обзаводились складочными местами.
— Среди армянского монашества, — сказал Аслан, — иноки, занимавшиеся умственным трудом, изучавшие вопросы христианского вероучения, писавшие свои труды, всегда составляли исключение. И прискорбно, что такие монахи подвергались гонениям со стороны своих же собратьев, считались недостойными членами братства. Вот в каких выражениях заявляет свой протест против религиозного направления своей эпохи Езник
[65], лучший из иноков пятого века: «Наши рты провоняли от постной пищи, наши языки притупились от пения псалмов, а любви и смирения, чего требует господь бог, у нас нет. Монахи не едят мясо, но безжалостно притесняют ближних; не пьют вина, но душу обагряют кровью; ненавидят женатых, а в помыслах творят прелюбодеяния; одевают худшую одежду, но сгорают от алчности. От таких людей следует убегать и не иметь с ними общения…»
— Эти фарисеи и лицемеры, о которых говорит Езник, — продолжал Аслан, — во все времена составляли большинство, они под маской благочестия развивали в себе самые гнусные страсти, Но самым губительным было непритворное соблюдение данного ими обета. Умерщвлять плоть, изнурять тело длительным постом и подвижничеством, чтоб сделать его неспособным к каким-либо влечениям — это не что иное, как своего рода духовное варварство. Ежедневно и ежечасно притуплять свой ум повторением одних и тех же молитв, чувствующее и мыслящее существо превращать в своего рода машину — разве это не умерщвление духа? Все это имело место в наших пýстынях, все это увидим мы и здесь. Подвижничеством они желали убить дурные влечения плоти, духа и сердца. Но когда тело, душа и сердце теряют способность к дурным стремлениям, тем самым они становятся неспособными и к возвышенным порывам. Человеческое существо превращается в живой труп, делается идиотом.
Рассуждения Аслана были прекрасны, но… мне хотелось есть. Холодная морская ванна возбудила сильный аппетит. Я не жалел ничего из вещей, выброшенных нами в море во время бури, вспоминал лишь белые лаваши и жареных цыплят, которых Цовик завернула в платок и уложила в лодку. С нетерпением ждал, когда нас позовут в трапезную. Когда придет монах? После обедни? Когда же кончится обедня? Уже было за полдень, а мы с раннего утра ничего не ели.
Буря не утихала. Ветер продолжал бешено реветь. Вошел лодочник, грустный и беспомощный, словно араб, потерявший в пустыне верблюда. Когда я стал утешать его, он ответил:
— Потеря лодки меня не так тревожит; я со страхом думаю о том, как проведу эту ночь.
— Почему?
— А вот увидите, как мы промучимся…
Он не объяснил, в чем будут заключаться наши мучения, а стал жаловаться, подобно мне, на голод.
— В таком случае, зачем выбросили жареных кур в озеро? — упрекнул я.
— А ты думаешь, нам удалось бы ими полакомиться? — сказал он, смотря мне прямо в глаза. — Здесь, брат, мяса не едят; паломникам запрещено приносить с собой мясную пищу, чтоб не вводить в соблазн святых отцов.
Невежественный лодочник протестовал против того же, против чего восставал монах Езник в V веке.
— Стало быть, здесь богомольцы не приносят в жертву баранов?
— Нет, на острове запрещено проливать кровь. Богомольцы режут баранов в «заозерном домике». Там режут, а здесь едят. Это бывает лишь раз в год, когда съезжается бесчисленное множество паломников.
Против острова на материке стоял домик, названный лодочником «заозёрным». Этот домик, принадлежавший пýстыни, находился на расстоянии одного часа пути по воде. Там находилось все хозяйство обители. Там работали, а в пýстыни только молились, жили в аскетизме и подвижничестве.
Наконец пришел инок и пригласил нас в трапезную… Посреди обширной комнаты, во всю ее длину, стоял каменный стол, а по обеим его сторонам тянулись длинные скамьи. Более ста человек могло уместиться на них. В богатых монастырях столы и скамьи изготовлялись из мрамора, здесь же они были сделаны из простого серого камня. В головах сидел игумен. Мы подошли, приложились к его руке. Это был монах, среднего роста, до времени состарившийся, с ласковым взглядом, добродушным лицом и слабым голосом. Он казался изнуренным, обессиленным, все в нем истерлось и облиняло, как его пришедшая в ветхость одежда. Игумен ласково усадил Аслана по правую, а меня по левую руку, лодочник сел рядом со мной. Игумен выразил соболезнование по поводу постигшего нас несчастья и возблагодарил всевышнего за счастливое спасение. На этом наша беседа оборвалась, ибо в трапезную молча и бесшумно, словно ночные привидения, вошли иноки и вытянулись в ряд по обеим сторонам стола. Сотворив молитву, каждый опустился на свое место.
Царило всеобщее молчание. Молчали и мы, следуя монастырским правилам. Перед каждым трапезником лежала медная луженая тарелка и деревянная ложка; на пять душ полагалось по одной большой деревянной солонке. На столе было много всякой зелени: свежего луку, ботвы и др. Все это съедалось с жадностью, напоминавшей пастьбу животных. Прислуживали иноки. Они подали только одно блюдо — приготовленный из пшена плов, слегка политый конопляным маслом — и поровну уделили каждому. Несмотря на мучивший меня голод, я не мог дотронуться до пищи. Хлеб был из ячменя с небольшой примесью пшеницы, он был не съедобен, куски шелухи застревали в глотке. На Востоке такими хлебцами кормят лишь верблюдов. Лодочник ел с большим аппетитом. Других напитков, кроме воды, не было. Все ели как-то лениво, медленно, но не потому что пища не удовлетворяла их: сегодня, в честь нашего приезда, был приготовлен праздничный обед, а это случалось в году лишь раза два или три. Они ели и, казалось мне, думали: «Почему человек нуждается в еде? Выло бы лучше, если б он был избавлен от этой излишней заботы, чтоб иметь больше времени предаваться молитвам и прославлению творца». И действительно, они ели только раз в день, да и то постную пищу, а по праздникам готовилась для них скоромная пища, но без мяса.
В трапезную в тот день, как потом объяснили нам, явилась к столу не вся братия. Вообще одни приходят обедать раз в два дня, другие — в неделю раз, есть и такие, что и совсем не приходят, а в своих скитах питаются одними лишь растениями. Мне стало понятно, почему мы среди несчастной братии монастырской не увидели ни одного здорового человека: все были хилы, болезненны, с высохшими, испитыми лицами. Ни один из них не имел ни огромного живота монаха-католика, ни его заплывшего жиром румяного лица.
В трапезной раздавался лишь монотонный голос монаха, в течение всего обеда читавшего наверху за решеткой жития святых. Все со вниманием слушали его. Но я не слушал, ибо не знал древнеармянского языка. Мое внимание привлекла медная посуда разнообразной формы и величины с надписями на армянском языке. Вероятно их принесли в дар монастырю паломники разных стран для избавления от грехов. На каждой были вырезаны имена жертвователя, его родителей и детей. Некоторые из них были очень красивы.
— Это образцы древнего искусства, — пояснил Аслан, — они могут послужить украшением любого музея.
Одежда иноков была однообразна — из грубого волоса, цвета жженного кофе: она служила не для защиты тела, а скорее для изнурения его; даже рубахи, надетые поверх голого тела, были сшиты из грубой шерсти и подобно пиле истязали плоть. На головах были шерстяные колпаки, повязанные черными платками. Такой головной убор — на языке пустынников «куситá» — был заимствован (как показывает само слово) еще в самые древние времена у сирийцев, когда духовенство последних играло большую роль в нашей церковной жизни. На ногах у всех — тяжелые чувяки на деревянной в три пальца толщиной подошве. Одежда игумена ни по цвету, ни по форме не отличалась от одеяния братии.
Все были невозможно грязны на вид: они до такой степени ненавидели свое тело, что не заботились даже об элементарной чистоплотности. Они никогда не мылись, казалось мне, даже не причесывались. Волосы и бороды у всех были всклокочены, и они походили на сумасшедших.
Обед как начался, так и закончился молитвой. Все поднялись, почтительно отвесили поклон игумену и тихо, не спеша, разошлись по кельям. Но и там они не знали покоя: надлежало искать утешения в чтении псалтыря до самой вечерней службы. Прогулки были запрещены.
Когда мы остались наедине, игумен обратился к Аслану:
— Я прочел бумагу его преосвященства, г. доктор. Цель поездки вашей весьма похвальна; я с большим удовольствием готов исполнить все, что пожелаете, если в нашем монастыре найдутся интересующие вас рукописи.
— Премного благодарен вам, отец игумен, за ваше добросердечное отношение; вы меня обяжете, если предоставите каталог рукописей. Я читаю по-армянски.
— У нас списка не имеется. Сколько раз собирались составить, но не нашлось времени.
Я чуть было не спросил: а чем же вы особенно заняты, что не имеете времени составить простой список?
— Тем не менее, отец игумен, мне очень хотелось бы познакомиться с имеющимися в монастыре книгами.
— Правда, — ответил игумен как бы сам себе, — когда-то в монастыре было много книг… Но сколько раз наш монастырь подвергался разорению… Все, что оставалось, унёс проклятый Ланктемур
[66]…
— Следовательно, ничего не осталось? — удивился Аслан.
— Всего несколько томов.
— Покажите мне их, святой отец.
— С удовольствием, г. доктор, пойдемте.
Мы вышли из трапезной. Игумен приказал принести ключи от церкви, где хранились книги.
— Но прежде я бы попросил вас показать мне монастырь. Мне, как европейцу, весьма желательно ознакомиться с устройством армянских монастырей.
Будь на месте игумена кто другой, он устыдился бы показать европейцу монастырь, где на всем лежала печать мертвечины, застоя и опустошения. Но монах с особым удовольствием принялся показывать, ибо жизнь монастыря заключалась именно в мертвенности и являлась «пýстынью» в буквальном смысле слова.
Игумен повел нас по кельям иноков. Тот же могильный тлен, убийственный мрак и сырость, как в нашей келье. Тот же псалтырь на окне, та же рогожа на полу и на ней кусочек старого ковра, на котором, как в кресле, восседали иноки. При виде нас они приподымались и, словно преступники, стояли, опустив головы. На их окаменевших лицах не двигался ни один мускул, а глаза словно застыли в орбитах. Нельзя было без жалости глядеть на этих несчастных. Во многих кельях вовсе не имелось печей, а постелей мы не увидели ни в одной. Подчеркивая именно эти факты, игумен указал на высокие качества своей братии.
— Даже в сильную зимнюю стужу иноки не топят печей; a постелями им служит собственная одежда. Я приучил их спать на голом полу.
В последних словах игумена прозвучала невинная хвастливость, вызванная чрезмерно строгим отношением к жизни.
— Они не болеют?
— Мои иноки редко болеют или умирают от болезней. Смерть приходит, когда сами просят и готовы принять её.
Но все же в одной келье мы увидели больного монаха. Беспомощный, одинокий, лежал он на холодном полу, закутавшись в свою одежду, и глухо стонал. Аслан предложил оказать медицинскую помощь.
Игумен запротестовал.
— Пусть страдания послужат ему искуплением…
В чем провинился несчастный, какое совершил прегрешение — игумен ничего не сказал об этом.
Осмотрев монастырские строения, мы вошли в церковь. В правой ризнице, где хранились древние рукописи, было темно, и игумен зажег свечу. На окне, в пыли и плесени, в страшном беспорядке были навалены книги; при виде подобного преступного отношения к трудам предков, Аслан не мог сдержать гнева.
— Я не думаю, чтоб даже Ланктемур так небрежно обращался с армянскими книгами. Если верить преданию, он увез их в Самарканд, приказал выстроить специально для них башню, где с особой рачительностью хранил привезенные книги.
Слова Аслана нисколько не задели игумена.
— В снег и дождь, г. доктор, вон там каплет, — отвечал спокойно игумен, указывая на отвалившийся потолок ризницы, — вот почему сырость. Когда мы заметили, что книги портятся, отобрали наиболее ценные и хранили их в безопасном месте.
— По всей вероятности, священные книги отобрали.
— Разумеется.
— А несвященные оставили на прежнем месте, чтоб продолжали гнить?
Игумен ничего не ответил. Вероятно, он был удивлен неуместным гневом доктора. Я помог Аслану разобраться в книгах. Игумен нехотя светил нам. Каковы же были, по его мнению, «несвященные книги»? Были обнаружены отборные экземпляры рукописей Хоренаци, Лазаря Парбского, Егише и Давида Непобедимого и ряда других выдающихся наших писателей, но все они были наполовину сгнившие и потрепанные; в целости был лишь один экземпляр Хоренаци, но и тот без первых и последних страниц.
— Лечебник нашли? — спросил игумен.
— Не встречал, — ответил Аслан.
— Один экземпляр, кажется, был, но не помню, кто взял.
— И хорошо поступил, что взял, а не то его постигла бы та же участь, — возразил Аслан.
С глубоким огорчением мы вышли из ризницы, где были свидетелями варварского отношения к культурным ценностям. Острова Ванского озера считались безопасными местами, и находившиеся на островах скиты с давних пор служили книгохранилищами. Невежественные же монахи превратили их в кладбища книг…
— А теперь, отец игумен, прошу показать ваши священные книги — несвященные видели…
Игумен смутился, не зная, как поступить. Аслан, поняв причину его нерешительности, успокоил его, заявив:
— Я только издали погляжу…
— Да благословит тебя господь, — произнес, запинаясь игумен, — вы понимаете, г. доктор, что светским лицам не разр…
— Не разрешается касаться священных книг, — докончил Аслан, — я понимаю вас, святой отец…
Когда мы вошли в одну из ризниц храма, где хранились монастырские ценности, игумен зажег две свечи, передал одну мне, другую Аслану. Потом он перекрестился, подошел к большому ящику из черного дерева и, прочитав молитву, открыл его. Откуда привезли этот ящик? В каком веке он был сделан? — никто ничего не знал об этом. Здесь хранились церковные святыни, кресты, святые мощи в золотой и серебряной оправе, драгоценные сосуды и среди них священные книги. Игумен достал большой узел, вынес из ризницы и положил на алтарь. Пропев шаракан, он достал какой-то предмет, обернутый во множество платков. Это было знаменитое «Красное евангелие» — так оно называлось, вероятно потому, что в его орнаменте преобладал яркокрасный цвет, Игумен стал раскрывать разноцветные платки из дорогого шелка; на некоторых были вытканы искусной женской рукой разнообразные рисунки и картины из священного писания. Богатые ванские «ходжа»
[67],
которые с давних пор растекались по всем странам света, отовсюду — с востока и запада — приносили эти драгоценные платки в дар св. евангелию.
Когда игумен раскрыл «Красное евангелие», Аслан и я не могли прийти в себя от изумления. Пергамент был тонок и гладок, как бумага лучшего качества, рисунки великолепны, буквы изящны. Каждая глава начиналась рисунком, идея которого была взята из содержания главы. Переплет — весь из серебра, украшенный драгоценными камнями и тонкой орнаментовкой.
С чувством глубокого благоговения мы приложились к Евангелию.
— Эта книга весьма ценна, как редкий образец армянской письменности и древнего искусства, — сказал мне Аслан, когда мы вышли из храма.
Я был оскорблен в своих чувствах. «Неужели возможно так относиться к святыне, — думал я, — и судить о ней лишь с точки зрения искусства». Игумен пригласил нас к себе в келью. Аслан пошел к нему, я остался на дворе. Подошел Берзен-оглы и повел меня показывать остров.
К полудню буря утихла. Волнение на озере почти улеглось, тучи рассеялись, и засияло солнце ярко, весело. Мы долго бродили по скалистому острову. Лодочник знакомил меня с местами, связанными с древнейшими преданиями. Кругом было совершенно голо, никакой растительности; кое-где желтел бессмертник и росли метельчатые растения. Монахи не удосужились посадить хотя бы несколько деревьев. Родников было много, и остров можно было превратить в рай. Даже о себе не подумали иноки: ведь многие питались только растениями.
Кругом ни одного живого существа; казалось, даже птицы покинули остров.
Мы заметили вдали полунагого человека со всклокоченными волосами и бородой. Он испуганно поглядел на нас и вдруг, закрыв руками глаза, пустился бежать прочь: вскоре он скрылся среди скал.
— Кто он? — спросил я.
— Отшельник, — ответил с благоговением Берзен-оглы.
Мы остановились.
— А почему он убежал?
— Отшельники не желают видеть лица грешных.
При виде подобных людей мной овладевает непонятная грусть, тоска, поэтому я поспешил вернуться в келью. Лодочник отправился бродить по берегу.
Аслан не возвращался. Почему он так засиделся у игумена? Не думаю, чтоб святой отец угощал его.
Вернулся он лишь через час. Почему он задержался, о чем они беседовали там, — ничего не рассказал мне Аслан, но я заметил, что он был крайне недоволен. Швырнув шляпу в сторону, он улегся на пол, бормоча: «От этих идиотов ничего путного не дождешься…»
Он закрыл глаза и замолчал. Мне показалось, что он спит. Не желая мешать ему, я вышел из кельи, присел у стены на камень и стал глядеть на озеро. Ко мне подошел приставленный к нам инок. Он был еще молод, но волосы его уже были тронуты сединой.
— Вы местный житель? — спросил я.
— Нет, я издалека, — ответил он с грустью.
— Откуда?
— Из Старого Нахичевана.
— Получаете письма от родных?
— Родные не знают, что я здесь.
— Как так?
— Я тайком убежал из дому.
— А что заставило вас покинуть родину?
— Наш домашний священник много рассказывал о скитах, об отшельниках. Я слушал его и столь увлекся жизнью пустынников, что решил покинуть грешный мир и удалиться в пýстынь.
Я вспомнил моего учителя, отца Тодика. Он также когда-то вскружил мне голову рассказами о чудотворстве пустынников.
— А вы не думаете хоть раз побывать на родине, повидать своих?
— Тот, кто вступает в обитель, не имеет права покидать острова. Здесь он старится, здесь и умирает.
Последние слова инока прозвучали грустью стосковавшейся души.
Я заговорил о другом.
— Скажите, существуют ли на острове отшельники-чудотворцы?
— Раньше были.
— А почему теперь их нет?
— И теперь есть, но они не желают творить чудес… Люди должны верить и без чудес, тогда их вера будет истинной верой.
И он долго говорил на эту тему.
Но я почти не слушал его. Чудный вечерний закат очаровал меня. Последние лучи заходящего солнца, как бы наперекор свирепой буре, нарушившей дневной покой, освещали берега озера ярким пурпуровым блеском. Вдали виднелись живописные холмы и долины древнего Агиовта. В давние времена здесь были удельные земли царевичей из дома Аршакидов. Наследник престола жил всегда при отце в Араратской области, а прочие царевичи отсылались сюда, в Агиовт, во избежание могущих возникнуть распрей из-за престола. На этих холмах среди мрачных ущелий юные царевичи развлекались соколиной охотой, нарушая покой пещерных зверей. А ныне по этим местам носятся на своих скакунах с копьем в руке сыновья курдских беков, преследующие оленей… Я видел Аргеш, город князей Каджберуни, с именем которого связано много прекрасных дней и много горестных бедствий. Персы, агаряне, греки в течение столетий проходили чрез сей злосчастный город и подвергали его варварскому опустошению, а чего не смогли доделать вандалы, довершило безжалостное море — затопило все окрестные места, оторвало Аргеш от материка и поглотило его в своей пучине. Роскошные дома, заселенные множеством людей, погрузились на дно морское.
Лучи заходящего солнца освещали лишь вершину цитадели, возвышавшуюся словно клинообразный остров над лоном вод. Море со дня на день грозило поглотить последние остатки города князей Каджберуни и стереть последние воспоминания о нем…
Позвонили к вечерне. Инок пригласил в церковь. Но меня в эту минуту позвал Аслан.
Он по-прежнему лежал на полу.
— Что с тобой? — спросил я.
— Ничего, немного нездоровится, — ответил он и повернулся на другой бок.
— Вероятно простудились: слишком уж долго оставались в мокрой одежде.
Он ничего не возразил, только попросил открыть окна. Воздух в келье был спертый и стеснял дыхание. Но как открыть окна? Они находились слишком высоко. Я нашел какую-то подставку и поднялся. На окнах стекол не было; к рамам были прибиты гвоздичками темножелтые, исписанные листы бумаги; я сорвал их.
— Да это пергамент! Недостающие страницы в книге Мовсеса Хоренаци, которую мы видели в ризнице, — с негодованием промолвил Аслан.
Ночью ему стало хуже. Разболелась голова. Он жаловался на жажду, но свежей воды невозможно было найти здесь. Вода из озера и колодцев отдавала горечью. Чистую питьевую воду монахи вообще получали из снега, который зимой собирали в ледниках. Но в этом году водой не удосужились запастись. Был и водоем, куда стекала дождевая вода. Но водоем развалился, и вода в нем не держалась.
И с этим можно было бы примириться, если б только нам дали возможность вздремнуть. В течение целой ночи не давали покоя; то и дело приходил звонарь и тяжелой палицей троекратно колотил двери всех келий, в том числе и нашей, приговаривая: «Пожалуйте в церковь».
Помимо назначенного по канону ежедневного богослужения, отправляемого всей братией вкýпе, в церкви пустынников, которые принадлежали к особой категории монахов, совершались молитвы и службы днем и ночью без перерыва. Вся братия делилась на несколько групп, одна группа сменяла другую. А в ту ночь была суббота, и братия совершала бдение в полном составе всю ночь до рассвета.
В старое время таких иноков называли «неупокойными», а монастырь «неупокойным» или «неусыпаемым». Какой же покой мы могли иметь среди неупокойных?
После утренней службы мы отправились в келью настоятеля приложиться к его руке и проститься с ним. Он писал и принял нас довольно приветливо. Мы не задержались, поблагодарили его и попрощались.
Обычно в монастырях иноки, в надежде на подачку, крайне вежливы с посетителями и зачастую не прочь и польстить им. Но здесь, оторванные от мира пустынники-бессребреники, наоборот, чуждались людей, избегали общения с греховным миром. Подобная отчужденность доходила до человеконенавистничества. Мужчины в монастырь допускались лишь взрослые, а женскому полу доступ был строго-настрого воспрещен. Мы в последний раз взглянули на «неусыпаемую» обитель и удалились.
— Как тебе понравился монастырь? — спросил я Аслана.
— Пустыннический фанатизм и отшельническая жизнь исковеркали наши монастырские порядки, которые в свое время отличались человеколюбием. Благодаря отцам-пустынникам изуродовалась и прекрасная армянская архитектура, издавна сохранявшаяся преимущественно в монастырских зданиях. Любя бедность, скромную жизнь и лишения, отшельники довольствовались невзрачными кельями и аскетическим образом жизни; но умерщвляя плоть, они умертвили и искусство. Взгляните на эти жалкие строения, на эту печальную пýстынь!..
На берегу озера мы застали Бердзена-оглы и приставленного к нам монаха. Мы сели в простую монастырскую лодку и часа через два подплыли к «заозерному домику», который находился к северо-востоку от острова. Находящиеся на Ванском озере острова Лим и Ахтамар, где существуют обители отшельников, имеют также свои «заозерные домики». Здесь сосредоточено все хозяйство монастыря, здесь же проживают и рабочие, возделывающие обширные монастырские поля, здесь же пасутся многочисленные стада монастырские, — словом, здесь находится все монастырское богатство. В «заозерном домике» монахи не сторонятся женского пола. Женщины пекут хлеб для рабочих, доят овец, готовят сыр, масло, прядут шерсть, шьют одежду для св. отцов. Словом — здесь все кипит жизнью, а там, на острове, только молятся.
Нас принял эконом — веселый и разговорчивый монах. Он пригласил нас в комнату.
— Пожалуйте ко мне, подзакусите. Знаю, вас там изморили голодом.
С первого же взгляда монах показался нам настолько симпатичным, что мы не могли отказаться от приглашения. Он привел нас в комнату, которая в сравнении с монастырскими кельями могла считаться довольно сносной. Какая огромная разница между монахом, общающимся с людьми, и монахом, оторванным от жизни! Он угостил нас прекрасным завтраком из сливок, масла, меда, кислого молока и белого хлеба. Даже поднес нам по стаканчику водки, но сам не выпил.
Наше внимание привлекла группа молодых людей, обучавшихся в смежной комнате под надзором строгого мрачного инока. Это была своего рода школа, где подготовляли юношей для поступления в монастырь. Молодые люди обязаны были пройти в течение нескольких лет чрез все виды искуса: пост, воздержание от пищи, бессонные ночи, беспрекословное повиновение, постоянные молитвы, жизнь в мрачных и сырых кельях — словом, полное самоотречение от всех жизненных благ. Причем, они должны были достичь определенного возраста и отпустить себе бороды; безбородых юнцов не принимали в обитель. При виде бледных, изможденных юношей, у меня защемило сердце. «Невинные жертвы, — подумал я, — какой дьявол соблазнил вас бежать от жизни и прийти сюда? Неужели так уж плох наш белый свет…»
Мастер Фанос заблаговременно позаботился о нас и выслал сюда наших лошадей. Мы не стали задерживаться и приказали седлать коней. Бердзен-оглы узнал, что его лодку разбило о прибрежные скалы, он опечалился, словно потерял возлюбленную.
— За лодку я заплачу вам, — сказал на расставание Аслан.
Бердзен-оглы остался там, он должен был пешком добраться до Аванца. Мы сели на лошадей и направились в Айгестан. По дороге я рассказал Аслану во всех подробностях о загадочном случае, происшедшем прошлой ночью в доме лодочника.
Аслан со вниманием выслушал и заявил:
— Этот Бердзен-оглы когда-то был морским разбойником… Но все же он честный человек…
Глава 12.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПУСТЫНИ
По дороге Аслан сообщил несколько интересных данных о прошлом монастыря Ктуц. Его рассказы сильно увлекли меня. Я стал обвинять себя в том, что напрасно потратил самые драгоценные годы моей юности; я мог бы многому научиться, чтоб разбираться в окружающих явлениях, критически относиться к ним.
Он сказал, что в давние времена пустынь Ктуц была соединена с сушей, потом морские волны оторвали ее от материка и превратили в остров. Аслан указал на узкий мыс, вдававшийся в море наподобие изогнутой журавлиной шеи. Некогда здесь стояла кумирня идолопоклонников, поэтому мыс до сей поры называется «Кумирней». Против головной части мыса лежит остров, прозванный Ктуц
[68] потому, что очень похож на клюв, отсеченный от журавлиной головы. На мой вопрос, отчего он оторвался от материка, Аслан ответил, что в течение веков вода в озере постепенно поднималась и затопляла свои берега. Прибрежные города, известные в истории местности и сооружения, остались под водой или превратились в острова. Он привел в пример крепость Аргеш, которая в настоящее время со всех сторон омывается водою, виднеется лишь небольшая часть ее.
Я поблагодарил Аслана и попросил объяснить, как развилась среди армян пустынническая жизнь, почему люди покинули мир и уединились в глуши. Об этом Аслан рассказал мне много интересных историй; я передам лишь те, которые касаются виденной нами пустыни Ктуц и находящихся на Ванском озере еще двух других монастырей: Лим и Ахтамар.
Надобно выяснить, что такое монастырь и что такое пýстынь. В древности армянские монастыри являлись особого рода духовно благотворительными учреждениями. Они служили богадельнями, больницами или лепрозориями, школами, пристанищами для путников. В наиболее труднопроходимых местах нашей горной страны они, в период зимних вьюг и метелей, служили убежищем для чужеземцев и странников. Но с течением времени монастыри стали постепенно отклоняться от своих человеколюбивых целей и, в конце концов, превратились в учреждения, не приносящие никакой пользы.
В соответствии с поставленными целями монастыри сооружались в таких местах, откуда легче было общаться с людьми, с внешним миром.
Не так обстояло дело с пýстынями. Пýстынь порывала все связи с жизнью, с внешним миром, и с этой целью выбирала самые глухие места. Отшельники уходили в глубь непроходимых лесов, в недоступные пещеры, в глубокие ущелья, на необитаемые острова.
Пýстынь иначе зовется — скит, а монастырь — стоянка. В этих понятиях содержится громадная разница.
Пýстынь — умирание в жизни, ее назначение — умертвить все внешние проявления человеческого существа, его плоти, чтоб воскресить его внутреннюю сущность — душу.
По откуда явилось это полное самоотречение, добровольное самоотстранение от жизни и мира?
Пýстынь — результат горестной участи страны. Когда жизнь не обеспечена и подвержена постоянным опасностям, она становится столь невыносимой, что людьми овладевает отчаяние. Они удаляются в пýстынь, где пытаются найти успокоение, если не физическое, то, по крайней мере, душевное. Постоянные невзгоды бросают человека в мир фантастических иллюзий. Будучи не в состоянии понять причины окружающих тягостных явлений, не будучи в силах бороться с ними и победить, человек теряет бодрость, впадает в уныние и начинает искать спасение и успокоение в тиши отшельнической жизни.
Постоянные несчастья и страданья влияют не только на людей слабохарактерных, но и на людей сильной воли.
Св. Григорий Просветитель начал ожесточенную борьбу с языческим невежеством и темнотой, с грубостью нравов народа и нахараров, но подвергся жестоким гонениям, перенес тяжкие испытания. Он не смог довести до желанного конца начатой борьбы — впал в уныние, покинул патриарший престол и, удалившись в пещеру на горе Сепух, предался отшельнической жизни; здесь же и окончил в неизвестности последние свои дни. Его могучий соратник, царь Трдат, разделил с ним ту же участь. Он также покинул страну, царский трон, удалился в горы, предался отшельнической жизни. Последующие просветители Армении, Саак Партев и Месроп, долго борются со множеством самых тяжелых препятствий и энергично двигают вперед свое великое дело. Но в дальнейшем, под бременем ряда потрясающих обстоятельств, и они покидают мир и удаляются в скит…
Можно было бы привести множество примеров из нашей истории, но и этих достаточно.
Отмеченные явления имели место в нашей истории не только в отношении отдельных лиц, но и целых монастырских братств. Убегая от преследований, будучи не в состоянии бороться с ударами, переделать существовавшие в миру дурные порядки, они впадали в отчаяние и предавались подвижничеству. В этом и следует искать объяснения того исторического факта, что возникновение пýстынь, по большей части, являлось прямым следствием целого ряда предшествовавших потрясений.
С целью наилучшего освещения затронутого явления возьмем эпоху нам более близкую, когда возникла пýстынь Ктуц.
В конце XVI века впервые появляется Шах-Абас старший, а в начале XVII века (в 1603 году) совершается его сокрушительное вторжение в Армению. Наша страна становится ареной резни и кровопролития. Османы и персы превращают весь край в груду развалин. Из Араратской области Шах-Абас уводит многочисленных пленных в Исфагань, и многолюдный край совершенно пустеет. Варварский погром, учиненный персами и османами, завершают разбойничьи шайки, называвшие себя Джалали. В это же время появляются Кёр-оглы и Гзир-оглы. Наступает голод и чума; они косят уцелевших от меча и плена жителей. Трупами покрывается страна. Хищники, поедая трупы людей, становятся до такой степени дерзкими, что смело врываются в жилища и из рук матерей хватают младенцев.
Вслед за тем страну постигают стихийные бедствия. В 1641 году произошло страшное землетрясение в Атрпатакане. Под развалинами погиб богатейший город Тавриз с величественными строениями, с роскошным дворцом персидских царей Шамказаном.
Ровно через пять лет — землетрясение в Васпуракане. Земля колебалась целых семь дней: обрушилась находившаяся около монастыря Огвоц гора Абегнер; завалив громадное ущелье, она изменила течение протекавшей здесь реки. Город Ван превратился в груды развалин; пали грозные башни крепости Шамирам. Разрушились полностью или наполовину следующие монастыри и храмы в окрестностях Вана: Верхний и Нижний Вараг, храм отшельника Тодика, монастыри Салнапат, Шушан, Гурубаш, Огвоц, Еремир, Срху, Бердак, Кендананиц, Крунк, Ангуснер, Алер, Аршак и находившиеся в самом г. Ване церкви: св. Креста, Богородицы, св. Сион, храм св. Знамения. Разрушительные силы природы, с одной стороны, жестокости и зверства тиранов — с другой, да еще голод, чума, — эти катастрофические испытания, против которых бессилен человек, естественно, ввергают его в состояние растерянности и безысходности. Жизнь и весь свет становятся для него морем слез и горя. Чтоб избавиться от этих мук, человек начинает возлагать все упования на бога, ищет спокойствия в загробной жизни. Он уверен, что наступает конец мира и торопится покинуть его. Отсюда возникает чувство полного самоотречения и стремление к уединению, к пустыннической жизни.
И, действительно, в годы тяжелых невзгод, когда стихийные бедствия, объединившись с лютым врагом, опустошали страну, в это время возникали в огромном количестве пустыни, скиты, которые быстро наполнялись ушедшими от жизни отшельниками.
Когда еще догорали превращенные в пепел османами и персами армянские села, а бежавшие в горы и ущелья поселяне не знали, где преклонить голову, когда жители городов, во избежание пленения, покидали дома и скрывались в пещерах неприступных гор, — в эти дни ужаса и тревог на левом берегу реки Варош, против деревни Плидзор, была заложена знаменитая Сюнийская пýстынь, в трех часах ходьбы от монастыря Татев. Она зовется еще Аранцская пýстынь.
Основателем великой Сюнийской пýстыни был епископ Саркис (1610 г.), настоятель Сагмосаванка. Он покинул монастырь и принял обет схимника после того, как в одной из пещер горы Арагац увидел отшельника с воздетыми к небу руками, неподвижно, как каменное изваяние, стоявшего на коленях: отшельник был мертв; неизвестно, с каких пор он застыл в пещере в нетленном виде. Епископ Саркис тут же дал обет покинуть мир и предаться подвижнической жизни. Соратником его был тер Саркис Трапезундский, опытный и образованный пастырь: после смерти жены он роздал свое богатство бедным и удалился в пýстынь.
Великая Сюнийская пýстынь стала называться монастырем Танаат, по имени того прославленного монастыря Танаат, который некогда был известен в Вайоцдзоре своим суровым аскетизмом. Монахи этого монастыря ненавидели, гнушались есть всякого рода горячую жидкую пищу — вот почему их прозвали «Танатяц»
[69]. Питаясь сухим хлебом и водою, лишь в праздники разрешали себе употребление небольшого количества растительного масла, но мяса и вина — никогда!
Великая Сюнийская пýстынь восстановила былые религиозные правила и порядки, нарушенные вследствие неблагоприятных политических условий. Одновременно было внесено новое вредное клерикальное направление, столь чуждое духу армянской церкви, а именно: всякий член братства отрекался от своего «я» и целиком отдавал себя в распоряжение настоятеля: ежедневно, утром и вечером, он обязан был каяться пред игуменом в своих грехах и помыслах; отрекался от всякой собственности, все принадлежало братии и т. д. Не буду рассказывать о формах религиозного культа и подвижничества, о строгости монастырского устава и о невыносимой одежде, посредством которых иноки истязали, изнашивали себя.
За короткое время пýстынь превратилась в мощную организацию, приобрела громадную известность: сюда стали стекаться известные монахи; пустынь стала центром, школой, откуда выходили обученные иноки и, расходясь во все концы нашей страны, основывали новые пустыни на тех же началах и по тому же уставу. Назовем лишь некоторых из них.
Из великой Сюнийской обители вышел иеромонах Погос-чудотворец, который, как новый апостол, обходил страну из края в край со своими учениками, проповедовал учение Христа, убеждал строить храмы, монастыри, обители и всюду утверждал духовные братства.
Еще не успела просохнуть пролитая османами и персами кровь, еще полчища Шах-Абаса находились в Карабахе, в местности Котуклу, как сей рьяный проповедник отправился в лагерь Шах-Абаса, предстал пред ним и, низко кланяясь владыке, выпрашивал разрешения строить монастыри и обители. Шах-Абас отнесся милостиво к его просьбам и велел тут же написать грамоту. Хорошо знал шах слабые стороны армян: не трогай лишь их церквей и монастырей — и они отдадут врагу всё: и свою землю и самих себя. И с царской грамотой Погос стал обходить всю страну: побывал в Персии, где обновил Тавризский храм, оттуда прошел в область Гохтан, чудом открыл давно запертые двери монастыря апостола Фомы и учредил там духовное братство. Затем отправился в Астапат, основал монастырь во имя первомученика Стефана и другие храмы. Его энергия и симпатии, какими он пользовался среди суеверных почитателей, возбудили зависть католикоса Меликсета; последний заявил протест царскому наместнику Амиргуну, пребывавшему в Ереване, и потребовал, чтоб Погосу было запрещено учреждать святые места. После долгих пререканий с трудом удалось обуздать фанатика-чудотворца.
Из великой Сюнийской обители вышел иеромонах Аристакес Баргушатский, основавший пýстынь Тандзапарах.
Из великой Сюнийской обители вышел епископ Давид Шамхорский, основавший в Шамхорском же ущелье пустынь Чарекагет и братство схимников-«бессребреников».
Из великой Сюнийской обители вышел Карапет, епископ Вагаршапатский, основавший монастырь на острове Севан.
Из великой Сюнийской обители вышел Томас, епископ Татевский, и тер Киракос Трапезундский, основавшие пýстынь в Кштахе, в деревне Гочанц.
Из великой Сюнийской обители вышел знаменитый Мовсес, епископ Сюнийский, основавший в городе Ереване пустынь апостола Анании, впоследствии, став католикосом, он реставрировал превращенный в развалины Эчмиадзин.
Из великой Сюнийской обители вышел Филипп, иеромонах Агбакский, избранный после Мовсеса католикосом. Подобно своему предшественнику, он многое реставрировал, построил прекрасную колокольню в Эчмиадзине, восстановил монастыри св. Гаяне и Рипсиме, храм в деревне Ошакан, усыпальницу св. Месропа и церковь пресвятой Богородицы в селе Биджни.
При упомянутом католикосе Мовсесе и, особенно, при Филиппе было построено и восстановлено множество монастырей и церквей. Иеромонах Акоп Джульфинский, избранный католикосом после Филиппа, обновил монастырь во имя Стефана-первомученика в Дарашамбе. Иеромонах Исай Мегрийский (ученик католикоса Мовсеса) восстановил монастырь св. Карапета в Ернджане. Иеромонах Захарий Вагаршапатский (также ученик католикоса Мовсеса) обновил монастырь св. Огана у подножья горы Арагац. Епископ Мкртыч обновил монастырь апостола Фаддея в области Артаз. Епископ Мартирос восстановил монастырь св. Георгия в селе Мугни возле Карби у подножья Арагаца. Иеромонах Воскан Ереванский восстановил монастырь св. Георгия Победоносца в деревне Уши, возле того же Карби у подножья Арагаца. Не говорю о множестве других монастырей, вновь построенных или восстановленных в различных местностях. И все это созидалось во время нашествия или вслед за нашествием Шах-Абаса.
Упомянутые католикосы Мовсес и Филипп занимают блестящее место в истории армянской церкви после смутного и губительного периода пяти их предшественников, беспрестанно враждовавших меж собою. Католикос Аракел еще был жив, когда был рукоположен католикосом Давид, затем Мелкиседек, затем Срапион, затем племянник Мелкиседека Саак — и, таким образом, патриарший престол в Эчмиадзине был яблоком раздора пяти католикосов. Подкупами и взятками попеременно вырывали они друг у друга власть. Эчмиадзин погрязал в долгах, и все святыни были отданы в заклад магометанам. Тяжелое положение длилось целых сорок лет. И это происходило в то время, когда Армения залита была потоками крови, а Шах-Абас уводил пленных армян в Исфагань…
Несколько слов о пýстынях Лим и Ктуц.
Из великой Сюнийской обители вышел также Нерсес Мокский. В 1622 году, то есть через 16 лет после пленения страны Шах-Абасом, иеромонах Нерсес пришел в Васпуракан, восстановил разрушенный монастырь в Лиме, организовал братство пустынников на тех же началах, что и в Сюнийской великой обители. В течение нескольких лет число иноков настолько возросло, что остров Лим был не в состоянии вместить всех; часть из них переселилась на остров Ктуц и основала там новую пýстынь; конечно, монахи оставались верными своему обету, придерживались устава своего братства. Вот эту-то пýстынь мы и посетили, историю возникновения этой пýстыни обещал я рассказать.
Хотя великая Сюнийская обитель дала двух знаменитых католикосов, Мовсеса и Филиппа, однако ее узко клерикальная устремленность могла причинить много бед и несчастий, если б сама природа не положила предел фанатизму пýстынников. В 1658 году, во время сильного землетрясения, оторвало большую часть нагорья, на котором стоял монастырь. Огромная скала, расколовшись на части, низверглась в глубокое ущелье, где протекала река Воротн. Она запрудила течение реки, в ущелье образовалось большое озеро; впоследствии вода пробила новое русло.
Но как ни странно, часть скалы, на которой стоял монастырь, сползая с огромной высоты к берегу реки, осталась в целости и сохранила на себе обитель. В таком виде пребывает она по сегодняшний день. Это явление, правда, было сочтено великим чудом, но члены братства все же покинули обитель и разошлись кто куда. Таким образом, великая Сюнийская обитель просуществовала 45 лет с лишком, но за это короткое время велики были содеянные ею дела. Как мы показали выше, она вызвала к жизни множество монастырей и пýстынь с теми же порядками и правилами…
Из моего краткого обзора явствует, что пýстынь появляется в результате тяжелого народного бедствия, порождающего в людях состояние полнейшей безнадежности. Неудовлетворенный жизнью в миру, недовольный миром, человек начинает ненавидеть мир. Но, так как сам является частицей этого мира, то он ненавидит и себя самого. Отсюда происходит то духовное самоуничтожение, которое на языке церковников зовется схимничеством, подвижничеством, истязанием плоти. Это чувство самоумерщвления пустынник получает извне, из мира и, развивши его во мраке келий, вновь возвращает в мир. Отношения здесь двусторонние. Это и является причиной пагубного влияния пýстыни на окрестное население, в особенности, если народ находится на низкой ступени развития. Гибнет энергия, стремление к деятельности, к труду, пропадает бодрость и жизнерадостность. Пýстынь, со всем окрестным населением превращается в обширную мертвую пустыню… Исходя из этой точки зрения, по количеству имеющихся в стране пýстынь, можно смело судить как о степени умственного развития народа, так и о его дееспособности. Имея в виду, что мое повествование ограничено узким кругом одной из значительных областей Армении — Васпураканом, в подтверждение моей мысли я приведу цифровые данные о количестве монастырей и пýстыней этой области; роковая цифра вскроет причину той тяжелой, смертельной болезни, которая послужила причиной падения цветущего края.
Васпуракан являлся достоянием нахараров рода Арцруни. В начале десятого века нахарары Арцруни стали столь могущественны, что один из них, Гагик, отложился от царства Багратидов и изменническим путем получил от арабского востикана
[70] Юсуфа царскую корону. Основанное им злополучное царство просуществовало около 100 с лишним лет и имело всего шесть царей. Последний из них, Сенекерим, претерпев жестокие удары тех же арабов, а затем турок, в 1021 году добровольно вручил свое царство греческому императору Василию, взамен он получил город Себастию с уездами. С 14.000 всадников, лишенный престола, царь переехал на жительство в новую страну, а Васпуракан стал греческой областью.
Все, что вручил Сенекерим грекам по списку составляло: 10 городов, 72 крепости и 4 400 деревень. Не уступил он грекам лишь монастырей и пýстыней, так как они являлись достоянием бога и народа. Число монастырей доходило до 900, из них 115 обширных обителей. Сравните: государство для защиты границ имело лишь 72 крепости, а для молитвы — 900 монастырей со множеством церковников, проповедовавших
суетность мира!..
Васпуракан оставался в руках греков лишь 107 лет. Впоследствии Васпураканом завладел эмир Миран и назвал себя Шах-Арменом, то-есть армянским царем.
Глава 13.
ВОЛШЕБНЫЙ ЖЕЗЛ
Было уже за полдень, когда мы вернулись в Айгестан. Улицы почти пустовали: томительный зной загнал людей в сады.
Проехав под сенью тенистых ив и тополей, мы свернули в улицу, где находился дом мастера Фаноса. Там стоял невообразимый гомон. В тучах пыли кричали, визжали, шныряли ребятишки. Подъехав ближе, мы заметили, что они гнались за убегавшей старухой. Порой она останавливалась и грозила им, тогда останавливались и дети, слушали ее; когда же старуха продолжала идти, маленькие сорванцы вновь подымали визг и, окружив ее со всех сторон, гнались за нею, бросали в нее камнями. С ней была маленькая девочка. Я тотчас узнал Гюбби.
Но сон ли это? Или зной и усталость до такой степени возбудили мое воображение, что мне представляются призрачные видения? Откуда взялась Гюбби? А эта старуха, не отстающая от нее, — неужели Сусанна? Да, да, она и есть!
— Гюбби! Сусанна! — закричал я с удивлением.
— Да, это они, — промолвил Аслан, в его голосе прозвучала радость и, вместе с тем, глубокая тревога.
Видно он не менее был удивлен неожиданным появлением их в Айгестане.
Мы погнали лошадей. Дети, среди которых были и подростки, продолжали преследовать старуху. Я смекнул, почему они гонятся за ней. В детстве я тоже бегал за цыганками, когда они проходили через нашу деревню, тайком подбегал и щипал их; я и мои товарищи были уверены, что тело цыганки обладает волшебной силой: если их ущипнем, эта сила передается нам, руки наши станут неуязвимыми, удачливыми в бою, и никакое оружие, никакие удары не будут для нас опасны.
Наше появление ничуть не подействовало на шалунов, наоборот, оно, как будто, приободрило их, и они решили сообща напасть на старуху. В это время мы увидали трогательную картину. Маленькая Гюбби остановилась, повернула гневное лицо в сторону ребят и, подняв свою легкую палочку, крикнула:
— Прокляну, всех в камень превращу!..
Я не мог без ужаса смотреть на ее гневно сверкавшие, пламенные глаза. Угроза маленькой колдуньи была настолько грозна, что дети, хотя и не превратились в камень, но застыли на месте; шум утих, спустя несколько минут все разбежались.
Завидев нас, старуха затоварила с Гюбби на непонятном мне языке. Девочка подошла к Аслану.
— Барин, купи мой маленький жезл, он обладает волшебной силой, — промолвила Гюбби с привычной для нее нежной улыбкой.
— Но ты лишишься оружия, маленькая колдунья, — сказал Аслан также улыбаясь.
— Я себе другое сделаю. И это мною приготовлено.
Аслан взял палочку и подарил девочке один золотой. Маленькая колдунья поблагодарила и удалилась. Мы поехали мимо, не показав виду, что знаем их. Старуха и девочка поступили также.
У ворот дома мы застали мастера Фаноса: он вернулся за несколько часов до нас. По-видимому, лодочник успел ему рассказать о приключениях на озере и в обители.
— Слышал, что вы порядком-таки промокли, — рассмеялся он.
— Монахи нас обсушили, — улыбнулся Аслан.
Мастер вызвал учеников и приказал отвести на конюшню лошадей. Мы вошли в дом.
Фанос стал расспрашивать о монастыре, о том, какое впечатление произвели на Аслана монахи, о монастырских порядках, об их жизни.
Но я не слушал их. У меня не выходили из головы Сусанна и Гюбби. Видно, и на Аслана их внезапное появление произвело тяжелое впечатление: на вопросы Фаноса он отвечал коротко и нехотя, желая поскорей прекратить разговор, чтоб наедине поразмыслить о Сусанне и маленькой Гюбби. Несомненно, что произошло нечто важное, очень радостное или слишком горестное. Эта тайна угнетала и меня, и Аслана. Сусанна ничего не говорила Аслану. Быть может, они обменялись знаками иль намеками, а я, занятый маленькой Гюбби, не заметил этого? Конечно, старуха с девочкой не скоро покинут район нашего дома, и нам удастся еще повидаться с ними. Но куда они ушли? Передав таинственный жезл Аслану, они поспешили скрыться по узкой улочке, ведущей к кладбищу. Быть может, они там и живут, среди покойников? Живые не дадут этим несчастным пристанища, гнушаются цыган…
Но как обрадовалась Гюбби, увидя нас! Я не мог забыть ее милой улыбки на смуглом, загоревшем лице. Почему она была так плохо одета? Где ее пестрое платьице, в котором я встретил ее в праздник богородицы? Бедная девочка! Как тяжело отразилась на ней скитальческая жизнь. Одежда совершенно износилась, обтрепались и лапотки на босых ногах. Без сомненья, они шли издалека.
Старуха на этот раз показалась мне более строгой и даже сердитой. Ведь не могли же шалуны так возмутить ее. Тут, наверное, кроется иная причина. Я знал ее всегда грустной, даже скорбной, но гневной — никогда… У нее на сердце, должно быть, гнетущее горе, горькая обида, которая терзала ее. Еще с того дня, как я увидел ее на арабском минарете среди развалин, она произвела на меня очень тяжелое впечатление: я сочувствовал ей, готов был разделить ее горести, если б она открыла тайны сердца. Что ее угнетало? Почему она вела бродячую жизнь и, как тень, неотступно следовала за Асланом и его друзьями?
Мы разгуливали по саду. Мастер Фанос всё расспрашивал о монастыре, о пустынниках, Аслан не сводил глаз с волшебной палочки, походившей на черную змею; из-под черной краски ясно выделялись голова, глаза, рот и язык. Едва ли Гюбби сама сделала такую красивую вещицу.
— Что это такое? — спросил Фанос, заинтересовавшись палочкой. — Верно, жезл пророка Моисея… Не монахи ли поднесли вам?
— Нет, я купил ее у какой-то цыганочки.
— У той, что ходит со старухой?
— Да, у нее.
— Странная девочка! Полчаса назад она была у нас во дворе. Соседки окружили ее, и она гадала нм. Удивительно находчивая девочка…
— А вам она гадала?
— Я попросил погадать, она посмотрела на меня и сказала: «Вы недоверчиво относитесь к дочери духов — она не может погадать!» — Она называла себя дочерью духов!
— Вы действительно не верите гаданиям?
— Ну, конечно. Но удивительно, откуда она узнала, что я не верю?
Мастера Фаноса позвали в мастерскую. Мы отправились в отведенную нам комнату. Аслан запер за собою дверь, подошел к окну и стал рассматривать внимательно волшебную палочку. Затем он осторожно нажал головку змеи, головка легко отделилась, и Аслан вытащил из середины длинную свернутую бумажку, покрытую сверху донизу условными знаками, похожими на те таинственные письмена, которые женщины покупают у ворожей, прячут их в маленькие серебряные трубочки и вешают себе на шею, а мужчины вкладывают в посохи перед отправлением в далекий путь.
По-видимому, вложенная в волшебную палочку бумажка Гюбби не обещала ничего хорошего: прочитав ее, Аслан совершенно переменился в лице, побледнел и сейчас же сжёг на огне.
— Нас предали, — промолвил он взволнованно.
Я перепугался. Аслан успокоил меня:
— Не бойся, я ждал этого.
— Необходимо, насколько возможно, скорее убраться отсюда, — сказал я.
— Ни в коем случае, — возразил Аслан. — Наше исчезновение возбудит еще больше подозрений.
— Но нас могут арестовать?
— Не думаю. Необходимо только сегодня же повидаться с одним лицом.
Первый случай, когда Аслан сообщил мне тайну: вероятно с целью, чтоб я был осторожней. Мастеру Фаносу он не сказал ни слова. По-видимому, эти люди осведомляли знакомых и даже друзей лишь в той мере, в какой необходимо было, всё остальное хранили в тайне.
В тот день Аслан не выходил из дому, уединившись в своей комнате, он писал. Не желая ему мешать, я отправился в сад, растянулся на зеленой травке под сливовым деревом и заснул. Проснувшись, я вернулся в комнату. Аслан только что кончил писать.
Вечером он спросил мастера Фаноса:
— У вас в городе, кажется, проживает купец, армянин из Мосула?
— Вы спрашиваете про ходжа Тороса, торгующего сафьяном
[71]?
— Да, про него. А где могу видеть его?
— В кофейне дяди Теоса. Он каждый вечер там бывает. А на что он вам?
— У меня к нему рекомендательное письмо. Хочу попросить его, чтоб отправил меня с надежным караваном в Мосул.
— А скоро ли собираетесь ехать?
— Может быть, через несколько дней. Но необходимо заранее поставить его в известность, чтоб нанял вьючных мулов.
Кофейня дяди Теоса находилась не в Айгестане, а в городе. Фанос подробно объяснил, как пройти туда, и добавил, что если мосульского торговца кожами там не окажется, достаточно сказать хозяину кофейни — он очень хороший человек — и его немедленно вызовут из соседней гостиницы, где он проживает.
— Прикажете оседлать лошадей?
— Нет, я пойду пешком, — ответил Аслан.
— А не лучше ли подождать до утра? Ночью кто знает, что может случиться.
— Нет, мне удобно ночью. Необходимо только переодеться в другое платье; желательно, чтоб меня в кофейне не узнали.
Аслан переоделся в широкое ванское або, надел феску. То же проделал и я.
— Ночью вас не ждать? — спросил Фанос.
— Нет, не ждите.
Мы пустились в путь.
Солнце уже зашло. Улицы Айгестана тонули во мраке.
— Ты взял с собой оружие? — спросил Аслан.
— Да.
Пройдя порядочное расстояние; Аслан свернул с главной улицы, ведущей в город, в узкий проулок. Ни домов, ни огней, ни лая собак. Справа и слева тянулись без конца стены садов. Мы шли долго. Я не понимал, куда мы идем. Наконец, мы вышли из лабиринта садов. На горизонте показалась луна и озарила обширные возделанные поля. Вдали раздавалась заунывная песня жнеца, доносились гармоничные звуки серпа. На полях жали хлеб. Полуденный зной настолько иссушает созревшие нивы, что во время жатвы колосья осыпаются. Поэтому здесь жнут по ночам, когда зерна от ночной сырости становятся более влажными и не высыпаются из колосьев.
Вдали замелькали высокие надгробные кресты кладбища. При тусклом свете луны безмолвные памятники вырисовывались как огромные чудища, которые, постепенно увеличиваясь и погружаясь в ночную мглу, походили на рой привидений, только что вышедших из мрака усыпальниц.
Вокруг царила немая тишина, стояла сероватая мгла лунной ночи. Только в отдаленном углу кладбища виднелся красноватый огонек. Ни один суеверный не посмел бы приблизиться к нему, убежденный в том, что свет исходит из могилы погибшего мученика. Аслан же шел прямо на этот свет. Я следовал за ним с затаенной в сердце досадой. Но вот мы приблизились, и мое недовольство мгновенно рассеялось, когда из пламени, словно небесное видение, вырисовалось милое личико Гюбби. На земле, облокотившись на могильную плиту, в глубоком раздумье сидела старуха и глядела на огонь. Гюбби подбрасывала хворост в огонь. Заслышав наши шаги, старуха подняла голову и оглянулась. Гюбби вскочила на ноги.
— Не подходите! — прозвучал ее резкий металлический голос.
Аслан издали крикнул ей что-то в ответ.
Гюбби подбежала и бросилась ему на шею.
— Гюбби, я принес обратно твою волшебную палочку, — промолвил он, целуя девочку.
— А я ведь с таким условием и дала тебе, — ответила Гюбби и с особым удовольствием взяла заветную вещицу.
Старуха встала, молча взяла с надгробной плиты свой посох, перекинула за спину походный мешок и подошла к Аслану.
Уединившись, они долго разговаривали между собою. Гюбби подошла ко мне.
— Узнаешь меня? — спросил я.
— Ну, конечно.
— Вы здесь заночуете?
— Нет. Мы дождались Аслана. А теперь пойдем дальше.
— Куда?
— Мать знает…
Плутовка не хотела открыться мне. Моя роль в деятельности моих товарищей была комична. Мне суждено было иметь дело лишь с малышами, да и те скрывали от меня многое.
Маленькими пальчиками она принялась проверять головку волшебной палочки.
— А что находится внутри? — полюбопытствовал я.
— Ровно ничего.
Я был уверен, что черная змея во чреве своем таила ответ на бумагу, которую Аслан сегодня на моих глазах достал оттуда, прочел и сжег. Я был уверен, что Гюбби знала об этом, но мне ничего не сказала.
— Что бы ты сделала, если б по дороге отняли у тебя палочку? — спросил я.
— А кто посмел бы отнять? — самоуверенно ответила девочка, — я бы его тотчас отравила. Не знаешь? — ведь змея кусается, посмотри!
Девочка сжала пальцем шейку змеи и, действительно, та стала открывать и закрывать пасть и ворочать языком наподобие стрелки. Если б я не знал, что это игрушка, пришел бы в ужас. Что же могли подумать люди наивные, суеверным страхом трепетавшие перед змеями и их заклинателями.
Поговорив со старухой,
Аслан подошел к Гюбби, обнял ее, расцеловал и сказал растроганным голосом:
— Ступайте… с богом!..
— Прощайте, — ответила Гюбби и побежала за старухой.
Прощанье было столь трогательное, что я не мог удержаться от слез. Аслан также был сильно взволнован. Стоя у огня, еще долго глядели мы в ночную тьму вслед за удалявшимися, пока они совершенно не скрылись в темноте. Бедная девочка!.. Несчастная старуха!.. К чему это самопожертвование?.. Какая роковая тайна заставляет их браться за темное дело, скрытое во мраке?.. Какая сверхъестественная сила руководит дряхлой старухой и юной девушкой в их стремлении преодолеть все испытания, все затруднения и слепо идти навстречу неизвестной цели…
Глава 14.
КОФЕЙНЯ ДЯДИ ТЕОСА
Кофейни в Ване открываются на рассвете и закрываются с заходом солнца. По ночам жизнь прекращается, и люди не выходят из домов, боясь стать жертвой полицейского произвола. В пустынных улицах бродят лишь воры и их сотоварищи — ночные сторожа.
Не будь месяца Рамазана
[72] мы ни в коем случае не нашли бы кофейни дяди Теоса, открытой в такой час. В месяц Рамазана день мусульман превращается в ночь, а ночь — в день. Воздерживаясь днем от пищи, они предаются сну, по ночам же бодрствуют, проводят время в еде и в молитве.
Мы вошли в город. Лавки хлебопеков и торговцев снедью большей частью были открыты. Свет из них падал на улицу — в городе освещены были лишь улицы с открытыми лавками. Уличное движение не прекращалось. Кто шел в мечеть, кто в гости к соседу коротать ночь в духовной беседе и еде. Богатеи в эти ночи приглашают к столу неимущих соседей…
Аслан, видно, знал кофейню дяди Теоса, он шел, никого не спрашивая. Когда мы дошли, Аслан обошел кофейню и постучал в маленькую дверцу с заднего крыльца. Нам тотчас же открыли.
— Могу ли видеть дядю Теоса, — спросил Аслан слугу, открывшего нам дверь.
— Он в кофейне.
— Скажите, что его спрашивают по делу.
— А как зовут вас?
— А на что вам знать? Вы только передайте ему, он сейчас же выйдет.
Слуга, бормоча что-то под нос, удалился. Мы ждали во дворе. Спустя несколько минут появился и сам хозяин со светильником в руке. Он посмотрел на Аслана испытующим оком, вгляделся в него и промолвил:
— Прошу, войдите!
Он провел нас в опрятную комнату, обставленную в полуевропейском, полуазиатском вкусе. Вдоль стен стояли длинные тахты, покрытые красивыми коврами и подушками, посреди стоял круглый стол, на который он поставил светильник.
— Что прикажете подать? — спросил он тоном, каким спрашивает посетителя хозяин ресторана.
— Дайте мне чего-нибудь выпить.
Дядя Теос вышел; через несколько минут принес две бутылки вина и два стакана, опрокинутых на бутылки вроде шапок.
— Это битлисское вино, осталась всего лишь одна бутылка. Если даже покойный отец изыдет из гроба и попросит — не дам. Последнюю бутылку оставил для себя.
— Да вы всё хорошее оставляете для себя, дядя Теос! — смеясь заметил Аслан.
— Ничего не поделаешь! «Пророк молится прежде всего о спасении своей души», — ответил Теос турецкой поговоркой, и, взяв со стола стаканы, поднес их к свету, чтоб проверить, чисто ли протерты, но остался недоволен, стал вновь перетирать салфеткой.
Обращение дяди Теоса не походило на обычное услужничество хозяина ресторана, желающего угодить посетителю и обчистить его карманы, не походило также и на любезность домохозяина, оказывающего честь случайному гостю. Между Теосом и Асланом чувствовалась какая-то близость. Впрочем, владельцы кофеен всегда вежливы со своими клиентами, подобно попу с богомольными прихожанами.
Аслан наполнил стаканы. Вино было выше всяких похвал. Заметив, что вино понравилось нам, дядя Теос поставил на стол тарелку с копченым мясом и просил отведать — с мясом, мол легче пьется.
Дядя Теос был невысокого роста, с меланхоличным лицом и острым проницательным взглядом. Едва заметный горб нисколько не портил бы его фигуры, если б не большая, слишком глубоко втиснутая в плечи, голова. Будь это седовласая курчавая голова с широким лбом — на стройном стане, дядю Теоса можно было б назвать красавцем.
Как и все жители Вана, он еще в юношеские годы отправился в Константинополь в поиски за счастьем. Перепробовал много профессий, но всюду терпел неудачу. Обладай он физической силой, мог бы, подобно многим выходцам из Армении, стать грузчиком, матросом, пожарником или слугою в доме. Для последней профессии нужно было быть стройным и красивым, чтобы нравиться господам и госпожам! И дядя Теос решил, что наиболее подходящее для него занятие — должность помощника варщика кофе в кофейне. Однако на этой службе он мог сколотить лишь небольшую сумму, достаточную для того, чтоб вернуться обратно на родину. И он вернулся домой с пустой мошной, но искушенный опытом, перевидав многое, многому научившись и от многого отказавшись…
Дядя Теос скоро оставил нас и отправился прислуживать другим посетителям. Вдруг распахнулась дверь смежной комнаты и оттуда выбежал ребенок. Увидя нас, он остановился, удивленно посмотрел и убежал, крича:
— Я здоров, господин доктор, я не буду пить лекарства.
Тут я понял, что Аслан здесь свой человек.
— Тебя узнали, — сказал я, — мальчишка знает, кто ты.
— Не беда, мальчонка не глуп, не выдаст меня, — сказал Аслан, оглядываясь. Видимо, он поджидал кого-то.
Я оставил Аслана одного и отправился осматривать кофейню, смежную с квартирой дяди Теоса. В задней половине дома проживала его семья, а в передней половине, со стороны улицы, находилась кофейня. Представьте себе обширный зал, освещенный масляными светильниками. В зале европейской мебели не было. Вдоль стен стояли невысокие длинные деревянные диваны, на которых, поджав под себя ноги, сидели посетители. Здесь были люди всякого рода, начиная с праздношатающихся бездельников, бродяг и воров, кончая купцами, ремесленниками и правительственными чиновниками. Все курили наргиле, пили кофе, играли в нарды
[73]. Сквозь густые клубы табачного дыма с трудом можно было различить лица разношерстного общества. Я сел в сторону и наблюдал, как эти люди, угнетенные, подавленные дневными заботами, находили опьяняющее самозабвение в табачном дыму и в сгустках горького кофе.
Кофейня дяди Теоса имела репутацию первоклассной. Хозяин хотя и завел у себя в заведении столичные порядки, но все же кофейня сохранила провинциальный характер. Здесь кофе готовили на глазах у посетителей в похожих на уполовник продолговатых с длинной ручкой кофейниках, разливали в маленькие финджаны
[74] и подносили посетителям. Кофейники были разнообразной величины: самый маленький был величиною с наперсток; немногим больше был и финджан, который мог вместить все количество заготовленного кофе и удовлетворить потребность посетителя. Без конца слышались заказы:
— Чашку кофе!
— С сахаром или без сахара? — спрашивал слуга и, приняв заказ, тотчас же наливал несколько капель воды в миниатюрный кофейник, держал его над огнем, всыпал молотого кофе, и готовая черная жидкость уже подавалась посетителю. Счет выпитым чашкам велся весьма просто: на стене углем проводилась черточка; за каждым гостем в течение нескольких часов набирались сотни таких отметок… Без конца курили наргиле и кричали: «Чашку кофе!»
Кофейня удовлетворяла самым разнообразным требованиям посетителей. Вон там в углу болтливый цирюльник побрил голову и лицо одному турецкому эфенди, а теперь, опустившись на колени, выдергивает маленькими щипчиками волосы из ушей, и, чтобы скрасить докучливую работу, рассказывает ему новости дня, любовные похождения.
Его помощник, тем временем, занят иной, более грубой работой: готовится выдернуть зуб у посетителя; больной, словно обреченный на казнь, стоит, как жертва, пред ним на коленях; один из посетителей держит его за голову, другой за руки, цирюльник, словно заплечных дел мастер, вкладывает ему в рот огромные клещи. Несколько сильных движений, глухих стонов — и операция закончена: два окровавленных зуба находятся в тисках клещей…
— Здóрово! — раздались возгласы окружающих, — вместо одного два вытащил!
— Чтоб тебе ни дна, ни покрышки, — вскрикнул больной, — а больной зуб остался на месте!
Раздался дружный хохот.
В другом углу народные музыканты, сидя на полу, играют на самодельных допотопных инструментах; ашуг с увлечением рассказывает нараспев какую-то повесть,
Слушатели замерли в восторге.
Немного поодаль набожный мусульманин, окончив обряд омовения в маленьком тазу, откуда брали воду для наргиле, поднялся на деревянный диван и, то сгибаясь, то выпрямляясь, совершил урочный намаз.
Особенно привлекала мое внимание группа посетителей, сидевших в темных и глухих уголках; их звали «тириаками»
[75]. Поджав под себя ноги, с опущенными головами, крепко зажав во рту трубки наргиле, с полузакрытыми глазами, они пребывают в каком-то сонном оцепенении; и лишь подымающиеся время от времени из их уст клубы дыма подтверждают, что они не спят. Еще спозаранку уходят они из дому и забираются в кофейню: здесь умываются, причесываются и совершают утреннюю молитву. Здесь же и приходят в себя после вчерашнего похмелья. Слуги хорошо знакомы с их привычками, они с готовностью выполняют все прихоти этих жалких существ. Целыми днями сидят неподвижно, возбуждают мозг черным кофе, табачным дымом и крошечными пилюлями опиума. Они похожи на идиотов: глаза их неподвижны и холодны, как стекло, руки дрожат.
Рядом с этими одержимыми сидит миссионерский агент, распространитель света евангельского учения; он раскрыл библию и ведет беседу на религиозные темы. Их окружили любопытные, слышатся пререкания и ругань.
Теперь мое внимание привлекли трое посетителей, сидевших за круглым столом за бутылкой водки. Один из них был молодой человек среднего роста, по одежде его можно было принять за багдадского или мосульского армянина. На нем была длинная аба
[76] с черными и белыми полосами, какие носят паломники Гиджаса; арабский тюрбан
[77] с кисточками на концах закрывал его плечи, а лоб, брови и даже глаза едва виднелись из-под шелковой пестрой повязки, которой была обернута голова. Я тотчас же понял, что это тот самый купец из Мосула, с которым хотел повидаться Аслан. Двое его собеседников показались мне более странными, благодаря изношенному полуевропейскому, полуазиатскому костюму. Верно, они долго бродили по странам, где носят узкие брюки, широкополые шляпы и сюртуки; вернувшись в Азию, они сохранили от европейского костюма лишь жалкие отрепья.
— Кто этот молодой человек? — спросил я дядю Тсоса, указав на мосульца.
— Ходжа Торос, торговец кожами, — пояснил он.
— А двое других?
— Не знаю, не здешние.
Дядя Теос ушел. Я стал всматриваться в торговца кожами. В кофейне было невыносимо жарко, поэтому он откинул назад разноцветную арабскую повязку и наполовину обнажил свой лоб. Черты его лица и цвет кожи ничуть не напоминали жителя знойной Месопотамии, а его проворные раскосые глаза показались мне как будто знакомыми. Он был поглощен разговором с приятелями и не обращал на меня внимания, быть может, показывал вид, будто не замечает. Я подошел к нему сзади и осторожно положил руку на плечо. Он посмотрел на меня и глазами подал мне знак. Я смутился.
— Прошу, присядьте, — заговорил он, чтобы вывести меня из неловкого положения, — видно, вы также из чужих краев. Чужестранцы легко сходятся между собою. В нашей бутылке, кажется, осталось несколько финджанов водки, — он взял со стола бутылку, взболтал ее, чтоб удостовериться в правдивости своих слов.
Мог ли я предположить, что здесь, среди этой разношерстной публики встречу под видом мосульского торговца кожами нашего товарища Саго! Как шло ему имя — Ходжа Торос, как подходил ему арабский костюм, полнозвучный грудной голос, серьезный разговор с незнакомцами!
Я настолько привык к его шуткам, к его язвительной иронии и легким остротам, что достаточно было мне посмотреть на него — и я не мог удерживаться от смеха. Теперь же он настолько преобразился, настолько необычны были его манеры, что я замолк и скромно уселся перед ним.
Он спросил меня, кто я, откуда, по какому делу приехал в Ван, затем наполнил водкой финджан и поставил предо мной.
— Я водки не пью.
— Тогда закажем для вас вина! — и приказал слуге принести бутылку вина.
Саго познакомил меня со своими собеседниками. Эти бедные юноши оказались членами вовсе небогатого, но морально стойкого общества, которое направило их в Харберд, Сгерд и Дерсим для распространения родного языка среди армян, говорящих по-курдски, и для обучения их армянской грамоте. Общество было организовано в Константинополе с единственной целью распространения грамотности среди армян. Несмотря на столь скромную и безвредную цель, члены его подвергались гонениям со стороны местных протестантских организаций, а правительство преследовало их, как бунтовщиков, сеющих среди населения вредные мысли. И вот молодые люди принуждены были покинуть место работы; они приехали в Ван без гроша в кармане и теперь собрались ехать обратно в Константинополь.
— Посмотрите на этого господина, — продолжал один из них прерванный разговор, указывая рукой на агента иноземного миссионера — распространителя евангельского учения, который продолжал религиозный спор с посетителями кофейни. — Я уверен, что сей негодяй не имеет никакого образования, ни развития и, как человек, настолько низок, что продался миссионерам. Он настолько дешево ценит труд, что за сто курушей (6 рублей) в месяц ежедневно ходит по кофейням, цирюльням, баням, словом, бывает всюду, где собирается народ без дела, и вступает с ними в спор. У него нет собственных взглядов и убеждений, он как адвокат защищает дело, за которое ему платят. Национальные идеалы, бедственное положение народа, родная история, отчизна, — все это его не интересует, все это для него пустой звук. Он знает, что соблюдение постов, покаяние в грехах пред священником, поклонение иконам не спасут душу от греха, и он готов бесконечно спорить об этом. Пройдите по всей Малой Азии и вы повсюду встретите подобных болтунов. Конечно, излишне говорить об их школах, молельнях, об их проповедниках, которые не слишком отличаются от этих невежественных стокурушóвых просветителей.
Саго слушал со вниманием. Меня также заинтересовал этот озлобленный юноша; его, по-видимому, возмущали не столько иноземные проповедники, сколько их ретивые пустоголовые армянские клевреты, ставшие орудием в их руках.
— Я не защитник религии и национальной церкви, но повторяю, что подобные субъекты опаснее курдов и турок. Курд и турок отнимают у армян плоды их трудов, но эту потерю возможно возместить трудом же. Но проповедники, эти духовные поработители, именем евангелия убивают в народе
народность, — а этого уже не восстановишь.
— Как так? — спросил Саго, наливая мне вина, а нашим собеседникам — водки.
— А вот как, — ответил юноша, закуривая походную трубку и выпуская клубы легкого дыма сквозь дрожавшие губы, недавно начавшие окаймляться легким черным пушком.
— Возьмем, к примеру, те страны, где мы работали и откуда нас изгнали. Тамошние армяне совершенно позабыли родной язык, утеряли национальные особенности; они говорят по-курдски, завели у себя курдские обычаи. Их с трудом отличишь от курдов. Сохранился лишь один сустав, связывающий их со всем национальным организмом и напоминающий им о том, что они армяне — это армянская церковь. Если они оторвутся и от церкви, чем они будут связаны с армянским народом?
— Ничем, — ответил Саго, и в его тоне почувствовалось желание поскорей услышать заключительные слова юноши.
— Вот какой вред приносят протестантские проповедники, вот чем убивают народность, — продолжал он слегка горячась, — отрывая армянина от церкви, его превращают в курда-протестанта!
— Что же тут удивительного? — спросил Саго, глядя в упор па юношу. — Вы сейчас сказали, что местные армяне забыли родной язык, говорят и живут, как курды, потеряли национальные особенности. На каком же основании вы считаете их армянами? Лишь потому, что они признают армянскую церковь? В этом именно и кроется ошибка, которая привела вас к неправильному выводу. С тех пор, как они перестают говорить по-армянски, они перестают также быть армянами, становятся курдами-григорианами. Ясно, удалившись из лона армянской церкви и вступив в протестантскую, они станут курдами-протестантами, а если уйдут из протестантской церкви и примут, примерно, буддизм, они будут курдами-буддистами.
Юноши удивленно переглянулись.
— То же самое имело место, — продолжал Саго, — в Южной Месопотамии, а именно: в Мердине, Мосуле и Багдаде, среди армян, говоривших по-арабски. Они также забыли свой язык — говорили по-арабски, придерживались арабских обычаев, но считали себя армянами лишь потому, что принадлежали к григорианской церкви. Когда же среди них распространилось католичество, они перестали называть себя армянами и стали арабами-католиками.
Беседа затянулась за полночь. Тема была близка сердцам как юношей, так и Саго. Помимо того, вероотступничество становилось вопросом злободневным, вопросом всей армянской общественности. Иностранные проповедники — католики, протестанты, иезуиты — съезжались со всех концов в армянские области, растекались по городам и деревням, открывали там школы и молельни. В народе начиналось брожение.
Одни меняли веру из-за денег, щедро раздаваемых миссионерами прозелитам
[78], другие — чтоб найти защиту от насилий и бесчинств магометан, иные — из отвращения к корыстолюбивому, падкому до денег армянскому духовенству, и лишь очень немногие оставляли лоно армянской церкви по внутреннему убеждению. Происходившие повсюду разногласия, раздоры и распри раздирали армянский народ. При таком положении дел внимание мыслящей части общества было сосредоточено вокруг этого народного бедствия, грозившего распадом национального единства армян в ту пору, когда необходимы были сплоченность, солидарность и взаимная любовь для борьбы против чужеземного насилия. А миссионеры — проповедники евангельской любви и братства — сеяли между братьями-армянами лишь ненависть и вражду.
— Миссионер не признает национальности, — продолжал Саго, — он втирается в народную гущу и ведет пропаганду на языке, который более понятен народу, на каком он говорит; на том же языке обучает и детей в своих школах. Если разговорный язык армян курдский, он читает проповедь на курдском языке, если по-тюркски говорят, начнет проповедовать по-тюркски. Ему нет никакого дела до родного для народа армянского языка. Он никогда не станет утруждать себя сперва научить армян родному языку, а затем лишь вести проповедь. Вот почему следует признать весьма необходимой и полезной работу вашего общества по распространению родного языка среди говорящих по-курдски армян. Это наиболее правильный путь обармянить их вновь, вернуть в лоно армянского народа. С языком связаны и национальная литература, и прошлое народа, все умственные и духовные проявления его в течение веков — словом, всё его существование, все, что связывает индивидуум с нацией; а церковь, как мы видели на примере месопотамских армян, является слишком слабым связующим звеном, если армянин утратил другие более прочные национальные основы.
Теперь Саго показался мне в совершенно ином свете, совершенно иным человеком. Это был не тот юнец, с которым я в первый раз встретился на арабском минарете, и не тот веселый шутник, досаждавший мне в доме охотника. Теперь он говорил языком Аслана. Я был поражен сходством их идей и устремлений.
— Я согласен с вами, — вступился второй собеседник, до сих пор хранивший молчание, — но все же чужеземцы-проповедники не могли б причинить столько вреда, если б наше духовенство стояло на должной высоте. Когда волк ворует овец из стада, виновны негодные пастухи и сторожевые псы. Наши священники невежественны и некультурны, а наши монахи, запершись в кельях, схимничают да молятся богу, воображая, что тем приносят великую пользу народу.
Мимо нашего стола прошел какой-то посетитель, и разговор тотчас же прекратился. То же происходило и за другими столиками. Когда он присаживался где-нибудь, посетители незаметно исчезали.
— Это известный шпион, — предупредил нас Саго.
— Кто он?
— Армянин и притом титулованный: «эфенди»!
— Армян выдает?
— А то кого же!
Эфенди
[79] подсел к группе молодых, к своим сверстникам, и приказал подать вина.
— Держу пари, — проговорил Саго, — негодяй сейчас начнет произносить патриотические речи, а быть может, распевать одну из песен собственного сочинения, в которой без конца будет повторяться восклицание: «О, Армения!»
Однако ни речей, ни песен не последовало, так как было уже далеко за полночь и посетители стали расходиться. В несколько минут шумная кофейня опустела.
Когда дядя Теос хотел погасить последние огни, юноши поднялись, пожелали мне и Саго доброй ночи и удалились в полутемный угол кофейни; там они, не раздеваясь, легли на голые деревянные диваны, подложив под головы дорожные мешки. Дядя Теос был настолько добр, что не выгнал их на улицу под предлогом, что кофейня не ночлежный дом. Я расстался с ними в крайне угнетённом состоянии духа.
«Бедные юноши! — подумал я. — Без крова и пристанища, словно жалкие нищие скитаетесь вы по стране, жертвуя собою для блага угнетаемого народа. Вы начинаете борьбу с чужеземными миссионерами, разъезжающими в колясках, живущими в роскошных палатах, швыряющими золото направо и налево для ослепления народа… Но в вас есть нечто превыше их славы и могущества — ваша неиссякаемая любовь и вера в начатое вами дело!»
Когда я вошел в комнату к Аслану, я застал там Саго. По-видимому, выйдя из кофейни, Саго вернулся обратно с заднего крыльца. Но кто же ему сказал, что Аслан здесь?..
Глава 15.
МОНАСТЫРЬ ВАРАГ
Нам оставалось посетить Варагский монастырь, и наши изыскания в окрестностях Вана можно было счесть законченными.
Было прекрасное ясное утро. Мы с Асланом выехали из Айгестана по направлению к монастырю. Пред нами открылась восхитительная картина. Солнце только что всходило из-за вершины горы Вараг, с той высшей ее точки, которая зовется Галилия. Подобного великолепного восхода мне еще никогда не приходилось видеть. Казалось, что дневное светило заночевало на вершине горы в священных пещерах, где некогда нашла убежище Рипсиме со своими подругами, а теперь оно покидало ночное пристанище и подымалось во всем блеске и сиянии, дабы озарить армянскую землю. Из тех пещер вышла блаженная дева; подобно искрящемуся лучу направилась она к Арарату и начала борьбу против язычника-царя, против темноты и мрака язычества. Этой борьбой она положила начало христовой веры в Армении. В тех же пещерах сокрыла она животворящее древко святого значения, заделав его наглухо в небольшой крестик, служивший божественным украшением её шеи и груди. Четыре века это чудотворное святое знамение пребывало здесь в безвестности, пока не явилось схимнику Тодику. В лучезарном сиянии слетело оно с вершины Варага на его склоны и стало небесным украшением горы Вараг, как некогда было украшением груди Рипсиме. На этом месте и были воздвигнуты храмы во имя святого креста.
Солнце поднялось, и его лучи огненными снопами озарили окрестности Вана, голубую гладь озера и покрытые утренним туманом отдаленные горы. Я был вне себя от восторга. Восход солнца пробудил в моем сердце воспоминания давно минувших дней, связанные с этими заветными местами и священными утесами. Века словно отступали, и предание глубокой старины оживало, претворялось в образы. И предстало глазам моим чудесное видение схимника Тодика: животворящее святое знамение спустилось с вершины Варага; от него отсвечиваются двенадцать лучезарных столбов и гаснут в двенадцати местах. Огненные столбы сверкают до тех пор, пока не видят их властители страны и все люди. Благочестивый народ вместе с князьями воздвигает двенадцать храмов на местах двенадцати лучезарных столбов. Два из них опустились туда, где потом были построены монастыри святого Григория и Кармравор. Три — в Верхний Вараг, прозванный Галилией, а семь — в Нижний Вараг. Эти семь церквей, имеющие каждая свое название, и зовутся Варагским монастырем.
Со дня явления святого знамения армянская церковь установила праздник, справляемый по сию пору. Со дня явления святого знамения Вараг стал Сионом армянских гор; его вершина, склоны и подножие покрылись монастырями, и множество церковников заполнило эти обители. Долгие годы святое знамение хранилось в Варагском монастыре, и тысячи паломников стекались туда на поклонение. Богатые и бедные жертвовали золото и серебро, свое имущество и поместья служителям святого знамения, чтоб это прославленное священное место Васпуракана было благословенно во веки веков. Иноки вкушали плоды народного благочестия и возносили к небу молитвы за суетный мир.
Гагик Арцруни израсходовал крупную сумму денег и сделал для св. знамения раку и хранилище. А царевич Ашот, потратив тридцать тысяч золотых, украсил хранилище жемчугами и другими драгоценными каменьями. Сенекерим, последний царь из династии Арцруни, отказавшись от царства и передав его греческому императору, не захотел расстаться со святыней и увез с собой раку в Себастию. Впоследствии св. знамение было вновь перевезено в Вараг вместе с прахом злосчастного царя и в течение долгих лет служило предметом алчных вожделений различных деспотов. В 1651 году курдский бек Сулейман, под командованием атамана разбойничьей шайки Чомара, разорил Вараг и увез в плен святое знамение. Исчезли в несколько дней плоды вековых щедрот благочестивого народа. Четыре года святыня находилась в пленении. Это были дни великой скорби и траура для жителей Вана. Много раз были посланы посредники с богатыми выкупами и, наконец, с большим трудом удалось вернуть из плена святыню страны.
Мы подымались на вершину Варагской горы. Вплоть до определенной черты гора покрыта зеленью, кое-где виднеются кустарники, небольшие рощицы, зеленеющие лужайки, а во многих местах, по склонам разбросаны холмистые нивы поспевшего ячменя и пшеницы. Трудились жнецы, блестели серпы, и заунывная песня труженика оглашала священные места горы-великана.
Было раннее утро, но уже стало припекать. Пастух, накинув войлочный балахон свой на посох, сел в его тени, чтобы укрыться от знойных лучей солнца. Вокруг него, рассеявшись по зеленым лугам, паслись овцы, весело перебегали с уступа на уступ козы, а бдительные псы зорко глядели издали за их беззаботной игрой, которой каждую минуту могла угрожать беда…
Выше зеленой черты, до самой вершины, гора Вараг лишена растительности; высятся лишь угрюмые темно-бурые скалы. Редко ступает туда человеческая нога. Порой быстрокрылые куропатки стаями перелетают с утеса на утес, иль чернокрылый орел, словно мрачный и печальный дух, сидя одиноко на скале, глядит грустно вниз — на развалины дворцов Арцруни, тех Арцруни, которые в продолжение веков берегли, заботились о нем…
Гора Вараг — бассейн Ванской долины; отсюда сбегают многочисленные ручьи, орошающие обширные сады Айгестана и снабжающие водой разбросанные по склонам гор деревни.
Не доезжая до монастыря, мы встретили группу людей. Тут, по-видимому, испытывали новое земледельческое орудие, плуг, который своим видом нисколько не походил на местные тяжелые неподвижные сохи. Держась за орало, плугом управлял человек высокого роста; судя по одежде, он был не из светского звания. Он показывал неопытным монастырским пахарям, как надо пользоваться новым земледельческим орудием. Все следили за ним с глубоким вниманием. «Бог в помощь», — обратились мы к ним с приветствием и прошли дальше. Увидев, что мы идем по направлению к монастырю, один из них, молодой монах, выделился из толпы и предложил нам проводить нас. Когда мы дошли до монастыря, Аслан спросил его:
— Можем ли мы видеть Айрика
[80].
Так звали настоятеля монастыря.
— А разве вы его не узнали? — удивленно спросил монах. — Ведь человек, который правил плугом, был Айрик.
— А что это за плуг?
— Айрик недавно выписал его из Европы; сегодня в первый раз его пробовали. Скоро мы получим еще кое-какие орудия.
— Значит, монастырь занимается земледелием?
— Да, он сам обрабатывает свои земли. У нас при монастыре имеется и земледельческая школа.
— Айрик не скоро вернется?
— Скоро. Он увидел, что вы направляетесь к монастырю и велел мне проводить вас, подождать его прихода.
Когда мы через главные ворота вошли в монастырь, перед нашими глазами предстали замечательные строения древнейшей святыни, их внешний вид произвел на меня такое впечатление, что я невольно подумал: здесь увижу нечто совершенно противоположное монастырю Ктуц. И вправду, это был другой мир; здесь кипела иная жизнь, здесь не ощущалось расслабляющего благовония монастырского ладана, здесь духовное и небесное сливалось с мирским.
Монастырь утопал в зелени садов и рощиц; протекали прозрачные студеные ручьи и, слившись воедино, с большим шумом приводили в движение тяжелые жернова монастырской мельницы.
— Эти деревья насадил Айрик, — объяснил нам провожатый, — а эта мельница долго бездействовала, Айрик исправил ее.
Молодой монах повел нас в довольно опрятную, со вкусом убранную комнату и вступил с нами в задушевную беседу; он спросил нас, кто мы, откуда приехали, долго ли г. доктор пробудет в Ване, какой национальности он, какими языками владеет и т. п. В этих вопросах было так много сердечности и простоты, что Аслан охотно отвечал на них.
— Давно ли Айрик состоит настоятелем монастыря? — спросил Аслан.
— Нет, не очень давно, — отвечал монах, — но за короткое время он сделал столько, сколько другой — как бы ни старался — не сделал бы и в двадцать лет.
Молодой монах был ученик Айрика. Я заметил, что ученики Айрика, когда начинали говорить, о своем учителе, как-то особенно воодушевлялись и с особенной гордостью произносили имя того, кого так любили и уважали.
— До Айрика этот монастырь был почти развалиной; не было тут ни школы, ни учеников, ни правильно налаженного хозяйства. Его доходы расхищали все, кто мог. Монастырь был по горло в долгах. Даже рака св. знамения была заложена у ростовщиков-турок. Айрик сумел вызвать монастырь к жизни. Все, что вы увидите здесь, дело его рук. И наградой за все это — ненависть, преследования и козни мракобесов!..
При последних словах голос монаха дрогнул. Он рассказал об одном прискорбном случае, происшедшем в те дни. Айрик шел, по своему обыкновению, пешком в Ван. Встречается по дороге курд. Айрик своим орлиным взглядом смотрит ему в лицо. Курд приходит в замешательство, у него начинают дрожать руки.
— Почему ты смутился, приятель? — спрашивает его Айрик с обычной мягкой улыбкой.
— Я хотел убить тебя, — отвечает разбойник и, опустившись перед ним, обнимает колени Айрика.
— А почему не убил? — спрашивает Айрик, подняв разбойника.
— Бог удержал мою руку! — И рассказывает, как враги Априка подкупили его совершить убийство, но голос совести подсказал ему, что нельзя подымать меч на благословенного богом.
— Будь благословен и ты! — отвечает ему Айрик. — Ступай с миром! И никому ни слова о том, что ты мне поведал.
— Как? Ты щадишь врагов своих? — удивленно спрашивает разбойник.
— Так велит бог! — отвечал Айрик.
Однако, несмотря на запрет Айрика, курд всюду разглашает имена предателей, и весь город узнает о них.
— Кто же собственно его враги? — спросил Аслан.
— Кое-кто из духовных лиц в сообщничестве с некоторыми богатеями, а во главе их всех стоит наш епархиальный начальник.
— Что же побудило их рискнуть на подобный беззаконный поступок, даже на пролитие крови? — спросил раздраженно Аслан, — разве просвещение, свет, школа так уж им ненавистны?
— Не думаю, — отвечал монах. — Вряд ли они могут быть озлоблены против сеятелей науки и культуры по той причине, что являются врагами просвещения; они не могут быть таковыми по той причине, что не имеют никакого понятия о просвещении, никогда не думают о нем. Тут совершенно иная причина. До Айрика, как я вам говорил, здесь не было рационального хозяйства; все доходы шли в карман монастырской братии, а некоторая толика попадала и самому епархиальному начальнику. После того, как Айрик сделался настоятелем монастыря, он удалил негодных монахов и собрал вокруг себя более достойных, а монастырские доходы обратил в пользу новых начинаний. Теперь, я думаю, вам ясно, почему лица, расхищавшие раньше монастырские доходы, озлоблены против Айрика.
— Но неужели у Айрика нет друзей?
— Есть. Но друзья его не так сильны, как враги. Кто друзья Айрика? Притесненный, угнетенный и лишенный всяких прав народ. Друзья Айрика — бедные крестьяне, городские ремесленники, бездомные, обездоленные, безземельные бедняки, батраки и рабочие, да еще горсточка честных, благородных молодых людей, у которых нет достаточных средств для осуществления своих благих намерений.
Айрик в служебной иерархии занимал тогда место архимандрита, но его дела, приобретенная слава, большая популярность в народе — все это не могло не возбудить зависти в других духовных лицах, которые по чину и положению стояли выше него; инок же их озлобление объяснял исключительно экономическими мотивами. Основанные им учреждения по своей новизне могли показаться другим духовным лицам странными и вредными. Он открыл при монастыре школу-пансион, куда набирал с разных мест детей, чтоб приготовить из них сельских учителей или образованных церковнослужителей. При школе было и земледельческое отделение. По мнению Айрика, сельские учителя и священники не должны ограничиваться лишь обучением грамоте и счету или отправлением церковных треб; они в то же время должны учить крестьян так пахать и ходить за скотиной, чтоб максимально поднять производительность труда.
Помимо школы. Айрик завел при монастыре печатный станок — вторую движущую силу просвещения. Из-под его станка выходили учебные пособия, книжки для народного чтения на разговорном языке. Там же издавался и журнал под редакцией монастырской братии. Сколько трудов и мучений требовалось, чтоб претворить все эти нововведения в жизнь! Их побороть мог только человек с такой железной волей, как у Айрика. Сколько раз он пешком ходил в Константинополь и стучался в двери важных господ, прося оказать поддержку в его начинаниях. Он первый превратил богадельню для дармоедов-пустынников и монахов, каковыми были монастыри, в центр просвещения, умственного и нравственного развития народа.
Я с нетерпением ждал прихода Айрика — хотел услышать его голос, говорить с ним. Он не заставил долго ждать себя; вскоре он вернулся в монастырь, весь в пыли и в поту. Сперва зашел в свою комнату, очевидно привести себя в порядок — и вышел к нам. Он был весьма доволен первой пробой плуга и потому находился в веселом расположении духа.
Он был еще молод, ему было не более 36 лет, поэтому прозвище «Айрик» могло казаться странным. Но он вполне заслужил его благодаря отеческой любви и беспрестанным заботам как о монастыре и всей братии, так и о народе. Он был высокого роста, крепкого телосложения. Постоянные молитвы, схимничество, пост — главные и характерные признаки благочестия наших пустынников — не изнуряли его тела. Он был без клобука. Длинные каштановые волосы, в беспорядке ниспадавшие ему на лоб, рассыпались по его могучим плечам. Пышная борода его напоминала гриву льва-пустынника. Но что было особенно замечательно на его кротком и вместе мужественном лице — это сверкавшие из-под густых бровей орлиные глаза и орлиный клювообразный нос — характерные признаки могучего царя птиц, обличающие его дальновидность и тонкую сообразительность. Недаром его прозвали также «орлом Васпуракана». Одежда на нем была проста и опрятна, обращение — искренне и безыскусственно. Как внешний вид, так и деятельность — прямая и настоящая — этого скромного церковника, проникнутого всеми добродетелями простого народа, воодушевленного высокими человеколюбивыми идеалами, свидетельствовала о неиссякаемой любви к простолюдину, к его убогой избушке. Для счастья веками обездоленного народа он готов был жертвовать собою, в спокойствии и благоденствии народа искал он душевного успокоения и утешения. Он вышел из народа, он был рожден для народа.
Я еще не встречал человека более симпатичного. Он был из числа тех иноков, от которых, наряду с именами Иисуса, Моисея и апостола Павла, можно услышать также имена родоначальников родного народа не только в простой беседе, но и с алтаря святого храма. Он никогда не упоминал о блаженствах библейской Палестины и «святого града Иерусалима». Его обетованной землей был Васпуракан. Любовь к отчизне доходила у него до фанатизма, религиозность его отличалась высокими доблестями.
Глядя на Айрика, я вспоминал одного из монахов пятого века, который после долгого пребывания в Афинах вернулся в Армению: с посохом в руке блуждал он, подобно дервишу, из края в край родной земли, распространял свет и знания, приобретенные на родине Сократа и Аристотеля. Отчизна не признавала нового апостола просвещения, а невежественное духовенство возненавидело его. Но он пренебрег проследованиями мракобесов, твердо и бесстрашно продолжал святое дело. Изгоняли его из одного места, он появлялся в другом и сеял повсюду, где среди соотечественников заглохла умственная жизнь, добрые семена, вывезенные из отдаленных стран… Таков был и Айрик. Весь Васпуракан был его нивой, а он — самоотверженный сеятель.
Он был влюблен в свою родину — Васпуракан. А Вараг, Ван, Ванское озеро с окрестными районами были очаровательными предметами всех его помыслов. Но он у себя на родине находился в таком же положении, как некогда Хоренаци в Тароне. Духовенство строило козни против него. Вот почему Аслан, вспомнив недавно имевший место прискорбный случай, выразил свою радость по поводу его избавления.
— Не падайте духом, Айрик, апостольство и мученичество постоянно идут рука об руку.
— Подобные происшествия не могут поколебать меня, — ответил он с обычной улыбкой, — я не страшусь смерти. Но не хочу и умирать, господин доктор; тот, у кого в жизни есть цель, тот должен жить.
После продолжительной беседы, подробностей которой я не стану передавать, Аслан попросил Айрика показать нам монастырь.
— Мы, пока что, все начинаем сызнова, г. доктор, — сказал Айрик, — так что мало интересного можем показать вам; у нас всё, пока что, находится в отроческом возрасте.
— Именно с этого возраста и вырисовывается будущее всякого организма, хотя бы только со стороны физической — насколько он хорошо устроен и насколько носит в себе здоровое начало.
— Это правильно, но нередко вполне здоровый отрок расслабляется и уродуется в руках негодных нянек и мачех…
Мы вышли из комнаты. На монастырском дворе не было никого, лишь два голубя прогуливались на зеленых грядках монастырского сада, но и они при виде нас вспорхнули и улетели, усевшись на колокольню. Нигде колокола не были так спокойны, как здесь. В монастыре Ктуц они каждый час, каждую минуту призывали монахов продолжать постоянное бдение. Здесь же лишь изредка школьный колокольчик возвещал об окончании урока. Мальчики толпой выбегали из классных комнат, и мирные стены монастыря оглашались громкими возгласами. Ничто не может быть приятнее детского крика, — этого исходящего из глубины души голоса молодого поколения, отзвуки которого слышатся в грядущем…
Айрик повел нас сперва в библиотеку, помещавшуюся в трех, сообщавшихся между собою, комнатах. Когда мы вошли в первую, Айрик сказал:
— Здесь собраны печатные книги на армянском и других языках. В определенные часы монахи могут здесь заниматься чтением.
В комнате было довольно светло; посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном; несколько журналов и газет, полученных недавно, лежало на нем. По стенам в шкафах стройными рядами стояли книги. Порядок, чистота и опрятность царили кругом.
Мы перешли в другую комнату.
— А здесь собраны рукописи, — сказал Айрик.
Эта комната была обставлена также: посередине стол, покрытый зеленым сукном, вдоль стен стояли большие деревянные шкафы, за стеклами которых виднелись пергаментные рукописи — труды наших неутомимых предков. На стене, в вызолоченных рамах, висели портреты Саака Партева и Месропа, которые дали армянам письмена и положили начало письменной словесности на родном языке.
Я с болью в сердце вспоминал мрачную и сырую ризницу монастыря Ктуц, где в пыли, на полу валялись редчайшие образцы древней литературы.
Какое может быть сравнение — там и здесь!..
— А каталог есть у вас? — спросил Аслан.
— Есть, — сказал Айрик, достав из шкафа книжку, — но пока мы его не печатаем, потому что постепенно приобретаем новые рукописи.
Аслан присел к столу и принялся просматривать каталог.
— Но все же у вас довольно много рукописей. Вы сделаете доброе дело, Айрик, если сумеете извлечь рукописи из всех монастырей и собрать их у себя.
И он рассказал, в каком плачевном состоянии находятся книги в монастыре Ктуц.
— Во всех монастырях вы увидите ту же картину, — отвечал Айрик. — А знаете ли вы, каких неприятностей и мучений стоило мне собрать все эти книги? Настоятели наших монастырей предпочитают гноить книги, но не отдавать в надежное место на хранение. А крестьянин, если находит рукопись, набожно погребает ее в землю, как погребает он любимое дитя.
Аслан продолжал просматривать каталог.
— То же самое проделывают монахи, — сказал он, — я слыхал, как в одном монастыре торжественно хоронили все съеденные молью книги.
— Я знаю еще более прискорбный случай, — печально произнес Айрик и рассказал нам следующее:
— В одной из приозерных пустынь братия узнает, что католикос едет в их монастырь. Из боязни, чтоб его святейшество не увидел, в каком плачевном состоянии находятся книги, монахи укладывают их в корзины и бросают в воду. Когда лодка его святейшества подплывает к острову, католикос замечает на поверхности воды листки пергамента. Один из листов волны пригнали к тому борту, где
сидел католикос. Он достает злосчастный лист из воды. По роковому совпадению оказывается, что это тот самый отрывок из книги историка Хоренаци, который содержит его знаменитый плач о беззаконных деяниях современных ему церковнослужителей. В лодке, насупротив его святейшества, сидел настоятель монастыря, выехавший навстречу католикосу. Его святейшество предлагает ему прочитать следующие строки из плача: «Монахи неразумные и глупцы…»
— Эта история любопытна и, вместе с тем, наводит на грустные размышления, — сказал Аслан. — Но я слышал, что один из ваших католикосов был также повинен в подобном грехе. С целью уничтожения памяти о своих предшественниках, он повелел сжечь все официальные документы. Я очень рад, что в вашем каталоге имеются названия не только книг и рукописей, но и грамот католикосов, различных уставных грамот, фирманов турецких султанов и персидских царей, а также различных договоров и купчих крепостей — это богатейший материал для историка.
В отдельном шкафу хранились наиболее древние печатные книги, которые несколько столетий тому назад были отпечатаны в Венеции, Риме, Милане, Новой Джульфе, Амстердаме и других городах.
Мы перешли в третью комнату, которая была просторней предыдущих.
— Здесь наш музей, — заявил Айрик, — но он еще беден, так как мы только недавно его организовали. Несмотря на скромное предупреждение Айрика, я был восхищен музеем. Чего, чего не было здесь! Все, что было найдено в окрестностях Вана, было собрано тут. В остекленных витринах находились древние монеты, всевозможные женские украшения — серьги, браслеты, бусы и т. п.; старинное оружие, тяжелые медные щиты, украшенные клинообразными надписями, обломки копий и стрел, топоры, шлемы — всё из меди. Но более всего мое внимание приковали две небольшие статуи, одна из которых, покрытая золотом, изображала молодую прекрасную женщину. Я был восхищен ею и готов был опуститься перед ней на колени. Увидя мой восторг, Айрик засмеялся.
— Нас тоже, было время, обвиняли в этом грехе.
И рассказал нам, с какими неимоверными трудностями было сопряжено собрание всех этих предметов. Музей имеет целью собирать памятники древности, которыми богаты окрестности Вана. Народ, не понимая значения древностей, зачастую уничтожает их. Один крестьянин нашел, например, часть железного жертвенника-капища, отнес к кузнецу и заказал сделать из него лемех для сохи. Другой нашел передние ножки трона царя Сенекерима, выточенные из слоновой кости, и продал их оружейнику на рукоятки для кинжалов. Несколько лет тому назад одновременно были найдены те две статуи, которые вы видели в музее. Мне с трудом удалось спасти эти замечательные образцы древнего искусства от фанатизма крестьян. «Это — идолы», стали повторять повсюду. Со всех сторон стал стекаться народ: хотели уничтожить эти ценности; одна из них представляет неизвестно какое божество, а другая — юную богиню Астхик
[81] со сверкающей в волосах звездой. Статуи мы поместили в той части музея, где было больше света, рядом с древним изображением богоматери. Прошло несколько дней. Вдруг разъяренная толпа напала на монастырь и чуть не разгромила музей. Мольбами, увещаниями мне с трудом удалось успокоить разъяренную чернь. Она была возмущена тем, что музей — по ее мнению — капище, где образ богоматери стоит рядом с идолами и равным образом почитается. Положим, невежественная толпа могла так подумать, но печальнее всего то, что ее натравляли против меня мои враги из церковнослужителей, которые так же, как и чернь, были уверены, что мы в монастыре поклоняемся идолам.
— А как поступают они, когда находят скульптурные изображения древних богов? — спросил Аслан, рассматривая с большим интересом изображение богоматери.
— Ломают и уничтожают.
— А это богоматерь — прекрасное творение. По всей вероятности, принадлежит кисти одного из знаменитых итальянских мастеров XV века. Скажите, как эта картина попала к вам?
— Я думаю, что она завезена к нам в ту пору, когда ванские купцы имели торговые сношения с Венецией и Италией. Я нашел ее в полуразрушенной деревенской церкви. Там армянского населения не осталось, живут курды; возможно, что они армянского происхождения, поэтому сохранили веру в церковь и ее святыни.
Изображение богоматери, которым так восхищались Аслан и Айрик, меня нисколько не интересовало, быть может, оттого, что я не имел тогда ни малейшего понятия об искусстве. Первоначально тусклые краски сделались еще мрачнее от дыма свечей и ладана. Очевидно, по небрежности ключаря свеча прожгла ножки младенца Христа, в другом месте полотно было разорвано.
Айрик показал нам еще одну редкостную вещь — рукоделие одной из княжен дома Арцруни, принесенное в дар монастырю Вараг. Это была покрышка для стола, на которой искусными пальцами девушки были вытканы сцены мученичества Григория Просветителя.
— Нередко в наших монастырях и церквях попадаются сосуды или облачения, которые за негодностью сваливаются в ризницы и там гниют; среди них можно найти весьма ценные, с точки зрения искусства, старинные предметы — и мы их извлекаем оттуда, — сказал Айрик и показал нам шлемы, ризы, жезлы епископов и архимандритов, обувь архипастырскую, куски старинных ковров и другие предметы, привезенные армянскими купцами еще в давние времена из Индии, Китая и Исфагани.
Когда осмотр музея был окончен, Айрик повел нас в школу, находившуюся в отдельном помещении. До того времени я видел только две школы — школу тер Тодика, этот ад, где к великому несчастью, учился и я, другая — увиденная мною в Ване школа достопочтенного Симона, не слишком отличавшаяся от первой. Одна из них находилась в Персии, а другая была образцом армянской педагогики в Турции — обе существовали лишь для того, чтоб притуплять как умственные способности детей, так и их нравственные качества. После этих виденных мною школ, школа Айрика показалась мне одним из семи чудес мира. В то время она была единственным образцом в стране и, как новшество, подвергалась бесчисленным нападкам. Я не мог судить об организации учебного дела, о школьной программе — меня пленяла тогда лишь внешняя сторона. Я в первый раз видел, что ученики сидят на скамьях, а не на полу, как в школе тер Тодика, что ученики распределены по классам и учитель занимается с целым классом, А в школе тер Тодика не считались ни с возрастом, ни со степенью подготовки ученика, всех без разбору бросали в одну комнату, как баранов в хлев, и учитель занимался с каждым в отдельности — один был занят чистописанием, другой — чтением, третий чистил сапоги учителя; словом, сколько учеников, столько было и классов в одной и той же комнате. Здесь впервые увидел я мел и черную доску. Впервые увидел я, как учитель занимается с детьми без применения розог и побоев. Дети не подвергались телесному наказанию — в школьном обиходе не было ни розог, ни штрафной линейки, ни знаменитого орудия наказания «фалахкá».
После осмотра всех классов Айрик повел нас в зал, где были собраны всевозможные руды, коллекции бабочек, червей, засушенных растений, чучела птиц.
— Это всё собрали наши ученики г. доктор, — сказал с неподдельным восторгом Айрик. — Они иногда предпринимают с учителем экскурсии в окрестные горы и изучают живую природу.
— Ведь это огромный шаг вперед, Айрик, — сказал Аслан, — вместо того, чтоб занимать детские умы туманными богословскими проблемами, у вас преподаются естественные науки.
— Я держусь того убеждения, г. доктор, — сказал Айрик, — что мы из наших учеников должны готовить не только хороших христиан, но и прекрасных ремесленников и земледельцев. Наш народ беден и голоден, он требует хлеба, образование должно помочь ему добывать средства существования. По этой причине я и открыл при школе земледельческое отделение, если удастся — постараюсь со временем открыть и мастерскую. Святые моего монастыря очень добры и снисходительны, их не побеспокоит шум пилы и молота. Но это вовсе не исключает духовного воспитания, напротив, на него должно быть обращено особенное внимание. Возьмем хотя бы переселенчество на чужбину, помимо многих других гибельных результатов, оно причинило Васпуракану еще один непоправимый вред: армяне-переселенцы, после долгих скитаний на чужбине, привозят на родину много порочных наклонностей. Исчезает чистота патриархальных нравов. Народ в данное время особенно нуждается в создании нравственной чистоты. Этим, без сомнения, должна заняться церковь. Истинная вера и целесообразное духовное воспитание как в церкви, так и в школе и семье в состоянии достичь этой цели, они должны привить нашим детям нравственные устои.
После того, как мы осмотрели все заслуживающее внимания, Айрик повел нас к себе в комнату, где приготовлен был незатейливый завтрак. За столом Айрик продолжал разговор о духовном воспитании.
— Многие выступают против монастырского воспитания. Думают, что люди, воспитавшиеся под мрачными монастырскими сводами, под впечатлением древних образов мучеников церкви и отшельников, не могут стать полезными членами общества. Я бы согласился с этой мыслью, если б армянские монастыри являлись такими же учреждениями, какими вообще бывают обители. Армянские монастыри как в прошлом, так и в настоящее время не оторваны от жизни народа, они никогда не замыкались в узкий круг своих интересов, их интересы всегда были связаны с интересами народа. Правда, бывали исключения, основывались монастыри с клерикальным направлением, но они, будучи чуждыми духу армянского народа, существовали недолго.
— Почему же не использовать монастыри, — продолжал Айрик, — ведь наши отцы бросали туда свое серебро, дарили обширные недвижимые имущества, большая часть которых остается нетронутой. В прежние времена все доходы шли на благотворительные цели, а теперь потратим их на воспитание детей! Полученное от народа вернем обратно народу же.
— А разве достаточно одного только воспитания, Айрик?
— Нет, недостаточно! Приобщая к науке детей народа и не давая им возможности изыскания средств к существованию, мы создаем лишь образованных несчастливцев. С повышением умственного развития умножаются жизненные потребности, поэтому они острее будут переживать нужду. Народ довольствуется одним хлебом, но когда образованием разовьется его ум, он поймет, что мясо питательнее, и тяжела будет ему жизнь на сухом хлебе…
Я был поражен рассуждениями этого церковнослужителя, он не повторял обычных мыслей духовенства: не проповедовал суетности всего земного, не осуждал жизненных услад, не твердил, что, истязая плоть, люди приобщаются к небесному, к истинному блаженству.
— Да, — добавил Аслан, — наука должна отвечать прямым запросам жизни. А какая, по вашему мнению, в данный момент, наиболее неотложная потребность или, другими словами, самая серьезная болезнь нашего народа, требующая немедленного медицинского вмешательства.
Облако грусти пробежало по светлому лицу Айрика.
— Болезнь нашего народа сложная: ее не расскажешь в нескольких словах; вам, как доктору, должно быть известно, что у каждого больного есть одна, самая серьезная болезнь, которая грозит жизни больного, и с излечением этой-то болезни и надо начинать.
— Справедливо. Но что же это за болезнь?
— По моему мнению, — переселенчество, уход на чужбину!
Айрик долго говорил о вреде переселений, о необходимости дать возможность армянину материально обеспечить свою жизнь у себя на родине, чтоб он не был принужден искать пропитание на чужбине.
— Переселение европейца, — сказал он, — мне понятно: ему дома нет места, население чрезмерно увеличилось, ему не хватает земли. Но у нас, слава богу, земли вдоволь, но люди не имеют возможности использовать ее.
— Каковы же причины ухода на чужбину?
— Причин очень много: земледелие у нас находится в первобытном состоянии, рабочий люд безбожно эксплуатируется, плохи пути сообщения, нет вывоза из страны, нет ни одного общества или учреждения, которое позаботилось бы о поднятии экономического благосостояния страны — всего не перечтешь!..
— А по вашему мнению, возможно что-нибудь предпринять при нынешних обстоятельствах?..
Разговор зашел о том, возможно ли в стране, где господствующая власть не только не поддерживает, но препятствует всяческому прогрессу, где произволу магометанских племен нет меры и предела, где жизни и имуществу жителей каждую минуту угрожает опасность, — может ли в такой стране армянин заниматься мирным трудом и стремиться к своему благосостоянию?..
— Правда, при современных неблагоприятных условиях наш народ не в состоянии предаваться мирному труду — и в этом одна из главных причин бегства с родины в чужие края на поиски счастья. Но вместе с тем нельзя все взваливать на злодеев, которые грабят народ; повинен и сам народ, допускающий грабить себя; вряд ли разбойник-курд осмелится подойти к отаре овец армянина, если будет знать, что его встретит хозяин с ружьем в руках.
— Я сам того же мнения, — ответил Аслан. — Но разве духовенство не может проповедовать народу мысли о противодействии, о защите собственными силами. На востоке религия и духовенство всегда играли — и будут играть — известную роль во всех общественных движениях,
Лицо Айрика вновь омрачилось.
— От наших священнослужителей я этого не жду. Я был бы рад, если б они не проповедовали рабства. Все заботы они сваливали на правительство. Дело правительства, говорят, следить за порядком и спокойствием народа. А если правительство слабо и неспособно навести порядок? Они не думают об этом и ждут, что всё само собой устроится…
Затем Айрик с огорчением заговорил о гибельных раздорах, вследствие которых армянское население Вана в продолжение нескольких десятилетий находится в постоянном смятении, о распрях, служащих причиной множества бедствий. Народ распался на две партии: во главе одной стоял местный епархиальный начальник с группой богатеев и изменников-эфенди, занимавших официальные должности, во главе другой — группа молодежи, среди них был и Айрик. На одной стороне — сила, богатство, власть, на другой — энергия, добрые желания, но недостаток сил. Одни стояли за правительство, творившее бесчинства, другие — за угнетенный эксплуатируемый народ. Одни требовали слепого подчинения власти, другие протестовали против несправедливостей. Только теперь я ясно понял причину интриг епархиального начальника и его единомышленников-эфенди, угрожавших жизни Айрика.
Все это передавалось спокойным голосом, без волнения и гнева, на кротком лице его не было и тени ненависти. Но причиной хладнокровия было не безразличие, а его великодушие и высокая добродетель, которые побуждали быть снисходительным к козням врагов. Вместе с тем нельзя было не заметить в его словах и в голосе глубокую и горькую обиду, боль в сердце, — ведь эта внутренняя борьба, эти раздоры истязали и распыляли их силы в то время, когда они были нужны для полезного и нужного дела.
— Вот какие получаются последствия, — продолжал он, — когда духовенство не понимает или не желает понимать своего назначения. Человек духовного звания является служителем христовой церкви, избранником верующего народа, вся его деятельность должна быть посвящена служению церкви и ее благосостоянию. Когда же он отходит от правильного пути и впадает в заблуждения, из слуги народа он становится господином, начинает повелевать, заставляет ради собственных выгод прислуживать себе. Он заключает союз со светской властью, которая также считает себя господином. Чем беспорядочнее светская власть, тем ему выгоднее. Зачем же удивляться тому, что наш епархиальный начальник пребывает в союзе с губернатором-пашой и сам, в равной мере, притесняет бедный люд…
— Я был у паши, — сказал Аслан, — он мне показался крайне лукавым.
— И лживый, к тому же, — прибавил Айрик, — как и всякий турецкий сановник.
Вечером, когда стало прохладнее, Айрик повел нас показать окрестности монастыря. С наслаждением показывал нам все, что он создал, делился с нами проектами на будущее. Этот энергичный человек производил на меня впечатление специалиста в области сельского хозяйства, которому известны все растения своего участка, все сáженцы, который изучил их жизнь, знаком с их особенностями и так их любит, как нежная молодка взращенные ею цветы. Он показывал поля, говоря, что вот здесь начато возделывание марены
[82], это первый опыт, который обещает много выгод, — вот вам тута
[83], и мы намерены заняться шелководством, а дальше — картофельные поля.
Он говорил:
— Несколько лет тому назад картофеля здесь не знали. Наш монастырь первый стал разводить его, с большим трудом удается нам убеждать окрестные села перенять наш опыт. Священники все еще спорят, можно ли есть картофель в постные дни.
Аслан улыбнулся.
— Меня обвиняют, — продолжал он, — что я открыл при монастыре земледельческую школу; говорят, это противоречит назначению монастыря. Посудите сами, г. доктор, кто, как не монах, должен иметь понятие, как возделывать землю. Ведь монастырь не только место для молитв; у него имеется обширное хозяйство, и для ведения его необходимо приобрести земледельческие навыки. Прочтите надписи на стенах монастырей и вы убедитесь, что и в давние времена наши цари, князья и княгини, а ныне благочестивые люди, жертвовали и жертвуют монастырям деревни, обширные леса, сады, поэтому монастыри в нашей области и вообще в Армении — самые богатые землевладельцы. Как же монахи могут управлять поместьями, если не знакомы с сельским хозяйством? Всякий подрядчик надует их, даже наиболее добросовестный. Не умея управлять, они по ветру пустят имения, как это случалось неоднократно.
— А не предвидите ли вы опасности в том, что монахи вместе с богатством получат и образование? — спросил Аслан.
— Какой же вред может принести образование? — изумился Айрик.
— Вред, который называется «клерикализмом». Необразованное духовенство неопасно, безвредно, но когда станет просвещенным, оно окажется силой, будет повелевать народом, эксплуатировать его.
— Вряд ли это может случиться у нас. «Клерикализм» противоречит духу нашей церкви. Наша церковь вполне народная. Да если духовенство станет образованным, начнет угнетать и эксплуатировать народ, то ведь и народ станет образованнее, и две силы уравновесят одна другую. Духовенство тогда опасно, когда оно по своему развитию стоит значительно выше, чем народ.
В виду крайней спорности вопроса Аслан не возразил ничего.
Солнце садилось. Мы вернулись в монастырь. Айрик просил нас остаться ночевать, но Аслан поблагодарил его, сославшись на неотложные дела в городе. Аслан велел мне приготовить лошадей к отъезду. Я отправился в конюшню, оставив Аслана наедине с Айриком.
Глава 16.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Солнце уже зашло, и сумерки надвигались все гуще, когда мы, сердечно простившись с Айриком, выехали из монастыря. Мы стали спускаться по крутому скату Варагской горы. Благодаря заботам Айрика дорога была утрамбована, и ехали мы без труда. Нас сопровождал священник Егише. По какому делу пришел он в монастырь, почему поехал с нами и о чем вел беседу с Асланом — не знаю, они ехали шагах в пятидесяти впереди меня.
Прошлое и настоящее о. Егише весьма интересно. Систематического образования он не получил. Еще с юношеских лет он, подобно философам древности, долго блуждал по разным странам в поисках знания. Обращался к известным грамматикам, риторам, логикам, богословам, вступал даже в братство монахов-пустынников, но нигде не мог удовлетворить неутомимой жажды знаний; побывал и в школе иезуитов, но скоро покинул ее. Живал у шейхов Дамаска и у раввинов Ливана. Бродячая жизнь и неудачные поиски знания развили в нем своеобразный скептицизм. Иначе и быть не могло. Ему не удалось найти чистых и ясных истоков истины. В его время не существовало еще хорошо поставленных школ. Встречались лишь одиночки-учителя, которые, придавая своим скудным и жалким познаниям большую ценность, дорого продавали их, как жрецы свою святыню. Нужно было наняться к ним в услужение, угождать их прихотям до тех пор, пока они сочтут достойным поделиться крупицей своих знаний.
Но о. Егише был человек здравого смысла. Долголетний опыт, непосредственное соприкосновение с различными людьми выработали в нем вполне самостоятельные убеждения, и его взгляды, зачастую и неправильные, были плодом его собственного мышления. Вернувшись к себе на родину, в Ван, он встретился с Айриком, подружился с ним и под его влиянием мысли его приняли совершенно иное направление. И вот тогда решил он посвятить себя воспитанию детей. Согласно его желанию он был рукоположен в священники, полагая, что духовному лицу предоставится более возможностей работать среди народа. Чтобы иметь независимее положение, а главное, во избежание столкновений со священнослужителями, отказался от прихода и других доходов, получаемых священниками. Отец Егише открыл у себя на дому школу для девочек, — первую женскую школу в Ване, но, как новое начинание, она просуществовала недолго. Его собратья восстановили невежественных прихожан против нововведений о. Егише: образование, мол, развращает девочек. Епархиальный начальник, конечно, мог успокоить взволнованное общественное мнение, но он, со своей стороны, стал разжигать страсти, и на третьем году школа была закрыта. Эта неудача доставила о. Егише много огорчений и тяжелых душевных переживаний в первую пору его деятельности. Но о. Егише не впал в отчаяние, он был терпелив и дальновиден.
Уже стемнело, когда мы вернулись в Айгестан. Отец Егише пригласил нас на ужин. Аслан, никуда не ходивший по приглашению, на этот раз с удовольствием принял приглашение… Ужин прошел довольно весело. Отец Егише рассказывал приключения из своих путешествий; что видел и делал в различных странах, говорил об Айрике, об его трудах, о невежестве местных священнослужителей. Я с интересом слушал эти занимательные рассказы.
Когда убрали со стола, Аслан спросил:
— Как вы думаете, она сегодня придет?
— Непременно, сегодня ночью, — ответил вполне уверенно о. Егише.
— Но ведь это ей будет нелегко? — усомнился Аслан.
— Она знает свое дело, достаточно у ней ума и сноровки.
Аслан с нетерпением поджидал сестру священника.
За время пребывания о. Егише на чужбине семью его постигла двойная утрата: скончалась мать, а единственная сестра, оставшаяся в сиротах, была похищена турком, стала его женой. Подобное насилие было обычным явлением, поэтому армянское общественное мнение отнеслось к нему весьма снисходительно. Отец Егише безумно любил сестру и не в силах был забыть постигшей ее беды. Его возмущало, что магометанам не возбраняется не только с легкостью уводить христиан, но и обращать их в свою веру. Раз девушка-армянка выходит замуж за магометанина или армянин женится на магометанке — добровольно или против воли — они обязаны порвать все связи с сородичами и не вправе называться армянами. При встрече с армянами им запрещено говорить по-армянски; они не смеют бывать даже у родных; должны избегать армян и считать их нечестивыми, «гяурами». Однако сестра о. Егише составляла редкое исключение: она осталась верной своей нации и религии и очень скрывала от магометан свои мысли и чувства. Она любила брата и тайком виделась с ним, развлекалась с его детьми и возносила хвалу богу за благоденствие отцовского дома.
Телли-Хатун — так звали ее теперь — была женою щефа полиции Латиф-бека, одного из тех преступников, которые из должности полицейского извлекают всяческие выгоды для удовлетворения безнравственных страстей своих. Он был тайным сообщником воров и разбойников, защитником бандитов, соучастником кровавых преступлений; едва ли в городе совершалось какое-либо беззаконие помимо него. В то же время он был любимцем губернатора-паши.
Сила нравственного воздействия Телли-Хатун была настолько велика, что своей мягкостью, умом и изворотливостью она могла, если не обуздать, то умерить зверства своего супруга. В то же время она оставалась любимой женой. «Что мне делать… привык… если съеденный мною хлеб не добыт порочным путем, не перевариваю его», — отвечал своей Жене шеф полиции в ответ на ее назидательные слова. У них в доме зачастую разрабатывались преступные замыслы и планы убийств, грабежей и поджогов, главным образом, среди христианского населения. Если Телли-Хатун не удавалось предотвратить нависшей беды, она тайком, не выдавая себя, предупреждала тех, кому грозила опасность, и спасала несчастных. Такими окольными путями она действовала в тех случаях, когда не была в состоянии помогать открыто.
Она была несчастной, многострадальной супругой. В ранней юности ее увели насильно из родительского дома, принудили ее отрешиться от христианской веры, от своей нации. Тогда в ней вспыхнул протест против всякого рода деспотизма. Сердце ее стало чувствительным ко всякому горю — своему и чужому. Это чувство с течением времени разрослось и из рамок личных переживаний перешло в горячую любовь ко всем своим сородичам, охваченным тою же безутешной скорбью. Преступные сцены, происходившие в их доме, и бесчинства, имевшие место почти ежедневно, все больше и больше разжигали в ней сильную ненависть к той нации и к тому правительству, которые являлись организаторами зверств. Она бы давно покинула это звериное логово, но переборола себя и осталась, чтоб по мере сил оказывать помощь несчастным. Она жертвовала собою, чтоб спасти другие жертвы. И это сознание примиряло ее с горькой участью.
Впоследствии, когда я познакомился короче с Телли-Хатун, я понял, что ее труды и заботы облегчить несчастья сородичей не ограничивались подобного рода помощью отдельным лицам. Ее намерения шли гораздо дальше, она имела довольно радикальные мысли относительно уничтожения царившего вокруг зла. Эти стремления развились в ней под давлением окружавших ее условий, а также благодаря влиянию брата.
По-видимому, она давно находилась в дружеских отношениях с Асланом. Это я понял тотчас же, как она с братом вошла в комнату. С несвойственной для женщины из гарема непринужденностью, она подсела к Аслану, взяла его за руку и улыбаясь спросила:
— Где ты пропадал? Все шатался по монастырям? Как я хотела видеть тебя!..
— И в монастыри необходимо заглядывать, — ответил с улыбкой Аслан, — наш народ пока что не отрешился от святых мест…
— Но знаешь ли, Аслан, что против тебя строят козни?
— Знаю и потому решил повидаться с тобой…
— Тебя выдали!
— Я давно ждал этого.
И Телли-Хатун передала Аслану письмо.
Аслан пробежал глазами и вдруг изменился в лице.
— Как оно попало к тебе? — спросил он со свойственным ему хладнокровием.
Телли-Хатун подробно рассказала обо всем.
Несколько дней назад секретарь паши вручил ее мужу упомянутое письмо с предписанием непременно отыскать описанную в нем личность. Телли-Хатун подслушала их разговор и тотчас смекнула, кого разыскивают. В отсутствие супруга она выкрала письмо из его бумаг. Письмо было написано на турецком языке, вот его краткое содержание:
«Во время праздника богоматери среди богомольцев появился какой-то монах в одежде схимника, затем он, под видом купца из Вана, отправился в шатер вождя племени езидов и оставался там весь день. (Вождь езидов был открытым врагом правительства). Выйдя из палатки, он исчез…»
Автор письма считает возможным, что эта личность прибыла в Ван. «Он является видным представителем большой группы заговорщиков, сеющих повсюду смуту. Эти негодяи слишком наглы и изворотливы. Их преданность своим идеям доходит до фанатизма, что делает их еще более опасными. В Ване он, несомненно, примет иной внешний облик».
Затем следовала приписка:
«Всеми этими сведениями я обязан, главным образом, настоятелю монастыря богоматери иеромонаху Карапету, вполне преданному нам, хорошо знакомому вашему первостепенству. В прошлом году о. Карапет имел счастье получить от вас в подарок дорогую шубу. Благодаря счастливой случайности ему удалось разузнать тайну, когда обманщик уже выехал. Я немедленно отправил людей арестовать его, но он исчез бесследно».
Письмо было адресовано губернатору Вана и подписано курдом Шариф-беком, с которым мы встретились в монастыре богоматери, куда он приезжал за получением своей доли кружечного сбора. Под подписью бека приложены были именные печати о. Карапета, тер Тодика и дяди Петроса с припиской: «Мы подтверждаем и удостоверяем, что все, изложенное в письме бека, верно и соответствует действительности».
— Хорошая троица: архимандрит, священник и представитель народа, — сказал со смехом Аслан, отложив в сторону письмо.
— Ты меня спрашивала, уважаемая госпожа, почему я рыщу по монастырям? Правда, от них я не жду ничего доброго, но все же стараюсь обезвредить их, лишить способности причинять нам зло. Сама видишь, кто предал нас…
По симпатичному лицу Телли-Хатун пробежало облако грусти.
— Ты выкрала письмо, следует положить его на место, — переменил разговор Аслан.
— Я думаю, что бог не сочтет за грех мое преступление, — улыбнулась она в ответ.
— Бог-то простит, но муж начнет подозревать, когда заметит, что письмо исчезло. Не помнишь, о чем еще говорил секретарь, когда вручал письмо паши?
— Помню все.
— Кто у них на подозрении?
— Ты! Мой муж сказал секретарю: «Этот доктор-европеец кажется мне подозрительной личностью»… Секретарь ответил, что доктор приглашен в гости к епархиальному начальнику; в числе приглашенных будет и сам паша, необходимо проверить доктора. Ты точно приглашен к епархиальному начальнику?
— Да.
— Советую не ездить, можешь попасть в беду.
— Напротив! Раз хотят меня «проверить», я должен поехать.
— Там будет и мой муж, он очень опасный человек.
— Опасен, но только для местных жалких обывателей-армян. Не забудь, что «лиса в курятнике становится львом!»
— Все же не мешает принять меры предосторожности!
— Ты раньше всегда подбодряла меня, а теперь обескураживаешь? «Лезешь в воду, не бойся промочить ноги», — говорит пословица. Я много чего перевидел на своем веку, во многих переделках побывал. Вы лучше подбодрите нас, вдохните уверенность и мужество, госпожа! В человеческом сообществе благие дела пойдут удачнее, если в них, наравне с мужчинами, будут принимать участие и женщины. Мессия раньше других это понял, и на заре христианства марии-магдалины оказались нужнее, чем павлы. Армянки V века зажгли тот огонь, который воспламенял героев Аварайра. И в современной нам жизни мы будем иметь удачу лишь тогда, когда женщина и мужчина будут идти рука об руку. Вы, как одна из добродетельных женщин, должны подать пример вашим сестрам. Обстоятельства забросили вас в совершенно чуждую вам среду и обстановку, вы во стане наших врагов. Другая на вашем месте погибла б, но вы доказали, что человек может быть полезен своей нации всюду, где бы он ни находился. Некогда армянки служили украшением гаремов не только персидских царей, но и монгольских ханов. И они приносили родине больше пользы, чем малодушные армянские князья. Они не раз спасали несчастную Армению от зверств кровожадных мужей, благодаря им страна пользовалась теми или иными правами. Вы — одна из них!..
В прекрасных очах Телли-Хатун блеснул огонек смущения. Слова Аслана слишком были лестны для нее. Она не промолвила ни слова.
— Меня удивляет одно, — спросил ее брат, до сих пор хранивший молчание, — каким образом о. Карапету или его единомышленникам стала известна ваша тайна?
— Очень просто, — ответил Аслан и рассказал историю раскрытия тайны, которая сильно заинтересовала меня, но, вместе с тем, ввергла в крайнее смущение.
Читатель, помнишь ли ты ту обворожительную ночь в праздник богоматери в монастыре, когда я и красавица Маро, предавались сладостной беседе у входа в палатку? Кругом в лагере богомольцев царила глубокая тишина. Вдруг вдали послышались звуки чудной песни… «Это поет схимник», — произнесла Маро. «Схимника» я встретил днем в овраге у «Катнахбюр»
[84], а ночью — в палатке моего дяди Петроса, беседовавшим с тер Тодиком. О чем они совещались, я не мог узнать. Я заинтересовался таинственным «схимником». Каково же было мое изумление, когда Маро сообщила мне, что это Аслан. Под видом схимника он бродил в окрестностях монастыря, среди богомольцев. Мы долго говорили о нем, но слишком неосторожно: в палатке подслушивала нас старуха Хатун, а мы думали, что она спит. Припомни, читатель, страшные угрозы разгневанной Маро по адресу моего дяди Петроса, тер Тодика и их единомышленников, припомни и то, как потом я и Маро отправились ночью к переодетому схимнику в пещеру на берег озера и провели у него всю ночь. Все это вызвало в голове наивной старой Хатун различные подозрения; тем более, что она давно косилась на мои взаимоотношения с Маро. Хатун была фанатична; она была из числа тех верующих женщин, которые полагают, что необходимо сообщать священнику обо всем. В данном случае она имела более серьезное основание передать слышанное во время нашей ночной беседы тер Тодику, потому что угрозы Маро относились, главным образом, к священнику, и набожная старуха сочла своим долгом предупредить его. Тер Тодик, как известно, принадлежал к типу людей, способных «с мутной воды пенки снимать», то есть он умел извлекать выгоду из самого ничтожного обстоятельства. Старуха же сообщила ему очень много важного. Тер Тодик вытряс из наивной головы старухи все, что было ей известно о домике охотника и о его посетителях. Затем, из чувства злобы и мести, он решил наказать Аслана и друзей его — их деятельность была не по душе Тодику и его единомышленникам: тотчас же сообщил он обо всем моему дяде Петросу и о. Карапету, затем Шериф-беку, находившемуся в монастыре богоматери, И вот вчетвером они состряпали донос губернатору-паше.
— Теперь, я думаю, понятно вам, откуда узнали нашу тайну о. Карапет и его единомышленники, — закончил рассказ Аслан.
Я сгорал от стыда. Нашим неосторожным разговором я и Маро выдали Аслана.
Аслан заметил мое смущение и стал успокаивать меня:
— Не тужи, все пройдет.
Телли-Хатун интересовалась, откуда и как стали известны подробности дела Аслану.
— На днях я получил письмо, — заявил Аслан.
Тут я вспомнил о встрече с Сусанной и Гюбби в Айгестане и о волшебной палочке с таинственным письмом внутри.
— Выходит, что ты раньше меня знал о предательстве, и я не оказала тебе особенной услуги, выкрав письмо паши?
— Ты обязала меня очень, — ответил Аслан.
Телли-Хатун улыбнулась.
— Но меня очень интересует, откуда могли быть известны автору твоего письма все подробности, рассказанные тобой о ночной беседе Фархата и Маро у входа в палатку, об исповеди бабушки Хатун, о предательстве священника и его единомышленников.
— Все сведения сообщила автору письма сама Маро. Когда тер Тодик устроил у себя на дому совещание с о. Карапетом, старшиной Петросом и курдским беком, их разговор подслушала дочь священника, прелестная Сона, и передала Маро, а Маро — моему корреспонденту. Видите, госпожа, и в данном случае женщина сыграла немаловажную роль.
— А про исповедь старухи священнику?
— Сама старуха рассказала Маро. Мне пишут, что бедняжка без конца плачет, узнав, что ее исповедь наделала так много вреда.
— Маро и Сона! — повторила Телли-Хатун с особой восторженностью, — две прозелитки, готовые служить благому делу. Как бы мне хотелось повидать их!
— Способные и одаренные девушки! Из них выйдет толк, — ответил Аслан.
Как мне было лестно слышать похвалы по адресу Маро и Сона!.. Обе девушки оставили в моем сердце неизгладимое впечатление. Разговор вновь коснулся доноса.
— Но мне все же остается непонятным, в чем кроется причина подобных предательств? — спросила Телли-Хатун. Отец Егише, хранивший до тех пор молчание, ответил:
— Если б ты была знакома с историей нашего народа, тебе было бы все понятно, дорогая сестра. Прискорбно наше прошлое, а настоящее — лишь его продолжение! Армян иногда сравнивают с евреями Но евреи сплочены. Например: в Афганистане, Белуджистане или в глухих уголках Бухары несколько еврейских семейств, издавна проживающих там, благоденствуют, растут и размножаются, потому что очень тесно связаны друг с другом. У армян не так. Где два армянских дома — там четыре партии. Распри и разногласия еще в давние времена разъедали, словно моль, наш народ по наследству передались и нам, они истощают наш национальный организм. Можно привести сотни примеров из нашей истории, когда персы, греки, арабы, сельджуки и другие монгольские племена заливали Армению кровью и всё предавали огню, пользуясь нашими междоусобицами.
— Разве не наши прадеды обратились к персидскому царю Враму с просьбой низложить армянского царя и вместо него назначить персидского марзпана
[85]? Таким поступком они положили конец могущественному царству Аршакидов! Разве не наши предки отправили греческому императору ключи города Ани и своими же руками подорвали основу царства Багратидов? А наш Васпуракан? Ведь когда-то он был особым армянским царством. Царь Сенекерим Арцруни добровольно передал его грекам, а сам зажил мирно и спокойно в Себастии. И кто же способствовал всему этому? Князья и духовный глава народа — сам католикос. Поэтому нечего удивляться, что какой-то негодяй-иеромонах и несколько корыстолюбивых людей строят козни против группы молодежи, поставившей себе весьма скромную, но благую цель — обеспечить народу мир и благополучие.
— Все это верно, — ответила сестра. — Я не знакома с историей нашего народа, но видела собственными глазами, как богатые армяне сами приходили к моему мужу и предавали друг друга. То же самое бывало часто и в доме паши. У турок вошло в поговорку: «Гяуры никогда не объединятся», другими словами: среди армян не может быть единения. Прискорбно такое мнение о нас, но хуже всего то, что это — правда…
Отец Егише с особым вниманием и удовольствием слушал здравые суждения сестры.
— Армянин, — сказал он, — мстит за оскорбление, нанесенное сородичем. Но если его обидит турок, курд или кто чужой, он способен перенести обиду. Не потому только, что армянин в неравном положении с турком или курдом и не может потребовать удовлетворения, причину следует искать в укоренившемся предрассудке, будто турок и курд вправе поступать с ним так, как им заблагорассудится. Отношение армян к своим собратьям и к чужим не одинаково.
Телли-Хатун слушала брата, подавленная грустью.
— Я приведу и другие примеры, — продолжал он, — когда армянин служит у армян — он часто бывает недобросовестен в исполнении обязанностей; но когда служит у турок — он становится верным слугою, в точности выполняет все требования хозяина. Слуги почти во всех богатых константинопольских домах знатных магометан — армяне.
Они причастны к гаремным тайнам и пользуются особым доверием обитательниц гарема. Казначеи у пашей всегда армяне. Оставим частности, возьмем факты покрупнее. Деревня, население которой составляют исключительно армяне, ценится гораздо дороже, чем такая же по величине и по числу жителей, занимаемая магометанами. А почему? Потому что армянин покорный и выгодный подданный, если хозяин иноплеменный. Но я знаю крестьян, которые плохо работают на своих хозяев-армян. В чем тут причина?
— Причина вполне ясна, — ответил Аслан, который внимательно слушал о. Егише, — наше настоящее, как вы сами заметили, является продолжением нашего тяжелого прошлого, и в нем следует искать причину подобных прискорбных фактов.
Беседа затянулась далеко за полночь.
Уже рассветало, когда мы вышли от священника. На прощанье Аслан с глубокой благодарностью пожал руку Телли-Хатун.
— Надеюсь, мы еще увидимся?
— Непременно, — ответила она.
— Где?
— Я сама приду к вам.
— Быть может, это неудобно?
— Нисколько.
Глава 17.
ВАНЕЦ НА ЧУЖБИНЕ
Наступила суббота, вечером мы должны были отправиться к епархиальному начальнику. Приглашение крайне прельщало меня, но ждать до вечера — это было невыносимо тяжело. Аслан занялся какими-то приготовлениями, а я, томимый бездельем, не знал, за что приняться. Вышел на улицу и сел у ручья в тени ивы. В знойные летние дни ивы — лучшее убежище от палящих лучей солнца, особенно для тех, у кого нет своего сада.
Сидеть одному наскучило мне, и я пошел бродить по Айгестану.
Своеобразную картину представляет улица Вана в летнее время. Люди живут и работают почти исключительно на улице. Вот плотник у дверей своего дома починяет соху; детишки старательно подбирают стружки и, словно муравьи, тащат их домой на топливо. Группа зевак, сидя на голой земле, наблюдает за его работой. Немного поодаль на ровном месте начерчены какие-то квадратики, а в них маленькие разноцветные камешки — играют в «волка и овцу», несколько человек наблюдают за их игрой. На углу улицы женщины и девушки тесным кольцом обступили бродячего золотых дел мастера-армянина, который установил свой передвижной горн на земле под деревом; он мастерит какое-то золотое изделие для одной, а другие с завистью смотрят на подругу. Под другим деревом коробейник разложил свой пестрый товар; он также имеет дело преимущественно с женщинами, которые несут свои рукоделия в обмен на различный товар. Торговец не прочь обменять кусок жвачки на курицу, сворованную детьми у себя же в доме. Торговля абсолютно патриархальная — вещь меняется на вещь. Дальше, под ивами, у ручья стоят люльки с младенцами; мать качает ногою колыбель, шьет, напевая песню, подобную тяжкому стону; они из тех несчастных матерей, чьи мужья мыкают горе на чужбине. Там и сям в тени ив, перед воротами, лежат больные; влажно-холодные ивовые листья, покрывающие головы и лица, освежают горячие тела их; молодые девушки обвевают их свежими зелеными ветвями. Полуденный зной возымел свое действие и на достопочтенного Симона; он перенес свою подвижную школу на улицу, усадил рядами своих питомцев на голую землю под деревьями. Школяры больше зевали на прохожих, чем глядели в книгу. Но магическая палочка достопочтенного заставляла их возвращаться к книге. Симон готовился к чему-то: группу своих питомцев он заставлял петь и, размахивая палочкой, сам подпевал им неприятным голосом. Прохожие останавливались и прислушивались.
Почтенный узнал меня и хвастливо обратился ко мне:
— Слышишь, как поют… Словно соловушки!
Я ничего не ответил. Тогда он повел речь с окружавшими.
— У ванцев я не в почете, а видел ли кто-нибудь школу, подобную моей? В Вараге тоже существует школа, но обучают там всякой чертовщине и совращают детей с истинной веры. Здесь также открылась новая школа: стали девочек грамоте обучать!.. Ну, слыханное ли дело! Благодарение богу, что скоро закрыли ее, а не то надели бы на головы девочкам фески… И они, девочки, сказали б вам: «Мы теперь мужчины, а вы — женщины. Топите печи, пеките хлеб, обед готовьте…» Правильно я говорю, почтенные?
Многие подтвердили его слова. Он намекал на злосчастную школу о. Егише, просуществовавшую так недолго! Достопочтенный продолжал:
— Как он мог обучать детей, ведь он круглый невежда! Как-то я задал ему замысловатый вопрос, — осекся о. Егише, онемел, словно Захария. Я и сказал ему: «Ступай, отче, и помни, с кем имеешь дело».
Слушатели стали приставать: что это был за вопрос? Достопочтенный долго испытывал их любопытство и, наконец, пояснил:
— Я задал вопрос: «Что это за ослиная челюсть, которой Самсон перебил три сотни человек?»
[86]
— Мудреный вопрос! — послышалось со всех сторон. — А вы не скажете нам, достопочтенный?
— Как бы не так! В Константинополе я заплатил один золотой учителю за то, что он научил меня. Я знаю много таких вещей, каких и сам Соломон мудрый не знал. Если б я не был хорошим учителем, его преосвященство архиерей и его высочество паша стали б мне оказывать такой почет? Видите этих учеников, что сейчас пели? Сегодня ночью я поведу их на званый вечер к епархиальному начальнику, они там будут петь. Сам паша будет в гостях.
Все слушатели пришли в изумление.
Я удалился, возмущенный наглым хвастовством учителя.
В нескольких шагах от передвижной школы сидел у ворот своего дома виноградарь и гнал водку в котлах. Котлы принадлежали отдельным лицам, которые отдавали их напрокат виноградарю и взамен получали определенную долю водки. Только у крупных владельцев садов имелись собственные котлы. Достопочтенный Симон время от времени подходил и вливал себе в глотку горячую жидкость, приговаривая: «Ну, теперь немного покрепче!» Казалось, будто он представлял собой измерительный прибор, посредством которого садовод определял крепость водки.
Незаметно очутился я за чертой жилых домов на берегу искусственного озера. Здесь собирается вода из родников и распределяется по очереди для орошения садов. Все озеро пенилось и клокотало наподобие гигантского котла. Множество головок то подымалось на поверхность, то вновь исчезало в воде. Купалась крестьянская детвора. На берегу лежали расслабленные от купанья ребятишки, погрузившие свои тела в прохладный сырой песок для защиты от палящих лучей солнца. Мальчики и девочки купались вместе. Как дети патриархального народа, они не стыдились друг друга. Я подошел к озеру. Вдруг окатило меня словно проливным дождем. Шалуны со всех сторон стали брызгать на меня водой: кто ртом, кто пригоршнями, кто арбузными корками. Я поспешил удалиться, промокший с головы до ног. Возвращаться домой наподобие мокрой курицы было бы обидно: ученики мастера Паноса подняли бы меня на смех. Я присел под деревом обсушиться.
Вокруг меня простирались возделанные поля, в огородах созревшие дыни слепили глаза. Хлеб во многих местах уже был собран в огромные скирды. Крестьянин старательно взваливал тяжелые снопы на тележку, перевязывал толстым кожаным ремнем и отвозил на гумно. Песня его была так же заунывна, как и скрип колес тележки; словно стонали оба: и крестьянин, и его тележка…
С другой стороны доносилась веселая беспечная песня гулявших горожан.
Было далеко за полдень. С моря дул холодный ветер и освежал изнуренную зноем природу. Поникшие листья стали оживать, стебли трав подымали головки, цветы улыбались. Окрестности оживлялись веселыми голосами гулявшего народа. Наступило время, когда ванцы запирают лавки и группами направляются в сады или на берег ручейков под сень дерев. Там и сям горят костры, дымятся вертела с шашлыками, воздух полон ароматом жареного мяса. На зеленой травке разложены белоснежные лаваши. Вокруг скромной трапезы собирается молодежь. Стаканы с водкой и вином обходят вкруговую; мертвая тишина садов оглашается их веселыми возгласами.
Неподалеку от меня на траве сидело несколько человек. Заметив, что я в одиночестве, пригласили к себе: они пришли на огород покушать дынь и арбузов. Ванцы любят отведать всякий плод на месте его роста.
На огородах виднелись небольшие строения наподобие башен, это были ночные убежища огородников. Они постоянно имели дело с ворами, потому им необходимо было укрепление. У одной башни дымилась небольшая печка, а на ней стоял глиняный кувшин. В нем огородник готовил себе ужин. Ах, сколько сладких воспоминаний воскресили во мне эта дымная печурка и этот глиняный кувшин! Не раз добрый огородник делил со мной свою скромную трапезу! Я покупал такой же кувшин, просил мать сварить такую же пищу, но никогда она не бывала так вкусна, как на огороде.
Заметив нас издали, огородник принес несколько зрелых дынь и арбузов и с поклоном положил перед нами. Я дал ему несколько курушей. С большим трудом он согласился взять деньги. Когда он удалился, один из сидевших сказал мне:
— Напрасно дали, они не берут денег. Раз мы сели подле его огорода — значит, мы гости.
— Но ведь он не приглашал нас, — возразил я.
— Все равно, здешний обычай таков.
— Во всяком случае, — заметил другой, — если дело дошло до платежа — заплатить должны были мы, ведь мы пригласили вас.
Третий заметил:
— Притом, вы слишком много дали; то, что он поднес нам, стоит всего несколько пари
[87], эти плоды очень дешевы у нас.
— Я подарил ему.
Они с удивлением посмотрели на меня, хотя и дал я очень мало.
Из трех собеседников один был ктитор
[88], другой — член квартального совета, третий — ремесленник. Темой их разговора был случай, происшедший в этот день в канцелярии епархиального начальника.
Какая-то крестьянка, не желавшая жить с мужем, часто убегала из дому к родителям. Муж побоями несколько раз приводил ее обратно к себе. В конце концов крестьянин обратился с жалобой к архиерею. Тот приказал явиться обоим и рассудил так: жену взвалили на спину мужу, связали и всыпали ей пятьдесят ударов лозовыми прутьями; после наказания приказали мужу отнести свою ношу домой, не снимая ее со спины. От побоев несчастная женщина всю дорогу находилась в бесчувственном состоянии.
— Правильный суд! — сказал я с иронией, — ей богу! Жену избили в наказание за непокорность, а мужу приказали нести избитую жену в наказание за неумение обуздать непокорную.
Собеседники приняли мои слова всерьез.
— Ну, конечно, правильный, — ответили они, — виданное ли дело, чтоб жена осмелилась перечить мужу и убежать из дому. Если у тебя сбежит осел, как ты поступишь с ним? Ясно, отколотишь и вернешь обратно в хлев. Хвала нашему епископу — правильно рассудил бесстыдников.
— Стало быть вы довольны епархиальным начальником?
Ктитор, толстопузый и толстоголовый мужчина, ответил, сощурив по обыкновению правый глаз.
— В нашей стране не бывало еще такого епархиального начальника; с пашой он — паша, с ханом — хан, с беком — бек. Когда он едет к паше — словно сардар
[89]: спереди — верховые, позади — верховые, столько свиты, что по улице пройти нельзя. Турки удивленно переглядываются: «Ну и свита у этого армянского халифа!» Подъезжает к дому паши. Навстречу — толпа слуг: один берет коня за узду, другой поддерживает стремя и на руках ссаживает с лошади. И вот с большими почестями ведут его к паше. Паша встает, подает руку, усаживает повыше себя. Кто пользовался таким почетом и славой?
— Было б хорошо, — заметил я, — если б его преосвященство мог использовать свое влияние для блага народа. Но про него говорят…
— Что говорят? — громко спросил ктитор.
Я промолчал. Член квартального совета вмешался в разговор.
— С нас довольно, милостивый государь, и того, что он пользуется почетом. Чрез него и нам почет. Пусть он и не делает ничего для народа, мы все же гордимся им пред турками.
— Говорят, что он больше любит турок, чем армян.
— Так и должно быть, — вмешался ктитор, — необходимо их задабривать.
— Скажите, а что за человек Айрик?
— Айрик? Дервиш
[90]! — ответил юноша, — никто не боится его.
— А епархиального начальника боятся?
— Ну, конечно!
Ктитор часто употреблял слово «конечно» и всегда при этом таинственно прищуривал правый глаз.
— Но зато Айрика любят, — сказал я.
— Кто его любит? — заволновался ктитор, — назовите мне хоть одного армянина-эфенди или армянина-бека, ну хотя б одного более или менее влиятельного человека, который любил бы его. А ведь они-то и главенствуют среди народа! Любят его только крестьяне и городская голытьба-ремесленники, у кого он бывает на дому. Ну, скажите, разве подобает ему знаться с такими людьми. Он ведь настоятель знаменитого монастыря. Ему следует вести знакомство с людьми, равными себе.
— А ведь сам Иисус Христос знался с бедным, как мы, ремесленным людом и всегда сторонился беков и эфенди, — заметил сидевший рядом ремесленник. Его, видно, привели в негодование последние слова ктитора.
— Ну, скажите, кто боится его? — спросил рассерженный ктитор и на этот раз по ошибке прищурил левый глаз. — Если б он водился с большими людьми, тогда б боялись его.
Я не вытерпел.
— Да зачем же бояться, какая в том необходимость? Ведь Айрик духовный отец. Разве дети должны бояться отца?
— Конечно, должны бояться. Коли дети не станут тебя бояться, сможешь ли удержать их в повиновении?
В общественной жизни они требовали такой же формы правления, как в семье, где самовластно царила железная палка деспота-отца. Считая вполне удачным приведенный им пример об отношениях между отцом и детьми, ктитор обратился ко мне со словами:
— Вы не знаете Айрика… Ведь его не боятся и ни во что не ставят. Если случается бывать ему у паши, он отправляется один, пешком и без слуг. На улице никто не узнает его и не уступает дороги. Слуги паши, когда он приходит, не встают с мест, да и сам паша оказывает ему холодный прием.
— И понятно почему, — возразил ремесленник, — ведь Айрик действует всегда наперекор паше.
Неоднократно слыша имя паши, я спросил:
— А что за человек паша?
— Дай бог ему долгой жизни, — ответил член квартального совета, — такого хорошего паши еще не бывало на свете. Сколько народу он перевешал, сколько ушей, рук, носов поотрубал, сколько домов сжег, сколько семейств погубил и овладел их имуществом! Его сабля сочится кровью! Все боятся его, как огня, всех он держит в страхе!
Страх, страх и страх! Странные создания люди: они любят силу, даже грубую, безжалостную, варварскую, чтоб преклоняться перед нею, боготворить ее! Я был уверен, что мнения как члена квартального совета, так и церковного ктитора были вполне искренние. Они были убеждены, что иначе и быть не могло, что необходимо постоянно чувствовать страх перед начальством, повиноваться ему, — будь то епархиальный начальник или правитель страны. Даже ремесленник, показавшийся мне человеком симпатичным, смолчал и ни слова не возразил, члену квартального совета. Быть может, он остерегался высказывать неблагоприятное для паши мнение!
— Выходит, ваш паша хорош лишь потому, что душит людей, грабит и сжигает дома? — задал я вопрос ктитору.
— Ну, конечно. Если он не будет действовать так, кто же будет бояться его? Все превратятся в зверей и перегрызут друг друга.
— Это равносильно тому, — возразил я ктитору, — что он сокращает число других зверей, чтобы самому пользоваться их добычею.
Он ответил мне:
— Лучше довольствовать одного крупного зверя, чем сотню мелких.
— И наедаться крохами с его стола…
Ктитор посмотрел на меня в упор. Не знаю, удивляли его или сердили мои слова. Я понял, что имею дело с людьми, преклоняющимися перед силой, и потому решил показать себя.
— Сегодня вечером я встречусь как с вашим пашой, так и с епархиальным начальником.
Ктитор был ошеломлен.
— А вы кто будете, позвольте узнать? — спросил член квартального совета.
— Я переводчик доктора-европейца, приехавшего в ваш город. Мы приглашены сегодня на ужин к архиерею. Там будет и паша.
Они стали относиться ко мне с особенной почтительностью.
Появление достопочтенного Симона с группой певчих прекратило наш спор.
Достопочтенный взял с собой только певчих, а остальных учеников распустил. Сегодня он приглашен к архиерею, так весь город должен знать об этом, а здесь собралось довольно много народу. Проходя мимо нас, учитель многозначительно кивнул головой ктитору и сказал:
— Сегодня будем петь «там»…
— Хвала тебе, почтенный Симон. Да не иссякнет голос твой, — ответил ктитор.
Достопочтенный подал знак, и дети запели:
Соловушка с кустика розочку мáнит,
На камешке пéрепел «пи-пи-пи» кличет.
На зов соловья зарумянилась розочка,
На зов перепелки любимый слетел.
Люби, перепелка, — ведь друг твой любезный,
Люби, соловейко, твой кустик чудесный!..
— Прекрасная песня! Хорошо поют, — промолвил ктитор. — Владыко очень любит эту песню.
Не знаю, что было хорошего в этой бессмысленной и бессвязной песне, да и исполнение было прескверное.
Когда учитель удалился, ктитор сказал мне:
— Не человек, а золото наш Симон. С того дня, как открыл он школу, любо смотреть на наших сыновей! Раньше были головорезами, а теперь присмирели, словно овечки, пикнуть не смеют!
— Правду говорите?
— А чего мне врать? — обиделся ктитор. — Попробуй мальчуган пикнуть дома, мать сейчас же: «Учителю скажу». Ребенок со страху затрясется и смолкнет.
И здесь страх и страх! Мне пришла на память мать и школа тер Тодика: «Нужно бояться паши и архиерея, чтоб пребывать в послушании, чтоб не творить злого дела. Нужно бояться и учителя, чтоб научиться чему-нибудь и стать благонравным…»
Нашу беседу вновь прервала проходившая группа молодых людей; впереди выступали музыканты, за ними какой-то хорошо одетый мужчина в окружении пьяной компании с бутылями водки в руках; бездельники на ходу пили и горланили на всю улицу.
Мои собеседники привстали и крикнули им:
— Здорóво, Минас-ага, живи и весь век веселись!
Минас-ага — хорошо одетый господин — кивнул головой в знак благодарности, и пьяная компания удалилась.
— Кто этот Минас-ага? — спросил я.
Член квартального совета не дал мне прямого ответа.
— Недавно вернулся из Константинополя, много денег привез.
— А теперь сорит ими…
— А что ему делать, божий человек! Ведь мы один раз рождаемся, один раз и помираем, вторично не появимся на свет! Пока жив — пей, ешь, веселись! Нажитого в могилу не унесешь…
— Пусть пропадом пропадет этот мерзавец, — ответил ремесленник на философствование члена совета, — лет десять босой бродил он по улицам Константинополя с бурдюком за плечами и стаканами воду продавал… Семья дома жила впроголодь. А теперь сколотил себе небольшое состоянье и швыряет деньгами зря, без расчету, направо и налево… Но ненадолго хватит! Влезет в долги, вернется в Константинополь и опять примется за прежнюю профессию… А семью оставит без куска хлеба на произвол судьбы.
— Неужели продавец воды в Константинополе здесь может стать барином, ага? — удивился я.
— Да, — ответил ремесленник. — У нас в Ване такой порядок: у кого завелись в кармане пара-другая курушей, тот и барин. Здесь не смотрят на то, каким преступным путем он их заработал.
Прошла другая группа людей.
— Вот вам и другой ага, — продолжал ремесленник, указывая на хорошо сложенного молодого человека, — этот тоже недавно вернулся из Константинополя. Там он был тёрщиком в банях. Надо видеть тамошние бани, какой разврат царит там — и вы тогда только поймете, какую низкую и позорную роль играет тёрщик. На днях он женится на девушке из порядочной семьи. Но не долго ему роскошествовать! Проест и прогуляет он деньги, влезет в долги, бросит несчастную жену на произвол судьбы, поедет обратно в Константинополь и опять примется за прежнее ремесло!..
Вдали показался о. Егише.
— «Фармазон»
[91] идет, — произнесли с усмешкой ктитор и член совета.
— А что такое «фармазон»? — спросил я ктитора.
— Неверующий человек. Он открыл в нашем околотке школу для девочек, но мы собрали прихожан и ликвидировали ее.
Ремесленник ничего не сказал. Отец Егише не показал и виду, что знаком со мной. Поздоровался и подсел к нам. Ктитор и член совета встали и удалились, как от чумы. Батюшка спросил ремесленника, как он поживает, а затем обратился ко мне:
— Вы вероятно, приезжий?
— Да, я состою переводчиком у доктора-европейца. Сидеть дома наскучило, вышел подышать свежим воздухом.
— И хорошо поступили, сын мой. Вот вы и познакомитесь с жизнью ванцев, с их развлечениями.
Ремесленник продолжал свои замечания:
— С жизнью ванцев следует знакомиться в самом Константинополе. Видите, как они здесь разодеты, прифранчены, беспечно разгуливают по городу, развлекаются, всего у них вдоволь. А посмотрите вы на них в столице! Грязные, ободранные, голодные, бродят без дела по улицам и нередко попрошайничают. Но вот ванец нашел работу, сколотил небольшую сумму, достаточную, чтоб переплыть море и прожить несколько месяцев в семье. Покупает пару платья, возвращается на родину и живет на широкую ногу, позабыв, с каким трудом он нажил состояние. Большинство все же годами остается в столице, так как не может скопить денег на обратный переезд. Мы должны благодарить море: оно оказывает нам большую услугу. Не будь между нами и Константинополем моря, все ванцы поголовно перекочевали бы туда. По суше они могут идти пешком, но для путешествия по морю нужны деньги, а добыть их ванцу нелегко — приходится все закладывать.
— А разве ванцы не сорят деньгами в столице? — заметил о. Егише. — Там творится то же, что и здесь.
— Вы правы. Многие забывают родной дом, семью и остаются на чужбине до самой смерти. Жизнь их поистине достойна сожаления. Трудятся месяцами, но завелось несколько грошей — всё спустят в один день. В них пробуждаются животные страсти, и они отдаются пьяному разгулу и разврату. Приходят в себя лишь тогда, когда хозяин кофейни оберет их до последней нитки и вышвырнет их из своего злачного заведения на улицу.
— А каким путем они добывают себе средства?
— Самыми низкими путями. Мне понятно, когда великан-мушец или могучий шатахец отправляются в Константинополь. Они избирают профессию, подобающую мужчине: становятся амбалами
[92] в таможне или на пристани, выгружают с пароходов огромные тюки, или нанимаются в пожарники, смело врываются в дом, объятый пламенем, или же поступают в матросы и борются с волнами — словом, избирают род занятий, требующий физической силы, здоровья и отваги. Но когда тщедушный, слабосильный ванец уходит на заработки, он избирает более легкую профессию. Отправляются они еще в молодые годы, поступают в ученики к цирюльникам или прислужниками в кофейнях, или же, как видели на примере Минас-ага и другого молодого человека, тёрщиками в банях, или же продавцами воды на улицах. Но больше всего развращает служба у частных лиц, преимущественно в домах богатых магометан или сановника-паши. Чтоб понять, какую позорную работу выполняет
эйваз-прислужник, надо знать магометанскую семью. Он научается подличать, гнуть спину, привыкает к утонченному разврату гаремов — и здесь умерщвляет свою мужественность. И не редкость, когда прекрасно одетый красавец-эйваз, на склоне лет превращается в жалкого оборванца. С корзиной за плечами бродит он по улицам, собирает по дворам мусор и за несколько грошей сбрасывает в море. В обоих случаях он унижает себя, уклоняется в сторону, скатывается вниз…
В словах ремесленника почувствовалась горечь. Он продолжал:
— Взгляните на эту гуляющую и развлекающуюся толпу, на этих беспечных людей — все они по уши в долгах. Среди них вы не найдете ни одного, кто бы раз десять не побывал в столице и не прожил там несколько лет. Леность, праздность и роскошество вывезли они оттуда.
Я вспомнил слова, сказанные как-то Асланом: «Константинополь развратил ванцев, много времени и труда понадобится, чтоб преобразовать такое общество».
— Прискорбно то, что описанная вами язва переносится в деревню и заражает трудовое крестьянство, — подтвердил о. Егише, когда ремесленник закончил интересное повествование о ванцах, — Они также начинают бросать земледельческий труд и отправляются в Константинополь на заработки. Лучшие силы народа физически расслабляются и гибнут на чужбине.
Солнце уж склонялось к закату. Я стал торопиться домой, так как Аслан ждал меня. Отец Егише и я попрощались с ремесленником.
На обратном пути я спросил батюшку:
— Кто он?
— Кузнец.
— Но как дельно говорит и внушает уважение к себе.
— Он довольно развитой человек, — и, оглянувшись по сторонам, прибавил шопотом, — он «из наших».
— Аслан знает его?
— Да.
— А он Аслана?
— Нет, не знает.
Солнце уже зашло. По моему лицу скользнула приятная прохлада. Гуляющая толпа все увеличивалась. Слышались песни, веселые голоса, смех.
Я вспомнил слова Аслана: «Этот народ смеется сквозь слезы…»
Глава 18.
ИСПЫТАНИЕ
Поздним вечером мы сели на лошадей и отправились к епархиальному начальнику.
По дороге я спросил Аслана.
— Как ты думаешь, архиерею известно про донос?
— Разумеется. Паша непременно посоветовался бы с ним.
— Следовательно, опасения Телли-Хатун были не напрасны?
— Нет, совершенно напрасны!
— Почему? Ведь архиерей с большим удовольствием разрешит арестовать тебя у себя дома, если убедится, что ты — разыскиваемое им лицо.
— Правильно, но убедиться в этом не так уж легко.
Я смолчал, увидя его уверенность в себе.
— Согласно местным обычаям, — сказал мне Аслан, — ты станешь в дверях комнаты. Старайся не пропустить мимо ушей ни единого слова.
У подъезда епархиального дома стояла толпа слуг в ожидании гостей. Нас встретили с крайней предупредительностью и повели во внутренние покои. Мы были уверены, что нас пригласили на скромный ужин, какой подобает духовному лицу, но увидели совсем иное. Один из залов был торжественно убран, яркий свет слепил глаза. Впервые мне пришлось увидеть подобную роскошь!
В почетном углу на бархатных подушках, разложенных по прекрасному персидскому ковру, восседал его преосвященство. По правую сторону — паша, по левую — известный курдский бек.
На архиерее была пурпурная ряса, на груди сверкал украшенный алмазами османский орден. В Персии правитель страны обычно надевает кроваво-красную одежду в день предания людей казни. Увидя пурпурную рясу его преосвященства, я невольно припомнил пресловутый приговор, вынесенный им сегодня по делу крестьянки. Но, конечно, это совпадение следует считать случайным.
Его преосвященство принимал гостей сидя и лишь протягивал руку, чтобы гость приложился к ней. Но при входе Аслана архиерей не разрешил ему выполнить принятой церемонии, сам привстал немного, дружески пожал руку и указал ему место подле паши. Все сидели на коврах, стульев в зале не было. Я стал слева от дверей, правую сторону занимал телохранитель паши.
И он и я были при оружии. Руки обоих лежали на рукояти кинжалов. Телохранители обыкновенных лиц дожидаются в передней, как в данном случае слуга курдского бека; но когда телохранитель остается в той же комнате, где имеет аудиенцию господин его — это считается особым почетом.
Обменявшись положенными по церемониалу приветствиями, когда каждый в знак глубокого почтения, сначала опускал руку, а затем прикладывал ко лбу, паша с отменной улыбкой, столь не идущей к его огрубелому лицу, обратился к Аслану.
— Господин доктор, я намерен был лично посетить вас и заявить вам мою глубочайшую признательность за оказанную вами чудодейственную помощь. В настоящее время я вполне здоров.
— Вы меня смутили, ваша светлость, неужели вы придаете большое значение оказанной вам столь ничтожной помощи?
— Весьма и весьма большое значение, г. доктор, — повторил паша, покачав головой. — Уверяю вас, если б я не знал, что Магомет последний совершенный пророк и после него не появится другой, я должен был бы признать вас посланцем бога, нисшедшим на землю, чтоб творить чудеса.
На такую двусмысленную лесть Аслан ответил:
— Времена чудес уже миновали, ваша светлость; наш век — век науки и искусств, которые творят более великие дела.
Паша продолжал настаивать на своем.
— Лично для меня век чудес еще не миновал, г. доктор. Я человек верующий. Целых пять лет я промучился в Стамбуле, пять долгих лет. Меня пользовали знаменитые врачи султана; но безрезультатно. Ваши лекарства вернули меня к жизни.
Паша, как потом пояснил мне Аслан, не страдал никакой болезнью, и Аслан прописал ему лекарства лишь для успокоения его мнительности.
Но, может быть, была и другая причина, может быть, хитрый паша притворился больным, чтоб подольше задержать доктора в Ване и выяснить возникшие насчет Аслана подозрения. На востоке открытое проявление лести служит признаком благовоспитанности. Поэтому Аслан, следуя местным, укоренившимся в быту, правилам, обратился к архиерею:
— Не знаю, как мне вас благодарить св. отец, ваше рекомендательное письмо оказало мне превеликую услугу: я почти достиг своей цели.
— Наш долг, господин доктор, удовлетворять по мере сил и возможности любознательность посещающих нашу страну путешественников и создавать для них всевозможные благоприятные условия в деле изучения края и народа. Крайне сожалею, что не мог предусмотреть опасностей, связанных с посещением пýстыни Ктуц. Море наше хоть и невелико, но весьма бурливо. Чрезвычайно рад, что вам удалось так смело преодолеть все трудности пути. Вы, г. доктор, не только искусный врач, но и отличный моряк и пловец… Я с восхищением слушал о проявленном вами мужестве во время бури.
— У нас, св. отец, уже давно стало необходимым требованием воспитания готовить юношество для борьбы со всякими опасностями. Раз приходится иметь дело с морем, необходимо научиться бороться с волнами.
Разговор Аслана и архиерея, казалось, являлся своего рода глухим препирательством, пересыпанным тонкими намеками и двусмысленностями.
Ответы Аслана заставил архиерея переменить тему разговора.
— Вы посетили Варагский монастырь, не так ли, г. доктор? Как вы нашли монастырь и учреждения? Повидались ли с Айриком?
— Да, и остался весьма доволен. Его монастырь должен служить поучительным примером для духовенства в деле воспитания народа.
— Я также горю желанием и прилагаю все усилия к возвеличению Варагского монастыря, если позволят обстоятельства, постараюсь придать тот же облик всем монастырям моей епархии. Вследствие неблагоприятных исторических условий наши монастыри обретаются в весьма плачевном состоянии; все мои усилия направлены к тому, чтоб вывести их из состояния упадка и развала, поднять на должную высоту.
Так говорил самый заядлый враг Айрика, тайными и явными путями старавшийся уничтожить все учреждения Варага. Это было подлое лицемерие, желание приписать инициативу и славу Варага себе. Епархиальный начальник не задержался на этой теме и переменил разговор.
— Я так увлекся расспросами о ваших приключениях в пути, что совершенно позабыл познакомить вас с моими гостями. Вот Шериф-бек — глава крупного и храброго курдского племени.
— Весьма рад познакомиться, — протянул руку Аслан курдскому беку.
— Препочтеннейший человек и мой лучший друг, — продолжал архиерей, — защитник и покровитель местных христиан. Благодаря ему на наших и персидских границах царят мир и безопасность.
Я тотчас узнал бека; вероятно, Аслан узнал его раньше меня. Мы встретили его в монастыре св. богородицы, когда он приезжал поделить с о. Карапетом полученными с богомольцев доходами. Его донос на Аслана мы читали прошлою ночью у о. Егише. По-видимому, он самолично приехал к паше на совещание по этому делу, быть может, был вызван пашой.
— Вот Латиф-бек, начальник полиции нашего города. Препочтеннейший человек! Благодаря его стараниям в городе царят мир и тишина.
Аслан протянул руку… «препочтеннейшему человеку», супругу госпожи Телли-Хатун, которому было поручено разыскать Аслана. Он все время молча всматривался в Аслана из-под густых насупленных бровей. Смотря на него, я думал о доброй, безупречно честной Телли-Хатун, которая стала жертвой подобного зверя. И курдский бек и начальник полиции были в полном вооружении.
Кроме них, за столом сидело еще несколько гостей, среди которых было три армянина.
— Это — Шарман-бек, выдающийся представитель местного армянского общества. В его руках — все возводимые государством постройки, что свидетельствует о высоком доверии к нему. Не так давно августейший султан пожаловал его знаком отличия.
На груди Шарман-бека сиял орден. При его имени я вспомнил рассказанную мастером Фаносом историю о постройке государственных казарм. Это был тот Шарман-бек, который все расходы по построению зданий взыскал с армянского населения, а полученную из государственного казначейства сумму поделил между пашой и другими официальными лицами. Я должен повторить этот рассказ, чтоб ты восстановил его в памяти, читатель!
В окрестностях Вана, или на персидской границе, турецкие пограничные части, за отсутствием казарм, расквартировались в домах армян. Каждая семья обязана была содержать несколько солдат. Незваный гость, таким образом, становился господином семьи: ему должны были прислуживать невестка, дочери, жена хозяина дома, а сам хозяин, как слуга, обязан был смотреть за лошадью. Слабохарактерный и прожорливый турецкий солдат, когда пьет и ест даром в домах армян, становится чрезмерно требовательным. В случае, если его требования и прихоти не выполняются, пускает в ход нагайку. Представьте себе патриархальную, крестьянскую семью, живущую под одной кровлей с безнравственным турецким солдатом: нередко честь семьи приносится в жертву его похоти. Правда, армянин привык выносить всякие насилия, но когда затронута честь семьи — наступает конец его долготерпению. Представители общества неоднократно заявляли протест властям, требуя удаления солдат. Тогда правительство решило выстроить для пограничников специальные казармы и отпустило требуемые средства. И вот Шарман-беку, подрядчику по стройке государственных зданий, открылось широкое поле деятельности. Он обратился к простодушным крестьянам с таким предложением: «Если вы желаете избавиться от несения квартирной повинности, постройте на свой счет казармы. Таков приказ свыше». Крестьяне решили пожертвовать всем, лишь бы освободиться от непрошенных гостей. Имущие платили деньгами, бедняки выходили на постройку с рабочим скотом, возили камень, дерево, известь. Словом казармы были выстроены. Правительство наградило Шарман-бека орденом за понесенные труды.
— Шарман-бек человек весьма благочестивый и большой патриот, — прибавил архиерей, — Если б знали, сколько он принес пользы нашему обществу. Не так давно он отремонтировал на собственные средства храм при одном монастыре.
Отмеченный архиереем случай в действительности имел место. Но грабить народ и в то же время строить храм — едва ли можно признать за благочестие. Аслан ничего не сказал. При последних словах архиерея Шарман-бек вышел из состояния неподвижности; по его самодовольному окаменелому, цвета кирпича, лицу пробежало нечто вроде улыбки; он приложил руку к груди, словно желал проверить, на месте ли орден.
— Вот махтеси Торос. Несколько раз побывал в Иерусалиме. Один из видных и богатых купцов города, ктитор кафедрального собора. Дай бог ему долгой жизни, много поработал на пользу нашего храма. Крайне благочестив, а также большой патриот.
Аслан не удостоил «патриота» даже взглядом.
Я отвернулся, чтоб не рассмеяться.
Знаете ли, кто был этот «богатый», «крайне благочестивый патриот»? Тот самый купец-надувала, который приходил к Аслану и, под видом антикварных редкостей, спустил ему фальшивые старинные монеты. Тогда он, подобно еврею-коробейнику, надел лохмотья, чтоб вызвать жалость и сострадание. А теперь, несмотря на летнюю пору, облачился в роскошную шубу на лисьем меху, подпоясанную кушаком из плотной персидской шерсти. Не желая смущать его, Аслан не показал и виду, что узнал, да и трудно было узнать его теперь: голову покрывала феска, перетянутая шелковым платком, называемая «язма», морщинистое лицо было начисто выбрито, а нос, напоминавший верблюжье вьючное седло, казался еще длиннее и закрывал собою всю верхнюю губу. Из расточенных архипастырем по его адресу похвал одно лишь соответствовало действительности — что он был очень богат и служил у паши как бы банкиром, в трудные минуты ссуживал его деньгами за большие проценты, а взамен получал на откуп сбор податей в деревнях; в каком размере и какими путями он получал с крестьян подати, — это зависело от его совести, если только у него водилась совесть.
Третий гость — скорчившийся старичок с горбом на спине. Он также побывал не раз в Иерусалиме, тоже, по словам архиерея, «благочестивый патриот». Звали его махтеси Аро. Достаточно было посмотреть на него и услышать его речь, чтоб представить себе, что такое «иезуит». Он являлся главным золотых дел мастером города и продавцом драгоценных камней, был в близких отношениях с домом паши и снабжал его гарем предметами роскоши. Меня удивило, что архиерей не назвал его «благочестивым патриотом» и ограничился лишь словами: «человек весьма именитый и видный». И вправду, армяне-ювелиры и золотых дел мастера были нередко людьми «весьма видными», пользовались большим весом во дворцах султанов и шахов, благодаря деловым сношениям с влиятельными евнухами и со всем гаремом.
— Все они, — заключил архиерей, — заседают в городском судебном меджлисе.
После речей епархиального начальника паша принялся развлекать Аслана шутками и остротами, много смеялся, хотя в его шутках не было ничего смешного.
— Надеюсь, что древности нашего города удостоились вашего внимания, г. доктор? — спросил он.
— Да, древности достойны внимания, — ответил Аслан, — но все новое, к сожалению, производит весьма тяжелое впечатление.
Паша или не понял намеков Аслана, или пропустил мимо ушей. Вместо него ответил архиерей.
— Если б вам пришлось видеть наш город лет десять назад, он представлял одни развалины; теперь же выглядит довольно прилично; дома восстанавливаются, население живет в мире и покое. Всем этим мы обязаны светлейшему паше, он принес нам благополучие и счастливую жизнь.
— Сущая правда, да продлит господь дни нашему светлейшему паше, — ответили хором все три «именитые» армяне.
— Весьма рад! — ответил Аслан, — светлейший паша несомненно займет в моих путевых заметках достойное место.
Как следовало понять слова «достойное место»? Паша, разумеется, принял их в положительном смысле и с особой нежностью, столь не шедшей к его суровому лицу, пожал Аслану руку.
— Благодарю, г. доктор, за ваше внимание. Надеюсь ваши путевые записи будут опубликованы?
— Ну, конечно, может быть даже на нескольких языках.
Один из «именитых» армян, сидевший ближе всех к Аслану, махтеси Аро, наклонился к нему, будто желая сказать что-то по секрету.
— Паша достоин всяческих похвал, — произнес он так громко, что расслышали все, — мне уже восемьдесят лет, г. доктор, много перевидал я на своем веку. Прежде жилось очень плохо, а теперь, представьте, волки и овцы живут рядышком, никто ни днем ни ночью не запирает дверей. И не к чему: воров у нас нет и в помине. Положите себе на голову кусок золота и ступайте куда глаза глядят, никто вас не тронет: повсюду у нас тишь да гладь. Недовольных нет: и бедняки и богачи возносят к небу молитвы, благодарят бога за счастливую жизнь.
Низкая лесть и угодливые заискивающие речи лились без меры, без конца. В этой лести следовало искать главную причину несчастий и бедствий страны. Теперь я вполне понял истину слов Аслана, сказанных мне и Маро на празднике богоматери, он говорил о том, какую вредную роль играют в злосчастной судьбе армянского народа его «представители». Тогда я впервые услышал о деяниях клерикала, правительственного чиновника, капиталиста и им подобных лиц; теперь же мне пришлось воочию увидеть живые воплощения этих типов. Предположим, что Аслана, в качестве консула или официального представителя, направили для расследования внутреннего положения в стране. Ведь он не зашел бы в избу крестьянина, не обратился бы к голодному горожанину. Он непременно попал бы в окружение описанных нами льстецов и приспешников. Какое представление он мог составить о положении страны? Разумеется, благоприятное! Эти люди играют вредную роль и перед высшей властью. Когда протесты угнетаемого населения доходят, наконец, до Высокой Порты, когда жалобы касаются злоупотреблений пашей, мудиров
[93] и каймакамов
[94], тут как тут вмешиваются названные негодяи и подхалимы и, в противовес петициям жалобщиков, составляют якобы всенародные благодарственные приговоры и отправляют в Константинополь. Таким образом, протесты населения остаются без последствий и теряют всякое значение. Подхалимам верят больше — ведь они именитые «представители народа»! Их интересы связаны с интересами грабителей страны, естественно, они будут защищать этих грабителей.
Аслан, видимо, не мог сдержать себя.
— Но все же, — заявил он, — бесчинства и зверства имеют место в стране. Во время моего переезда через персидскую границу курды из племени Джалали, перейдя границу, сожгли на персидской земле более десяти армянских поселений, угнали скот и перебили пастухов. Этот разбойничий набег нагнал такой страх на окрестных жителей, что они боялись выходить на поля, и хлеба не убирали, совершенно прекратилось караванное движение.
Происшествие, на самом деле, имело место. Но я не понял, почему Аслан заговорил об этом. Создалось довольно щекотливое положение. Дело в том, что присутствовавший на вечере Шериф-бек был главой племени Джалали, совершившего разбойничье нападение. Аслан не показал и виду, что знает об этом. Чтобы еще сильнее уязвить Шериф-бека, добавил:
— Я непременно доложу куда следует все собранные мною факты.
Последние слова Аслана мне показались совершенно бестактными. К чему было вооружать против себя курдского бека? Ведь он не допустил бы, чтоб донесения Аслана были доставлены по назначению. Он отправит своих людей — курьера и самого автора донесения схватят и расправятся с ними.
По-видимому, Аслан хотел отомстить курдскому беку не только за предательский донос паше, но и за то, что он приехал в Ван помочь паше разыскать подозреваемую личность. Выходка Аслана привела в замешательство трех «именитых» армян — они посмотрели друг на друга, как бы ища слов в оправдание курдского бека; смутился и епархиальный начальник, а паша не нашелся, как выгородить своего ярого помощника.
Но курдский бек был не только отчаянным головорезом, но и ловким дипломатом.
— Вы, г. доктор, какой дорогой проехали сюда? — спросил он спокойным тоном. — Вероятно, не той, раз вам посчастливилось избегнуть грозившей беды?
«Ну, допрос начался! — подумал я. Вопрос поставлен довольно хитро. Сумеет ли вывернуться Аслан?».
— Со мной и не могло приключиться беды, — небрежным тоном ответил Аслан, — еще в Арзруме местный французский консул предупредил меня о тревожных настроениях курдов и выхлопотал у губернатора предписание, чтоб мне повсеместно предоставляли для охраны конных стражников, в каком количестве потребую я, В пути меня постоянно сопровождал вооруженный отряд.
— Вы правы, г. доктор, предосторожность всегда необходима, — произнес бек тоном смущенного стрелка, не попавшего в цель. — Вы, наверное, проехали через Тимар?
— Нет, я арзрумским караванным трактом проехал до Баязета, оттуда в Маку, где имели место описанные мной беспорядки, затем в Хой, Тавриз, восточным берегом Урмийского озера прибыл в Урмию, оттуда в Баш-Кале и Хошабским ущельем — в Ван.
Курд смутился больше прежнего. Описанный Асланом путь совершенно не совпадал с теми местами, по которым должно было проехать подозреваемое им лицо. Тогда он прибег к последнему средству.
— Если б вы оставили в стороне Хошабское ущелье и держали путь на Чол Чиман, вам представился бы случай побывать на празднестве в знаменитом армянском монастыре; как европейцу-путешественнику вам было б интересно познакомиться с ним!..
— Когда я проезжал мимо, мне сказали, что празднество уже кончилось и богомольцы разъезжались по домам.
У курдского бека иссяк весь материал для скрытого допроса, и он смолк.
Тогда Латиф-бек, который все время молчал, обратился к паше.
— Хорошо бы и нам, по примеру Арзрумского губернатора, снабдить доктора охранным листом для ограждения от опасности в пути. В пределах Ванской области он наш гость! Если не ошибаюсь, — продолжал он, обращаясь к Аслану, — вы через день покинете наш город, поэтому следует поторопиться. Необходимо только переслать нам завтра имеющиеся у вас бумаги Арзрумского губернатора, чтоб заготовить новые по их образцу.
«Влопался!» — подумал я.
Начальник полиции в очень корректной форме требовал у Аслана предъявления официальных документов; выходит, что Латиф-бек не удовлетворен словесным заявлением Аслана, что у него имеются бумаги, выданные губернатором Арзрума.
Паша уловил скрытый смысл слов шефа полиции.
— Да, да, г. доктор, — лукаво поддакнул он, — вы наш почетный гость, и мы обязаны создать все благоприятные условия для вашей поездки, гарантировать от всяких опасностей, хотя этого у нас в области не может произойти.
— Благодарю вас за внимание, ваша светлость, — ответил Аслан, — вы оказались столь добры и предупредительны, что я не счел нужным своевременно предъявить вам рекомендательное письмо Арзрумского губернатора; вы без всяких рекомендаций проявили готовность помочь мне.
Пашá опешил. Желая скрыть смущение, он выразил на лице фальшивую радость.
— Неужели? Вы, г. доктор, сверх меры скромны, вы лишили меня большого удовольствия — прочитать письмо моего лучшего друга.
— Письмо я припрятал, чтоб вручить его перед отъездом, — ответил Аслан, достав из портфеля письмо губернатора. — Но раз речь зашла о нем, соблаговолите получить.
— Благодарю! — воскликнул паша и прочел письмо вслух.
«Предъявитель сего, известный французский естествовед, доктор г. Карл Рисман, направляется для научных исследований через г. Ван в Багдад, оттуда в Индию. Надеюсь, всемилостивый государь, вы примете соответствующие меры и создадите все удобства для достижения намеченной цели ученого путешественника и гарантируете ему безопасность, чем премного обяжете меня» и т. д.
— Это — собственноручное письмо моего друга, — сказал паша, закончив чтение письма. — Я готов предоставить вам все удобства в пути, г. доктор!
Я облегченно вздохнул. «Аслан выкрутился», — подумал я.
— Благодарю, Латиф-бек, что вы напомнили мне о документах, — обратился Аслан к шефу полиции, — вручаю вам их сейчас и прошу заготовить новые, так как я завтра буду занят приготовлением к отъезду.
— С большим удовольствием, — ответил Латиф-бек.
— Вот мой паспорт, вот открытый лист, пожалованный мне губернатором Арзрума. Как будто достаточно.
— Ну, разумеется. Завтра, в полдень вы получите как ваши документы, так и наши.
Бек так и застыл от изумления. Не в меньшей мере опешил и архиерей. Но больше всех был поражен я: откуда могли оказаться у Аслана эти бумаги? Он был прав, он действительно совершил очерченный им путь, на протяжении всего пути оказывали ему содействие и предоставляли конную охрану. Он утаил только посещение монастыря св. богородицы и свое появление в одежде схимника.
Да, Аслану удалось вывернуться. Но курдский бек остался в роли обвиняемого. Так или сяк необходимо было оправдать его: ведь он глава племени Джалали, а Джалали совершил набег, и Аслан знал обо всем, он доведет до сведения высшей власти! Как же можно оставить все это без внимания и не оправдать курда?
В защиту бека выступил Шарман-бек.
— Следует принять во внимание, г. доктор, что от последнего набега Джалали пострадали не турецкие, а персидские армяне.
— Знаю, — перебил защитника Аслан, — но ведь армянин в Турции тот же армянин, что в Персии, раз его ограбили, разбойник должен понести наказание! Весь вопрос в проступке, а не в подданстве и не в национальности. Если б потерпевшие были евреями или цыганами, я протестовал бы, быть может, еще сильнее.
Доводы Шарман-бека оказались малоубедительными. Защиту курдского бека принял на себя сам епархиальный начальник.
— Вы вполне правы, г. доктор, но необходимо принять во внимание местные обычаи и условия. Нередко случается, что персидские разбойники совершают набеги на наши края, угоняют баранту
[95], лошадей и другой скот. Как вернуть обратно отнятое? Остается единственный выход: самим напасть на них и отнять у персидских подданных их добро.
— Но в чем же повинно мирное население? — с возмущением спросил Аслан. — Как с персидской стороны, так и с турецкой набеги совершают только курды; пусть они и грызутся меж собой, если местные власти не в силах положить конец их бесчинствам. Почему же из-за их взаимной вражды должен страдать и подвергаться насилию несчастный крестьянин-земледелец, у которого нет ничего, кроме нескольких голов скота?
На смуглом лице бека выступили капли пота, он отер лицо рукавом рубахи. Но не подумайте, что его бросило в пот от стыда. В груди курда бушевало пламя гнева: гяур дерзнул нанести ему подобное оскорбление, и он не смеет положить руку на саблю, чтоб наказать наглеца, нечестивца-европейца? Но он сдержал гнев и ответил довольно спокойно.
— Напрасно, г. доктор, вы плохого мнения о племени Джалали, главою которого состою я. Если б вам известны были случаи помощи, оказываемой нами местному христианскому населению, я уверен, вы изменили бы мнения о нас.
— С превеликим удовольствием, — ответил с улыбкой Аслан.
— Мне лично не пристало хвалить себя. Пусть отец Халиф (архиерей) подтвердит мои слова: наши заслуги хорошо известны ему.
Архиерей принялся подробно рассказывать, какую услугу оказывают курды населению, особенно местным христианам. Отметил случай, имевший место несколько недель назад на празднике в монастыре богоматери. Бек лично направился туда для наведения порядка среди богомольцев; после празднества люди бека провожали богомольцев до их местожительства, чтоб оградить их от опасностей в пути.
Я был положительно ошеломлен. Казалось, какая-то зловещая нить связывала сердца этих людей: они мастерски облекали в благонамеренную форму самые отчаянные преступления. Если б мы с Асланом не были свидетелями получения курдским беком определенной части дохода с богомольцев, если б мы не видели, что богомольцы платили большие деньги сопровождавшим их на обратном пути курдам, а их товарищи с их же ведома грабили тех же путников, — мы, конечно, могли бы поверить словам архиерея.
Аслан, однако, не возразил ни слова по известным нам соображениям.
Что же заставляло епархиального начальника выступать в защиту курдов?
Он находился в дружеской связи почти со всеми главарями курдских племен для поднятия своего авторитета. Держа в своих руках самых лютых зверей страны, он тем самым приобрел огромный вес среди местного населения, даже сам паша чувствовал почтение к нему. Неужели нельзя было воспользоваться своим влиянием для более высоких целей?..
Аслан как-то сказал мне: «Этот человек мог быть весьма полезным, если б не употреблял во зло свою власть». Случалось, что курдских беков арестовывали за преступления или приговаривали к ссылке; архиерей тратил крупные суммы, чтоб освободить виновных. И они становились послушным орудием в руках епархиального начальника.
Беседа приняла прежнее направление: опять заговорили о предстоящем отъезде Аслана.
— Хотя светлейший паша и предоставит вам охранные грамоты, — заявил архиерей, — вы, г. доктор, будете иметь возможность безопасно продолжать путешествие, но все же я посоветовал бы отправиться в путь с караваном,
— Я так и предполагал, — ответил Аслан, — мне передавали, что караван выступает завтра вечером.
— Не знаете, чей караван? — спросил паша.
— Нет, не знаю, — ответил Аслан.
— Караван Тохмах Артина, — заявил начальник полиции.
— А!.. Тохмах Артин человек весьма храбрый. Его караван один из самых безопасных. Но я боюсь, г. доктор, что езда с караваном может наскучить вам, уж слишком медленно движется он! — сказал паша.
— Вполне правильно, ваша светлость, но я при всем желании не в состоянии быстро передвигаться — ведь со мной много тяжелых тюков: передвижная аптечка, медицинские принадлежности и собранные мной древности. Помимо того, необходимо обследовать несколько примечательных мест. Медленное продвижение каравана придется кстати: когда мне понадобится, я могу сворачивать с пути.
— Только предупреждаю вас — каждый раз берите с собой конных стражников.
— Знаю, ваше преосвященство. Я приобрел большой опыт, путешествуя по Азии. Правда, в ваших краях я впервые, но Среднюю Азию порядком-таки изъездил.
Наконец, подали ужин. На постланной на ковре цветной скатерти одновременно расставили в круглых медных блюдах разнообразные кушанья; появились всевозможные сладкие шербеты различных цветов и с разными пряностями. Алкогольные напитки — вино и водку — поставили только пред архиереем, Асланом и «именитыми» армянами. Красивые китайские чашечки возбуждали аппетит. Разговор сразу прекратился. На востоке за столом говорят очень мало. Царствовала абсолютная тишина, потому что ели без ножей и вилок — пальцами. Говорил только его преосвященство. Он расхваливал своего повара: подобного мастера не сыщешь во всем Ване, он служил в столице в домах известных пашей. Последние слова задели за живое пашу, имевшего роскошную кухню; в свою очередь, он стал превозносить своего повара — он поразительно мастерски готовит курицу: вынет все косточки до единой, а курица остается целой. Спор грозил затянуться, если б к тому времени не вошел в зал достопочтенный Симон с хором певчих. Он приоделся. Против обыкновения на нем была свежевымытая рубаха. История знаменитой рубахи настолько интересна, что я охотно прерываю описание обильного ужина архиерея.
У достопочтенного имелась всего одна рубаха. В течение целого года она стиралась один или два раза и то к большим праздникам, хотя и стирка обходилась ему даром. Он отдавал стирать белье ученикам, а те — своим матерям. По мнению Симона, от частой стирки рубаха изнашивается. По этой ли причине отвергал он самое важное условие чистоплотности или вообще он был неопрятен — трудно решить. Расчетливость же его, в данном случае, следует считать ошибочной: правда, рубаха от частой стирки изнашивается, но от постоянной грязи она совсем гниёт. Потому-то рубаха достопочтенного после стирки всегда нуждалась в латках. Когда наступал большой праздник, злополучная рубаха отправлялась к матери ученика и до возвращения (а это иной раз затягивалось надолго) достопочтенный прикрывал голую грудь цветным носовым платком, концы которого завязывались у затылка. Таким образом, стирка рубахи занимала особое место в летописях школы. У учеников сложилась такая острота: говоря о давно прошедшем случае, они обыкновенно прибавляли: «Это произошло давно, очень давно, когда была постирана рубаха достопочтенного». Теперь, я думаю, понятно, почему появление достопочтенного в чистой рубахе служило показателем большого почтения, оказанного им залам его преосвященства.
Лицо Симона на сей раз было тщательно выбрито и, вероятно, от торопливости в нескольких местах порезано бритвой. Места порезов были покрыты ватой. Бритьё Симона также имело свою историю. Отпускать бороду он не любил, но и брился в редких случаях, почему его лицо после бритья становилось двухцветным: свободные от волос места принимали темно-кирпичный цвет, а покрытые волосами — светло-кирпичный. Сообразно со временем дня или погодой, сообразно с тем, был ли он выпивши или трезв лицо его принимало разные оттенки, наподобие индюшачьей головы. Сегодня оно было цвета печёнки, так как он уже успел несколько раз приложиться к водочному котлу на улице Айгестана. Вместо всем известного темно-желтого сюртука он облачился в короткое коричневое пальто, стянутое толстой шалью. Феска на голове была новая, из-под повязки на феске выглядывал кончик кисточки. Оставались прежними только знаменитые брюки, поднятые на целый вершок от голени, все громадное пространство от ступней до брюк оставалось голым. Достопочтенный не имел обыкновения летом употреблять носков; да и не было в них никакой необходимости: покрывавшая голени густым слоем грязь вполне заменяла их.
Войдя в зал, этот мерзостный человек торжественно отвесил присутствовавшим поклон и остановился у стены. Справа и слева от него выстроились певчие. Смотря на эти невинные существа, сердце мое обливалось кровью. Какому ужасному чудовищу было поручено их воспитание!.. На них были стихари
[96]; у каждого в руке — по колокольчику с ручкой, какие в армянских церквах употребляют во время богослужения в качестве музыкального инструмента.
Паша соблаговолил справиться о здоровье достопочтенного.
— Учитель нашей армянской школы, — обратился он к Аслану. — Я взял под свое особое покровительство школу достопочтенного. Весьма сведущий человек! — добавил его преосвященство.
— Я познакомился с ним, — холодно молвил Аслан.
Достопочтенный, ободренный похвалами двух благодетелей, подал знак, и ученики хором запели любимую песню архиерея:
Соловушка с кустика розочку манит,
На камешке перепел «пи-пи-пи» кличет…
Ужин затянулся за полночь. Несчастные дети пели без умолку, исчерпали все известные песни старинного армянского песенника, причем некоторые пропели дважды.
Когда в конце ужина подали в последний раз кофе и наргиле, Аслан извинился, что не может долее оставаться, так как поутру должен приготовиться к отъезду, и приказал мне передать слугам, чтоб седлали лошадей.
Он поднялся с места, пожал руку сперва его преосвященству, затем паше и поблагодарил их за оказанный прием, прибавив, что уносит неизгладимое воспоминание о тех услугах, которые оказали они в течение его исследовательских работ, обещал доказать на деле свою признательность и т. д.
— Мы ничего особенного не сделали, г. доктор, — ответили паша и архиерей, — это был наш долг.
После всевозможных приветствий, он вновь пожал им руки, поклонился шефу полиции, курдскому беку, трем «именитым» армянам и вышел из комнаты. Паша и архиерей проводили его до лестницы. Здесь на прощанье паша заявил, что с болью в сердце расстается с дорогим гостем, приезд которого доставил ему громадное удовольствие, и обещал, что утром все будет готово к отъезду. После оказанного Аслану приема я уж не сомневался, что все их подозрения совершенно рассеялись, и они были далеки от мысли, что под маской доктора Рисмана скрывается схимник монастыря богоматери.
На улице мы услышали вновь слова песни:
— poem-
На зов соловья зарумянилась розочка,
На зов перепелки любимый слетел…
— poem-
— Вероятно, они еще долго просидят за столом? — спросил я.
— До самого утра, — отвечал Аслан.
Глава 19.
ПОДАРОК
На другой день утром все приготовления были закончены, и мы могли пуститься в путь. Оставалось только получить обещанные пашой бумаги.
Аслан увязывал чемодан.
— Неужели бумаги настолько необходимы, чтобы их дожидаться? — спросил я.
— Особенного значения, положим, не имеют, — ответил Аслан, — трусливые заптии
[97] паши не спасут нас от разбойников, но все же мы в бумагах нуждаемся.
Я понял смысл слов Аслана. Ночью в доме епархиального начальника я был свидетелем, какое значение возымели охранные листы Арзрумского губернатора — они рассеяли все подозрения!
В полдень явился секретарь паши — молодой человек, который показывал нам древности. Он вручил Аслану, помимо бумаг, ценный подарок паши — прекрасного арабского жеребца с богатой сбруей; голова и шея коня были убраны черными шелковыми кистями, которые пристегивались серебряными пуговками наподобие колокольчиков, покрышка седла сделана была из тигровой шкуры с висевшими по бокам златотканными кистями. Два чернокожих прислужника в красных суконных одеяниях и разноцветных чалмах держали с правой и левой стороны коня под уздцы. Конь, словно чуя свое превосходство, ржал и особо горделиво бил передними копытами землю.
Аслан, поняв в чем дело, сошел с лестницы навстречу секретарю. Тот пожал ему руку и торжественно заявил:
— Считаю за особое счастье, г. доктор, быть выразителем сердечных чувств и уважения, которые питает к вам мой господин, его светлость паша. Мой господин желает вам счастливого и спокойного пути и сочтет за великое счастье, если вы примите в дар отборного коня из конюшни его светлости.
В таких же напыщенных фразах Аслан отблагодарил пашу и, взяв секретаря под руку, поднялся с ним к себе в комнату. Здесь секретарь достал из-за пазухи бумаги и вручил их Аслану.
— Вот ваш паспорт, заверенный нами, вот письмо его светлости Мушскому каймакаму, вот открытый лист, по которому государственные чиновники окажут вам повсюду подобающий прием и всяческое содействие во время вашего путешествия.
— Благодарствую, — сказал Аслан, приняв бумаги. — Его светлость чрезмерно милостива ко мне.
Подали кофе и наргиле. Секретарь говорил без умолку, спрашивал: остался ли доктор доволен посещением Вана, какие впечатления увозит с собой, изъявил желание хоть раз побывать в Европе, повидать страну франгов, где женщины ходят с открытыми лицами, свободно говорят со всеми, где по вечерам юноши и девушки собираются, танцуют вместе и тому подобное, — все это настолько прельщало молодого секретаря, что он совершенно позабыл о нашем отъезде и о том, что отнимает у нас время.
Аслан прекратил его болтовню, положив перед ним сверток со ста золотыми.
— Хотя оказанные вами услуги достойны и более крупного вознаграждения, все же прошу принять этот небольшой подарок.
— Что вы, что вы, г. доктор! Вы второй раз заставляете меня испытать чувство стыда. Ввек не забуду подаренных вами часов во время осмотра крепости. Равных им нет в целом городе, все восхищены ими.
После тысячи льстивых комплиментов секретарь согласился, наконец, взять золотые монеты; почувствовав, что засиделся, он пожелал нам счастливого пути и откланялся. Аслан проводил его до ворот, где двое чернокожих слуг ожидали секретаря. Аслан подарил каждому по золотому; они в знак благодарности несколько раз поклонились ему до земли.
Меня удивил не столько подарок паши, сколько расточительность Аслана. Откуда у него такие деньги?
— Недешево обошелся тебе подарок паши, — иронически сказал я, когда мы вернулись в комнату.
— Напротив, очень дешево, — рассмеялся он и пояснил, что подарки на востоке — со стороны ли султана, шаха или высших сановников — своего рода источники дохода. Раз в год шах или султан наделяют «халатами» (подарками) губернаторов и других чиновников. «Халат» — это или пальто, или шуба, или дорогая шаль, или какая-либо другая одежда. Она ценнее, когда государь дарит их со своего плеча. «Халаты» привозят стольники государевы.
Навстречу привезшим дары выходит сам губернатор в сопровождении всех чиновных лиц и толпы граждан. Подобные «халаты» даруются каждый год. Возле крупных губернских городов на большой дороге построены специальные здания — «халат пушан», т. е. места, где надевают «халаты». Здесь происходит церемония вручения «халата». Всех присутствующих угощают ароматными шербетами и сластями. Губернатор облачается в «халат» и торжественно вступает в город во главе сановников и именитых граждан. Со всех сторон раздаются приветствия, все благословляют милостивого государя. Привезшие «халат» стольники получают большую сумму. И вот вся эта сумма ложится тяжелым бременем на крестьян в виде особого внеочередного налога, называемого в народе «халат-пули», т. е. деньгой за «халат».
— Ну, видишь, — добавил Аслан, — царь спускает свои старые платья губернаторам. Губернаторы торжествуют, а расходы несет несчастный крестьянин.
— Одежда знатных людей, — пояснил далее Аслан, — играет и другую, немаловажную роль. На востоке стеганье плетьми — одно из обычных наказаний. Когда должен подвергнуться наказанью какой-нибудь видный сановник, вместо него публично стегают плетьми его платье.
— Но если платье подарено самим государем, разве осмелятся так поступить с ним?
— Разумеется, нет! Но не следует забывать, что раз губернатор в течение одного года не получает «халата», он теряет свой вес — он в немилости у царя, и народ перестает бояться его. Ты видел ночью местного пашу у архиерея; несмотря на духоту, он с большим удовольствием сидел в тяжелой шубе, полученной в этом году от султана. С пожалованием «халата» связаны и другие выгоды. Подносящими «халат» являются преимущественно служащие при дворе и стольники. По установленному обычаю они не получают жалованья. Достаточно принести кому-либо «халат» — и они обеспечены вперед на несколько лет.
— Как и жалованье секретаря паши? — перебил я Аслана,
— Да, он также не получает жалованья, или получает слишком мизерное. Его доходная статья — раздача подарков паши.
Начиная от дворца султана до канцелярии последнего мудира — всюду царят одни и те же порядки. Высшие чиновники одаряют низших и берут с них вознаграждение. Таким образом, сверху донизу широко распространено взяточничество. Спросите любого служащего, сколько получает жалованья? Он постесняется указать размер получаемой суммы, столь она мизерна, но открыто, даже о гордостью, заявит, что у него в году столько-то и столько «доходу». Все доходы исходят из мутных источников. Настолько это привычно всем, что всякий крупный чиновник, предоставляя месте подчиненному, или совершенно не назначает ему жалованья, или определяет самое ничтожное, причем говорит ему: «Столько-то будешь получать от меня, а столько-то будет у тебя доходов».
— Куда же идут отпускаемые государственным казначейством суммы на жалованье чиновникам?
— Расходятся по карманам крупных служащих.
— Как ты думаешь, паша подарил тебе коня тоже из корыстных целей?
— Не думаю. С европейцами они поступают совершенно иначе. Своим подарком он желал подкупить меня. Но я не хотел остаться перед ним в долгу и отблагодарил его секретаря. Год тому назад служил здесь какой-то англичанин. Он часто получал подарки от паши, главари курдских разбойничьих племен присылали его жене и детям оленят и живых куропаток. И в итоге он составил о курдах весьма лестное мнение, считал добрыми и честными людьми. В этом духе он и написал своему правительству докладную записку. Но армян, которые не посылали ему ничего, он называл жадными и скупцами.
Наш разговор прервал вернувшийся из города мастер Фанос. Он ходил сдавать наш багаж каравану.
— Поздравляю с прекрасным подарком! — сказал он, смеясь, Аслану. — Верно паша не пожелал, чтобы вы пустились в путь на неуклюжей лошади гуртовщика!
— Да, паша в этом отношении очень предупредителен, — ответил Аслан. — Скажите, когда выступает в путь караван?
— Вечером, за час до захода солнца.
— Стал быть, у нас еще много времени для кое-каких распоряжений.
Аслан и Фанос уединились, а я отправился любоваться подарком паши.
Глава 20.
КАРАВАН
Рассказы о караванах всегда производили на меня чарующее впечатление; о них я наслышался немало историй, легенд. Можете себе представить, как велика была моя радость — пуститься в путь с большим караваном. Ввиду знойного дня решено было выехать после захода солнца.
Во дворе дома собирались провожавшие нас: мастер Фанос, его мать, жена и дети. Слуги, служанки и ученики мастерской стояли группами поодаль. Лица у всех были грустные. Казалось, Аслан был любимым членом этой семьи и уезжал далеко, очень далеко, быть может, навсегда. Аслан спустился по лестнице, пожал руки матери, жене, обнял детей. Простившись со всеми, мы вышли на улицу, где нас ожидали две лошади: арабский конь, подаренный пашой, и другой, довольно-таки хроший присланный мне из каравана. Аслан расцеловался с Фаносом и вновь пожал ему руку, на глазах у мастера навернулись слезы. Мы сели на лошадей. Теперь все толпились у ворот.
— Прощайте, друзья, — сказал Аслан.
— Счастливого пути! Желаю удачи вам! — говорил мастер Фанос.
— Счастливого пути! — повторили его мать, жена и маленькие дети.
Мы с глубокой признательностью покидали дом, где встретили гостеприимство, уважение и неподдельную любовь.
Караван стоял на привале недалеко от городских стен в поле, известном под названием «Чаир», в ожидании путешественников. Последние лучи заходящего солнца еще золотили высокие полумесяцы минаретов, еще мулла не начинал «азана»
[98], когда караван тронулся в путь.
Здесь мы в последний раз встретили мосульского торговца кожами ходжу Тороса, беседовавшего с караван-баши
[99].
— Здравствуйте, доктор, — приветствовал он Аслана, подавая ему руку. — Уезжаете?
— Да, ходжа Торос. А вы зачем здесь?
— Пришел сдать тюки с хлопком для отправки в Битлис. В Битлисе Вы остановитесь, г. доктор?
— Непременно!
— А в Муше?
— Тоже.
— Не откажите принять от меня небольшую услугу. Будьте добры передать рекомендательные письма моим двум близким приятелям в Битлисе и Муше. Вы, кажется, интересуетесь древностями? Они могут оказать вам содействие.
— Благодарю вас, — ответил Аслан, пожав мосульцу руку. — Прощайте, ходжа Торос!
— Желаю Вам удачи! Счастливого пути, господин доктор! — сказал купец, крепко пожимая руку Аслана.
Мы расстались. Читатель, ведь ты не забыл, кто был мосулец в арбаском тюрбане, с раскосыми жгучими глазами!..
Караван — это движущаяся жизнь востока, полная деятельности, силы и энергии.
По узкой дороге, на протяжении нескольких фарсахов
[100], то извиваясь, как змея, то вновь выпрямляясь, медленно двигалась длинная цепь навьюченных мулов. Они шли группами, по десяти в каждой, все одной масти: впереди шли белые, за ними темносерые, потом черные и т. д. Каждый мул был привязан к седлу другого железной цепью. С каждой группой шло по два вожатых на случай, если понадобится выправлять ношу или поднимать споткнувшихся животных. Головы, шеи, хвосты мулов были убраны разноцветными бусами, ракушками, кисточками и, похожими на орешки, мелкими бубенчиками. Каждый начальник каравана тщательно украшает своих мулов, особенно при приближении к городу или покидая город. Щеголеватые животные до такой степени привыкли к своим украшениям и бубенчикам, что без них они плохо идут. Когда караван движется, окрестные холмы и горы гремят от оглушительного звона бубенчиков. Позванивая в такт с поступью животных, они создают изумительную гармонию звуков, которая производит чарующее впечатление, особенно в ночной тиши, когда караван медленно проходит среди глухих ущелий.
Впереди выступал одиноко «фишанг», водитель каравана, огромный белый мул с могучей грудью и красивой головой. В отличие от других он не был навьючен и отличался более богатым убранством. Он был царем каравана, его вожаком. Глядя на умное животное, я думал: «Как бы было хорошо, если б правители страны так же добросовестно выполняли свои обязанности, как этот белый мул…»
«Фишанг» достоин более подробного описания. Зимою глубокие снега покрывают дороги и тропинки, всё выбоины, ухабы заполняются и выравниваются. Далеко тянется широкая гладь снежного поля. Куда ни глянешь — ничего не видать: земля слилась с затянутым мглой небом. Нет и следа дороги. Куда идти? Холод леденит тело, порывы ветра кружат в воздухе густую снежную пыль. Минута — и караван исчезает в белой мгле. Та же картина в пустынях: караван медленно тянется вперед, а вокруг вьюга кружит песок так же, как и снег зимою. Все дороги исчезают под толстым слоем песка. Куда ни взглянешь — песок, небо заволокло тучами песка, все вокруг покрывается серой песочной пылью. В такие критические минуты близкой катастрофы на помощь приходит «фишанг». Он, подобно олицетворенному инстинкту, чует дорогу, как бы ни была глубоко погребена она под слоем снега или песка. Своей могучей грудью разрывает он снег и пролагает путь каравану. Все вокруг оледенело, у людей с ресниц свисают ледяные сосульки, но тело «фишанга» покрыто белой пеной; горячий пар так и пышет густыми клубами из его широких ноздрей. Когда дорога кажется ему опасной, он настораживается — останавливается и караван. Мул неторопливо поворачивает голову во все стороны и, навострив уши, кажется, старается определить направление ветра: то смотрит в небо, точно ищет дорогу по звездам, то обнюхивает землю, не прошло ли по снегу живое существо. И вдруг из его груди вырывается тихое радостное ржание, оно передается по всей цепи: вожак отыскал дорогу! И караван движется вперед. Ему не страшна ночная мгла, два сверкающих глаза — два факела — освещают ему путь. Иногда дорога пролегает через ущелья или по краю глубоких пропастей; один неверный шаг — и караван вместе с ним низвергнется в бездну. Но вожак никогда не допустит неверного шага: его крепкие копыта точно обладают способностью видеть. Когда подходят к месту остановки, как бы ни темна была ночь, «фишанг» еще за несколько миль чует близость отдыха и начинает весело ржать. Все мулы вторят ему и ускоряют шаг.
За вьючными животными ехали путешественники на лошадях и ослах. Ноша этих несчастных животных была особенно тяжела. На каждом было взвалено по два громадных мешка, наполненных необходимыми в путешествиях по Азии предметами: котлами, медными тарелками, кувшинами для воды, прибором для приготовления кофе, наргиле со своими принадлежностями и т. п. В мешках был сложен и весь запас еды: хлеб, масло, сыр, соль, лук, отжатое кислое молоко. Каждый вез с собой свою кухню, каждый был и поваром и едоком. Без этих запасов путник обречен на голодовку, потому что в летнее время караван обыкновенно останавливается на отдых вдали от жилья, чтоб пасти животных на воле. Крестьяне не разрешали пасти животных близ населенных мест. Поверх мешков с посудой и продовольствием привязана постель путника — на ней восседает он, а лошади и не видать под тяжелой поклажей. Более состоятельные едут на оседланных конях, а багаж везут слуги. Они везут с собою даже палатки. С нашим караваном ехали и женщины. Обернутые в чадры, они походили на комок платья. Жены богачей сидели в закрытых носилках, их несли два мула.
Состоятельный магометанин даже в пути не отказывает себе ни в чем: чуть не каждую минуту он курит наргиле и выпивает финджан горького кофе — финджан не больше наперстка. Но то и другое связано с большими хлопотами; необходимо иметь наготове огонь, воду, посуду. Все это находится у слуги: с одного боку его мула, на длинной железной цепи, подвешен мангал
[101] с тлеющими угольями, подобно неугасимому огню Ормузда, с другого — толстые меха со свежей водой. Для магометан вода — самая необходимая принадлежность в пути, которая всегда должна быть при нем. Быть может, по этой причине удивительно усовершенствовано на востоке производство мехов для воды. Вода в них сохраняется холодной и никогда, даже в самый знойный день, не портится. Кожа в руках мастера превратилась в своеобразную глиняную посуду, легко пропускающую воздух к воде. На том же муле слуга везет влажный табак в специальной посудине и различные приспособления для приготовления кофе. Достаточно господину крикнуть: «Кофе! Наргиле!» — слуга тотчас принимается готовить и подносит хозяину сперва кофе, затем наргиле.
Прелюбопытное зрелище: слуга держит в руках наргиле, а конец длинной, извивающейся наподобие змеи кожаной трубки находится во рту у господина; мулы идут, а он безмятежно сидит, будто у себя дома, и с наслаждением тянет дым кальяна
[102].
С караваном ехала и группа цыган с обезьянами, юными плясунами и плясуньями. Заботливые хозяева посадили их на осликов, а сами шли пешком. В течение всего пути они пели, смеялись, отпускали остроты, служили центром всеобщего внимания.
С караваном возвращались пешком из чужих краев и несколько рабочих-ванцев, жителей ближайших деревень. С мешком за плечами, с длинным посохом в руке, загорелые, выжженные солнцем, тяжело шагали они. Долго ли бедняки пробыли на чужбине — не трудно было прочитать в их скорбном взоре. Но, по мере приближения к родному очагу, все более и более прояснялись их лица.
Бродячие цыгане и бродячие ванцы!
Какое поразительное сходство в их судьбах! Различие лишь в том, что один, лишенный родины и домашнего очага, блуждает по белу свету, как всесветный гражданин; у другого есть все: дом, семья, родина, однако ж и он принужден скитаться на чужбине в поисках куска хлеба.
Караван-баши (начальник каравана) был арзрумский армянин известный всем Тохмах Артин. Как коренной житель Арзрума, он имел обыкновение повторять поговорку: «Не помутится — не прочистится!». «Тохмах» означает тяжелый кузнечный молот, которым куют железо. Артин был силен и крепок, как столетний дуб. Он был среднего роста, его большое лицо сплошь было покрыто волосами, свободными оставались только нос и часть лба. Даже уши были покрыты густыми жесткими волосами. «Мать выкрала меня из медвежьей берлоги», подсмеивался он над собой. Но когда заговаривали с этим неотесанным и суровым с виду человеком, крупные черты его лица смягчались и становились приятными. Под грубой оболочкой скрывались благородные чувства и честное сердце.
Ему было лет под пятьдесят, но он сохранил юношескую бодрость и отвагу. Сидя на вороном коне, с ружьем за плечами, с саблей на боку, и пистолетами у седла, он с быстротой молнии носился по каравану. Все опасные места пути были хорошо знакомы Артину. Когда подходили к ним, он отделялся от каравана и, взобравшись на холм, высматривал, нет ли где засады разбойников.
Целых двадцать лет Артин был погонщиком мулов, исходил с караванами всю Малую Азию, Аравию, Мессопотамию вплоть до Египта, доставлял грузы на Кавказ, в Персию, доходил до Исфагани, Шираза, Бендер-Бушера. Отличался Артин исключительной честностью. Купцы поручали ему золото и серебро мешками, не считая. Они дожидались прихода его каравана месяца по два, лишь бы ему сдать товары и деньги. Известен случай, когда при переходе через пустыни Лористана, на пути к Персидскому заливу, несколько сот разбойников-бахтиаров (древние бактрийцы) начисто ограбили караван Тохмах Артина. В завязавшемся бою много слуг его было перебито, сам Артин был тяжело ранен. В подобных случаях купцы бывают очень снисходительны; они знают, что деньги их должны были быть похищены, а если и уцелели, караван-баши имеет все основания утверждать, что их унесли грабители. С этим караваном Тохмах Артин вез пять тысяч золотых, данных ему каким-то персом из Амадана для доставки в Багдад. После описанного происшествия купец считал деньги пропавшими. Однако, спустя год, появился Артин с мешком золота.
— Что это? — спросил купец.
— Твое золото.
Купец не верил глазам.
— Неужели мои деньги остались целы?
Артин рассказал, как он, во время нападения разбойников, бросил мешок с золотом в яму, завалив камнями и засыпав землей. Через несколько месяцев, залечив раны, он отыскал мешок и, если возвращает с опозданием, причиной тому его болезнь.
— Молодец, Артин! Не будь ты христианином, за твою честность тебе было б уготовано самое почетное место в магометовом раю. Прими магометанство, я отдам тебе в жены мою дочь, отдам и половину моего богатства. Артин тогда еще был молод, не женат. Он, конечно, рассмеялся над предложением ретивого мусульманина, который, по привычке всех магометан, говорит при встрече с добропорядочным христианином: «Все в тебе хорошо, одного только не достает — ты не мусульманин!»
Тогда перс предложил ему часть золота.
Артин отказался взять.
— Зачем ты даешь? Это мой долг — вернуть обратно твои деньги или доставить их по назначению. Коли разбойникам не удалось украсть их — твое счастье!
Много горя и нужды испытал на своем веку Артин и никогда не падал духом. Но раз злая напасть чуть не доконала его. От заразной болезни передохли у него почти все мулы. Остался он без гроша, влез в долги. Все считали его несостоятельным должником. Но как бы чудом, вскоре он вновь организовал караван в сто с лишком мулов, и вновь огласились Арзрумские горы звоном его бубенчиков.
«Откуда у него появились деньги?» — поражались знавшие Артина. Строили всевозможные предположения: будто он нашел клад, или будто знакомые купцы помогли ему вновь организовать караван, вручив большую сумму денег; были и такие, которые шли дальше и говорили, что деньги он получил от «неизвестного лица», и т. д. Но факт был налицо: у него самые отборные мулы, и он опять продолжает считаться первым среди арзрумских погонщиков.
Вечерняя мгла не успела окутать землю, когда наш караван проходил через Артамед. Артамед — богатый в древности город, а теперь богатое село — находится в двух с половиной часах езды от Вана на широкой треугольной возвышенности, постепенно спускающейся к морю. В нем до пятисот дымов жителей, более половины из них магометане.
Чуден Артамед, весь утопающий в виноградниках, с восхитительным видом на море. 18 веков назад здесь высились роскошные чертоги и крепостные сооружения царя Арташеса II, обнесенные грозными стенами и башнями. Теперь вместо них — жалкий домишко турецкого бея. 18 столетий назад в цветущих садах Артамеда совершала прогулки с миловидными прислужницами красивейшая среди асланских женщин царица Сатеник — властительница дум и чувств Арташеса II. А теперь под тенью дерев турчанка расточает ласки мягкотелому супругу. 18 веков назад на вершине холма возвышался величественный храм богини Астхик
[103], он глядел украшенным мраморными колоннами фронтоном на широко раскинувшееся голубое море. Юные армянские девы каждое утро украшали свежими цветами храм богини любви и молили Астхик даровать им счастье.
Аслан показал мне здесь несколько интересных древностей.
В армянской части села, на краю дороги, ведшей в Востан, Битлис и Муш, находится выдолбленная в рост человека скала; из ее глубины вытекает прозрачной струей холодный родник, могущий вертеть мельничное колесо. Об этом роднике существует предание, весьма характерное для артамедских девушек-пересмешниц, которые еще со времен богини Астхик сохранили веселый нрав и любящее пламенное сердце. 16 веков назад проходил мимо родника святой Яков, патриарх Мцбина, двоюродный брат отца Григория-Просветителя. Возвращался он из Араратской области, куда ходил, исполненный горячего желания подняться на гору Масис
[104], чтоб увидеть Ноев ковчег; епископу удалось добраться лишь до середины: глубокий сон овладел им; божий ангел сжалился над преклонным возрастом его, вручил одну из досок ковчега, сказав, что ему трудно будет подняться до вершины. Старик с великой радостью пустился в обратный путь с драгоценным даром. Проходя мимо Артамеда, у родника захотел утолить жажду. Тем временем пришли по воду к роднику девицы-пересмешницы и принялись издеваться над стариком. Епископ проклял бесстыжих — и у всех поседели волосы.
С тех пор у девушек Артамеда прядь волос со дня рождения остается белой…
Когда мы подъезжали к роднику, девушки несли кувшины с водой. Я принялся с большим любопытством рассматривать их волосы, тяжелыми косами ниспадавшие на плечи. Но наступившая темнота не дала возможности убедиться, имеются ли в черных косах пряди белых волос. Их головные уборы были так густо усеяны монетами, что их смело можно было принять за серебряные чашечки.
Аслан показал мне также знаменитую реку Шамирам, о монументальных плотинах которой говорится у Мовсеса Хоренаци. Царица Шамирам в незапамятные времена отдала приказ прорубить в десяти местах скалы у подошвы горы Сар-Булах. Как эта гора называлась в древние времена — не знаю (Сар-Булах значит верховье, исток реки). Она вывела из недр земли накопившуюся там воду, проложила русло реки на протяжении пятнадцати миль и через Айоц-Дзор
[105] подвела реку к городу Артамеду. Река в этом месте разветвляется, орошает пространные виноградники и поля Артамеда, а затем, снова слившись, несется с ревом и грохотом через мощные твёрдокаменные плотины к Вану, чтоб поить виноградники Айгестана.
Артамед, за двадцать два столетия до Арташеса II, служил местом прогулок царицы Шамирам. После неудавшегося любовного поединка с Ара сладострастная царица здесь, в тенистых садах Артамеда, вознаграждала себя любовью с молодыми армянскими княжичами, взамен той любви, которой добивалась от Ара. Она наводила на них чары, совращала юношей волшебными жемчугами, которые носила на шее в виде ожерелья. Один из армянских родоначальников возымел мысль спасти легкомысленных юношей, оградить их от соблазнов царицы, пресечь действие ее чар и положить конец ее пленительной власти. Как-то раз царица купалась в мраморном бассейне своего роскошного сада, и, брызжущая алмазами вода фонтанов, омывала ее тело. Одеяния и убранство Шамирам, в том числе и колдовское ожерелье, лежали у бассейна под сенью розовых кустов. Царица, распустив косы, расчесывала их. Старик незаметно подкрался, схватил ожерелье и пустился бежать к морю. Разгневанная властительница бросилась за ним с распущенными волосами, но не смогла догнать его. В бессильной злобе она оторвала огромную скалу и, вложив ее в свои длинные волосы, метнула, как пращой, вслед убегавшему старцу. Скала, пролетев над его головой, упала в яму подле города Артамеда. Старцу удалось добежать до морского берега. Он швырнул ожерелье в море и, таким образом, избавил страну от чар сластолюбивой царицы. Певцы Артамеда сложили о том песню, из которой скупой на слова Мовсес Хоренаци приводит лишь одну строчку: «Ожерелье Шамирам в море…»
— Обратитесь к любому жителю, — прибавил Аслан, указывая на скалу, — и он подробно расскажет вам обо всем. Веселый Артамед, подобно жизнерадостному Гохтнику, создал множество певцов и поэтов. Но где их труды? Осталось одно лишь предание, которое передается из поколения в поколение в течение четырех тысячелетий. Не погибнет народ, сохранивший свои предания. Любовь к прошлому своего народа была могучей силой, переборовшей самые тяжелые удары в течение многих веков. Народ, не забывший о своем прошлом, будет заботиться и о настоящем. Посмотрите вокруг: каждая скала, каждая руина, каждый холм и родник говорят вам о далеком прошлом, и в этих рассказах заключается прошлое величие страны и народа…
При воспоминании о прошлом, при виде памятников родной страны Асланом овладевало необычайное воодушевление и глубокий трепет восхищения… Он совершенно забывал, что мы отдалялись от каравана.
— Ничего, успеем догнать, а ты обязан знать все это.
В Артамеде мы увидели множество развалин храмов, часовен и других святынь. Их камни с высеченными крестами долгие годы служили материалом для построек магометан, тем не менее большая часть их унылыми, скорбными грудами оставалась лежать на своих местах. Но меня не столько привлекали руины христианской эпохи — я много видел их и раньше — сколько вырытые в скалах комнаты, громадные пещеры; они производили необъяснимо таинственное впечатление. Особенно привлекли мое внимание два огромных утеса с клинообразными надписями на вершинах. Протекли столетия, народы сменили народы, а они все стоят и стоят…
Побывать в Артамеде и не полакомиться артамедскими сочными ароматными яблоками — преступно. Когда мы собирались уезжать, я заметил на краю дороги маленькую девочку с решетом яблок.
— Продаешь?
Она кивнула курчавой головкой и, не двигаясь с места, посмотрела мне в лицо. Щеки у нее разрумянились, словно лежащие перед нею яблоки.
— Что стоит?
— Пять парá
[106].
— С решетом в придачу?
— Нет, со мной в
придачу, — ответила остроумная артамедка.
Пять парá — две копейки! Целое решето яблок за две копейки! Я с трудом мог уместить в платке четвертую часть.
— Заплати ей больше, — сказал Аслан, — видно эта прелестная девочка из очень бедной семьи.
Девочка, получив серебряную монету в пять курушей, подошла к Аслану и хотела поцеловать ему руку.
— У нас мужчины целуют у девушек ручки, — и поднес ее ручку к губам.
Девочка улыбнулась и с благодарностью удалилась. Сквозь лохмотья виднелось ее красивое тело.
Я посмотрел на Аслана, лицо его подернулось грустью; это был второй случай, когда в его глазах я заметил слезы. Я уверен, он не поцеловал бы руки самой хорошенькой княжны, но эта бедная девочка растрогала его до слёз.
Мы вновь сели на лошадей и тронулись в путь, увозя с собой самые грустные воспоминания об Артамеде.
Артамед — ворота Айоц-Дзора, арена подвигов нашего родоначальника Айка.
Благодаря ночной прохладе караван шел довольно быстро. Мы погнали лошадей; с трудом удалось нам нагнать караван на берегу реки Ангх, когда он готовился раскинуть стан на зеленой лужайке.
Слуги торопливо снимали с мулов поклажу и укладывали рядами. Колонна наваленных вьюков напоминала высокую плотину. Покончив, с вьюками, погонщики сняли седла с мулов, расчесали их чесалками, вытерли досуха пот, а затем, захватив с собою ружья, погнали их на пастбища, поодаль от стоянки каравана. Путники со своими вещами расположились группами на берегу реки; они разостлали на мягкой траве ковры и подстилки, распаковали постели и уютно расселись на мутаках. Одни у реки совершали омовение, чтоб приступить к намáзу
[107], другие, покончив с намазом, перебирали четки и молча читали молитвы в ожидании ужина. Магометанин аккуратен в исполнении религиозных требований даже в пути. Ввиду этого начальник каравана, хотя и христианин, выбирал место и время стоянки каравана с таким расчетом, чтоб предоставить верующим возможность своевременного выполнения религиозных обрядов. И это было весьма приятно магометанам, составлявшим всегда большинство в караване.
Длинные складные фонари, подвешенные на железных шестах, освещали сидевших за ужином путников и их веселые лица, на которых не было и тени усталости. Там и сям горели костры, в больших и малых котлах готовилась пища, в воздухе стоял аппетитный запах пилава
[108], масла и жареного мяса.
Кое-кто, уже поужинав и развалясь на подушках, с особым удовольствием курил наргиле, чернокожий раб на мангале готовил пенящийся кофе. Караван походил на лагерь паломников, расположившихся вокруг монастыря: преисполненные религиозного рвения, сердца богомольцев размягчены, они горят желанием творить добро, помочь ближнему. Здесь также я замечал своего рода единение, братство и равенство всех. Состоятельные приглашали к своему столу неимущих — они не могли со спокойной совестью наслаждаться благами, когда другие с завистью смотрели издали. Караван объединил всех и из различных, разнородных элементов создал единую большую семью.
В караване отведены были особые места женской половине. Об этом заранее позаботился Тохмах Артин, учтя все требования гарема. Из сложенных друг на друга тюков он соорудил площадку, невидимую для постороннего глаза, и поместил там женщин. Богатые мусульманки оставались в своих шатрах, где женщины и мужчины занимали особые половины.
С караваном ехали певцы, муллы, дервиши, какой-то ашуг и цыгане. По заведенному обычаю, они безвозмездно развлекали путешественников. Вот солидный верующий эфенди слушает рассказ муллы о деяниях халифов и чудотворцев-имамов. Там, дальше, дервиш, философ Востока, сидя на своей неразлучной барсовой шкуре, занимает слушателей мудреными философскими вопросами. Ашуг воодушевленно повествует бесконечно длинную былину и будет продолжать ее на каждой стоянке, пока не доскажет до конца. Молодежь, отделившись от каравана, слушает пение и музыку цыган. Издали доносится бренчанье бубенчиков пасущихся мулов и пение сторожей. Внизу тихо и мелодично журчит река Ангх. Все эти голоса, сливаясь в ночной тиши, создают трогательную, чарующую гармонию. А караван-баши, Тохмах Артин, все время носится по каравану, обходит всех, справляется о здоровье каждого, заботливо осведомляется, не нуждается ли кто в чем; для каждого у него наготове любезное словечко. Отовсюду приглашают его к столу, но он с благодарностью отказывается — у него дел по горло.
Мы с Асланом сидели на берегу, наблюдая происходящее в лагере. К нам подошел Артин и со свойственной ему веселостью заявил:
— Господин доктор, если не желаете остаться голодным, прошу пожаловать ко мне в палатку, вы, как я вижу, ничем не запаслись.
И, действительно, мы не позаботились об еде в надежде, что караван остановится на отдых поблизости от жилья, где можно будет получить все, что угодно: впрочем в здешних деревнях, кроме ячменного хлеба и яиц, ничего не достанешь.
Аслан будто ждал приглашения Артина, поблагодарил и последовал за ним.
Белый шатер начальника каравана мог вместить несколько семей; он не лишен был и комфорта. Видимо, этот «человек пустыни», как называл себя Артин, любил кое-какие удобства. Смеясь, я намекнул ему на это.
— Чудной вы человек! Уже тридцать лет, как я не знаю домашнего крова; всю жизнь с моими мулами в ущельях, горах и пустыне. Единственная для меня отрада — мой шатер.
Артин был несчастлив в семейной жизни. Он прогнал жену, изменившую ему; единственный сын умер от оспы. И он возненавидел женщин, решил не вступать более в брак. «Женщины — сущее наказание для мужчин», — говорил он, и всю свою любовь сосредоточил на мулах.
— Но вы должны знать, что мой шатер не столько служит мне, сколько путникам. В дождь и в жару многие находят здесь приют.
— Как, например, мы, — прервал я, — и вы всех кормите!
— Случается — когда попадаются бедняки, которым нечего есть. Привожу зачастую сюда больных; за ними необходим уход, пока доберутся до дому; мой шатер всегда в их распоряжении.
После ужина Аслан спросил:
— А в каком состоянии дороги?
— По обыкновению, плохи. Да и когда они были безопасны? Вот, к примеру, хотя бы здесь. Мы недалеко от жилых мест. До деревни Ангх всего полчаса ходьбы отсюда. Но все же это — один из самых опасных районов. Когда снимемся с места, вы сами увидите, что чуть ли не за каждым кустом скрывается разбойник. Только что поймали одного и представьте себе — женщина, курдянка.
— Это очень интересно.
— И мерзавки опаснее, чем их мужья; в темноте тайком подползают к каравану, как лиса к курятнику, незаметно съеживаются у тюка, острым ножом вспарывают и уносят содержимое. Трудно выследить их.
— А что вы сделали с пойманной воровкой? — спросил я.
— Оттаскал за волосы и отпустил.
— А будь мужчина?
— Ну, с ним была б другая расправа.
— И вы не боитесь?
— А чего бояться? Ведь они не из железа, такие ж, как и я, люди.
— Но люди-звери.
— Трусливые звери, поверьте, очень трусливые. Какая может быть храбрость у дикаря, которым руководит лишь жажда хищения?
— Вполне правильно, — прервал его Аслан, который все время молча слушал. — Храбрость требует от человека самопожертвования, а самопожертвование не может быть без высших идеалов, — Он вновь умолк и, казалось, перестал нас слушать.
— Выходит, они боятся вас? — спросил я.
— Недаром говорится: «Турка отколоти, да с ним дружбу веди!» Поговорка эта не новая, результат опыта сотен, а может и тысячи лет. Я проверил ее на самом себе. Вот вы только что отведали жареную баранину. Кто прислал ее мне? — главарь курдского разбойничьего племени! Баранта его пасется недалеко от нас, в овраге. Узнав, что караван мой остановился вблизи его шатров, прислал мне с сыном пару ягнят и велел справиться о здоровье.
— А вы ему что послали взамен ягнят?
— Мой привет и целую штуку пестрой шелковой материи на платья его женам.
— Вероятно, этому разбойнику довелось иметь дело с вами.
— Да, как-то раз я порядочно помял ему бока, и с тех пор мы стали друзьями…
Артин поднялся с места.
— Простите, я засиделся и разболтался. Пойду посмотрю, что делают мои ребята, вы располагайтесь на покой. Постели готовы.
— Поутру мне необходимо посетить кое-какие места, — сказал Аслан, — прошу дать мне двух всадников.
— Я дам вам из моих людей двух таких, из которых каждый заменит сотню, — обещал Артин и, пожелав нам доброй ночи, вышел из шатра. Аслан лег спать ранее обыкновенного. Это была первая ночь отдыха после напряженной работы в Ване. Господи, как он работал! Лихорадочно, не зная покоя, словно машина.
Я не мог уснуть. Мне все мерещилось суровое мохнатое лицо Тохмах Артина, его черные сверкающие глаза. Хвастовство не пристало этому поистине храброму человеку, все, что рассказывал он, была сущая правда. Впоследствии мне довелось услышать много рассказов об его исключительном мужестве. Да и вообще начальником каравана не может быть трусливый человек: вся его жизнь протекает в борьбе с опасностями. Он был способен руководить целой армией. Но вместе с тем, как мы видели, ему не были чужды человеческие чувства и побуждения. Я воочию видел его стремление к добру, к общему благу. Быть погонщиком мулов и сохранить мягкость нрава — дело нелегкое. Конюхи, погонщики, имея постоянно дело с животными, настолько грубеют и дичают, что трудно их отличить от животных, Тохмах Артин был человек иного склада. Ремесло погонщика мулов он возвысил и установил образцовый порядок в караване.
Огни гасли один за другим. Шум и движение в караване прекратились. Наступила глубокая тишина. Слышался лишь шум реки и в заунывном рокоте волн, казалось, я читал историю событий, происшедших здесь сорок пять столетий тому назад…
Глава 21.
КРЕПОСТЬ АЙК
Проснувшись поутру, я выглянул из шатра. Солнце еще не всходило, а щебетуньи-птички уж начали свой утренний концерт. Аслан был на ногах и торопил меня. Артина в шатре не было. Мулов давно пригнали с пастбища, давали им ячмень, седлали, чтоб выступить в путь до восхода солнца.
В ожидании появления дневного светила караван был подобен обители. Отовсюду доносились звуки молитв и духовных песен. Мне нравится слушать, как мусульманин нашептывает айяты из корана. В моем воображении встают знойные пустыни Аравии и пламенный пророк, явившийся из раскаленных степей.
Какой могучей силой обладает книга! Своей высокой поэтичностью, чудным языком коран смог связать с религией значительную часть людей земного шара. Я с завистью смотрел на магометан. В караване были и армяне, но они не молились. Армянин молится лишь тогда, когда поп молится. За стенами храма он не вспоминает бога.
Торопясь, я даже забыл застегнуть пуговицы. Аслан обещал показать крепость родоначальника армян Айка. Сердце мое билось от нетерпения увидеть первую твердыню Армении, уцелевшую с младенческих лет моей родины.
Мы тронулись в путь. Впереди ехали в полном вооружении два присланных Артином всадника. Они вначале же предупредили нас, что дорога опасна. Я был вооружен с ног до головы, Аслан также имел при себе два пистолета. Не знаю почему, мне страшно хотелось повстречаться с разбойниками. Столько о них наслышался рассказов, а увидеть их не приходилось.
Лишь только первые лучи восходящего солнца позолотили верхушки окутанных туманом гор, долина Айоц-Дзор предстала нам во всей своей красе. Моему восхищению не было границ! В воображении моем жили давным-давно минувшие времена. Чего только не видела эта долина, свидетельницей каких только подвигов не была она! Здесь родоначальник наш Айк вступил в борьбу с насильником Бэлом и сокрушил мощь обуянного гордыней титана, здесь в эпоху религиозных гонений при Езикерте армянская женщина с пáлицей и крестьянин, вооруженный серпом, в первый раз заявили протест против попранной свободы совести и, ринувшись на персидских магов, сокрушили их, предав огню все вновь сооруженные капища, они освободили родину от языческой скверны.
Аслан показал мне место старинной крепости Мохраберд (ныне обычную деревню), откуда поселяне сбросили в волны моря пепел сожженных капищ и неугасимого огня Ормузда, почему и крепость поныне называется Мохраберд (Пепельная крепость).
В Айоц-Дзоре было положено начало христианству при нашем царе Абгаре. Об этом Аслан мне много рассказывал так, как он читал в книгах. Но я любил народное повествование, повествование живого народа, которое по преданию, передается из поколения в поколение. Вот что рассказывает народ: согласно обещанию Христа, данному Царю Абгару после вознесения, апостолам Фаддею и Варфоломею выпало на долю стать просветителями Армении. Варфоломей прибыл в местность Агбак, а Фаддей — в Айоц-Дзор. Он принес с собой копье, коим пронзен был бог-сын, покрывало богородицы и сосуд с душистым маслом, коим помазана была глава Христа. Фаддей проповедовал и творил чудеса при помощи принесенных святынь. На берегу реки Ангх, где ныне стоит монастырь во имя святой богородицы, находился языческий храм. Богоматерь явилась во сне апостолу и приказала на месте капища построить храм. Апостол, чудом разрушив идолов и капище, приступил к воздвижению храма. Началась невидимая, глухая борьба меж идолами и апостолом. Что апостол возводил днем, дьяволы разрушали по ночам, а камни бросали в реку Ангх. От сгрудившихся камней образовался тот холм, поверх которого, наподобие водопада, низвергается река, и зовется он Сачан. Затем апостол, по веленью богоматери, помазал чудотворным маслом один из каменных крестов и водрузил его на месте постройки храма. Дьяволы не дерзали более подходить к святыне; обернувшись в черных воронов, стали кружиться в воздухе и мешать рабочим; тогда появились в виде грифов божьи ангелы и вступили в бой с воронами. Перебили всех воронов и тела их побросали в реку, где были нагромождены камни от храма. Река стала зваться Ангх (гриф), а деревня, где воздвигся храм св. богородицы — деревней Ангх. Помазанный чудотворным маслом каменный крест и поныне находится в храме, из него денно и нощно истекает чудодейственное масло, богомольцы уносят его с собой для исцеления от всевозможных недугов. Масло вытекало в таком обилии, что хватало на все лампады храма. Но какой-то алчный монах задумал торговать им, и масло стало иссякать…
Мы долго ехали берегом реки Ангх. Вниз по течению быстро неслись рыбачьи лодки к устью реки, здесь рыбаки закидывали в море рыболовные сети, каждое утро наполнявшиеся вкусной сельдью.
Верховье Ангх называется Хош-аб, так как река протекает по местности Хашаб или Андзевацяц. Втекая в Айоц-Дзор, она делит долину на северную и южную. Воды канала Шамирам текут с севера, они пересекают Ангх, направляясь поверх искусственного моста, и устремляются в Артамед, оттуда в Ван. Канал этот приносит населению Айоц-Дзора больше пользы, чем обильная водой Ангх. По всему своему течению канал Шамирам орошает множество лугов и нив. Местами он протекает по трубам и широким протокам, местами течет по поверхности земли, когда же по пути встречаются рвы или ямы, вода перелетает через выстроенные в таких местах плотины, словно по воздуху, не меняя своего направления. Это искусное величественное сооружение следует считать делом рук если не славной ниневийской царицы, то, без сомнения, нашего Арташеса II, который отвел воду в Артамед для орошения цветников и оранжерей, а деревню назвал «Зард» (краса). И, действительно, когда-то она служила красой Васпуракана.
Солнце поднялось и озарило окрестности ярким блеском. Аслан, погруженный в размышления, ехал молча. Я был восхищен открывшейся панорамой, но на душе у меня было и радостно, и грустно. Как хорошо жилось здесь некогда людям, как густо заселен был край! А теперь? Теперь — сплошь руины, запустенье. Безлюдных деревень больше, чем обитаемых. Без конца полуразвалившиеся церкви, опустевшие монастыри и просторные кладбища, вокруг которых когда-то жили люди. Священные некогда места служат теперь логовищем зверей и пристанищем ничем не отличающихся от них разбойников-курдов. Словно неведомая сокрушительная сила пронеслась над долиной и уничтожила все, что было хорошего.
— Предки наши не были лентяями, заботились о благоустройстве страны, — заметил Аслан, — любили трудиться; доказательством служит этот канал-гигант. Но с тех пор, как здесь властвуют турки, погибло все: и труд, и жизнь.
— А в деревнях население армянское?
— Да, армянское, в каждой деревне вы встретите лишь несколько курдских дымов. И эти несколько курдских семей — тля для крестьян, для всей деревни.
Дорога шла по ровному месту. Утоптали ее природа и нога пешехода. Кое-где показались болота, из которых выглядывали желтые кувшинки, сверкавшие под лучами солнца. Местами виднелись тростниковые заросли. Черепахи выползали на берег греться на солнышке, но, завидя нас, стаями бросались в воду и исчезали в густых зарослях. Белоснежный аист с длинным красным клювом и на таких же красных длинных ногах бродил по болоту, высматривая добычу. Мы проехали подле него: он ничуть не встревожился, пристально поглядел на нас и продолжал охоту. Высоко в небе кружил ястреб, широко распластав свои крылья, легко двигая ими, словно веслами. Вдруг он стрелой ринулся вниз, исчез в камышах и вновь поднялся ввысь, держа в когтях добычу. Солнце палило невыносимо; не будь ветерка с моря, можно было б задохнуться. Все кругом замерло.
В застывшем воздухе слышалась лишь песня беспокойного жаворонка. В полдень, когда птицы, изнуренные зноем, ищут прохлады и покоя, жаворонок заливается еще звонче. Но где скрывается эта умная птичка-невидимка? Сероватая окраска ее перышек нисколько не отличается от пожелтевших колосьев сжатого хлеба и поблекших, иссохших листьев кустарника, она совершенно сливается с цветом ее убежища, она невидима глазу врага. Хотя б у нее научились уму-разуму местные армяне!..
По обеим сторонам луговин и болот высились скалистые холмы. Все выжжено зноем. В воздухе стоял лишь острый и едкий запах полыни.
Через дорогу перебежал заяц. Плохая примета! Он присел на камень и, навострив уши, глядел на нас. Мы подъехали — он шмыгнул в кусты. Ну, хотя б пробежала лисица — это было бы предзнаменованием благополучного исхода нашего путешествия. Но заяц предвещает беду! Этот предрассудок еще с детства настолько глубоко вкоренился во мне, что я нисколько не сомневался в неизбежности злоключения. Разумеется, об этом я постеснялся что-либо сказать Аслану — боялся осуждения!
Мы проезжали мимо армянской деревни. Землянки едва подымались над уровнем земли. На плоских кровлях шла молотьба.
По неразмельченной еще соломе пара волов тащила молотильные доски, на которые для тяжести навалили кучу детей. Мать граблями размешивала солому. Острые зубья досок, сделанные из кусочков кремня, ломали недомолоченные колосья. Мужчин не было. Кое-кто работал в поле, но большинство ушло на чужбину. Несколько стариков сидели в тени наваленных снопов и курили. Завидев нас, вставали с мест и отвешивали низкий поклон. Один из наших проводников подъехал к ним и попросил огня закурить чибух. Мы проехали вперед. Когда он догнал нас, я спросил его:
— О чем спрашивали тебя старики?
— Спрашивали — кто он такой, этот человек?
— А вы что ответили?
— Сказал — европеец-путешественник.
— А они?
— С какой целью путешествует?
— И больше ничего?
— Спросили: куда едет? Когда я ответил, они позавидовали европейцу, которому посчастливится увидеть крепость Айк.
— А сами разве не видели крепости?
— Нет, не видели. Крепость у них под боком, съездить туда так и не удосужились.
— Странно!
— Ничего удивительного нет. Расскажу вам более удивительное явление. Мне приходилось беседовать с крестьянами, жившими всего в нескольких милях от монастыря. Когда караван богомольцев проезжал мимо их деревни, они благоговейно говорили ехавшим: «Блаженны очи, которые узрят наш монастырь!..»
В это время к нам подъехал другой проводник. Я стал внимательно присматриваться к ним. Как знакомы мне эти лица! Я где-то видел, но где и когда — не мог припомнить. Как можно было забыть людей такого рода? Это были статные юноши, как два Аякса. Я проклинал свое тупоумие. Если я их встречал, то, конечно, в ином облике, но не в костюме лаза
[109], как одевались слуги Артина.
Сомненье терзало меня. Я хотел было спросить их, но разве они сказали бы, кто они, что знают меня или встречались со мной? Одно я хорошо помнил: я видел их и одновременно вместе. Я предоставил дальнейшим обстоятельствам разрешение этого вопроса.
— Далеко еще до крепости? — спросил я другого проводника.
— Если будем ехать так же быстро, к полудню доедем, — ответил он.
Неудержимое желание поскорей узнать что-нибудь о крепости заставило меня спросить:
— А вы видели крепость?
— Видел.
— По всей вероятности, это — мощное сооружение с высокими башнями, с массивными стенами?
— Ну, разумеется, когда-то была такою. Но разве могло все это уцелеть? А вы знаете, когда жил Айк? — улыбнулся проводник на мой наивный вопрос.
Оказывается, грубый слуга погонщика мулов знает Айка. Это еще более усилило мои сомнения. «Кто же, наконец, они — эти знакомые мне лица?» — терялся я в догадках.
Айоц-Дзор, местопребывание нашего родоначальника Айка, полна памятников прошлого, повествующих о борьбе нашего витязя с вавилонским великаном Бэлом. Аслан пояснил мне, каким образом можно проверить исторические данные по оставшимся памятникам и народным сказаниям.
— Отечествоведение — одна из самых важных наук, которую обязан изучать каждый юноша-армянин. Кто не знаком с историей родной страны, тот не может быть истинным патриотом.
Аслан указал мне все заветные места, связанные с именами Айка и Бэла: холм, на котором распростерся Бэл, сраженный стрелой нашего богатыря, место это и поныне зовется «Могильником». Так прозвал его Айк, потому что здесь пало много храбрецов из рати Бэла, и места боев стали их могилой. Аслан указал мне место, где впервые повстречались два великана. Местность эта прозвана «Айк» и сохранилась в памяти народа в искаженном виде «Хек». Он показал мне издали местность Аствацашен
[110] — первое село, основанное Айком; оно существует и в наши дни и сохранило прежнее название. Жители Аствацашена всегда с гордостью вспоминают, что их село зовется именем нашего прародителя, богатыря Айка, вступавшего в борьбу с богами и почитаемого народом, как бог. Недалеко от названного села находилась и крепость, куда мы держали путь.
Наконец, мы доехали до желанного места.
Около села Аствацашен, на восточной стороне, посреди обширного поля высится остроконечная гора, грозно господствующая над окружающей равниной. На ее вершине сохранились обломки величественных сооружений наших предков-великанов, известные в народе под названием «крепость Айк».
— А как называется гора? — спросил я Аслана.
— По-турецки: Боз-даг, то-есть Серая гора, — ответил он.
Завладев нашей страной, турки постарались уничтожить, изгладить из памяти все заветные и священные для армян места, сделать чуждым народу все национальное, что свойственно ему. Они изменили названия наших гор, наших рек, наших долин и деревень. Страну, считавшуюся исторической колыбелью нашего народа и заселенную по сие время армянами, они прозвали «Курдистан».
— А старинное название горы какое?
— К сожалению, не знаю. В книгах не приходилось встречать, а народ не помнит.
Продолжать путь в гору на лошадях было невозможно. Мы спешились. Проводники остались при лошадях, а мы с Асланом стали подыматься по тропинке, совершенно стертой временем. Мы карабкались по ужасающим скалам, отвесным утесам, пробирались по узким ущельям и зарослям кустарников, которые попадались нам по дороге. Но я не чувствовал трудностей пути, благодаря великому вожделению увидеть заветную твердыню, где жил и где боролся с могучими титанами наш прародитель, защищая свою семью из трехсот душ. Эти триста душ составляли тогда весь армянский народ, с этими тремястами он овладел всем Айастаном
[111]. От вековых катастроф и разрушений сохранилось еще многое, что носит следы великих дел наших титанов: искусственные пещеры, пропадавшие в глубине горы и служившие некогда потаенными путями сообщения, выдолбленные в скалах водохранилища, куда по трубам стекала дождевая вода и хранилась на случай осады, так как на горе не существовало родников, всякие кладовые, где хранились запасы и оружие. Остроконечная гора, казавшаяся снизу лезвием ножа, превращалась на вершине в плато. Здесь виднелись следы многочисленных мест пребывания людей, находивших убежище во время грозившей опасности. На самой вершине возвышалась цитадель крепости. Стены, башни и другие укрепления в свое время были настолько грандиозны, что свалившиеся оттуда глыбы ныне грудами покрывают огромное пространство до самого подножия горы. Лишь следы искусного молота и циркуля, да стойкий известковый цемент отличали громадные камни от окружающих скал. Только руки гигантов в состоянии были нагромоздить такие глыбы одна на другую и воздвигнуть горные пирамиды. Аслан, поднявшись на обломки исполинских руин, с особенным воодушевлением обозревал окрестности, обширную даль: проницательным взглядом своим будто измерял необъятное пространство зеленеющих долин вплоть до далеких гор, до голубого моря…
Глава 22.
ПРОРИЦАТЕЛЬ
Спустившись с крепости, Аслан сел на лошадь и, не сказав ни слова, направился в южную часть ущелья Айоц-Дзор к горам Рштуни. Проводники, зная, по-видимому, куда он едет, повернули коней в ту же сторону. Я последовал за ними. Долго мы ехали молча. Каждый из нас был погружен в свои думы, подавленный впечатлениями, произведенными на нас разрушенной крепостью.
Был нестерпимо душный день, когда раскаленные горы и камни пышут огнем и ты чувствуешь себя, словно в печи. Пот льет с тебя, оставляя на лице густую соляную кору, губы трескаются, глаза горят. Подобно мелкой, едва заметной пыли, миллионы насекомых кружатся над головами путников. Вместе с воздухом проникают они в нос и рот, лезут в глаза, заполняют уши своей неугомонной музыкой. Нет возможности избавиться от их укусов! Все обнаженные места на теле — лицо, шея, руки — как бы исколоты тоненькими иголочками. Ужаленные места воспаляются, горят. Они сосут твою кровь и взамен вливают в тебя яд. Очевидно, такова судьба этой страны: высосать все ее соки, насытиться и взамен оставить ей лишь отраву…
Раскаленный воздух распаляет воображение. Смотришь на небо — словно громадный монастырь повис в воздухе, с куполами, колокольней; смотришь вдаль, в сторону моря — ангелы небесные в полном вооружении мчатся на конях по воздуху, огромные стада овец пасутся в небесных пастбищах и горах. Что это? Я во власти призраков и привидений? Хочу спросить проводников, они знакомы с местностью, быть может, разъяснят в чем дело. Но они могут счесть меня за помешанного и посмеются надо мной! Наконец, я набрался смелости и рассказал об всем Аслану. Он объяснил мне естественные причины подобных воздушных явлений, и я был поражен. Что за дивная вещь наука! Сколько предрассудков и суеверий рассеивает и уничтожает она!
В этот час дня дороги совершенно пустынны. Изредка попадались нам всадники то группами, то в одиночку. Сидя на маленьких ретивых конях, с длинными тростниковыми копьями в руках, железным щитом за спиной, пистолетами за поясом и кривой саблей на бедре, они словно ехали на бой или возвращались с поля брани. Окинув нас подозрительным взглядом, они здоровались и проезжали.
— Это разбойники? — спросил я проводника.
— Как бы вам сказать, — улыбнулся в ответ один из них, — все они разбойники, ведь разбой — их ремесло. Те, что проехали — обычные путники. Если встретится добыча по зубам, они не прочь ограбить, но когда увидят, что трудно обобрать — поздороваются и проедут мимо.
— Выходит, они ограбили б нас, если б мы были безоружны?
— Ну, разумеется!
Слова проводника не успокоили меня. Я вспомнил зловещего зайца, перебежавшего дорогу. Нет, с нами непременно приключится беда!
Встречались также и курдские женщины, группами и в одиночку, направлявшиеся к подножью ближайших гор, где были раскинуты их шатры. Жалкие существа! Ободранные, босые, шли они по узкой, покрытой терновником дороге, которая была непригодна ни для проезда, ни для пешего хождения, скорей походила на узенькую тропинку. Они плелись под тяжестью сухих кустов и корней, собранных по окрестным холмам для топки печей. Мужья восседали на прекрасных конях, а несчастные жены стонали под непосильной ношей. Я вновь обратился к проводнику.
— Откуда они?
— Разве про курда можно сказать, откуда он. Курд — кочевник, сегодня пасет овец здесь, а завтра глядь — за десятью горами!
Солнце уже склонялось к закату, но в воздухе не чувствовалось свежести. Жажда мучила меня. Я готов был отдать полжизни за глоток воды, но до родника было далеко.
— Я захватил с собой артамедских яблок, — промолвил проводник и, остановив лошадь, достал из хурджина
[112] несколько сочных плодов.
— Откушайте, — предложил он мне, — это утолит жажду.
Я снял кожуру ножом и с большим удовольствием стал есть сочные кисловатые яблоки. Несчастные курдянки, несмотря на тяжесть ноши, бежали за нашими лошадьми, подбирали с земли кожуру и ели с неменьшим аппетитом. Проводник дал каждой по яблоку. Их радости не было границ.
— Сколько у тебя возлюбленных? — спросил я у одной.
— Я замужняя, — расхохоталась в ответ курдянка, — а вот у той их много, чтоб ей ни дна, ни покрышки!
И ударила по голове незамужнюю подругу.
— И ты верно, не прочь отведать побочной любви!
— Когда муж бьет — да.
— Сколько у вас баранов?
— Пятьсот.
— Пятьсот! И ты тащишь на себе хворост?
— Иначе нельзя: коли не буду таскать, муж прогонит из дому и заведет другую.
Мы проехали дальше.
— Неужели курдянки легкого поведения? — спросил я проводника.
— Нельзя сказать про всех курдянок. Вот это племя — помесь с цыганами. Вообще, девушка у курдов пользуется большей свободой, чем замужняя женщина: та считается собственностью мужа.
Вдали, у подножья горы Артос показались шатры, озаренные желто-багровыми лучами заходящего солнца; они пылали огнем. Но вот солнце зашло, и чудесное видение исчезло. Все погрузилось в непроницаемый мрак. Теперь там вспыхивали, подобно маякам, огоньки, маня нас к себе.
Аслан рассказал мне, что там живет известный курдский шейх, пользующийся большим влиянием среди всех племен, его боготворят и оказывают подобающие пророку почести. «Клянусь головой шейха!» — самая великая клятва для них. Когда он выходит из бани, курды делят меж собой воду, которой он мылся, опрыскивают ею бороды; бездетные жены собирают землю, по которой он прошел, совершают волшебные заклинания, чтоб аллах даровал им детей.
— Он яростный фанатик и враг христиан, — добавил Аслан, — его ненависть доходит до крайности: при выходе из шатра он закрывает лицо, чтоб гяуры не могли увидеть его священного лика. Сколько монастырей разрушил он, сколько сжег армянских деревень! Его самое страстное увлечение — истреблять христиан!
— А почему он здесь?
— Приехал сюда после столкновения с персами.
— Какие столкновения?
— Несколько месяцев назад он совершил набег на юго-западную часть Урмийского озера и разорил несколько областей.
— Неужели он настолько могущественен?
— За один день он может призвать под ружье десять, а то и двадцать тысяч всадников.
— А где его постоянное местожительство?
— В долине реки Заб, иначе Нейри, — недалеко от Ахбака и Джуламерка. Там у него обширные владения, много деревень. Человек он весьма состоятельный.
— Богатство, вероятно, накопил грабежами?
— Ну, разумеется!
— И ты едешь в гости к такому злодею?
— Не к нему. Необходимо повидать другого человека.
— А ты знаком с шейхом?
— Знаком. Но если он увидит меня в костюме европейца, наверное, не узнает.
Было уже за полночь, когда мы подъехали к шатрам шейха. Костры уже погасли, и в лагере царила глубокая тьма.
Сгрудившиеся вокруг шатров табуны лошадей, стада коров и быков, отары овец свидетельствовали, что здесь большое становище пастухов, но в любой момент оно могло превратиться в военный лагерь. Всюду на постах бодрствовали вооруженные часовые. Проникнуть туда не представлялось никакой возможности. Собаки, словно тигры, кидались на головы наших коней. К нам подошли ночные сторожа.
— Кто вы? Кого вам нужно?
— «Прорицателя», — ответил проводник.
— «Прорицатель» живет вон там, — указал сторож на стоявший особняком вдали от лагеря шатер, где еще мерцал огонек.
«Прорицатель» — у курдов весьма нужный человек: у него и днем и ночью имеются посетители. Наш поздний визит нисколько не удивил сторожей; в темноте они не разобрали, какого сорта люди мы.
Мы подъехали к палатке «прорицателя». Он сидел за книгой перед фонарем. Заслышав конский топот, отложил книгу и вышел из шатра. У входа вырисовывалась, словно статуя, величественная фигура. Белые, как снег, волосы, ниспадая на плечи и сливаясь с серебристой бородой, окаймляли его — вероятно от постов иссохшее и, словно пергамент, поблекшее, но выразительное лицо. На нем была только, доходящая до босых ног, белая рубаха, напоминавшая церковный стихарь.
— Добро пожаловать, сойдите с коней, — сказал он тоном схимника, — а за конями присматривайте сами: я здесь один, никого у меня нет.
Мы с Асланом слезли с лошадей и вошли в шатер. Проводники остались у входа, достали из хурджинов железные путы и стреножили лошадей, затем, воткнув в землю длинные железные шесты, привязали к ним поводья коней.
Шатер «прорицателя» произвел на меня впечатление кельи схимника, или палатки дервиша, которую тот разбивает на определенный срок у дверей дома богача-вельможи, чтоб вынудить его уплатить требуемую мзду.
Обычай этот настолько характерен для стран востока, что считаю необходимым рассказать о нем.
Дервиш обращается к тому или другому вельможе с требованием крупной суммы денег или каких-либо даров. Преимущественно он избирает лиц, не желающих делиться богатством своим с другими. Богач, разумеется, отказывает ему. Тогда дервиш разбивает шатер у входа в его дом, преспокойно поселяется в нем и засевает землю ячменем, а это обозначает: пока ячмень не взойдет и не созреет, он не тронется с места. Каждое утро, под вечер и в полночь, дервиш трубит пронзительно в свой рог, чтоб досадить богачу. Когда богач выходит из дому, он начинает петь по его адресу оскорбительные песни. Богач, в силу установившегося в стране обычая, не имеет права согнать со своей земли привилегированного нищего, если посмеет оскорбить его, — сойдутся с разных мест другие дервиши и устроят богачу скандал: окружат дом, начнут хором трубить в рога, соберется народ, а они безумолчно будут тянуть свою разноголосую музыку. Таким образом, вместо одного дервиша-требователя может оказаться целый десяток, и скряга-богач принужден будет удовлетворить всех без исключения. Во избежание могущих возникнуть подобного рода неприятностей, богач спешит вначале же выполнить требование дервиша, а тот полученную сумму раздает нищим и удаляется.
Но в шатре обитал не дервиш, а духовное лицо, которому аллах ниспослал дар предвидения.
— Мы помешали вам, — извинился Аслан, когда мы уселись по обе стороны старца, — вы были заняты чтением.
— Свободного времени для чтения у меня много, — ответил он слабым голосом, — теперь мне следует позаботиться о божьих гостях.
«Прорицатель» пользовался большой славой среди курдов. Из самых отдаленных мест приходили к нему с дарами и вопросами о разнообразных делах. Все, что получал, он раздавал нищим, а сам жил в крайней нужде. Питался сухим хлебом, пил воду, мяса не употреблял никогда. О творимых им чудесах ходило много легенд. Сам шейх относился к нему с особым уважением и во всех случаях обращался к нему за советом. Раз в год старец исчезал на сорок дней: спускался в глубокую яму и проводил там дни без пищи, имел сношения с духами, созерцая небесные видения.
Я стал всматриваться в черты его лица. Вероятно, в молодом возрасте оно являло вид суровый, но теперь от былой жестокости не осталось и следа. Долгие годы и духовное звание размягчили его сердце и придали его лицу выражение мягкости и доброты. Но когда он откидывал ниспадавшие на широкий лоб седые волосы, лицо его становилось страшным. Какая-то тайна наложила на него мрачную печать. Середина лба была выжжена каленым железом, о чем свидетельствовало темно-коричневое пятно; подобные следы можно встретить лишь у смертников и преступников. Рассказывали, будто он попал в плен к неверным и там заклеймили его.
Аслан спросил, чтó он читает.
— Это богословская книга на арабском языке. Среди курдов грамотность не распространена, даже духовенство неграмотно. Знающих по-арабски можно перечесть по пальцам — шейх и еще несколько лиц.
— А вы?
— Теперь я вполне владею арабским языком, прочел много книг. Больших трудов стоило мне научиться этому языку. Начал изучать его уже на старости лет. Но чтоб в совершенстве овладеть им, нужна целая жизнь. Шейх высокого мнения о моих познаниях: в торжественные дни, когда предстоит ему произнести проповедь, он зачастую предлагает мне подняться на кафедру.
— Другими словами, вы выполняете обязанности его помощника?
— Да, курды считают меня его заместителем. Но я человек очень скромный. Слава, чины — не для меня. Мне достаточно палатки, где я обретаю духовное удовлетворение.
Я осмотрелся — кругом царила крайняя бедность. Человек, пользовавшийся славой в народе, в которого верили, мог окружить себя достатком, нажить богатство. Но старец все, что ни получал, раздавал нищим, а сам отрекся от всяких жизненных благ. Единственным предметом обихода была сделанная из тыквы кружка для воды. Кроме нее и книг, в палатке не виднелось ничего другого. Он сидел и спал на полу, покрытом рогожей. Но, как мне потом передавали, он и спал очень мало.
В палатку вошел один из проводников и спросил Аслана, не желает ли он поужинать.
Тут произошла глубоко трогательная сцена.
Взоры юноши-проводника и старца встретились: оба на одно мгновение застыли от изумления и неожиданно бросились друг к другу в объятия, как отец и сын, давно разлученные друг с другом, издавая какие-то непонятные стенанья.
— Кум Петрос! — воскликнул юноша.
— Мурад, дорогой мой Мурад! — послышался слабый старческий возглас.
Я был ошеломлен, не зная, чем объяснить этот восторг. Особенно удивило меня то, что оба заговорили по-армянски, между тем, как до появления юноши «прорицатель», курдский монах, говорил с Асланом по-курдски.
Аслан оставался невозмутимым. С присущей врачу заботливостью, как бы со старцем не произошел удар, он усадил его на пол. Но юноша не выпускал старца из объятий, целовал седую голову, руки, выжженный на его лбу шрам, приговаривая:
— Боже мой!.. Мог ли я ожидать!..
— Мурад, дорогое дитя мое, — промолвил старец, придя в себя, — ты опять видишь меня в позорной роли. Ты вправе заключить, что старый «хачагох»
[113], закоренелый преступник, все еще не исправился… Если б ты знал, что заставило меня заняться этим гнусным ремеслом, ты бы простил меня, мой добрый Мурад…
— И полюбил бы вас… — прибавил Аслан.
Юноша вновь схватил руку старика, приложился к ней, говоря:
— Да, полюбил бы… и люблю… Теперь мне понятно все… все ясно… Ни одно твое доброе дело, никакое раскаяние не в силах было б искупить твоих прошлых грехов… Теперь, теперь ты смыл с себя весь позор, очистил свою совесть. Твой самоотверженный поступок ради высокой цели загладит все твои прошлые преступления.
— Мои прошлые преступления, — повторил старец, отирая слезы… — Ужели небо столь милосердно, что простит содеянные мной злодеяния… Я давно раскаялся, но не жду прощения… Надежда на искупление, которую каждый благочестивый христианин хранит в душе своей, давно во мне умерла… Пусть кромешный ад будет мне уделом… Пусть будет мне суждено сожительство с дьяволами и сатаной, пусть новое преступление прибавится к бесчисленным моим прегрешениям, — но я все же выполню, непременно выполню данный мною обет!
Аслан схватил руку старца и с благодарностью пожал ее. Его примеру последовал и юноша.
По-видимому, между стариком и юношей существовали давние связи… темные и подозрительные. Сначала я принял юношу за сына старца, но он называл его «кумом». Оба имени — кум Петрос и Мурад — были знакомы мне.
— Ты и я, — заговорил вновь Мурад, — все наши способности, все наши умственные и духовные силы растратили на бесчестные дела… Но кем были «мы»? Мы действовали ради мелких личных выгод, исходили из грязных побуждений… Мы забыли, что существуют более возвышенные цели в жизни — общественное благо. Мы заботились исключительно о своем благе, да и то незаконными путями. Мы забыли, что имеются обязанности к нации, к родине, к человечеству. Мы превратились в ржавчину, которая все разъедает и уничтожает. И за наши дела нас прозвали позорным именем «хачагох», грабителями святыни. Да, мы похищали у людей самое дорогое и святое для них: их жизнь, честь и достояние. Нашей алчности не было предела, в нас умерла совесть. Нам удавались всякие злодеяния — и это еще более разжигало наши безнравственные устремления. Но настал час, и мы должны совлечь с себя ветхие одежды, стать новыми людьми, с новой энергией устремиться к светлому и благородному, все наши помыслы и силы, которые были направлены только на злодеяния, отдадим на благо общества…
Старик обхватил руками голову Мурада и поцеловал его в лоб. Так говорил слуга, погонщик мулов, которого я считал человеком неразвитым и необразованным! Что за притча?
Он встал и вышел из палатки. Аслан дал мне знать, чтоб я также удалился.
О чем говорили они наедине — не знаю. Беседа их затянулась. Мы с Мурадом сидели далеко, подле лошадей и ничего не могли расслышать. Затем они опустили полу шатра. Казалось, легли спать, но огонь горел до рассвета.
Прохлада ночи заставила забыть перенесенные муки знойного дня. С моря дул нежный ветерок, неся с собой благоухания душистых полей Артоса. Небо заволокло тучами, звезды погасли. Время от времени падали крупные капли дождя; со
стороны крепости слышались глухие раскаты грома, сверкала молния. Чудилось мне, будто армянский и вавилонский великаны вступили в бой, и рушатся горы под ударами их палиц.
Мурад с товарищем возились подле коней, покрывали их паласами, чтоб в случае проливного дождя не промочило их. Лежа на траве, я глядел в непроглядную тьму. Кругом все было окутано мраком, как и будущее этой страны…
Мне неотступно мерещился образ седовласого «прорицателя», звенели в голове загадочные слова таинственного старца. Я не мог разгадать смысла этих слов. Но два имени — Мурад и кум Петрос — разъяснили мне многое. Оба — известные «хачагохи», темных дел мастера, прославившиеся в Салмасте! Много удивительных рассказов пришлось мне слышать о них…
Сомнения мои стали постепенно рассеиваться. Меня давно уже мучила мысль, где я мог прежде видеть Мурада, лицо которого казалось мне знакомым. И наконец вспомнил…
Читатель, помнишь ли ты ту злополучную ночь, когда я бежал из школы тер Тодика и бродил в отчаянии по Старому городу, не зная, куда держать путь. Я повстречался тогда с Каро, и он повел меня к развалинам, в арабский минарет. Там впервые увидел я его друзей, Аслана и Саго. В их кружке был тогда и Мурад со своим нынешним приятелем Джалладом. На рассвете Мурад и Джаллад исчезли неизвестно куда. Что с ними стало, я так и не узнал. Прошли месяцы — и я вновь столкнулся с ними, но в совершенно иной обстановке: товарищи Аслана и Каро служили теперь погонщиками мулов в караване арзрумца Артина… Какое странное превращение! В чем смысл этих превращений? Чтó связывало Артина, Аслана с другими? Кому принадлежали мулы? Эти вопросы неотступно занимали мое воображение и вызывали разнообразные догадки и предположения…
Мурад и кум Петрос! Их имена приводили меня в трепет. Да, оба были известными «хачагохами»! Неужели нравственно испорченный «хачагох» способен на доброе дело? Неужели можно надеяться на искренность людей, которые в течение всей своей жизни притворялись, обманывали, нарушали все требования справедливости? Я удивился Аслану, его наивности — как он мог общаться с подобными им гнусными людьми.
Но когда вспомнил я трогательную сцену в палатке и полные глубокого чувства слова Мурада, — спадала мрачная завеса, и моим глазам открывался новый лучезарный горизонт. Я понимал, что даже мерзостный «хачагох» может исправиться, очиститься от старой скверны и отдаться на служение добру. Слова, полные глубокого смысла! Неужели «хачагохом» может быть только житель Салмаста или Савра? «Хачагохом» может быть и священник, и ремесленник, и купец, и учитель, и чиновник, — словом, все, кому присущи отличительные черты «хачагоха», «кто испорчен» в корне, одарён способностями, но применяет эти способности ко всему дурному и безнравственному. «Настал час — и мы должны совлечь с себя ветхие одежды, стать новыми людьми, с новой энергией устремиться к светлому и благородному, все наши помыслы и силы, которые были направлены только на злодеяния, отдать на благо общества!» Так закончил Мурад свою небольшую речь, обращенную к старцу.
Закончив работу, Мурад подсел ко мне. Я не намекнул ему, что видел его прежде на арабском минарете. Он предполагал, что я его не узнаю в костюме лаза — на минарете он был одет зейтунцем и говорил на зейтунском наречии. Мне неудобно было изобличать его в том, что он скрывал от меня. Но я был уверен, что он не скроет от меня своих сношений с кумом Петросом — ведь я был свидетелем трогательных объятий и их душевных излияний!
— Вы, вероятно, давно знаете старца? — спросил я.
— Не только знаю, но он был моим учителем.
— Как? Этот «хачагох»?
— Да, этот «хачагох».
— Каким образом вы попали к нему?
— Долго рассказывать! Коли начну, до утра не закончу.
— Очень прошу вас, расскажите! Я много чего слыхал о куме Петросе, но не приходилось видеть его.
— Вероятно, и обо мне слышали?
— Да, ваше имя неразрывно связано с его именем.
— Да вы правы… Неразрывно… — повторил он с грустью в голосе.
Вот что рассказал мне Мурад.
В юные годы он был учеником у кузнеца. С мастером стряслась беда, заподозрили и ученика. Мурад скрылся, чтоб не попасть в руки полиции. Повстречались с ним такие же, как и он, бездомные подростки, бежавшие из школы тер Тодика и скрывавшиеся в лесах Савра. Это были — Аслан, Каро и Саго. Несколько недель пробыл Мурад у них. Иногда заходил к ним старик-охотник, по имени Аво и наставлял заблудших детей. Но недолго наслаждался Мурад теплым содружеством, пришлось расстаться, и он попал в руки кума Петроса. Последний взял мальчика под свое покровительство, увел в чужие края и сделал «хачагохом». Каро, Аслан и Саго, последовав советам охотника, также покинули родную страну, но морально не развратились, а получили образование и вышли в люди.
Удивительное повествование! Это была печальная история бродяги, искателя приключений…
— Стало быть, вы с детства знакомы с Асланом и его товарищами?
— Да, с детства, но пути наши разошлись. После долгих скитаний мы опять сошлись и вновь протянули друг другу руки…
— Но каким образом вам удалось исправиться и свернуть с плохого пути?
— Пришлось пройти много темных, извилистых тропинок, по которым ходят «хачагохи», видеть много притонов, где формируются и развиваются способности «хачагохов»; в конце концов, я был пойман на месте преступления, и меня сослали. Там, в далекой ссылке, познакомился с хорошим человеком, тоже ссыльным. Вот он-то и возымел на меня благотворное влияние, и я исправился.
— А как звали его? Кто он был?
— Личность таинственная… До сего дня я не мог узнать настоящего имени его. Все ссыльные прозывали его «немой», так как он редко когда говорил.
— Где он теперь?
— Не знаю.
Теперь я вполне убедился, что «хачагох», под влиянием хороших людей, в безупречной среде, может измениться, стать порядочным человеком. Но меня мучили сомнения насчет кума Петроса. Мурад мне сказал:
— Человек он очень хороший, даже добродетельный. Но прежние грехи так тяготеют над душой старика, что надежда на прощение исчезла. Он не в силах убедить себя, что безгранично милосердный господь может простить всякого раскаявшегося, и несчастный старец терзается постоянно укорами совести.
В эту минуту к нам подошел приятель Мурада, ходивший далеко за сеном для лошадей. Я попросил познакомить нас.
— А вы ведь знакомы, — сказал он с таинственным видом — Не помните? Вы встречались с ним на арабском минарете.
— Помню… И с вами тоже, — добавил я.
— Да, и со мной, мы были вместе.
— Его зовут Джалладом?
— Да.
Теперь все мои сомнения рассеялись. Мы были старыми знакомыми и друзьями.
Из палатки послышался голос Аслана: он распорядился оседлать лошадей.
Утро только что занималось, когда мы тронулись в путь. Престарелый «прорицатель» благословил нас и пожелал «удачи». Таким пожеланием провожали нас каждый раз наши друзья.
В лагере шейха все спали. Кругом царила полная тишина. Лишь вдали перекликались ночные сторожа.
Глава 23.
ВОСТАН
— Дорога будет опасная! — предупредил нас Мурад и посоветовал держать оружие наготове.
Он ехал впереди, Джаллад за нами, я с Асланом находились под их защитой. Я вспомнил про зайца; нет, с нами непременно случится беда!
Дорога была ужасная. Мы пробирались по извилистым ущельям Артоса, по мрачным теснинам и крутым обрывам. Легко было сорваться в бездонную пропасть, но наш проводник знал все тропы и извивы дороги, как свои пять пальцев. Артос и Вапут-Кох, сплетаясь между собою волнистыми цепями, образуют горную сеть страны Рштуни. Эта гигантская сеть является как бы западней для путников. Мы блуждали в этой западне, как бы устроенной прихотью гор для ловли людей. Мы проезжали по лесам, объятым мраком. Изредка встречали группы людей, направлявшихся на пастбища к своим стадам. Глядя на величавые леса, глядя на рослых людей, я убеждался что в этой дикой горной стране все было так же сурово и грандиозно, как окружающая природа. Но время стерло былую славу и могущество… Остался в своем величии лишь несокрушимый Артос!
Я сгорал от нетерпенья — когда же выберемся из этих мрачных теснин? Хотя бы луч света! Горизонт был закрыт высочайшими горами. Я глянул вверх: по небу плыли белоснежные облака, слегка отливавшие золотом. Верно, всходит солнце. А в ущелье царит еще ночная мгла. Даже в самые солнечные дни там темно и мрачно, а в ту ночь шел дождь, и ущелье заволокло утренним туманом.
Встреча с злополучным зайцем и на этот раз не имела дурных последствий. Мы совершили опасный переезд без приключений, но дорога нас крайне утомила. Однако усталость совершенно исчезла, когда мы, наконец, взобрались на нагорье, откуда виднелось лазурное море
[114]. Аслан простер руку по направлению к видневшимся вдали развалинам древнего города и сказал:
— Это Востан!
Востан! Это слово знакомо мне с детства. В книгах я ничего не читал о нем. Я часто слышал, как матери, убаюкивая детей, или, подбрасывая вверх своих малышей, пели песню, в которой сулили многое — и оружие в серебряной оправе, и златотканную одежду, и огненного коня… Каждая строфа этой песни, проникнутой материнской лаской, кончалась припевом:
Откуда возьму, отколь добуду?
Из Вана возьму, из Востана добуду.
Эта песня воспевала блестящее прошлое Востана. Слушая ее, я представлял большой торговый город, полный всех благ мира. Но когда мы подъехали, когда я увидел груду развалин, мои детские грезы разлетелись в прах. От Востана не осталось ничего!.. Лишь несколько жалких хижин ютилось где-то в овраге, в них проживали такие же жалкие курды!
«С какой целью привез нас сюда Аслан? — думал я, — неужели для того, чтоб осмотреть эти руины? Ужели в этой стране нет ничего более отрадного?»
На вершине горы, царившей над окрестностью, мы слезли с коней. Здесь лежали многочисленные обломки древней крепости. Груды разбросанных камней казались гигантским скелетом, поднявшим свою огромную голову и глядевшим вокруг себя, недоумевая, что здесь произошло?
Востаном назывались города, где находился царский дворец или царская канцелярия. Востаник — придворная знать. Название Востан происходит от слова «астан», что означает порог или дверь.
Востан некогда был столицей могущественного нахарарства
[115] Рштуни. Благодаря удачному местоположению — с одной стороны море, с другой высокие горы — Востан в то же время служил надежной крепостью.
Горная страна Рштуни когда-то взрастила несокрушимое, как свои скалы, могучее племя. Нахарары страны были спарапетами
[116] пограничных войск Южной Армении. Это звание считалось привилегией нахараров из дома Рштуни.
Страна Рштуни дала замечательных героев, завоевавших блестящее имя в древней армянской истории. Из дома Рштуни был спарапет Барзапрас, совершивший в дни Тиграна II поход в Палестину. Барзапрас разгромил римлян и овладел Иерусалимом. Здесь он поставил царем Антигоноса взамен царя, он же первосвященник — Юрканоса. Признательный Антигонос послал в дар Барзапрасу пятьсот прекрасных жен и тысячу талантов золота. А первосвященника Юрканоса вместе со множеством пленных евреев пригнали в Армению и поселили в городе Ване.
Отсюда был родом Маначийр (Манучайр) — отважный спарапет южных войск при Трдате и его сыне Хосрове. В его дни обострилась глухая борьба, начавшаяся еще при Григории-Просветителе и продолжавшаяся до последнего его потомка — Саака Партева. Это была борьба за господство вновь утверждавшейся церкви с родовитым нахарарством — борьба духовной власти со светской властью. Духовная власть с присущей ей алчностью старалась приобрести права, привилегии, земельные угодья и ограничить власть царя и нахараров. Отсюда и началась борьба. Ее начало положил Григорий-Просветитель. В этой борьбе погибли и сам Просветитель и все его потомки: Аристакес, Вртанес, Усик, Нерсес Великий и Саак Партев.
Маначийр Рштуни совершил набег на Ассирию и из епархии святого Якова, патриарха Мцбина, увел множество пленных и восемь архидиаконов. Престарелый патриарх лично отправился к Маначийру, чтоб вернуть пленных. Но жестокосердный Маначийр, не вняв его мольбам и, горя желаньем повергнуть его в вящую горечь, приказал утопить в море восемьсот пленных и вместе с ними восемь архидиаконов. Аслан показал мне место, где совершено было это злодеяние. Недалеко от Востана на скалистом мысу стояла твердыня Маначийра Манакерт — с этой скалы сбросили в море злосчастных людей.
Отсюда был родом Теодорос Рштуни — герой VII века, который в дни арабского нашествия скакал с быстротою молнии от края до края Армении и не раз разбивал наголову арабские полчища, жаждавшие крови армян. Нередко подымал он свой меч и против коварных греков.
Отсюда был родом и сын Теодороса — патрик
[117] Вард, заклятый враг греков. Во время перехода греков через реку Гайл Вард приказал подпилить мост, и все греки попадали в воду, оставшихся в живых он предал мечу. При жизни его греки не в силах были мстить. Но они до такой степени были озлоблены, что после его смерти разыскивали его могилу, чтоб надругаться над его костьми. Однако признательные жители Айоц-Дзора, опасаясь козней греков, построили в селе Хоргом, на берегу моря, церковь и там погребли прах героя. Церковь эту покрыли землей — образовался высокий холм, на котором воздвигли другую церковь. Недалеко от Востана, в живописном горном селении Маграшт, до сих пор видны развалины роскошных дворцов патрика Варда. Это селение служило летней резиденцией героя, а на острове Ахтамар находилась крепость отца его, Теодороса Рштуни, которую потом унаследовал Вард.
Гагик Арцруни еще больше украсил Востан: восстановил разрушенную крепость, построил для себя великолепные палаты. Все это с особым восхищением передает вдохновенный историк Васпуракана Тома Арцруни. Перед его высокохудожественной кистью поблекло бы мое бесцветное перо, поэтому я умолкаю. Но не могу не упомянуть, что Востан был не только неприступной крепостью страны Рштуни, он был в то же время и ее крупным торговым центром. Расположенный недалеко от пристани Датван, он в то же время находился на великом караванном пути из Вана в Муш и Битлис. Вот почему долина Востан когда-то имела до ста тысяч жителей армян. Но в XV веке Скандер-бек, завладевший частью Армении и называвший себя Шах-Армен (царь армянский), — этот варвар, превратив город Ван в груду развалин, окончательно опустошил и Востан. Он разрушил древнюю крепость, срыл все укрепления и уничтожил остатки великолепных дворцов Гагика Арцруни.
Ныне, после былого величия Востана, после многотысячных его обитателей-армян, осталось лишь несколько курдских землянок. Из дымовых отверстий подымался дым. На лай собак стали выползать через узкие двери дети, женщины, девушки и с земляных кровель глазеть на нас. Потом кто-то отделился от них и, опираясь на костыли, прихрамывая, стал приближаться к нам. Окинув нас подозрительным взглядом, постоял несколько минут, потом молча опустился на землю. Курды, вообще, с посторонними людьми бывают вежливы, но этот даже не поздоровался с нами. Очевидно, он колебался, не зная, как приветствовать нас. Дело в том, что мусульманин имеет в запасе разнообразные приветственные слова, смотря по чину, национальности и религии. Он не знал, что за мы люди, поэтому предпочел молчать.
Вначале мы его приняли за нищего — об этом свидетельствовала его старая, поношенная одежда. Но даже в лохмотьях он имел гордый и величавый вид. За шерстяным кушаком запрятан был маленький кинжал с рукояткой из настоящего черного дерева, украшенного серебром и цветными камнями. Это оружие свидетельствовало о его знатном происхождении.
Дворянин из земляной хижины, наконец, нарушил молчание.
— Табак есть у вас?
— Есть, — ответил Мурад, хорошо говоривший по-курдски.
— Издали завидел вас, пришел попросить курева.
Мурад насыпал ему довольно много табаку.
Курд был очень благодарен, тотчас закурил трубку — видно было, давно не курил. Потом он поднялся и, опираясь на костыли, заковылял к хижинам. Не прошло и четверти часа, как он вернулся обратно. Шедший за ним человек поставил перед нами решето со свежеиспеченным хлебом, там же лежал сыр, заправленный пряной зеленью, и сухие сливки в два пальца толщиною. Дворянская гордость не позволила ему остаться в долгу, и он угостил нас великолепным завтраком.
Мы приступили к еде.
— Ты какого племени, крива? — спросил Мурад.
(Не знаю почему, армяне имеют обыкновение называть курдов «крива», что означает — кум).
— Из племени Врышик, — ответил курд с гордостью.
— Врышик? — повторил Мурад, словно сделав важное открытие. — А ты знаешь, крива, что твои предки были армяне?
— Я этого не знаю, — ответил курд обиженно, — а знаю, что мои предки были владетелями этой крепости.
— Как раз владетелями этой крепости и были армяне.
Курд опять не поверил, он указал на находившиеся вдали роскошные надгробные памятники и промолвил:
— Вот гробница моих предков.
— Твои предки-армяне жили задолго до этих гробниц, — настаивал на своем Мурад, — они назывались Рштуни, а этот край — страной Рштуни. От нахараров Рштуни произошло курдское племя Врышик, точно так же, как от Мамгунян нахараров — племя Мамыкани. Есть и другие курдские племена армянского происхождения.
— Может быть, — ответил курд полуубежденным тоном. — Мы раньше были сыновьями одного отца, братьями были, но дьявол посеял среди нас раздоры, смешал наши языки, мы перестали понимать друг друга, отделились друг от друга.
— Ты говоришь о временах Адама и Ноя, — прервал его Мурад.
— Я могу рассказать и о более близких временах, то, что видел своими глазами, о чем слышал своими ушами, — заговорил курд, желая показать свои познания. — Ты прав, эта крепость некогда принадлежала армянским князьям, владел ею род Кара-Меликов. Они были очень дружны с нами. Рожденные одной матерью братья не могут быть столь преданы друг другу, как мы. Вместе ходили в бой на врага, дружно делили добычу. Но дьявол попутал нас. Он вселил в сердце дяди моего чувство злобы: обманом зазвал он к себе Кара-Мелика и за ужином приказал заколоть его. Затем предал мечу всю семью его и завладел этой крепостью.
Казалось, я слышу знакомую повесть. Я нетерпеливо прервал его.
— А как звали брата вашего отца?
— Хан Махмуд.
— А Мелика, которого он убил?
— Мир-Марто. Он был мне близким другом. Самого младшего из его семерых сыновей, маленького Каро, я понес в церковь крестить. Перебили всех, ни один не остался в живых!
При имени Каро я взглянул на Аслана. Он мне сделал знак, чтоб я молчал.
Курд продолжал:
— Да, он был моим близким другом; часто мы с ним делили свой досуг, трапезу и мысли, тешили себя охотою. Бесподобный был человек! Такого храбреца, такого великодушного не встретишь не только у армянских дворян, но и среди всех курдских беков.
Быть может благородный курд и обрадовался бы, услышав о спасении сына его близкого друга, его крестника Каро. Об этой ужасной резне я слышал рассказ Зумруд, бабки Каро, когда она на смертном одре рассказывала ему повесть об ужасной участи его отца.
— Но бог покарал брата моего отца, — продолжал курд, — он не долго пользовался плодами своего преступного деяния…
— Как так? — спросил Мурад.
— Он заключил союз со злодеем Бедир-хан-беком, владельцем Джезирея, и стали они вместе разбойничать, опустошать Ванскую, Мушскую и Диарбекирскую области, беспощадно вырезывать всех армян. Узнав об этом, армянский халиф в Стамбуле (патриарх Матевос) обратился с протестом к султану, и султан послал многочисленное войско во главе с Османом-пашой для наказания мятежников. Осман-паша ничего не мог бы поделать с ними, если б ему не помогли армяне.
— Чем они помогли? — спросил Мурад.
— Армянский халиф Стамбула обратился с посланием к высшим духовным лицам Вана, Муша, Диарбекира и других областей, чтоб они, вместе со всем народом, оказали всяческую помощь войскам султана. В это время во главе армянских добровольческих отрядов стал Мелик-Мисак. Храбро воюя с Бедир-хан-беком и с моим дядей Хан-Махмудом, он одержал над ними победу, арестовал обоих и передал в руки Османа-паши. Вместе с семьями их отправили в Стамбул, посадили в тюрьму. Спустя некоторое время Бедир-хан-бека сослали на остров Крит, а моего дядю Хан-Махмуда отправили с семьей в Силистрию. Так отомстил Мелик-Мисак.
Последние слова престарелый курд произнес с особой горечью. Мы посмотрели друг на друга. Опять пришлось нам услышать знакомое имя, но рассказанная курдом история мне не была известна.
— В этих боях, — прибавил курд, — я был тяжело ранен. С тех пор я калека, передвигаюсь с помощью костылей. Затем нагрянули османы, разгромили крепость и всех видных храбрецов нашего рода сгноили в тюрьмах. Меня же, как человека полуживого, ни на что негодного, не тронули…
После ссылки Хан-Махмуда и Бедир-хан-бека был положен конец курдскому насилию и разбою в восточной Армении и, особенно, в областях Тарон и Васпуракан, и с тех пор там усилилась власть османов. Повествование курда радовало меня, главным образом, тем, что упомянутые злодеи пали от руки героя-армянина, того, который был нашим любимым воспитателем. Это был скрывавшийся в Персии под простым именем охотника Аво — таинственный человек — Мелик-Мисак. Он держал в глубокой тайне подвиги свои и прежнее свое величие.
Читатель, помнишь ли печальную историю жизни охотника Аво, которую в день святой богородицы рассказывал в своей палатке дядя Петрос? Он говорил, что охотник был могущественным Меликом Сасуна и Мокской страны. Он говорил, что армяне-танутеры
[118] совместно с епархиальным начальником изменили ему, предали «курдскому князю». Днем заговора была назначена страстная суббота (канун пасхи). Когда Мелик-Мисак разговлялся со своей семьей за вечерней трапезой, вдруг бесчисленные враги окружили его крепость. Крепость подожгли, всех жителей вырезали. В это время преданный своему раненому господину Мхэ взваливает его на свои могучие плечи и отправляется с ним в Персию. Здесь Мелик-Мисак проживает в неизвестности под именем охотника Аво. Дядя Петрос довел свой, рассказ лишь до этого. Продолжение его я услыхал лишь теперь от старого курда. Я узнал, что таинственный охотник вновь появился под своим настоящим именем Мелик-Мисака и во главе добровольцев-армян боролся против деспотов, одержал победу над ними, отдал их в руки Османа-паши и этим «отомстил» им.
— За что он мстил? — спросил я старого курда.
— Бедир-хан-бек, — ответил он, — так же вероломно поступил со своим другом Мелик-Мисаком, как мой дядя Хан-Махмуд с Мир-Марто. И тот и другой погубили лучших своих союзников, чтоб завладеть их крепостями. Мелик-Мисак, князь Сасуна и Мокской страны, дружил с Бедир-хан-беком. Но последний оказался настолько подлым, что однажды ночью неожиданно напал на его крепость и всех перерезал. Мелика также считали погибшим, но, спустя годы, он словно вышел из могилы и отомстил…
Оба армянских князя — один владетель Востана, другой — Сасуна — пали жертвой подлой измены. Аслану, вероятно, известно было все это, но он не проронил ни слова, молча слушая исповедь старого курда, повествовавшего грустную правду…
— Вот видишь, крива, — заговорил, наконец, Аслан, — вы коварно уничтожили ваших друзей и союзников, поэтому остались одиноки и беспомощны и сами погибли. Вы хитростью завладели их крепостями, но пришли османы и отобрали их у вас. Если б вы жили в мире и согласии, всего этого не случилось бы.
Слова Аслана пришлись по сердцу обездоленному дворянину-курду, его скорбное лицо омрачилось еще больше.
— Правда твоя, правда, — ответил он с грустью, — мы сами вырыли себе могилу… Но кто же нас перессорил, кто посеял раздоры среди друзей и союзников? Те же османы. Тайные агенты их шныряли среди нас и натравляли на армян… Мы оказались наивными, не поняли, что тем самым они гибель нам готовят…
— Ну, а теперь не то же самое они делают, не натравливают вас на армян?..
— Как нет! Науськивают хуже прежнего… Да наши безголовые дворяне не понимают этого, не понимает и духовенство. К примеру сказать, вы, вероятно, слышали, что недалеко от нас, у подошвы горы Артос, живет великий Шейх. Он божий человек, святой повелитель, я согрешил бы перед аллахом, если б хоть немного усомнился в этом. Но он горячий человек. Сколько раз его натравляли на армян!.. Сколько раз он разорял армянские области и истреблял армян… Курды беспрекословно подчиняются ему. Достаточно встать ему поутру и сказать, что во сне пророк повелел ему перерезать всех гяуров (неверных), как курды возьмутся за оружие и начнут истреблять армян. Не будь «прорицателя», много бед бы он натворил!..
— А кто этот «прорицатель»? — спросил Аслан, словно не зная его.
— Сказывают, будто из Аравии, родины пророка. Подлинный святой, всё знает. О чем ни спроси, ответит тебе. Уж на что Шейх — мудрый человек, и тот часто обращается к нему за советом.
— Стало быть, вы недовольны османами?
— Как мы можем быть довольны? Они посеяли раздоры, перессорили нас не только с армянами. Вы не отыщете ни одного курдского племени, которое не враждовало бы с другими племенами. Брат поедом ест брата. Не то было до этого — царила любовь, единение было, всяк знал свое место — младший чтил старшего, а старший заботился о младшем. Теперь все перевернулось. Вчерашний слуга, чистивший навоз из-под моих лошадей, теперь именует себя мудиром, каймакамом, пашой себя называет, и я должен склонить перед ним голову. Лучше сойти в могилу, чем опозорить свою седину…
— Но нельзя отрицать одного, что с приходом османов страна сравнительно умиротворилась.
— Какое там умиротворилась! Нет, положение ухудшилось еще больше. Прежде мы были хозяевами своей страны, знали всех хорошо — и дурных и порядочных, если кто творил дурное дело, тотчас же узнавали, и виновный нес должную кару. А теперь что? Вор гуляет на свободе, а совершенно невинных людей сажают в тюрьмы. А зачем? — чтоб содрать с них деньги, а затем отпустить. Судья выгадывает вдвойне: делит со своим сборщиком-вором награбленное и не трогает его, невинных же людей подвергает мучениям, чтоб и их ограбить. Где же справедливость? Ведь почти все правители страны таковы.
Он вновь набил трубку и закурил. Казалось, он хотел в горечи дыма заглушить свою сердечную тоску.
— Да, хорошо было прежде, очень хорошо! Скотина свободно паслась в наших горах, мы разбивали шатры там, где желали, а дорога была открыта на все четыре стороны. А теперь? — всюду границы: здесь, говорят, казенная земля, там — уж не знаю, чья. А самое худшее — налоги на все: ягненок щиплет божью травку — плати налог! Виданное ли это дело?
Он посмотрел на нас — внимательно ли мы слушаем его. В эту минуту он мне представлялся проповедником, который во время проповеди следит, какое впечатление производят его слова на слушателей.
— Много хорошего отняли у нас османы, а взамен приучили к разгульной жизни, расточительству и разврату. Мы жили просто, как отцы наши. Мы доили свою скотину, ели свое масло и сыр, пили студеную ключевую воду. Теперь нас научили есть пилав, шербет и кофе пить и, что хуже всего, тянуть водку. Наши жены пряли и ткали нам одежду из шерсти нашей же скотины; ни дворянка, ни крестьянка не гнушались иглой и нитками — и у той, и у другой с утра до вечера жужжали прялка да веретено. Теперь наши жены стали ленивыми изнеженными барынями турецких гаремов. А нас они приучили наряжаться в шелка и красные сукна, расшивать одежду золотом. Наши жены стали красить свои лица, подделывать богом дарованную красоту. И мужчины наши не стыдятся красить, подобно женам, волосы хной
[119] и подводить глаза сурьмой. Когда разряженный юноша, блистая золотом, сидит на вороном коне — конь в серебряной упряжи, оружие сверкает драгоценными камнями — все останавливаются, указывают на него пальцем, говоря: «Вот храбрый юноша!» А в каком бою показал свою храбрость этот женоподобный мужчина, где раны, полученные в жаркой схватке? — никому и в голову не приходит спрашивать об этом. Прежде отказывались выдавать девушек замуж за юношу, если тот не заколол с десяток врагов и не имел на теле несколько ран. Да и сами девушки считали позором быть невестой малодушного и трусливого человека. Теперь уж не то, теперь смотрят лишь, насколько туго набита мошна курушами
[120]. Беззаветной храбрости уж нет, ее сменило османское слабодушие. Не осталось больше прежних курдов, и настоящих людей можно сыскать лишь в старом поколении. Прежние юноши считали своим украшением рубцы на теле и гордились ими, а нынешние готовы душу отдать за османский орден, все в бешеной погоне за чинами и выгодной службой. Османы же, пользуясь их жаждой почестей, выдвигают мерзких и затирают наилучших…
На развалинах Востана устами старика-курда говорил дух обманутого патриархального народа. Представитель одного народа протестовал, а представитель другого, Аслан, молча слушал его…
— Хорошо, что ты не соблазнился блестящими османскими орденами, — сказал иронически Аслан.
— Я счел более почетным для себя жить в нужде и бедности в моей земляной хижине, подле гробниц моих предков, чем украсить грудь свою османскими орденами. Ими вознаграждаются лишь продавшие свою совесть и честь льстецы, лицемеры и лгуны. Сейчас я имею лишь пять коз — и счастлив этим. Эти козы мне заменяют целые стада, отобранные у меня османами. И после всего этого мне лизать ноги османам — избави бог! Старый Омар-ага с голоду помрет, но себя не унизит!..
Он еще раз поблагодарил за табак, встал и, прихрамывая, на костылях направился к своей землянке.
— Вот расщепленный пень, жертва произвола! — сказал Аслан, глядя вслед уходящему старику.
— Я, в сущности, против идеи дворянства, — продолжал он, — но желал бы, чтоб у армян также сохранилось дворянство. Когда народ недостаточно развит, когда у него не выработалось еще самосознание, дворянство, если оно угнетено наравне со всем народом, если оно причастно его страданиям, может выступить посредником народа, выразителем его протеста. Взгляните на этого старика-курда, безрукого и безногого калеку, ведь тысячи курдов не могут мыслить так, как мыслит он, чувствовать то, что чувствует он! Сердце его пылает и тлеет, подобно угасающему очагу его бедной хижины, когда он видит попранной былую свободу своего племени. Когда у нас было дворянство, когда еще не были уничтожены старинные дворянские фамилии нахараров, они возглавляли всякий раз народное возмущение против чужеземного произвола и тирании. Враги нашей отчизны — греки, персы, арабы, в конце татары — прекрасно понимая это, стали постепенно уничтожать нахараров с их семьями, чтоб окончательно покорить нашу отчизну.
Теперь для меня многое стало ясным. Из рассказа старика-курда я получил полное представление о личности охотника Аво, узнал его славное прошлое, его злополучное паденье и полное таинственности настоящее. Мне стала ясна и переменчивая судьба рода Кара-Меликов, я узнал последнего отпрыска этого дворянского рода — Каро; я находился у развалин злосчастной крепости его отца, той крепости, которая со времен нахараров Рштуни в течение двадцати одного века переходила из рук в руки, под конец досталась ему, а у него изменнически отняли курды. Каро также знал все это, знал о своем происхождении, о том, чего лишились его предки. Но я был уверен — будь он сыном безвестного крестьянина, он действовал бы так же энергично и самоотверженно, дабы осушить слезы угнетенных и обездоленных! Когда я поделился своими мыслями с Асланом и, приведя в пример Каро, добавил, что принадлежность к родовому дворянству не является непременным условием для стремления человека к свободе, он ответил:
— Это было бы правильно, если б всяк обладал сердцем Каро и был развит, как он.
Но откуда у него развитие? Об этом я ничего не знал. Не знал также, где получили образование его товарищи — Аслан и Саго. Они были моими одноклассниками; ничему не научившись в школе тер Тодика, оставили ее и исчезли. Прошли года, они появились вновь, но совершенно иными людьми. До сего дня не было у меня повода спросить Аслана, что это было за чудо? Я попросил его рассказать, но он ответил:
— Когда-нибудь я расскажу тебе все подробно, а пока — не время!..
Долина Востана, имеющая продолговатую форму, стиснута в объятиях Артосских гор. Повсюду встречаются древние исторические памятники. От княжеских крепостей и замков остались одни лишь развалины, но божьи храмы сохранились. Религиозный народ пожертвовал первыми, лишь бы не утерять последние.
У развалин крепости Востан мы пробыли недолго. Когда лошади достаточно передохнули, да и мы оправились от усталости, Аслан стал поторапливать нас. Я в последний раз окинул взглядом развалины, посмотрел на море. Мне казалось, что в прозрачном зеркале его вод я видел отраженья многоцветных стекол роскошных зал Гагика Арцруни, золотистый рисунок его воздушных бельведеров
[121]. В гармоничном рокоте волн я слышал отзвуки нежной музыки, которой гусаны
[122] нахараров Рштуни услаждали слух могучего владетеля Васпуракана. Текут века, уходит время. Картина меняется. Вместо разноцветных отблесков великолепных стекол видны красноватые ручьи крови. Позолоченные бельведеры горят в лучах солнца — это огненные языки пламени пожирают былую славу, былое могущество! Отовсюду слышатся вопли и плач… шум усиливается… при блеске огня сверкают кинжалы, словно призраки мечутся люди… одни падают, другие поднимаются… рушатся своды и придавливают собою тела… В огне и бойне гибнет род Кара-Меликов!.. Но вот из пламени выползла женщина, она прижала к груди ребенка, она бежит, скрывается в лесу… Потом густой дым опускается черной завесой, картины ужаса и преступлений исчезают в его мгле…
— У тебя слишком чувствительное сердце, — сказал Аслан, заметив слезы на моих глазах, — садись на коня, уедем отсюда… Много подобных развалин встретишь еще на пути…
Мы уже отъехали, когда издали увидели одного из инициаторов резни старого Омар-ага. Он все сидел на кровле своей землянки и грел на солнце застывшее тело свое. Заметив нас, он стал трясти головой и руками — желал нам счастливого пути.
В течение дня мы проехали всю Востанскую долину. Повсюду встречались безлюдные монастыри, церкви и одинокие часовни. Горы, ущелья и глухие леса полны были святынь. Чего искал в них Аслан, не знаю, но мне достоверно было известно, что он не любитель монастырей. В деревне Или мы увидели монастырь богоматери, названный «Сорок ризниц». Этот величественный монастырь со своими сорока храмами основал Гагик Арцруни. Из храмов уцелело лишь несколько. Сюда со всех концов стекались кающиеся грешники-армяне, совершали «сорокодневное бдение», то есть для искупления своих грехов заказывали литургию в каждом из сорока храмов, конечно, щедро вознаграждая монахов. Но я был уверен, что если б в каждом из сорока храмов ежедневно служили по сорока обеден, опять-таки не могли искупить великий грех основателя монастыря Гагика Арцруни, восставшего против Багратионов и основавшего в Васпуракане новое противопрестольное царство. Этим непокорный Арцруни ослабил могущество Багратидов в эпоху арабского нашествия, в ту эпоху, когда Армения особенно нуждалась в силе и мощи. Основанное же им царство просуществовало всего лишь одно столетие…
В долине Востана, на склонах горы Артос, высится другой монастырь и своим красивым местоположением привлекает внимание путников. В нем нет величия и великолепия храма «Сорока ризниц», но ни один армянин не может пройти мимо, не облобызав его землю, если знает, чья гробница покоится в этом скромном храме. Это — Чагар, монастырь святого знамения, храм во имя святой богородицы. С благоговением вошли мы в храм и приложились к забытой гробнице. В ней покоится прах историка Егише, певца героев Аварайра.
В горной долине Востана находится и другая святыня, столь же дорогая сердцу каждого армянина. На расстоянии полмили от озера, посреди зеленой равнины возвышается живописный холм. Осины и ивы своими кудрявыми ветвями осеняют расположенные на холме избы поселян. Это — деревня Нарек. Она мала, но священна для каждого армянина, она родина обожаемого человека. Посреди деревушки, на самой вершине холма, высится величественный монастырь. При виде его сердце путника начинает биться сильнее. С глубоким рвением осеняет он себя крестным знамением и преклоняет колена. В этом монастыре находится мраморная гробница вдохновенного псалмопевца — святого Григория Нарекского.
Окрестности монастыря полны заветных мест, связанных с именем Григория Нарекского. Недалеко от деревни Харзит, на побережье, нам показали изогнутую скалу, имеющую сходство с человеческим телом. Рассказывают, что на Григория Нарекского, в бытность его пастухом, напали разбойники. Он побежал к этой скале, чтоб найти здесь защиту. Гора раскрылась и приняла святого.
Очень интересны пещеры, где пребывал в схиме Григорий Нарекский. На расстоянии часа ходьбы от деревни Нарек, у берега озера, возвышается громадный утес. В нем имеется несколько больших и малых естественных пещер. Но кроме этих пещер, там же расположено в два яруса девять комнат, выдолбленных с незапамятных времен — пять комнат внизу, четыре наверху. Это каменное жилище армянских троглодитов
[123] столь недоступно, находится столь высоко над землей, что проникнуть в него мог лишь чудотворец, подобный Григорию Нарекскому. Входная дверь ведет в первую комнату нижнего яруса, затем несколько внутренних дверей ведут в другие комнаты и выводят во второй ярус. В каждой комнате имеется отверстие в виде окна — все они обращены к морю. Одна из комнат верхнего яруса является часовней с каменным престолом. Здесь пребывал Нарекский, здесь он писал свою чудесную книгу
[124]. Отсюда он узрел святую богоматерь с младенцем на руках, увидеть которую он грезил с великим вожделением. На небольшом острове Артер стояла желанная, а озеро пылало в огненных лучах. Нарекский спустился с пещеры, направился к берегу и пошел по воде, как по суше. Когда он дошел до острова, богоматерь передала книгу блаженного святого сыну божьему, сказав: «Ар Тер», то-есть, «Прими, господи!» С тех пор этот маленький остров зовется Артер,
Древняя область Рштуни ныне разделяется на два уезда — Гаваш и Карчкан. Оба зовутся именами своих сел, в которых пребывают уездные начальники. Начиная с Айоц-Дзора, составляющего северо-восточную границу Гаваша, оба названных уезда тянутся по южному берегу Ванского озера вплоть до страны Моков и Бзнуни. Дорога также извивается по берегу, то приближаясь, то отдаляясь от него. Она настолько узка и так крута, так ужасны ее глубокие теснины, что недаром прозвали ее Капан
[125]. Среди многочисленных ущелий Армении Капан считается наиболее труднопроходимым. Достаточно несколько вооруженных людей, чтоб целый караван запереть здесь, как птицу в клетке. Дорога извивается по узким ущельям, где с двух сторон высятся неприступные горы. И этот дьявольский лабиринт — единственный караванный путь в Битлис и Муш. Нависшие скалы теснят, давят путника. И только когда выбираешься из этих громадных теснин на просторную равнину Муш, горизонт расступается, начинаешь дышать свободно и легко.
Страна Рштуни! Этот край рашидов (храбрецов) взрастил необычайный народ. Обитатели страны Рштуни тверды, грубы и несокрушимы, подобно своим мрачным лесам и наводящим ужас скалам. Исполинская природа создала народ-исполин. Только здесь вы встретите могучее племя прежних титанов, которое своей храбростью нисколько не уступает соседям-сасунцам. Нельзя не восхищаться этими здоровыми, энергичными, вечно радостными людьми. Они никогда не увядают, подобно вечнозеленым кипарисам своих лесов. Они не стареют, подобно вековым кедрам своих лесных чащ. Обнаженная могучая грудь, крепкие руки, на голове войлочный конусообразный «колоз», обвязанный разноцветными платками, края которых вместе с длинными золотистыми прядями волос ниспадают на широкие плечи; нижняя одежда, засунутая в волосяные полосатые шальвары, короткая «казаха» (куртка), крепость которой, подобно панцирю, в состоянии выдержать удар острейшего кинжала, — вот перед вами сын скалистой страны Рштуни. Вооруженный копьем, он перепрыгивает, словно барс, с одной скалы на другую, его копье с железным наконечником по обоим концам служит ему одновременно и оружием, и опорой: вонзая его в землю, он совершает прыжки через ужасающие пропасти. И все это происходит так быстро, что кажется, будто он носится на крыльях по воздуху. Подошвы его войлочных мягких лаптей усеяны острыми гвоздочками, чтоб не скользить, не спотыкаться во время ходьбы по скалам. За пояс засунут кривой кинжал, рукоятка которого крепко привязана ремешком к ножнам — пока развяжет ремешок и вынет кинжал, гнев его может пройти, если же кинжал обнажен, он не вложит его в ножны до тех пор, пока не обагрит его кровью. С врагами он беспощаден, как лютый зверь, с друзьями кроток, как ангел. Он красив, подобно стройным тополям своих долин. Когда глядит на тебя — ты очарован, его голубые глаза так же лучисты и глубоки, как голубое море, которое плещется о берега его страны. Его мужественное лицо ясно, как небо земли Рштуни. Подобно ясному небу его родины, его спокойное лицо хмурится, мечет молнии, если погода меняется и приближается гроза… Тогда он не говорит, а гремит, и в громе его голоса слышится крепкий говор былых армян, говор грубый и неотесанный. Но эти грубые звуки так дороги твоей душе, так очаровывают тебя, что как бы ты ни был угнетен, вдруг преисполняешься воодушевлением несказанным… Когда видишь его, борющегося своим единственным оружием, копьем, со свирепым, выскочившим из чащи кабаном, воскресает в памяти старинная легенда о «сокрушителе драконов» Ваагне, непобедимом Геркулесе армянском, — вспоминаешь это и восхищаешься храбростью и неустрашимостью его потомков, которые, живя со зверями, научились бороться с лютыми хищниками…
Глава 24.
ДЕРЕВНЯ В СТРАНЕ РШТУНИ
Смеркалось. Накануне в шатре «прорицателя» мы провели бессонную ночь, а теперь всё едем, едем. Наши лошади еле плетутся от
усталости, мы так же нуждаемся в отдыхе.
— Падет моя лошадь, — сказал я Мураду, ехавшему рядом со мною.
— Наши лошади исполнили свой долг, вскоре нам самим придется возить их, — смеясь ответил он.
Я не понял этой шутки. Проехавши немного, Мурад сказал:
— Надо спешиться, не то мы с лошадьми полетим в пропасть.
Мы слезли с коней. Узенькая тропинка спускалась в глубь пропасти и, извиваясь по скалистым бокам ее, вновь поднималась из глубины, а затем терялась во мраке леса. Необходимо было одолеть эту бездну, от которой кружилась голова и темнело в глазах.
Держа лошадей за поводья, пошатываясь, спускались мы вниз. Лошади, опустив головы, фыркая и дрожа всем телом, искали надежный камень, чтоб не скатиться в пропасть. После нескольких часов борьбы со скалами, с зарослями кустарников и с вьющимися стеблями дикорастущих растений, мы выбрались из глубины на высокое плато. Перед нами открылась великолепная картина! Я добровольно перенес бы в тысячу раз больше мучений, если б знал заранее, куда ведет наш извилистый, опасный путь, который избрали мы, уклонившись в сторону от большой дороги. Под нами расстилалось беспредельное море
[126], окаймленное, подобно зеленой раме, роскошной растительностью. Легкий ветерок колыхал шелковистую траву, сверкавшую под лучами заходившего солнца. Блестящие стебельки, колеблемые ветром, сливали свои светло-зеленые волны с серебристыми волнами озера, которые нежно плескались о берег, словно боялись нарушить таинственную тишину берегов.
Горы пестрели стадами овец, а внизу на заливных лугах, тянувшихся далеко-далеко по берегам озера, паслись стада быков и табуны лошадей. Из ущелья вытекала маленькая речка. Она извивалась по лугу, как бы искала чего-то, журчала и резвилась, подобно шаловливому ребенку — вот она стремительно бросилась на огромные камни, там дальше выворотила корни кустов. Нашумев и напроказив достаточно, удовлетворенная своими проделками, она медленно вливалась в озеро и там утихала, как после многотрудной работы. Разбросанные по ее прозрачному дну разноцветные гальки добродушно смеялись над ее невинными проказами.
Местами виднелись мелкие озерки. Они словно восстали против большого озера, отделились от него и образовали по соседству с ним небольшие самостоятельные водоемы. Хотя бы они объединились между собою! Ведь палящее солнце могло за несколько дней высушить, поглотить их влагу. К тому же тростники так густо покрывали их берега, что душили их своей зеленой мощью, пили их жизненные соки и мешали доступу чистого воздуха. Жалкие озерки превращались в гнилые болота!..
Несмотря на самую знойную пору лета, здесь весна была в полном расцвете! На огромных дикорастущих черешнях только теперь начинали зреть нежно-розовые плоды. На гигантских ореховых деревьях, покрывших своими могучими ветвями все низины, еще не видно было плодов. Первые предвестники весны — дикие тюльпаны и ветреницы
[127] — подняли свои ярко-алые головки среди зеленой гущи сочных трав. Вдали слышались звонкие голоса девушек, круживших повсюду, подобно красным тюльпанам. Они собирали овощи — те овощи, которые у нас были давно собраны и высушены на зиму. Их пение, сливаясь с вечерним птичьим гомоном, оживляло таинственную тишину окрестных полей.
Прямо против нас, на выступе горы, была расположена деревня, озиравшая с живописной высоты озеро. Эта деревня была как бы оторвана от земли Рштуни, она жила в глухом одиночестве, радуясь волнам, дыша свежим горным воздухом и пользуясь обильными благами, расточаемыми ей щедрой природой. Мы направились к этой деревне.
Солнце заходило. Лучи его сверкали на широких сочных листьях деревьев. Казалось, все вокруг трепетало в яркой солнечной позолоте. Золотисто-красные девушки кружились среди лугов, внизу на пастбище паслись золотистые лошади и коровы, со скалы на скалу перепрыгивали золотистые козы и овцы. Позолоченными казались и сельчане, возвращавшиеся с сенокоса с длинными косами на плечах. В золоте была и маленькая сельская церковь, царившая с высоты над крестьянскими избами. Пурпурное озеро, простираясь далеко-далеко, также искрилось золотом и сливалось с брызжущим пламенными снопами багровым небом. Впервые представлялась мне чарующая картина, которую создает вечерняя заря, когда под ее творческой кистью имеется беспредельная вода, лазурное небо, пышная долинная растительность и великолепные хребты гор с живописными волнообразными нагорьями.
Солнце зашло, и волшебная картина стала постепенно исчезать. Кое-где еще виднелись белоснежные облака, залитые багровыми лучами заходящего солнца, но и они исчезли, и хмурая мгла опустилась на землю.
Я взглянул на Аслана: лицо его также было хмуро. О чем он задумался? — не знаю. Я же подумал: вокруг так прекрасно, так восхитительно, все улыбается, смеется, каждое живое существо радуется жизни, а человек — обладатель всех земных благ — не пользуется ни длительным весельем, ни полным счастьем…
Въехав в село, Мурад попросил показать дом «рэса» (сельского старшины). Несколько ребят, соревнуясь друг с другом, побежали исполнить нашу просьбу.
Мы нашли рэса сидящим на земляной кровле своего дома в царственной позе пророка Давида. Там же сидел и сельский священник. Их окружала группа людей: убеленные сединами старики сидели, а молодые почтительно стояли возле них. Разговор шел о местных нуждах. По-видимому, эта кровля была судилищем рэса, где, совместно со священником и седовласыми стариками, разбирались различные тяжбы сельчан. Творили суд публично, с участием общественных представителей. Тут сходились две противоположные формы судопроизводства: старинная патриархальная и усовершенствованная демократическая.
Заметив нас, они умолкли. Рэс встал приветствовать нас и попросил сесть. Но заметив, что мы продолжаем стоять, как бы припомнил что-то и обратился к одному из стоявших возле него парней:
— Верно, им непривычно сидеть на голой земле, прикажи принести подстилку!
Правда, они сидели на голой земле, но она была так чисто выметена ревностными невестками рэса, что нельзя было найти ни единой пылинки.
Вскоре на крышу взбежала группа женщин. Одна поспешно поливала водой земляную кровлю, другая подметала, третья расстилала тяжелые ковры, а четвертая, не зная, что ей делать, смущенно озиралась вокруг. Потом и она нашла себе работу: подойдя молча к Аслану, она объяснила знаками, чтоб он дал ей стянуть с ног сапоги.
— Не беспокойтесь, — сказал Аслан, — мои сапоги не легко снимаются.
Ответ, по-видимому, задел самолюбие женщины. Ироническая улыбка скользнула по ее румяному лицу, и она, не спросись Аслана, ухватилась за сапог его и так сильно дернула, что вместе с сапогом чуть не вывернула ногу.
И в самом деле, жаль было пачкать красивые ковры сапогами, покрытыми дорожной пылью, да и кроме того, это могло показаться непочтительным отношением к домохозяину.
Молодые люди — соседи, пришедшие сюда совершенно по другим делам, сочли своей обязанностью снимать с лошадей наши хурджины и седла и повели их остыть с дороги. Вскоре нас окружила любопытная толпа людей различного пола и возраста. Они с интересом смотрели на нас, указывали пальцами и на своем наречии делали остроумные замечания.
— Посмотри, Мко, что за гриб у него на голове! — говорил мальчик, указывая на широкополую шляпу Аслана.
— Гриб, да и только, — хихикнул Мко, который, видимо, пользовался авторитетом среди своих шаловливых сверстников. — Да ты посмотри лучше на его брюки — точно кора на палке!..
Крыша, на которой мы сидели, еле возвышалась над поверхностью земли, потому что жилище рэса помещалось под отлогими склонами горы. Вся деревня состояла из землянок, ступенями спускавшихся к ущелью; кровля одной служила двором для другой. Снизу вся деревня походила на гигантскую лестницу, подымавшуюся до самой вершины горы. В гористых местностях для сел часто выбирают подобные неудобные и недоступные места. Очевидно, опасность заставляет избегать открытых равнин. Какое великолепное место для села могло быть вот там, на берегу озера, среди роскошных лугов! Когда мы сказали об этом рэсу, он заметил:
— Наше море любит проказить, для него привычное дело затоплять, поглощать прибрежные жилища.
И он рассказал, чему сам был очевидцем: вода в море поднялась и затопила множество полей и деревень.
— А в старые времена, — прибавил он, — крепости, монастыри и даже целые города погружались в воду!
Рэс был не стар, ему было лет под сорок, на голове и в бороде не имел ни одного седого волоса. Это был мужчина могучего телосложения, каких много среди горцев этой страны. Лицо его было доброе, привлекательное. Судя по его наряду, он был человек зажиточный. За поясом висел кинжал с рукояткой из слоновой кости, на которой вырезана была сценка: слон боролся со львом, а обезьяна с дерева со страхом следила за их борьбой. Каково было мое удивление, когда я увидел кинжал также и у седовласого священника. Священник с оружием — что за странное явление! Среди окружающих нас крестьян не было ни одного безоружного!
Рэс не докучал нам обычными на востоке раболепными приветствиями. Он принял нас холодно. Со стороны эту холодность можно было приписать его гордости или невоспитанности, но это было не так. Он был простой человек, непривычный к лести. Кроме того, наше неожиданное появление ввергло его в сомнение, тем более, что мы ничего о себе не сказали. Он спросил про Аслана:
— Не франг ли этот господин?
— Франг, — ответил Мурад.
— Понимает по-армянски?
— Нет!
— На каком же языке говорит?
— Турецкий язык знает хорошо.
— Мы тоже немного знаем, молчать не придется.
Потом он обратился к Аслану:
— Что вас привело в наши края? Не ореховые ли пни и женские волосы желаете вы купить?
Аслан был в недоумении. Потом только ему стало ясно, что здесь привыкли видеть франгов лишь как покупателей ореховых пней и женских волос. Франгами, то-есть французами, они считали всех одетых в европейское платье искателей приключений, которые проникали в эти заброшенные, глухие места, чтобы обирать крестьян.
— Наша деревня славится отборной овечьей и козьей шерстью, — прибавил рэс.
— Я не скупщик, — ответил Аслан, — я врач.
Слово «врач» могло возыметь свое действие где-либо в другом месте, но здесь оно не произвело никакого впечатления. По-видимому, чистый воздух и прекрасная вода исключали потребность во врачах.
— Товарищ мой, — сказал Аслан, указывая на Мурада, — закупит предлагаемые вами товары.
— Да, я куплю пни и овечью шерсть, но женских волос мне не нужно.
«Франги», битлисские армяне и евреи приучили крестьян к противонравственному поступку: одинаково стричь и продавать как овечью шерсть, так и женские волосы.
— Почему не покупаете волос? — спросил один из сидевших с рэсом, — мы можем показать вам очень пышные волосы — такие, какие нравятся франгам.
При этих словах он подозвал к себе девушку, стоявшую в толпе женщин. Она стыдливо опустила голову и не трогалась с места, подруги, смеясь, подталкивали ее вперед. Вся раскрасневшись, со стыдливой улыбкой на лице подошла она к группе мужчин. Нельзя было смотреть без восторга на эти длинные золотистые волосы толстыми косами ниспадавшие до самых пят, — поразительным блеском сверкали они! Подобные волосы можно было встретить только здесь, у горцев этой страны! Если б эти волосы часто мылись, расчесывались, если б о них заботились в достаточной мере, они могли бы служить наилучшим украшением женской головки.
— За сколько вы продаете подобные волосы? — спросил Мурад.
— За два куруша, — ответил крестьянин. — Всегда продавали за эту цену.
— Два куруша!.. Знаете ли сколько это составляет? Десять копеек! — Аслан возмутился.
— Не стыдно ли из-за такой малости уродовать женские головы?
Упрек не возымел никакого действия. Крестьянин очень хладнокровно пояснил:
— Здесь волосы растут быстро, господин. Еще нет и двух лет, как остригли эту девушку, а видите, как они у нее выросли!
Волосы еще долго служили бы предметом нашей беседы, если б один из крестьян, дотронувшись до часовой цепочки Аслана, не спросил:
— Что это такое?
Аслан достал часы и показал ему.
— Дароносица, — поспешил высказать свое предположение священник, не подумавший о том, что Аслан не монах и не поп.
— Нет, это часы, — поправил его рэс и прибавил, что он подобные часы видал у владыки Ахтамарского монастыря.
Последние слова рэса подняли авторитет Аслана в глазах крестьян — он носил вещь, которую в их стране имел только католикос Ахтамара.
Аслан открыл часы и стал объяснять, как узнавать время. Все окружили его и смотрели с величайшим интересом. Особенно удивляло их тиканье часов. Один развязный парень выхватил часы из рук Аслана и подбежал к группе женщин. Я не мог удержаться от смеха, видя, как они вырывали часы друг у друга, слушали их тиканье и даже обнюхивали. Странно, что часы дошли до хозяина целы и невредимы!
Вдруг вся окрестность огласилась мычаньем скота, возвращавшегося с пастбища. Коровы, отягощенные выменем, с трудом передвигали ноги. Еле волочились от тяжести огромных курдюков большие жирные бараны. Курдюки некоторых лежали на маленьких повозочках, которые, как бы в возмездие за тучность, с неимоверным трудом тащили сами бараны. Весело и легко бежали только козы. Впервые приходилось мне видеть таких красивых коз с мягкой длинной шерстью. Из этой шерсти страна Рштуни производит отборную шерстяную ткань. Словно «огненные кони», вышедшие из морской волны, бежали кобылы со своими прелестными жеребятами. Красивой поступью с громким ржаньем весело промчался табун как вихрь, вздымая облака пыли.
Рэс знал почти всех животных своего села так же, как и всех односельчан. С гордостью смотрел он на них и отпускал то или иное замечание:
— Не второй ли это приплод кобылы Нерсо? — спросил он у сидевших рядом.
— Пожалуй, что второй, — ответили ему, — да хранит его господь от злого глаза, этот жеребенок вырастет прекрасным конем.
— Да, прекрасный будет конь, — подтвердил рэс. — Мать этого жеребенка имеет пятисотлетнее удостоверение своей чистокровности, а отец — боевой конь Востанского Хан-Махмуда. Он достался Нерсо в добычу во время битвы.
Чистокровные кони этой страны имеют свое «родословное древо». Но нас заинтересовала не столько родословная коня Нерсо, сколько упоминание имени Хан-Махмуда.
— Ваши сельчане принимали участие в сражении с Хан-Махмудом? — спросил Аслан.
— Как же, — с гордостью ответил рэс, — все принимали участие, от мала до велика, — и, указав на обрубленные пальцы священника, добавил, — наш батюшка в этом бою потерял свои пальцы!
Прошел бык Ого, история Хан-Махмуда была прервана.
— Почему исхудал бык Ого, не болен ли? — спросил рэс.
— Заболел, — ответили ему.
— Бедняга! Тяжелое испытание послал ему господь, — сказал рэс, обращаясь к нам. — Недавно два его быка свалились с высокой скалы, ни один не выжил; теперь последний бык заболел — не пахать ему земли под озимый хлеб!
И тут же распорядился послать Ого двух своих быков до выздоровления больной скотины.
Хозяйственный скот и табуны лошадей являются прекрасным мерилом благосостояния сельчан — целый час шли животные, но конца не видно было. Еще более убедился я в этом, когда рэс заявил:
— Это только часть нашего скота. Большая часть пасется на дальних пастбищах, они вернутся в деревню лишь зимою.
Вслед за животными потянулась длинная вереница людей, возвращавшихся с работы: шли косари с длинными косами, пахари со своими плугами и сохами, аробщики с запряженными в арбы волами и буйволами. Все были довольны, лица сияли радостью. Они пели, подобно воинам, победоносно вступающим в завоеванный город. Но эти воины не имели дела с кровью, они были тружениками кормилицы-земли! Чем ближе к деревне, тем сладостнее звучал голос певца. Быть может, его ждала милая, которая в эту минуту стояла у родника, держа кувшин над головою, и с восторгом слушала знакомый голос! Будь это жена, невеста иль возлюбленная — не все ли равно? Певец знал, что его с нетерпением ждет любимая, что после упорного дневного труда он может замереть на сладостной груди ее.
Впервые приходилось мне видеть такое ликованье! Казалось, обычные для крестьян мучительные заботы, тоска и страданье никогда не подбирались к этой деревне. Как и чем добились они этого ликования? Как они избавились от традиционных воплей, слез и стенаний? Я не старался выяснить это. Я лишь радовался, что, наконец, встретил людей, полностью наслаждавшихся благами, приобретенными в поте лица своего: беспощадный сборщик податей не продавал их быков, а разбойник-курд не угонял их скотины,
Рэс и сидевшие с ним старики занялись теперь крестьянами, возвращавшимися с работы.
— Говорят, сын Яко слишком много проказит, надо надрать ему уши, — сказал рэс, указывая на юношу с плутоватой физиономией; он шел горделиво в головном уборе, повязанном разноцветными платками и украшенном свежими полевыми цветами.
— Кто из нас в его годы не проказил? — снисходительно ответил священник, — молод еще, кровь играет в жилах, вырастет — угомонится.
— Говорят, сын Ванеса не хочет работать. Сегодня отец с трудом отправил его в поле, — заметил рэс.
— Да, он ленив, — подтвердили все.
— Не мешало бы взять пример с сына Матоса, ведь он работает за десятерых! Смотрите, весь день трудился, а теперь тащит для телят огромную охапку скошенной травы.
— Да будет бог милостив к нему, очень трудолюбивый юноша! — раздалось со всех сторон.
Так высказывались эти блюстители нравственности о каждом из проходивших работников. Мнения их быстро передавались из уст в уста, они служили стимулом для исправления нерадивых и поощрения передовых. В этом обществе уважение к старшим и их наставлениям являлось законом, освященным временем.
Перед домом рэса потрошили к ужину барана. Множество людей собралось вокруг. Все работали с одинаковым рвением — как члены семьи, так и их соседи.
Слух о приезде чужеземцев быстро распространился по селу. Это была интересная новость, так как чужестранцы редко попадали в это оторванное от остального мира село. Сельчане приходили поодиночке, издали внимательно осматривали нас и, удовлетворив свое любопытство, вновь удалялись. Иные молча садились с нами. Толпа, окружавшая нас, постепенно увеличивалась. Трудно было сказать, какое впечатление производили мы на этих, живущих обособленной жизнью, крестьян. Они спрашивали: «армяне?» и, получив утвердительный ответ, начинали смотреть на нас более дружелюбно.
Солнце закатилось: вечерняя прохлада сменилась холодом. Холод почувствовали только мы, а для сельчан он был настолько привычен, что все ужинали и спали на открытом воздухе; по утрам роса освежала их легкие постели.
Прекрасен сельский вечер на этом прибрежном нагорье! Даже во мраке село представляло великолепное зрелище! Во всех землянках мерцал огонек. Эти огоньки, ступенями поднимаясь по склону горы, казались висящими в воздухе. У вершины они сливались со звездами — трудно было отличить небесные светила от светилен крестьянских хижин!
Холод давал о себе знать. Мы попросили рэса проводить нас в дом. Спустились с кровли, и вот пред нами предстало просторное, выкопанное в земле, жилище со множеством комнат, сообщавшихся между собою дверьми. Это был подземный мир, в мрачных углублениях которого могли уместиться целые семейства. Да и семья рэса не была мала! Снаружи, с кровли, ничего не указывало на существование здесь подземного жилища, кроме небольших куполообразных возвышений с дымовыми отверстиями на вершинах, которые служили не только дымоходами, но и световыми отверстиями. Когда спустились вниз, мы вошли в комнату, которая представляла собой обширный зал. Высокие шестигранные деревянные колонны тянулись параллельно в два ряда до самого конца зала, погруженного в подземный мрак. Колонны наверху заканчивались деревянными капителями, поддерживавшими громадные балки потолка. Капители украшены были резьбой — продукт творчества местного плотника. Колонны были установлены на каменные подножия, которым искусный каменотес придал изумительно красивую форму. В колонны были вделаны дощечки наподобие руки и на них установлены светильники в форме голубя, из клюва которого высовывался фитиль, смоченный в льняное масло. Часть зала, предназначенная для приема гостей, была ярко освещена. Колонны обвешаны были оружием и принадлежностями винтовок, висели на них и небольшие корзиночки с различными предметами домашнего обихода. Украшения колонн довершали букеты с желтыми и пурпурными бессмертниками. Бесчисленными дверьми зал сообщался с другими комнатами, построенными по тому же типу. Здесь были амбары, кладовые и погреба, переполненные всевозможным добром. Весь достаток хозяина был налицо. Особая дверь вела в просторный хлев для рогатого скота и, далее, в конюшню. Животные проживали в тесном соседстве с хозяевами!
Я представлял себе земляное жилище, как подземное углубление, которое отличается от звериных нор лишь постольку, поскольку полудикий человек — от животного. Теперь же я убедился, что подземное жилище также может иметь усовершенствованное устройство, если успешно сочетаются ремесло с искусством. Жилище рэса было таково. Во всем бросались в глаза — величие, сила и могучая работа могучей руки. Стены были выложены из огромных камней — нет, это были не камни, а скалы! Ворочать их для своих сооружений могли только циклопы. Но циклопы не могли их скреплять, а здесь цементирующая масса так крепко связывала скалы, что они казались одной сплошной массой. И эта работа производилась внизу, в темноте, где в полном мраке жил мрачный народ, куда луч света проникал лишь через дымовое отверстие в потолке.
Мрачно было, очень мрачно!.. Непроницаемая тьма производила угнетающее, потрясающее впечатление. Все было черно: колоссальные стены, огромные балки на потолке, деревянные колонны и даже украшавшие их букеты бессмертников! В черный цвет их окрасил дым от неугасимого очага, этой святыни, именем которой и поныне клянется армянин-сельчанин! Очаг был установлен посреди комнаты; несколько поленьев горело тусклым пламенем, из которого временами вылетали искры. В зимнее время вокруг очага собиралось патриархальное семейство, и глава семьи рассказывал детям о деяниях предков. Очаг заменял дневное светило, от очага лился свет и распространялось тепло по мрачному подземелью. Очаг горел все время, его огонь не должен был угаснуть. Неугасимый очаг напоминал вечный огонь Этны, в котором циклопы ковали огненные стрелы Арамазда
[128]. Но огненных стрел здесь не было, были только слабые искры… хотя и в этом вулкане проживали циклопы…
Велика была семья рэса, велика, подобно пространному его жилищу. Несколько поколений проживало под одной кровлей: старый дед, его сыновья, внуки и правнуки. Свыше двадцати люлек качали здесь. Дом был полон невестками, девушками, юношами и подростками, а детям — и числа не было! Среди одиннадцати своих братьев рэс был средним братом. Он имел несколько сестер. Мать была еще жива, отец скончался два года тому назад столетним стариком. Деда я не видел, он отправился в соседнюю деревню повидаться с дочерью. Все братья жили дружно под одною кровлей, младшие повиновались старшим. А над всеми властвовал дед — патриарх семейства. Семья рэса напоминала мне легендарное семейство родоначальника нашего Айка, состоявшее из трехсот душ. Хотя здесь не было такой численности, но вместе со слугами, чадами да домочадцами составилась бы третья часть ее.
Сели за ужин. Не ожидая приглашения, явились все бывшие с рэсом на кровле — они пришли из уважения к рэсу и его гостям. Стол был обильный, изысканные яства подернулись янтарным жиром. Если разнообразная пища, умело и изысканно приготовленная, считается признаком культурности и развитого вкуса — как же странно было видеть это в подземном жилище!
За еду не принимались до тех пор, пока священник не благословил трапезу. Все на столе соответствовало грандиозности и величию окружавших нас предметов. Рослые люди, жившие в недрах огромных скал, ели большими деревянными ложками из огромных медных тарелок. Кушаний и хлеба было расставлено так много, что, как говорят, иголке негде было упасть. Это делалось в тех видах, чтоб люди не стеснялись, ели сколько хотели, а еды — чтоб не иссякало. Покрывал себя позором не столько прожорливый гость, сколько домохозяин, если тот оставлял на столе хоть маленькое свободное местечко. Поэтому на месте съеденного появлялись все новые и новые кушанья, под которыми не видно было стола.
Гостей обслуживали невестки, девушки и подростки. Поручения быстро подхватывались молодежью, каждый считал за честь услужить взрослому. Замужние женщины, хотя и не разговаривали с нами, но и не закрывали своих лиц, как это принято среди армян других районов. Девушки же свободно беседовали со всеми и смеялись. Из членов семьи рэса за столом сидели только старшие братья. Младшие стояли неподвижно, скрестив на груди руки, в ожидании приказаний. За столом не было ни одной женщины. Этот обычай строго соблюдался не только при гостях, но и в обычное время. Женщина не могла обедать за одним столом с мужчиной — ели сперва мужчины, а потом женщины.
Несмотря на переполненный зал, гостей все прибывало. Они приветствовали, молча садились за стол — и самозваным гостям подавались новые яства. Вино, доставленное из Муша, лилось рекой — пили большими чарками и так много, что напомнили мне гомеровских героев. В общей беседе принимали участие только старшие, пожилые мужчины, они искусно втягивали в беседу и нас.
Аслан спросил:
— Каковы ваши взаимоотношения с курдами?
— Не плохи, — ответил рэс, — прежде грызлись как кошка с собакой, но теперь установились добрососедские отношения. Мы ходим к ним, и они навещают нас, наш скот пасется на общих пастбищах. Иногда наши крестьяне отправляют своих овец к курдам на кочевки, они их держат все лето в горах, а с наступлением холодов пригоняют, в целости вручают хозяевам. Никакой платы за это не хотят брать, говорят: «Мы соседи, сегодня мы вам понадобились, а завтра вы можете выручить нас из беды». Так и случается: во время продолжительной зимы кормов у них не хватает, мы пригоняем их скот в наши хлева и держим тут до весенней травки.
— Ваши взаимоотношения всегда были таковы?
— Нет, прежде было не так! Прежде наш крестьянин не был владельцем своего имущества. Все самое лучшее похищалось открыто или своровывалось, мы не считали себя хозяевами не только нашей скотины, но и наших жен и девушек…
— Как это случилось, что курды изменили свое отношение к вам?
— Мы заставили их измениться! — ответил священник с улыбкой. — Прежде все мы переносили молча, думали терпением и покорностью отвратить от себя их злобу, но чем больше мы терпели, тем больше они проявляли наглости. И начали мы отплачивать той же монетой: они утаскивают одного барана, мы — десять; они отрубают палец у нашего сельчанина, мы, при случае, отрубаем у курда голову. Что скрывать свою вину? — нередко мы ловили ни в чем не повинных курдов, убивали и хоронили под камнями. Увидя это, курды остервенели еще больше. Несколько раз нападали на нас, но, убедившись в нашей силе и готовности защищаться, умерили свой пыл. Теперь они боятся даже проходить мимо нашего села. Многие уже подружились с нами, другие ищут случая также сблизиться с нами…
— И вы доверяете им?
— Нет надобности доверять. «Куда лук ни сади, все луком воняет» — говорит пословица. Курд всегда останется курдом, когда же он видит, что разбои не остаются безнаказанными, он делается более осмотрительным.
— Как отнеслась местная власть к тому, что вы с курдами стали поступать по-курдски же, то-есть, стали перенимать их приемы обращения?
— Если б правительство действовало в согласии с разумом, оно должно было поощрять нас, потому что мы помогали ему, способствовали восстановлению спокойствия и порядка. Но, исходя из того соображения, что «гяур» не вправе поступать с мусульманином так, как мусульманин поступает с ним, правительство вначале преследовало нас. Будь местная власть сильнее, она могла бы очень повредить нам.
Рэс пояснил слова священника:
— Наше правительство, господин доктор, роет лишь мягкую землю, а когда дело доходит до твердого грунта, отставляет кирку в сторону. Почему мудир, каймакам и подобные им чиновники не преследуют разбойника и убийцу-курда? — а потому, что боятся сами быть ограбленными и убитыми.
— Курда они могут опасаться, но армянина…
— Армянина, правда, могут не бояться, но не всякого армянина… — обиженным тоном ответил рэс. — Чем мы хуже курда? Если понадобится, клич кликну, поставлю на ноги всю деревню — пойдут, куда укажи, исполнят все, что прикажу!
— Но ведь только одна деревня! Какую силу может представлять одна деревня?..
По-видимому, Аслан хотел раззадорить рэса, чтоб побольше у него выведать.
— Не одна только деревня, господин доктор, — запальчиво ответил он, — у всех прибрежных жителей едина душа и едино сердце. Конечно, сейчас мы не делаем того, что прежде — понапрасну вреда не причиняем никому. Прежде мы губили даже невинных людей с целью показать нашим врагам, что и мы способны отвечать злом за зло; мы предложили: не будем прибегать к насилию — ни мы, ни вы, будем жить мирно, как подобает жить соседям. Так и получилось: после неоднократных наших выступлений курды помирились с нами, потому что они умеют ценить храбрость! В настоящее время они просят у нас подмогу в их междоусобных битвах.
— А если вам понадобится помощь?
— Не откажут!
— Каким чудом произошел перелом в вашей жизни, каким образом от давнего рабства, которое вы называли терпением и покорностью, вы перешли к активному выступлению, к самозащите? Кто внушил вам эту мысль, эту непокорность? Кто научил прибегнуть к оружию, как надежному средству для установления мирных взаимоотношений не только с врагами, но и с друзьями?
— Всем этим мы обязаны нашему любимому учителю, — отвесил рэс, — он открыл нам глаза и развязал скованные руки. Он вселил в нас дух самозащиты, научил быть другом с друзьями и уничтожать дерзкого врага, не желающего смириться. Он смело участвовал во всех наших выступлениях последних лет. Сколько сделано за эти годы!.. Сколько мы принесли жертв, пока добились улучшения нашего положения!.. Тяжёлые, крайне тяжелые были времена… За еду мы принимались с окровавленными руками — да и то в редкие дни…
При последних словах голос рэса дрогнул, крайняя печаль отразилась на его мужественном лице. Вопросы Аслана пробудили в нем давно забытые воспоминания… воспоминания скорбные, но, вместе с тем, отрадные.
В ожидании любимого учителя, ушедшего в горы к пастухам, затягивали ужин. Но, видя, что он не идет, священник решил благословить окончание трапезы. Благословение полно было наилучших пожеланий. Он благословил всех кормящих и кормящихся, стряпающих и обслуживающих, ныне здравствующих и умерших, всех недоедающих, алчущих и страждущих, призывал к ним милость провидения, молился о ниспослании мира и благодати.
Между тем в соседней комнате опять накрывали на столы: один для женщин с детьми, а другой для обслуживавших за нашим столом мужчин. Женщины сидели молча, а мужчины разговаривали, шутили, смеялись, иные даже стали петь. Впервые приходилось мне слышать песню армянского горца. Песня эта лилась протяжно, подобно заунывному эху гор, она росла и, прерываемая протяжными «лэ-лэ-лэ», постепенно ослабевала, последние ее звуки замирали в глубине души певца.
Гости отодвинулись к стенам и, закурив длинные «чибухи», стали отдыхать после обильной еды. Странные позы они принимали! Одни полулежали на ковре, припав плечом к стене, опершись локтем на пол, иные протягивали ноги, а другие, подняв колени, закидывали ногу на ногу, образовав вид моста. Только священник и рэс сидели с нами, подвернув под себя ноги; остальные вкушали полную свободу, садились, как заблагорассудится! Невозможно было в это время подойти к ним и прикурить от их «чибухов» — за такую дерзость можно было поплатиться жизнью.
Опять вспомнили любимого учителя, удивлялись, почему он запоздал, опасались, не приключилась ли беда.
— Он не таков, — заметил один из гостей, — он из воды сухим выйдет!
Аслан спросил, довольны ли они своим учителем.
— Как можем быть недовольны, господин доктор, — ответил священник, — ведь он учит не только наших детей, но и нас самих. Мы многому научились у него, очень многому… наш уважаемый рэс не все сказал.
В армянских деревнях учитель и священник обычно живут не в ладах. Тем удивительнее было слышать подобную похвалу из уст священника.
— Чему вы научились у него? — спросил с любопытством Аслан.
— Многому, — повторил священник убежденным тоном, — к примеру: знаете, для чего отправился он к пастухам в горы? Там варят сыр, так он пошел посмотреть, так ли они готовят, как он учил. Вам понравился наш сыр?
— Прекрасный сыр.
— Изготовлен по его способу. Он и лечить умеет. Его приглашают к больным не только армяне, но и курды. Денег не берет — обижается, когда ему предлагают деньги за лечение.
— Он врач?
— Нет, он учился по книгам, но сведущ лучше иного врача. Он и за воспитание детей не берет ничего, говорит: «Мне денег не надо, дайте только угол и кусок хлеба», — удивительно бескорыстный человек!
— Крестьяне любят его?
— Души не чают! Он сведущ и в земледельческих работах. Его указания приносят огромную пользу, по его советам всё выращивается лучше, чем по-старому. И животных умеет лечить, знает, как улучшить породу скота — наш скот считается лучшим в районе. Постоянно выписывает новые книги, читает и нас учит.
— На каком языке эти книги?
— Не знаю, знаю только, что не на армянском.
Радостно было слышать все это из уст священника! Как ошибочно мнение о том, что наши крестьяне — фанатики, что они предубеждены против образования, преследуют и учение и учителя! А каковы эти преследуемые? Кто отправляется в деревню, в народ? Ни одного поистине подготовленного человека, могущего быть полезным крестьянству, ни одного нравственного человека, могущего служить примером для крестьян. В деревни проникают подонки городского образованного общества. Бездельник и прохвост из города считает себя вполне годным для роли деревенского просветителя. Своим безнравственным поведением он вызывает отвращение не только к себе, но и к своей науке. От грязной личности пачкается и профессия. Крестьянин судит вполне логично: «Если образованность такова, если образованный человек должен быть таким, как наш учитель, лучше не портить моих детей!..» Покажите ему хороший пример, покажите ему ощутимые выгоды образования, и он будет любить и учение и учителя. Я был рад, что предметом нашей беседы служила именно такая высокая личность.
Совсем иначе подошел к оценке достоинств учителя рэс.
— Он не только образованный, он и храбрый человек. Он прекрасно стреляет из ружья, прекрасно плавает — и учит детей чувствовать себя в воде так же свободно, как и на суше. Чему только не учит их! — стрелять в цель, бегать, перепрыгивать через рвы, подниматься на отвесные, как стена, скалы, ворочать тяжелые камни и большие куски железа, вертеться, подобно шпульке, на канате или на бревне. Все это крайне необходимо нам, живущим в горах. К тому же, наши соседи ведь не ангелы, а звери: нужно иметь быстрые ноги, чтоб догнать врага или убежать от него.
Так здраво судить о значении гимнастики, закаляющей тело, душу и мысль, мог только представитель общества, ведущего спартанский образ жизни.
Во мнениях рэса и священника, да и вообще во всех их суждениях сказывалось влияние любимого учителя. К жизни и к жизненным требованиям они предъявляли совершенно иные требования, отличные от требований встречавшихся мне до того армян-сельчан.
Поразительно было то, что находившиеся с нами крестьяне также разделяли взгляды рэса. Требования жизни, казалось, всем были ясны. Каждый желал воспитать своего сына способным вынести все удары судьбы.
Беседа была прервана радостными восклицаниями;
— Здравствуй, братец Абгар, добро пожаловать!
— Учитель вернулся, — заявил обрадованный рэс.
Мы оглянулись. Вошел молодой мужчина высокого роста, широкоплечий, со смеющимся лицом. Прошел небрежно по комнате, положил длинное копье в угол и подошел к нам.
Одеждой он не отличался от прочих горцев: полуобнаженная грудь, голые руки, на ногах войлочные подкованные лапти; из-под головного убора, повязанного цветными платками, выбивались длинные волосы, ниспадавшие на плечи. Как много он приложил стараний, чтоб уподобиться окружавшему его обществу!
При виде нас им овладело странное беспокойство… Были взволнованы и мы… Быстро овладев собою, он протянул руку Аслану:
— Здешний учитель, Абгар Востаник.
— Доктор Карл Рисман, — отрекомендовал себя Аслан и представил нас.
Он сел рядом со священником и, обратясь к рэсу, произнес:
— Хорошие у вас гости. Жаль, что я не поспел к ужину.
— Долго ждали вас, братец Абгар, — ответил рэс, — почему запоздали?
— Когда я в гостях у пастухов, забываю обо всем… Они зарезали для меня ягненка, — ответил он, стараясь казаться спокойным, но голос его заметно дрожал от волненья…
Он обратился к Аслану.
— Простите, господин доктор мое любопытство, по какому поводу заехали вы в наши дебри? Здесь мы редко видим европейцев.
Аслан ответил, что он предпринял это путешествие с научной целью. Его интересуют древности страны, кроме того, желание познакомиться с жизнью и обычаями горцев, он будет весьма благодарен, если господин учитель, по мере возможности, окажет ему содействие.
— С большой радостью, — ответил учитель, — я достаточно изучил эту страну и ее обитателей. Я готов подарить вам тетрадь с моими заметками, думаю, что она вам пригодится.
— Премного благодарен, — ответил Аслан, — на каком языке написаны заметки?
— На армянском.
— Ничего, я дам перевести. Но мне важнее услышать ваши устные рассказы.
— По мере сил моих я постараюсь удовлетворить вашу любознательность, господин доктор. Вы побудете у нас долго, наши сельчане не отпускают скоро чужеземных гостей.
— Благодарю. Крайне сожалею, что не могу долго оставаться здесь. Утром я должен продолжать свой путь.
— Куда вы собираетесь ехать?
— В монастырь Ахтамар, посмотреть скульптурные работы.
— Прекрасная скульптура, стоит посмотреть.
Ввиду такой поспешности учитель изъявил готовность в этот же вечер сообщить господину доктору все интересовавшие его сведения.
В отношении учителя крестьяне имели честолюбивые замыслы; они гордились своим учителем, радовались его познаниям, в которых нуждались даже европейцы. Они ожидали, что учитель вступит в научный диспут с европейцем и своими обширными знаниями ошеломит его. Такая победа прославила бы всю деревню. В подобных случаях сельчанин смотрит на своего учителя, как на боевого буйвола — после победы над буйволом соседнего села вся деревня торжествует победу. Но их учитель был очень скромен, он не только не входил в научные споры, он и не стремился казаться ученым. Его речь была настолько проста, будто он родился и был вскормлен среди горцев. Но в народной простоте его речи видна была сила мысли и суждения. Честолюбие крестьян он удовлетворил лишь тем, что стал говорить с доктором-европейцем на его языке. Хотя никто из крестьян ничего не понял, но они были рады, что их учитель владеет иностранными языками. Нередко хвалились они перед крестьянами других сел, говорили, что их учитель «десятью языками владеет».
Откуда он, из каких краев прибыл — никто этого не знал. Помнили лишь, что на нем была европейская одежда, а потом во всем — даже в языке — он стал уподобляться окружающим сельчанам.
— Давно вы здесь, господин Востаник? — спросил Аслан.
— Несколько лет будет, — ответил он.
— Итак, давно вы не были у себя на родине?
— Иногда, во время каникул, мне разрешают уезжать для свидания с родными. Три месяца в году я бываю свободен, тем более, что занятия ведутся, главным образом, зимою, а в другие времена года дети помогают родителям в их хозяйстве. Я это разрешаю тогда, когда мои ученики практически готовятся к земледельческим работам.
— Кто вас заменяет во время вашего отсутствия?
— У меня имеется помощник из среды моих бывших учеников.
Было уже поздно. Пора было гостям удалиться. Поселянин просыпается до зари и отдыхает с зарей, он не может жертвовать своим ночным отдыхом.
Хотя в просторном и богатом доме рэса нашлось бы достаточно места и чистой постели для вдвое большего количества гостей, но, согласна традиции, гости должны были быть распределены среди всех присутствовавших за трапезой, чтоб не затруднить хозяев. Долго спорили, кто нас приютит. Каждый желал повести нас к себе, несмотря на то, что нас было мало; думали даже бросить жребий. Но тут вмешался учитель:
— Друзья! Наших гостей так мало, что на всех не хватит. Господина доктора я возьму к себе, а других пусть распределяет батюшка по своему усмотрению.
Нас было четверо: я, Аслан, Мурад и Джаллад. Все согласились, чтоб Аслана, то есть господина доктора, взял к себе учитель, который понимает его язык, и у которого комната была обставлена по-европейски. Меня взял батюшка, Мурад остался у рэса, а Джаллада повел к себе ктитор церкви.
Глава 25.
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Когда крестьянин приглашен к соседу, у которого гостят прибывшие издалека члены его семьи, заранее готовят угощение, предполагая, что их мужчина приведет с собой одного из гостей. Вероятно поэтому, когда мы вошли в дом священника, там уже все было готово к приему. Пригласили к столу. После обильного ужина рэса невозможно было что-нибудь взять в рот, но пришлось есть из опасения обидеть хозяйку.
Изба священника не отличалась величием и великолепием дома рэса, но она была довольно красива и уютна. Всюду царили порядок и чистота. Все члены семьи спали, за исключением попадьи и ее невестки, которые ждали нас. Единственная светильня освещала тусклым светом небольшую комнату. Слышалось мерное дыхание почивавшего семейства.
Священник расточал все свое красноречие, чтоб занять меня. Но ни скромный стол, ни искренние отеческие слова его, ни наивная ласковость попадьи — ничего не
привлекало меня. Не занимал и красивый облик спавшей девушки, забывшей во сне обычную стыдливость поселянки, обнажившей из-под одеяла прекрасную девическую грудь. Все мои мысли были поглощены молодым учителем, предо мною стояло его привлекательное мужественное лицо.
Священник заговорил о нем, я слушал его с величайшим удовольствием.
— Он живет во дворе церкви, при школе — в двух комнатах, выстроенных для него. Комнаты не похожи на наши землянки; вот вы утром увидите, сколько там удобств. Он постоянно убеждает крестьян выйти из-под земли и построить себе такие же удобные жилища. Говорит, что землянки вредны для здоровья, туда не проникают ни свет, ни чистый воздух.
— Крестьяне следуют его советам? — спросил я.
— Многие, да. Те, которые строят новые дома, следуют его указаниям. Он разъясняет, что характер постройки важен не только для здоровья, но сильно влияет и на натуру человека, на его умственные способности и душевные настроения. К примеру: если крестьянин скрытен, лукав и мрачен, если он потерял способность петь, веселиться — одна из главных причин та, что он живет под землей, в глухой темноте.
— А ведь ваши крестьяне также живут под землей, между тем они довольно веселы, откровенны и здраво рассуждают.
— Как-то раз я также спросил его об этом, он ответил, что жизнь на вольном воздухе ослабляет воздействие землянок. Большую часть года вы проводите на полях, в горах и на пастбищах с вашим скотом — там вы живете в палатках. Ваши земляные жилища для вас временные зимóвища. Вольная же природа вселяет в вас свободное сердце и свободную душу.
Я сгорал от нетерпенья узнать, как живет учитель, какой образ жизни ведет, не мог дождаться утра, чтоб самому лично увидеть все. Готов был всю ночь напролет, не смыкая глаз, слушать рассказы священника, беседовать с ним о близком моему сердцу юноше.
— Хорошо обставлены его комнаты?
— Очень хорошо. Все удобства имеются: кровать с постелью, стулья, письменный стол и другая мебель. На стенах висят картины, окна полны книг. Но спит он не на кровати, а на голом полу, без постели, да нередко разбрасывают по полу мелкие камешки, чтоб больнее было спать. Спрашиваю, зачем ты изнуряешь себя? А он в ответ: этим я укрепляю свое тело, если мне случится провести несколько дней в горах, кто мне там даст кровать или постель? Необходимо заранее приучать себя спать на голых камнях.
— А для чего ему кровать и постель?
— Для гостей.
— Так у него бывают гости?
— Временами приезжают незнакомые нам люди, остаются день или два и исчезают. Вот вы удивляетесь, что у него кровать стоит без употребления, — направил разговор в другую сторону священник, — у него в квартире имеются прекрасные печи, но он их не топит, а ведь в наших краях зимы, как вы знаете, суровые; у человека слюна во рту застывает от мороза, а он спит в нетопленой комнате да еще с открытыми окнами. Зачастую по целым дням только курит, не ест и не пьет, но никогда не доводит себя до изнурения. А как начнет кушать — ест за четверых. Сырое мясо ест, овечью кровь пьет, как молоко. Вначале сельчане косились на все это, но потом привыкли. Мясо, говорит он, всюду можно найти — птицу ли, дикую ли козулю подстрелишь — и мясо готово, а чтоб сварить его, огонь не везде разыщешь! Поэтому необходимо приучать себя есть и сырое мясо.
— А почему же он голодает по целым дням?
— Вначале мне казалось, что он постится ради спасения души, как наши отцы-пустынники в старое время. Но он совсем иначе объяснил мне причину воздержания от пищи: «Может случиться, батюшка, — сказал он мне, — что я принужден буду скрываться в горах, где нет ни людей, ни хлеба, может случиться, что по некоторым обстоятельствам принужден буду провести несколько дней без пищи, вот потому-то я и приучаю себя к голоду». Всегда у него на уме пустынная жизнь в горах, вдали от жилья, в глухих темных пещерах. И вот к подобной жизни он заранее подготовляет себя. Но ради чего, — никто этого не знает.
— Да, человек он со странностями, — продолжал священник. — Возле его дома навалено множество камней различной величины. Почти ежедневно в определенные часы подымает он камни и руками производит разнообразные движения. «Силу свою испытываю, — говорит он, — хочу знать, смогу ли накладывать один на другой, если приведется». — «Вы желаете построить дом?» — спрашиваю я — «Нет, нечто иное…» — ответил он. Слишком много заботится о закалке тела и умножении своих сил. В деревне едва ли найдется силач, подобный ему. Если и подвернется такой, он точно околдует его чертовскими фокусами и, как цыпленка, положит под себя. Много было подобных случаев! Наша детвора стала брать с него пример, подражает ему во всем. — «В здоровом и могучем теле живет могучий дух», «необходимо закалять тело», — говорит он.
Я слушал с глубоким вниманием. Священник продолжал:
— Редко приходилось видеть мне такого неспокойного человека! Ни минуты покоя! Окончит уроки, позакусит чем-нибудь и тотчас же в поле. Пашет, жнет и учит крестьян, как надо пахать землю и жать хлеб. Зачастую роет грядки на огородах. Возделывание овощей до него не было знакомо нашим сельчанам. Он показал пример: разбил подле своей школы прекрасный сад и огород. Бывало, скажешь ему: «Учитель, так нельзя, отдохни немного», а у него готов обычный ответ: «Нам не пристало отдыхать, мы народ отсталый, многому нам следует учиться, много еще предстоит работы… Нам надо спешить…»
— Только о вашей деревне он заботится?
— Он ходит по всем окрестным деревням. Ходит он быстрее лошади, ходит пешком, никогда на коня не сядет. В деревнях знают его, уважают, всяк старается воспользоваться его советами. Даже крестьянам-курдам помогает в работах. Когда спросишь его, какое тебе до курдов дело, они ведь не наши, ответит: «Они соседи наши, если останутся без куска хлеба, придут, у нас отымут. Если мы желаем, чтоб курд не занимался разбоем, мы должны приучить его в поте лица своего добывать хлеб свой». Он заботится и о том, чтоб курдов обучить грамоте. В его школе учатся несколько курдских детей, и он их любит больше, чем наших. Как-то раз один из них заболел. Учитель ходил как помешанный; ночами сидел у постели больного, с глубокой грустью следил за его дыханием. И, в конце концов, поднял-таки на ноги ребенка.
— А курды также любят его?
— Не только любят, но и глубоко уважают. Ведь любовь рождает любовь. Курд тоже человек, не зверь же, и у него есть чувства. Будь он даже зверем, любовь, искренняя любовь сделает его человеком. Когда полюбишь зверя, кормишь, ласкаешь его, у него постепенно смягчаются звериные качества, и он начинает любить тебя. Вот почему Иисус Христос говорит: «Любите друг друга!» Нередко учитель говорит мне: «Это ваша обязанность, батюшка, распространять любовь среди людей, вы не только должны крестить, венчать и хоронить!». Правда, воистину правда — это наша обязанность. Но, ведь, нас ничему не учили, мы стали священниками, не имея подготовки для священного сана. Этого и не требовали от нас, потребовали только мзду, благодаря которой всякий невежда может стать священником. Учитель нередко снабжает меня книгами для чтения — и глаза у меня раскрываются… Теперь только я понимаю, насколько я был не подготовлен. Чего только не может сделать священник, в особенности сельский священник! Все, что делает наш учитель, ведь это — обязанность священника. Разве священник не мог бы обучать крестьянских детей, знакомить сельчан с новыми способами обработки земли, разве не мог бы навещать больных и оказывать им помощь? Апостолы не навещали больных, не лечили их? Да, много обязанностей должно быть возложено на священника, но мы, ничему не учившись, возложили на себя непосильное бремя нашего сана.
Послышался какой-то глухой шум. Я вздрогнул.
— Это цепь загремела, — успокоил меня с улыбкой священник.
— Какая цепь?
— Поглядите!
Я посмотрел в указанную сторону. Там лежал сын священника. Подобно узнику в темнице, к ноге его была привязана длинная тяжелая цепь, она была проведена сквозь стену, но куда — не видно было. Во сне он шевельнул ногой, и раздался лязг.
— Что это такое? — удивился я.
Батюшка объяснил, что за стеной находится конюшня, где стоит на привязи вороной конь сына. Другой конец цепи, проведенной сквозь стену, припаян к железным путам коня, замкнутым тяжелым замком.
— А для чего?
— Если будут уводить коня, цепь натянется и разбудит хозяина.
— Но вор может с такой осторожностью сломать путы, что ваш сын и не почувствует.
— Этого никак не может быть.
— Неужели продолжаются случаи воровства?
— По старым обычаям, похищение хорошего коня в наших краях не считается преступлением, это, скорее, дело ловкости, храбрости, удальства; на позор выставляется не своровавший коня, а зевака-хозяин, не сумевший сберечь его. Чтобы избегнуть этого позора, мой сын привязал к себе цепью своего коня!
Уже было за полночь, но несмотря на трудности пути, несмотря на сильную усталость, я не чувствовал потребности в отдыхе. Я готов был всю ночь всяческие разговоры разговаривать, лишь бы убить время до рассвета и поскорее увидеть его… Но батюшка позаботился о моем отдыхе. Постель была готова, я разделся и лег. У моего изголовья поставили два кувшина — с водой и с вином, чтоб я в случае надобности мог утолить жажду. Постель батюшки была рядом с моей. Мы долго не могли уснуть, но причина бодрствования батюшки была иная: перед сном он должен был прочитать до конца «Да приидет».
Мысленно я находился в школе, в комнатах учителя. Там бодрствуют оба — Аслан и учитель. Сидят за столом и беседуют и будут беседовать до утра. Меня влечет желание послушать их, смотреть на них, восхищаться ими. Он намеренно выбрал Аслана, чтоб наедине поговорить с ним. Почему же он не взял меня с собою? Неужели он считает меня недостойным их общества? Разве я настолько не подготовлен, что не могу принять участие в их совещании? Как бы то ни было, в доме рэса я ясно видел, что он любит меня. С какой тоской смотрел он на меня, как много усилий стоило ему сдержать себя, чтоб ни один мускул не дрогнул на лице его, не выдал его… Как он попал в такую глушь? Почему Аслан не предупредил меня об этом радостном свидании? Когда он с копьем в руке горделиво вошел в комнату рэса, ведь я мог не удержаться и в порыве чувств броситься в объятья дорогого друга. Ведь такой выходкой я мог бы выдать его!..
Как изменился он… Я едва узнал его. Внешне совсем преобразился — одежда, волосы, даже голос и говор. Неизменным осталось лишь его любящее, горячее сердце, трепещущее состраданием ко всем несчастным и угнетенным. Какое магическое влияние имел он на крестьян, с каким уважением отнеслись они к нему! Я вспомнил грозного укротителя зверей: свирепый лев лижет ему руки, лютый тигр валяется у ног его. Сколько нужно было иметь мудрости и силы воли, чтоб не только укротить, но и облагородить этих звероподобных людей!.. Теперь он в своей среде: здесь горы, леса, море и могучий духом народ. Он грезил ра-
ботать в такой стране и среди такого народа. Опытный гончар имел под рукой весьма отборную глину и мог придать ей любую форму.
Неподалеку находились развалины Востана, где в былые дни возвышалась величественная крепость его отца — место ужасающих событий… Неподалеку находилась и деревня Размиран, где покоились гробницы его благородных предков. Отец был владетельным князем и хозяином этой страны, сын — ее неутомимым работником и воспитателем поселян. Какая превратность неумолимой судьбы!..
Но я был убежден, что забытые гробницы предков и развалины фамильной крепости не могли доставить его чуткой душе так много страданий, как нищета полуразвалившейся крестьянской избушки, где многострадальная мать, желая унять вопли и жалобы голодных детей, ставит на очаг котелок с водой, мешает воду ложкой, будто готовит для них еду.
О, как долго тянулась эта ночь! Батюшка не спал, уста его продолжали шептать слова молитвы. Огонек недремлющего светильника слабо поблескивал в комнате. Прекратить бы одним дуновением это невыносимое мерцание. Пусть все погрузится в полный мрак! Я встал бы, тихо оделся и пошел… А если б заметил домохозяин, что бы он подумал? Пусть думает, что угодно, но я пошел бы… Быть может, сбился бы с пути, запутался в лабиринте хижин, быть может, волкоподобные собаки разорвали бы меня в клочья, но я все-таки пошел бы… Отправился бы в сельскую школу, вошел бы в две заветные комнаты…
Рассвело бы поскорей! Не стало слышно молитвенного шепота священника — уснул! В избе все спали. Я был в восторге. Нужно погасить светильник! Но, вот, запел петух. Он разбудил младенца, спавшего в колыбели. От его крика проснулась мать. Что было делать? Мать стала кормить ребенка грудью; она положила голову на край колыбели и уснула: измученное дневной работой тело требовало отдыха! Но младенцу не до этого, он вновь стал горланить, опять разбудил мать, очевидно, грудь выпала из ротика. Я готов был задушить его, чтоб он молчал. Мать вновь стала его кормить, положила опять голову на край люльки и тотчас уснула. Это обрадовало меня. Но, вот, опять неудача! Раздался лязг железной цепи — вероятно, лошадь потянула цепь. Проснулся хозяин, поднял голову, навострил уши — ни звука не было слышно, конь стоял спокойно. Хозяин уснул. Счастливые люди, могут спать! Спать… Но это утешение человеческого рода было не для меня! Скорей бы рассвет! Чтоб убить время, я решил занять себя: раз десять сосчитал бревна на потолке. И это мне надоело! Я оглядел внутренность избы; вот метла, вот деревянная кочерга, лоханка для белья — все неподвижно стояло на месте. Зашевелился петух на насесте, задвигался и его гарем. Вот одна матка незаметно подошла сзади, оттолкнула первую матку, стоявшую возле петуха, и заняла ее место. Такая угодливость вызвала ревность первой матки, и она огорченно закудахтала. Петух, клюнув в голову непрошенную, удалил ее от себя и водворил на место матку-красавицу: птицы также не лишены чувства красоты! Наведя порядок в гареме, петух закричал во второй раз. От крика проснулась попадья. Этого недоставало!
Старуха спала одетая. Она встала, пошатываясь подошла к очагу. Там что-то клокотало, по-видимому, варилась арисá
[129], или хáши
[130], или же кешкéк
[131]. Это питательное кушанье варилось всю ночь, оно должно было быть готово к утру; ели его до восхода солнца и отправлялись на работу. Старуха подняла крышку, проверила, есть ли вода и отошла, стала что-то искать в избе. Вдруг она заметила спавшую невестку. Она толкнула ее ногой и заворчала: «Сколько раз я тебе говорила, что нельзя засыпать во время кормления, ведь ты задушишь ребенка!». Замечание было строгое. Увидя, что ребенок спит, невестка опустила полог колыбели, но осталась сидеть на месте. Старуха не легла в постель, она тихонько открыла дверь, вышла в сени, чтоб по звездам определить время ночи — звезды заменяли ей часы. Затем она вернулась, взяла свою прялку и с этой ношей вновь вышла в сени. Через несколько минут оттуда донеслось жужжание веретена. Пропала всякая надежда ускользнуть из избы, старуха, как цербер, стерегла выход! Она будет прясть до самого рассвета! Свекровь не спала, поэтому невестке неприлично было лежать в постели. Она встала, достала шитье и стала шить при свете светильника. Свекровь пряла, невестка шила, меня же мучила бессонница, томило непреодолимое желание видеть его, говорить с ним.
Рассвело бы поскорее! Как длинна эта ночь! Я стал вновь считать бревна на потолке, затем сосчитал столбы, подпиравшие потолок. Покончив с этим, стал считать спавших в избе. Мое внимание привлекла очаровательная картина: лицом к стене лежала девушка, теперь видна была полуобнаженная прекрасная спина ее, освещенная тусклым светом светильника. Туда же устремились два других глаза и внимательно осмотрели девушку. Это была невестка, мать девушки. Она отложила шитье, подошла к спавшей и толкнула ее в бок. «Как ты спишь?» — упрекнула мать. Девушка проснулась, она не ответила матери, не знала, как она лежала. «Я же просила тебя разбудить меня пораньше», — сказала она и быстро накинула на себя красную сорочку — красивая спина исчезла! «И теперь не поздно», — ответила мать и опять села за шитье. Девушка оделась и вышла в сени. Сквозь полуоткрытую дверь я видел, как она умылась, вытерла лицо подолом сорочки и пальцами расчесала волосы. Окончив свой туалет, она подняла пенёк и села, как на стул, перед станком с натянутой основой. Гибкие пальцы ее быстро забегали по разноцветным ниткам. Я смотрел в восхищении. При свете лампадки она ткала прекрасный ковер. Уже целый год трудилась она, работа подходила к концу. С каким воодушевлением она работала! С каким проворством двигались ее искусные пальцы! Каждый рисунок, каждая расцветка рождали в ее душе такие же цветистые, прекрасные картины будущего, горячо ожидаемого будущего… Она ткала и тихо пела. Она была помолвлена, ковер готовила себе в приданое. На свадьбе, в доме жениха, раскроют ковер, — все будут изумлены искусством невесты…
Петух пропел в третий раз. Проснулся сын священника, отец девушки. Он снял с ноги цепь, оделся, обулся в постели же. Потом встал, брызнул в лицо несколько капель воды, будто умылся, зажег длинный кусок пакли и пошел присмотреть за конем и другими животными. Жена его по-прежнему шила, сидя перед светильником. Ни одним движением она не показала, что заметила пробуждение мужа. Человек непосвященный подумал бы, что она в ссоре с мужем. Однако, мне известно было, что жена не должна оказывать мужу никаких услуг в присутствии его отца или матери; они могут лишь тайком выказывать друг другу знаки внимания и расположения, тайно наслаждаться взаимной любовью. В сенях отец увидел свою дочь, сидевшую за работой. Он ласково погладил ее по волосам и вышел из сеней.
Раздался звон колокола. Будто кто толкнул батюшку в бок — он привстал. Его троекратный кашель дал всем знать, что он проснулся. Невестка вскочила с места, начала помогать ему одеваться. Батюшка стал шептать молитву. Бесконечная молитва его продолжалась пока он одевался, умывался, вытирал лицо, расчесывал бороду и голову. Невестка с большим рвением оказывала ему услуги.
Вся семья была на ногах. В постели остались лишь дети, спавшие под одним одеялом. Вскоре и они вскочили, как чертенята, и в коротеньких рубашонках уселись вокруг очага. Уморительно было видеть, с каким аппетитом прислушивались они к клокоту в котле. Не зная, что в нем варится, они стали спорить. «Куриная дужка моя!» — сказал один, думавший что в котле варится арисá. «Бараньи бабки мои!» — крикнул другой, решивший, что варится хáши. Третий же, поддразнивая их, говорил, что нет ни дужки, ни бабки, потому что готовится кешкéк.
Спор их еще продолжался, когда батюшка, взяв, свой посох, направился к двери. Я сказал:
— Я пойду с вами!
— Куда?
— В церковь.
— Будь благословен, сын мой, пойдем!
Я быстро оделся.
Войдя в сени, я в последний раз посмотрел на красивую девушку и на ее ковер. Она зарделась, подобно цветку, над которым трудилась.
Восток еще не заалел. Ночная мгла окутывала землю. Село дремало в глубокой тишине. Издали доносилось лишь мерное дыхание уснувшего моря. Мы шли по извилистым улицам, скорей, по кровлям домов. Батюшка продолжал шептать бесконечные псалмы. Мы встречали поселян, направлявшихся в поле с серпами подмышкой; перед избами крестьяне запрягали волов в соху. Трудящиеся и труд проснулись одновременно!
В ограде церкви, на могильных плитах, сидела группа стариков, с нетерпением ожидавших церковной службы.
— Мне нужно повидать доктора, — сказал я батюшке, — оттуда приду в церковь.
— Иди, сын мой, — сказал он, указав на комнаты учителя.
Тяжелые занавесы на окнах были спущены. Можно было подумать, что они спят. Но вот я заметил тусклый свет. Стал стучать в дверь, сердце мое так же колотилось в груди. Как я его встречу? Что я должен рассказать ему? Идя рядом со священником, я готовил пространную речь, которая должна была показать, что я не тот невежественный Фархат, которого он знал, что я теперь достаточно развит. Это обрадовало бы его. Внезапно дверь открылась, и я вошел в комнату как мальчишка, плохо выучивший урок, входит в класс. В прихожей он заключил меня в объятия. Я не смог вымолвить ни единого слова, все перепуталось в голове, все позабылось от волненья! Я только обвил руками его шею.
Мы вошли в комнату. Аслан молча сидел за письменным столом. Две свечи освещали разбросанные бумаги. Видно было, что и они провели бессонную ночь. Я рассказал о себе.
— Могу себе ясно представить это, — сказал, смеясь, учитель, — батюшка своими молитвами не дал бы тебе покою. Он, хоть и фанатик, но прекрасный человек!
Он взял меня за руку, усадил возле себя на маленькую армянскую тахту
[132], покрытую прекрасным ковром, — произведение местного коврового искусства. Он смотрел на мой рост, заглядывал в лицо и долго не отпускал моей руки. Будто впервые видит меня, будто долгим взглядом желал утолить давнишнюю тоску.
— Я никак не ожидал встретить тебя в этой деревне, — прервал я молчание.
— А я ждал вас, — ответил он, положив руку мне на плечо.
— Следовательно, ты знал, что мы будем здесь?
— Как не знать… Скажи мне, — переменил он разговор, — нравится тебе деревня?
— Прекрасная местность, великолепные виды открываются отсюда!
— И жители хорошие, — заметил он.
Мы разговаривали тихим голосом, чтобы не мешать Аслану. Он делал какие-то вычисления, был поглощен решением какой-то задачи. Наконец, он отложил карандаш, проговорив:
— Черт побери, не выходит!..
Учитель подошел к столу.
— Эти числа надо сложить…
— Я это пробовал…
— Но ты допустил ошибку… вот здесь…
Аслан вновь взял в руки карандаш.
Учитель вернулся ко мне.
— Расскажи, в каких краях ты побывал, с какими людьми встречался, какое впечатление произвело виденное тобою?
— Ведь ты очень хорошо знаешь, где я был и с какими людьми встречался, — ответил я с улыбкой.
— Знаю, знаю, все знаю…
— Зачем же спрашиваешь?
— Меня интересуют твои впечатления и твои взгляды.
Я вкратце передал ему свои путевые впечатления, рассказал, как тяжело было мне видеть развалины родной земли, как я страдал от всеобщего народного бедствия. Он слушал меня внимательно. На лице его нетрудно было заметить радость и гордость наставника при виде серьезного продвижения вперед своего любимого ученика. Он вновь обнял меня, сказав:
— В тебе пробудилась мысль, Фархат. Ты достаточно развился.
— Этим я обязан ему, — указал я на Аслана.
Аслан поднял голову и самодовольно улыбнулся — не знаю, был ли он удовлетворен моим ответом или же радовался решению трудной задачи. По-видимому, правильнее второе предположение, потому что он положил карандаш на стол и произнес про себя: «Вот и вышла!»…
Как я узнал впоследствии, Аслан высчитывал, сколько понадобится денег для постройки проселочной дороги до пристани Датван и сколько времени потребуется на эту постройку.
Из рассказов священника я узнал многое о жизни учителя, об его привычках, о его школе. Теперь достаточно было одного лишь взгляда, чтоб удостовериться в правильности сказанного.
Но его школа, жилище, его необычайные привычки и вся его деятельность, изумлявшие священника и казавшиеся ему странными, производила на меня совсем иное впечатление. Во всем этом я видел самоотверженность миссионера, его апостольство. Его миссия была настолько многообразна, насколько многосторонними и разнообразными были нужды народа, воспитанию и благосостоянию которого посвятил он всю свою деятельность, чему он пожертвовал свои личные интересы.
Меня удивляло одно: что я видел и слышал, не могло быть результатом кратковременной работы. С тех пор, как я расстался с ним в доме охотника Аво, не прошло много времени. Неужто за такой короткий срок можно было сделать так много? Без сомненья, он давно уже имел сношения с крестьянами этого села. Из слов рэса я узнал, что детей он обучал, главным образом, зимою, а в остальное время он был свободен — занимался с крестьянами или же ездил на родину повидаться с родственниками. Где его родина? Кто его родственники? — это я знал хорошо… Очевидно, во время этих перерывов и приезжал он к нам, и я имел возможность встречаться с ним. Когда же он расставался с нами, возвращался опять в эту деревню или разъезжал по другим местам. Вот почему он временами показывался у нас и внезапно исчезал…
— Знаете, сегодня вы помешали мне пойти в церковь, — сказал он серьезным тоном, — я никогда не пропускаю ни утренней, ни вечерней службы.
— Ну и ступай, — ответил Аслан, иронически улыбаясь.
— Поздно, народ уж расходится.
Он поднял оконную занавеску, посмотрел в сторону церкви. Солнце еще не взошло, а служба была окончена. Его набожность меня поразила тем более, что мне были известны его взгляды на религию.
— Очевидно, живя вблизи монастырей, заразился религиозным духом, — заметил я со смехом.
— Да… — кивнул он утвердительно головой. — Но какая польза совращать верующего крестьянина? Если учитель не ходит в церковь и не постится, он не может иметь никакого влияния на крестьян.
— Неужели ты и постишься?
— Не только пощусь, но и целые дни провожу без пищи.
Со слов священника я знал, с какой целью он не принимает пищу. Аслан же, услыхав последние слова, проговорил:
— Все это прекрасно, совращать крестьянина не следует, но какая польза поощрять религиозные предрассудки? Все старое, все ненужное должно быть уничтожено.
— Пусть будет уничтожено, — ответил он, считая замечание Аслана преждевременным, — но зачем торопиться отрывать от дерева старый лист? Ведь он сам завянет и упадет после появления нового.
— Необходимо торопиться, потому что, уничтожив старое, мы даем возможность новому развиваться быстрее…
Спор был прерван. Кто-то постучался в дверь.
— По всей вероятности, священник, — сказал учитель, — каждое утро после церковной службы он приходит ко мне пить кофе.
Он пошел открыть дверь. За это время Аслан собрал разбросанные по столу бумаги и запер их в ящик. Вошел священник в сопровождении рэса. Со словами «доброго здоровья» и «да благословит вас бог!» они сели на кровать учителя. Спросили, как провел ночь господин доктор, спокойно ли спал? Аслан поблагодарил за внимание. Стали говорить о том, что сегодня в церкви дьякон спел шаракан очень хорошо, что голос его становится приятнее, а у другого дьякона, наоборот, портится от злоупотребления спиртными напитками. В конце концов они пришли к выводу — запретить ему пить.
Учитель не держал слуг, сам убирал свои комнаты, сам готовил себе еду, теперь он принялся за приготовление кофе для себя и для гостей. Нежелание иметь слуг объясняли его скромностью, неприхотливостью, но возможно, что он избегал иметь в доме лишний глаз. Иногда ему помогал звонарь, глухой на оба уха и плохо видевший.
В комнате топилась печь, на ней давно уже кипел кофе и грелось молоко. Учитель разлил кофе гостям, поставил на стол белый хлеб, достал из шкафа сливки и масло, полученные им накануне от пастухов. Но батюшка не разрешил принести их к столу, он сказал:
— Не портите аппетита, я пришел пригласить вас к завтраку.
— Вероятно, попадья приготовила что-нибудь очень хорошее, — улыбаясь сказал учитель.
— Если не хорошее, но и не плохое, — ответил батюшка также с улыбкой.
— Безусловно, хорошее! Я отказываюсь ставить на стол свое угощение, пусть остается! — вот и будет готов мой сегодняшний обед!
Как он изменился, как смягчился его характер, как ласково разговаривал с этими людьми! Я всегда считал его нетерпеливым, суровым, упрямым, даже деспотом. Теперь же он казался мне выразителем чувств и настроений крестьянства, из среды которого он вышел и сердцу которого умел быть любезным.
После кофе мы все отправились в дом священника. Солнце всходило. Восход его был очаровательнее вечерней зари! Над росистой травою медленно поднимался туман и исчезал в вышине. Молодые девушки возвращались с родника, держа на плечах глиняные кувшины. Утренний холодок разрумянил их лица. Старики сидели на плоских кровлях домов, грелись под утренними лучами солнца и глядели на море, расстилавшееся перед ними, как огромное серебряное блюдо. Запоздавшие поселяне спешили в поле — вдали уже сверкал серп жнеца! Стада коров и табуны лошадей давно уж на пастбище, а овцы только теперь стали щипать свежую травку да сочные цветы. Прекрасно утро на селе, спокойное, мирное утро счастливого поселянина, чей пот, смешавшись с росой, орошает поля, чей труд не эксплуатируется, чьи дети весь год могут иметь насущный хлеб и теплое жилище!
При виде нас сидевшие на кровлях поселяне вставали на ноги и приветствовали. Это приветствие относилось, прежде всего, к священнику, рэсу и учителю, которые одинаково пользовались уважением всей деревни. Из отверстий на кровлях густым столбом поднимался дым и смешивался с тонким, прозрачным туманом — в домах затопили тóрни
[133]. Во дворе дома священника сын его собственноручно убирал своего коня. Мы стояли поодаль и любовались прекрасным жеребцом. Учителю вздумалось подшутить над ним.
— Что ты так холишь его, — сказал он, — все равно украдут.
— Кто сможет украсть? — самоуверенно заявил он, продолжая свое дело.
— Например, я!
— Не сможешь.
— Нет, смогу!
Священник рассказал про тяжелую цепь и о других предосторожностях, к которым прибегал его сын с целью сохранить любимого коня.
— Но цепь можно легко перерезать, — холодно заявил учитель, — это не спасет коня!
— Легко? — спросил возмущенный хозяин коня, — ну-ка, попробуйте!
С этими словами он вбежал в конюшню и, вытащив тяжелую цепь, бросил к ногам учителя. Он трясся от гнева, учитель же пренебрежительно смеялся. Это еще сильнее рассердило его.
— Которым концом привязываешь лошадь? — спросил учитель.
Он указал.
— Привяжи так, как ты это делаешь постоянно.
Мы с нетерпением ждали, чем кончится спор.
Учитель достал из кармана складную пилу, похожую на нож, и, ухватившись за цепь, стал пилить. Распилив до половины, изогнул руками место распила — цепь порвалась. Все были поражены не столько пилою, резавшей железо, сколько могучей силой учителя, сломавшего железо.
— Видал? — обратился он к ошеломленному сыну священника, — возможно украсть твоего коня, или нет?
— Возможно, — ответил тот кротко, — если вор будет обладать твоей пилой и силой твоих рук.
Учитель, не показав пилу никому, сложил ее и положил в карман. Каким значительным становится человек в глазах крестьянина, когда мастерство удивляет, поражает его! Находчивость учителя облетела соседние избы с быстротою молнии, со всех сторон потекли любопытные, но учитель из скромности уже скрылся в землянке священника.
Завтрак был готов. Попадья стала разливать по тарелкам кушанье, варившееся в знакомом нам котле. Застоявшееся на поверхности масло обильно сочилось в тарелки. Это было кушанье наподобие арисы́, называемое «кешкóк».
После завтрака мы отправились в дом рэса. Сюда мы прибыли, отсюда же должны были уехать, в противном случае, мы могли нанести обиду хозяину дома. За ночь мы настолько свыклись с этими людьми, что нам казалось, будто мы годами жили с ними. Аслану с большим трудом удалось убедить их отпустить нас. Наших лошадей скрыли, чтоб помешать отъезду. Каждый из крестьян говорил: «Надо бы отломить кусок и моего хлеба»! Они готовы были держать нас у себя месяцами, водить по всем домам, где мы могли встретить накрытый стол и открытое сердце.
Поблагодарив добрых, гостеприимных хозяев, мы стали прощаться. Аслан пожал всем руки и сел на коня. Мурада — покупателя ореховых пеньков — мы оставили там, ему временно отвели комнату в ограде церкви. Я, Аслан и Джаллад тронулись в путь.
Учитель поехал провожать нас. Он сидел на коне, вооруженный с ног до головы, с длинным копьем в руке. Деревенские девушки заглядывались на стройного, миловидного всадника. По правде говоря, не было границ и моему восхищению! Я впервые видел его сидящим верхом на лошади в полном вооружении. Под ним фыркал и резвился ретивый конь, словно гордился, что им правит лучший из деревенских парней. Не прошло и нескольких минут, как от резвости и радости удила лошади и шея стали покрываться пеной.
Долго ехал он с нами, деревня давно скрылась за горизонтом, мы въехали в горы. Аслан несколько раз просил его воротиться назад, но ему тяжело было расстаться с нами.
Мы ехали по узкой тропинке парами. Он с Асланом — впереди, я с Джалладом за ними. Учитель был молчалив. Какие мысли проносились у него в голове? Какие переживания омрачали его душу? Будто из сочувствия своему хозяину, присмирел и конь. Два задушевных друга должны были расстаться. Один ехал далеко-далеко, за моря, за океаны… А другой оставался в горах страны Рштуни. Встретятся ли они опять, или им предстоит вечная разлука?.. По-видимому, эта мысль волновала, тревожила сердце впечатлительного юноши.
Въехали в небольшой овраг, вдававшийся в объятья гор. С высокой скалы сбегала вниз прозрачная, как хрусталь, вода и, пробежав небольшое расстояние, скрывалась в чаще кустарника. Немного выше, у самой вершины горы, молчаливо вглядывался в овраг покрытый мхом могильный крестный камень. Никому не было известно, о какой драме повествует этот молчаливый памятник. Здесь иногда появлялись крестьянки, курили ладан и исчезали. Смутная легенда сохранила память о мученике, загубленном на этом месте. Из слез его матери образовался тот кристальный родник, который с вышины стекал вниз.
Под этим могильным камнем сошли с коней Аслан и учитель. Я с Джалладом также спрыгнули с лошадей, но не подошли к ним, не хотели мешать душевному излиянию, не хотели быть свидетелями их слез и взаимных обетов. Было так необычайно, возвышенно, свято, как тот безмолвный памятник, обросший мохом, который молчаливо глядел на них. Они заключили друг друга в объятия, еще и еще раз поцеловались. Потом он подошел к нам, расцеловал сперва Джаллада, затем меня. Не могу забыть его наставления: «Следуй, Фархат, советам этого человека, — сказал он, указав на Аслана, — он поставит тебя на правильный путь!»
В глубоком волнении расстались мы, унося с собой неизгладимую память об этом самоотверженном юноше, который всецело посвятил себя воспитанию крестьянской массы и поднятию ее благосостояния.
Читатель, ты, ведь, угадал, кто был этот юноша?
Это был Каро.
Глава 26.
АХТАМАР
Остров Ахтамар расположен на юго-восточном берегу Ванского озера на расстоянии одного часа езды от материка. В отдаленные времена остров Ахтамар служил главной твердыней могучего нахарарства Рштуни. Море и высокие скалистые берега защищали его от вражеских вторжений. Первые укрепления на острове возвел один из предков рода Рштуни Рашам Барзапрас Рштуни, живший в царствование Тиграна Великого. Он укрепил Ахтамар новыми сооружениями и заселил его пленными евреями, вывезенными из Палестины. Герой седьмого века, Теодорос Рштуни, высоко ценил Ахтамар как мощную оборонительную позицию и не раз спасался там от преследования врагов.
Первый царь из династии Арцруни, Гагик, сознавал огромное стратегическое значение острова Ахтамар, конечно, по условиям своего времени. Великолепными сооружениями он вдохнул в него новую жизнь. Прежде всего он решил расширить пределы острова, чтобы оказалось возможным осуществление грандиозных замыслов его. Он отрезал часть моря вокруг острова, решил превратить ее в сушу. Заложив фундамент плотины на дне моря, стал заполнять огромную глубину камнями колоссальных размеров. Здесь было занято великое множество рабочего люда и мастеровых. Всеми руководил, всем давал направление сам царь, он являлся не только инициатором, но и архитектором сего дерзновенного по мысли предприятия. После долгой, упорной борьбы со множеством трудностей он победил стихию — плотина поднялась над уровнем моря более чем на пять локтей
[134].
Очевидец событий, историк Тома Арцруни, считает это сооружение одним из чудес мира и находит его более грандиозным, чем плотину Шамирам: вавилонская царица воздвигла плотину на суше, а царь Арцруни возвел ее на дне морском и осушил полосу моря.
На плотине воздвиг он обводную крепостную стену в пять стадий
[135] длины. По словам историка, эта крепостная стена представляла собой чудесное грозное сооружение, укрепленное высокими массивными пирамидами и украшенное такими же высокими великолепными угольными башнями. В этих башнях помещались комнаты, роскошные залы, где царь предавался веселью со своими сыновьями и знатными военачальниками.
Остров нуждался в пристани. Благодаря неукротимой энергии царя была отвоевана еще часть моря, возведены громадные стены и построена обширная искусственная гавань. Сюда выводили железные крепостные ворота обводной стены.
Искусственную гавань, построенную Александром Великим в Македонии, историк считает незначительной в сравнении с упомянутым ахтамарским сооружением.
Укрепив остров со всех сторон пирамидами, башнями и массивной обводной стеной, царь Гагик придал ему вид грозной крепости. Человеческое мастерство соответствовало природным укреплениям. Посреди острова возвышалась огромная скала, на склонах которой царь построил великолепный дворец, озиравший с высоты обширное море. Подле дворца находились книгохранилища, оружейные арсеналы и огромные помещения для запасов пищи.
По завершении строительства царь объявил остров
городом-убежищем. Там мог найти приют и спасение всякий грабитель, или повстанец из вражеского стана. В течение пяти лет город заселился множеством жителей.
Города-убежища построили два армянских царя: Аршак Второй у подножья горы Масис и Гагик Арцруни на острове Ахтамар. Начинания их были одинаковые, но цели различные. Аршак Второй задался целью уничтожить феодальный строй и нахарарство, объединить раздробленные княжества в единое государство с единодержавной властью. С этой именно целью он и основал город-убежище. Ему нужна была сильная партия для борьбы с нахарарами, эту партию он решил создать из недовольных элементов страны. Все, кто совершил какой-либо проступок против нахараров, все должники, не имевшие возможности уплатить денег, все воры, убийцы, разбойники, которых нужда довела до преступления, — словом, все преступники и осужденные к смерти могли найти приют в его городе, избавиться от суда и наказания. Орудием для достижения своей цели — сокрушить господство нахараров — он задумал избрать угнетенных нахарарами, обездоленных ими бедняков.
С совершенно иной целью основал царь Гагик Арцруни город-убежище Ахтамар. Его замыслы не носили столь патриотического характера, они исходили из более узких эгоистических стремлений. Он был вассалом-нахараром при Багратидах
[136] и, отложившись от них, основал в Васпуракане мятежное противопрестольное царство. Ахтамар служил оплотом для противодействия центральной власти.
Из всех сооружений царя Гагика Арцруни наиболее прекрасным является храм во имя святого креста. Сотни судов доставляли сюда камни для стройки. Царь повелел разрушить обширную крепость в деревне Котом Багешской области, принадлежавшую идолопоклонническому племени Зурарик, а камни свезти в Ахтамар. Помимо камней, на построение храма ушло более двухсот тысяч килограммов железа.
Архитектор Манвел исчерпал все свои творческие способности, чтоб создать великолепный образец строительного искусства, подобного которому не видали еще в стране Рштуни.
Высокий купол храма он покрыл листами золота, излучавшими чарующее сияние. Стены храма, внутри и извне, были разукрашены прекрасными барельефами, изображавшими сцены из ветхого и нового завета — точно и правдиво были представлены все важнейшие происшествия от Авраама и Давида до Христа-Спасителя. Барельефы помещались в рамах замечательной скульптурной работы с высеченными виноградными лозами и гирляндами растений. Здесь были сцены и иного содержания: вот сидит на престоле царь, окруженный молодыми телохранителями, пляшущими девушками и толпой гусанов, далее представлен турнир, бой львов и т. п. Замечателен был образ Христа, высеченный на высоких сводах западной ризницы. А напротив, на восточных сводах, изображен был царь Гагик с опущенной головой, как бы смиренно просивший об отпущении грехов; на его могучих руках покоился основанный им храм, который он приносил в дар Спасителю.
Для украшения святая-святых затрачены были огромные суммы денег. Двери покрыты золотом и серебром, образа святых украшены прекрасными жемчугами и другими драгоценными камнями. Дорогая утварь блеском и яркостью слепила глаза.
Храм сохранился поныне как единственный памятник величайших дел первого царя из династии Арцруни. В продолжение многих столетий он подвергался неоднократным изменениям, выносил на себе множество вражеских ударов, в результате которых он утерял свою давнишнюю славу и великолепие. Сама природа, казалось бы, восстала против великих дел великого человека. Море, как грозный мститель, поднимаясь все выше и выше вернуло себе то, что насильно отнял у него человек. Огромные плотины, грандиозная обводная стена, величественные башни — все скрылось под водой! От древней крепости остались лишь остроконечные обломки, печально выглядывавшиеся из-под воды. Под ударами морских волн они как бы оплакивали свое былое величие!..
Прошло два века после воцарения династии Арцруни, прошло столетие со дня падения династия Арцруни, и Ахтамар из первопрестольной столицы превратился в первопрестольный католикосат архиепископа Давида. Военный лагерь превратился в обитель схимника… Мятежный Гагик основал здесь свое царство, непокорный Давид, восставший против Киликийского католикоса, основал здесь новый католикосат. Царство Гагика исчезло, а католикосат Давида остался до наших дней.
Ахтамар располагает к восстанию. Его море, окрестные горы и леса взывают к свободе.
Пользуясь смутным временем, когда в руках чужеземных властителей католикосаты как Киликии, так и в Араратской области, стали предметом купли и продажи, архиепископ Давид склонил на свою сторону местного правителя и пять епископов, которыми и был рукоположен в католикосы.
В храме Ахтамар хранилась священная десница Григория Просветителя, его престол, апостольский посох и кожаный пояс. Здесь же находилась одна
сандалия святой Рипсимэ и ее головной покров. Этими святынями армянской церкви Давид привлек на свою сторону фанатически настроенный народ. Юный, но даровитый католикос Киликии Григорий Пахлавуни созвал на Сявской горе собор из двух тысяч пятисот духовных лиц, которые единогласно предали анафеме Ахтамарский католикосат, а Давида объявили мятежником. Но Ахтамарский остров и хранившиеся там святыни спасли Давида, помогли остаться католикосом.
Никакими ухищрениями не смогли уничтожить этот католикосат. Были даже выкрадены монастырские святыни и увезены в Киликию, но и это не помогло. Основанный им католикосат существует и поныне.
Я ехал в Ахтамар неохотно, предполагая увидеть там копию монастыря Ктуц с его ушедшими от мира монахами, с его аскетизмом и непрерывными молитвами.
Давно наступило утро, когда мы подъехали к Ахтамарскому «заозерному домику», находившемуся, как и «заозерный домик» пустыни Ктуц, на материке. В нем так же было сосредоточено все хозяйство монастыря, но тут не было школы для новопосвященных монахов. Это являлось признаком более мягкого монастырского режима. Кроме амбаров, конюшен, помещений для пастухов и рабочих, здесь было выстроено несколько комнат для католикоса, где он разбирал жалобы своей паствы.
В «заозерном домике» нам заявили, что католикос не будет иметь возможности нас принять, потому что ему нужно отправиться для выяснения, совместно с каймакамом, спорного вопроса о границах одного монастырского владения. Мы сели в прекрасную лодку, предназначенную для выезда католикоса.
Море было неподвижно. Вдали виднелся остров, окрашенный в пурпурно-красный цвет.
Кровью пахло оттуда… Кровью окрашены его утесы с того дня, когда палачи жестокосердного Тирана вырезали весь род Зора Рштуни, не пощадили даже женщин и детей… Кровью окрашены лучи солнца, сверкающие на багряных скалах… Кровью окрашен и патриарший престол, на котором сидел нынешний католикос… Его предшественник пал жертвой тайного злодеяния…
Много я слышал рассказов о Мар-Шимоне из Джоламерика, потом мне посчастливилось увидеть его. Этот патриарх-герой произвел на меня неизгладимое впечатление. Впервые доводилось мне встретить человека, который имел призвание священнослужителя и светского правителя: с крестом в руке он указывал народу путь к небесному, с мечом в руке призывал к борьбе с врагами! При виде Ахтамарского католикоса я подумал: вот второй Мар-Шимон!
На берегу моря католикос, окруженный группой монахов, ждал прибытия лодки.
— Надеюсь, не осудите меня, господин доктор, — сказал он, когда мы подошли приложиться к руке, — я вас ждал с нетерпением… учитель сообщил мне, что вы должны были пожаловать вчера. — Очевидно, Каро успел передать его преосвященству, что один путешественник-европеец собирается посетить монастырь.
— Учитель не ошибся, виноват я, — ответил Аслан. — Я должен был приехать вчера, но задержался при осмотре развалин Востана и мне пришлось заночевать в деревне учителя. Как много беспокойств причинил я вашему святейшеству!
Заметив некоторую нерешительность на лице католикоса, Аслан сказал:
— Я не задержу вас, ваше преосвященство! Мне сказали, что вам необходимо ехать по делу.
— Да, по этому делу нужно было ехать вчера, но я, господин доктор, отложил поездку, ожидая вашего приезда. Это старый спор, который необходимо как-нибудь разрешить. Я вернусь вечером, а до моего возвращения моя братия покажет вам мой монастырь и мой остров.
— Вы очень милостивы, ваше святейшество; жалею, что так случилось, до вашего приезда я закончу свои исследования.
Пожелав успеха, он простился с нами.
Несмотря на свой почтенный возраст, католикос был полон энергии. Он прыгнул в лодку как двадцатипятилетний юноша. Два монаха стали грести. С первого же взгляда католикос произвел на меня сильное впечатление своей почтенной величественной внешностью. В своей простой шерстяной одежде он вовсе не выделялся среди остальной братии. Изнуряющая жизнь пустынника не убила в нем бодрости, да и возможно, что Ахтамар был далек от такого воздействия! То же самое я заметил и среди всей братии. Они не были похожи на монахов пустыни Ктуц — отупевших, превратившихся в идиотов от длительного поста и подвижничества. Они отличались здоровьем и бодростью. Страна Рштуни, сообразно со своей природой, создала своеобразное духовенство. Здесь духовное лицо обладало человеческими страстями, умело быть мстительным: если любимый святой не удовлетворил его просьбы, он переставал кадить фимиам перед ним и ставить свечи.
Ахтамарские монахи не были оторваны от мира подобно пустынникам монастыря Ктуц. Они скорее занимали положение административных лиц; нередко они объезжали свои округа для сбора монастырских поборов. Хотя Ахтамарский католикосат был значительно меньше Ванской епархии, но обладал большим авторитетом, потому что народ был связан с ним тесными узами. Если его католикосу угрожала какая-либо опасность, тотчас же сасунцы, шатахцы хватались за свои кинжалы…
Расставшись с католикосом, Аслан с несколькими монахами стал кружить по острову, потом направился к развалинам старой крепости. Джаллад попросил открыть врата храма для исследования чего-то. Я же стал бродить вокруг собора.
С необычайным изумлением и с глубокой печалью рассматривал я стенные барельефы. Вот Авраам приносит в жертву своего единственного сына, жертвенный нож лежит на шее любимого сына. Ангел Иеговы ухватился за руку отца и пальцем указывает па жертвенного барана. Вся картина дышит библейской ревностью, находящей искупление и спасение лишь в крови. Крыло ангела, рука Авраама, державшая нож, красивая, кудрявая голова Исаака были местами отбиты. Прекрасная картина была обезображена…
Вот там братья Иосифа Прекрасного продают его египетским купцам. Любимец отца, ненавидимый братьями, стоит он перед группой торговцев, молча и печально. Прекрасные глаза Иосифа выдолблены, одного из египетских торговцев лишили ноги, у верблюда, стоящего на коленях, отбита шея, а у другого — раздроблено колено. Великолепная картина безжалостно изуродована.
Там, дальше, подкупленный Иуда лобызает Спасителя. Предатель обнял всесветную жертву, а слуги первосвященника с факелами в руках окружили его. Ошеломленные ученики великого учителя испуганно смотрят издали: проповедника любви и братства предают суду! Одни печальные обломки остались от этой замечательной картины!..
Я не в состоянии был продолжать созерцание картин, глаза мои наполнились слезами.
— Кто виновен в этом варварстве? — спросил я стоявшего возле меня монаха.
— И вы спрашиваете, господин? — ответил он взволнованно, — разве не знаете, какие несчастья стряслись над этим храмом?..
Даже самый нечувствительный человек не может остаться хладнокровным при виде этого жестокосердия. Великолепные произведения искусства, святыни божьего храма, делаются жертвою дикого невежества. Враг проявил свой вандализм не только над людьми, он не пощадил и камней… Печален твой облик, родная страна! Можно ли найти уголок твоей земли, на котором не осталось следа жестоких ударов врага!..
С грустным чувством вошел я в храм. Влажный холод несколько освежил мою воспаленную голову. И здесь поработала нечестивая рука варвара! Куда ни глянешь, всюду разрушение и гибель. Великолепное произведение архитектора Манвела было обезображено. Прекрасные барельефы, окаймлявшие окна храма, великолепная резьба дверных сводов, изумительная скульптура колонн и капителей — все было изломано и разрушено.
Я искал Джаллада. Наконец, нашел его в мрачной ризнице, утопавшим в пыли и в пергаменте. Это меня крайне поразило! Спокойного молчаливого юношу я считал даже неграмотным, здесь же он перебирает пергаменты! Я застал его в хорошем настроении, рассматривающим толстый переплет старинных Четьи-Миней.
Переплеты древних армянских рукописей обычно изготовлялись из дерева и покрывались кожею, а этот переплет состоял из множества склеенных между собою листов пергамента. Джаллад осторожно отделял их друг от друга, повторяя: «Не беспокойтесь, святой отец, я не испорчу». Монах со свечой в руке светил ему.
— Посмотрите, святой отец, вместо доски для пергамента употребили пергаментные листы!
— Вижу, — ответил монах.
— Не лучше ли было не портить пергамент?
— Очевидно, ни для чего другого листки не годились.
— Но на них заметны какие-то буквы. Что это за буквы? Похожи на еврейские.
— Это не еврейские буквы, — ответил Джадлад не отрываясь от работы.
— А вы знаете по-еврейски?
— Знаю.
Монах удивился, изумлен был и я.
— И читаете?
— Читаю. Если разрешите, я переменю переплет этой книги.
— Что за надобность менять? — ответил, смеясь, монах, — Столетия пролежала в этом переплете и еще пролежит.
Джаллад объяснил ему, что он будет весьма благодарен, если святой отец разрешит ему взять «негодные» листы пергамента; это был бы драгоценный подарок монастыря; но если святой отец не вправе дать такое разрешение, он обратится к его святейшейству.
— Стоит ли просить его святейшество о таком пустяке! — перебил его монах, сопровождавший меня.
— Да… но я могу дать повод к некоторым сомненьям… Я потом расскажу вам, какое имеют для меня значение эти пергаменты.
До такой степени он был поглощен своим открытием, что совершенно забыл о своей роли. Он обхватил обеими руками огромные Четьи-Минеи, и мы вышли из ризницы. Иеромонахи нас повели в отведенную нам келью. Аслан еще не возвращался. Нас окружила группа монахов; стали расспрашивать про доктора — откуда он, куда едет, сколько языков знает и т. д. На все эти вопросы отвечал Джаллад. Откуда он имел так много сведений — это было мне непонятно!
Католикос вернулся поздно вечером. Он приказал позвать Аслана. Мы с Джалладом остались одни. Аслан долго не возвращался. Я лежал на кровати, подавленный тяжелыми впечатлениями дня. Я думал о том, что если враги нашей родины так безжалостно обошлись с камнями, сколько же ужасов, сколько мучительных страданий должны были причинить они нашим предкам… Джаллад, сидя у светильника, молча перелистывал найденные им пергаменты. До такой степени он был поглощен своей работой, что, казалось, не замечал моего присутствия. Он раскладывал листы, сравнивал их между собою, иногда долго и напряженно всматривался в одни и те же строки — выцветшие, поблекшие от времени.
— На каком языке эти письмена? — спросил я.
— Буквы греческие, а язык армянский, — ответил он, не отрываясь от листков.
— Почему же писали греческими буквами?
— Было время, когда мы не имели своих букв, писали греческими, ассирийскими и персидскими буквами, пока Месроп не изобрел армянской азбуки.
— Неужели эти рукописи относятся к эпохе, предшествовавшей изобретению армянских письмен?
— Да, поэтому-то они и ценны.
— Что в них написано?
— Покамест трудно определить, листы перепутаны. Но, очевидно, они вырваны из двух различных книг, одна часть — перевод нового завета, а другая — историческая запись.
— Вы читаете по-гречески?
— Читаю.
— Вы говорили, что знаете и еврейский язык.
— Знаю.
— Для чего нужны были вам эти языки?
— Избранную мною дисциплину нельзя было основательно изучить, не ознакомившись с греческой и еврейской литературой в подлинниках.
Лицо его сияло, как сияет лицо нищего, неожиданно нашедшего клад. Прежде я не обращал на него внимания, теперь же смотрел с глубоким уважением. Он владел древними языками, он умел читать давно вышедшие из употребления буквы, он изучил науку, о которой ничего мне не сказал… Опять тайна, опять загадка, которую мне надо разрешить.
Человек представляется нам совершенно в ином свете, когда мы меняем свое предвзятое мнение о нем. Прежде, когда я считал Джаллада обыкновенным общественным деятелем, — хотя и прекрасным всадником и отважным юношей, — он производил на меня совсем иное впечатление. А когда я увидел в нем человека ученого, представление о нем изменилось совершенно. Изменилось в моих глазах даже выражение его лица: строгость смягчилась и появились такие глубокие неуловимые черты, какие он умел читать в своих таинственных пергаментах. Даже голос его звучал иначе — приятный, проникающий в душу голос, возбуждающий симпатию к нему. В глубине его проницательных глаз я видел беспредельную кротость, безграничную доброжелательность, внушенные высокими божественными идеями.
Он осторожно ощупал изъеденные молью листы пергамента, будто касался самых нежных струн своего сердца. Если от пергамента отрывался маленький кусочек, он вздрагивал всем телом, будто что-то отрывалось от его сердца. Мне казалось, он страстно желал сразу узнать, что скрывалось в этих старых, забытых листках.
Я прервал его занятия.
— Аслан запоздал!
— Что тут удивительного? — с улыбкой ответил он, — доктор и католикос всегда найдут о чем потолковать. Есть ли при вас перочинный нож? — переменил он разговор.
Я отдал ему нож. Он старался отделить слипшиеся листы. «Эдак и испортить можно, — говорил он сам себе, — необходимо каким-либо составом растворить клей». Он отложил нож и стал что-то искать в хурджине.
В какое время вернулся Аслан от католикоса, до которого часа Джаллад был занят своими пергаментами — мне не довелось видеть, потому что от безделья я вскоре уснул. Когда я проснулся, солнечные лучи уже проникали в келью сквозь узкие оконные рамы. Я вспомнил, как нас измучили в монастыре Ктуц! Здесь же никто не стучал в нашу дверь, никто не приглашал на всенощную, хотя сами монахи отправляли вечернее богослужение в церкви. Быть в монастыре и спать спокойно всю ночь — это нечто необычайное.
Аслан был веселее обыкновенного, весел был и Джаллад. Они торопили меня, чтоб поскорее тронуться в путь. На берегу нас ждала монастырская лодка. Мы пошли к католикосу приложиться к руке и получить его благословение. Старик прослезился, как любящий отец, отправляющий сыновей в дальние странствия на поиски жемчугов. Монахи проводили нас до берега.
Мы сердечно простились с честными, добродетельными иноками, оставившими во мне неизгладимую память… Через час мы уже были в «заозерном доме». Мы сели на коней и тронулись в путь…
Глава 27.
ВОКРУГ МОНАСТЫРЕЙ
Мы ехали по синим ущельям Капут-Кох
[137]. Одной своей стороной гора эта обращена к морю, а другой обозревает страну Рштуни.
Когда жестокосердный Маначийр Рштуни велел сбросить со скалы в море восемь архидиаконов, святой Яков, старейший патриарх Мцбина, поднялся на вершину горы Капут-Кох. Объятый скорбью, он взглянул на море, поглотившее его архидиаконов, взглянул и на страну Рштуни, которая оказалась так безжалостна к его питомцам… И проклял старец море, проклял и всю страну… Взбушевалось, взбесилось море, вспенилось и вырвалось из берегов. Дома и села, поля и нивы, — всё исчезло, всё захлестнуло волной, всё поглотило море. Небо нависло тяжелым свинцом, перестало орошать землю, земля высохла, истощилась. Луга и нивы, злаки и травы, цветы и кусты, плоды труда и неутомимых забот земледельца — все выгорело, все было уничтожено засухой. Наступил голод, а за голодом чума. Неумолимая смерть стала косить людей, трупами усеялась земля. Шакалы и волки, орлы и коршуны безбоязненно кружили повсюду, пожирая непогребенные тела…
Это ужасное проклятие святого Якова было вторым после проклятия артамедских девушек-пересмешниц. После этого он проклял еще село Пшаванс
[138], где доселе не произрастает ничего, кроме терния… Но незлобивый народ, желая увековечить память патриарха — любителя проклятий, построил на склонах горы Капут-Кох храм его имени, которому ревностно поклоняется доселе. Мы проехали мимо.
Начиная с села Нор-Гюх, которое в настоящее время является местопребыванием каймакама, до самой пристани Датван, по всему побережью расположено множество монастырей, заселенных и безлюдных. Они очаровывают своим живописным местоположением. Вот некоторые из них.
Заброшенный ныне монастырь святой Богородицы, построенный царем Гагиком Арцруни, в нем некогда пребывало до 300 иноков. Монастырь святого Саака, расположенный недалеко от деревни Гандзак, излечивающий больных глазами. Монастырь святого Фомы, расположенный на склонах горы Капут-Кох, обращенных к морю; в нем хранится левая десница апостола Фомы. Монастырь св. Георгия, близ деревни Гомс, в котором хранится голова святого Георгия. Монастырь святого Предтечи, близ деревни Сорп, и монастырь Гиздибузда, недалеко от села Тух.
Какое же имеют влияние эти монастыри на население окрестных сел?
Мы проезжали мимо большой деревни, населенной армянами. Вдруг из-за холмов, раздались беспорядочные детские крики: «Убежал!.. Ловите!..» Крики стали усиливаться. Мы подумали, что волк подошел близко к стаду, но оказалось иное.
Кто-то бежал по ущелью, а маленькие пастушата швыряли в него камнями. Не имея возможности спрятаться, преследуемый возложил всю надежду на быстрые ноги свои. Мы подумали, что его травят за кражу ягненка. Джаллад помчался вперед. При виде его ребята успокоились, бежавший остановился. Казалось, богом была ниспослана ему помощь.
Это был человек небольшого роста в полуеврейской, полуазиатской одежде с длинной палкой в руке. Сбоку у него висела большая кожаная сумка. По его смуглому лицу, узким блестящим глазам и курчавой бороде можно было принять его за торговца-еврея, бродячего знахаря или же цыгана-гадальщика.
Мы остановились. Пастушата спустились с холмов с длинными пастушескими посохами, с камнями в руках и окружили его. Он снисходительно смотрел на мальчиков, губы его шептали что-то. Было ли это равнодушие мученика или же недоумение оскорбленного человека?
Новоявленный Стефанос-первомученик
[139] находился среди своих мучителей!..
— Он неверующий, — сказал один из мальчиков.
— Не постится, — прибавил другой.
— Бесовские книги продает, — вмешался третий.
— Не прикладывается к руке нашего батюшки, — заметил четвертый.
— В нашу церковь не ходит, — пояснил пятый.
— Не крестится, — подтвердил шестой.
Так они стали перечислять все прегрешения обвиняемого.
— Какое вам до этого дело, проказники! — смеясь прервал их Аслан.
— Он неверующий, — повторили хором маленькие ревнители религии.
— Неделю тому назад в нашей деревне его избили, как собаку, теперь опять явился, не стесняется! — Один пастушонок приблизил конец своей длинной палки к его носу и, сильно ударив, спросил:
— Что ты молчишь, язык проглотил, что ли? Неправду мы говорим?
Ничего не ответил он, только молитвенно возвел глаза к небу.
С большим трудом удалось нам убедить преследователей, что «неверующий» никогда ногой не ступит в их деревню и не будет продавать «бесовских» книг. Они разошлись, говоря:
— Посмей еще раз появиться у нас! Цел не уйдешь… — и указали на свои пастушеские посошки.
Мы забрали его с собой и удалились. Оказалось, что он распространяет среди крестьян священные книги…
Вечерело, когда мы приехали в какое-то незнакомое селение. Продавец книг нам сказал, что мы можем найти пристанище у его знакомого. Мы направились туда.
— Вот и дом «брата» Татоса! — сказал он. На пороге показался хозяин дома.
— Брат Татос, я привел к тебе гостей, — заявил продавец священных книг.
— Честь и место! — ответил брат Татос и подошел поздороваться с нами.
Мы вошли в комнату и сели на разостланный для нас толстый войлок. Продавец священных книг отложил набитую книгами сумку, сел возле нас и стал распускать изорванные лапти.
Его звали «джин» Давид, что означало дьявол Давид. Наружность ли была причиной этого прозвища или что-либо другое — неизвестно; одно несомненно, что внешность его как нельзя лучше соответствовала прозвищу.
Наш хозяин «брат» Татос был высокий, худой, сутулый человек с проседью в бороде. Спину Татоса, очевидно, согнуло его ремесло — он был трепальщик шерсти. Его туловище, с течением времени, приняло форму трепальной дуги. Крестьянки приносили ему овечью шерсть, он трепал ее и в виде вознаграждения получал свою долю шерсти. Женщины уносили готовую шерсть, пряли и ткали шерстяные материи. За последнее время доходы уменьшились: распространились слухи, что он также «неверующий». Крестьяне перестали ездить к нему.
Приготовив все, что нужно было для гостей, брат Татос вернулся к нам. Вновь поздоровавшись, он начал обычные вопросы: откуда мы родом, где были, куда едем и т. п. Когда он говорил, голос его был еле слышен, он закрывал оба глаза, а руки молитвенно складывал на животе. Эту привычку, очевидно, он усвоил в молитвенном доме. Когда он узнал, что мы едем из монастыря Ахтамар, на лице его отразилось соболезнование. Он не сказал ни слова, но безмолвные уста его как бы шептали; «Господи, помилуй заблудших овец твоих!..».
Продавец священных книг рассказал брату Татосу, что с ним случилось по дороге.
Тот опечалился еще больше и, глубоко вздохнув, сказал:
— Мученичество — удел всех проповедников слóва господня!
Ясно было, что мы находимся в доме армян-протестантов.
Джаллад, редко принимавший участие в разговоре, обратился к преследуемому:
— Вы только книги распространяете?
— Нет, при удобном случае я проповедую слово господне, или же читаю крестьянам евангелие, — смиренно ответил он.
— Много находите слушателей?
— В тех местах немного, священники возбуждают народ против нас. Вы сами видели, что вытворяют дети, посудите сами, каковы же их отцы!
— Насколько мне известно, нередко вы сами подаете повод для такого обращения.
— Какой повод?
— Армян-григориан вы называете язычниками, оскверняете их святыни; в дни великого поста вы не только едите скоромное, но свои усы и бороду обмазываете остатками съеденных молочных продуктов с целью раздразнить их. Ведь распространяемое вами евангелие строго воспрещает подобные демонстрации, предписывает не огорчать брата своего.
— Они не братья нам.
— Если вы их не будете считать своими братьями, навлечете на себя еще больше гонений. Неужели вы не детища одного и того же отца, неужели вы не сыны одного народа?
Вступил в разговор брат Татос. Он закрыл глаза и протянул правую руку в сторону продавца книг, как бы прося разрешения говорить.
— Братьями мы называем лишь христиан-евангелистов, к какой бы нации они ни принадлежали, а язычники не братья нам, будь они рождены даже нашей матерью.
Аслан тихо встал и вышел в сад. Там он сел на траву возле ручья. Я последовал за ним.
— Принеси, пожалуйста, мне пальто, — сказал он упавшим голосом.
Он завернулся в пальто и лег на траву.
— Спать хочешь? — спросил я.
— Я чувствую отвращение к этим людям. Если б я знал, что они протестанты, ни за что не переступил бы порога их дома. Они никак не могут обойтись без религиозных споров.
Он подложил руку под голову и умолк. Я был уверен, что он не уснет, его будет терзать мысль, что брат отрекается от родного брата.
Я вернулся в дом. Спор продолжался. Никогда не приходилось мне видеть Джаллада столь разгоряченным.
Кто-то лежал в комнате на рогоже и храпел. От громкого разговора он проснулся, приподнял голову и спросонья посмотрел на нас.
— Брат Погос, отоспался? — ласково спросил его «брат Татос».
Вместо ответа «брат Погос» стал зевать, протирать глаза, чтоб разглядеть нас. Он также был с дороги, прилег отдохнуть. Пока он умывался, брат Татос рассказал о нем, что он из Битлиса, из тамошних братьев, что зимою он учительствует в местных школах, а летом обходит деревни, проповедует слово господне.
— Он и по-английски знает!
— Значит, он ученик миссионеров, — заметил Джаллад.
— Он был учеником миссионеров, а теперь он у них на хорошем жалованье.
— Сколько?
— Два золотых в месяц.
— Это и есть «хорошее жалованье»?
Брат Погос был кругленький человечек, кривой, почему он и носил дымчатые очки. Все части его тела были одинаково округлены, без единого выступа. Жена и дочь хозяина с особой заботливостью дали ему умыться и вытереть лицо, после чего он подсел к нам.
— Откуда будет ваша милость? — был первый его вопрос.
Вместо нас ответил брат Татос; он сказал, что мы прибыли из Ахтамарского монастыря.
— Паломники, значит? — спросил он.
— Да, паломники, — ответил Джаллад, наблюдая кислое выражение его лица.
Не ожидая нашего вопроса, он заявил, что работает в битлисских школах, что свыше десяти лет он там состоит преподавателем, кроме того, занят еще многими другими делами.
— Что вы преподаете? — спросил Джаллад.
— Знакомлю со священными книгами, — ответил он.
— И только?
— Занимаюсь немного по географии и арифметике.
— Велико ли число тамошних протестантов?
— Не так уж велико. В деревнях же приумножается слово господне.
— В деревнях школы имеете?
— Пока нет. Временно мы довольствуемся воскресными школами.
— Кто руководит вами?
— Американские миссионеры.
— Много их?
— Несколько семейств только.
— А количество подготовленных ими учеников?
— Сейчас их довольно много.
— Чем они занимаются?
— Распространяют слово господне: произносят проповеди, учительствуют или же занимаются переводами.
— И вы, конечно, из их учеников?
— Да, и то из первых учеников. Когда сюда приехали первые миссионеры, мой отец у них был поваром; меня приняли в свою школу, обучили.
Брат Татос подошел к светильнику и поправил фитиль. Жена и дочь его сидели поодаль и внимательно слушали. Продавец священных книг восторженно смотрел на первого миссионерского ученика. Его маленькие, бегающие, как у мартышки, глаза будто говорили: «Наберитесь-ка храбрости и поговорите с нашим мастером, он вам задаст перцу!»
— Скажите, пожалуйста, ваша цель заключается только в распространении вашего вероучения? — спросил Джаллад.
— Только, — ответил миссионерский ученик.
— А вы не находите, что народ нуждается не только в слове господнем. Например, в вас не возбуждается сострадание при виде нищеты, бедствий народных, при виде всеобщего угнетения?..
Вместо ответа он достал из-за пазухи маленькое евангелие и прочитал выдержку из 6-й главы евангелия от Матвея: «Ищите же прежде всего царствия божия и правды его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем».
— Это мне известно… — сказал Джаллад и попросил закрыть Евангелие. — Если б на земле воцарилось царствие божье, как этого желал Спаситель, не было бы богатых и бедных. Но случилось не так… Богач остался богачом, нищий — нищим…
Переменив разговор, Джаллад спросил:
— Ваши миссионеры, по всей вероятности, живут прекрасно, не так ли? У них собственный выезд, слуги, роскошный стол… Почему бы им не испытать на себе сказанное в 6-й главе Евангелия, пусть и они ведут нищенский образ жизни, чтоб своим примером принести успокоение бедному люду…
— Но, ведь, они получают большие деньги, — ответил первый ученик миссионеров, не выпуская из рук Евангелия, — они не похожи на нас, они привыкли к хорошей жизни!
— Хорошо пожить заманчиво…
— Дьяволу легче удается ввести во искушение ведущего богатый образ жизни.
Почему же дьявол не искушает миссионеров, ведь они живут очень богато!..
— Я сказал уже, что они на нас не похожи!
Он беспрестанно поправлял свои очки. Я ненавидел эти цветные стекла, которые закрывали его глаза. Мне казалось, что говорящий находился за густой завесой; невозможно было проникнуть из глубины его глаз в глубину его сердца, которое, несомненно, было пусто.
— Скажите, наконец, — обратился к нему Джаллад, — какие у вас национальные идеалы?
— Мы наций не признаем, мы признаем только церковь господню, — ответил он.
— Стало быть, вы и отечества не признаете?
— Отчизна христианина — небеса! Земная юдоль лишь временное пристанище для переселения в мир небесный.
— Но ведь и «временное пристанище» должно быть благоустроено, и оно нуждается в переустройстве, чтоб создать для людей счастливую жизнь.
— Все в руках божьих, от нас не зависит ничего. Что мы можем предпринять?
— Если мы приложим старания, господь поможет нам. Господь не терпит ленивых.
— Прежде всего долженствует думать о душе. Что пользы, если мы преуспеем в мирском и утеряем небесное?
Я вспомнил наставления тер Тодика. Есть ли разница между его рассуждениями и проповедями этого идиота? Тер Тодик также все свои упования возлагал на бога, поучал заботиться не о мирских нуждах, а только о душе.
— Если б вы побывали в стране миссионеров, — сказал Джаллад, — если б увидали, как они там живут, что делают, никогда бы вы так не рассуждали. Здесь миссионеры к вашему земному рабству присовокупляют еще и рабство духовное. Вас отрывают от мира, отрывают от ваших сородичей и превращают в невольников евангелия, хотя и святое евангелие является заветом свободы и братства.
Ничего не возразил он. Хозяин спросил:
— Вы, господин, бывали в стране миссионеров?
— Бывал, — ответил Джаллад и вновь обратился к первому ученику миссионеров.
— Как можно быть до такой степени односторонним, ограниченным и фанатичным. Вы отрицаете нацию, отчизну, общественное благо, вы отрицаете всякую активность в жизни, — активность, на которой основано счастье человеческое, и предполагаете кормить людей отвлеченной духовной пищей. Это происходит от того, что вас не обучали ничему, кроме схоластики священных писаний. Вы не знаете, что проповедуемый вам миссионерский протестантизм проникнут совершенно иным духом, иными стремлениями, что он имеет совершенно иную устремленность, отличную от той, которая распространилась и укоренилась среди народов Европы и Америки. Вы не знаете, что миссионеру нужны только верующие; он строит свою церковь, заботится о ее духовных нуждах, а земными нуждами совершенно пренебрегаете, потому что они ослабили бы воздействие первых. Он должен перерезать все нити, связующие вас с вашим прошлым, с вашей историей, с жизнью вашего народа, чтоб вас разобщить и сконцентрировать вокруг основанной им церкви. Этого требует звание миссионера, его служба, которую он превратил в ремесло. Тот же миссионер в своей стране действует совершенно иначе: он любит свой народ, его историю, его литературу и даже предания и легенды языческих времен. Он принимает участие в общественной жизни своей страны, размышляет над вопросом, почему одни живут богато, а другие бедствуют, заботится, чтоб и бедные имели кусок хлеба, были довольны своей судьбой. А что дала эта новая религия вам? — Она породила среди вас распри, междоусобия, ненависть к своим иноверным сородичам. Вы их называете «язычниками», они вас «неверующими!» Вы более склонны сближаться с турком или курдом, чем с ними. Неужели в этом заключается евангельское братство?
По-видимому, из длинной речи Джаллада ничего не влезло в голову первого ученика миссионеров. Он опять раскрыл свое карманное евангелие и углубился в чтение. Джаллад рассвирепел:
— Вы опасные фанатики, — сказал он несколько прочувствованным голосом, — Неправильное, ложное толкование этой божественней книги деморализовало вас. Если б вы были более просвещенными людьми, я бы доказал вам, что вы из этой книги ничего не понимаете! Но очень трудно объясняться с невежественными людьми. Прискорбно, что вы являетесь проповедниками и учителями!..
Он вскочил с места и вышел в сад.
— Он сумасброд, — сказал после его ухода первый ученик миссионеров.
— Молчи, негодный! — воскликнул я, — не то поплатишься своей глупой головой.
Он умолк, молчали и другие.
Я почувствовал отвращение к этим людям, которые, скорей, достойны были сожаления, чем гнева. Несчастные люди! Из одного плена они попали в другой — невольники курдов и турок стали рабами миссионеров…
Я пошел к Аслану. Джаллада там не было. Очевидно, он бродил в темноте ночи в надежде успокоить свое разгневанное сердце. Я рассказал Аслану про спор с протестантами.
— Напрасно он их укорял, — ответил Аслан спокойно, — чем виновны эти несчастные? Они являются жертвами беспорядка, царящего в нашей церкви. Будь у нас достойное духовенство, протестантов не было бы. Во время нашего путешествия мы встретили множество монахов. Чем заняты эти глупцы, — ты это видел своими глазами. Немудрено, что вокруг монастырей появились люди, не являющиеся ни традиционными последователями григорианской церкви, ни подлинными протестантами.
— Ничто не разрушает — в особенности на востоке — единства нации и не ослабляет ее силы так, — продолжал он после минутного молчания, — как раскол и религиозные распри. Правительство нашей страны прекрасно поняло это, оно поощряет деятельность чужеземных миссионеров среди христианского населения, чтоб держать его в постоянных распрях и усобицах. Франция давно изгнала иезуитов, как зловредный элемент, а Турция гостеприимно принимает этих чудовищ в свою страну. Протестантские миссионеры пользуются неограниченной защитой турецкого правительства. Почему? Потому что эти люди являются прекрасным орудием в его руках для разрушения национального единства среди христианских народов. Армяне-католики, армяне-протестанты не считают себя армянами. Армяне-григориане также не называют их армянами. Свою национальность они определяют наименованием своей церкви. Следовательно, чем больше церковных направлений, тем сильнее будет распыляться национальное единство и ослабляться политический вес нации. Это тем более выгодно для правительства, что проблема христианского населения нередко ставит его в крайне затруднительное положение.
Слова Аслана были прерваны приходом нашего хозяина, Татоса, который стал извиняться за случившуюся неприятность и пригласил нас ужинать.
— Я должен извиниться, — возразил Аслан, — товарищ мой вспыльчив, но он обладает очень чутким сердцем.
Джаллада искали, но не нашли.
После ужина мы попросили приготовить нам постели в саду, на берегу ручья под деревьями — в комнате было душно, да и насекомые могли не дать нам спать.
Мы собирались лечь, а Джаллад все не возвращался.
— Куда он мог пойти? — спросил я.
— Придет скоро, — ответил Аслан.
— Как прекрасно он говорил! Как хорошо он знает священные книги! Я не предполагал, что Джаллад до такой степени сведущий человек.
Аслан ответил, смеясь:
— И сам он протестант.
— Протестант? Что вы говорите?
— Да еще протестантский священник.
Я был изумлен.
Я тотчас побежал искать его. В отдаленном углу сада молча молился он, стоя на коленях.
За кого молился он столь восторженно? Не за своих ли заблудших «братьев»?..
Глава 28.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ НОС
Приехав в Битлис, мы решили остановиться на постоялом дворе. Вызвали хозяина. Появился безобразный мужчина со связкой ключей за поясом, с голыми по локоть руками, на которых были выжжены знаки пребывания в Иерусалиме. Это свидетельствовало о том, что он махтеси́, хаджи, мы будем иметь дело с благочестивым паломником. Звали его хаджи Исах. Проворно открыв двери комнат, он принялся расхваливать достоинства каждой, подробно перечисляя, какие знаменитости и в каком году проживали здесь. Для доказательства он указал на ряд надписей, начертанных углем на стенах. К сожалению, эти надписи не очень-то хорошо рекомендовали нашего хаджи. На одной стене было написано: «Если посылаешь хаджи Исаха на рынок за покупками, отправься и ты с ним», на другой: «Если из тысячи слов, произнесенных Исахом, хоть одно окажется правдивым, мул ожерéбится». И во всех почти надписях фигурировало имя Исаха. Конечно, будь хаджи грамотным, но не оставил бы ни одной надписи, но, вероятно, добрые люди уверили его, что в них заключаются весьма благоприятные отзывы о нем.
Мы выбрали одну из комнат и вошли в каменный ящик. Каменный ящик — да и только! Все комнаты в гостинице были выложены, внутри и снаружи, тесаным камнем, окон не было, свет проникал из открытых дверей наподобие монастырских келий. Гостиница имела два этажа: в верхнем помещались приезжие, а в нижнем — вокруг четырехугольного двора — расположены были лавки.
В комнате не было никакой мебели: голые стены, голый пол производили удручающее впечатление. Для азиатских путников, возящих с собой все необходимые в дороге предметы обихода, подобное пристанище могло бы оказаться вполне удобным, но у нас не было с собой хотя бы простой подстилки или куска ковра, чтоб присесть на каменном полу.
На наше счастье хаджи Исах оказался глухим, но странно глухим: выругай его, он не услышит, а если скажешь: «Хаджи, откушайте с нами кофе!» — тотчас же прибежит.
— Хаджи, постели что-нибудь на полу, негде присесть! — было наше первое требование. Он не расслышал. Я схватил его за руку, указал на пол и крикнул:
— Принеси подстилку, слышишь, подстилку!
Хаджи, ворча, удалился, вместо подстилки принес веник и принялся подметать пол.
И, действительно, это было крайне необходимо. Как мы не подумали об этом! Каждый из знаменитых посетителей постоялого двора Исаха соизволил оставить свой след пребывания. Валялись заплесневевшие арбузные корки, объеденные виноградные кисти, куски черствого хлеба, обглоданные кости, свечные огарки, прикрепленные к кирпичам, если прибавить ко всему упавшую с головы при подметании пола грязную феску хаджи — нашу комнату можно было б счесть за выгребную яму.
Когда хаджи кончил подметать, мы предъявили другое требование — принести воды для умыванья. Он опять пропустил мимо ушей. Оставалось вторично схватить его за руку и крикнуть: «Воды, воды!» Никакого результата. Я поднес руки к лицу и показал, что нужно умыться. Хаджи со своей стороны указал мне жестом на двор, где из медной трубки стекала вода в водоем.
Трудно сказать, чье положение было комичнее — наше или его? Как будто — наше! Должно быть, он думал: «Ну и проезжие — ни кувшина с собой не имеют, ни куска подстилки!»
Я вышел из терпенья, схватил хаджи за длинные уши, встряхнул его и заорал:
— Принеси воды и подстилку!
Хаджи угомонился и быстро сбежал вниз. Моя выходка не понравилась Аслану.
— А как же мне следовало поступить? — сказал я, — подобные люди не привыкли к просьбам, им надо приказывать, приказывать плеткой!
— Мы протестуем против плетки и сами же рекомендуем эту меру воздействия? — возразил Аслан.
Я ничего не ответил.
Несколько минут спустя вернулся хаджи с кувшином воды и подстилкой.
— Так и сказал бы, миляга, что воды надо, — сказал он не то полушутливо, не то полуогорченно, — нечего было мучить меня. Еще чего прикажете? — обратился он к Аслану, — может, на базар сходить?
— Пока нет, когда надо будет, позовем тебя.
По лицу хаджи пробежала тень неудовольствия. За хаджи водился похвальный обычай: он готов был не взимать никакой платы за комнату, лишь бы проезжающие покупали на базаре продукты при его посредстве. Водился за ним и другой обычай: если попросишь купить съестного, чего на базаре в изобилии, он придумывает всевозможные помехи. «Хаджи, — попросишь его, — можешь купить на базаре хлеба и сыру?» Он не сразу ответит вам, потом скажет: «Посмотрим, найдется ли?» Этим он хотел показать, что выполняет весьма трудное поручение и оказывает громадную услугу посетителям.
Хаджи был сухопарый человек с тщательно выбритыми впалыми щеками, с подстриженными усами, имевшими злую привычку лезть в рот. Но достопримечательнее всего был его нос — с двумя возвышенностями, которые, словно две вершины, спускаясь к верхней губе, образовывали длинный хребет. Словом, мы не ошибемся, если скажем, что все лицо его являлось сплошным носом. Замечательны были также его ноги. Все жители Турции имеют кривые ноги оттого, что сидят на ковре, поджав их под себя. Но ноги хаджи были единственными в своем роде. Уродливо выпадая с боков, постепенно сгибаясь в дугу, они снаружи образовывали два полукруга, концы которых, соединяясь сверху донизу, образовывали в середине яйцеобразное пространство. Поэтому-то он и полз подобно черепахе.
Очень трудно было определить цвет его одежды, потому что долголетняя грязь, прилипшая несколькими слоями, погребла под собою все цвета его платья. Бесчисленные же латки давно изменили первоначальный покрой его.
Особенно заинтересовались мы хаджи, когда узнали, что этот неряха является владельцем огромного каменного здания постоялого двора и одним из самых богатых армян города.
Приведя в порядок комнату, он спросил Аслана:
— Есть у тебя нюхательный табак?
Аслан с удивлением посмотрел на него. Потом нам передали, что он имеет обыкновение задавать подобный вопрос всем своим посетителям. Когда кто-либо преподносит ему табак, он наполняет полной горстью свои огромные ноздри, а затем начинает хвалить достоинства табака до тех пор, пока смущенный посетитель не уделит ему часть «в знак памяти и дружбы». Таким образом, он задаром получает потребный товар, не то ему приходилось бы нести огромный расход, чтоб постоянно набивать свой большущий нос.
— Вы не сказали, хаджи, сколько мы должны платить за комнату? — сказал Аслан.
— Двадцать пиастров
[140] в день и по одному пиастру за каждую лошадь, — ответил он, а потом прибавил, что мы люди добропорядочные и потому из уважения к нам назначает небольшую плату.
— Не много ли?
— Вы должны знать, сударь, что «мы» не имеем обыкновения говорить неправду! — сказал он с какой-то необъяснимой улыбкой на лице.
По здешним ценам это — фантастическая плата за постой, тем не менее Аслан согласился и ответил:
— Хорошо, ступай!
После его ухода Джаллад заметил:
— Держу пари, что этот человек из армян-протестантов!
— Почему ты так думаешь? — спросил, смеясь, Аслан.
— Только армяне-протестанты говорят от имени своей братии, повторяя по всякому поводу: «Мы не имеем обыкновения говорить неправду», хотя и лгут бессовестно.
И вправду, он был из армян-протестантов. Уже в зрелом возрасте хаджи отошел от армяно-григорианской церкви и примкнул к протестантам. Его паломничество в Иерусалим относится к тому времени, когда он еще верил в заступничество святых. Теперь же хаджи Исах неоднократно уверял, что он с большим удовольствием содрал бы кожу с рук, лишь бы только уничтожить следы своего заблуждения
[141].
Из Битлиса мы должны были выехать в тот же день,
поэтому каждый из нас торопился ио своим делам. Заперли дверь и вышли. Аслан с Джалладом пошли вместе — им предстояло несколько посещений, а я направился на базар за покупками.
Красота города заставила меня забыть неприятное впечатление, произведенное хаджи Исахом. Я не знаю города, который имел бы такой своеобразный вид, вряд ли где-нибудь творческая сила природы могла создать подобное великолепие!
Историческое ущелье Салько своими высокими волнообразными горами и холмами сжимает в могучих объятиях этот каменный город — каменный потому, что все дома, как богатых, так и бедных, выстроены из темного тесаного камня. Три реки стремительно мчатся к ущелью, недалеко от города сливаются в одну и текут в бездонной глубине, оглашая царящую тишину ужасным гулом и ревом. Берега реки, начиная с самого дна ущелья, поднимаются вверх равномерными ступенчатыми террасами. На этих террасах выстроены дома, утопающие в зелени фруктовых садов. Кровля одного дома служит двором для следующего. По склонам гор, даже у самой вершины, текут бесчисленные прозрачные, как хрусталь, родники. Они текут по крышам домов, сбегают к садам и, низвергаясь с террасы на террасу, образуют очаровательные каскады. Со всех сторон текут ручьи, даруя благоденствие и богатому, и бедному. Вода протекает даже через ризницу собора святого Саркиса и вливается на церковную паперть. Когда смотришь снизу вверх, кажется перед тобою высятся воздушные замки Семирамиды с их каскадами и фантастическими садами.
Идешь по городу — улица вымощена камнем, стены каменные, ходишь по садам — забор каменный, калитка каменная; эта каменная страна, полная чудес природы и искусства, очаровывает тебя. Куда ни посмотришь, всюду прекрасный вид, величие и великолепие! Посмотришь вниз — дом на доме, садик на садике ступенями спускаются к берегам гремящей реки. А там, по всему побережью, простираются бесчисленные сады, чарующие изумрудом своей листвы.
От этого зрелища сердце переполняется величайшей гордостью — армянин умеет бороться с дикой природой, умеет создавать себе рай даже среди скалистых горных теснин…
Не менее интересен и базар. Рыночная площадь расположена на кровлях, а под кровлями тянутся крытые торговые ряды с лавками и магазинами. Это необычное расположение легко объясняется недостатком земли в Битлисе — необходимо использовать каждую пядь земли! Я ходил по кровлям, иначе говоря, по рыночной площади. Невозможно было пройти: люди, животные, птицы — все перемешалось между собою! Там группа крестьянок продает кур, яйца, сливки и масло. Дальше стоят ослы, навьюченные всевозможными продуктами сельского хозяйства. Тут же отдыхает, сидя на коленях, целый караван верблюдов, а рядом — горы пшеницы, привезенные ими! Ткач продает изготовленное им самим полотно, а красильщик — выкрашенную им красную бязь. Кустари меняют изготовленный ими ситец на масло, сыр и шерсть. Посреди толпы зевак кривляется мартышка, а поводырь обходит зрителей и собирает парá
[142]. Вот показался священник! Он подходит к продавцам, «пробует» на вкус разложенные съестные припасы да еще «для образца» бросает в свой платок, чтоб снести домой. Все это происходит на просторных кровлях, на воздушной рыночной площади!
Я спустился вниз, в крытые торговые ряды. Это целый лабиринт со множеством разветвлений. Направо и налево тянутся длинные ряды каменных лавок и магазинов, напоминающих своим видом часовни. Купцы сидят на мягких подстилках, поджав под себя ноги и приветливо зазывают посетителей. Торговля в полном разгаре! Битлис является торговым центром; он поддерживает торговые связи с городами: Ван, Карин (Арзрум), Балу, Буланих, Тарон (Муш), Сгерд, Амит, даже с Мосулом и Багдадом. Хлопок получают из Персии, изготовляют из него ситец, бязь, полотно и наводняют ими целые области. Европейские товары доставляются из Константинополя. Торговля находится, главным образом, в руках армян, материально вполне обеспеченных.
Мое внимание привлекли интересные картины: вот сидит на коленях маленький мальчик перед своим «устá»
[143] и читает часослов. «Уста» держит в руках железный аршин, он отмеривает полотно покупателю-курду и беседует с ним, В то же время внимательно слушает ученика. По временам железный аршин опускается на голову мальчика — неправильно прочитал, нужно исправить ошибку! Другой торговец, положив перед собою изданную в Нью-Йорке Библию, читает ее, одновременно он торгуется с покупателем, да еще спорит к кем-то, можно ли потом умалить свои грехи. Я подошел. Откуда-то появился и хаджи Исах. Услыхав, о чем спорят, он заявил:
— Необходим лишь духовный пост: не лги, не божись ложно, не воруй, не клевещи, не будь жаден и скуп, тогда от господа бога получишь отпущение грехов. А будешь есть мясо или лоби — не все ли равно?
И кто это говорит, — хаджи Исах!.. Я удалился.
Торговые ряды освещались с потолка. Кругом настолько было мрачно, что трудно было рассматривать товар. Купцы имели все возможности, чтоб осветить свои лавки и магазины, но это им было невыгодно: в темноте легче было сплавить негодный товар!
У меня возникла мысль: разве миссионеры не похожи на битлисских купцов? Ведь они также ведут свою торговлю во мраке, чтоб легче обманывать народ! Они проповедуют свет веры и истины, но свои школы держат в полном мраке невежества. Разве они не могли бы озарить школы светом, тем светом, который призваны распространять!..
Со всех сторон я слышал споры; казалось, весь город болеет этим недугом. Среди лукавых и лживых торговцев велась такая же лукавая и лживая религиозная пропаганда. А священник наверху, на рыночной площади, по-прежнему собирал «пробы», в свой огромный платок.
С отвращением ушел я с базара!..
Битлис находится под духовным покровительством четырех монастырей. Один из них, монастырь Амлорд, расположен в центре города, а три монастыря имени пресвятой богородицы находятся на окраинах. Некогда апостол Фаддей дал обет построить в Армении тысячу монастырей имени богородицы — три из них он основал в Битлисе.
Четыре великолепных собора также доставляют жителям города духовную пищу. Собор Кармрак, который хранит нетленную струю крови Иисуса Христа, пользуется всеобщей известностью. Его именем клянутся даже мусульмане. Так много здесь духовных учреждений, и тут же происходит проповедь хаджи Исаха о вероотступничестве! Где же причина?..
На улицах я повстречал много армянок. Поверх красивой одежды из тончайшего шелка на них были надеты длинные бязевые рубахи. Эти уродливые покрывала спасали женщин от сладострастных взглядов мусульман. Мужчины также плохо были одеты. Богатые армяне здесь, как и в Ване, стараются скрыть свое богатство под обликом нищеты. Дети были одеты еще хуже, все были без обуви, а в этом каменном городе обувь более необходима, чем где бы то ни было.
Вот проскакала кавалькада. Американки, сидевшие на конях боком, волочили по земле длинные шлейфы своих амазонок. Ветер развевал белую вуаль на шляпах мужчин. Кавалькада пронеслась как вихрь. Несколько мужчин в местной одежде ехали впереди и разгоняли толпу, хотя и не было в этом надобности, потому что народ разбегался от испуга. Я подумал, что едет консул какого-либо европейского государства со своей семьей и многочисленной свитой — ведь на востоке они стараются пыль в глаза пустить своей роскошью и великолепием.
— Кто такие? — спросил я армянина, который низко поклонился им и все еще стоял, восторженно глядя им вслед.
— Наши «саабы», — ответил он хвастливо.
Я тотчас понял, кто они такие. Здесь, как и в Персии, «саабами» называют миссионеров, это слово означает господин, владыка. Я подумал: вот каковы потомки бродячих апостолов, которые не имели ничего, кроме посоха и котомки…
— Откуда они едут? — спросил я своего собеседника, который все еще вглядывался в даль.
— С дачи, завтра воскресенье, проповедь должны произнести.
— А после проповеди опять на дачу?
— Конечно. «Саабы» не могут жить в душном городе.
— А вы можете?
— Мы привычны к духоте. Они же на нас не похожи. Вы пойдете слушать проповедь? — переменил он разговор, — «сааб» Ш. будет говорить о претворении; он должен доказать, что язычники-армяне напрасно верят, будто вино и хлеб претворяются в кровь и плоть Иисуса Христа.
Я ничего не ответил и удалился. Он был обижен моим равнодушием — почему я не остановился посреди улицы, чтоб часами спорить о претворении хлеба и вина в кровь.
Я купил все, что мне нужно было, и вернулся в трактир.
Аслан и Джаллад не приходили весь день. Вечером я сидел один и ждал. Сальная свеча тускло освещала комнату. Царила глубокая, гнетущая тишина. В соседней комнате одни спали, другие ужинали, сидя у самых дверей.
Невыносимая духота стесняла дыхание. Я посмотрел на свечу: целый рой легкокрылых бабочек резвился вокруг огня, свет привлекал, свет радовал их, вокруг света трепетали, резвились они; но чуть касались крыльями, сгорали и гибли в нем… бедные, злосчастные жертвы света!..
Аслан и Джаллад вернулись очень поздно.
Велико было мое удивление при виде Джаллада. Он преобразился с головы до ног, на нем был европейский костюм. Как был к лицу этот костюм, какой внушительный вид придавал ему! По-видимому, такая одежда была привычна для него с самых детских лет!
Улыбаясь, поклонился он мне и спросил:,
— Удивляешься?
— Удивляюсь! — ответил я и схватил его за руку.
Аслан снял шапку и молча сел на подстилку. А Джаллад стал поспешно собирать свои вещи. У дверей ждал слуга. Он вошел, взял хурджин и удалился.
— Ты уезжаешь? — тревожно спросил я.
— Нет, не уезжаю, — ответил он ласково, подошел ко мне, положил руку мне на плечо. — Я должен остаться в этом городе, мои вещи я послал в нанятую мною комнату.
— Значит, мы должны расстаться с тобою?
— Да, должны расстаться…
Голос его дрогнул.
В последние дни я до того привязался к нему, полюбил, до такой степени проникся уважением к нему, что сердце во мне упало, когда я узнал о разлуке. Я стал умолять его:
— Хоть одну ночь останься с нами!
— С удовольствием остался бы, но нельзя.
Потом он переменил разговор.
— Но и вы не останетесь здесь долго!
Аслан, молча наблюдавший излияния наших чувств, еще более огорчил меня, заявив:
— Мы должны оставить город через несколько часов.
— Ночью?
— Да, ночью!
Что случилось? Что за надобность так спешить? Они ничего об этом не сказали. Только на лице Аслана я заметил глубокую печаль. Очевидно его также угнетала мысль о разлуке с любимым другом.
Наступила тяжелая минута расставания. Джаллад подошел к Аслану, обнял его. Ни слова не сказали друг другу… Словно замерли в объятиях. Голова одного покоилась на плече другого. Молчали, но молчание было красноречивее слов.
Ах, как прекрасна, как возвышенна истинная дружба! Как много в ней величия души! Смотря на них, сердце мое наполнялось священной теплотой, чувства мои облагораживались…
Джаллад оставил Аслана и подошел ко мне. При расставании с Каро я не плакал, но когда дрожавшие от волненья руки Джаллада обвились вокруг моей шеи, я не мог удержать слез. Он также был взволнован; его кроткие, ангельские глаза были полны слез.
— Не печалься, Фархат, — сказал он мне, — ты имеешь прекрасного, доброго руководителя, который поставит тебя на верный путь!..
Почти те же слова я слышал от Каро в минуту расставанья. Что они означают?
Мы вышли провожать Джаллада. Дошли до лестницы. Здесь он остановил нас, еще и еще раз пожал нам руки и спустился вниз. В дверях он обернулся, кивнул головой и вышел на улицу. Мы долго неподвижно стояли над лестницей, устремив глаза на дверь, за которой скрылся благородный юноша!..
Вернувшись в комнату, мы не сказали друг другу ни слова, подавленные тяжелыми переживаниями. Аслан устало опустился на подстилку, а я сел возле свечи. По-видимому, Аслан пробродил целый день. Вскоре он задремал. Вокруг свечки легкокрылых жертв света стало еще больше: кругом валялось множество самоотверженных почитателей света!..
Глаза мои блуждали по комнате, будто искали следы пребывания здесь Джаллада. Вот его оружие; неужели он забыл взять с собою? А, может быть, ему не понадобится это орудие смерти? Он взял с собою только хурджин, в котором, как святыня, хранились листки пергамента, найденные им в Ахтамарском монастыре.
Со двора доносилось глухое ржанье его коня. Бедное животное! Очевидно, оно чувствовало, что не будет больше служить любимому господину!
Аслан открыл глаза и произнес:
— Если меня будут спрашивать, тотчас разбуди.
— Ты будешь спать?
— Нет, дремлю только.
Царила мертвая тишина. В трактире давно погасили огни, все спали глубоким сном. Лишь иногда с кровати доносились голоса асасов
[144], которые перекликались с асасами других постоялых дворов.
Аслан вновь открыл глаза. Я не дал ему опять вздремнуть. Мною овладело неудержимое желание узнать, почему Джаллад так внезапно расстался с нами и что он будет делать в этом городе.
— Тебе известно, что он протестантский священник, — ответил он, подняв голову, — а в этом городе проживает много армян-протестантов.
— Это я знаю. Но ведь он им совершенно не сочувствует и, как я заметил, презирает их.
— Потому-то он и решил работать среди них, чтоб они не пребывали в заблуждении, исправились.
— В каком заблуждении?
— Они должны понять, что религия и свобода совести — одно, а нация — другое. Чтоб они признавали себя армянами и любили своих братьев-армян григорианского и католического вероисповедания.
— Разве не лучше, чтоб они вовсе не отделились от нас?
— Конечно, лучше. Но в результате некоторых печальных обстоятельств это разделение уже произошло и, поскольку это — совершившийся факт, необходимо мириться с ним. Что нам остается делать? Преследовать их? но это не приведет ни к чему хорошему. Надлежит действовать так: опять связать их с нами, если не религиозными, то национальными узами, которые более крепки и устойчивы.
— А возможно добиться этого?
— Почему нет?
Я отнял у него отдых и сон. Но предмет нашего разговора был настолько близок его сердцу, что он поднялся и сел на подстилку. Свет падал на него. При виде его печального, бледного лица я понял, что он переживает тяжелые душевные муки. Что случилось с ним сегодня?
— Это вполне возможно! — ответил он. — С древнейших времен армяне имеют одну удивительную способность: новых религий они не создают, но, заимствуя чужую религию, придают ей национальную окраску, накладывают национальную печать, приспособляя ее к своей истории, к своим преданиям, традициям и племенным особенностям. Это — великое национальное дарование, которого лишены многие народы. Наши предки обармянили греческих богов, даже имена дали другие. Так же поступили с персидскими богами. Христинская церковь, основанная в Армении апостолами Христа, совершенно преобразилась в дни Григория Просветителя. Армяне не приняли ни Римской церкви, ни Византийской. В последнее время среди армян распространяют католичество и протестантизм. Католичество уже получило национальную окраску и превратилось в армяно-католическое вероисповедание. Армяне сохранили древнейшие религиозные обряды, формы религиозного культа и, что важнее всего, — язык. Но протестантизм среди армян не принял ещё национального облика. То, что обрисовал Джаллад, представляет собой миссионерский протестантизм.
— Что следует предпринять по мнению Джаллада?
— По его мнению, необходимо избавиться от влияния и активного вмешательства миссионеров и создать самостоятельную армяно-протестантскую церковь. И это будет основная цель его деятельности.
— А это удастся ему?
— Я уверен, что удастся. Он чрезвычайно энергичный человек, обладает непреклонной силой воли.
Дверь приоткрылась, показался трактирный слуга.
— Вас кто-то спрашивает, — доложил он.
Аслан приказал принять. Спустя несколько минут в комнату вошел незнакомый юноша — стройный, хрупкого телосложения, одетый по-европейски. Он вежливо поклонился, подошел к Аслану, пожал ему руку и передал небольшой пакет. Аслан поспешно вскрыл его, прочитал письмо и сказал юноше:
— Мы немедленно будем готовы, уважаемый Арпиар, вы также приготовьтесь в дорогу. Вот ваше оружие, а во дворе вас ожидает прекрасный конь.
Юноша радостно взял оружие Джаллада и легкими шагами вышел во двор, чтоб приготовить лошадь к отъезду.
— Кто этот миловидный юноша? — спросил я.
— Потом скажу… — промолвил Аслан. — Он приехал сюда с караваном Тохмах-Артина.
— Разве караван Тохмах-Артина здесь?
— Нет, несколько дней тому назад он тронулся в путь, а этого юношу оставили здесь, чтоб сопровождать нас в Муш.
— Как он красив! — повторил я, — и как он молод!
Аслан равнодушно выслушал мои восторженные излияния, он попросил позвать трактирного слугу, чтоб расплатиться.
Явился сам хаджи Исах. Очевидно, перед этим он спал — и, заторопившись, предстал пред нами в рубахе и кальсонах. Увидя его, Аслан велел мне не торговаться, не затевать лишних разговоров и удалился из комнаты. Он не хотел смотреть на этого мерзкого человека, лишенного не только честности и порядочности, но и простой учтивости.
Я уплатил за комнату, за лошадей, словом все, что он потребовал вначале, а потом спросил:
— Больше ничего?
— Как ничего, уважаемый господин, — сказал он улыбаясь, и его огромные ноздри раздулись еще шире. — Как ничего, — повторил он и вручил мне грязный, исписанный лоскуток бумаги.
Теперь я стал «уважаемый господин»!
Он представил огромный счет. Проверить его не было ни времени, ни желания. Но меня рассердила его наглость.
— Почему ты внес сюда кувшин для воды?
— А почему не внести, уважаемый господин? — с удивлением ответил он.
— А потому, что кувшин остается у вас. Если вода денег стоит — берите!
— Почему оставляете, уважаемый господин, можете взять с собою, я его для вас купил.
Негодный был уверен, что мы не возьмем с собою эту огромную посуду.
— Вы со всеми посетителями так обращаетесь? — спросил я.
— Вы знаете, уважаемый господин, что «мы» не имеем обыкновения говорить неправду, — повторил он обычное самовосхваление армян-протестантов.
Я уплатил по счету все, но в это время во мне заиграла детская шалость.
— Стало-быть, этот кувшин принадлежит нам, не так ли?..
— Конечно, дорогой брат… — сказал он, но, вспомнив, что армянина-непротестанта нельзя называть братом, тотчас же исправил свою ошибку.
— Конечно, вам принадлежит, уважаемый господин. Вы можете взять его с собою.
— Я оставлю его здесь.
Лицо скряги засияло. Я взял кувшин, ударил о каменный пол. Хаджи задрожал всем телом, будто ударили об его голову. Он не мог вообразить, что его предложение могло иметь подобное последствие. Как окаменелый, смотрел он на глиняные обломки, будто это были куски его сердца. В это самое время вошел Аслан и, поняв в чем дело, сказал мне с упреком:
— Что это за мальчишество!
У хаджи развязался язык. Он нашел защитника.
— Вот именно, господин доктор, конечно, мальчишество, — заговорил он в глубоком негодовании. Аслан посмотрел на предъявлений им счет и сказал:
— Кувшин вы цените в пять пиастров, получайте и купите новый.
Хаджи принял с великой благодарностью.
— Да благословит вас господь, — проговорил он жалобным голосом. — Ведь я отец семейства, должна же остаться мне какая-нибудь прибыль…
Лошади были готовы. Вполне удовлетворенный расплатой по предъявленному счету, хаджи Исах почтительно шел впереди, держа в руке огарок свечи. Смешно было смотреть на этого полуголого старика, который был богатым владельцем, постоялого двора и в то же время жалким прислужником.
Простившись с ним, Аслан сказал:
— Я забыл спросить у вас, вы армянин?
— Нет, господин доктор, я протестант!..
Глава 29.
ТАРОН
Мы ехали всю ночь.
На рассвете пред нами открылась прекрасная Мушская долина — исторический Тарон. Сердце мое затрепетало от восторга. Сколько чудесных рассказов Аслана, сколько глубоких и горячих чувств моих связано с этими местами!
Пред нами раскинулась обширная долина, окаймленная высокими горами. Еще с древнейших времен долина эта являлась ареной величайших событий в жизни армянского народа.
Тарон!
Как дорого мне твое имя, как приятно оно моему слуху! Ты некогда был оплотом и щитом южных границ Армении, о твои твердыни разбивалась и рушилась ярость арабов и мощь Ассирии, не раз твои поля орошались кровью твоих сынов и твоих недругов!
Я взглянул на своего спутника Арпиара. Восторженный юноша, подобно мне, взирал глазами влюбленного на великолепную Мушскую равнину. Его большие голубые глаза, казалось, желали охватить разом все необъятное пространство. Он был еще совсем юн, быть может, недавно расстался со школьной скамьей. Его темнокаштановые волосы роскошными кудрями выбивались из-под сероватой шапки. Бледное, грустное лицо было несколько женственным. Он ехал молча. Казалось, он находился в каком-то самозабвении… Поводья повисли, плетка выпала из рук. Лишь изредка он машинально давал шпоры коню.
Бедный юноша, о чем он думал, что он переживал? Аслан обещал рассказать мне о нем. Я сгорал от нетерпения узнать, кто он.
Когда мы проезжали мимо деревни Ацик, он обратился ко мне со словами:
— Один из наших историков, Фавст
[145], жителям этой деревни дал прозвище «карчазатк», что означает «сыны скорпионов». В древние времена жители Ацика отличались безнравственным образом жизни, особенно женщины. Наложница Пáпа, сына католикоса Усика, была из этой деревни. С тех пор минуло шестнадцать столетий, но жители Ацика и по сие время не изменили прежнего образа жизни. Тем не менее Ацик дорог сердцу каждого армянина, как родина Месропа Маштоца
[146].
Выехав из деревни, мы увидели вдали двух всадников. Их провожала группа крестьян, очевидно, всадники провели ночь в этой деревне. Проводив некоторое расстояние, крестьяне подошли к одному из них, приложились к его руке и, получив благословенье, разошлись по домам. Несомненно, это было духовное лицо.
Мы ехали на некотором расстоянии от них. Но вот они замедлили ход, чтоб дать нам возможность догнать их.
Поравнявшись с ними, мы увидали европейца духовного звания. Ему можно было дать лет под сорок, но борода уже начинала серебриться. Лицо его мне очень понравилось, — веселое, смеющееся, словно говорило всем: «Я давно вам друг!» Голова его была покрыта черной мягкой шляпой с широкими полями, длинная, застегнутая до самых пят, одежда также была черного цвета. Другой, по-видимому, был его слуга или проводник.
При виде нас на лице священнослужителя отразилось смущение, но быстро исчезло. Аслан также переменился в лице. Что это могло значить? В далекой Азии, в Мушской долине, повстречались два европейца и вместо того, чтоб обрадоваться друг другу, и тот, и другой смутились, даже ужаснулись, словно увидели змею или скорпиона.
— Вы господин, вероятно, направляетесь в Муш? — спросил он на ломаном турецком языке.
— Да.
— Выходит, мы попутчики, Я еду в ту деревню, — и он указал вдаль.
Аслан заговорил по-французски. Я не понял ничего, но заметил, что спутник наш повеселел, стал смеяться и болтать. Очень скоро мы сблизились. Он остановил слугу, приказал достать из хурджина бутылку с коньяком, сперва отведал сам, затем предложил и нам. Слуга, знакомый с привычками хозяина, вынул из хурджина огурцы и предложил нам.
— Это освежает, — заявил он.
Арпиар за все время не проронил ни слова. Он внимательно осматривал нового спутника. По всему было заметно, что ему знаком язык, на котором велся разговор: частые подергивания его лица выражали глубокое презрение…
Я принялся вновь созерцать роскошную Мушскую равнину. Нигде не виднелось ни вершка невозделанной земли. По всем сторонам, вселяя в душу восторг, волновались золотистыми волнами зреющие нивы. Направо высились горы Гргур и Немрут с длинным рядом скал, напоминающих окаменелых верблюдов («Верблюжьи камни» — зовут их местные жители). Мне пришли на память легендарные героические подвиги вавилонского бога Бэла и нашего праотца богатыря Айка… Налево — горный кряж Тавра с высокими горами Хута, по ту сторону которых шатахцы вступают в единоборство с хищниками. А перед нами в камышах реки Мегри скрывались легендарные руины города Одз. Куда ни глянешь — всюду незабвенные памятники нашей родины, столь близкие моему сердцу; они наполняли мою душу чувством священной гордости при воспоминании о нашем славном прошлом и в то же время вызывали в душе моей безысходную скорбь при виде горестного настоящего…
Желая всех втянуть в беседу, спутник-иностранец заговорил по-турецки. Приняв Аслана за путешественника, незнакомого со страной и ее историей, он принялся рассказывать о прошлом Тарона, разумеется, главным образом о различных религиозных событиях, и притом в искаженном и превратном толковании.
— В этой стране сохранилось много воспоминаний о чудесах, которые творил отец наш св. Григорий Просветитель. Он отправился в Кесарию и там был рукоположен в первосвященники Армении патриархом Гевондом, последний подарил ему много святых мощей, чтоб он по возвращении на родину разрушил капища и построил христианские храмы. Пара белых мулов везла тележку, в которой лежали мощи св. Иоанна Предтечи и св. Афиногена патриарха. Когда достигли Тарона, переправились через Евфрат и подъехали к горе Карке, по повелению господа мулы остановились. Григорий Просветитель уразумел, что тут должно воздвигнуть храмы. Однако на вершине горы имелось много кумирен, где обитали бесы. Просветитель сотворил крестное знаменье — кумирни низверглись и бесы исчезли. Тут он воздвиг монастырь во имя св. Предтечи и поместил в нем часть привезенных мощей. Из бесов остался лишь один, который и поныне служит в монастыре.
— А что он делает в монастыре? — прервал его Аслан.
— Подбирает золу из торен монастыря, невидимыми подземными ходами уносит и сбрасывает ее в реку Евфрат. Зовут его «хромой бес»: когда рушились кумирни, камень перебил ему ногу. Просветитель простил его, ибо он раскаялся в прегрешеньях своих.
— А какой национальности был Просветитель?
— Он был католиком, да, правоверным, благочестивым католиком. После посвящения в первосвященники он отправился в Рим вместе с армянским царем Трдатом на свидание с царем Константином и папой Сильвестром. В Риме им был оказан царский прием. Там он подписал акт унии
[147] и дал обет папе быть верным навеки святому римскому престолу. Царь Константин по-царски одарил подарками Трдата, а папа вручил Просветителю патриаршьи дары — часть мощей апостолов Петра и Павла и шуйцу апостола Андрея. Сии святыни Просветитель схоронил в основанном им монастыре во имя апостолов.
И он указал, где находится монастырь апостолов.
— Все монастыри этой области основаны Григорием Просветителем, я хочу сказать — католические монастыри.
— Как не чтить и не поклоняться тому, кто обратил из язычества в христианство целый народ? В наших костелах выставлен образ Просветителя, мы намерены построить в Муше церковь его имени. Просветитель собственно принадлежит нам, а не армянам, которые сошли с указанного им пути.
Во время всей беседы кроткое лицо священнослужителя сияло, глаза горели, его слабый голос крепнул. Аслан не ответил ни слова. Видимо, ему тяжело было продолжать щемящую сердце беседу…
Было далеко еще до полудня, но солнце пекло невыносимо. Священнослужитель раскрыл черный зонт над головой и погрузился почему-то в задумчивость.
На полях жали хлеб. Группа крестьян с песней шла за главным жнецом. Лязг сверкавших на солнце серпов, сливаясь с грустной песней, производил томительное, гнетущее впечатление. Почему так грустна здесь песнь поселянина? Кто лишил его радости? Кто разбил его сердце, исторгающее столь скорбные звуки?.. Когда мы подъехали к жнецам, главарь воткнул серп в один из снопов, схватил его, как перышко, и положил перед нами у самого края дороги, а сам застыл в ожидании, обратив на нас обожженное солнцем лицо. Священнослужитель достал из кошелька серебряную монету, подарил жнецу. Тот поблагодарил и продолжал стоять, пока мы не проехали.
— Если б вы знали, господин доктор, какой это добрый народ, сколько сохранилось в нем прекрасных патриархальных обычаев. Я положительно влюблен в этих людей. — И он принялся объяснять смысл подарка жнеца.
— Я очарован образом жизни крестьян той деревни, которую мы миновали несколько часов тому назад, — продолжал священнослужитель. — Каждый раз, когда мне приходится бывать в этой деревне, они собираются вокруг меня, с жадностью слушают мое душеспасительное слово, от радости не знают, как отблагодарить меня: целуют мне руки, края моей одежды… Сколько в них простоты и чистосердечности, господин доктор!
Речь шла о «сынах скорпионов» деревни Ацик.
— А много у вас здесь последователей? — спросил Аслан.
— Пока несколько семейств. Но я надеюсь, в скором времени число их увеличится.
— А в других деревнях?
— Деревни Норашен, Огунк и Аринч — полностью католические. В другие деревни католицизм начинает проникать впервые. Мы лишь недавно прибыли в эти края. До нас здесь проповедовали лица совершенно иного религиозного культа.
Мы приблизились к берегу Мегри.
Показались зеленые луга. Они тянулись далеко-далеко по течению реки, вплоть до ее слияния с Евфратом. Кое-где попадались густые заросли камышей. В этих зарослях прежние хозяева Тарона, княжичи нахараров Слкуни, охотились на кабанов. Впоследствии, при первом царе из династии Аршакуни — Вагаршаке, нахарары-охотники Слкуни были назначены начальниками царской охоты. При царе Трдате Слкуни подняли восстание против династии Аршакуни, их род был уничтожен изменившим им китайским князем Мамгуни. Трдат подарил Тарон Мамгуни, который положил начало великому нахарарству Мамиконян. Все эти события, словно виденье, проносились перед моими глазами. Вот княжичи Слкуни на ретивых конях, с остроконечными копьями в руках быстро мчатся в густых камышовых зарослях реки Мегри; издали доносятся призывные звуки охотничьих рогов, но… открываю глаза и вижу католического священнослужителя, медленным шагом, молча едущего впереди…
На заливных лугах, простирающихся до самого Евфрата, паслись стада окрестных сел. Вдали мелькали деревни.
На краю дороги сидели крестьянские дети и играли в какую-то игру. Подле них паслись ягнята. Собаки, положив головы на передние лапы, внимательно следили не за ягнятами, а за игрой мальчиков. Когда пастушата завидели нас, один из них схватил ягненка и подбежал к нам. Подобно жнецу, принесшему нам в дар колосья, он протянул ягненка и, улыбаясь, смотрел на нас. Священнослужитель расчувствовался, поднес платок к глазам.
— Подойди ко мне, дитя, — и дал мальчику серебряную монету.
— Это тебе! А это раздай твоим товарищам, — сказал он, доставая из кармана целую пригоршню каких-то металлических вещиц.
Пастушонок поцеловал священнослужителю руку и весело побежал к товарищам.
Я оглянулся: среди детишек уже началась драка из-за маленьких медных крестиков с изображением богоматери.
Какая громадная разница между описанными выше и этими пастушатами! Те бросали каменья в распространителя книг священного писания, а эти целуют руку раздатчику металлических крестов.
Священнослужитель вновь заговорил с Асланом по-французски. Когда они отъехали немного, я спросил его прислужника.
— Кто он?
— Наш «Пресветлый», — ответил он с особой гордостью.
Я тотчас смекнул, что священнослужитель — новоявленный в этих краях иезуит-проповедник, о котором я много слышал. Но почему заносчивый слуга назвал его «пресветлым», когда этим титулом армяне-католики величают только епископа?
— А ты сам армянин?
— Боже упаси! — отвечал он, крестясь, — я — «франг».
— А ты знаешь франгский язык?
— При чем тут франгский язык? — грубо спросил он, — я франгской веры.
Он не знал, что «франги» (французы) особый народ, что у них свой язык; он был уверен, что «франг» — название религии. Арпиар слушал с неудовольствием.
— А ты сам откуда?
— Из той деревни, откуда мы выехали, — и он указал на деревню «сынов скорпионов», о которой так одобрительно отзывался его «пресветлость».
— А мать и отец твои тоже франги?
— Нет, они «раскольники».
— Разве они не армяне?
Слуга возмутился.
— Ничего ты, братец, не смыслишь! — сказал он, отвернувшись, — раскольник — это армянин, армянин — это раскольник! Какая разница? Не все ли равно?
— Большая разница! — ответил я и, для пояснения разницы, поднял на него плетку, но Арпиар мигнул мне глазом, и я сдержал себя.
Слуга отъехал прочь.
— Ну и негодяи! — заметил Арпиар, — не хотят называть себя католиками. В других районах, когда армяне-католики отрекаются от своей национальности, по крайней мере, не называют себя «франтами». Именно в этом и заключается вредоносная работа иезуитов: они стремятся латинизировать национальность, уничтожать национальное чувство…
Католик-священнослужитель остановил лошадь и распрощался с Асланом.
— Глубоко сожалею, господин доктор, что я принужден лишиться столь приятных спутников: мне необходимо заехать в эту деревню, чтоб навестить больного.
— Да, это будет поважнее, — улыбнулся в ответ Аслан. — Прощайте, отец.
Мы продолжали путь. Аслан ехал впереди, погруженный в раздумье. Мы с Арпиаром вновь вернулись к начатому разговору об армянах-католиках.
— Удивительно грубый народ эти армяне-католики! — сказал я, вспомнив неприятное впечатление, произведенное на меня слугой иезуита.
— Они грубы и дерзки только в обращении с армянами, — ответил Арпиар, — а с иностранцами смиренны, словно рабы. В них настолько сильна ненависть к сородичам, что при встрече с армянином не могут сдерживать себя, забывают всякую учтивость. Иностранцу они простят всякого рода ересь, армянину же, не стесняясь, бросят в лицо: «раскольник, иноверец, еретик» и тому подобное. Все это результат деятельности католического духовенства.
— Рассорить братьев, посеять среди них вражду!..
— Да, непримиримую вражду! Надо принять во внимание, что эти люди были всегда невежественны и не отличались чистотой нравственных устоев. Возьмите любого армянина-католика, принявшего недавно новую веру, изучите его прошлое — вы, несомненно, отыщете в его прошлом грязное пятно. Только люди с грязным прошлым сближаются с иезуитами, и только при помощи подобных лиц действуют иезуиты. Любой негодяй может найти у них защиту. А почему? По той простой причине, что с их помощью легче сеять раздор и вражду среди мирного населения, восстанавливать детей против родителей и т. п. А из распрей они хорошо умеют извлекать выгоду. Возьмите слугу католического священнослужителя, который вступил с вами в пререкания. Он бывший виноторговец, не раз объявлял себя банкротом, не раз ускользал от кредиторов. А теперь он поступил в услужение к иезуиту: он и повар у него, и его сподвижник. Вы можете видеть его зачастую в поварском переднике спорящим на улице с прохожими о чистилище или о том, что папа является преемником Иисуса Христа, хотя он на самом деле грубый и пошлый невежда. То же самое я наблюдал и в Битлисе среди армян-протестантов. Все они одного поля ягоды. Эти иностранные проповедники повсюду сбирают вокруг себя подонков общества, накопившуюся грязь и мразь. Хотя бы помогли очиститься от скверны… Они дают своим последователям лишь новое имя, а скверна остается… Разве имя может изменить нравственный облик человека? Только вчера он был армяно-григорианином, а сегодня его уже называют армяно-протестантом пли армяно-католиком, — человек ведь остается тем же!..
Губы моего юного собеседника дрожали, голос прерывался; видно он переживал все это, видно глубокие язвы армянского общества служили предметом его постоянных размышлений. Удивительно, как схожи были рассуждения незнакомого мне юноши с рассуждениями Джаллада! Казалось, и тот и другой стремятся к одной цели, протестуют против одних и тех же пороков. Джаллад, как выяснилось впоследствии, был протестантским священником. Но кто был юноша, присоединившийся к нам в Битлисе? Аслан не сказал мне о нем ни слова. Когда он начинал говорить, я краснел перед ним. Он был еще в юношеском возрасте, но обладал такими обширными познаниями, так много разумел!.. А я… Я пока ничего, ничего не знал…
Дорога, в особенности длинная, скучная дорога, располагает людей к разговору. Притом затронутый нами вопрос был настолько значителен, что мы не исчерпали б его и за целые годы. Со дня сотворения мира люди спорят о религии и будут спорить до скончания мира.
Мы вновь завели разговор о проповедниках-иностранцах.
— Они, мне кажется, не похожи на своих последователей — они довольно добродушные, благовоспитанные и культурные люди.
— Да, — ответил он улыбнувшись, — так только кажется с виду, но познакомьтесь с ними короче и вы убедитесь, что это за чудовища! Вы только что познакомились с одним из них. Какой он кроткий и смиренный, какие у него медоточивые уста! Но ведь он вливает в душу последователей, капля за каплей, яд и незаметным образом отравляет их!
— Однако между ними и протестантскими миссионерами существует значительная разница!
— Разница только в том, что протестантские миссионеры полны высокомерия, смотрят свысока на низших по положению и даже в проповеди евангельского учения хранят свойственную англичанам грубую кичливость. В этом именно и кроется причина, что они не пользуются успехом. Не таковы иезуиты. Они просачиваются во все щели, приспособляются ко всяким обстоятельствам и потому они — более опасный и вредный элемент. Миссионер-протестант в работе держит себя барином и любит чужими руками жар загребать. Иезуит, наоборот, в работе сам и хозяин, и работник.
— По вашему, они могут причинить какой-либо вред местному населению?
— Ну, разумеется! Раз они способны приносить вред людям культурного общества, людям, которые знают их и в состоянии бороться с ними, то здесь, среди жалкого, безграмотного и беззащитного населения, пред ними открывается широкое поле деятельности. Все полчища варваров, совершавшие в течение ряда веков нашествия на Тарон, не причинили стране столько вреда, сколько в состоянии принести этот смиренный и кроткий священнослужитель, направляющийся в деревню к больному с проповедью христианской добродетели…
Мы увлеклись разговором и порядком отстали от Аслана. Я попросил собеседника поторопиться, но он не слушал меня. Его горящие пламенем глаза блуждали по необъятной равнине Тарона и, казалось, искали чего-то. Он был бледен, губы сжаты… Он забыл о моем присутствии и говорил сам с собой.
— Тарон, любимая моя страна! Какие только народы не проходили то твоей земле, кого только ты не поил и кормил, укрывал в своих неприступных крепостях! У тебя нашли прибежище Адромелик и Санасар, сыновья ассирийского царя Сенекерима, отцеубийцы, привезшие с собой и свои божества, и своих слуг. Ты возлюбил гостей-чужестранцев, но чуждых богов отверг. Ты наложил свою печать на прибывших гостей и обармянил их. От них пошло могучее нахарарство Арцруни. Ты приютил китайского княжича Мамгуни, бежавшего от царского гнева. Он отдался под твою защиту. Он также привез с собой свою веру, свои обычаи. Ты обармянил его, и он положил начало великому нахарарству Мамиконян. Ты дал убежище индийским княжичам Демитру и Гисане; спасаясь от гнева своего владыки, они прибегли к твоему великодушному милосердию и привели с собой толпы переселенцев. Ты даровал им места для жительства; они построили город Вишап и на высотах горы Карке воздвигли храмы. На борьбу с Просветителем выступило из этих храмов 6946 человек, преимущественно жрецов. Но ты, Тарон, всех их обармянил, и чернокожие индусы растворились среди местного населения. В течение ряда веков много мужей великих с великими силами вступали в землю твою священную, но все они сливались с кровными твоими детьми. А теперь, милый Тарон, по полям твоим бродит человек в черной рясе и с черным сердцем. Он также беглец из своей страны, изгнавшей его, он также ищет гостеприимства в лоне твоем. Отчизна не могла переварить его присутствия и извергла из нутра своего. Он направился в чужую страну, чтоб укрыться среди неведомого народа. При себе он не имеет оружия, но он вооружен хитростью, его карманы полны маленькими медными крестиками…
Я страшусь этого человека, дорогой Тарон!..
Глава 30.
АРМЯНИН-КАТОЛИК
Солнце еще не опустилось за горизонт, когда мы подъехали к подножью Тавра, именуемого Сим-горой. Вдали, на южной стороне одноименной равнины, виднелся город Муш. Он был расположен на широко раскинутом высоком холме и печально озирал простиравшуюся перед ним равнину. Спускавшиеся с вершины холма виноградники, вперемежку с домами жителей, оживляли грустную картину. Всюду царила вечерняя тишина, нарушаемая рокотом шумной, брызжущей пеной реки, которая, извиваясь перед городом, текла дальше и вливалась в Мегри. Слышался глухой грохот мельниц, длинной вереницей тянувшихся вдоль реки.
Очаровательная картина! Чуткий к красоте Тавр, словно боясь нарушить прелесть Мушской долины, изогнулся, отступил, оставив здесь лишь широко раскинутый холм для основания города. Окидывая взором этот холм, можно было видеть весь город со своими мечетями и церквами. У самой вершины стояла древняя полуразрушенная крепость. А у подножья горы тянулись обширные табачные плантации — источник благосостояния жителей города.
Грустно было мне подъезжать к городу. Быть может потому, что из многолюдных и богатейших городов Тарона уцелел лишь один, да и тот производил впечатление большого села. Не существовало более города Кав-Кав, с неприступной крепостью Вохакан, города Дзюнакерт, восстановленного военачальником Вахтангом и прозванного именем супруги его — Порпес, не существовало города Одз с грозной крепостью, построенной сыном Ашота-мясоеда Давидом Багратуни не существовало города Вишап, основанного при Вагаршаке индийскими переселенцами и называемого иначе Тиракатар, не существовало и города Мцурк, построенного царем Санатруком. И все они исчезли с лица земли, остался лишь осиротелый Муш, мрачно глядевший с высоты холма.
Когда мы,
поднявшись по крутому холму, подъехали к городу, Арпиар предупредил нас не останавливаться в гостинице: наученные горьким опытом пребывания в битлисской гостинице, мы согласились с ним и решили подыскать более удобное помещение для ночлега.
— При городских церквах имеются свободные комнаты для странников, можно выбрать любую, — посоветовал нам Арпиар.
— Вы думаете, там лучше, чем в гостинице?
— Во всяком случае — не хуже. В церковных комнатах мы будем в уединении, а в гостинице — у всех на виду, среди разношерстной публики.
Мы подымались по извилистой дороге все выше и выше. С полей возвращались крестьяне с заступами на плечах, из садов и виноградников шли садовники с гружеными корзинами на ослах. Пыль стояла столбом, трудно было дышать. Но более всего донимали нас ослы. Упрямые животные часто артачились, не трогались с места и преграждали нам дорогу или же бросались в сторону и задевали нас груженными виноградом корзинами.
Наконец, мы въехали в одну из узких улиц. Трудно было пробираться вперед: все смешалось в кучу — люди и животные. Улицы были проложены на склонах холма, по подъему, поэтому казалось, будто мы поднимались по лестнице… Армянские кварталы расположены отдельно от магометанских. Это показывало, что между ними не было добрососедских отношений. Мы направились в армянскую часть.
Вечерняя служба только что отошла, и народ выходил из церкви, когда мы въехали на церковный двор. Нас окружили прихожане. Появился и ктитор, жиденький мужичонка с широкой, седоватой бородой, покрывавшей всю его грудь, плечи, доходившей до самых ушей и затем пропадавшей под грязной синей фреской. Борода его напоминала распущенный индюшачий хвост, сквозь который виднелось маленькое жалостливое лицо с беспокойными узкими глазами.
На наш вопрос, имеются ли комнаты для ночлега, ктитор ответил: «Посмотрим», — и исчез среди прихожан. Казалось, будто он теперь только должен был узнать, есть у них комнаты или нет.
Долго пришлось ждать прихода его. Наконец, на другом краю двора мы заметили, что борода совещается с попом. После таинственных переговоров священник соизволил выйти к гостям. Медленно ступая и отдуваясь, он подошел к нам. Если правду гласит народная поговорка: «Дармовой хлеб впрок идет», следует признаться, что он оказал на батюшку весьма благотворное влияние. Концы рук, едва сходившихся на громадном животе, с трудом перебирали черные костяшки четок, к которым, очевидно для благолепия, священник примешал и красные. Не в пример ктитору, борода у него была реденькая, щеки, цвета темного кирпича, лоснились от жиру, налитые кровью глаза того и гляди готовы были выпрыгнуть из орбит. К вящему нашему удивлению, из этой громадной туши послышался детский, едва слышный голосок:
— Добро пожаловать, ваше степенство… Говорится… Пасха раз в году, да и та на снегу… У нас в церкви-то… гостей давным-давно не бывало. А сегодня пожаловали, а комнат нету… Комнаты-то были, да по нашим грехам в прошлом году дожди зачастили… крыши-то и отвалились… Так и стоят… и почитай будут стоять…
Пришептывая, тяжело отдуваясь, батюшка еще не скоро б закончил свои объяснения, но его прервал подошедший прихожанин.
— Ваш покорный слуга, — обратился он к нам, — живет недалеко от церкви, если соблаговолите оказать мне великую честь, переночуйте сегодня под моим кровом.
Мы с удовольствием изъявили согласие; он повел нас к себе.
Вслед за нами раздался гул голосов. Посыпались упреки. Видно, прихожане теребили попа:
«Почему обманул!.. Почему налгал!.. Осрамил нас, как есть, пред чужестранцами… Церковные комнаты наполнил ячменем, и говоришь, что потолки обвалились…»
— Скажите, — обратился я к гостеприимцу, — ваш батюшка также мямлит во время богослужения?
— Нет, глотает бóльшую часть слов, — с улыбкой ответил он, — если б он произносил все слова — пиши пропало!..
Мы вошли в довольно уютный домик с маленьким садиком. Хозяин пригласил нас в чистую комнату, обставленную в восточном вкусе.
— Будьте, как у себя дома, — сказал он, — а я пойду распоряжусь насчет ужина.
Здесь, как и во всех местных городах, в обеденное время завтракают, а по вечерам — обедают. Жители, занятые весь день на базаре, возвращаются домой лишь к концу дня.
После ужина подали кофе. Наш хозяин оказался человеком зажиточным, имел обширные табачные плантации.
Арпиар, разлегшись на миндаре, молча курил, отдыхал после беспрерывной утомительной езды. Аслан что-то искал в своей папке. А мои мысли были заняты бородачем-ктитором и толстопузым священником.
Я спросил хозяина о причине шума, поднятого на церковном дворе после нашего ухода.
— Не стоит и говорить об этом, — ответил он, с презрением пожимая плечами, — разве вы не знаете, что за птицы попы…
Наш хозяин оказался человеком довольно серьезным и степенным. Аслан завел с ним беседу о городе: сколько в нем жителей — христиан и магометан, сколько церквей и школ. Хозяин сообщил довольно точные сведения.
— А каковы ваши взаимоотношения с магометанами?
— Какими же они могут быть? — грустно ответил он, — нас грабят — не протестуем, поносят — молчим, плюют нам в лицо — переносим… Вот как мы живем. А говорят, что армяне и турки — народ уживчивый, умеют ладить друг с другом.
Арпиар привстал и обратился к хозяину:
— Данные вами цифры весьма интересны. Скажите, сколько домов числится в городе?
— Приблизительно около 2500, из них тысяча армянских, остальные — курдские и турецкие.
— А сколько деревень в Мушской долине?
— Около 100 с армянским населением, 8 или 10 с курдским.
— В армянских деревнях в среднем по скольку домов?
— В каждой около 70.
— Следовательно, 100 деревень и 7000 домов,
— А в каждом доме по скольку душ, можно прикинуть?
— По десяти.
— Не слишком ли много?
— Нет, в наших деревнях есть семьи, состоящие из 20, 30 и более душ.
— Следовательно, всего в Мушской долине 100 армянских деревень, 7000 домов с 70 000 жителей. Если прибавить 1 000 домов городских жителей, получится 80 000.
— Но вы спросите, сколько из них в действительности проживает на родине. Почти половина живет в чужих краях,
— А чем они занимаются?..
— Работают в качестве таскалей…
— Несчастный Тарон! — с горечью воскликнул юноша, — Твои сыны раньше в чужих краях короновались царями, а теперь перебиваются таскалями…
Наш хозяин широко раскрыл глаза от изумления.
Удивился и я.
— Вы удивлены? — обратился к нам Арпиар. — Знаменитый греческий император Василий, вступивший на престол в 867 году в Константинополе, происходил из деревни Тил Таронской области. Внук его, Константин Порфирородный также прославился, как и дед, и написал его историю. Армения дала много военачальников и императоров Риму и Византии, теперь же ее сыны — таскали!..
Его бледное, освещенное светильником, лицо покрылось легким румянцем. Он вынул из-за пазухи маленькую книжечку, подобно протестантскому проповеднику, достающему при всяком случае свое карманное евангелие. Руки его заметно дрожали. По-видимому, цифровые данные хозяина разбередили его давнишние раны. Все смотрели на него. Он перелистывал книжечку и заносил карандашом на бумажку свои соображения.
— Какая громадная разница!.. Это ужасно!.. — произнес Арпиар, закончив свои пометки.
Аслан с восхищением глядел на него, как глядит старший брат на меньшого, радуясь его успехам.
— Один из наших древних историков, Зеноб Глак, — обратился юноша к нашему хозяину, — оставил интересные цифровые данные, из которых можно заключить, насколько густо был населен Тарон в прежние времена и как сильно уменьшилась теперь численность, населения. Нужно принять во внимание, что Зеноб Глак был современником Григория Просветителя и одним из самых выдающихся его епископов, которого Просветитель назначил первым настоятелем монастыря во имя святого Предтечи в Тароне. Зеноб Глак был сотрудником Просветителя при построении монастыря, поэтому воздвигнутая ими обитель стала называться также обителью Глака. Монастырь этот существует и поныне и является одним из наиболее знаменитых не только в Тароне, но и во всей Армении. Он занимает второе место после Эчмиадзинского. Быть может вам известно, что кумирня, стоявшая до монастыря, воздвигнутого во имя святого Предтечи, была построена в незапамятные времена выходцем из Индии, а разрушена она только при Григории Просветителе. Но главное не в этом. В свое время вокруг кумирни существовало двенадцать принадлежавших ей деревень. Когда на месте кумирни был выстроен монастырь, Просветитель оставил эти деревни за ним, как бы в наследство. К сожалению, Зеноб Глак в своей книге упоминает лишь о семи деревнях из числа двенадцати. Но приведенные данные весьма показательны для уразумения статистики того времени. Я назову эти деревни, укажу, сколько в каждой было домов и какое количество воинов выставляла каждая деревня в случае войны.
Он стал читать выписки, занесенные им на бумажку.
1. Кваре имел 3012 домов, 1500 всадников и 2260 пеших. 2. Мегди — 2080 домов, 800 всадников, 1030 пеших. 3. Хортум — 900 домов, 400 пеших. 4. Хорни — родина нашего Мовсеса Хоренаци — 1906 домов, 700 всадников, 1008 пеших. 5. Кехк — 1600 домов, 800 всадников, 600 пеших. 6. Парех — 1680 домов, 1030 всадников, 600 пеших. 7. Базум — 3200 домов, 1040 всадников, 8040 лучников, 600 копейников, 280 пращников.
— Итак, в 7 деревнях имелось 14 378 домов. Если в каждом дому принять по 10 душ, как мы считали в нынешней Мушской долине, получим 143.780 душ. Следовательно, только в семи деревнях древнего Тарона было жителей на 63 780 больше, чем в нынешнем Тароне, со всеми его деревнями и городом Мушем. Да, поразительная, ужасающая разница! — повторил Арпиар, — просто не верится! Но ведь сколько еще деревень, сел и городов существовало в те времена в Тароне! Я верю статистическим данным Зеноба, он весьма правдивый историк.
Он умолк. Мрачной тенью заволокло его ясное лицо!
— Упомянутые семь языческих сел выставляли 20 708 пеших и конников. Довольно внушительная сила для одной кумирни! Только для одной битвы с Григорием Просветителем жрецы выставили рать в 6946 воинов. Вот почему великая религиозная революция в Тароне совершилась не без пролития крови!
Наш хозяин слушал восторженного юношу с глубоким вниманием. Меня также весьма заинтересовали приведенные им сведения о Тароне.
Аслан нашел письмо, которое он искал, и показал его хозяину.
— Вы знаете этого человека? — спросил он, прочитав адрес.
На серьезном лице хозяина мелькнула легкая улыбка.
— Адресат — это я, — ответил он, взяв письмо. — Вам вручили его в Ване?
— Да, мосульский торговец кожами ходжа Торос. — Хозяин поднес письмо к свету и стал читать.
— Письмо, как видно, запоздало, — сказал он, прочитав его. — Но я до этого получил от ходжи Тороса другое, почти такого же содержания.
— Стало быть, вы узнали нас на церковном дворе?
— Ну, разумеется. Я ждал вашего приезда.
— Значит, все приготовили, о чем писали вам?
— Всё в точности.
— Весьма благодарен, — сказал Аслан, протянув ему руку. — Завтра утром я поеду в Астхаберд, а оттуда в монастырь Апостолов. Вернусь опять к вам, а там буду продолжать путь…
— До вашего приезда все будет готово, — повторил хозяин.
Глава 31.
АСТХАБЕРД
На другой день рано поутру мы отправились в Астхаберд с одним из слуг хозяина. Арпиар остался у него для каких-то дел.
Я всегда испытывал чувство радости, когда Аслан брал меня с собой для осмотра древних крепостей.
Руины производили на меня сильное впечатление. В них я видел воспоминания былой славы и могущества, прошлую жизнь князей, их обычаи, отношения меж собой и с чужими.
Заманчиво было и само название крепости — Астхаберд! По предположению Аслана, первоначальное название этой крепости было Астхка-берд
[148].
Дорога извивалась по ровному полю. Мы ехали верхом, а наш проводник шел пешком впереди.
Только теперь представился мне случай заговорить с Асланом об Арпиаре. Этот юноша сводил меня с ума; я не знал, кто он, откуда и с какою целью прибыл в Муш. Из немногих слов Аслана я узнал, что он коренной житель Трапезунда, учился в Венеции, в монастыре мхитаристов
[149], изучал историю, главным образом, армянскую, армянский язык, знал несколько древних и новых языков. Но всего удивительнее — он был армянин-католик и в то же время с такой горечью говорил об армянах-католиках!
«Второй Джаллад» — думал я. — «Тот, будучи армянином-протестантом, возмущался антинациональными склонностями армян-протестантов, а этот — армянин-католик негодует против антинациональных устремлений армян-католиков. Но Джаллад был священником… Быть может, и этот какой-нибудь новопосвященный монах!».
— Нет, — разрешил мои сомнения Аслан, — вначале, правда, он дал обет вступить в духовное братство, но потом раздумал.
— Он останется здесь?
— Да.
— С какой целью?
— Будет работать среди армян-католиков.
— Он послан сюда мхитаристами?
— Нет, он человек вполне независимый, притом получил от отца порядочное наследство.
— А иезуиты не будут преследовать его?
— Будут. Но если бояться преследований, не стоит и приниматься за работу. У него хватит храбрости и мужества для дела.
В течение двух часов мы ехали на восток по возделанным полям и живописным зеленеющим долинам. Но вот вдали показался Астхаберд. Он стоял на одном из отрогов Тавра и, казалось, бросал гневные взоры на простиравшиеся перед ним обширные равнины и глубокие ущелья… Сердце во мне затрепетало. Мы подъезжали к крепости армянской богини! Именно здесь принимала богиня Тарона нашего непобедимого великана Ваагна. Здесь, в объятиях красавицы-богини, вкушал он отдых после ужасных битв с вишапами. Любовь и ласка легко утоляли истому доблестного мужа.
Мы подъехали к подошве горы. Проводник остался при лошадях, а мы поднялись на гору. Большая часть крепостной стены и несколько огромных башен сохранились в целости. Но внутренние строения представляли печальную картину разрушения. Перед нами предстали подземные комнаты с каменными стенами, пещеры, наполовину засыпанные землей. По всему было заметно, что не время постепенно сокрушало и превращало в развалину эту чудесную крепость, а она пала жертвой ужасающего внезапного разрушения. Местами из-под земли выглядывали концы обуглившихся бревен — следы всепожирающего огня.
Аслан присел на камень, поросший зеленым бархатистым мохом, и предложил мне сесть рядом с ним. Лучи солнца освещали его задумчивое лицо. Я никогда не видел его в таком состоянии, он всецело был поглощен своими мыслями. Несколько минут он молча глядел на колючий терновник, выглядывавший из щели разрушенного пьедестала колонны и покрывавший своими мелкими листочками его изумительно красивую резьбу. Затем он обратился ко мне со словами:
— Я привел сюда тебя, Фархат, не для того, чтобы показать крепость, но с совершенно иной целью. Крепостей, руин мы видели много за наше путешествие, и ты мог составить по ним понятие о нашей родине. Я привел тебя сюда, чтоб на месте происшествий рассказать о том, что до сих пор скрывал от тебя, о чем ты горел желанием узнать. Ты должен знать все, так как скоро мы расстанемся…
Последнее слово стрелой вонзилось мне в сердце. Я вздрогнул всем телом. Расстаться с Асланом, кого я уважал, кого я так любил, кто оказал сильное влияние на мой характер и на мое развитие — было ужасно!
— Я не буду передавать тебе древних сказаний и народных преданий об этой крепости. Скажу только, что крепость принадлежала армянским князьям Тарона, а затем была разрушена во время арабского нашествия на Армению племянником Магомета Абдурагимом. Дальнейшая судьба крепости мне неизвестна. В последнее время ее восстановил и проживал в ней наш общий благодетель — охотник Аво.
При имени охотника Аво я не мог сдержать себя: ведь я сидел на руинах, некогда принадлежавших честнейшему и благороднейшему человеку!..
— Это его крепость? — воскликнул я, — здесь произошла та ужасная резня, уничтожившая всю семью его? Здесь он сделался жертвой изменников-сородичей и пал под ударами вражеских сабель? Я вижу следы пожара, вижу всё… всё…
— Да, именно здесь, — повторил Аслан растроганным голосом, — но местà жительства его менялись столь же часто, как и его злополучная судьба. Одно время он проживал в горах Сасуна, затем в Мокской стране и, наконец, здесь. Повсюду злоключения преследовали его, словно он был рожден для борьбы с тяжелыми условиями в течение всей жизни… Ты, Фархат, знаешь его прошлое, знаешь, кто он и в результате каких плачевных обстоятельств попал в Персию. Излишне повторять все это. Тебе известно и то, какую нищенскую жизнь вел в Персии властитель Астхаберда, скрываясь в неизвестности под именем простого охотника Аво. Но одно обстоятельство неизвестно тебе. Выслушай меня.
Я весь превратился во внимание.
— Ты, вероятно, помнишь, как я, Каро и Саго покинули одновременно школу тер Тодика и исчезли. Прошли года, и на родине никто ничего не знал о нас: все считали нас пропавшими. Но где находились мы тогда, что мы делали — ты не знаешь. Об этом именно я хочу поведать тебе, так как с этим связана другая благородная черта характера владельца крепости, охотника Аво.
Аслан на минуту приумолк, видно, он хотел привести в порядок воспоминания прошлого.
— Да… Как раз в то время, когда мы покинули школу тер Тодика, через Салмаст проезжал путешественник-американец, ученый старец, совершавший путешествие по Персии с научными целями. Из-за болезни он принужден был задержаться на несколько недель в Салмасте. Случайно познакомился с охотником. Последний, узнав, что ученый интересуется древностями, показал ему саблю, на которой было вырезано имя одного из древних халифов Багдада. Американец предложил ему крупную сумму за редкостное оружие. Охотник отказался от денег и изъявил желание подарить американцу саблю, если тот исполнит его просьбу. Просьба заключалась в следующем: американец должен был взять с собой на родину меня, Каро и Саго и там определить нас в школу. Все дорожные издержки и расходы на образование — до его завершения — брал на себя охотник.
— А откуда у него деньги? — прервал я Аслана.
— Во время разгрома крепости сокровища охотника зарыты были в земле и не попали в руки врагов. Спустя много лет, когда охотника считали уже погибшим, он отправил в эти края Мхэ; тот достал сокровища и переслал в Персию. Словом, деньги у него были. Старик-американец весьма охотно принял предложение охотника; ему доставило большое удовольствие привезти в Америку детей из темной, лишенной европейского просвещения, Азии и дать им образование. Я помню хорошо его слова, обращенные к охотнику: «Я возьму с собой этих милых юношей; они доставят моим соотечественникам больше удовольствия, чем вывезенные из Азии редкости». Охотник расцеловал нас и благословил.
Сердце мое затрепетало. Я испытывал чувство зависти: почему охотник не отправил и меня в страну техники, почему он оставил меня в школе тер Тодика, дал вконец притупиться моим способностям.
— Мистер Фишер, наш благодетель, был по национальности англичанин, член научного общества в Нью-Йорке. Прошло несколько месяцев, пока мы проехали Персию, Афганистан, Индию и оттуда морским путем доехали до Америки. Излишне говорить о том, какой отеческой заботой окружил нас в долгом и трудном пути добросердечный старик. Скажу только, что мы приехали в Нью-Йорк вполне здоровыми. В многолюдном американском городе мы вызвали большой интерес нашими костюмами, обликом и привычками. Ученый путешественник поместил среди собранных им в Азии коллекций — также и нас… Он организовал ряд лекций по поводу своего путешествия, и темой первой лекции явились — мы. Зал был переполнен слушателями. По одну сторону кафедры лектора сидели я и Каро, по другую — Саго и мальчик-армянин с острова Ява. Зрители смотрели на нас, как на вывезенных из неизвестной страны дикарей. Красноречивый путешественник рассказывал и указывал пальцем на нас… В начале своей лекции он описал мрак невежества Азии, необразованность и вытекающее отсюда плачевное состояние народа. Затем, перейдя к частностям, заговорил об армянском народе, о его историческом прошлом, о том, какую роль играли армяне при римских и византийских императорах, во время крестовых походов, в борьбе с магометанами и, наконец, о современных нуждах армянского народа.
Развивая свои положения, ученый-путешественник пришел к выводу, что армяне могут послужить прекрасным проводником европейской культуры в Азии. «Мы вступили в Азию, — сказал он, — с нашими миссионерами и евангелием — и тем самым вызвали у всех негодование, так как религиозные традиции в течение ряда веков пустили глубокие корни в народе. Мы задели нежнейшие струны его души и чувств и вызвали отвращение к себе, к тому свету, который мы желаем распространить в Азии. Миссионеры сослужили плохую службу: мы поселяли раздор в чужой стране. Попытаемся же помочь Азии, отправив туда настоящих апостолов знания и науки, и тогда, я уверен, они полюбят нас. Предоставим им свободу в вопросах веры. Азия — создательница религии, она создаст сама для себя новую веру, если будет необходимость». И он закончил лекцию словами: «Азия дала нам первоначальные научные сведения, а сама состарилась и застыла в неподвижности. Мы — ее передовые ученики — должны быть признательны нашему старому учителю. Возвратим ему сторицею полученное нами: пусть она вновь возродится и заживет новой и кипучей жизнью. С этой именно целью я привез из Азии сих юнцов, являющихся украшением нашего собрания». Гром аплодисментов потряс огромный зал. Четверо из присутствовавших подошли к лектору, пожали ему руку и заявили, что желают усыновить нас и дать нам образование. Меня взяла одна вдова, Каро — какой-то землевладелец, Саго — хозяин фабрики, а Рафаэла — так звали юношу из Явы — один ремесленник.
Мы разлучились, но по воскресеньям и праздничным дням встречались. Моя благодетельница оказалась весьма благочестивой и порядочной женщиной. Она получила от мужа солидное наследство, и оно должно было перейти к ее двум дочерям: одной исполнилось 16, а другой 18 лет. Девушки обладали чувствительным сердцем матери. Благочестивая вдова всячески старалась развлекать меня, чтобы я не испытывал тоски по родине. Когда же узнала, что я сирота с детских лет, она еще сильней привязалась ко мне. Она долго искала по всему городу и, наконец, нашла армянскую семью из Смирны: познакомилась, просила их почаще бывать у нас, чтоб я не чувствовал себя одиноким. Почти каждое воскресенье Каро, Саго, Рафаэл и члены этой армянской семьи сходились у нас за столом. Она просила нас говорить по-армянски, прислушивалась с удовольствием к нашей речи и находила наш язык весьма благозвучным; любила слушать наши песни и часто заставляла нас петь песню странника-армянина.
Крик твой слов сильней…
Крунк! Из страны родной
Старшая дочь подобрала аккомпанемент к песне, она играла на рояле, а мы распевали хором. Вдова, знакомая с английским переводом песни, глядела с участием на нас и утирала слезы.
Аслан расчувствовался, голос его дрогнул.
— Сперва мы учились в начальных школах, куда нас определил сам мистер Фишер. Мы все время находились под его покровительством, он заботился о нас и следил за нами. Дом его был для нас отчим домом. Раз, когда я заболел, добросердечный старик целыми ночами ходил на цыпочках около моей постели, поправлял подушки и менял мне белье. Когда мы закончили первоначальное образование, каждый из нас избрал специальность. Я — медицину, Рафаэл, любивший ремесла — механику, но Каро и Саго то и дело меняли специальности: наскучит им один род занятий, они берутся за другой. Такое непостоянство причиняло немало забот мистеру Фишеру и тем благодетелям, на чей счет они обучались. У нас вошло даже в поговорку: «Каро так же часто меняет специальность, как и рубахи». Саго был менее непостоянен. Каро дошел до крайности: оставил математику и поступил в военное училище. Затем бросил училище и стал заниматься земледелием на одной ферме. Когда спрашивали его, почему так поступает, он обычно отвечал: «Ведь нашей стране необходимо все это!» Таким образом, Каро многому научился, но каждый предмет знал поверхностно. Какая-то ненасытная жажда знаний толкала его к изучению всех наук. Саго, в конце концов, поступил в коммерческое училище и окончил его.
С Джалладом мы познакомились позже. Он обучался в духовном училище, куда его направили протестанты-миссионеры Зейтуна. Он был коренной зейтунец. Вначале он сторонился нас, но впоследствии подружился и часто бывал у нас. В школе он считался одним из первых учеников, и его не раз отправляли в окрестные деревни Нью-Йорка для пробных проповедей. Каро не любил его, но все мы уважали юного миссионера. «Что ни говорите, — твердил постоянно Каро, — от него поповским духом несет». Мистер Фишер советовал Джалладу оставить богословие и изучать другую науку, но тот не соглашался.
— И правильно поступал, — перебил я Аслана, — теперь его богословие уже не служит на пользу миссионерам, но нам оно крайне необходимо.
— Джаллад был миссионером-фанатиком, — заявил Аслан. — Но когда по возвращении на родину он воочию убедился в творимых миссионерами мерзостях, изменил отношение к ним. Вернемся к нашему рассказу!
Как-то раз входит ко мне вся в слезах сестра благодетеля Каро, попечительница приюта. Она была пожилая девица, давшая обет заменить утехи брачной жизни благотворением.
«Он исчез, — воскликнула девица и обессиленная упала в кресло, — три дня, как он не возвращался домой… Даже записки не оставил…» — и залилась слезами. В комнату вошла хозяйка с дочерьми. «Я перебывала у всех знакомых, — продолжала она сквозь слезы. — Никто ничего не знает… Я уверена, с ним что-нибудь приключилось… Ведь он любитель приключений». — Я побежал к мистеру Фишеру. Тот выслушал меня с удивлением. Затем ударил рукой по столу и промолвил: «Бьюсь об заклад, это неспроста!» «В чем же дело, скажите, прощу вас, я крайне беспокоюсь». Старик объяснил мне, что Каро за последнее время стал посещать различные круги общества — какие именно, старик не сказал. «Хотя и прискорбно, — добавил он, — но все же стремления его благородны». Неясные намеки еще более встревожили меня. Я бросился к Саго. Он был также ошеломлен поступком Каро. Он ничего не слыхал о нем, редко встречался с ним, а при встречах Каро постоянно бывал задумчив. Я был в недоумении. Прошел месяц, два, целый год — от Каро никаких вестей. Мы считали его погибшим. Но мистер Фишер был спокоен. Вдруг получаю от Каро письмо. И подумайте, откуда? Из Южной Америки! Тысячи извинений, что покинул нас, не простившись. Письмо чрезвычайно обрадовало меня. Пишет, что отправился на юг для изучения фермерских, сельскохозяйственных предприятий и для обследования условий жизни рабочих. Поступил к одному богатому землевладельцу в качестве управляющего, под рукой у него несколько сот рабочих. Когда я сообщил об этом мистеру Фишеру, он со свойственной ему доброй улыбкой ответил: «Каро хотел всему научиться, все испытать — ведь родине необходимо это!»
О письме я не обмолвился Саго ни единым словом. Не знаю, получил ли он также письмо, только я стал примечать, что он в каком-то особом настроении. Все время в разъездах, неделями отсутствует из Нью-Йорка. «Куда тебя нелегкая носит?» — однажды спросил я его. — «Изучаю жизнь американских переселенцев», — ответил он. — «Да ведь об этом написано сотни книг, можешь прочитать!» — «Книги читать хорошо, но совсем другое дело — видеть все собственными глазами». — «Наконец, объясни мне, в чем твоя конечная цель?» — спросил я, обиженный его скрытностью. Он отвечал довольно холодно: «Разве тебе неизвестно, что армяне любят переселяться, что переселенчество в жизни нашего народа — явление историческое, имевшее место во все времена, продолжается оно и теперь. А потому, разве не следует изучать условия и следствия хороших и дурных сторон его. Где же возможно более основательно изучить все это, как не здесь, в обширной стране переселенцев?»
В ответном письме я предупредил Каро, что он не оправдает надежд наших благодетелей — охотника Аво и мистера Фишера, если не вернется на родину и не использует приобретенных им знаний на пользу народа. Видимо, мое письмо оказало на него воздействие. Не прошло и месяца, как он появился в Нью-Йорке на радость друзьям. Но это был не прежний Каро. Я видел его зачастую задумчивым, чем-то взволнованным и молчаливым. Что произошло с ним? Об этом — он ни полслова! Казалось, он старался избегать меня, встречался лишь с Рафаэлом и Саго. Однажды они втроем зашли ко мне. Я тотчас же смекнул, что это не спроста. С минуту помолчали… «Мы уезжаем», — сказал Каро. — «Куда?» — удивился я — «На родину. Довольно, сколько пробыли здесь!» «Чему могли, они уже научились, — подумал я, — останься в Америке дольше, быть может, их захлестнет другое течение». Поэтому я одобрил их решение. — «А мистер Фишер знает?» — спросил я. — «Знает», — ответил Каро. — «А ты не поедешь с нами?» Я объяснил, что до окончания медицинского факультета остается целый год и потому не могу выехать с ними. — «А каким путем думаете вернуться?» — «Тем же путем, каким и приехали!» — отвечал таинственно Каро. — «Стало быть, через Индию и Афганистан?» — «Да», — ответил Каро.
Неделю спустя, в одной из гостиниц Нью-Йорка состоялся прощальный обед. Вокруг стола собрались усыновившие нас семьи, среди них и мистер Фишер. Восторгу старика не было границ. Сегодня он посылал в далекую Азию плоды своих трудов. По одну сторону стола сидели отъезжающие — Каро, Саго и Рафаэл. Я поместился рядом с мистером Фишером. Сестра благодетельницы Каро заказала из сахара и конфет какую-то пирамиду — библейскую эмблему, возвышавшуюся посреди стола. Тостам и благопожеланиям не было конца! В последний раз заставили нас спеть песнь армянского странника. Обед закончился речью мистера Фишера. Пояснив высокое значение науки, он обратился к отъезжающим, напомнил — какие обязанности лежат на них по отношению к науке и к тому народу, к которому они едут. Каро в ответной речи, от имени товарищей, дал торжественную клятву, что они и сам он всегда будут верны науке и оправдают надежды своих благодетелей. По окончании обеда все присутствовавшие отправились в экипажах на вокзал и там расцеловались на прощанье. Поезд тронулся, отъезжавшие, стоя у окон, махали шляпами, а девушки-американки еще долго стояли на платформе и посылали им привет платками.
Наши молодые друзья оставили по себе хорошее воспоминание. Семьи, где они вращались, искренно привязались к ним, они не забывали юношей, вспоминали их слова, вспоминали песню армянского странника и постоянно спрашивали, не получаю ли я от них писем. Но прошли месяцы, целый год — я не имел от них вестей. Я уже закончил учение и собирался вернуться на родину, как получил от Рафаэла из Батавии письмо, — не письмо, а большое послание. Не могу описать, с какой грустью прочитал я послание друга: будущность моих товарищей показалась мне навсегда испорченной. Но прежде, чем познакомить тебя с содержанием письма, Фархат, расскажу небольшой эпизод, чтоб яснее понять все. Ты, конечно, помнишь из моего рассказа, что мы по пути в Америку проезжали через Афганистан. В окрестностях Кабула, в пустыне, нам повстречался табор армян-кочевников из нескольких сот семейств. Они жили в передвижных камышовых шатрах. Когда же отправлялись дальше, шатры взваливали на спины вьючных животных. Этот бродячий народ так сильно заинтересовал нас, в особенности мистера Фишера, что мы провели в таборе целую неделю среди людей гостеприимных, веселых, беспечных и простых. В пустыни Афганистана они переехали из окрестностей Исфагани, где они подвергались преследованиям. Говорили на чистом армянском языке, сохранили григорианскую веру, возили с собой передвижную церковь и священников. Трудно установить, с какого именно времени и вследствие каких исторических обстоятельств они начали бродячий образ жизни, ясно было одно: в течение столетий они вполне усвоили все привычки и обычаи цыган. Каро прямо-таки влюбился в них! Нам с большим трудом удалось заставить его расстаться с ними. Вот эти армяне-кочевники и явились главной темой письма Рафаэла.
Я с напряженным вниманием слушал Аслана. Он посмотрел на часы и продолжал:
— Приехав в Индию, Каро и его товарищи забывают о данном ими в Нью-Йорке торжественном обещании, увлекаются совершенно иными идеями. Они первым делом приезжают на остров Яву в Батавию, где проживала мать Рафаэля и eго родственники. Тут находилось много богатых армян-промышленников и землевладельцев, имевших сахарные плантации и заводы. Они были из тех переселенцев, которых угнал из Армении в Исфагань царь Шах-Абас; в начале XVIII века они из Исфагани переселились на остров Яву. Кроме Батавии, армяне-переселенцы проживали и в других городах Явы: в Сурбае, Чрибоне, Тгале, Баниумасе, Джпара, Смаранде и др., а также и в Голландской Индии, занимаясь возделыванием земли. Живя вдали от Армении, они сохранили горячую любовь к родине и к своему народу. Они не имели возможности оказывать непосредственную помощь, но денег не жалели. Каро завязывает знакомство с несколькими богатеями. Потом три товарища отправляются в другие города Индии, где проживали армяне-переселенцы; в Калькутту, Сингапур, Даку, Чичру, Мадрас, Басру, Сурат, Бомбей. Расселившись по всему полуострову, армяне-переселенцы забрали в свои руки торговлю и богатства страны. Наряду с денежным богатством они сохранили и богатство национального духа, доказательством чему может служить широкая благотворительность, оказанная в разные времена индийскими армянами. В Гуалире юноши познакомились с военачальником Корнелем Яковом — армянином, игравшим в то время видную роль. Еще в Америке Каро придерживался того мнения, что индийских армян, несмотря на их богатство и влияние, следует считать погибшими для нации: разбросанные небольшими группами по всему полуострову, разобщенные, оторванные друг от друга, они со временем могли быть поглощены окружавшей их средой; во избежание этой опасности, необходимо собрать воедино всех переселенцев и организовать самостоятельную колонию. «Почему, — говорил он, — какой-нибудь цирюльник-европеец, приезжающий в Индию с группою людей из подонков общества, может приобрести землю и организовать свободную колонию, — почему армяне с богатым умом своим и богатой мошной не могут сделать того же?». Это являлось давнишней мечтой Каро. С этой именно целью он стал бродить со своими товарищами по Индийскому полуострову, а затем достиг Бирманского государства. Необходимо было самим заложить основу этой колонии, куда, как к центру, впоследствии стекались бы рассеянные по Индии армяне-переселенцы. А для основания свободной колонии необходимо было, прежде всего, завладеть территорией, что могло быть связано с пролитием крови. Но Каро и его друзья решили повести дело иначе. В те времена владычество Англии еще не успело распространиться по всему Индийскому полуострову, существовали мелкие индийские княжества, было немало также незаселенной безлюдной территории. Они выбирают наиболее удобную и подходящую свободную землю, заключают договор с соседним индийским раджой о взаимной помощи. Территория имеется, нужно ее заселить. Вот тогда Каро и вспомнил об армянах-кочевниках, виденных им в Афганистане. Их он считал наиболее подходящими для первоначальной организации поселения в виду их выносливости и приспособляемости ко всякому климату. Нужно было только приучить их к трудовой оседлой жизни. С этой именно целью Каро с товарищами отправляются в Афганистан. Кочевников они застают на тех же местах. Первым делом они принимаются убеждать их в целесообразности переселения в Индию, затем начинают подготовлять их к самозащите на случай необходимости, приучают владеть оружием. Поэтому юношам приходится задержаться в Афганистане довольно долго. По-видимому, Каро получил от индийских армян крупные суммы на переселение, не то невозможно было бы двинуть с места такую большую массу людей. Все обещало успешное завершение начатого дела, но кочевники все еще колебались, находились в нерешительности — ехать ли им в столь дальнюю неизвестную страну? Поэтому Каро принужден был вновь поехать в Индию, забрав с собою нескольких представителей кочевников, чтоб те могли увидеть заготовленную для них «обетованную землю» и воочию убедиться в рациональности переселения туда. — Теперь, Фархат, я должен рассказать тебе одну любовную историю, которую тебе необходимо знать. Долгое пребывание среди веселых, жизнерадостных и полных кипучих страстей кочевников не обошлось без любовного приключения. Черноокая красавица пленила чуткую душу Каро. Он предложил ей руку и сердце и, обещав скоро вернуться, пустился в путь с представителями кочевников. Рафаэл и Саго остались в таборе. Но до возвращения Каро стряслось ужасное несчастье: начались военные действия между афганцами и персами. Персы одержали верх, ураганом пронеслись по всей стране и опустошили ее. Столкнувшись с армянами-кочевниками, они разграбили табор и увели в плен множество жен и девушек, среди них и невесту Каро. Радостный и полный радужных надежд вернулся Каро из Индии, но не нашел в пустынях Афганистана даже следа от табора кочевников: все было сметено, уничтожено. Можешь ли ты представить положение Каро? Какой-то афганец, пасший верблюдов, рассказал ему о постигшем несчастии. Лишь человек, обладающий твердым и сильным характером Каро, мог перенести подобный удар. Он одновременно испытал две невозвратимые утраты: крушенье заветной мечты об образовании независимой, свободной колонии переселенцев и гибель любимой девушки…
После долгих поисков он нашел, наконец, в Кабуле, во дворе армянской церкви, Рафаэла и Саго больными, в постели, страдавшими от незалеченных ран, которые нанесли им персидские сарвазы. От них узнал Каро все подробности ужасного происшествия. Нападение на табор совершилось ночью; они лично принимали участие в битве и потому не могли указать, кто похитил и куда увели его невесту, только на рассвете они очнулись и почувствовали, что ранены. Куда исчезли армяне-кочевники — никто об этом ничего не знал. После этого Каро остается при друзьях до их выздоровления. Затем, вместе с Саго, едет в Персию. Рафаэл возвращается к себе на Яву. Вот в чем заключалось содержание письма, полученного мною из Батавии. Это заставило меня поспешить с возвращением на родину. К тому времени я и Джаллад окончили курс учения, вместе покинули Америку, увозя с собой много неизгладимых воспоминаний…
Дальнейшая история Аслана и товарищей была мне известна… Да, я знал и не забыл слов, сорвавшихся нечаянно с уст старой Сусанны, когда мы впервые встретились на арабском минарете: «Когда хан Динбульский вырезал все наше племя, Сусанна подвязала себе на спину ребенка Каро и прошла через пустыню Герата»… Не является ли Гюбби дочерью Каро? А женщина, заключенная в крепости Динбула и через Сусанну умолявшая Каро спасти ее из плена, не жена ли Каро? А эта старуха Сусанна, не мать ли жены Каро, которая под видом гадалки имела доступ в крепость к женам хана и, пользуясь этим, виделась со своей дочерью? Я не забыл наивно сказанных однажды девочкой слов у разрушенной часовни под сенью дерев: «Гюбби внучка Сусанны, Гюбби несчастная девочка, ее мать пропала, Гюбби ищет мать свою»… Все стало теперь мне понятным. Но одно оставалось неясным: что сталось с Рафаэлем, о котором с такой симпатией отзывался Аслан?
Я спросил о нем:
— А Рафаэл остался в Индии или приехал в Персию?
— Да, приехал в Персию.
— А как же я не видел его?
— Ты и не мог видеть его: он пал жертвой неуместной подозрительности.
— Он был убит? Кто убил его?
— Не спрашивай! — ответил с грустью Аслан и отвернулся.
«Он пал жертвой неуместной подозрительности»… Я вспомнил, что почти в тех же выражениях предостерегала меня как-то Маро со слезами на глазах, чтоб я не сердил Каро и привела пример, как он «из-за подозрения» убил своего лучшего друга, юношу-индийца. Теперь для меня все стало ясным. Но я все же спросил Аслана, из-за чего был убит Рафаэл.
— Все, что тебе следовало знать, я рассказал, Фархат, рассказал для того, чтоб ты понял наших друзей, если они в течение своей деятельности и совершали ошибки, это являлось результатом излишка энергии и недостатка знаний. Подобных людей ты очень редко встретишь в жизни. Их готовность к самопожертвованию, их убеждения и стремления всегда были чистосердечны и искрении. Но чтоб претворить в жизнь свои стремления, им недоставало знаний. Знай, Фархат, без основательной научной подготовки человек не может быть полезен ни своему народу, ни родине, ни человечеству. Я привел тебя сюда, чтоб рассказать обо всем, так как мы скоро должны расстаться.
Глаза мои наполнились слезами. Каждый раз, когда мне приходилось слышать о предстоящей разлуке, весь мир темнел в глазах моих.
— Знание, Фархат, — великая сила, которая предопределяет благополучие, счастье и спокойствие человека. У тебя, Фархат, совершенно нет знаний, тебе недостает самого элементарного развития. Но у тебя есть доброе сердце, хорошие наклонности. Если ты разовьешься, ты можешь стать полезным человеком. Сегодня я повезу тебя в монастырь, где проживает человек большой учености. Я оставлю тебя у него. Он настолько добр, что охотно согласится обучать тебя. Если даже ты и не приобретешь больших знаний, во всяком случае станешь развитым человеком. Приобретенный тобою по настоящее время, умственный багаж, правда, находится в сыром и необработанном виде, но он является залогом твоих будущих успехов. Ты изъездил, если не всю, то значительную часть нашей родины. Ты видел своими глазами и на месте ознакомился с положением нашего народа, с его прошлым и настоящим. Родиноведение — главная наука для тех, кто отдается служению отчизне. Кто не видел свой родины, не ознакомился с ней, похож на того портного, который, не видя заказчика, не снявши с него мерки, кроит ему платье. Если портной даже и хороший мастер, платье получится узким или широким, длинным или коротким, — словом, безобразно будет сидеть. Чтобы не впасть в такую же ошибку, я показал тебе нашу родину, пояснил причины многих явлений, ты
ознакомился со многими местностями и племенами. Но я заронил в тебе лишь семена будущего развития. Свет знания взрастит и оплодотворит их! А теперь поедем.
Мы стали спускаться с Астхаберда.
— Куда ты поедешь? — спросил я Аслана.
— В Индию.
— А когда вернешься?
— Я и сам не знаю.
— По крайней мере скажи, зачем ты едешь?
— Пока не следует тебе знать этого… Но будь уверен, я еду не для дурного дела.
Глава 32.
«НЕМОЙ»
Спустившись с Астхаберда, мы направили путь к монастырю Апостолов, который находится в трех часах езды от Муша, в живописной горной долине Тавроса. Проехали деревню Могунк
[153]; тут когда-то потопили в окрестных болотах пятьсот магов, почему местность и поныне прозывается «Могунк» или «Могильник магов».
Уже смеркалось, когда мы подъезжали к монастырю. Выступавшая из вечерней мглы высокая монастырская стена произвела на меня удручающее впечатление. Еще более угнетала меня мысль, что я должен остаться здесь, за этой крепостной стеной…
Я глядел на шестнадцативековую почтенную святыню, глядел на живописное нагорье, на котором стояла она, глядел на изумрудную долину, раскинувшуюся перед нею, и думал: армянское искусство, архитектура развились в процессе сооружения великолепных монастырей, а в выборе живописных мест и ландшафтов, приличествующих этим сооружениям, развивался художественный вкус армян.
Иногда самая обыкновенная мысль может рассеять самые тяжелые сомнения. Когда Аслан заявил мне, что я должен буду остаться в этом монастыре, я был очень недоволен, но смолчал. Когда же по дороге в монастырь он рассказал мне сохранившееся до наших дней предание, что здесь трудились знаменитые представители армянской словесности «Золотого века», что в тиши монастыря готовили они свои труды, что здесь находятся гробницы их, тягостные раздумья отлетели прочь, сомнения рассеялись, и я склонил голову перед священными воспоминаниями былых времен: учиться и трудиться, всей душой и сердцем отдаться учению решил я — под кровлей, где проводили время в труде неутомимые отцы наши.
Еще издали внимание мое привлекли ряды колонн у восточной стены монастыря. Аслан повел меня туда. Десять крестных камней изящной тонкой резьбы стояли на каменных пьедесталах, «Гробницы переводчиков» — называет народное предание эти молчаливые памятники. На одном я прочитал имя армянского философа — Давида Непобедимого… Невдалеке от них едва виднелись сквозь заросли кустарника две заброшенные могилы. Окаменелый мох оставил на камнях зеленовато-серые следы; не значится на них ни надгробной надписи, ни года — время разъело камень, стерло надпись. Но надпись запечатлелась, осталась нетленной в чутком сердце каждого армянина: в заброшенных могилах покоятся два замечательных человека — Мовсес Хоренаци и его сподвижник
Мамбре. Армения воздвигала храмы во имя греческих и еврейских святых, а тот человек, исторический труд которого спас Армению от забытия в веках, который даровал ей жизнь и бессмертие, не удостоился в родной стране даже небольшой часовенки… Немного поодаль стоит одиноко другая гробница, еще более заброшенная и печальная. Богатая горами Армения пожалела возложить на нее один из своих отменных камней! Несколько обломков скал покрывают могилу обожаемого всеми человека. Ужасное, роковое совпадение! — человек, которого при жизни преследовали и побивали камнями церковнослужители, даже после смерти лежит под грудой наваленных обломков! Но каждый армянин с благоговением склонит колени и будет лобзать пыль с этих камней, когда узнает, что здесь погребен Лазарь Парбский
[154]… На эту могилу с грустью издали глядят гробницы князей Саака и Амазаспа…
Осмотр памятников занял так много времени, что уже совершенно стемнело, когда мы вошли в монастырь. Игумена в монастыре не оказалось, нам сказали, что он пошел в ближайшую деревню. Аслан направился к одной из келий, откуда пробивался слабый свет. Дверь в келью была открыта настежь для притока воздуха. Светильник, горевший на столе, озарял склоненную над бумагами голову монаха. Монах что-то писал. Перед ним беспорядочными кучками лежали книги. При виде нас он не двинулся с места, протянул лишь руку Аслану и холодно сказал:
— Я вас ждал, господин доктор.
Заметив, что мы стоим, он прибавил:
— Келья моя настолько тесна и мебели в ней так мало, что я не знаю, куда вас пригласить присесть.
— Вы не беспокойтесь, мы устроимся, — ответил Аслан и, отодвинув постель в сторону, присел на голые доски кровати. Я поместился рядом.
Кроме кровати, письменного стола и кресла, на котором сидел монах в комнате другой мебели не было. Кресло это составляло удивительный контраст с убогой обстановкой. Оно было сделано из тяжелого крепкого дерева и изукрашено прекрасной инкрустацией. Темный цвет дерева, пожелтевший от времени, еще больше придавал ему величественный вид. Заметив, что я заинтересовался креслом, монах обратился ко мне с улыбкой на лице:
— Это кресло я нашел в кладовой вместе с изломанными земледельческими орудиями. Оно принадлежало одному из епископов и, вероятно, было прислано в дар из дальних стран.
Этому человеку в монашеской рясе было не более 36 лет, но борода его и густые волосы на голове были белы, как снег. В ореоле этой белизны виднелось бледное, болезненное лицо с глубоко впавшими глазами, горевшими неестественным блеском. Что состарило его преждевременно, истерзало и измяло его? Ноги у него дрожали как у расслабленного, не подчинялись ему. Видно, эти ноги в течение долгих лет испытывали тяжесть, — тяжесть железа!.. Длительный кашель поминутно прерывал его речь, глухое клокотанье слышалось в груди… Аслан глядел на инока с нескрываемой грустью и глубоким участием, как врач и как друг, и горько вздыхал.
— А я думал видеть вас иеромонахом, — обратился он к молодому человеку.
— А по-вашему это так легко? — ответил взволнованно инок, — нам, чтоб быть посвященным в иеромонахи, нужно многому научиться. От нас требуют знать все то, чему учились дьячок или служка с детских лет до посвящения.
Зловещий кашель прервал слова его на несколько минут.
— Да, многому нужно учиться… И псалмы знать наизусть, и молитвы, и шараканы петь на память. Положим, выучил наизусть, а голос откуда возьмешь. Нет у меня и прежней памяти: еще учеником я знал наизусть целые главы из Гомера и Вергилия, а теперь не могу заучить и нескольких молитв…
Вновь начался приступ кашля.
Аслан слушал со вниманием. Меня также заинтересовал рассказ: в нем слышались и протест, полный горечи и желчи, и искреннее стремление отдаться служению церкви.
— Беда не в том, что рукополагающий епископ требует от нас того же, что и от неграмотного дьячка, а в том беда, что и народ того же требует. Нам следует знать Четьи Минеи, все «Жития святых». Следует знать, как Ускан узрел пред собой море крови, в каком именно месте вышел из чрева кита пророк Иона… Все это надо знать, но мы этому не учились…
На столе стоял стакан с молоком. Инок отпил молока, чтоб прочистить горло.
— А как вы чувствуете себя? — спросил Аслан.
— Теперь мне несколько лучше… Здешний воздух восстановил мои силы. Вы, как врач, конечно понимаете, что я нуждаюсь в питании, в хорошем питании, а его-то и нет. Я должен поститься, выполнять все монастырские требования — это ухудшает состояние моего здоровья.
— А вы не думаете покинуть монастырь? Я советую вам поторопиться.
— Нет, доктор. Что я начал — должен довести до конца…
— Разрешите выслушать вас?
— К чему? Я и сам знаю, что там происходит.
Сильный приступ кашля подтвердил, что творится в его груди.
Аслан старался не вызывать больного на разговор, так как видел его страдания. Но у инока была потребность говорить, словно он давно не имел возможности делиться с другими.
— Несколько раз мне пришлось побывать в деревнях: пытался завести беседу с крестьянами. Я на собраниях способен был говорить целыми часами, и тема для разговора никогда не иссякала, а здесь, среди крестьян, я не знал, о чем говорить. Я не знал их языка, мне недоставало соответствующих их понятиям слов, подходящих оборотов речи. Часто простая сказка, поговорка, рассказ о каком-либо мученике может большему научить крестьянина, чем все наши философские рассуждения. Вот почему я чувствую себя совершенно неподготовленным к тому званию, которому намерен посвятить себя. Нужно начинать сызнова. Иногда задают вопросы, на которые ты не в состоянии ответить — и этого достаточно, чтоб счесть тебя за круглого невежду…
— А вы эту заботу возложите на других, а сами займитесь вашим литературным трудом.
— Если б позволили мне! Игумен сильно донимает меня.
— Будьте покойны… Скоро сменят его,
— Это будет счастьем для меня…
— Вместо него назначат одного из «наших»,
— Еще лучше, — и лицо инока просияло от радости.
— В настоящее время вы над чем работаете?
— Ничего не пишу. Иногда веду заметки. Если не помру, быть может, что-нибудь из них в будущем и получится… Но мне недостает книг, страшная нужда в них…
— И в этом отношении будьте покойны. Мы пришлем к вам одного достойного юношу… Он будет снабжать вас книгами.
— Кто он?
— Питомец венецианских мхитаристов.
— Да, помню… О нем мне писали. Он уже приехал?
— Да! Теперь он в Муше.
— А кто этот юноша? — спросил инок про меня.
— Я привез его к вам в ученики, — ответил смеясь Аслан. — Будет смотреть за вами, прислуживать и учиться у вас.
Инок рассмеялся в свою очередь.
— По старинному монастырскому обычаю… Все наши отцы святые имели при себе служек-учеников. У меня такой имеется — придурковатый. Но я истосковался по другу, хорошему другу. Одиночество убивает меня. Не с кем словом обмолвиться. Прежде здесь меня звали «Немой». Но теперь язык у меня развязался. Хочется говорить и говорить. Быть может потому, что скоро придется замолчать навсегда…
— Вот новый ученик извлечёт пользу из вашей словоохотливости, — заметил в шутку Аслан.
Инок ничего не ответил и попросил разрешить прилечь. Мы встали. Аслан привел в порядок постель и хотел было помочь ему улечься, но тот запротестовал.
— Благодарю, еще найдется силы, не так уж я ослаб…
Он прилег на подушки и спросил меня:
— Как тебя зовут?
— Фархат, — ответил я и покраснел.
— Ну-ка, Фархат, приступи к исполнению своих обязанностей: ступай в смежную комнату, растолкай спящего слугу моего и скажи ему, чтоб приготовил для нас вкусного кофе. Кофе принесешь сам… Покажи-ка себя!
Я понял, что кофе — лишь предлог выпроводить меня. Я тотчас же вышел из кельи. Комната слуги была обставлена значительно лучше, чем келья хозяина.
Я застал слугу спящим на деревянной кровати, вся комната дрожала от его тяжелого дыхания. Это был здоровенный юноша, почти моих лет. Я толкал его в бок, но он не просыпался. Тогда я схватил его обеими руками и принялся трясти во всю мочь. Спросонья вскочил он с постели, увидя в комнате незнакомое лицо, подумал, что хотят его убить иль ограбить. Он тотчас же схватился за толстую дубинку. Недешево бы я отделался, кабы не крикнул:
— Барин требует подать кофе!
Слуга гневно посмотрел на меня и пробормотал:
— Ну, так и сказал бы! Нечего было тревожить спящего человека!
Я тотчас же смекнул, с кем имею дело, кто будет моим сотоварищем. С первой же минуты дело у нас пошло на лад.
Не глядя на меня, он прибавил свету в светильнике, затем стал разводить в камине огонь, расщепляя дрова голыми руками, словно пальцы у него были из железа.
Я подумал, что у подобных дуралеев должна быть непременно слабая струнка; взял его дубинку, поднес к свету и сказал:
— Какая у тебя славная дубинка!
Он позабыл про кофе и подошел ко мне. Видно, моя похвала пришлась ему по сердцу.
— Из какого дерева?
— Кизиловая. Я сам срезал в лесу, — ответил он с особым хвастовством. — Один курд за нее мне барана предлагал — не отдал. Я сам выстрогал ее, разукрасил.
— Хорошая, очень хорошая дубинка. А ты сам откуда?
— Чудак человек! Из Шатаха!
По-видимому, все обязаны знать шатахцев! Я принялся вышучивать его.
— А ты из того родника пил воду?
— Из какого родника?
— Из которого люди уму-разуму набираются.
Он расхохотался. Необычайные сумасбродства шатахцев приписывали воде одного общеизвестного родника, находившегося на их родине. Мы подружились.
— Как ты попал сюда?
— Мой барин прежде проживал в Шатахе, когда переехал сюда, привез с собой и меня.
Я напомнил ему, что дрова разгорелись и время поставить кофейник на огонь.
Он положил по кирпичу по обеим сторонам огня, наполнил кофейник водой и поставил греть.
— Хороший человек твой барин? — спросил я его.
— Если бы был дурной, стал бы я жить у него? — удивился он моему вопросу. — Я б и у родного отца не остался, будь он дурным.
— Не притесняет тебя?
— Зачем притеснять? Славный он человек. Приготовлю поесть — поест, нет — слова не скажет. Вот и сейчас. Не понесу кофе — не рассердится.
— Но ведь ты не должен сердить его.
— Я понимаю. Всегда стараюсь не сердить. Все хозяйство у меня в руках. Деньги всегда на столе. Сколько захочу — могу взять. Никогда не спросит, куда девал деньги.
— Но ведь ты, конечно, не присвоишь его денег.
— Конечно, нет. Если он и не спросит, перед богом-то я ответчик!.. Когда он кашляет, сердце у меня горит, как в огне… Понять не могу, почему он так много кашляет.
При последних словах голос его дрогнул, и он пальцами утер глаза. Видно, этот чудак любил своего господина.
Я напомнил ему, что вода закипела. Он подошел к печке, снял с кофейника крышку и насыпал молотого кофе в кипящую воду. Кофе вспенилось. Он отставил кофейник в сторону и принялся вытирать чашки.
Меня удивляло, почему он не интересуется, кто я, откуда, как попал к нему в комнату. Он обращался со мной, как с давнишним знакомым.
— Я остаюсь у вас, у твоего барина, — сказал я. Он обрадовался.
— А что будешь делать? — спросил он, оставив чашки и подходя ко мне.
— Буду грамоте учиться.
— Да, мой барин большой грамотей. Все время пишет, читает.
На него опять нашла дурь. Он как будто почуял во мне будущего соперника по ремеслу.
— А ну-ка давай померимся силами, — сказал он и схватил меня за рукав.
Не дожидаясь моего согласия, он, как настоящий борец, схватил меня обеими руками за пояс, хотел приподнять и повалить на землю. Поневоле пришлось мне оказать сопротивление. Силы оказались равными. Долго мы теребили друг друга, пока не повалились на кровать. Доски затрещали, и кровать провалилась под нашей тяжестью. Взбешенный, он поднялся и хотел продолжать борьбу. Я отказался. Оказывается, при падении мы задели приставленную к стене дубинку, она с силой ударилась о стоящий на огне кофейник, вода пролилась на огонь и сероватые клубы пара наполнили маленькую комнату.
Можете представить мой стыд и смущенье! В смежной комнате, вероятно, услышали нашу возню. Что могли подумать обо мне Аслан и Немой? Какой я невоспитанный и неотесанный парень! Не мог повести себя прилично с простым слугой, полудикарем! Этот случай, среди всех других забытых происшествий, остался в моей памяти, как яркое доказательство моей невоспитанности той поры, когда Аслан поручил меня Немому.
После произведенного нами бесчинства чуть не произошло и другое. Упрямый шатахец не хотел вновь развести огонь и приготовить кофе, не разрешал и мне сделать это. Он твердил: «Видно, так угодно было богу; если б господь пожелал, кофейник не опрокинулся бы». А нашу глупость он не принимал в расчет.
Из соседней комнаты Аслан позвал меня. Я вошел в келью — и немного успокоился. Оказалось, они не слышали шума нашей борьбы. Даже позабыли о том, что заказали кофе. Чем они были заняты? Я молча сел на прежнее место. Инок по-прежнему лежал на кровати. Аслан сидел против него. Оба молчали, погруженные в глубокую задумчивость. Это, по-видимому, была передышка после горячего спора. Положив голову на подушку, Немой смотрел в потолок. Но вот опять приступ кашля. Больной приподнялся и стал что-то искать. Аслан подал ему платок. Инок быстро поднес его ко рту. Я заметил на платке красное пятно… печальное, как смерть, обманчивое, как надежда… Совесть мучила меня, и я рассказал, что произошло между нами в комнате слуги.
— За ним водятся подобные чудачества, — заметил с улыбкой Немой. — Он — родное детище своего края. Своими чудачествами он часто развлекает меня.
— А почему он не приготовил кофе во второй раз? — спросил Аслан.
— «Видно, богу не было угодно… если б господь пожелал, кофейник не опрокинулся бы», — так он сказал мне.
— И не он один так думает, Фархат, — обратился ко мне Немой, — существуют целые народы, которые так же мыслят; в силу своего невежества опрокидывают и выливают чашу счастья, а вину взваливают на бога — «богу не угодно было!»…
Нам приготовили место для ночлега в другой келье, неподалеку от кельи инока. Не желая долее беспокоить больного, мы простились с ним. Перед уходом он спросил Аслана!
— Утром мы увидимся, не так ли?
— Конечно, — ответил Аслан.
Мы пошли в свою келью.
Последнюю ночь я проводил с Асланом… Утром он должен был пуститься в далекий путь. Кто знает, быть может, нам и не придется встретиться… Я отдал бы все, если б эта ночь продлилась месяцы, годы, лишь бы мне быть с Асланом, смотреть на него без конца, слушать его речи. Поэтому я не давал ему покоя, приставал к нему с вопросами, несмотря на то, что из комнаты Немого он вышел в весьма печальном настроении. По-видимому, болезнь любимого друга сильно огорчала его.
Кругом ни звука… Все дремлет в глубокой благочестивой тишине… Молчат колокола на полуразрушенных башенных вышках, молчат листья косматой ивы, склонившейся над забытыми гробницами, молчит луна, то скрываясь, то выплывая из-за облаков. Все безмолвно, всюду царит тишина самоотреченья!.. И мне предстоит дышать воздухом этого всеобщего самоуничтожения, жить рядом с человеком, прозванным «Немым», в котором безмолвствуют мысли, умолкли человеческие чувства… Не дремлет лишь зловещий кашель, вылетающий из измученной, надломленной груди!..
— Он болен? — спросил я Аслана.
— Да, — ответил он с грустью в голосе.
— Чем?
— У него чахотка,
— Где он схватил ее?
— Долгие годы он маялся по тюрьмам, а затем сослан был в холодную страну…
— Говорят, что чахоточные живут недолго.
Аслан с минуту подумал и ответил:
— Непосредственной опасности пока нет. Я осмотрел его.
— Но, не дай бог, если он…
— Тогда ты будешь учиться у Арпиара. Я переговорю с ним.
Арпиара я сильно полюбил и настолько был увлечен этим восторженным молодым человеком, что слова Аслана вполне успокоили меня.
Задержавшись у Немого, мы не могли явиться к общему ужину в монастырской столовой.
Нам принесли в келью бутылку вина, большой кусок холодного мяса и сыру. Ни мне, ни Аслану есть не хотелось, но меня мучила страшная жажда. Я наполнил стакан прекрасным мушским вином. Аслан поднял бокал, чокнулся со мной и молча поднес его к губам.
Мы вновь заговорили о Немом.
— А раньше чем он занимался? — спросил я.
— Наукой. Он хороший естественник и математик. Но потом отказался от науки.
— Почему?
— По его мнению, у нас, армян, так мало подготовленных людей, что мы должны беречь силы для более необходимых нужд. В Европе тысячи людей занимаются наукой, новыми исследованиями, делают открытия, и год от году наука обогащается новыми трудами. Мы можем переводить издаваемые ими книги или же перелагать на армянский язык. Наука для всех народов едина. Но есть вещь, которой Европа не может нам дать, и мы должны сами создать ее.
— А что это такое? — заинтересовался я.
— Национальная поэзия, которую каждый народ сам должен создать. Немой бросил науку и посвятил себя поэзии. У него от природы имеется поэтический дар и легкий слог. Он стал писать стихи, рассказы и повести. Некоторые из них были напечатаны и читались с большим интересом. Но большая часть осталась в рукописи и была отобрана во время ареста.
— Уничтожили?
— Неизвестно. Но мы лишились прекрасных творений поэта-беллетриста. Он первый среди нас покинул мир воображений и выдумки и стал описывать нашу реальную жизнь, наши нужды. Он первый среди нас стал изображать в своих повестях страдания угнетенных и оскорбленных. Он первый среди нас отбросил в сторону кадильницу лести поэта-наемника, который веками курил фимиам вельможам и сильным мира сего и стал воспевать невзгоды и муки наших крестьян.
Я вновь наполнил его бокал.
— Отчасти я оправдываю взгляды Немого на поэзию, — продолжал Аслан. — Вообще поэзия и все художественные произведения должны направлять и воодушевлять народ. Наука дает лишь сухую пищу уму, но поэзия зажигает сердце, душу и воображение людей великой животворящей силой. Поэт создает для народа идеалы, возвышенные общечеловеческие идеалы. Если в окружающей жизни поэт не находит воплощения своих идеалов, он уходит в прошлое и из глубины времен вызывает желанных героев, рисует их образы, их высокие деяния пред современным поколением, чтоб брали с них пример, чтоб стали подобными им. Он создает также образы, которых еще нет, но которые будут. Его зоркие глаза видят в настоящем зародыши нерожденных еще образов. Пророческим духом своим он предугадывает, как в течение годов, быть может, столетий, эти зародыши будут расти, развиваться, как будут видоизменяться, чтоб получить совершенную форму и содержание, — все это, за много лет вперед он выявляет в образах и преподносит современному читателю. Истинный поэт знает прошлое, знает настоящее, знает и будущее.
— Мы от школы ждем очень многого для народа, — продолжал он, — но и сам народ — огромная школа; надо воспитать его, направить, развить в нем здравые идеи, высокие идеалы, очистить от грязи и пороков. Достигнуть этого возможно лишь в том случае, если мы дадим ему в руки книги для чтения. Из них сильнее всего действует повесть, поэзия. Хорошая книга может спасти целый народ. И точка зрения Немого по этому вопросу вполне правильна. Народ, не имеющий поэзии, едва ли способен занять достойное положение среди культурного человечества.
— Инок сказал, что он работает над литературным трудом, о чем он пишет?
— Он пишет историю армянской церкви, разбирает, какие преобразования были произведены в ней со времен проникновения христианства в Армению при царе Абгаре вплоть до наших дней. Главным образом он попытается в своем труде показать организацию основанной Просветителем церкви.
— Следовательно, он не пишет больше повестей и романов?
— Он очень много страдал за свою жизнь, перенес множество лишений, подвергался бесконечным гонениям, а теперь эта неизлечимая болезнь… Он впал в черную меланхолию, стал искать самозабвения в труде. И принялся он писать историю церкви — труд, требующий более работы мысли, чем полетов поэтического воображения. Удаление его в монастырь и желание принять духовный сан — такая же прихоть, как и замысел написать церковную историю; все это — последствия его меланхолического состояния. Он хочет забыться, старается уйти в самую трудную работу, чтоб она полностью поглотила его мысли. В тюремном заключении он принялся изучать еврейский язык, чтоб лучше ознакомиться с Ветхим заветом. Он поистине несчастный человек… Его муза никогда не вкушала сладости… Печальная, горькая жизнь выпала ему на долю…
Почти всю ночь мы провели в беседе. Мне не хотелось спать; Аслан также находился в возбужденном состоянии, как человек, которому предстоит расстаться с дорогими людьми на долгое время…
Поутру у ворот монастыря его ожидала оседланная лошадь. Немой не вышел из кельи. Аслан сам пошел проститься с другом.
Пешком дошли мы до могилы Мовсеса Хоренаци. Аслан обнял и расцеловал меня. Затем сел на лошадь и пустился в путь…
Я долго глядел ему вслед, но ничего не мог видеть: слезы ручьями лились из моих глаз…
Он уехал туда, куда его влекли долг и энергия!.. Он уехал, но память о нем неизгладимо запечатлелась в сердце моем навсегда.
Миновали годы. Вместе с духовным ростом во мне рос образ глубоко почитаемого мною человека, который так горячо, так самоотверженно был предан делу благоденствия любимой родины!..
ЭПИЛОГ
Глава 1.
ДЕВА ЗАМКА
Прошли года. Не упомню, сколько!..
Тяжелые, мрачные настали времена. Казалось, что-то давило всех, что-то сжимало сердца. Люди были недовольны, но не знали — чем? Царило всеобщее уныние, тоска, отчаяние. Ничего отрадного не было в жизни, ничего не утешало надломленные сердца. Глухая необъяснимая тревога овладела всеми. Казалось, какое-то бесовское наваждение кружило повсюду и нагоняло ужас на людей.
Чего-то ждали…
По ночам люди не выходили из своих домов. Днем на полевые работы сельчане отправлялись большими группами. Скот пасли на ближних пастбищах. Бедняки роптали на свою бедность, богач был охвачен тревогой за свое достояние. Дороги опустели, караванное движение прекратилось. Горы стали непроходимы. За каждой стеной, за каждым камнем таился лиходей.
Сама природа ожесточилась против человека. После трех лет засухи начался ужасающий голод. Курды уводили детей на торговые площади, умоляли прохожих: «Возьмите их, пусть будут вашими слугами, рабами, кормите только, чтобы они не погибли с голоду». Собака, кошка были в цене, но человеческое дитя не представляло никакой ценности. Улицы усеяны были бледными, тощими, голодными людьми.
Носились тревожные слухи.
В городе Муш изголодавшееся население разгромило казенные амбары. В Ване подожгли свыше тысячи лавок и растаскали товары. Приехавшие в ту ночь издалека крестьяне нагружали своих мулов награбленным имуществом. У подошвы горы Артос, в своем собственном шатре, был убит неизвестными злоумышленниками знаменитый шейх Нехри. В спальню армянского епархиального начальника ворвались громилы и, приложив острие кинжала к его груди, заставили открыть сундук с золотом. В Ванском озере появились челны морских разбойников. Жена шатахского каймакама с двумя малолетними детьми была пленена, увезена в горы. Тысячу золотых требовали за пленных. Правительство было встревожено, как говорится, потеряло голову. Не знали, что предпринять против бедствий. Не успевали подавить беспорядки в одном округе, как в другом возникали худшие затруднения. В Битлисе одна женщина средь бела дня ворвалась в кабинет полицмейстера и выстрелом из револьвера уложила его на месте.
Тревожные были времена!..
Местами возникали внутренние волнения, крупные столкновения. Внезапно появились огромные шайки разбойников и, уничтожив целые деревни, исчезали как привидения. Нельзя было заранее предугадать, откуда может угрожать опасность. Тюрьмы были переполнены заключенными, но беспорядки росли и усиливались. Арсенал Ванской цитадели, склады пороха взлетели на воздух. В ту же ночь был совершен поджог дворца паши, сгорела часть его роскошных палат. Убийствам не было числа и меры. Всяк с ужасом преклонял голову на подушку, не надеясь проснуться утром. Жизни и имуществу угрожала опасность. Люди прятали кинжалы в складках своей одежды, готовясь отразить удар в спину. Среди народа распространялись листовки на разных языках.
Листовками усеяны были все улицы, казалось, будто они падали сверху, подобно бесчисленным градинам. Чего хотели? Чего требовали? — никто не понимал этого. В мечетях и церквах служили обедни, моля о наступлении спокойной жизни. Мулла и священник увещевали негодяев, уговаривая их образумиться. Но из Зейтуна слышались уже отклики мятежа. В Арзруме старались раскрыть какой-то заговор. А в Константинополе в это время были заняты двумя загадочными цифрами — 16 и 61.
Так прошла весна, прошло лето, прошла и осень. Настала суровая зима, глубокий снег закрыл дороги. В продолжение нескольких недель прервано было всякое сообщение во все стороны. Старики уверяли, что такой зимы никогда не видели. В деревнях снег доходил до самых кровель; под снегом рыли ходы, чтобы пройти в соседний дом. Снег сравнял всю землю, покрыв собою холмы и овраги, рытвины и ухабы. Голод распространился также среди диких зверей и птиц. Не находя добычи, они перебрались поближе к человеческому жилью. Густой слой льда сковал родники и речки. Дикие утки и гуси, вмерзли в лед. Люди топили снег, чтобы утолить жажду. Казалось, наступил конец света; казалось, будто земля и небо, человек и зверь — все оледенеет, превратится в одну гигантскую ледяную глыбу.
В одну из таких ночей, недалеко от Кохнашахара, на каменном полу знакомого нам арабского минарета горел огонь. У костра грелась группа вооруженных людей. А у ворот минарета оседланные кони жевали ячмень из мешков, свисавших с их голов.
Тьма окутала землю. Крупные хлопья снега в таком изобилии падали на землю, что казалось, все скроется, все исчезнет под толстым снежным покровом.
Возле лошадей, у стены минарета, сидел человек, закутанный в плащ. Он сидел неподвижно, как статуя, лишь изредка стряхивая снег, густо облепивший его одежду. Глаза его неподвижно смотрели в одну и ту же точку, будто застыли от стужи. Бог знает, что он наблюдал — наблюдал, ни на минуту не отрывая глаз.
Ничто не нарушало немой тишины беспредельной снежной пустыни. Валил снег крупными пушистыми хлопьями и бесшумно ложился на землю. Сидевшие у костра внутри минарета также не издавали ни звука, они безмолвно курили…
Стоявший на часах все еще вглядывался в темноту.
Вдруг там, куда был устремлен его взор, мелькнул огонек. Огненной точкой повис он высоко в воздухе. Если б не красноватый отблеск, можно было принять его за звездочку. Но звезд не могло быть на свинцово-черном фоне пасмурного неба.
Огонек то разгорался, то ослабевал и даже на мгновенье погасал, но через несколько минут вновь появлялся на том же месте.
Стоявший на часах вздрогнул, как это бывает с тем, у кого сильно напряжено внимание.
Почти одновременно с появлением первого огненного язычка, на расстоянии двухсот шагов по горизонтали, показался другой, подобный первому. Эти огоньки, подобно двум полярным звездам, светили один против другого.
Теперь глаза одиноко стоявшего на часах задвигались: он напряженно всматривался то в одну, то в другую точку.
Прошло несколько мгновений. Огненные язычки стали расти, разгораться ярче и приняли форму факелов. Показались руки, державшие их, задвигались женские головы. Эти головы с длинными распущенными волосами походили на фурий. Одна была молодая, другая — старуха. Лицо первой светилось улыбкой, бешенством и яростью дышало лицо другой. Казалось, будто головы с державшими в руках факелами висели в воздухе. Но острое зрение легко могло разглядеть две высокие башни, на которых они стояли. Эти башни расположены были по углам высокого замка.
Видение исчезло мгновенно. Казалось, это была иллюзия, созданная воображением.
Но не так мыслил стоявший на часах. Он встал с места, спокойно накинул узду на лошадь и тихо засвистел. Сидевшие в минарете люди встали на ноги, молча подошли к коням, Через несколько минут всадники исчезли в темноте ночи.
Снег продолжал валить. Поднялся легкий ветер, взметнул снежную пыль. Ветер крепчал, начиналась метель. Сильный мороз точно бритвой резал лицо, уши, руки. Слюна застывала во рту.
Ревела буря, кружила снежные вихри. Она издавала металлические звуки, подобные тем, которые слышатся летом, когда сильный ураган проносится по тяжелым колосьям поспевающей нивы.
Прошел час, другой,
Там, где промелькнули факелы, теперь виднелось еле заметное синеватое пламя. Временами слышался глухой грохот — будто разваливалось какое-то здание. Ветер заглушал звуки, а снежная метель закрывала отблески пламени. Но время от времени снопы миллионных искр прорезывали темноту ночи, казалось, будто они извергались из огромного орудийного дула.
Огненные языки разрослись, соединились и образовали огромный огненный поток. Все вокруг осветилось. Из темноты выросли крепостные стены с высокими башнями. Горел древний замок, утопающий в море дерев.
Огонь потревожил белых голубей, приютившихся под верхним прикрытием башен. В ужасе вылетали они из своих гнезд и в исступлении кружили вокруг башенных кровель. Там гибли их птенцы… Освещенные пурпурным отблеском огненного зарева бесчисленные хлопья снега, смешавшись с белым вихрем обезумевших птиц, являли трогательную, щемящую душу картину.
Огонь вспугнул и коней. Сорвавшись с привязи, помчались они через полуобгоревшие двери конюшни и стали носиться в панике вокруг замка, взметая снежную пыль, У холеных заботливыми конюхами лошадей опалилась грива, обгорел пушистый хвост. Иные падали, глубоко провалившись в снег, и там тряслись в предсмертной агонии.
Огонь выгнал из псарни охотничьих псов. Множество гончих в серебряных ошейниках, в цветных суконных повязках, растерянно металось, не зная, куда бежать. Любимцы хозяина беспомощно бродили вокруг замка и оглашали морозный воздух печальным, зловещим завыванием.
Огонь потревожил и изнеженных обитательниц замка. Обольстительные красавицы, покинув атласные постели, выбежали босиком, полунагие, с распущенными волосами; они метались возле замка, не зная, где укрыться от огня и мороза. Их вопли и рыданья, визги и крики заглушались грохотом обвалившихся сводов. Ошеломленные пожаром чернокожие евнухи не знали, что предпринять — жизнь свою спасать или идти на подмогу своим госпожам.
Все это происходило в зареве грандиозного пожара, при блеске неистового пламени и миллионов искр.
Подобно гигантскому дракону, огонь пожирал великолепные украшения замка и выбрасывал наружу всё, что не был в состоянии поглотить. Возле крепости, в безнадежном смятении, носилось движимое имущество замка — кони, охотничьи псы, гаремные красотки, чернокожие евнухи, — а внутри здания огонь уничтожал все, что не могло убежать… Горел шелк, горело сукно, горело серебро и золото…
Временами раздавались выстрелы, и ветер приносил тяжелый запах пороха… В зареве пожара сверкали сабли… люди падали… люди вскакивали… Там шла жестокая резня…
Огонь перебросился на столетние деревья, стал пожирать их. Яркий свет, отражаясь в беспредельной снежной равнине, слепил глаза.
Вдруг в багровом зареве огненного моря показались всадники из арабского минарета. Один из них держал в объятиях молодую женщину. Конь мчался, разрывая грудью снежную массу. Если б не ледяная пыль, носившаяся по воздуху, можно было разглядеть мужественное лицо Каро. За конем бежали два существа: та же старуха и та молоденькая девушка, которые первыми появились на высоких башнях замка с факелами в руках. Одна из них была Гюбби, другая — старая Сусанна…
Гюбби отомстила… Гюбби спасла свою мать, годами изнывавшую за неприступными стенами замка Динбулинов…
Глава 2.
НЕВЕДОМОЕ БУДУЩЕЕ
(16–61)
Много лет прошло с тех пор.
Весеннее солнышко собирало душистую росу с пышной растительности, только что проснувшиеся птицы оглашали веселым гомоном высокие горы и лесные чащи. Воздух насыщен был легким, нежным туманом. Первые лучи солнца сверкали сквозь эту беловато-прозрачную завесу. Вдали виднелись горы, увенчанные вечными снегами, виднелось Ванское море со своими живописными берегами. Сквозь туман показалось огромное морское судно, которое, подобно символу прогресса, мчалось всё вперед и вперед, оставляя серебристый след на безмятежной морской поверхности; в воздухе тянулась длинная дымовая лента.
Недалеко от Востана расположено село Размиран. Благодаря живописному местоположению это село в древние времена служило излюбленным местом для прогулок князей из рода Рштуни, а в дальнейшем князья Арцруни устроили здесь свою летнюю резиденцию. Теперь в стороне от села, на косогоре, стоит красивый каменный дом. Одной стороной он обращен к морю, другой глядит в прекрасный сад, зеленокудрыми террасами спускающийся вниз к оврагу.
В саду с острым садовым ножом в руке работал мужчина. Седина только начинала серебриться в его черных волосах. Но смуглое лицо его сохранило юношескую живость. С большой осторожностью надрезывал он кору молодых деревьев и, вставляя туда нежные ростки, перевязывал их мягкой ниточкой. Возле него стояла маленькая девочка в легком весеннем платьице, поля ее соломенной шляпы зонтиком спускались до самых плеч. Она держала в руках жестяную чашу, в которой плавали зеленые ростки. Утренняя прохлада окрасила повязанные белым платочком кругленькие щечки очаровательного ангелочка с ярко-розовым румянцем. Она болтала без умолку и скорей мешала, чем помогала отцу.
— Папочка, ты делаешь приварку?
— Прививку, — исправил отец, — когда ты, наконец, выучишь это слово, Ашхен.
— Выучила, папочка, — перивку, не так ли?
— Теперь уж совсем исковеркала, — рассмеялся отец.
— Что мне делать, папочка, не могу сказать так, как ты!
— За завтраком мама не даст тебе сладкого до тех пор, пока не произнесешь слово правильно.
Ашхен долго выворачивала слово на разные лады, но «прививка» не получалась.
Чтобы выйти из затруднительного положения, она переменила разговор.
— Для чего режешь веточки, папочка, не жалко тебе?
— Если я не буду удалять лишние отростки, тебе не придется зимою есть любимые тобою вкусные ароматные яблоки.
— Когда будут расти яблочки? Через шестнадцать лет?
— Почему через шестнадцать? Спустя три-четыре года, дочка.
— Дай, я перевяжу одно деревцо!
— Успокойся, Ашхен, не сможешь!
— Почему не смогу? Вчера не я перевязала вишню? Разве она испортилась?
Девочка стала перевязывать ранку на деревце; проворные пальчики быстро задвигались, а язычок без умолку болтал.
— Знаешь, что мама готовит к обеду,
— Что?
— Очень много чего готовит — шестнадцать блюд! Говорит, что сегодня прибудут из Муша Арпиар и Гюбби. Привезут они маленького Аршака?
— Привезут.
— Аршака я очень люблю; и Гюбби люблю, и Арпиара, но Аршака больше всех. Он уже вырос, не так ли папа? Должно быть, начал говорить… Ах, как давно я его не видела!.. Шестнадцать месяцев будет.
— Какие же шестнадцать месяцев? — заметил отец, — ведь они у нас гостили на пасху.
В это время мимо садовой ограды проходил красивый мальчик года на два старше Ашхен. С книгами подмышкой торопился он в сельскую школу. Увидя сестру, он остановился и крикнул через забор:
— Ашхен, почему не идешь в школу?
Показав ручкой белый платочек на щеке, Ашхен ответила:
— А ты этого не видишь?
— Лентяйка, — стал дразнить брат, — каждый день ходишь с повязкой, будто зуб болит… так и не проходит твоя зубная боль…
Ашхен не могла простить брату колкого замечания:
— Ты иди себе! Знаю, что уроков не знаешь… Сколько нулей ты получишь!.. Шестнадцать нулей, видишь?..
И подняв обе ручки, раскрыла все пальчики. Брат стал удаляться, не оглядываясь. Отец улыбнулся, слушая детей.
— Арам, — позвал отец, — попроси учителя прийти к обеду, Скажи, что сегодня из Муша приедет Арпиар.
Ашхен стала ворчать.
— Уже шестнадцать дней, как у меня зуб болит… а он говорит, будто я нарочно обвязала щеку…
— Никак не избавимся от твоих шестнадцати, Ашхен, — смеясь заметил отец, — откуда ты взяла шестнадцать? Ведь у тебя всего два дня болит зуб.
Шестнадцать — таинственное число на языке маленькой Ашхен, предел ее счетного искусства.
— Ну, дочка, беги вниз, садовника позови! Там он собирает тутовые листья для шелкопряда.
Как резвая бабочка, помчалась Ашхен и быстро исчезла в зарослях шелковицы, которые ей были знакомы так же хорошо, как игрушки из ее шкафа. Но, спустя несколько минут, примчалась обратно и, задыхаясь, выпалила:
— Шестнадцать раз звала, не откликается.
— Опять шестнадцать… Да ты, проказница, крикнула всего один раз, — сказал, смеясь, отец, — и врать умеешь?
Ашхен опустила головку, и ее бархатные щечки зарделись еще ярче. Отец схватил ее и стал ласкать ниспадавшие на ее плечики шелковистые кудри.
Этот нежный отец был Каро. Некогда он резал ножом людей, а теперь он ножом прививает деревья. Удивительная смена времен! Меняются условия, меняются люди и род их занятий. Человек, некогда игравший со смертью, ныне занят обработкой земли.
Из окон своего дома он видел развалины древней крепости Востан, видел жалкие обломки былого господства своих предков — Кара-Меликов. Недалеко от развалин не крепость построил он, а большой дом со всеми земельными угодьями. Предки его народом правили, а он управлял благоустроенным образцовым имением.
У порога выходной двери, обращенной в сад, сидела старуха. Горячие лучи утреннего солнца терялись в глубоких морщинах ее медно-красного лица. Длинные седые брови ее, сливаясь с сохранившими свой черный цвет ресницами, придавали величавость ее глубокомысленным глазам. Она сидела неподвижно как живое воплощение статуи размышления. Она глядела в роскошный сад, где работал Каро, глядела на миловидных детей, кружившихся вокруг него, глядела на обширные поля, возделанные усилиями Каро, глядела на холмы, усеянные его стадами, — глядела, и истерзанное за долгие годы сердце старухи обретало покой и отраду. Сколько страданий перенесла, каким жестоким преследованиям подвергалась эта престарелая женщина… Сколько бродила по миру… Сегодня же она полна великой радости, ибо пожинает плоды своих неутомимых трудов.
Это была старая Сусанна.
Отсюда село как на ладони. Погруженное в утренний полумрак, оно казалось еще великолепнее. Прежних землянок и в помине не было. Там, внизу, по обеим сторонам прямой и широкой улицы тянулись дома сельчан, утопавшие в густой зелени. Прелестная сельская церковь с находившейся рядом сельской школой пленял взор. Здоровые, чисто одетые сельчане весело шли на работу. Казалось, жизнь для них была вечным праздником, будто никогда нужда и горе не добирались до них.
Старуха продолжала смотреть.
Показалась стройная женщина, смуглая, с черными жгучими глазами, она была в кухонном переднике. Эта прелестная женщина давно перешла за свой девичий возраст, но нельзя было глядеть на нее без восхищения. Она была воплощением красоты в зрелом возрасте. Некогда она, похищенная из пустынь Афганистана, украшала собою замок Динбулинов. Ныне же она неутомимая хозяйка мирного сельского дома.
Она дочь старухи, жена Каро и мать Гюбби — красавица
Асли.
Увидев у порога свою мать, она участливо обратилась к ней:
— Мама, вчера только ты жаловалась на ревматизм, а теперь опять сидишь на холодном камне!
— Кости мои окрепли на камне и на холоде, дочка, — ответила старуха, не трогаясь с места.
Асли не возразила. Она вошла в комнату, вынесла оттуда небольшую подстилку и попросила мать сесть на нее. Старуха неохотно покорилась.
Асли направилась в сад, где работал ее супруг. Проходя по аллее, в которой росли розовые и сиреневые кусты, она срезала ножницами, висевшими у нее сбоку, большую белую розу и приколола ее к груди. Потом набрала еще много роз и связала прелестный пёстрый букет для обеденного стола.
— Мамочка! — окликнула ее издали маленькая Ашхен.
Мать подошла.
— Смотри, это я перевязала, — указала она на одно деревцо, — через шестнадцать лет на нем будут красные яблочки.
Мать обняла девочку, поцеловала. Потом, обратившись к мужу, спросила:
— Кто еще будет обедать у нас?
— Только наши, — ответил муж, поглядывая то на нее, то на букет, будто сравнивая их.
— Но ты говорил, что будут и другие.
— Нет, других гостей не будет. Придет только учитель, да еще сосед — курд Агаси-бек.
— Вряд ли Агаси-бек сможет придти, — заметила жена, — ведь его сын опасно болен, всю неделю не ходил в школу.
— Опасность, по-видимому, миновала, — ответил муж, — вчера врач мне сказал, что мальчик выздоравливает.
Жена обрадовалась.
Ашхен попросила дать ей букет. Сама понесет домой. Мать исполнила ее желание.
— О, сколько тут цветов! — шестнадцать цветов! — с удивлением воскликнула она и побежала к дому.
Мать также удалилась. Каро смотрел им вслед и мозолистыми руками своими вытирал слезы радости. Они были из тех супругов, которые старятся, но любовь их остается вечно юной.
В полдень к каменному дому подъехал дорожный экипаж. Вышел юноша с маленькой бородкой, со смеющимся лицом и помог сойти молодой женщине. Вслед за ними вышла горничная с пухленьким младенцем в руках. «Гюбби»!.. «Арпиар»!.. раздались радостные восклицания, и обитатели дома выбежали встречать дорогих гостей. Один из них был зять Каро, другая — дочь его.
Спустя несколько часов мирная семья сидела вокруг обеденного стола. Все были довольны судьбой, потому что могли пользоваться благами жизни. Были счастливы, потому что наслаждались неиссякаемой радостью семейной жизни.
Глава 3
Если кому приведется проезжать мимо монастыря святого Варфоломея, Агбакского уезда, в сторону Баш-Кале, то он заметит рано утром старца с седыми, как снег, волосами, сидящего на таком же седом коне. Старец долго кружил по окрестным долинам и к полудню, когда жара начинает донимать, возвращается в соседнее село. Конь его так же стар, как и хозяин. Он хромает на переднюю ногу. Много лет тому назад он был ранен в бою. Но это не мешает ему по-прежнему служить самоотверженно. Этот верный боевой конь некогда мчался в атаку со своим господином. Прошли боевые дни, настали времена мира и тишины. Ныне выезжают они на полевые работы, на жатву, кружат по плодоносным долинам. Умное животное настолько освоилось с привычками хозяина, что знает, в каком направлении надо идти, по каким местам возить его. Медленным шагом проходит он по межам, осторожно, чтоб не помять ни одного колоса. Если где-либо прорвалась плотина и вода побежала к созревшим нивам, не нуждающимся в поливке, если скотина затоптала поле соседа, если где-либо появились полевые мыши, словом, если где-либо нарушен порядок, он тотчас же заметит и остановится. От наблюдательного и опытного взора старика не скроется ничего; по возвращении в село, приглашает к себе сельчанина и делает выговор. Ежедневные прогулки доставляют ему великое удовольствие. Он видит плоды своих трудов и радуется им.
Этот старец — охотник Аво.
Он купил у вдовы одного курда эту необитаемую глухую горную долину со всеми прилегающими землями и основал здесь село. Его дом был первым жильём, вокруг которого вскоре стали строиться другие дома. Спустя несколько лет здесь образовалась большая колония.
Охотник передал все земли в общинное пользование, сам стал рядовым членом общины.
Он обязал общину выплачивать частями плату за землю, но взносы были столь ничтожны, что совершенно не обременяли поселян. На полученные таким путем деньги охотник построил школу, обеспечил ее средствами. Своими благодеяниями он снискал глубокое уважение признательных крестьян, которые стали смотреть на него, как на отца и заступника. В школе учились дети и из окрестных деревень. Благодаря этому он завоевал уважение во всём округе, а агбакские жители избрали его своим «миром», то есть представителем уезда. Состарившись, охотник отказался от этой должности, и его заменил зять его — Фархат.
Охотник усыновил Фархата и выдал за него свою дочь Маро. Подруга детства стала его супругой.
Сегодня у ворот дома охотника, на большой площади, выстроился табун его коней. На левом бедре каждой лошади выжжено клеймо — армянская буква Ո
[155]. Кони ржут, бьют землю копытами, пыль столбом поднимают; конюхи с трудом удерживают их. Фархат торгуется с персидскими купцами, приехавшими купить лошадей. Жена его, красавица Маро, стоит у окна с младенцем на руках и смотрит на мужа. Старик-охотник, сидя у порога, с восхищением слушает Фархата, который знакомит купцов с достоинствами каждой лошади. Великан Мхэ, верный слуга охотника, хоть и седой уже, не потерял еще былую геркулесову силу. Он сердится на беспокойных коней: «Что за черт влез вам в иоздрю!..» — кричит он коням и накидывает петлю на шею ненаезженного жеребчика, выводящего его из терпения. Мхэ ныне главный конюх охотника, и эта должность очень ему льстит. Фархат кончил торг и веселый, и довольный, с золотыми монетами в кошельке, вошел в дом.
— Сколько сторговали? — спросил охотник.
— Пять коней только, — ответил Фархат.
— Много шуму, да мало проку.
— Они находят, что слишком дорого ценим лошадей.
— Хорошая вещь и цену имеет хорошую, — заметил охотник. — Пусть ищут по всему уезду, если найдут подобных коней, я своих даром отдам.
Вошел Мхэ.
— Бери, Мхэ, — сказал Фархат, протягивая ему два золотых. — Я обещал дарить тебе после каждой продажи.
— К черту-дьяволу твои золотые, — ответил Мхэ, — подари лучше кусочек кожи, чтоб лапти поправить. — И он указал на свой потрепанный лапоть.
Фархат улыбнулся, охотник громко рассмеялся.
Мхэ до конца своей жизни оставался таким же добрым, простодушным, бескорыстным. Он был из тех сумасбродных людей, чудачества которых служат признаком некоей мудрости.
Подошла Маро, приняла кошелёк с золотом — она была и экономом и кассиром своего мужа. Трудно было поверить, что капризная, пылкая, необузданная девушка, какой была Маро в ранней молодости, могла превратиться в серьезную, солидную хозяйку дома, завоевавшую не только любовь, но и уважение супруга. После смерти матери Маро росла без всякого надзора; отец, занятый своими делами, не имел возможности уделять дочери много времени. Только впоследствии, когда Маро стала взрослой девушкой, охотник освободился от чрезмерной работы и стал заниматься воспитанием девушки. «Фархат учится, чтоб стать достойным мужем, а ты также должна учиться, чтоб быть подходящей для него женой», — говаривал он часто. Хотя с Маро занимались учителя, но она развилась умственно, главным образом, благодаря своим усилиям, путём самообразования. Вскоре она стала читать армянские газеты, познакомилась с новой литературой. Часто она поражала собеседников правильными суждениями и глубиной мысли. С нетерпением ждала она ежедневно почтальона, доставлявшего газеты и книги. Теперь она мать двоих детей; мальчик недавно стал ходить, а девочка сосет грудь.
Мать Фархата умерла очень рано, не дождалась счастья своего сына. Его сестры — Мария и Магдалина — остались сирыми, одинокими. Охотник принял их под свое покровительство, вырастил и выдал их замуж.
Другой приемыш охотника, Асо, проживал в селе К., в горах Душмана, где проживал охотник после переезда из Салмаста в Агбак. «Семья Асо так же многочисленна, как его скотина», — смеялся над ним Мхэ. Ежегодно Асо отправлял на рынок для продажи масло, сыр, овец и овечью шерсть в большом количестве.
Ныне Агбак — мирный, цветущий, счастливый край, где обеспечены и жизнь, и труд, и собственность поселянина.
Глава 4
В городе Ван, в той же лавке того же постоялого двора, где некогда торговал мосульский ходжа Торос, теперь за просторным письменным столом сидел один господин. Старая азиатская лавка совершенно преобразилась, она превратилась в торговый дом европейского образца. Бухгалтер, кассир, приказчик, писари — каждый имел свое место и исполнял свои обязанности. Изменились даже сорта, количество и качество отпускаемого товара. Преобразился и господин, сидевший за столом. В молодости он не отличался крупным телосложением, а состарившись, стал еще меньше. За большим письменным столом видна была лишь верхняя часть груди и маленькая головка с длинными седыми волосами. Из почтенных седин выглядывало задумчивое лицо с беспокойными глазами, свидетельствовавшими о неукротимой энергии делового человека. Он не вмешивался в работу, работа совершала свой круг, подобно заведенной машине, лишь изредка обращались к нему с тем или иным вопросом. Он был хозяином и управляющим торгового дома.
Рядом с ним сидел господин в черном костюме, он вертел в руках черную шляпу с широкими полями, которую временами, как бы отдыхая, вешал на свою тросточку. Этот господин так же был близок к старости. Черный цвет волос еле пробивался сквозь седины на голове и в бороде его. Спокойное лицо его, подобно лицу младенца, поминутно улыбалось. По-видимому, он был давно знаком с владельцем торгового дома. Приехав недавно из Битлиса, он поспешил навестить его.
— Простите, друг мой, — продолжал начатый разговор хозяин, встав и вновь погрузившись в свое просторное кресло, — вся моя одежда сшита из местной ткани; скажите, пожалуйста, чем она плоха? Правда, она не отличается тонкостью европейской ткани, но зато прочнее и дешевле. Если б каждый из нас мог удержать себя от тяги к роскоши, мог довольствоваться продукцией местной промышленности, деньги наши не утекали бы в Европу, они оставались бы в нашей стране.
— Разве местный товар не расходится? — спросил прибывший из Битлиса.
— В настоящее время покупателей у нас довольно много, — ответил коммерсант, приложив руку ко лбу, как бы соображая, не ошибается ли он. — Но знаете ли, друг мой, сколько усилий, сколько жертв мне стоило привлечь массового потребителя.
На лице битлисца отразилась искренняя радость.
— Скажите пожалуйста, — спросил он, — вы экспортируете товары за границу?
— Да. Наши ткани мы вывозим в Персию, в страны Малой Азии, даже в различные города Закавказья. Это, действительно, коммерция. Прежде мы не были коммерсантами, хотя и считали нас коммерческой нацией. Мы были только жалкими посредниками покупали у одних, продавали другим, мы были тогда простыми торговцами. Теперь же совсем иное.
Он приказал принести несколько образцов шерстяной ткани. Принесли, положили на стол.
— Вот чуха
[156] из нашей ткани, — обратился он к собеседнику, — в прошлом году на Парижской всемирной выставке она получила первую премию среди азиатских тканей.
Битлисец смотрел с восхищением.
— Великолепные ткани, — воскликнул он, — очаровательные! Правду вам сказать, мне стыдно сидеть перед вами в моем одеянии. — Он указал на свой костюм, сшитый из тонкого английского сукна. — Неужели ваша фабрика их выпускает?
— Да, наша, — ответил коммерсант с самодовольством. — Кто может иметь такую прекрасную шерсть, какую дают наши овцы и козы? К несчастью, до сей поры не имели возможности использовать наше сырье. Европеец увозил нашу шерсть и наш хлопок, перерабатывал их в ткани и продавал нам же по удесятеренной цене. Мы набивали карманы чужеземцев, а сами оставались нищими.
— Да, так было… — печально повторил битлисец, потом спросил. — На каких условиях работают рабочие вашего предприятия?
— Рабочие имеют свою долю в общей прибыли, — ответил коммерсант. — После долголетнего опыта я пришел к выводу, что рабочие должны быть сотоварищами в предприятии. Это мероприятие удвоило их энергию, привязало к производству. Они имеют ссудо-сберегательную кассу, что дает возможность помогать товарищам в случае болезни или потери трудоспособности. Я сам покупаю на моей фабрике нужный для моего магазина товар, как и всякий чужой.
— Это высокочеловеколюбивое начинание, — заметил битлисец, возводя глаза к небу, как бы желая сказать; «Будь благословен, сын мой!..»
Беседа была прервана приходом старика со смеющимся лицом, с несколько согнутой спиной, с окрашенными краской руками. Подойдя к владельцу торгового дома, он по-приятельски пожал ему руку и с удивлением взглянул на битлисца.
— Вероятно, за деньгами пришли? — обратился к нему коммерсант.
— Зачем еще должен был придти, голуба-душа, — ответил он и подошел к кассиру.
— Лицо этого человека показалось мне знакомым, — заметил битлисец после его ухода.
— Он вам знаком… — заговорил купец таинственно, — это мастер Фанос; в прежние годы он имел небольшое красильное заведение, теперь же настолько усовершенствовал производство, что все ткани моей фабрики я ему отдаю в окраску.
Посетители не давали покою. Один уходил, несколько человек входило. Работа кипела. Вошел господин высокого роста, атлетического сложения, с проседью в волосах; пол затрещал под его крепкими ногами.
Не поздоровавшись ни с кем, он стал посреди комнаты и, указывая рукой на старшего приказчика, обернулся в сторону владельца торгового дома и закричал громовым голосом:
— Скажите этому господину, если в следующий раз тюки не будут доставлены своевременно, я их в море побросаю.
И не дожидаясь ответа, тотчас же вышел.
— Узнали его? — спросил коммерсант, обратившись к битлисцу.
— Узнал… — ответил он. — Бердзен-оглы… лодочник из села Аванц… Он остался таким же неотесанным…
— Но вполне порядочный человек. Теперь он лучший капитан пароходного общества.
— Знаю, я прибыл его пароходом.
Владелец торгового дома переменил тему разговора.
— Скажите, пожалуйста, что нового у вас в Битлисе?
— Ничего интересного нет. Да вот скончался бедный хаджи Исах.
— Неужели? По всей вероятности, крупное состояние осталось после него.
— Не так много, как предполагали. В последнее время он жертвовал большие суммы па различные цели… А часть оставшегося имущества он завещал на постройку школы для детей армян без различия вероисповедания.
На лице коммерсанта отразилось нечто вроде удивления.
— Никак не ожидал я этого от хаджи Исаха, — сказал он.
— В последние годы он совершенно изменился, — ответил битлисец… — во время междоусобных распрей он был одним из тех, которые требовали удаления американских миссионеров из Битлиса. Бедный старик часто повторял: «Они не только от дедушки Просветителя
[157] нас отдалили, они нас отторгли от нашего родоначальника Айка… ожесточили нас против родных братьев наших…»
Пробило два часа.
Владелец торгового дома встал.
— Надеюсь, вы будете настолько добры, согласитесь пообедать у нас.
— С большим удовольствием, — ответил битлисец, также вставая. — Я давно не видел вашей жены и детей ваших, хотел бы навестить их.
Они вышли из торгового дома. Проходили по ровным, чистым улицам. Справа и слева возвышались двухэтажные и трехэтажные каменные дома. От прежних грязных и узких улиц не осталось и следа, исчезли также полуразрушенные мазанки из глины или сырцового кирпича. Везде было опрятно и красиво. Не встречались люди в лохмотьях, хватавшие прохожих за ворот, требовавшие подаяния. Женщины не прятали в чадры своей одежды и своих лиц, боясь нападения какого-либо наглого негодяя. Не было слышно слова «гяур»
[158]. На улицах магометане приветствовали христиан еще издали. Во дворце паши сидел губернатор-христианин. Был час окончания школьных занятий. Мальчики и девочки с сумками за спиной или подмышкой заполнили все улицы. Невозможно было пройти. Некогда по этим улицам скакали пьяные янычары с оголенными саблями в руках или шныряли звероподобные аскеры
[159] похищавшие все, что попадалось на глаза. При виде их жители средь бела дня прятались в домах, накрепко запирали ворота. Теперь эти варвары исчезли, исчез и страх, сковывавший людей.
Они остановились перед хорошеньким домиком. Вошли в тенистый двор, усаженный деревьями. Под одним из деревьев сидела пожилая благовидная женщина и что-то вязала. Увидя вошедших, она отложила рукоделие в сторону и пошла им навстречу.
— Ах, господин Мисакян! — воскликнула она, — я совсем не ожидала вас увидеть… Как поживаете?.. Какими судьбами?.. Какой ветер вас сюда занес?.. — ошеломила гостя множеством вопросов.
Господин Мисакян дружески пожал руку хозяйки.
Этот почтенный человек, одетый во все черное, был иерей битлисских армян-протестантов — Джаллад, именуемый теперь по фамилии — господин Мисакян. А гостеприимный хозяин дома — наш давнишний знакомый Саго, которого теперь называли Саркис Сепухян. Изменились обстоятельства, переменилось и имя его. А супруга его была дочь тер Тодика — Сона. Он женился на дочери своего давнишнего учителя. Счастливая семья имела несколько душ детей, старший сын обучался в Германии.
Тер Тодика давно не было на свете, он умер с гадательной книгой в руках.
Глава 5
В армянском квартале деревни Савра Салмастского уезда привлекал внимание покосившийся дом, который не столько от древности, сколько от недосмотра, потерял былую красоту свою и благолепие. Ворота этого безмолвного, как могила, дома были заперты и днем, и ночью. Дом казался необитаемым. Но иногда со скрипом ворочались заржавевшие петли, ворота открывались и выходила оттуда женщина со скорбным лицом. Она садилась на бугорок и часами молча смотрела на протекавший по улице ручеек, будто в заунывном лепете его хотела схоронить безысходную тоску свою. Она состарилась преждевременно, как и дом, из которого выходила временами. В смуглых чертах ее измученного лица, во мраке ее черных глаз отражалась глубокая скорбь безутешной души, скорбь, сокрытая в израненной, сокрушенной груди. Ее горестный взгляд свидетельствовал о том, что эта многострадальная женщина никогда не вкушала радости и счастья; временами судьба улыбалась ей лишь для того, чтоб прельстив, ввергнуть ее в более тяжелое отчаяние. Никто к ней не подходил, ни с кем не разговаривала она. Молча садилась она на бугорок, слушала жалобы ручейка, слушала щебетание птичек и вздыхала глубоко-глубоко. К ней подходили лишь дети. Как только она показывалась, со всех сторон бежали к ней малыши с возгласами: «Нене, Нене!..» и окружали ее тесным кольцом. Нене обнимала их, разговаривала с ними и раздавала медные монеты на покупку чего-либо съестного. Дети целовали ее окостеневшие руки, целовали худое высохшее лицо и с радостными восклицаниями убегали. Эта горемычная женщина была сильно уязвлена людьми, она находила утешение лишь в общении с детьми…
Кто была Нене?
История ее жизни известна читателю из «Дневника Хачагоха»
[160]. Она была женой Мурада.
Мурад трудился много, нажил состояние, но среди товарищей он был самым несчастливым. Детей у него не было. Родственники не хотели ждать его смерти, они отравили его, чтоб завладеть богатством. Он умер, оставив Нене в безысходном горе, постоянно оплакивавшей незабываемую память любимого супруга.
Эта безутешная вдова жила совсем одиноко, она была совершенно оторвана от общества. Она чувствовала отвращение к жизни и к людям. В ее доме жил дряхлый старик, глаза которого не видели. Остался только скелет его, да жалостный голос, тяжко вздыхавший: «Когда же смерть возьмет меня!..» Ежедневно можно было видеть его, съежившегося где-нибудь в углу двора на какой-то веточке, беспрестанно роптавшего: «Кушать хочу!..» Нене кормила его целый день, но насытить не было никакой возможности.
Этот старец был кум Петрос. Возвратившись на родину после долгих скитаний, сей знаменитый «хачагох» не нашел в живых никого из членов своей семьи. Нене приняла его под свое покровительство, окружила заботами его старость. Несчастный был несколько тронут в рассудке. Гроза всей страны, ужасом леденивший сердца людей, теперь, подобно неразумному ребенку, повторял часто: «Нене, когда же купишь мне красивые сапожки?» От глубокой старости он впадал во младенчество. И, вправду, на месте выпавших давно зубов стали прорезываться новые зубы, на месте облезшей бороды появился еле заметный мягкий пушок.
Этот вечный старец напоминал вечный грех Савры — этого логова «хачагохов», напоминал грех, который старится и вновь приобретает молодой вид…
Глава 6
— Здесь… вот здесь он погребен, — говорил молодой человек с грустным лицом, указывая на возвышавшуюся над поверхностью земли насыпь. — Рашид хорошо знает это место… Он не так уж забывчив… — прибавил он печальным голосом. — Если потопом будут затоплены все горы, не останется ни одной неровности земли, Рашид все-таки найдет эту могилу…
Слова были обращены к господину, печально глядевшему на указанное место. Под руку с ним стояла высокая худая женщина, которой он доходил до плеч. Она держала в руках зонтик, защищавший от солнца и ее, и господина. Стоявшие возле них дети напряженно смотрели на могилу. По их одежде заметно было, что они приехали издалека, только что сошли с экипажа, и, действительно, возле дороги их поджидала коляска. Разговор происходил у наружных стен знакомого читателю монастыря Апостолов, там, где мы однажды показали забытые гробницы Давида Непобедимого (Анахт), Хоренаци и Лазаря Парбского. К этим гробницам прибавилась еще одна заброшенная могила…
В этой безмолвной и глухой могиле без надгробной плиты покоился знакомый нам «Немой».
Господин, в последний раз взглянув на могилу, направился с дамой к монастырю, но один из малышей остановил его.
— Папа, это могила твоего друга, о котором ты рассказывал нам по дороге?
— Да… — ответил отец печальным голосом.
— А почему его похоронили так?.. — спросил мальчик дрожащим голосом. — Должно быть, у него детей не было, да?..
— Не было… — сказал отец.
Они говорили по-английски.
Мальчик обернулся к сестре и братьям.
— Ануш, Хорен, Тигран, папин приятель не имел детей, соберем цветы и уберем его могилу!
Дети рассыпались по полю. Мать с умилением глядела им вслед.
Летняя жара не оставила цветов, выжгла все, даже травы. Лишь между скалистыми утесами сверкал желтым и багровым блеском бессмертник, а из расщелин выглядывала душистая полынь со своими белыми и мягкими, как бархат, листьями; местами попадался сердечник, испускавший острый, едкий запах. Малыши бросились собирать их. Через несколько минут был готов большой венок, сплетенный из бессмертников и других полевых цветов. Возложив венок на могилу друга своего отца, они стали, скрестив ручки на груди и возведя закрытые глаза к небу… Эта величественная, торжественная минута была так трогательна, так свята, как невинная душа младенца. Отец и мать утирали слезы, не мог сдержать своих слез и Рашид, он также заплакал. Так молились дети еще в Нью-Йорке, когда они каждую субботу ходили на могилку своей старшей сестры.
Господин попросил провожавшего их молодого человека показать келью покойника.
Знаменитый монастырь был пуст. Лишь один седовласый монах стоял посреди двора и кормил окружавших его кур.
Увидя прибывших, он подошел к ним.
— Зачем приехали эти франги? — спросил он молодого человека, отведя его в сторону.
— Они не франги, — ответил Рашид, — этот господин армянин, я знаю его… Это тот самый человек, о котором говорил покойник, просивший передать ему все его вещи.
— Откуда они приехали?
— Из Америки, жена его американка.
Господин озирался вокруг. Виденный им несколько лет тому назад знаменитый монастырь теперь производил на него тягостное впечатление.
— Почему в таком печальном состоянии находится монастырь? — спросил он у монаха.
— Некогда в столовой этого монастыря садилось за стол несколько сот человек. Кто теперь остался? Я да куры, да еще вот этот человек, — он указал на Рашида. — Все монастырские земли отобрали, лишили нас куска хлеба. Целыми днями, месяцами глядим на ворота в надежде увидеть хоть одного заблудшего паломника. Но нет, не едут на богомолье. Убывает вера и рвение к богу. Если изредка и забредет кто-нибудь, все равно, проку мало, его приношения так скудны, что на них не проживешь.
Опечаленный инок еще долго тянул бы свои жалобы, но господин перебил его, заявив вежливо, что торопится, времени осталось мало.
Вошли в келью покойного. Она была так мала, что не могла вместить всех. Дети остались во дворе.
Все лежало на своем обычном месте. Та же простая деревянная кровать и постель на ней, тот же дубовый письменный стол, стоявший против узенького окошечка; у стола то же старое кресло с художественной резьбой — единственное украшение печальной обители. Разбросанные по столу бумаги, чернильница с высохшими чернилами, гусиные перья, перочинный нож, подсвечник — ничего не было сдвинуто с места ни на волосок.
На столе лежали медяки; по словам слуги, это было все, чем располагал покойный в последние дни своей жизни. Все было на месте. Недоставало только того, кто работал там в глубокой нищете. На письменном столе лежал его платок, на котором он в последний раз оставил кровяной след и испустил дыхание…
— Хорошенько посмотрите, господин, — заговорил слуга, — видите, ничего не утеряно. Ночью я, как верный пес, ложился у дверей кельи, даже мухе не давал влететь сюда.
Седовласый инок рассказал, как слуга летом и зимою, под дождем и снегом, прижав к груди свою дубинку, проводил у дверей кельи бессонные ночи. Ежедневно утром отворял он келью, подметал, чистил, поправлял постель, вытирал пыль со всех предметов, лежавших на столе, потом все расставлял по местам, чтоб его господин не застал беспорядок, хотя господин давно был мертв.
— Но душа его с неба видела все, — заметил слуга, подняв руку кверху. — Умирая, покойный сказал мне: «Рашид, все оставишь в таком же виде до его приезда…» Как я мог не исполнить его желание?
Слезы не дали договорить добросердечному шатахскому парню, которого мы видели еще отроком, когда он на кухне своего господина боролся с Фархатом. Теперь он уже взрослый молодой человек, но давней простоты своей еще не утерял.
Он стал расстегивать пуговицы на груди. На голом теле показалась коротенькая цепочка, на которой висело колечко с ключиком, напоминавшим крест на груди верующих.
— Примите ключ, господин! Блаженной памяти сказал: «Спрячь этот ключ, Рашид, до его приезда и только ему можешь вручить». Теперь, слава богу, вы здесь, возьмите ключ.
Господин взял ключ.
Молодой человек достал из-под кровати старый длинный ящик из орехового дерева, окованный железными ободками.
— Ключ от этого ящика, — сказал он. — После смерти покойного я, бог свидетель, ни разу не открывал, чтоб посмотреть, что в нем.
— Совершенно уверен в этом, — ответил господин и, подойдя к ящику, открыл его.
Ящик был полон исписанной бумагой, большими и маленькими тетрадями. Среди рукописей находились неоконченные романы, повести, стихотворения, были также совершенно законченные труды.
Высокая женщина, печально осматривавшая трогательные принадлежности мрачной кельи, при виде бесчисленных листов, в беспорядке брошенных в ящик, не могла удержаться от слез. Это были труды горемычного армянского поэта. Дрожащими руками взяла она, как святыню, одну из тетрадок и долго, с напряженным вниманием смотрела на незнакомые буквы. В это время вбежали дети.
— Папа, — воскликнула маленькая Ануш, — ты обещал научить нас читать по-армянски, когда будем в Армении; дай нам всем по одной тетрадке, мы будем учиться по ним.
— Прочтете, когда будут напечатаны, дитя мое, — ответил отец.
— А будут ли напечатаны? — спросила дама.
— Будут…
Рашид рассказал, что в последнюю ночь покойный попросил затопить печь. «Нужно перебрать эти бумаги…» — сказал он.
— Я поставил ящик возле него, он просматривал бумаги и некоторые из них бросал в огонь. Но, не докончив этой работы, он скончался… Последняя книга еще не догорела, я вынул ее из печки, положил с другими книгами и запер ящик. Этим я, конечно согрешил, пошел против его желанья. «Быть может, — подумал я, — понадобится эта книга. Покойный не мог написать ничего дурного. Ах, сколько он писал!.. Будто знал, что долго не проживет…».
Господин взял полуобгорелую книгу, перелистал и, обратившись к слуге, сказал:
— Да, конечно, понадобилась бы, если б огонь не уничтожил большую часть ее.
Это была история армянской церкви, которую давно намеревался написать покойный.
Господин собрал все бумаги, лежавшие на письменном столе, уложил в ящик, запер. Платок покойного с последним кровавым пятном спрятал на груди…
Потом он обратился к слуге:
— За твою верность, добрый Рашид, получишь вознаграждение от меня. Ты сберег сокровище, очень ценное для нашего народа. Это сокровище заключается в деревянном ящике. Возьми его, пойдем со мною.
Потом он обратился к иноку.
— Весьма благодарен, святой отец, что дали возможность сохранить в целости все, что принадлежало покойному. Как вы видели, я беру с собою только бумаги его, а все имущество оставляю вашему монастырю.
Лицо инока засияло от радости. Господин вручил ему пакет и сказал:
— Прошу принять от меня этот пакет; часть оставьте себе, на остальные деньги поставьте надгробный памятник на могилу покойного.
Инок с благодарностью принял деньги, спросил:
— Какую сделать надпись на памятнике? Покойный так долго жил в монастыре, но мы его имени не знали.
— Не надо писать ничего, — ответил господин, — прикажите выдолбить лишь крест.
— Царство ему небесное!.. — перекрестился инок.
Рашид взял ящик. Слезы градом катились из глаз его, когда он расставался с мрачной кельей, в которой жил его господин, где каждая вещь напоминала любимого, обожаемого человека. Выйдя из монастырских ворот, он обнял инока, приложился к его руке. Видно было, что эти последние представители некогда многочисленной монастырской братии жили в полном согласии.
Ящик уложили в экипаж; все уселись, извозчик поскакал по Мушской дороге.
Этот господин был Аслан, которого теперь называли доктором Сасунян, а высокая американка была его жена. Она была дочерью одной богатой вдовы, которая в Нью-Йорке усыновила Аслана, в чьем доме он провел студенческие годы. Он полюбил ее дочь, дал слово жениться на ней. Долголетняя разлука не охладила их любви. Девушка дала клятву ждать его возвращения в Америку.
Поехав в Индию, Аслан исполнил важные поручения товарищей, а затем отправился в Америку и обвенчался с любимой девушкой. Теперь он ехал в Муш на должность городского врача.
Наши записки представляют собой описание. Множество лиц предстало пред нами и скрылось за завесой. Из их жизни и деятельности мы взяли лишь наиболее существенные черты. Если б мы проследили до конца деятельность каждого, нам пришлось бы написать и третий том. Последнюю нашу книгу мы начали Асланом, Асланом же опускаем занавес последнего акта.
ПРИМЕЧАНИЯ
Двухтомный роман «Искры» классика армянской литературы Раффи выдержал десять изданий на армянском языке, как в нашей республике, так и за рубежом.
В русском переводе отдельные главы романа вошли в сборник «Армянские беллетристы», изданный Ю. Веселовским и М. Берберяном (1892 г.). Полный текст романа на русском языке впервые увидел свет в 1949 году в Москве в издательстве Арменгиз. Перевод первого тома принадлежит выдающемуся армянскому поэту Ваану Теряну, второй том переведен Ст. Капанакяном и А. Милиловой-Капанакян.
Теряновскому переводу суждено было печататься лишь спустя 33 долгих года и то с большими купюрами.
При подготовке настоящего издания перед редакцией была поставлена задача: восстановить подлинник теряновского перевода, имея ввиду, что в издании 1949 года была неуместно «отредактирована» безупречная работа Теряна,
Исходя из этого, первый том романа полностью сличен с рукописью Теряна, хранящейся в музее литературы и искусства Армении (Фонд Теряна, № 91) и восстановлен в первоначальном виде.
1. Следует отметить, что названия глав первого тома в издании 1949 года часто не только грешат неточностью, но и не соответствуют содержанию этих разделов. Например:
Главу 7 Раффи озаглавил
«Սիրո առաջին զգացմունքը»։ Терян точно перевел — «Первое чувство любви», «отредактировано» же З. Башинджагяном — «Первая любовь» (?!).
Глава 28 Раффи озаглавлена
«նշույլները երևում են»։ Терян перевел «Признаки видны», «отредактирована» же З. Башинджагяном — «Путеводная нить найдена».
Глава 44 автором озаглавлена
«Գիժ տերտերը և բժիշկը»։ Терян перевел «Сумасшедший поп и доктор», «отредактировано» — «Сумасбродный священник и доктор».
Заглавия этих и других оглавлений — 32, 35, 39, 41 — в настоящем издании восстановлены, ибо в переводе Теряна они в точности воспроизводят замысел армянского оригинала.
2. Терян всегда верен подлиннику, умело выбирает точные выражения для передачи армянских оборотов речи. Лишь в очень редких случаях он прибегает к «армянизмам». В исключительных случаях отказывается от отдельных деталей, загромождающих текст романа. Именно так он поступил при переводе описания западни охотника Аво.
Терян впоследствии, перепроверив свою работу, вычеркнул описание западни Аво, но редакция первого издания, по непонятным причинам, восстановила вычеркнутое Теряном.
3. В первом издании под редакцией З. Башинджагяна невозможно различить примечания автора, переводчика и издателя. Пришлось пересмотреть все примечания. В издании 1949 года в подстрочных примечаниях разъясняются термины — хачкар, тешик, аралез, архалук и т. д., которых у Теряна нет, т. к. они объясняются в тексте перевода. Естественно, они не могли войти в настоящее издание. В теряновском переводе разъяснены термины: зурна, саз, нагара, джан-гюлум и т. д., они приводятся с прибавлением
прим. пер. (примечание переводчика). К примечаниям же Раффи в обязательном порядке прибавляется —
прим. авт.
4. В поэтическом переводе «Песни Асо» в первом издании строка:
«Вот зима, а нам не страх», переделана З. Башинджагяном:
«Не боимся мы зимы», чем искажены смысл и художественный строй текста стиха.
5. В тексте теряновского перевода термины:
айсори, айсорийцы — в дальнейшем рукою Теряна всюду переправлены:
сириец, сирийцы, что в исправленном виде и представлены в настоящем издании.
По данным рукописи исправлены и другие страницы текста.
6. Терян не счел необходимым перевести эпиграфы к роману и к первой его главе из притч Соломона и пророка Есаи, а также посвящение меценату первого издания романа — полковнику Мелик Айказяну, следовательно они не вошли в настоящее издание романа «Искры».
Составитель К. МАДОЯН
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Выдающийся армянский романист Раффи (Акоп Мелик-Акопян) родился в 1835 году в селе Пайаджук персидской провинции Салмаст, в семье купца Мелика Мирзы. Отец его был одним из влиятельных людей Персии. Начальное образование маленький Акоп получил в своем родном селе в школе «тер-тодиковского» типа, где обучали с помощью «фалахки» и розог. Этот способ обучения великий писатель в дальнейшем высмеял в своем романе «Искры». С детства, как утверждают его биографы, он был искусным объездчиком лошадей, хорошим стрелком и не был лишен способностей к рисованию. Хорошо знал быт и нравы своей родины, а также народное творчество.
Мелик Мирза, который знал цену образованию, привез в 1847 году сына в Тифлис и определил его в школу Карапета Балугяна. Способный и смышленый юноша с любовью изучает здесь родной язык, а также грабар (древнеармянский язык), читает труды армянских летописцев, знакомится с произведениями мировой классической литературы.
Окончив упомянутую школу, Раффи поступает в Тифлисскую государственную гимназию. Здесь он получает возможность глубже изучить русский язык, читает произведения таких классиков русской литературы, как Чернышевский, Тургенев, благотворное влияние которых сказывается в дальнейшем в его произведениях.
К сожалению, Раффи не имел возможности окончить гимназию. Получив известие о болезни отца, он вынужден был оставить учебу и в 1856 году вернуться в Персию, для того, чтобы вести торговые дела отца.
Путешествуя по армянским провинциям Ирана и Турции, Раффи посещает Карин, Ван, Тарон, где изучает старинные памятники, предания, легенды данных местностей, тяжелые условия жизни народа под гнетом феодальной Турции и ханской Персии. Все это дало богатый материал для будущих произведений писателя.
В 1860 году в издаваемом в Москве журнале Степаноса Назаряна «Юсисапайл» («Северное сияние»), Раффи публикует свой первый очерк — «Монастырь Ахтамар».
Бурная литературная деятельность явилась препятствием для ведения торговых дел. Вскоре он обанкротился и решил посвятить себя педагогической деятельности.
Педагог Раффи поднимает вопрос о совместном обучении мальчиков и девочек. Это настраивает против него консервативные круги общества. Противники Раффи заставляют его оставить работу в школе Арамяна в Тавризе.
Далее Раффи получает должность учителя армянского языка и истории в школе Агулиса. Однако, и здесь нет благоприятных условий для его педагогической деятельности. Местные реакционные силы преследуют его, и Раффи вынужден оставить Агулис и переехать в Тифлис.
В 1872 году известный публицист Григор Арцруни основывает в Тифлисе газету «Мшак». Раффи, уже хорошо известный в литературных кругах, был приглашен Арцруни для сотрудничества в газете.
Особенно большую известность Раффи приобрел в 1877–78 гг. в период русско-турецкой войны, когда на страницах «Мшака» один за другим были опубликованы его романы «Джалаледдин», «Хент», «Искры», в которых отражены военные события, тяжелое положение армянского народа и помощь России армянам. В периодической печати отдельными книгами выходят в свет его крупные исторические романы «Самвел», «Давид Бек».
Литературная деятельность Раффи была очень многообразной и плодотворной, несмотря на тяжелые материальные условия писатель продолжал неустанно трудиться. Его перу принадлежит также ряд повестей, отражающих жизнь народа в Персии, таких как «Гарем», «Хаз пуш» и т. д.
Раффи известен и как поэт. В сборнике «Букет» он опубликовал свои стихи. Его перу принадлежат много статей, писем о вопросах литературы и общественной жизни страны.
Раффи — национальная гордость армянского народа — вошел в историю нашей литературы и общественной мысли как крупнейшее явление. Своими прогрессивными взглядами, замечательным художественным творчеством и страстными публицистическими произведениями, в которых отразились настроения трудового народа, дух времени, он стал провозвестником и глашатаем армянского национально-освободительного и демократического движения в конце XIX века.
Все творчество Раффи проникнуто гуманистическими идеями. Он мечтал о братстве наций и конце нищеты, лелеял идею общества, свободного от угнетения.
Раффи скончался 25 апреля 1888 года и был похоронен в Тифлисе в пантеоне армянских деятелей на кладбище Ходжаванка.
Информация об издании
РАФФИ
ИСКРЫ
ЕРЕВАН «ЛУЙС» 1986
 ББК 84 Ар 7
Р 269
ББК 84 Ар 7
Р 269
Предисловие доктора-профессора
О. Т. ГАНАЛАНЯНА
Раффи
Р 269 ИСКРЫ: Роман. — Ер.: Луйс, 1986. 704 с.
В программном историческом романе Раффи «Искры» повествуется о жизни и национально-освободительной борьбе армянского народа, стонущего под игом ханской Персии и, в особенности, феодальной Турции.

© Издательство «Луйс» 1986, предисловие, оформление, примечание.

РАФФИ
ИСКРЫ
Роман
Подготовил к изданию
Г. А. Мадоян
Редактор
О. Т. Ганаланян
Изд. редактор
Н. Р. Арабян
Художник
Л. А. Манасерян
Тех. редактор
А. Г. Хачатрян
Худ. редактор
Погосян С. В.
Корректоры:
А. М. Кочарян, В. В. Оганесян
ИБ — № 2430
Сдано в набор 03.10.1986 г. Подписано к печати 28.11.1986 г.
Формат 60×84
1/
16. Бумага № 3. Печать высокая. Гарнитура «Латинская».
Изд. 40,24 л.+0,04 л. вкл., печ. 44,0 л.+0,06 л. вкл., усл. печ. 40,92 л.+0,05 л. вкл., печ. 41,12 кр. от.
Тираж 100.000. (II завод 30.001–100.000). Заказ 2787. Цена № 5 переплета — 3 р. 40 коп.; № 7 переплета — 3 р. 50 коп.
Издательство «Луйс», Ереван-9, ул. Кирова, 19а,
Типография № 1 Госкомитета Арм. ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ереван-10, ул. Алавердяна, 65.
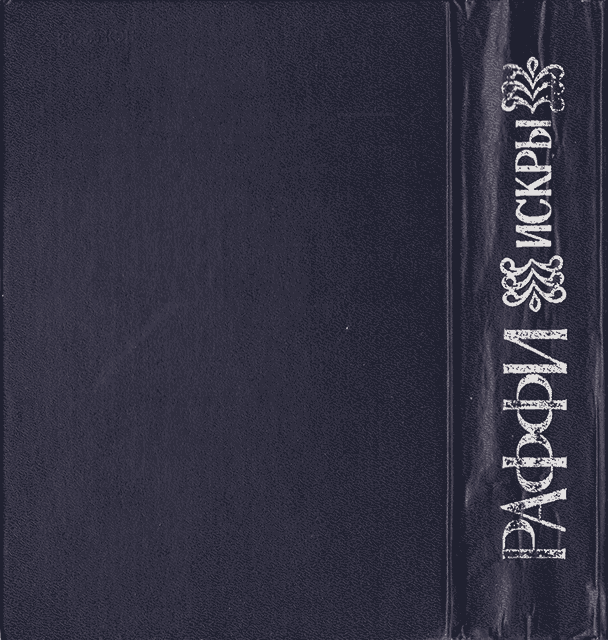
Примечания
1
Пандухт — странник; скиталец, живущий на чужбине —
прим. Гриня
(обратно)
2
Закон Моисея велит не косить межи нив и оставлять их для божьих нищих. Среди армян этот обычай освящен преданием и свято соблюдается. Подобный же обычай имеется и относительно садов, где также оставляется «доля бедняков»
(прим. автора).
(обратно)
3
Нарек — собрание молитв св. Григория из Нарека, армянского духовного писателя X в.
(прим. пер.).
(обратно)
4
н [nu] — Ն ն;
р [rɑ] — Ռ ռ;
дж [d͡ʒɛː] — Ջ ջ;
о [o] — Օ օ. —
прим. Гриня
(обратно)
5
Тонир — глиняная печь в домах армянских крестьян, врытая в землю, по форме напоминающая колодец.
(обратно)
6
Лаваш — хлеб в виде лепешек, испекаемый в тонире.
(обратно)
7
Марзпан — правитель Армении, назначавшийся персидским двором по прекращении армянской династии Аршакидов, господствовавшей до 428 года нашей эры.
(обратно)
8
Сарваз — персидский солдат
(обратно)
9
Иранское название
«Атропатена» — наиболее древнее из известных науке названий Азербайджана, дошедшее до нас из греческих источников. Впоследствии оно видоизменялось, приняв у персов форму «Адербадаган», у армян — «Атрпатакан», у арабов — «Адербайджан» и «Азербайджан», означал «страну огня», что было связано с широким распространением здесь огнепоклонничества. —
прим. Гриня
(обратно)
10
Райя — христианское население в Турции.
(обратно)
11
Масис — армянское название горы Арарат. —
прим. Гриня
(обратно)
12
Шаракан — древнее армянское песнопение.
(обратно)
13
Гюли — роза. Кяфар-гюли — темно-пурпурная роза.
(прим. пер.).
(обратно)
14
ашуг — народный певец
(прим. перев.).
(обратно)
15
саз — восточный музыкальный инструмент
(прим. перев.).
(обратно)
16
зурна — восточный музыкальный инструмент
(прим. пер.).
(обратно)
17
нагара — род барабана
(прим. пер.).
(обратно)
18
ялли — название танца
(прим. пер.).
(обратно)
19
гванд — то же
(прим. пер.).
(обратно)
20
джан-гюлумы — народные песни
(прим. пер.)
(обратно)
21
Судя по описанию, автор имеет ввиду
Пифию — древнегреческую жрицу-прорицательницу Дельфийского оракула в храме Аполлона, которая пророчествовала, сидя на треножнике, установленном над расселиной в скале, из которой поднимались дурманящие испарения. —
прим. Гриня
(обратно)
22
«Ахбак» неоднократно упоминаемый в нашем дневнике — это один из уездов Васпуракана, именно Малый Ахбак, один из нынешних уездов Ванского Пашалыка. Малый Ахбак представляет из себя плоскогорье, которое вследствие своего холодного климата неудобно для земледелия, но зато богато пастбищами и очень удобно для скотоводства.
(Прим. автора)
(обратно)
23
Во многих местностях Армении сохранился обычай, по которому новобрачная невеста в доме жениха ни с кем не разговаривает за исключением детей. И с самим женихом она в первую ночь не заговаривает до тех пор, пока не получит от него подарка, называемого «беранбацук», т. е. «развязывающий уста».
(Прим. автора)
(обратно)
24
Иусик I — четвёртый католикос Армении (341–347 годы). Почитаем в качестве святого мученика. —
прим. Гриня
(обратно)
25
Нахарар — феодал, обладавший владениями в древней Армении, правивший независимо.
(обратно)
26
Территориально Древняя Армения делилась на области (ашхары или наханги), которые в свою очередь делились на уезды (гавары) — географически обусловленные замкнутые долины и отрезки долин.
Ван-Тосп (или просто
Тосп) — гавар в составе ашхара Васпуракан, располагался на восточном берегу озера Ван. Считается местом зарождения государства Урарту. —
прим. Гриня
(обратно)
27
Это небольшой желтый цветок с сухими мелкими листьями. Он никогда не увядает, поэтому его называют «неувядающим цветком» и посвящен неувядающему небесному цветку — богоматери.
Прим. автора.
(обратно)
28
Васак Сюни — марзпан (наместник) Иберии 439–442 годов и Армении ок. 442–451 годов. Участник армянского восстания под предводительством Вардана Мамиконяна против попыток персов насаждения зороастризма в Армении, командовал третью войска повстанцев. После обещанной персами амнистии перешёл на сторону Сасанидов, возглавив проперсидскую партию среди армянской знати. Однако он проявил неспособность умиротворить Армению, был обвинен в пособничестве восстанию и приговорен к смерти. Умер в заключении. Имя его стало нарицательным как символ предательства. —
прим. Гриня
(обратно)
29
Предместье города Вана.
(обратно)
30
Айгестан (арм.) переводится как «край садов». —
прим. Гриня
(обратно)
31
Наргиле — то же, что кальян — восточный курительный прибор.
(обратно)
32
Чибух — трубка для курения.
(обратно)
33
Струнные азиатские музыкальные инструменты.
(обратно)
34
Салам — приветствие у турок
(обратно)
35
Эфенди — турецкое слово, соответствующее русскому «господин».
(обратно)
36
Мутакá — продолговатая подушка для дивана.
(обратно)
37
Катнахпюр — дословно: молочный родник.
(обратно)
38
Соленое озеро Ван в Турецкой Армении, называемое местными жителями морем.
(обратно)
39
Карас — большой глиняный кувшин.
(обратно)
40
Антара — турецкая национальная одежда.
(обратно)
41
Каурма — консервированное мясо.
(обратно)
42
Эл — община, племя.
(обратно)
43
Егише, Тома Арцруни, Мовсес Хоренаци — древнеармянские историки.
(обратно)
44
Тер или Дер (арм. «владыка», «господин», «хозяин») — наследственная почетная приставка к фамилиям потомков женатого духовенства в Армянской Апостольской церкви. Использование же
Тер или Дер перед именем обозначает члена духовенства и эквивалентно «Преподобный» или «Отец». —
прим. Гриня
(обратно)
45
Повесть
о Медном городе — сказка из арабского альманаха «1001 ночь» (567–568 ночи по классической нумерации). По описанию
Медный город, окруженный огромной медной стеной и в котором полно золота и серебра, напоминает
Землю обетованную, но в котором люди и другие существа умерли много много лет назад. —
прим. Гриня
(обратно)
46
Чтение молитв «задом наперед» относится к греховным обрядам. А «Отче наш» — молитва, данная самим Иисусом Христом, самим Богом, и чтение её «наоборот» является прямым оскорблением Бога. —
прим. Гриня
(обратно)
47
Гавазы — вооруженная охрана, стража.
(обратно)
48
Фарсах — персидская путевая мера длины.
(обратно)
49
Семирамида.
(обратно)
50
Гяур — иноверец (у магометан).
(обратно)
51
Пахлавá — восточное печенье с миндалем на меду.
(обратно)
52
Заптий — турецкий жандарм.
(обратно)
53
Караван-сарай — постоялый двор со складами товаров в Азии.
(обратно)
54
Азаран бюльбюль — сказочный соловей, соответствует жар-птице в русских сказках.
(обратно)
55
Пешкеш — подарок, дар.
(обратно)
56
В христианской традиции
Вознесение Господне (или просто —
Вознесение) — отмечается в 40-й день после Светлого Христова Воскресения (Пасха) и всегда приходится на четверг. Событие
Вознесения Христова как бы
соединяет небо и землю, делает их ближе, разрушает границу между ними. В мусульманской традиции отмечают
ночь Вознесения Пророка Мухаммеда — Аль-Исра валь-Мирадж, в ночь с 26 на 27 число месяца Раджаб. —
прим. Гриня
(обратно)
57
Ага — господин.
(обратно)
58
Махтеси — хаджи, паломник, ходивший по святым местам.
(обратно)
59
Лохман — знаменитый врач.
(обратно)
60
Вишап — дракон, дэв — бес, злой дух.
(обратно)
61
У пигалиц (чибис) на голове имеется пучок перьев, напоминающий монашеский клобук.
(обратно)
62
Миндар — мягкая подстилка.
(обратно)
63
Ердик — дымовое отверстие на потолке крестьянской избы.
(обратно)
64
Котот — медвежонок.
(обратно)
65
Езник Кохбаци (ок. 380–450) — армянский философ и богослов; ученик святого Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита; один из основоположников армянской патристики (учения лидеров христианства в послеапостольские времена, основа христианского религиозного мировоззрения). Здесь приводится цитата из труда «Наставления
Езника Кохбаци», апофегмата — сборника нравоучительных афоризмов. —
прим. Гриня
(обратно)
66
Ланктемур (Ленг-Тимур) — Тамерлан. —
прим. Гриня
(обратно)
67
Ходжа — богатый, знатный человек, купец.
(обратно)
68
Ктуц — клюв.
(обратно)
69
«Танатяц» — сложное слово с древнеармянским окончанием; означает — ненавистник похлебок
(обратно)
70
Востикан — наместник арабского халифа в Армении.
(обратно)
71
Сафьян — козья или овечья кожа, особо тонкой и мягкой выделки, окрашенная в яркий цвет. Сафьян использовался для производства переплётов и сапог. —
прим. Гриня
(обратно)
72
Рамазан — пост у мусульман, продолжающийся весь 9-й месяц их года.
(обратно)
73
Нарды — игра 32 шашками, расставляемыми на специально приготовленных двух досках, соединенных петельками.
(обратно)
74
Финджан — турецкая чашка.
(обратно)
75
Тириаки — здесь — курильщик опиума. —
прим. Гриня
(обратно)
76
Аба — мужская верхняя одежда восточных народов.
(обратно)
77
Тюрбан — мужской головной убор восточных народов из большого куска легкой материи, обмотанной несколько раз вокруг фески.
(обратно)
78
Прозелит — новообращенный, переходящий из одной веры в другую, вероотступник, в отличие от
неофита — новообращенного, впервые обращенного, новичка в религии. —
прим. Гриня
(обратно)
79
Эфенди — турецкое слово, соответствующее русскому «господин».
(обратно)
80
Айрик — отец, батюшка. Так прозвали католикоса Мкртыча Хримяна.
(обратно)
81
Астхик — богиня красоты и любви в древней Армении.
(обратно)
82
Марена красильная — многолетнее травянистое растение, наиболее известный представитель семейства
Мареновые. Культивирование
марены в первую очередь связано с её применением в качестве красящего вещества ярко-красного цвета (крапп). —
прим. Гриня
(обратно)
83
Тута — шелковица.
(обратно)
84
«Катнахбюр» — дословно: молочный источник.
(обратно)
85
Марзпан — начальник области при персидском владычестве.
(обратно)
86
«Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею
тысячу человек.» (Суд.15:15.). —
прим. Гриня
(обратно)
87
Пари — мелкая монета в Турции, меньше четверти копейки.
(обратно)
88
Ктитор — здесь — церковный староста. —
прим. Гриня
(обратно)
89
Сардар — в Османской империи титул командующего полевой армией. —
прим. Гриня
(обратно)
90
Дервиш — (перс. бедняк, нищий) мусульманский нищенствующий проповедник-аскет. —
прим. Гриня
(обратно)
91
Фармазон — здесь — искаж. «франкмасон» — вольнодумец, нигилист. —
прим. Гриня
(обратно)
92
Амбал — носильщик, переносящий на себе тяжести.
(обратно)
93
Мудир — управитель волости в Турции.
(обратно)
94
Каймакам — начальник округа.
(обратно)
95
Баранта — здесь — стадо баранов и овец. В более широком смысле — захват скота у тюркских кочевых народов как способ мести за обиду или вознаграждения за причиненный ущерб; также добыча от грабежа, набега. —
прим. Гриня
(обратно)
96
Стихарь — длинная одежда с широкими рукавами, надеваемая христианским духовенством при богослужении. —
прим. Гриня
(обратно)
97
Заптий — турецкий жандарм.
(обратно)
98
Азан — вечерняя молитва мусульман (
Ошибка комментатора:
азан — призыв к всеобщей молитве мусульман, обычно возвещается с минарета мечети. —
прим. Гриня).
(обратно)
99
Караван-баши — начальник каравана.
(обратно)
100
Фарсах — путевая мера в Персии и Турции.
(обратно)
101
Мангал — жаровня.
(обратно)
102
Кальян — то же, что наргиле, — восточный курительный прибор.
(обратно)
103
Астхик — богиня красоты, любви и брачного союза.
(обратно)
104
Масис — гора Арарат.
(обратно)
105
Дословно: Армянское ущелье.
(обратно)
106
Парá — грош.
(обратно)
107
Намаз — мусульманская молитва, совершаемая в определенное время дня.
(обратно)
108
Пилав — кушанье из риса, облитого маслом.
(обратно)
109
Лазы — этническая группа грузин, живущая в Аджарии и в Турции (историческая область Лазистан). В Турции лазы были вынуждены принять ислам. —
прим. Гриня
(обратно)
110
Дословно: град господен.
(обратно)
111
Айастан — Армения; это слово происходит от имени Айк.
(обратно)
112
Хурджин — перекидная сумá.
(обратно)
113
Дословно: крестокрад — человек, занимавшийся жульническими проделками, подлогами, грабежами и даже убийством.
(обратно)
114
Ванское озеро.
(обратно)
115
Нахарарство — княжество, нахарары — владетельные князья.
(обратно)
116
Спарапет — военачальник, главнокомандующий.
(обратно)
117
Патрик — патриций.
(обратно)
118
Танутер — староста, старшина.
(обратно)
119
Хна — желто-красная краска, которой красят волосы, ногти.
(обратно)
120
Куруши — пиастры.
(обратно)
121
Бельведер — сооружение на возвышенном месте, также надстройка над зданием, башенка, позволяющая обозревать окрестности. —
прим. Гриня
(обратно)
122
Гусаны — музыканты, народные певцы.
(обратно)
123
Троглодит (др. — греч. «живущий в пещере») — первобытный человек, обитавший в пещерах. —
прим. Гриня
(обратно)
124
Григор Нарекаци (
Григорий Нарекский, 951–1003) — армянский поэт, философ и богослов, автор лирико-мистической поэмы «
Книга скорбных песнопений». Почитается святым Армянской Апостольской Церковью и Католической Церковью (единственный, кто «не был в общении с католической церковью»). —
прим. Гриня
(обратно)
125
Капан — ущелье, теснина. Дословно — запертый.
(обратно)
126
Ванское озеро.
(обратно)
127
Ветреница —
Анемона — травянистое цветковое растение семейства Лютиковые. Судя по описанию (ярко-алый цвет) здесь упоминается вид
Ветреница корончатая. —
прим. Гриня
(обратно)
128
Арамазд — Юпитер.
(обратно)
129
Арисá — густая пшеничная каша с полностью разварившейся в ней курятиной или бараниной.
(обратно)
130
Хáши — суп из бараньих потрохов, головы и ножек.
(обратно)
131
Кешкéк — кушанье наподобие арисы́.
(обратно)
132
Тахта — широкий диван без спинки, покрытый ковром или материей.
(обратно)
133
Торня — кавказская хлебопекарная печь. —
прим. Гриня
(обратно)
134
Локоть — см. главу 8.
(обратно)
135
Стадия или стадий — древнегреческая мера длины, равная приблизительно 150–190 метрам.
(обратно)
136
Багратиды — царский род в Армении (885–1045).
(обратно)
137
Дословно: Капут — синий, Кох — бок, склон горы.
(обратно)
138
Пшаванс — село, заросшее тернием. Пуша — терние, шип, колючее растение
(обратно)
139
Стефанос-первомученник, согласно легенде, был побит камнями.
(обратно)
140
Пиастр — в Турции серебряная монета = 40 парá = 5½ копейкам.
(обратно)
141
У хаджи (махтеси́) руки татуированы в знак пребывания у гроба господня.
(обратно)
142
Парá — счетная монета в Турции, меньше четверти копейки.
(обратно)
143
Устá — мастер.
(обратно)
144
Асасы — ночные сторожа.
(обратно)
145
Фавст Византийский (Павстос Бузандаци, историк V в.).
(обратно)
146
Месроп Маштоц (V в.) — просветитель Армении, изобрел армянскую азбуку.
(обратно)
147
Ложный документ, изобретенный армянскими униатами, по которому Григорий Просветитель, в фиктивную бытность свою в Риме, подчинил армянскую церковь и себя главенству папы.
(обратно)
148
Астхка-берд — крепость Астхик, богини красоты и любви.
(обратно)
149
Мхитаристы — монашеский орден Армянской католической церкви, основанный Мхитаром Себастци (Севастийский) на острове Святого Лазаря, близ Венеции. —
прим. Гриня
(обратно)
150
Крунк — журавль. —
прим. Гриня
(обратно)
151
Перевод Валерия Брюсова.
(обратно)
152
В последующей редакции В. Я. Брюсов заменил эти строки более точным вариантом перевода:
Крунк! Откуда ты?
Крик твой жжет без слов!
Крунк! Не с вестью ль ты
Из родных краев? — прим. Гриня
(обратно)
153
Могунк — происходит от слова «мог», что означает — маг, чародей.
(обратно)
154
Лазарь Парбский — историк V века.
(обратно)
155
Во, Ворсорд — охотник
(обратно)
156
Чуха — мужская верхняя одежда с широкими рукавами.
(обратно)
157
Григорий Просветитель распространял христианство в Армении (IV в.).
(обратно)
158
Гяур — у магометан название для иноверцев.
(обратно)
159
Аскеры — турецкие солдаты.
(обратно)
160
«Дневник Хачагоха» — произведение Раффи, в котором изображаются жульнические проделки и преступления хачагохов («хачагох» — крестокрад).
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть первая
Глава 1.
СЕМЬЯ
Глава 2.
РОДИНА
Глава 3.
СТАРЫЙ ГРЕХ
Глава 4.
ОХОТНИК
Глава 5.
ПЕДАГОГ И СВЯЩЕННИК
Глава 6.
ШКОЛА
Глава 7.
ПЕРВОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ
Глава 8.
СТАРЫЕ ТОВАРИЩИ
Глава 9.
ДЕТСТВО КАРО
Глава 10.
ОРУЖИЕ
Глава 11.
РОД КАРА-МЕЛИКОВ
Глава 12.
ТЕМНАЯ ТАЙНА
Глава 13.
КОЛДУНЬЯ
Глава 14.
КОНЬ
Глава 15.
ДОМИК ОХОТНИКА
Глава 16.
МОГИЛЫ ВЛЮБЛЕННЫХ
Глава 17.
ДВЕ ДОБЫЧИ РАЗОМ…
Глава 18.
ЯБЛОКО РАЗДОРА
Глава 19.
СОН
Глава 20.
ТРУД И ЗЕМЛЯ
Глава 21.
ПРЕДСКАЗАНИЕ
Глава 22.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Глава 23.
ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА
Глава 24.
МАЛЕНЬКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Глава 25.
КУРДЫ И ТУРКИ
Глава 26.
ПЕРСЫ
Глава 27.
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Глава 28.
ПРИЗНАКИ ВИДНЫ
Глава 29.
ПОХОД МХЭ
Глава 30.
КУРДИЯНКА И АРМЯНКА
Глава 31.
ПАЛОМНИКИ
Глава 32.
ПРАЗДНЕСТВО В МОНАСТЫРЕ СВ. БОГОРОДИЦЫ
Глава 33.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ МОНАСТЫРСКИХ СВЯТЫНЬ
Глава 34.
ВСТРЕЧА
Главa 35.
КУРД У ХРИСТИАНСКОГО СВЯТИЛИЩА
Глава 36.
ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХ
Глава 37.
МАСКА СРЫВАЕТСЯ
Глава 38.
ГНЕВ МАРО
Глава 39.
СКРЫТНЫЙ АСЛАН РАЗОБЛАЧАЕТ СЕБЯ
Глава 40.
РАССУЖДЕНИЯ АСЛАНА
Глава 41.
БОРЬБА ЛЮБВИ
Глава 42.
ПАСТУХИ-АРМЯНЕ
Глава 43.
ЕЗИДЫ
Глава 44.
СУМАСШЕДШИЙ СВЯЩЕННИК И ДОКТОР
Часть вторая
Глава 1.
ВАН
Глава 2.
МАСТЕРСКАЯ ФАНОСА
Глава 3.
АСЛАН — ДОКТОР
Глава 4.
ГУБЕРНАТОР-ПАША
Глава 5.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Глава 6.
КУПЦЫ
Глава 7.
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК
Глава 8.
ВРАТА ГАВАНИ
Глава 9.
НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ АВАНЦ
Глава 10.
БУРЯ
Глава 11.
ПУСТЫНЬ КТУЦ
Глава 12.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПУСТЫНИ
Глава 13.
ВОЛШЕБНЫЙ ЖЕЗЛ
Глава 14.
КОФЕЙНЯ ДЯДИ ТЕОСА
Глава 15.
МОНАСТЫРЬ ВАРАГ
Глава 16.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава 17.
ВАНЕЦ НА ЧУЖБИНЕ
Глава 18.
ИСПЫТАНИЕ
Глава 19.
ПОДАРОК
Глава 20.
КАРАВАН
Глава 21.
КРЕПОСТЬ АЙК
Глава 22.
ПРОРИЦАТЕЛЬ
Глава 23.
ВОСТАН
Глава 24.
ДЕРЕВНЯ В СТРАНЕ РШТУНИ
Глава 25.
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Глава 26.
АХТАМАР
Глава 27.
ВОКРУГ МОНАСТЫРЕЙ
Глава 28.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ НОС
Глава 29.
ТАРОН
Глава 30.
АРМЯНИН-КАТОЛИК
Глава 31.
АСТХАБЕРД
Глава 32.
«НЕМОЙ»
ЭПИЛОГ
Глава 1.
ДЕВА ЗАМКА
Глава 2.
НЕВЕДОМОЕ БУДУЩЕЕ
(16–61)
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
ПРИМЕЧАНИЯ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Информация об издании
*** Примечания ***


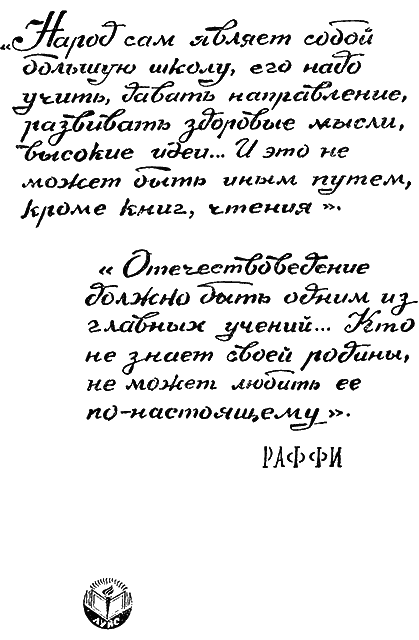
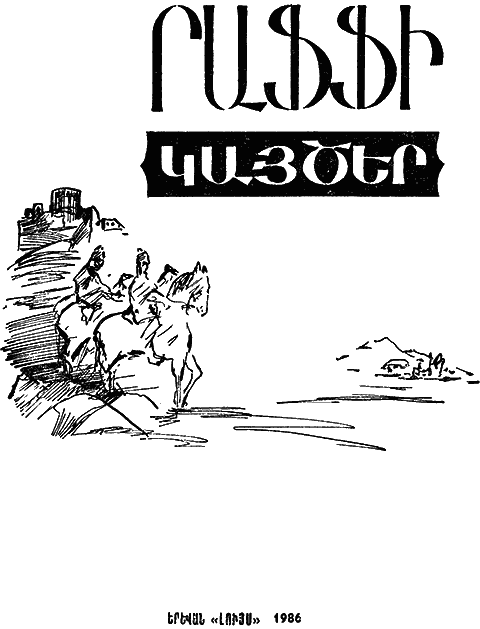

 Часть первая
Часть первая
 Часть вторая
Часть вторая