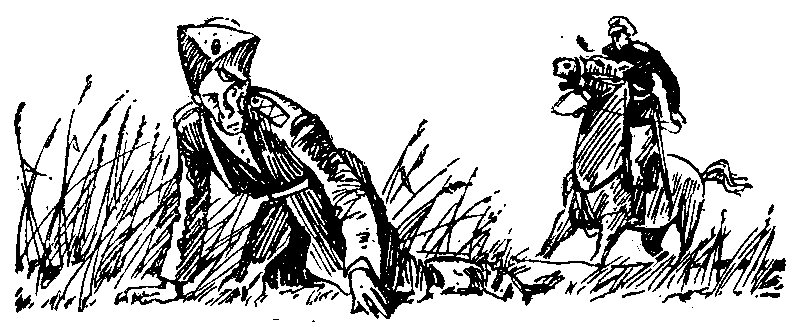Анатолий Марченко
ДАЛЬНЯЯ ГРОЗА
Повести
ДАЛЬНЯЯ ГРОЗА
Светлой памяти моей матери Марии Петровны и отца Тимофея Евлампиевича посвящаю
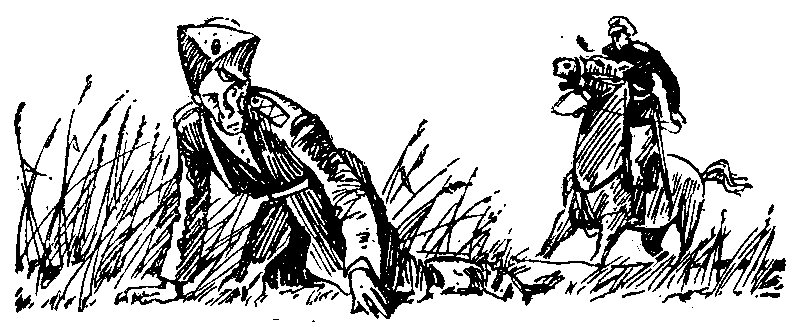
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прекрасным августовским утром восемнадцатого года генерал Врангель, высадившись из салон-вагона на станции Кавказская, скакал в окружении небольшой, но проворной свиты в станицу Темиргоевскую, имея целью принять под свое начало дивизию, командовать которой не далее как вчера в Екатеринодаре благословил его сам Деникин.
Солнце уже вздымалось над степью, но травы на курганах, вымахавшие в полный рост, все еще зябко дрожали от ночной стыни. Степь, суматошно пробудившись на утренней заре, просяще ластилась к теплу.
По обеим сторонам полевой дороги, от которой веяло сухой горечью пыли, от горизонта до горизонта раскинулись кукурузные поля, большей частью еще неубранные; бахчи с переспелыми арбузами и дынями, вишневые и яблоневые сады; недвижно и тяжело застыли шапки подсолнухов с созревшими семенами. Просушив крылья, подмокшие от росы, как в мирное, доброе время, стрекотали кузнечики. Из ближней станицы струился горький, едучий запах кизячного дыма.
Все было прекрасно, но на душе у Врангеля скребли кошки. Перед глазами как неотвязное видение все еще маячил Антон Иванович Деникин: в такт рысившему по дороге коню покачивалась его лысеющая голова, благообразное, как у приходского священника, лицо, клинообразная бородка — сверху черная, снизу белая; змеились длинные, черные, с серебристой проседью, усы. Настороженные, чуткие, как в момент выстрела, глазки бегали туда и сюда, боясь сойтись с нацеленным на них угрюмым, недоверчивым взглядом собеседника.
В ушах Врангеля продолжал настырно звучать, соединяя в себе раздражающую хрипотцу и обволакивающее приторное сочувствие, голос Деникина:
— Не единожды уже, видит бог, прикидывал я, милейший Петр Николаевич, как использовать ваши недюжинные способности с той превеликой пользой, которая отвечала бы спасению нашего многострадального отечества. И до сих пор не подошел к безошибочному, а главное, справедливому решению. Не знаю, право, что вам и предложить. Вы преотлично осведомлены, что войск у нас пока немного и выбор крайне невелик.
Врангель продолжал окаменело, в упор, смотреть на Деникина, будто пытался заставить его говорить искренне, хорошо сознавая, что не зря тот сладко обволакивает его словесами и убаюкивает ложной и грубой улыбкой простолюдина. Однако ответил с готовностью, в которую вложил предельное количество правды, исторгнутой как бы из самых глубинных тайников души:
— Как вам известно, ваше превосходительство, в семнадцатом я командовал кавалерийским корпусом. Но вполне возможно, что вы, как человек, всецело занятый спасением России, могли не обратить внимания на то, что еще в четырнадцатом я был всего лишь эскадронным командиром. Льщу себя праведной надеждой, что с той поры я не настолько устарел, чтобы вновь не стать во главе эскадрона.
Сказав это почти не переводя дыхания, Врангель тут же спроецировал в своем реактивном мозгу ответную мысль Деникина, не сомневаясь в том, что его слова вызовут у командующего армией не просто озабоченность, но даже серьезное беспокойство.
По тому, как Деникин тяжело заерзал в кресле, Врангель понял, что не ошибся. Слушая тираду Врангеля, впитавшую в себя почти самоотверженную скромность, Деникин все сильнее съеживался от леденящей тревоги. «Этот ради своей карьеры мать родную зарежет», — недобро подумал он, продолжая дружелюбно всматриваться в кипевшее затаенной жаждой тщеславия по-лошадиному удлиненное лицо Врангеля.
— Ну уж и эскадрона! — лукаво хохотнул Деникин, но острые, с отблеском каленой стали, глаза Врангеля тут же отсекли его не к месту прозвучавший смешок, и он закончил фразу уже по-деловому сухо и по-военному четко: — На дивизию согласны?
Конечно, можно было возмутиться, изобразить страдальческий гнев, выметнуться из кресла и яростно хлопнуть дверью. Но Врангель тут же приструнил себя: во-первых, не следовало разрушать им же созданный ореол своей скромности и веру Деникина в то, что приехал к нему не за чинами и наградами, а ради спасения России; во-вторых, сейчас просто не было другого выбора; и в-третьих, чтобы вскочить в седло, надо ухватиться хотя бы за гриву. Пусть сегодня дивизия, пусть насмешка над его полководческим гением, а уж завтра, преподобнейший Антон Иванович, мы поглядим, кто выиграет на скачках, кому держаться за гриву, а кому и за хвост.
— Слушаюсь, принять дивизию, ваше превосходительство! — верноподданнически рубанул Врангель, и впалые щеки его заполыхали жарким румянцем: он и впрямь рассчитывал хотя бы на корпус.
Начальник штаба армии, к которому Врангель отправился сразу же после визита к Деникину, предложил ему вступить в командование конной дивизией. Романовский (так звали начальника штаба) произвел впечатление умного и хорошо осведомленного штабиста. Однако Врангель опасался людей, обладающих привычкой избегать взгляда собеседника и смотреть куда-то вбок или поверх головы. Такого сорта люди всегда себе на уме... И вообще, уже с первых слов Романовского было ясно, в чью дудку он дудит...
И вот теперь, на пути в Темиргоевскую, неутоленное тщеславие жгло Врангеля с не меньшим ожесточением, чем набиравшее силу солнце жгло его развевающуюся на ветру черную черкеску и под цвет ей — кубанку.
В Темиргоевской Врантель задержался недолго. Он подсчитал наличные силы. В дивизию входили Корниловский конный полк, Уманский и Запорожский полки, Екатерининский, первый линейный и второй Черкесский полки, а также первая и вторая конно-горные батареи и третья конная батарея. Дивизия вела наступление на станицу Петропавловскую.
Ознакомившись с обстановкой и состоянием дивизии, Врангель помрачнел еще более. Особое раздражение вызвало в нем отсутствие телефонной и телеграфной связи и явный недостаток в оружии. То, чем были вооружены казаки, поступало не из войсковых складов, а из их собственных станичных подвалов, где оно хранилось «про запас» по соседству с кадками квашеной капусты, чувалами кукурузных початков, свиными тушами и бочонками плодово-ягодного вина. «Куда же отгрузили винтовочки и пулеметики, те самые, кои прислали союзнички? — не без ехидства подумал Врангель. — Любимчикам Антона Ивановича? Нет уж, дружочек, мы это скоро переиграем».
Уже за полночь поступило донесение о занятии Петропавловской. Красные оттянули свои силы к станице Михайловской и окопались на ее окраине, на излучине реки Синюхи.
Здесь и завязались отчаянные, с кровавой рубкой, бои, конца которым не было видно.
— Не можете взять паршивую станицу! — вопил Врангель, прерывая и без того сбивчивые доклады своих подчиненных офицеров. — Михайловская! Нашли неприступную крепость! Что это? Азов? Верден? Извольте без промедления сосредоточить силы на левом фланге, взять эту красную сволочь в клещи и прорваться к линии Армавиро-Туапсинской железной дороги!
Приказывать было легко и даже сладостно, выполнять — тяжко и горько. Атаки казаков, бросавшихся на Михайловскую в лоб, все время захлебывались. Врангель нанес красным удар на левом фланге, пытаясь обойти их с востока, и частью своих войск вышел к линии железной дороги. Но даже прорыв конницы в тыл красных не вынудил их к отступлению. Более того, красные лишь загнули свой фланг, а их бронепоезд открыл ураганный огонь по конной лаве и рассеял ее по бескрайней степи. Волей-неволей пришлось возвращаться восвояси.
А ставка, будто сорвавшись с тормозов, изо дня в день бомбила Врангеля категорическими требованиями предпринять наконец самые решительные, а главное, победоносные действия, Врангелю беспардонно совали под нос «боевые успехи» дивизии генерала Покровского, которая овладела Майкопом и продвигалась к реке Лабе.
Врангеля взорвало. Он уединился в горнице с полковником Дроздовским, чтобы разработать совместный план действий. Третья пехотная дивизия получила задачу сменить полки Врангеля на правом берегу Лабы и на рассвете восемнадцатого сентября атаковать красных с фронта. Врангель своей дивизией и офицерским конным полком должен был ударить в тыл красных в районе станицы Курганной и отсечь им пути отхода между Чамлыком и Лабой.
Еще стояла смутная, тяжелая темнота, когда дивизия Врангеля двинулась вперед, стремясь охватить правый фланг красных. На рассвете передовой дозор уже подходил к железнодорожному переезду, как вдруг в глаза слепяще ударил прожектор и гулко застонали рельсы: то подходил бронепоезд красных. Командир батареи полковник Иванцов скомандовал к бою. Орудия сняли с передков и почти в упор громыхнули по бронепоезду. Стальная громада, тускло проступавшая в багровом тумане, сотрясалась от разрывов снарядов. Бронепоезд медленно и грузно попятился. Врангель приказал взорвать железнодорожное полотно.
Сердце его колотилось от бешеной радости: со стороны Михайловской гремели пушки, стрекотали пулеметы. Он понял, что это дает прикурить красным полковник Дроздовский.
Бой разгорался. Конные лавы вгрызались друг в друга. Бешено сверкали шашки. Обезумело ржали потерявшие седоков кони.
Стало совсем светло, когда со стороны Михайловской показались густые цепи красных. Врангель, лежа на склоне кургана, приказал батарее стрелять, не жалея снарядов. Полковник Иванцов хрипло и возбужденно повторил приказ и схватился за телефонную трубку. Однако, не успев открыть рот, ткнулся ничком в жесткую траву. Громкий стон его был схож с плачем обиженного ребенка. Пуля ударила ему в грудь.
Конница красных на галопе мчалась к мостовой переправе через Чамлык. Врангель бросил в бой последний резерв — четыре сотни Корниловского полка. Огромным черным вороном они накрыли рыжую степь, готовясь рубиться с красными, но попали под пулеметный огонь.
Врангель впервые в жизни почувствовал свое полное бессилие. Если красные захватят мост через Чамлык, будет худо. Погибнет вся артиллерия. И тогда — позорное бегство, возрадуется Антон Иванович, эскадрона не предложит.
Казаки беспорядочно, в панике бежали по степи, спасаясь от ливня пуль. Ничего не оставалось, как попытаться подать личный пример, остановить эту охваченную паникой массу и побудить ее вернуться.
Врангель взлетел на коня. Высокая фигура в черкеске замаячила на кургане, как призрак спасения. С призывным криком он скакал вперед, но, оглянувшись, с горечью увидел, что за ним скачет всего лишь с десяток казаков, остальные в замешательстве кружились на месте, будто ища выхода из ада, иные продолжали скакать назад, не помня себя от страха. Батарея на рысях катилась к переправе. Чудилось, пули свистят и щелкают у самого виска.
Под ординарцем убили лошадь. Врангель остервенело пришпорил коня и увидел, что остался в одиночестве. Рванув поводья, поскакал назад, поливая бегущих злобной матерщиной.
Отхлынувшие с позиции казаки сгрудились у переправы. Вестовой судорожно протянул Врангелю пакет от полковника Дроздовского. Размашистым почерком, обрывая фразы на полуслове, тот доносил, что атаки его дивизии успеха не имели, что он понес жестокие потери и вынужден от дальнейшего наступления отказаться.
Врангель спешился, швырнул поводья подскочившему к нему казаку. Тонкие, бескровные губы мерзко дрожали, ноздри раздувались в ярости. Вот тебе и слава полководца! Самым страшным, обидным и, главное, непредвиденным было то, что казаки за ним не пошли. Значит, не было не то что спайки между ним и казаками, но, более того, войска вовсе не были в его руках, как они должны быть в руках истинного военачальника. «А как же зануздать и заставить повиноваться всю Россию?» — с горечью спросил себя Врангель, не находя точного и искреннего ответа...
Прошло несколько дней, но злоба все еще жгла душу Врангеля. В Петропавловскую нагрянул Деникин со своим любимчиком Романовским. Деникин был хмур, всем своим видом показывал, что крайне недоволен. Но когда в самом конце смотра Корниловского полка ему вручили телеграмму, мужиковатое, со скрытой бесинкой лицо помимо его воли прояснилось и посветлело. Деникин протянул телеграфный бланк Врангелю. Крупные пальцы его вздрагивали — то ли от волнения, то ли от радости.
Врангель приник к телеграмме. В ней сообщалось, что двадцать пятого сентября скончался основатель и верховный руководитель Добровольческой армии генерал Алексеев.
— Скорбь о смерти нашего вождя, ваше превосходительство, смягчается лишь тем, что он имеет достойного преемника, — с печалью и вдохновением произнес Врангель, возвращая бланк.
Деникин с нескрываемым интересом уставился на него. «До чего же длинношеее существо, — промелькнуло в голове у Деникина. — Того и гляди шея не выдержит тяжести головы».
Врангель намеренно молчал, испытывая терпение Деникина и ожидая прямого вопроса. И угодил в цель: Деникин не выдержал.
— Кого же?
— Я имею в виду лишь единственного преемника! — с еще большим, но уже не столь искренним, сколь выспренним вдохновением ответствовал Врангель и яростно щелкнул шпорами, издавшими благостный малиновый звон.
Деникин шевельнул усами и еще нетерпеливее впился глазками-пулями в сияющее дружелюбием и преданностью лицо Врангеля.
— Вас, ваше превосходительство! — рявкнул Врангель, не смея более испытывать долготерпение Деникина.
Деникин рванулся к Врангелю, схватил его жилистое, гибкое тело в охапку, троекратно истово приник головой к плечам. Врангель растерянно и подавленно смотрел сверху на облысевшую макушку командующего, сокрушаясь по поводу того, что таким бездарям, как Деникин, везло в армии прежде, везет и теперь.
Проводив растроганного, обмякшего после сытного обеда и приличного возлияния Деникина, Врангель отправился почивать в дом станичного атамана, чтобы на рассвете выехать на Синюхинские хутора...
Теперь на новые позиции, занятые его дивизией, Врантель ехал на автомобиле. Машина, подаренная начальником английской миссии генералом Хольманом, плохо переносила кубанское степное бездорожье, задыхалась и чихала от пыли, часто буксовала на взгорках. Но езда эта все же доставляла удовольствие — автомобиль сам по себе прибавлял вес и авторитет тому, кто ехал на нем, и подчеркивал особую значимость и престижность поездки, резко выделяя Врангеля среди конников всех рангов и званий.
Врангель в те минуты, когда порывы ветра рассеивали пыль и гарь, открывая перед ним степной простор, любовался курганами. Они интересовали его не как исторические свидетельства давних времен, покрытых пеплом забвения, но, главное, как исключительно совершенные возвышения для оборудования наблюдательных пунктов. С курганов все было видно далеко окрест — и прильнувшие к дорогам и речкам станицы, и ветряки, разбросанные там и сям по степи и жаждавшие сильного тугого ветра, и похожие на молодой лес массивы созревшей кукурузы, и веселые желтые головы подсолнухов, заполонивших бескрайние поля, и дымки хуторских печей. И слышалось отсюда превосходно — будь то ленивый брех собаки, пытавшейся обозначить перед хозяином свое рвение, горластый, разбойный крик петуха, ворчливое хрюканье свиньи, занудное блеяние овец, пробирающие до самых пяток жалостливые всхлипы гармони, печальное мычание возвращающихся с пастбища коров. Курганы притягивали к себе непонятной, таинственной силой. Взойдя на курган, Врангель ощущал, что становится всесильнее, могущественнее, способным совершать великие дела, сознавать себя властелином природы и повелителем людей...
Еще издали Врангель приметил два горных орудия, стоявших на позиции неподалеку от кургана. Там же, за наспех наметанной скирдой сена, спешившись, сгрудилось сотни две казаков. Врангель сразу же признал в офицере, стоявшем почти на самой верхушке кургана, полковника Топоркова, которого очень ценил как знающего и непреклонного в своих решениях и действиях командира. Врангелю всегда импонировали люди, схожие с ним хотя бы какими-то внутренними или внешними признаками. Напротив, резко отличные от него офицеры вызывали в нем если не открытую вражду, то глухую и стойкую неприязнь.
Оставив автомобиль под прикрытием кукурузного поля, Врангель сильными, уверенными в своей храбрости и всевластии шагами направился к кургану. Старший адъютант штаба дивизии капитан Роговцев — преждевременно располневший брюнет — едва поспевал за ним. Ординарец же почти бежал.
Топорков встретил Врангеля с подчеркнутым подобострастием, с каким встречают впервые высокого начальника, рассчитывая, что это зачтется на будущее. Его круглое розовощекое лицо сияло, и он все время нагнетал это сияние, дабы убедить Врангеля, что благодаря ему, Топоркову, дела на батарее идут блестяще и посему они не должны вызывать у командира дивизии ни малейшего сомнения. Пули свистели рядом с ними, но Топорков продолжал докладывать с той обстоятельностью, с которой он всегда докладывал и которая должна была предельно отчетливо высветить его несомненную компетенцию. Врангель, не сгоняя суровости с лица, требовательным движением руки взял у Топоркова бинокль и, приложив его к холодным бесцветным глазам, принялся рассматривать позицию красных. Не успел он узреть ничего примечательного, как в уши ударил панический, схожий с истерикой вопль казаков, с размаху влетавших в седла:
— Конница!!!
Казачья сотня, как ошпаренная кипятком, отпрянула от скирды и устремилась на батарею, будто намеревалась атаковать ее и разнести в щепки. Врангель тут же увидел, как из ощетинившегося кустарником оврага за казаками ринулась лавина красной конницы.
— Беглый огонь! — бархатисто, как в опере, пропел Топорков.
Орудия изрыгнули огонь, но это не остановило красных. Их конники словно бы стелились над степью, оставаясь неуязвимыми, и Врангелю почудилось, что из этой людской тучи вот-вот исторгнется страшный смерч, поглощающий на своем пути все живое. Он понял, что еще немного — и красные ворвутся на батарею.
— На передки! — снова пропел Топорков, суетясь промеж орудийной прислуги.
Казаки, бросив батарею на произвол судьбы, кинулись наутек. Попытки Врангеля и Топоркова остановить их успеха не имели.
«Точно как в бою за Михайловскую, — остервенело кусая губы, подумал Врангель. — Фортуна мне изменила!» «Ну уж и эскадрона!» — вспомнилась ехидная усмешка Деникина.
Красные уже приближались к батарее. Отчетливо стали видны даже их лица. Врангель увидел, как артиллерийский офицер выстрелил в подскакавшего к орудию всадника и как тот наотмашь рубанул его шашкой. Окруженный красными конниками, отчаянно рубился полковник Топорков...
Врангель, состязаясь в скорости с гончей собакой, помчался к своему автомобилю. Скатившись с кургана к проселочной дороге, он с отчаянием увидел, что машина брошена шофером и его напарником. Он успел заметить, как два труса нырнули в густые дебри кукурузы и исчезли в них. Машина работала на холостом ходу.
Врангель устремился к кукурузному полю. «Там спасение, но как оно далеко, как далеко!» — не желая примириться с бесславным концом, думал он. «Ну уж и эскадрона!» — с хрипотцой и усмешкой нашептывал и нашептывал в уши Деникин.
Позади, судя по беспорядочным выстрелам и яростному звону клинков, шла великая свалка. Вдруг, почти рядом с собой, Врангель увидел настигавшего его конника. Ощутив в себе нечеловеческую силу, Врангель рванулся вперед, опустошенно сознавая, что от коня ему не уйти. Тень лошади закрыла от него солнце, и Врангель исступленно упал в колючую траву, обхватив голову руками, защищаясь от удара. Кубанка свалилась с головы, и Врангель заранее ощутил пронзительную смертельную боль от острия клинка.
— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! — прозвенел у самой его головы взволнованный голос.
Врангель в испуге приподнял голову от земли и скосил глаза. Увидел вороного коня, взмывшего на дыбы, и совсем еще юного поручика, по виду мальчика, настойчиво взывавшего к нему.
— Ваше превосходительство, возьмите мою лошадь! — искренне прокричал поручик, угодливо спешиваясь и с трудом удерживая за напружинившуюся уздечку запаленного коня.
— Нет! — исступленно отрезал Врангель, испытывая острое чувство стыда оттого, что поручик стал свидетелем его неуемного страха.
— Умоляю вас, ваше превосходительство! Вы нужны России!
«Вот оно, вот оно, начало твоего признания», — заныло в душе у Врангеля, и он, теряя прежнюю неуступчивость, оглядываясь на батарею, проговорил, запинаясь:
— Спасибо, поручик, я не забуду... Но коня не возьму... Скачите на хутор... Ведите сюда линейцев... Мой конвой... Моих коней... Скорее!
Поручик, вскочив в седло, помчался, прильнув к лошадиной шее. Врангель с завистью посмотрел ему вслед.
«Дурак!.. Отказался! Игра в благородство... Идиот!» — обругал он себя, но менять решение было уже поздно.
Собрав все силы, Врангель снова побежал, стараясь быстрее достичь спасительного кукурузного поля. Три всадника маячили позади. Они были еще далеко, но страх сокращал расстояние, и Врангелю показалось, что на околышах фуражек посверкивают красные звездочки.
Врангель схватился за кобуру, но она была пуста. Лишь сейчас он вспомнил, что накануне подарил револьвер начальнику Черкесского отряда в обмен на преподнесенный ему в дар кинжал.
В этот момент Врангель справа от себя увидел мчавшуюся во весь опор по степи линейку полевого лазарета. Взмыленные кони дыбились галопом. С одной стороны линейки сидел солдат-возница, с другой, тесно прижавшись друг к дружке, тряслись на рытвинах две сестры милосердия. Белые халаты и косынки с красными крестами делали их похожими на привидения. «Кажется, я спасен! Есть бог, есть бог!» — жгучей радостью опалило душу Врангеля, и он, напрягая последние силы, устремился за линейкой. Были мгновения, в которые он отчаивался, теряя надежду догнать ее, но страх удесятерял силы.
Линейка скрылась в кукурузном массиве, как в лесу. Повезло: кони вынесли ее на наезженную бричками дорогу, насквозь рассекавшую поле. Врангель нырнул в заросли кукурузы и, суматошно раздвигая цепкими руками уже отмеченные зрелой сухостью будылья, прорывался вперед, туда, где жестяно громыхала ускользавшая от него линейка. Крепкие, литые початки кукурузы то и дело каменно и глухо ударялись о голову и плечи, едва не высекая искры из глаз. Он походил сейчас на волка, обложенного со всех сторон гонщиками. Сердце льдисто облегал страх; сознание того, что еще мгновение — и жизнь может оборваться, честолюбивые мечты и планы низвергнутся в пропасть и от него не останется никакого следа на этой горькой земле, даже могильного холмика, повергало его в ужас. А между тем Деникин и иже с ним будут жить и процветать и, чем черт не шутит, под обвальный звон колоколов всех церквей и соборов воцарятся в Москве и будут злословить о его, Врангеле, бесславном конце: «Да и какой он, батенька мой, полководец! Так, честолюбивая бездарь, не более того...»
Наконец кукурузный массив оборвался, оголяя бескрайний простор степи. Линейка вынырнула из кукурузы совсем поблизости от Врангеля и понеслась на рысях теперь уже по бахче. Под споро крутящимися колесами и чугунно-литыми копытами коней с хряпаньем раскалывались и кровяно обнажались спелые арбузы.
Споткнувшись об огромный арбуз, Врангель упал, в ярости схватил его, вскочил на ноги и, наконец нагнав линейку, швырнул его перед собой, надеясь, что возница поймает арбуз на лету. Но тот лишь нелепо дернулся, зачем-то распахнул огромный зубастый рот, арбуз шмякнулся о жесткое крыло линейки, упал под колеса и раскололся. Кони приостановились, Врангель вспрыгнул на подножку и плюхнулся на сиденье рядом с возницей. Затравленно оглянувшись, увидел, что красные конники маячили далеко позади, видимо решив, что гнаться за лазаретной линейкой по меньшей мере безрассудно. Если бы они знали, кто в ней сидел!
Неистовство обуяло Врангеля. Опять позорная неудача: гибель батареи, паническое бегство казаков, а главное, сознание того, что ему не удалось заставить — в который уже раз! — свои войска повиноваться в опасной ситуации, — все эти чувства слились в бурю гнева, горечи и отчаяния.
Они еще долго мчались по степи, будто уже не могли остановиться. Страх отступал, и Врангелю захотелось увидеть лица сестер милосердия. Сделать это было непросто, так как он сидел к ним спиной. Но, скосив глаза, Врангель все же заметил, что одна из сестер смугла, резкими, чеканными чертами лица походила на черкешенку. Вторая пышна, светлые льняные кудри выбивались из-под косынки. Отдышавшись, Врангель хотел было заговорить с ними, но тут их нагнал солдат, гнавший двух лошадей — уцелевший от орудийной упряжки передний унос. Врангель приказал остановить линейку, подбежал к верховому, выхватил у него уздечку, вскочил на оседланную лошадь. Уже сидя верхом, он пристально взглянул на сестер милосердия, еще не пришедших в себя. Смуглянка, приподняв голову, смотрела на него без боязни, даже с отчаянно-смелым вызовом. Большие карие глаза были жгучи и жарки. Чернота взметнувшихся бровей резко контрастировала с белой косынкой. «Эта — штучка», — подумал Врангель. Будучи человеком крутого, своенравного характера, он опасался таких женщин. Блондинка, едва приоткрыв глаза, с обожанием поглядывала на него и тут же отводила взгляд, словно боялась обжечься. В глазах ее недвижно застыл зеленоватый свет.
— Как вас зовут? — Тихая улыбка слегка искривила его тонкие крепкие губы.
— Меня? — первой откликнулась смуглянка, продолжая сидеть. — Анфисой зовут.
— Ксения Варенцова-Гнедич! — вскакивая на неестественно прямые ноги, отрапортовала блондинка. — Ксения Варенцова-Гнедич, ваше превосходительство!
— Спасибо, сестрицы! — как на смотре войск, прочувствованно воскликнул Врангель. — Спасительницы мои! Вовек не забуду содеянного вами! И жду вас у себя!
Последнюю фразу он произнес, обращаясь не столько к Анфисе, сколько к Ксении, и бледные щеки ее стали пунцовыми от радости.
Врангель приветственно, как на параде, взмахнул рукой и ослабил поводья. Конь вымахнул через канаву и понес седока вслед отступавшим казакам.
«После первой же удачи в бою позволю себе заслуженный отдых в окружении этих сестричек, — предвкушая столь приятную возможность, подумал Врангель. — Полководцы должны расслабляться. Многих великих вдохновляли богини...»
Сейчас он решил догнать мчавшихся на галопе линейцев, повернуть их и снова повести в наступление, заставить кровью своей искупить позор.
«Самое прискорбное состоит в том, что придется докладывать Антону Ивановичу... — мрачно подумал Врангель. — И о потере батареи. И о том, что эти красные сволочи увели машину, подаренную самим Хольманом. Вот отчего так сладостна высшая власть. Она освобождает человека от всякой зависимости. Обладая ею, ты ни перед кем не подотчетен. Все повинуются тебе, а ты — никому. Я буду считать свою жизнь бесцельной и бессмысленной, если не испытаю счастья высшей верховной власти, — стучало в мозгу у Врангеля. — А эта Ксения, кажется, способна вдохновлять... — блаженно подумал он и пришпорил коня.
ГЛАВА ВТОРАЯ
За два месяца до того, как произошла ее неожиданная встреча с Врангелем, Анфиса Дятлова, санитарка кавалерийского полка красных, была уже близко к полуночи вызвана в штаб. С тех пор как она добровольно пошла воевать, никто из большого начальства ею не интересовался, и потому внезапный вызов привел Анфису в сильное волнение. Она помчалась к станичной площади, где возле церкви, в доме сбежавшего священника, располагался штаб. «Не ровен час, случилось что с Тимошей... Убитый он или раненый? Вот потому ты как ни шукала, а он не нашелся, — распаляясь предчувствием беды, думала Анфиса. — Ежели что — утоплюсь...»
Часовой, вероятно заранее предупрежденный о ее приходе, провел Анфису в самую дальнюю, угловую комнату, где за столом сидели двое мужчин в кожанках. Тусклое, коптящее пламя керосиновой лампы слабо освещало их лица. Анфиса лишь смогла рассмотреть, что один из них еще совсем молод, и если бы не наган у него на боку, то его можно было бы принять за станичного мальчишку.
— Садитесь, Дятлова, — сказал тот, что постарше. Был он высок, узкоплеч, смотрел хмуро и неприветливо.
Анфиса, трепеща, присела на край табуретки.
— Вас зовут Анфиса Григорьевна? — строго спросил старший.
— Ага, — поспешно кивнула Анфиса.
— Вы замужняя?
Анфиса снова кивнула в ожидании услышать недобрую весть. — Фамилия мужа? Как зовут?
— Тимоша... Тимофей Евлампиевич Дятлов зовут, — пролепетала Анфиса и, потеряв самообладание, вскрикнула: — Убитый он?!
— Спокойнее, товарищ Дятлова, — громко и недовольно прервал ее молодой. — Какой же вы красный боец, если вот так, с ходу, — в слезы?
«Не мучайте, говорите сразу. А то еще трошки — и помру», — хотелось сказать Анфисе, но губы не подчинялись ей, она тряслась в беззвучном плаче.
— Живой он, твой Тимофей Евлампиевич, — сказал старший. — Мы имеем данные.
«Ну а чего же спрашиваете, так бы сразу и гутарили, — все еще не веря в то, что этот хмурый человек с жгучими глазами говорит правду, подумала Анфиса. — А то какой умный, — мысленно упрекнула она молодого. — Ишо небось жизни не хлебнул, петушок какой горластый».
— Где же он? — Анфиса жалко улыбнулась. — Я его с самой зимы шукаю. Повидаться бы! Муторно без него.
— Где — отсюда невидать, — уже помягче сказал старший. — Разобьем беляков — повидаешься.
— А зараз никак нельзя? Ну хоть на минуточку!
— Да поймите вы наконец, что это бесплодные мечтания! — опять вклинился в разговор молодой. — Контра со всех сторон света напирает, схватка лютая — кто кого, а вы со своими личными чувствами. Неужели не стыдно?
— А чего ж тут стыдного? — возмутилась Анфиса. — Я ж не чужого мужа хочу повидать — свово, кровного. Откель ты такой грамотный взялся? Сам небось еще и не знаешь, что с бабой делать.
Даже при свете лампы — тусклом и колеблющемея — Анфиса не без злорадства приметила, что щеки молодого залило ярким румянцем.
— Погоди, Илья! — Старший остановил уже было открывшего рот молодого. — Что мы от этой свары будем иметь? А ничего, кроме того, что ушли в нашем разговоре с главной дороги на какую-то поганую стежку. Ты вот скажи, Дятлова, зачем в Красную Армию пошла?
Анфиса с недоумением уставилась на него: и что он за человек такой непонятливый, неужто не ясно?
— Да мне ж Тимошу найтить...
— И все? — вскинулся Илья. — Вот это цель! Грандиозно! Значит, не ради революции, а ради поисков личного счастья? Вы слышали, товарищ Шорников?
— Так воюю же. Бойцов раненых перевязываю. И стреляю, когда приспичит. Из винтовки.
— Революция — она и есть для личного счастья, — наставительно произнес Шорников. — Мы, Дятлова, вот зачем тебя позвали, — как бы отсекая предыдущий разговор от последующего, продолжал Шорников. — Ты, Дятлова, если мы тебя в тыл к белякам зашлем, сможешь нам помочь?
— Так они надо мной измываться почнут! — испуганно, будто вопрос о ее засылке уже предрешен, воскликнула Анфиса. — Не ровен час, дознаются про Тимошу. А он командир эскадрона. Как он будет жить без меня?
— Мы зашлем тебя как сестру милосердия. И документы выдадим по всей форме. Легенду тебе придумаем.
— Вы это шутейно? — Анфиса пыталась понять, что скрывается за словом «легенда».
— Нет, Дятлова, совсем не шутейно. Нам в бирюльки играть недосуг. Нам данные разведки нужны. Для успешных боев. Сколько у Врангеля войск, куда передвигаются, сколько орудий, где ихние батареи стоят, чего там беляки замышляют. Ну и так далее.
— Так разве ж я смогу? — решив ни за что на свете не соглашаться с предложением Шорникова, спросила Анфиса.
— Захочешь, чтоб красные победили, — сможешь. Очень нам это необходимо, понимаешь, Дятлова! А ты кандидатура подходящая. В самый раз, по всем данным.
— А как я все это вам передам?
— На связи у тебя будет вот он. — Шорников кивком указал на Илью. — Товарищ Шафран. Да мы все тебе растолкуем. Нам твое согласие требуется.
— Нет, я вовсе не согласная, — непримиримо отрезала Анфиса. — Не женское это дело.
— Ну, как знаешь, Дятлова. Тебе видней, — после длительного молчания еще сильнее нахмурил мохнатые брови Шорников. — Силком мы тебя, разлюбезная Анфиса Григорьевна, тащить не будем. А только скажу я тебе напрямки, что ты своему Тимофею Евлампиевичу, можно сказать, единокровному мужу, не желаешь помочь.
— Тимоше?! Да ты что, сказился? — накинулась на него Анфиса. — Да я ему завсегда подсоблю, нехай только покличет!
— Вот и подсобляй. Ты сама своей головой рассуди: ты нам сведения о беляках дашь, мы по ихней коннице или батарее — хрясь! И уже та конница на твоего Тимофея Евлампиевича не поскачет. И батарея по твоему, можно сказать, суженому не ударит. И так далее. И беляков быстрей расчихвостим. Теперь соображаешь, что к чему?
Анфиса завороженно смотрела на Шорникова, стараясь понять ход его рассуждений и убедиться в их правоте. Пока он говорил о необходимости добывать данные о беляках — его слова как бы не касались ни ее жизни, ни ее судьбы. Теперь же, когда он заговорил о Тимофее, она поняла, что обязана сделать все, чтобы ему, Тимофею, было легче громить беляков.
— Раз так — посылайте! — вдруг решительно сказала она и почему-то встала, будто нужно было прямо сейчас, из этой полутемной комнаты, идти выполнять задание.
— Вот это — другой разговор, — удовлетворенно произнес Шорников. — Придешь ко мне завтра. А сейчас иди и хорошенько выспись.
— Так разве ж я теперь засну? — улыбнулась Анфиса. — Теперь я глаз не сомкну до самой зари.
Илья Шафран усмехнулся и, подождав, пока Анфиса выйдет за дверь, сказал:
— Не годится. И зачем вы, Василий Макарович, велели ей завтра приходить? Это ж комедия, а не разведчица. Что вы в ней такого ценного нашли, убей меня, не понимаю.
Шорников, наверное, и сам себе не смог бы толком объяснить, почему в те дни, когда решался вопрос о засылке разведчика в дивизию генерала Врангеля, его неотступно преследовала мысль о том, что наиболее подходящей кандидатурой для этой цели будет Анфиса Дятлова. Мысль эта шла в полное противоречие с устоявшимся представлением о том, что женщина в роли разведчицы должна обладать ошеломляющей красотой, обаянием, кокетством, умением быстро сходиться с людьми, расположить их к себе, более того, вызвать у них полнейшее доверие и желание исповедоваться в своих сокровенных тайнах. Что же касается Анфисы, то, будучи, несомненно, красивой женщиной, она была крайне сдержанна, застенчива, скупа на слова, не стремилась к тому, чтобы завязывать знакомства, и была начисто лишена кокетства.
Наверное, поэтому Шорников не раз спорил со своим молодым, бесшабашным и любящим риск сотрудником Ильей Шафраном, который откровенно высмеивал его желание послать в тыл противника именно Дятлову.
— Неужели, Василий Макарович, вы это совершенно серьезно? — атаковал его Илья, вздергивая и без того вызывающе вздернутый нос. В его вопросе звучало нескрываемое отчаяние, проистекающее оттого, что Шорников столь упрямо стоит на своем и не прислушивается решительно ни к каким его доводам, хотя он считал их вескими и неотразимыми. — Хотел бы я знать, как ваша Дятлова станет своим человеком у беляков. Это же просто смехота! Казачка, никакого интеллекта, дикая и необузданная. И вы думаете, что офицерье откроет ей свои тайны? Нет, она далеко не Мата Хари!
— Какая еще там Хари? — Шорников хмуро и даже опасливо покосился на Илью. — Что ты мне мозги забиваешь?
— Так то была шпионка, если б вы знали! — воскликнул Илья. — Совершенно неотразимая! Сколько выудила секретов! Правда, ее расстреляли.
— Вот видишь! — восхищенно сказал Шорников. — Расстреляли. А нам живая разведчица нужна. Чтоб до самой полной победы. Анфиса чем хороша? Характер у нее — таких режь, жги — не выдаст. Ей верить можно в полной мере. И не будет привлекать к себе особого внимания. Таких казачек на Кубани — тьма. Пойдет в поварихи или сестры милосердия — все узнает, услышит, увидит. И так далее.
— Но в офицерские круги ей не пробиться, — упорствовал Илья.
— Как знать, еще и замуж выйдет. За какого-нибудь поручика. А что? Фиктивный брак, а для дела — явная польза.
— Во-первых, она замужняя, — не разделяя оптимизма Шорникова, напомнил Илья. — Дойдет сия весть до Тимофея Дятлова — вот вам и конец семейной идиллии. А пронюхают беляки, что у нее муж красный, — совсем худо ей будет. Короче — петля на шею. Как ни поверни, все не годится.
— Распутья бояться, так и в путь не ходить, — хмуро изрек Шорников. — В нашем деле всегда так — либо петля надвое, либо шея прочь.
— Я вынужден закругляться в этой неравной дискуссии, — уже спокойнее сказал Илья: его всегда обезоруживали пословицы и поговорки, которыми словно бы выстреливал Шорников, когда терпение его иссякало или же он считал, что длительный разговор не принесет никакого ощутимого результата.
— Нам с тобой решать, — поправил его Шорников, делая ударение на слове «нам». — И ты не прикидывайся сторонним наблюдателем. Даю тебе неделю сроку на подготовку Дятловой. И выходить она будет через наших людей на тебя. А уж ты изволь всю информацию, которую она добудет, немедля в штаб.
— Задача ясна, товарищ Шорников.
— Вот так и порешим.
Однако, хотя Шорников и настоял на своем, сомнения в правильности выбора не покидали его. Но он не хотел признаться в этом своему молодому помощнику. «Еще рановато ему обедню служить, — внушал он самому себе. — Отпусти вожжи, так он вразнос понесет».
Но что-то в облике Анфисы Дятловой привлекало его, более того, вызывало теплое, радостное чувство. Наверное, то была ее непосредственность и даже наивность, прочно соединенная с ранней жизненной мудростью. То ли особая, вызывающая восхищение целомудренность Анфисы, которая даже в позволяющем многие вольности и слабости фронтовом быту оставалась сама собой, держалась с тем достоинством и независимостью, которые не оставляют мужчинам надежды на легкую победу. А скорее всего, причиной тому было то чувство, испытываемое мужчиной, вдруг озаренным именно тем идеалом женщины, который он лелеял в своих мечтах. Лишь потом, когда судьба Анфисы Дятловой останется для него под покровом неизвестности и даже тайны, он в порыве откровенности признается Илье Шафрану, что при первой же встрече с Анфисой Дятловой враз и навсегда полюбил эту необыкновенную женщину и, опасаясь, что это, смертельным недугом охватившее его чувство свяжет его по рукам и ногам, парализует волю и не даст ему целиком, без остатка отдаться делу защиты революции, решил, что лучший способ наступить себе на горло — это отдалить ее от себя и послать в тыл к белым. Конечно, оправдывался он, то была не единственная и не определяющая причина его выбора, но тем не менее и она сыграла свою далеко не последнюю роль в принятии решения.
— Я никогда не думал, что вы вообще можете полюбить женщину, — задумчиво произнес Илья, ошеломленный этим признанием. — И знаете, как называется поступок, продиктованный вашим личным чувством?
— Ну, говори.
— Трусостью, даже предательством, — резко отчеканил Илья. — И самым жалким эгоизмом. Вот как это называется, товарищ Шорников.
— Бей наотмашь, заслужил. — В голосе Шорникова слышалась самая неподдельная искренность. — Да я и сам себя казню — никому не желаю такой казни.
Но этот разговор был позже, а теперь Илья Шафран, выполняя установки Шорникова, с рвением, которое всегда было ему присуще («Ты ровно динамитом начиненный», — любил говорить ему Шорников), принялся готовить Анфису Дятлову к выполнению нелегкого задания.
Подготовка эта, дабы не вызывать всевозможных кривотолков, шла в основном в ночное время. Илья сговорился с Анфисой, что они будут встречаться в доме, где лежали раненые бойцы и куда Анфиса могла приходить выполнять свои обязанности санитарки.
Самое сложное состояло в том, что Илья, оставаясь с Анфисой наедине, стеснялся ее и, чтобы не выдавать свою застенчивость, говорил с ней грубовато, занозисто, ерепенясь по делу и без дела.
Начали они с определения места перехода фронта. Илья разложил на столе полевую карту, аккуратно разгладил ее ладонью, придвинул поближе керосиновую лампу, которая, как на грех, отчаянно коптила, и оттого на карте все было окрашено в коричневатые тона.
— В картах разбираешься? — тоном сурового экзаменатора спросил Илья.
— В картах? — удивилась Анфиса, вздымая на Илью удивленные и оттого еще более красивые глаза. — В подкидного могу. Только не люблю, времени жаль. И в дурачках не люблю оставаться. Дюже мне не везет.
Илья остолбенело, уставился на нее.
— Я спрашиваю вас не об игральных картах, — сердито сказал он. — Вот о такой карте спрашиваю, — показал он на стол.
— В таких ничуточки не разбираюсь, — смущаясь призналась Анфиса. — Да я такую отродясь и в глаза не видела. Не знаю, с чем ее едят.
— Как же так? — возмутился Илья. — Это же элементарно! Карту каждый человек обязан знать. Тем более на войне.
— Дак откуда ж мне знать? Ты меня, что ли, учил?
— Странно вы рассуждаете! — Илья никак не мог осмелиться назвать ее на «ты». — А как же вы, не зная карты, проберетесь в тыл белых?
— А очень даже просто, — невозмутимо ответила Анфиса. — Я здесь, миленький, каждую станицу, каждую стежку наизусть знаю. Вот завяжи мне глаза — и найду.
Илью внутренне передернуло, когда она назвала его «миленький». От этого словечка за версту несло фамильярностью. Его, помощника самого Шорникова, называют «миленьким», как какого-то мальчишку. Еще чего!
— Ну, в таком случае я буду показывать вам на карте место наиболее благоприятного перехода, а вы уж полагайтесь на свою память.
— Хорошо, миленький, — тотчас согласно отозвалась Анфиса. — Память у меня цепкая, как репей. Вот тебя в аккурат до самой смертушки запомню.
Илья грозно и недовольно посмотрел на нее. Смотри-ка, чего себе позволяет. Неужто до нее не доходит, что слово «миленький» корежит его и мешает вести серьезный разговор.
— Вот, смотрите. — Он провел по карте карандашом и остановил его острие у маленького кружочка, обозначавшего станицу.
Анфиса покорно склонилась к карте. В глазах зарябило от множества извилистых линий, кружочков, надписей, цифр... Как же можно тут что-нибудь понять?
— Читать-то хоть умеете?
— Читать? — переспросила Анфиса. — Читать могу.
— Вот, прочтите. Что здесь написано?
— Ми-хай-лов-ская, — радуясь, что хоть по слогам, а прочитала и тем самым доказала этому грозному петушку, что умеет, произнесла Анфиса. — Так я ж туточки родилась! — Она воскликнула с такой откровенной радостью, будто отыскала для себя совсем новый, неведомый еще мир. Она радовалась еще и потому, что ее родная станица, оказывается, обозначена на карте и, значит, не такая уж она простая, эта ее
Михайловская.
— Совсем плохо, — насупился Илья.
— Плохо? — расстроилась Анфиса. — Прочитала плохо? Так я ж всего два класса закончила. А потом школу бросила, пошла матери по хозяйству помогать.
— Два класса, а третий коридор, — усмехнулся Илья. То, что по слогам, это не страшно. Страшно другое.
— Да что же страшно-то?
— А то, что в Михайловской родились. Это означает, что вас там могут запросто опознать.
— Так меня, миленький, кругом, сколько глаз видит, здесь каждая собака знает.
— При чем тут «миленький»? — не выдержал Илья. — И при чем тут собака? Оказывается, Дятлова, вы очень несерьезный человек.
— Это я-то несерьезная? — вскинулась Анфиса. — Может, посерьезнее тебя. Ишь какой быстрый!
— Ну хорошо, — уже мягче сказал Илья, боясь, что эта перепалка отвлечет их от главного. — Если вы так хорошо знаете эту станицу, скажите, на какой речке она стоит. Знаете?
— Да как же, миленький, не знать, ежели я в ней с малолетства купалась? И раков ловила. Бывалыча, у платьишка подол задеру, чтоб не намочить, и рукой — в нору. Там этих нор знаешь сколько? Одна на другой. Только раки, стервецы, кусучие. Сунешь пальцы в нору, а он тебя клешней — цап! Все пальцы искусают. А я не боялась. Вот ни чуточки. И то — по ведерку налавливала. Ты, миленький, вареных раков едал?
— Дятлова! — укоризненно прервал ее Илья. — Ну что за ересь вы городите? При чем тут раки? Я с вами решаю серьезные вопросы, а вы о какой-то ерунде.
— Для тебя, может, и ерунда, — противилась Анфиса. — А была б у тебя куча детей, как у моих родителей, так ты по-другому бы закукарекал. В голодное времечко росли, так и ракам до смерти рады были.
— Однако вы так и не ответили на мой вопрос.
— Это на какой же?
— Десять раз вам повторять? Я спрашивал о названии речки.
— Так Чамлык она! Чамлык и есть. Я там сколько раз на островочек переплывала, насупротив хутора. За калиной.
— Вы опять свое? Нам, Дятлова, сейчас с вами не до воспоминаний. Приберегите все это на после войны. Вот тогда сядете за письменный стол и создадите мемуары. В назидание потомкам.
— Как ты сказал? — заулыбалась Анфиса, жмурясь от непонятного слова.
— Мемуары, — сухо изрек Илья. Он, хоть и сам не закончил гимназию, считал себя большим знатоком самых мудреных вещей и явлений. — Но сейчас не до них. Сейчас надо писать историю своими поступками во имя революции.
— А Михайловская не на одной речке стоит. Она хоть и в степи, а водой богатая, — как бы назло Илье сообщила Анфиса. — Хоть у тебя и карта, а я и без нее лучше тебя все знаю. Там еще Синюха течет. Куда Чамлыку до нее! Чамлык — он норовистый, как необъезженный конь. И мутный: берега там глинистые. А Синюха тихая, ласковая, как девка на выданье. И небушко завсегда в нее смотрится.
Все было бы ничего, тем более что Анфиса, судя по всему, отлично знала местность, на которой ей предстояло действовать и выполнять задание. Но Илью искренне огорчало то, что она будет переходить фронт и собирать данные в тылу у белых, не имея никакого понятия о полевой карте. А это уже было, по его твердому убеждению, не по науке, а так, сплошное ремесленничество.
— Вот мы и подошли к главному, — строго сказал Илья. — Здесь, у Синюхи, самое удачное место для вашего перехода. Беляки — на левом берегу, наши — за курганами, на правом. Вот тут, где Синюха приближается к станице, и перейдете.
— Да я в свою станицу на крыльях полечу! Может, с маманей повидаюсь.
— Вот это и не годится, — возразил Илья. — На крыльях, Дятлова, это все равно что очертя голову. А вам надо обдуманно, чтоб комар носу не подточил. Чтоб никаких подозрений! А для этого надо мозгами шевелить.
— Да как скажешь, так я и сделаю, — стараясь смягчить Илью, покорно сказала Анфиса.
На следующую ночь Илья учил Анфису тому, как сделать, чтобы после перехода ее не заподозрили белые. С одной стороны, рассуждал Илья, плохо, что Анфиса родом из Михайловской: там наверняка найдутся жители, которые знают Анфису и, что еще хуже, наслышаны о том, что ее муж служит у красных. Но на этот случай она может сказать, что Тимофей переметнулся к белым, увидев, что сила на их стороне. Такие факты, когда казак метался от красных к белым и наоборот, бывали нередко, и Илья о них не просто знал, но, более того, ему приходилось допрашивать вернувшихся с повинной. Надо было выяснить, не заслан ли такой человек со шпионскими целями, хотя определить это было очень нелегко, почти невозможно, если не было прямых доказательств.
Вместе с тем тот факт, что Анфиса была родом из Михайловской, имел и свою положительную сторону. Она может прекрасно приспособиться к знакомым условиям и будет чувствовать себя как рыба в воде. И никто не станет смотреть на нее как на человека со стороны, как на нечто инородное, а потому и подозрительное. Кроме того, для нее не нужно было придумывать какую-либо заковыристую легенду. Своя среди своих — вот и вся легенда.
Какой из этих плюсов и минусов перевешивал, Илья и сам не мог определить. Перевешивало то, что выбор Шорникова пал на Анфису Дятлову, и потому надо было готовить и засылать именно ее.
Со всем этим обстояло легче. Гораздо труднее было научить Анфису правилам хорошего тона и умению общаться с той средой, в которой она должна будет находиться.
— Прежде всего, Дятлова, — поучал ее Илья, — вы должны будете угождать офицерам. И свою привычку говорить наперекосяк забудьте.
— А если я не согласная?
— Даже если не согласная. Будете в роли сестры милосердия. А чтобы вам легче и естественнее внедриться, перейдете на ту сторону во время боя. В самый разгар перестрелки. Перейдете — и туда, где самая свалка. Найдите раненого беляка — и перевязывайте его, как ни в чем не бывало. Лучше, если офицера. Одного, другого. Ваше усердие обязательно заметят. А когда кончится бой, попросите их командира определить вас в сестры милосердия. Так, мол, и так, не могу больше отсиживаться в своей постылой станице, хочу послужить за единую, неделимую Россию. Поняли?
— Понять-то поняла. Вот только душа не лежит.
— А вот на это наплевать и забыть! — резко одернул ее Илья. — Во-первых, никакой души в природе нет — выдумка попов-мракобесов. Во-вторых, если вы считаете, что она все же есть, — подчиняйте ее не чувствам, а разуму.
— Вроде как в тумане твои слова.
— Тогда скажу конкретнее: всю себя подчиняйте только одному — заданию, которое вы получили. Другой цели в жизни теперь у вас нет и не может быть. Понятно вам, Дятлова?
— А ежели Тимоша объявится, ты мне дашь знать?
— Разумеется. Но там, где вы будете, ваш Тимоша — самый закоренелый беляк, порубил не один десяток красных и ждет не дождется, когда на Кубани снова возьмут верх буржуи.
— Это еще что?! — возмутилась Анфиса. — Выходит, я на свово Тимошу клепать должна? Вишь, чего захотел! Что хочешь, только не заставляй меня брехать на Тимошу!
— Ну что вы за человек, Дятлова! — вскипел Илья. — Неужели вам не понятно, что если вы скажете правду о своем муже, то белые вас не пощадят? Да вас тут же, в вашей родимой Михайловской, вздернут на виселицу. Прямо на площади, это я вам гарантирую.
Анфиса задумалась. Вся натура ее была устремлена к правде, она ненавидела ложь и всегда говорила людям то, что думает, порой даже во вред себе. Не умела она ни хитрить, ни ловчить. А вот теперь вынуждена была, чтобы справиться с тем заданием, которое ей поручили, клеветать даже на своего Тимошу.
«И где он, чертяка, выискался на мою голову? — думала она о Шорникове. — А тут еще этот петушок задиристый. Вишь, как кукарекает. Такая уж моя непутевая судьбинушка».
Между тем Илья продолжал ее наставлять:
— Прислушивайтесь к их разговорам и, как только услышите какие-либо данные, к примеру о количестве сабель, пулеметов, пушек, короче говоря, любого оружия, накрепко запоминайте. Или о том, в каком направлении, на какую станицу они собираются наступать, какого числа, в какое время. Все держите в голове, любые записи полностью исключаются. Очень важно, если сможете сообщить, где размещаются их полки и даже батальоны. На первый раз достаточно. А что еще потребуется — мы вам дадим знать. Постарайтесь иметь там побольше знакомств, особенно с теми офицерами, которые поближе к штабам. Чем больше у вас будет знакомых, тем больше соберете информации.
— Информации? — удивленно переспросила Анфиса, с трудом выговаривая незнакомое слово.
— Ну, значит, сведений. Вы должны стать нашими глазами и ушами. Как у вас с памятью?
— С памятью? Тимоша говорил, что я дюже злопамятная. Про все, что он, бывалыча, натворит, сто лет помню.
— При чем тут Тимоша? — рассердился Илья. — Тут совсем другое дело.
— Да ты не переживай, — почти ласково промолвила Анфиса. — Все, что тебе требуется, я в голове буду держать. Это все равно как если бы Тимоша меня попросил.
— Вот это другой разговор, — помягчел Илья.
В следующую встречу он рассказал ей, как выходить на связь.
— Сами ничего не предпринимайте. И не вздумайте меня искать. Даже если сведения у вас будут самые распрекрасные. Когда надо, я вас сам найду.
— Да я ж тебя теперь на всю жизнь запомню. Я лица дюже хорошо запоминаю. Если головой — могу и забыть, а если глазами в кого нацелюсь — через сто лет признаю.
— И что это вы, Дятлова, заладили — сто лет, сто лет! Вы хотя бы через неделю не ошибитесь. Тем более что приходить к вам будут от нас разные люди. И чаще всего ночью. А поэтому вы должны как «Отче наш» запомнить пароль.
— Какой еще пароль?
— Пароль — это условные слова, которые служат для того, чтобы убедиться, кто перед вами — свой или чужой. Слушайте меня внимательно. Если тот, кто придет к вам, спросит: «Ты, случайно, не из москалей?» — значит, я его к вам прислал, наш человек. Ему и сообщите все, что вам удалось разузнать. А вы должны ему ответить: «Нет, я кубанская казачка». Тогда он поймет, что это вы и есть и что все, значит, в порядке.
— Ой как интересно! — восхитилась Анфиса. Ей и в самом деле начинала нравиться ее новая роль.
— Запомните, Дятлова, это не детская игра, это не столько интересно, сколько опасно. И поэтому тщательно продумывайте каждый свой шаг, прежде чем его сделать. Малейшая оплошность может стоить вам жизни.
— Да чего ты меня пугаешь? — рассердилась Анфиса. — Я и сама пуганая. А только, если захочу, кого хочешь могу вокруг пальца обвести. Знаешь, как меня Тимоша ревнует!
— Не надо бахвалиться, Дятлова, — остудил ее Илья. — Нам нужны не слова, а реальные дела. Нам данные разведки нужны, и пока вы выполняете наше задание, о личном забудьте.
— Ох, и хотела бы забыть, да разве ж забуду? — сокрушенно сказала Анфиса. — Вот я давно хотела тебя спросить, да все боялась. Скажи, как война кончится, Тимошу найду, жить будем, как раньше, душа в душу. А вдруг он дознается, что я у белых была и живая осталась, тогда как?
— Товарищ Дятлова, я вас категорически предупреждаю: о том, что вы сотрудничаете с нами, никому ни слова, ни полслова — ни мужу, ни брату, ни свату. А мужу можете сказать, что попали к белым в плен, заставили работать сестрой милосердия, а при первой возможности сбежали к своим. Если у него есть голова на плечах и тем более если он вам верит, то все будет в порядке.
— Значит, сызнова мне его обдуривать? — горестно не то спросила, не то сама себе сказала Анфиса. — Не умею брехать, завсегда ему чистую правду гутарю.
— Ну, Дятлова, хватит причитать. Согласились быть нашей разведчицей? Согласились. Осознали, что этим самым поможете Красной Армии, а значит, и своему мужу? Осознали. Вот и действуйте. И поставим на этом точку.
— Ладно уж, — грустно промолвила Анфиса. — Сама вижу, что куда ни кинь — везде клин. А за меня ты нисколечко не сомневайся. Через огонь и воду пройду, раз требуется.
Так пришел последний день перед тем, как Анфисе идти в тыл к белым. Боязливо вставала над горизонтом утренняя заря, когда к Анфисе, ждавшей в кустарнике на окраине станицы, пришел сам Шорников. Они присели на траву. Ночь скатывалась за курган, и, как бы провожая ее, тревожно щелкали соловьи.
Шорников, глядя куда-то мимо Анфисы, негромко ронял слова:
— Ты вот что, Анфиса Григорьевна... Нелегко тебе достанется. Особенно попервах. Так ты смотри... Учти, что жизнь твоя нам очень дорогая... — Он едва не сказал вместо «нам» — «мне», но пересилил себя. — И ты сама в пекло не лезь...
Анфиса смотрела на него и не узнавала. Что-то жалкое и грустное появилось в этом, казавшемся ей строгим и суровым человеке, не признававшем никаких чувств, кроме чувства долга. Она приметила, что его жесткие, цвета вороненой стали глаза потеплели. Бросив на нее короткий, будто случайный, взгляд и будто ожегшись о что-то, стремительно и стыдливо опускал глаза. И то, что его невозможно было понять, взаправду ли он жалеет ее или же просто для порядка произносит те самые казенные слова, которые принято говорить при прощании, и удивляло и обижало ее.
— И чего ты вздумал меня загодя хоронить? — почти сердито спросила Анфиса. — Никак жаль тебя проняла? Пожалел волк кобылу! Меня в печь, а самому как бы сбечь. Не надо мне никаких твоих жалостных слов. Я за эту последнюю ноченьку так себя извела, так настропалила, что никакие слезы меня теперь не проймут.
— Да не жалею я тебя, Анфиса Григорьевна, — жестко произнес Шорников. — А говорю так потому, что ты нам живая нужна, а не мертвая. И так далее...
Его опять подмывало сказать не «нам», а «мне» и тем самым признаться ей в своих чувствах, но у него не хватило духа. «Оказывается, впервой сказать бабе о своей любви — для этого отчаянная храбрость нужна. Поболее, чем в рукопашной», — с горечью подумал он.
— А не жалеешь, так и хорошо. Прощевай, Василий Макарович.
— Прощай, Анфиса Григорьевна. Может, у тебя какая просьба есть? Я завсегда уважу.
Анфиса склонила голову, подумала и ответила решительно, как бы наотмашь:
— Ты мне, Василий Макарович, Тимошу смогешь найтить? У тебя же, я так своей бабьей башкой кумекаю, везде разведчики расставлены. Не одна же я у тебя. Вот ты им и накажи, чтоб поискали. Век тебе буду обязана...
Слова ее, в которых отчетливо слышалась затаенная, выстраданная искренность, ударили Шорникова в самое сердце. В эти мгновения он окончательно понял всю бесплодность своих надежд на взаимность, и его охватила такая смертельная тоска, что хотелось застонать, как от физической боли. Сейчас, с уходом Анфисы, он прощался не только с ней, но и с тем своим чувством любви, которое испытал впервые в жизни, хорошо понимая, что такого ему уже не суждено испытать до конца своих дней.
Анфиса встала с земли. Поднялся и Шорников.
— И что это они, треклятые, расщелкались? — сердито спросил Шорников, прислушиваясь к соловьям.
— А что им? — повела плечами Анфиса. — Им до нас какое дело? У них жизня своя...
Она повернулась и пошла. Шорников долго, как завороженный, смотрел ей вслед, внушая себе, что еще не поздно, пока она не выйдет из рощицы, остановить ее, схватить в объятия, смеяться от счастья, что она не ушла, и говорить, что и задание, и вся подготовка к засылке в тыл, которую вел в эти дни Илья, — все это лишь придуманная им, Шорниковым, игра, в которой он задался целью испытать ее волю, проверить ее характер, и теперь, когда у него не осталось никаких сомнений в ее верности, он оставляет ее у себя, а для разведки подготовит другого человека, лучше всего — мужчину.
Но он знал, что не остановит ее и не скажет таких слов потому, что все это была вовсе не игра, и потому, что сейчас, на этой войне, когда вздымается лава на лаву и стоит один-разъединственный вопрос, самый беспощадный из всех вопросов: или мы, или они, — нужно жертвовать всем — и любовью, и даже жизнью, — лишь бы победить.
Только на миг Шорников представил себе, что Анфиса уже никогда не вернется и что больше он уже никогда не увидит ее, как понял: теперь он лишается солнца, которое всходило каждое утро, светило ему и согревало душу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Зачиналось утро, когда молодой художник Ратмир Крушинский стоял с мольбертом на правом берегу Москвы-реки, неподалеку от крохотной деревушки. Фанатичный поклонник Левитана, он решил посвятить свою жизнь прославлению русской природы. Хорошо понимая, что после Левитана сказать свое слово в изображении пейзажа — дело не только не простое, но, пожалуй, и безнадежное, Крушинский тем не менее отважился избрать этот чреватый тернистыми испытаниями путь и настроил себя на то, чтобы, не впадая в подражательство и не пытаясь превзойти великого художника, стать не подмастерьем, но мастером.
Он с восторгом усвоил мысль Льва Толстого о том, что если в науке еще и возможна посредственность, то в искусстве и литературе тот, кто не достигает вершин, падает в пропасть.
Человек философского склада ума, Крушинский вознамерился очеловечить природу, глубоко веря в то, что и дерево, и цветок, и вода, и туча на небе, и самая маленькая травинка способны, как и человек, испытывать чувство счастья и страдания, способны говорить на своем, присущем им языке, сопротивляться стихии, иными словами, жить так, как живет человек. У природы отнято лишь то право, которое составляет превосходство человека, — право мыслить. Кроме того, природа, не обладая собственной волей, в отличие от человека, вынуждена, хотя и не без сопротивления, подчиняться стихии.
Крушинский с трудом выбивался в художники. Отца его, мелкого чиновника, свел в могилу туберкулез, когда Ратмиру не было и десяти лет. Мать, оставшись без средств к существованию, пошла работать на табачную фабрику и с горя пристрастилась к вину. Мальчик был предоставлен самому себе. В том же переулке, где жили Крушинские, коротал свой дни одинокий старый художник. Смышленый, любящий рисовать мальчонка пришелся ему по душе, и он вознамерился обучить его хотя бы азам живописи. Молчаливый и внешне суровый старик сумел своим внутренним скрытым теплом согреть озябшую душу Ратмира и возбудить в нем сильную страсть к живописи. Занятия с Ратмиром были столь успешны, что старый мастер, обычно избегавший похвалы, однажды сказал:
— Ты будешь художником.
И через своих знакомых начал усиленно хлопотать о том, чтобы Ратмира приняли в художественное училище. Мечта Ратмира сбылась. Училище он закончил с отличием, его дипломная работа попала на выставку. Но жить было не на что, и ему приходилось подрабатывать то на разгрузке леса на речной пристани, то в подмосковных деревнях на сенокосе, то в рыбацких артелях на Волге.
По натуре Ратмир был замкнут, немногословен и восторженно относился только к природе и женщинам. Природа была доступна, в нее можно было влюбляться, даже не рассчитывая на взаимность, и он старался слиться с ней, находить в ней отраду, вдохновение. Что касается женщин, то, восхищаясь ими, он боялся их и боготворил, скрывая эти чувства от других. Потому-то, наверное, как и Левитан, рисуя пейзажи, он ни разу не попытался изобразить человека.
Летом он поселился в деревне, вблизи Москвы-реки. Как и во многих местах Подмосковья, пейзаж здесь был прекрасен, и Крушинский уверовал в то, что природа создала его таким специально для художников.
В этот день, еще не успевший отдалиться от дня летнего солнцестояния, Крушинский вышел на натуру, когда едва забрезжила заря. Расставив мольберт у одинокой березы, он намеревался сделать набросок излучины реки с ее холмистым берегом. Его давно привлекал к себе этот живописный холм, на котором, как казалось Крушинскому, можно было бы выстроить еще один кремль, почти сродни Московскому.
Крушинский уже принялся растирать кистью краску, как от этой работы его отвлекло внезапно возникшее на горизонте зарево. Сперва он предположил, что где-то занялся пожар, озаривший небо кроваво-багровым светом. Но, присмотревшись, он понял, что это не что иное, как всполохи восходящего солнца. Крушинский любил наблюдать за рождением нового дня, спозаранок выбегал за околицу деревни, чтобы не пропустить появление солнца, но нынешний восход поразил его своей фантастичностью и вызвал безотчетное чувство внутреннего озноба. Что-то зловещее было в том, как откуда-то из-за дальнего мрачного леса выкатывалось и поднималось над округой багровое солнце, словно вознамерившееся предупредить людей о грозящей им опасности. В нем не было сейчас обычной доброты и умиротворенности, какие всегда несет с собой утреннее солнце, вызывая радость и предчувствие того, что впереди у людей целый земной день, подаренный им жизнью и судьбой.
Крушинский долго, с тревогой смотрел на страшный восход. В голову вдруг полезли настырные мысли о бренности жизни, о том, что все на этой земле преходяще и не заслуживает того, чтобы человек отдавал своим деяниям столько сил, нервов и эмоций. Учащенно забилось сердце, и единственное, чего сейчас хотелось, — чтобы гневные кровавые всполохи поскорее исчезли и небо стало таким же безмятежным, каким оно было еще десять минут назад.
Рисовать расхотелось, но Крушинский не мог заставить себя сложить мольберт и сдвинуться с места. Что-то невидимое, могущественное сковало его волю, парализовало способность к действию. Казалось, надо бы как можно скорее перенести на холст этот сатанинский восход, но кто же ему поверит, что солнце и небо могут быть такими, какими он видел их сейчас! Припишут все больному воображению.
Но не это отпугивало Крушинского от работы. Главное было в том, что не возникало творческой жажды рисовать
такое солнце и
такое небо, под которым исчезало желание жить. Наверное, именно таким представляют себе люди, особенно суеверные, конец света.
Зарево стало еще ярче, и художник в страхе закрыл глаза. Но багровое чудище продолжало слепить их, и он в отчаянии повалился на землю, с жадностью, как избавление от гибели, вдыхая запах влажных от росы ромашек.
Сколько времени он пролежал здесь — недвижимый, разбитый, безвольный, — он и сам не знал. А когда приподнял голову и открыл глаза, то тихо, обезумело ахнул: солнце, уже поднявшееся над лесом, было таким же, как и всегда, — добрым и ласковым.
«Неужто все это было во сне? — изумленно подумал Крушинский, все еще опасливо взирая на солнце и не веря, что багровое зарево растворилось в этом тихом ярком сиянии. — Или я схожу с ума?»
Крушинский встал и подошел к мольберту. Легкий ветерок едва шевелил волосы. Он взял кисть и сделал первый мазок, всегда таящий в себе неуверенность и предчувствие разочарования.
Работалось плохо. Багровый яростный восход, все еще стоявший перед глазами, не позволял переключиться на спокойную, нежную синеву небес и веселое солнце. Река все время исчезала в зареве, будто текла в него, как в небытие.
А вообще-то ему всегда было трудно работать. И мешал ему лишь один человек на свете — Исаак Левитан. Крушинский никак не мог постичь той тайны, которая была сокрыта в картинах этого гения. У Крушинского все — и река, и ивы на крутом берегу, и овины, и дальние стога, и ромашки, — все выходило похоже, в точности совпадало с натурой и вызывало восхищение именно этой похожестью. Дамы неизменно восклицали: «Смотрите, ну совсем как живое!» Но не было трепета, не обжигало душу, потому что не было левитановской
тайны, приводящей человека в состояние тревоги, нервного возбуждения и радостного нетерпеливого желания поскорее постичь эту тайну. И не было понимания того, что тайна эта настолько бездонна и недоступна, что всю ее постичь невозможно.
Крушинскому врезались в память слова Левитана, обращенные к его ученикам: «Дайте красоту, найдите бога, передайте не документальную, но правду художественную. Долой документы, портреты природы не нужны».
Крушинский все это сознавал, носил в памяти и в сердце, но стоило взяться за кисть, как вновь и вновь получался всего лишь портрет природы. Это приводило его в отчаяние, и однажды, обезумев от недостижимости своей мечты, он решил покончить с собой. Но пистолет, купленный им по случаю у какого-то бродяги, оказался никудышным. Сухо щелкнул курок — выстрела не последовало: был сломан боек. Второй раз нажимать на спуск было бесполезно...
Однако Крушинский не терял надежды разгадать тайну великого художника. И потому с упорством маньяка рисовал с натуры едва ли не каждый день. Так и сегодня он рисовал до тех пор, пока не увидел, что с запада, настигая все еще по-доброму сиявшее солнце, стремительно надвигалась большая черная туча. Вначале она гнала перед собой светлые, похожие на милых барашков и потому радующие глаз облачка, затем нервно разметала их в разные стороны, становясь единственным и неоспоримым властелином в этой части неба. Тяжелая, состоящая из аспидно-черного хаоса туча вдруг и сама закружилась в оголтелом водовороте и устремилась к земле.
Страшная туча приобрела очертания спиралеобразной воронки, навстречу ей, как к живому существу, поднялся с земли гигантский столб черной пыли. Еще мгновение — столб и воронка слились воедино и неистово припали к деревне. Громоподобный грохот, свист, град, сверкание молний — все смешалось в один страшный, сметающий поток. Стало темно, как ночью.
Крушинский понял, что это смерч. Ему почудилось, что он видит страшный сон: воронка, схожая с неправдоподобно огромным хоботом слона, ухватилась за ту самую избу, в которой он жил, в уши ударил адский взрыв, изба взлетела на воздух, как детская игрушка, и исчезла в кромешном мраке. За ней исчезла вторая изба, третья, и воронка переметнулась к реке.
Порывом ураганного ветра художника сбило с ног и вскружило в воздухе высоко над землей. Он потерял сознание... Очнулся в глубоком овраге. «Где ты и кто ты?» — пронеслось у него в голове, и он, как ни силился, не был в состоянии ответить на эти простые вопросы. Он ошалело оглядывался вокруг, совершенно не понимая, почему и зачем находится здесь. Тишина была сейчас страшнее того знобящего гула, который низвергся с небес в то, теперь уже непонятное и до конца не осознанное мгновение его жизни. Тогда казалось, что земля исчезнет в первозданном хаосе и вместе с нею исчезнет все, что существовало на ней. Но как же тогда уцелел и этот овраг, и эти березки, и даже вызывающе дерзкий куст татарника на крутом склоне?
Крушинский тяжело поднялся с земли и попытался переставить ноги, как ребенок, только что делающий первые шаги. Он будто заново народился, это был уже совсем другой, не похожий на прежнего человек. И это могло показаться не только со стороны. Он и сам не узнавал себя и безуспешно старался восстановить в памяти момент своего появления на земле. В сознании отпечаталось лишь одно — смерч.
Он медленно, как бы на ощупь, пошел по тропинке. Руки дрожали, голова дергалась, кривая усмешка изуродовала красивое, мягких очертаний лицо. Земля качалась под ногами, казалось, что под ним не твердь, а трясина, и было такое чувство, что земля тоже восстает из небытия и медленно, нехотя твердеет, становясь той привычной землей, по которой он когда-то ходил. Самое удивительное было то, что Крушинский шел, повинуясь лишь какому-то неясному внутреннему чувству, не понимая со всей определенностью, куда и с какой целью идет. Сейчас ему было совершенно безразлично, и полное отсутствие цели вовсе не раскрепощало его и не облегчало его мук, но, напротив, приводило к тому страдальческому состоянию, которое ощущалось как совершенно безвыходное.
Тропинка вывела художника к тому месту, где до смерча стояла деревня. Весь взгорок от реки был завален рухнувшими под неистовым ветром березами. Оголенные корни жалостливо вздымались к небу, будто молили о пощаде. Крушинский скользил по размокшей глинистой земле, скатывался вниз и снова пытался вскарабкаться наверх. Вымокший, стуча зубами от холода, наконец приплелся к месту, где взамен избы торчала черная печная труба, будто грозившая всевышнему, не сумевшему предотвратить беду. Казалось, труба подпирает небо, опасаясь, что оно снова обвалится на землю.
В голове у Крушинского вдруг прояснилось: на уцелевшем обломке стены он увидел свой рисунок. На нем была изображена лесная речушка и покосившаяся избенка, в которой он жил. Художник понял, что от прежней жизни у него остался лишь немудреный рисунок.
Глухота растворялась, окружающие звуки ударили ему в уши. Он явственно услышал рыдания и причитания женщины. Это вызвало у него не чувство сострадания и жалости, а неудержимые, истерические порывы смеха. Он смеялся громко, раскатисто, сознавая, что не может заставить себя одуматься и умолкнуть.
Вскарабкавшись на груду сосновых, уже давно почерневших бревен, уцелевших от унесенной ураганом избы, он приблизился к своему рисунку, долго всматривался в него, не понимая. В глазах еще искрился затухающий смех, художник трепетно протянул руку, чтобы дотронуться до зеленой речушки, и вдруг, пошатнувшись, рухнул на искореженный, взгорбившийся пол...
Очнулся он в больнице. Первыми его словами были: «Смерч! Спасайтесь, смерч!» Его вовсе не удивило, что за узким стрельчатым окном бывшего монастыря, в котором размещалась больница, мягкими хлопьями валил снег. Время и пространство стали для него несущественными, как бы не имеющими над человеком никакой власти.
Между тем по календарю был Новый год, в загородном ресторане напротив больницы гремели вальсы, впивались в потолок пробки от шампанского, смеялись изысканно одетые дамы.
На постаревшем лице Крушинского застыла маска — смех, озаривший его, словно бы окаменел, в глазах стойкое страдание.
Вскоре его выпроводили из больницы, и начались мучительные скитания. От лютых морозов он решил укрыться на юге. С трудом добрался до Армавира. Кочевал из станицы в станицу, добывая себе на пропитание незатейливыми пейзажами, которые рисовал на скорую руку.
Стремительно текло время. Грянула революция, а потом и гражданская война, и Крушинского мобилизовали в формировавшуюся армию белых.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Майкоп был схож с теми небольшими городишками Северного Кавказа, дойдя до которых железная дорога устало упирается в горы, образуя тупик. Дальше, к горным селениям и аулам, можно было добираться лишь лошадьми или на скрипучих арбах, запряженных флегматичными быками, а то и пешком по крутым, опасным тропкам. Оттого и жизнь в Майкопе текла тягучее, обособленнее и скучнее, нежели в городках, связанных между собой стальной колеей железнодорожного пути.
Чтобы попасть в Майкоп, нужно было сделать пересадку на узловой станции Белореченская. В мирное время расписание регулировалось так, что разрыв во времени между прибытием поезда дальнего следования и отправлением местного состава на Майкоп был совсем незначительным. Теперь же никакого расписания не было и в помине. Никто не мог заранее сказать, когда пойдет поезд, и пойдет ли.
Добравшись до Белореченской, Тимофей Дятлов едва ли не весь день прослонялся на станции. Хорошо еще, что впритык к ней гомонился, то взрываясь зазывными криками, то стихая, будто от предчувствия надвигающейся беды, немноголюдный базар. А до базаров Тимофей был большой любитель. Ему всегда в охотку было потолкаться среди людей, поглазеть на товары, на тех, кто продает, и на тех, кто покупает. В былые времена он, бродя по рынку, любил обжечь едким смешком незадачливую торговку, обдать мужской, с нахрапинкой, улыбочкой бойкую молодуху, схватить на лету обрывки суматошных разговоров, выудив из них полезные новости, ввязаться в жаркий, до хрипоты, а то и до кулаков, спор, прицениться к товарам, а при наличии свободных деньжат обмыть покупку стаканчиком-другим крепленого вина из казачьих погребков — дешевого, но бьющего наповал.
Сейчас, после многих месяцев окопной жизни, после боев с их оголтелым грохотом, выстрелами, криками и стонами, вечным недосыпом и ожиданием беды, после ранения, вынудившего Тимофея передвигаться с помощью костылей, его со страшной силой потянуло на этот пристанционный базарчик, от которого веяло чем-то устоявшимся, домашним и привычным. Здесь гнездились житейские заботы, те самые, которыми он жил до войны, и даже сама война, какой бы всесокрушающей она ни была, не могла искоренить это средоточие людских интересов, страстей и конфликтов.
Человеку невозможно привыкнуть к войне. Что же до Тимофея, то он ненавидел все, что несло с собой разрушение. Еще в детстве, завидев повалившийся плетень, он торопился поднять его и укрепить, немедля заменить подгнившую ступеньку крыльца, смазать петли у скрипучей двери. Всех, кто прихоти ради мог побить стекла в пустующей хате, спустить в дымоход кошку, доломать колесо у брички, — всех тех, в кого по неизъяснимой, дикой причине вселялся злой бес разрушения, Тимофей незамедлительно определял в разряд своих заклятых врагов.
Война была враждебна ему уже тем, что опрокинула все прочно устоявшиеся понятия о разумном и безрассудном, о дозволенном и недозволенном. Те разрушения, которые она несла с собой, были глубоко чужды Тимофею. Горели хаты в станицах, вырубались сады. Место яблонь и вишен занимали орудия, гибли люди, в том числе и дети, которых произвели на свет именно для того, чтобы они прожили долгую и хорошую жизнь. Все это отдавалось в душе Тимофея долгим, неистребимым стоном и жаркой ненавистью к тем, кто встал поперек дороги трудовому народу и жаждал снова посадить ему на шею царя, капиталистов и помещиков.
Базарчик, при всей своей обыденности, все же напоминал о том, что идет война. Снеди на прилавках было всего ничего: вареная картошка, старое, пожелтевшее сало, вязкий черный хлеб пополам с макухой. Что же касается барахла, то его было поболее, но почти все военного образца: залоснившийся офицерский френч, потерявшие цвет галифе, поношенные, рыжие, давно не чищенные сапоги. Барахлом мало кто интересовался, люди, воровато стреляя страждущими глазами, приценивались к съестному. Что поделаешь: голод не тетка, душа не сосед, от нее не сбежишь, а голодному Федоту и макуха в охоту.
Заглядевшись на полную миску вареной рассыпчатой картошки, возле которой, как бы для приманки, громоздились соленые, глянцево блестевшие, в пупырышках, огурцы с прилипшими к ним мокрыми веточками укропа, Тимофей жадно сглотнул слюну. И с тоской подумал о том, что хоть и едет он в родной город, в свой домишко, но никто его там, видать, не ждет и стола к его прибытию не накроет.
Когда Тимофей ушел добровольцем в Красную Армию, жена его, Анфиса, недолго оставалась дома. Уже на фронте один майкопский знакомый сообщил Тимофею, что Анфиса ушла с отступавшими красными. Он же передал от нее крохотную записку.
«Может, оно и к лучшему, Тимоша, — писала Анфиса. — Не могу я без тебя. Тоска проклятущая заела, нету моей моченьки терпеть. А так, могет, на фронте с тобой встренусь. Ты уж не гневайся на меня, непутевую свою жену. Нет мне жизни, пока тебя не найду».
Взъярился было на жену Тимофей. Ну что за дура-баба, пораскинула бы своими куриными мозгами, мыслимое ли дело в такой заварухе, на таком окаянном фронте друг друга сыскать? Сегодня станица наша, завтра в ней беляки хозяйнуют, послезавтра она ничья или хрен его знает чья! Круговерть такая, что сам себя можешь не найти, а она вон чего задумала!
Шло время, поостыл Тимофей, не терял надежды на то, что вернется Анфиса домой, не бабское это занятие — война. Лезут туда или натуральные вертихвостки, чтоб мужиков себе надыбать, или насквозь психованные, у которых черт-те что на уме. А настоящая женщина ни за какие коврижки с мужиками в окопы не полезет, на коня не взгромоздится. За каким таким дьяволом?
Так рассуждал Тимофей, все еще не веря, что его Анфиса сбежала на фронт. «А все потому, что детишек у нас нет, — с горечью думал он. — Было бы хоть одно дите, разве же посмела она его покинуть?»
Сейчас, толкаясь на базарчике, он торопил время, чтобы поскорее добраться до Майкопа. Чем черт не шутит, может, возвернулась его Анфиса и ждет его не дождется, все глаза проглядела. Надежда не угасала, и Тимофей то и дело наведывался на станцию, боясь пропустить поезд.
Вообще-то расхаживать ему было не просто. Он еще как следует не привык к костылям, волочил раненую ногу, и подспудное горькое беспокойство не оставляло его. Пообвыкла Анфиса, что он мужик скорый на ходьбу и дела, не лежебока, как иные-прочие, а увидит, что превратился в инвалида, — и прощай вся любовь. А еще на душе было неспокойно оттого, что и в Белореченской и в Майкопе хозяйничали белые и кто-либо из тех, кто знал Тимофея, мог признать его и докопаться, что он красный кавалерист. А донесут про это — и тогда либо пуля, либо петля, выбирай, что полегче.
Его, тяжело раненного, подобрали в кукурузе дед со старухой из станицы Родниковской. Тимофей лежал на пригнутых к земле кукурузных будыльях без сознания, а рядом, горестно склонив над ним голову, стоял верный конь Рокот. Видя, что хозяин не встает, он изредка нервно хрумкал спелым кукурузным початком, будто хотел разбудить Тимофея, тоскливо ржал, тряс головой и тревожно косил по сторонам отчаявшимися глазами.
Старик обрадовался: раненый уже не ездок, конь ему не нужен. Он суетливо метнулся на баз, разыскал там большой кусок брезента, прихватил с собой старуху и вернулся к раненому. Вдвоем они уложили Тимофея на брезент и поволокли к своему дому, который, к счастью, был совсем рядом. Тимофей стонал, старики кряхтели, а конь послушно шел за ними.
Тимофея они упрятали в сенном сарае, туда же привели и коня. Жили они особняком, поодаль от соседей, людей в станице оставалось всего ничего, и никто не заметил Тимофея. Старики оказались добрые, они выходили Тимофея и даже снабдили его костылями, оставшимися от побывавшего в станице санитарного обоза. Однажды темной ночью они вывели его на дорогу, показали, в какой стороне лежит Белореченская, сунули котомку с нехитрой провизией да с тем и распрощались. Опасно было им прятать у себя красного конника: со дня на день в станицу могли пожаловать белые.
Коня своего Тимофей оставил старикам. Придет весна, сгодится, если беляки не отберут. Землю вспахать, навоз в поле вывезти, в город на базар съездить. Куда казаку без коня? Жаль до слез было расставаться с Рокотом, да что поделаешь. Старики спасли его от верной смертушки, не они, так лежать бы ему в той кукурузе до полной погибели.
В Белореченскую Тимофей ковылял ночами, иной раз удавалось подъехать на попутной бричке. Днем отсыпался где-нибудь в укромном месте, не хотел лишний раз попадаться на глаза. Голод пригонял его и на хутора, лежавшие на пути. Кто не накормит раненого вояку! Где миску вареной фасоли на стол поставят, где шмат сала с чуреком в руку сунут.
Так и доковылял до Белореченской. Неудержимо тянуло в Майкоп, на родимую Госпитальную улицу. Честно говоря, не надеялся Тимофей увидеть свой немудреный домишко в целости и сохранности. Может, спалили его, может, снарядом разнесло — а все равно, будто заколдованный, стремился к родному гнездовью, как весенний скворец.
Узнав на станции, что поезд на Майкоп, возможно, пойдет вечером, Тимофей снова вернулся на базарчик. И тут, у самого прилавка с овощами, его вдруг кто-то цепко ухватил за плечо. Тимофей вздрогнул и оборотился. На него хитро смотрело знакомое, с плутоватыми глазами, корявое от оспинок лицо майкопского извозчика Прокофия Федотова.
— Тимофей! — осклабился он, сжав своей мощной пятерней костыль Дятлова. — Никак, отвоевался?
— Как видишь, — неохотно ответил Тимофей. Как уж он старался не наткнуться на кого-нибудь из знакомых — и все же наткнулся!
— Ну, здорово, земляк! Своих не признаешь? — весело сказал Прокофий.
— Отчего же? Признаю. А ты чего такой? Никак, со свадьбы? — отчужденно спросил Тимофей.
— Какие ноне свадьбы! — усмехнулся Прокофий. — Сгреб любую девку в охапку — и на сеновал! Они теперича до любви знаешь какие охочие! А ты, значит, раненый? — кивая на костыли, спросил он.
— Радуйся, что сам целый.
— А чего ж мне не радоваться? С твоими костылями далеко не убегишь. А сейчас, чтобы жить, надо бегать навроде гончей собаки. Да что это мы с тобой посередке толкучки встали? Тут нам бока намнут. А здесь, за углом, закусочная. Пойдем чего-нибудь слопаем. Голодный я как волк.
— На какие шиши? — хмуро спросил Тимофей. — У меня в кармане ветер гуляет.
— Не бойся, за двоих плачу! — задорно сказал Прокофий. — И, оглянувшись, добавил уже потише, чтобы никто не подслушал: — У меня деньжата завелись.
— Ограбил, что ль, кого?
— А хоть и ограбил! — накинулся на него Прокофий. — Я тебя, Тимофей, не узнаю. Веселей тебя на нашей улице никого не было. А ноне не Тимофей Дятлов, а хмырь.
Тимофей недобро повел на него неживыми глазами, рывком протянул ему костыли:
— Махнем, не глядя? Ты мне ноги, я тебе костыли.
С лица Прокофия медленно сползла разухабистая улыбка.
— Понятно, — уже серьезно промолвил он. — Да только вот что я тебе, земляк, сказану. Тебе ж, дорогуша, крупно повезло. И ноги, можно сказать, почти целые. И счастливчик ты — на войну больше не возьмут. А мне со своими целыми копытами как быть? Да что мы стоим, ровно нас хто‑сь в землю вкопал. Пошли, угощаю.
Тимофей неохотно двинулся вслед за ним. Напрочь бы отказался, хоть и голоден был, аж живот сводило. Недолюбливал он Прокофия еще с детства, уж больно проныра был, всех норовил на хромой кобыле обскакать. Но желание узнать хоть чуточку об Анфисе, о жизни в Майкопе взяло верх, и он решил пойти в закусочную, тем более что идти было недалеко.
Закусочная располагалась в подвале кирпичного дома по соседству с базарчиком. Прокофий помог Тимофею спуститься по крутым щербатым ступенькам, и они попали в полутемное, мрачное помещение с неказистыми, зато, казалось, навечно сработанными громоздкими столами. Из открытой двери кухни в холодное помещение закусочной валил пар. Жарким паром исходил и огромный, ведра на три, самовар.
Они подождали, пока освободится два места за столом в самом дальнем углу. Тимофей прислонил костыли к стене и, держась за спинку горбатого стула, тяжело, сдержав себя, чтобы не застонать от острой боли в лодыжке, опустился на сиденье.
Прокофий суетливо метнулся к стойке, обошел толпившихся у нее посетителей, перекинулся отрывистой фразой с буфетчиком, и тот метнул на поднос вареные яйца, круг ливерной колбасы, крупные ломти черного хлеба. Потом нацедил из бочки в графин белого мутноватого вина и протянул Прокофию. Только теперь ждавшие своей очереди посетители начали бурно возмущаться наглостью Прокофия. Но было поздно: он уже перекладывал все купленное с подноса на стол.
Тимофей едва сдерживал себя от того, чтобы, не ожидая, пока Прокофий вернется к столу с чаем и баранками, схватить все, что лежало перед ним, и, давясь, есть и есть. Но огромной силой воли он запретил себе делать это.
Прокофий уселся за стол по-хозяйски надежно, довольный тем, что может угощать и тем самым показать, что даже в кровавой кутерьме, когда не поймешь, куда идти и куда заворачивать, он способен вертеться, умеет приспособиться к новым условиям жизни и не пропадет в любой обстановке.
— Примешь, земляк? — наливая вино в стаканы, на всякий случай поинтересовался Прокофий, хотя знал, что прежде, когда они были почти соседями,
Тимофей, хоть и не числился в особых любителях выпить, охотно принимал участие во всякого рода застольях.
— Не пью, — твердо отрезал Тимофей, и по его тону Прокофий сразу же понял, что уговаривать его бесполезно.
— Ого! — не то с удивлением, не то восхищенно воскликнул Прокофий. — Здорово тебя красные намуштровали!
Тимофей, жадно жевавший колбасу, пахнущую печенкой и чесноком, насторожился.
— Откуда ты взял, что красные?
Вопрос этот был не из случайных: земляки земляками, соседи соседями, да грец его знает, кто они друг для друга сейчас, когда земля вверх тормашками перевернулась?
— Так это ж и слепому видать, — ухмыльнулся Прокофий. — Сам посуди, какая у тебя одежа? В твоей амуниции ни единой иностранной пуговки нет. А ты видел, в чем ноне наши бравые казаки ходют? Шинелка английская, галифе французское, хромовые сапожки трудно сказать откуда. Разве ж только папахи нашенские, из кубанских да ставропольских ягнят. А на тебе все казенное, российское. Переодеться тебе надобно, браток.
— Глянь, какой сыщик объявился, — нахмурился Тимофей. — А я и не знал, кто есть теперь Прокофий Федотов. — Я думал, ты как был извозчиком, так и остался.
Прокофий осушил стакан, хитро подмигнул Тимофею:
— Ноне, земляк, времечко такое — кем и не думал, станешь. Хоть чугуном, лишь бы в печь не затолкали. Да ты от меня не ховайся, я в своей жизни никого не выдавал, ни на кого не доносил. И ты на мои вопросы, ежели сумлеваешься, могешь с полным твоим правом не отвечать. Ить не хочеть?
— Не хочу, — откровенно признался Тимофей.
— И не надо.
Прокофий степенно очистил яйцо от скорлупы, густо посыпал его крупной грязноватой солью. То же самое проделал с луковицей, смачно хрустнул ею, не очищая от кожуры.
— А хотишь, я о себе всю подноготную тебе выложу? Хотишь?
— Твое дело, — равнодушно ответил Тимофей.
— Да пойми, чудак, раз ты есть человек, к тому же еще живой, так обязан всю тяжесть из себя выплеснуть, а то надорвешься. В тебе сейчас думок — полная голова набитая, как мешок мякиной. Ты навроде беременной бабы, тебе рожать надо.
— И что ты так за меня болеешь? — Стремление Прокофия разговорить его казалось Тимофею подозрительным. Душа Тимофея была захлопнута наглухо, ему не терпелось скорее узнать новости, которыми конечно же располагал Прокофий. — Издеваешься надо мной?
— Эх ты... — обиженно протянул Прокофий. — Гусь ты лапчатый! К тебе всей душой, а ты, можно сказать, всей спиной.
— Ладно, — примирительно сказал Тимофей. — А только ты меня должон понимать. Я сколько своих родных краев не видал? То-то. А ты как жил в Майкопе, так и живешь. И никакие ветры тебя с корнем не вырвали.
Прокофий самодовольно рассмеялся. Смех у него был раскатистый, заливчатый, но такой, от которого Тимофею не хотелось смеяться.
— Жить надобно уметь, Тимоша! — протяжно и наставительно протянул Прокофий, внезапно оборвав смех, будто вовсе и не смеялся.
Тимофей вздрогнул и побледнел. Тимошей его всегда называла Анфиса. У Тимофея вспыхнуло желание вскочить, схватить Прокофия за узкие плечи и трясти его до тех пор, пока он не ответит на один-единственный вопрос, разъедавший душу и горьким комом засевший в ней: «Анфиса жива? Где Анфиса, говори, не молчи!» Но он не отваживался задать этот вопрос, чувствуя, что ответ на него будет горьким. А для Тимофея потеря Анфисы была бы самым страшным из всего того, что несла ему эта жестокая жизнь.
Между тем Прокофий снова наведался к стойке. И без того словоохотливый, сейчас он не давал сказать Тимофею ни одного слова. Его будто прорвало. Впрочем, Тимофея это вполне устраивало: пусть его болтает, лишь бы не лез с вопросами. Хоть и сидели они в сторонке, народу в закусочной было много, а в такой массе всегда может найтись любопытный, желающий навострить уши.
— Жизня, Тимофей, она стерва ненадежная, — втолковывал ему Прокофий. — Она как та гулящая баба. То передом к тебе обернется, то задом. Возьми, напригляд, мою житуху. Как эта самая заваруха началась, меня хвать — и в армию, вместе с моими конями и линейкой. Мобилизация. И вот я как проклятущий мотался по той занудной степи — есть дорога, нет дороги — гони! Хорошо, что еще приписали меня к лазарету, а то бы уже давно вороны на кургане глаза повыклевывали. Ну, оно хоть и лазарет, а все одно пули вокруг тебя не шутейные жужжат. То ли времечко было — катаешь там по городу разных господ со шлюхами, улицы тихие, сиренью пахнет — аж дышать нечем. А деньжата — все в карман, в карман глядишь, уже и полный. Ну, оно, конешно, на овес на сбрую, на деготь и прочее отложишь. Да еще чужую бабу в трактиришко сводить, она без денег смотрит на тебя как на самую распоследнюю тварь. Ну, а остальное — все твое, знаешь, как эта деньга, паразитка, в кармане звенит? Что там твоя церква! А теперича? Никудышная житуха пошла, так, через пень-колоду.
Прокофий лег на стол всей грудью, выставленной колесом, стараясь, чтобы в суматошном, разноголосом гуле Тимофей мог расслышать то, о чем он говорил.
— А еще докладаю тебе, земляк, вот чего. — Голос Прокофия принял заговорщический тон. — Только гляди никому ни-ни... Откупился я от службы, бумагу об инвалидности мне выправили честь по чести, вот я и подался в свой Майкоп. Фронт далече ушел, жить можно, ежели с умом. И как тебе правду-матку врезать, мне и при белых не холодно. Сам посуди: красные придут — от них не откупишься.
— Мастак ты рассуждать, — с трудом вставил Тимофей, загораясь злобой к Прокофию.
— Окромя того... — Прокофий притянул Тимофея за шею к себе и громким шепотом добавил: — Окромя того, лошадями торгую. Вот и вчерась хорошего жеребца продал.
— Да кто их теперь покупает? На кой ляд они сдались?
— Ого-го, еще как покупают, — возразил Прокофий. — Ноне главный козырь какой? Думаешь, голова? Так за нее, головушку, медяка поганого никто не даст. Жизня такая, что середы не хватает, чтобы до пятницы дотянуть. Ты-то, земляк, как жить думаешь?
Вопрос Прокофия застал Тимофея врасплох. И в самом-то деле, как он думает жить? В кармане как в пустом чулане, да и с костылями не больно-то разгонишься.
— Как-нибудь проживу, — коротко ответил он. — Живут же люди. Две руки имею, и на том спасибо. А нога, должно, подживет.
Прокофий осуждающе покачал большой, будто из цельного камня высеченной головой, сидевшей на длинной шее.
— Нога-то, может, и подживет. А на кой ляд ты в Майкоп суешься? Тебя же там знают. Ты человек приметный.
— А чего мне прятаться?
— Чудак человек, неужто котелок не варит? Ты у кого служил? У красных. А в Майкопе кто хозяйнует? Белые. Разница есть?
— А что, у меня на лбу написано, у кого я служил?
— Так-то оно так, землячок. А все же береженого бог бережет.
— Да ежели ты не ляпнешь, так до меня никому и делов-то нет. Я сам по себе.
— Эге, мил человек, таких ноне нетути. Ноне никто сам по себе не живет. Жевать-то чего будешь? Сено? А то овес?
— Дом продам, — неуверенно сказал Тимофей.
— Дом! Вот это сказанул! — расхохотался Прокофий. — Да кто на твою халупу польстится!
Собственно, в словах Прокофия была истина. То, что Тимофей называл домом, была старая, почти до самых ставен осевшая в землю хатка, доставшаяся ему от родителей. Но с той поры, как он привел в эту хатку Анфису, крохотные комнаты ее показались Тимофею просторнее и светлее. Рассчитывал он подработать, скопить деньжат и купить домик получше, чем эта халупа на Госпитальной улице, но началась война, и все пошло наперекосяк.
— А хочешь, — совсем оживился Прокофий, — хочешь я тебя пристрою?
— Куда?
— Да хоть куда! Ить у тебя все равно выбора нет. Нешто гребовать зачненть? Хотишь — ходи за моими конями. Работенка не пыльная, а платить я тебе буду по-божески, мы ж соседи. Утречком напоил, почистил, овса, а то сенца дал. Ну, опять же в обед и вечером. Без работы тебя тоска загрызет.
Очень хотелось Тимофею съездить кулаком по его роже, гордо сказать: «Это кому ж ты такую жизню предлагаешь, мне, красному коннику, гнида!» — но сдержался, да и дума в голове сидела другая, не давала покоя, как ржавый гвоздь.
И Тимофей вдруг решился, будто сиганул в ледяную прорубь:
— Про Анфису ничего не слыхал?
Прокофий не отвечал, сосредоточенно крутил козью ножку. Затянулся, пахнул в лицо Тимофею ядреным и злым махорочным дымом.
— Чего молчишь? — насел на него Тимофей. — Не тяни, ежели что знаешь.
— Не хотел я тебе душу травить, Тимоша, — со скорбью в голосе произнес Прокофий, и Тимофей, жадно внимавший его словам, не мог понять, чего в них больше — искренности или притворства. — Ох как не хотел! Но раз уж ты это поганое для тебя известие из меня, можно сказать, клещами вытягаешь, так слухай. Видал я твою Анфису.
— Где?
— Как это где? Где она шатается, там и видал. В Армавире, где же еще?
— В Армавире? Чего она там потеряла?
— А я знаю чего? В сестрах милосердия ходит.
— У кого?
— А ты сам подумай у кого. И где Армавир, ты, земляк, знаешь не хуже меня. И где сейчас твои красные. Деникин ноне всю Кубань под себя подмял. Придет час — на Волгу двинет. А там поздоровкается с хозяином Сибири Колчаком — и на Москву. Вот какие бабки, земляк.
— Ты Москву не трожь, — тихо, но внятно произнес Тимофей. — Клыки обломают.
— Кто знает, кто ведает, все в руках господа бога, — страдальчески проговорил Прокофий. — Вот и Анфиса твоя разлюбезная уж как возле тебя увивалась, навроде того ужаки, а как теперь понимать? Вишь, хвостом крутит!
— Хвостом крутит, говоришь? — продолжал наступать Тимофей. — Брешешь, гад!
Он рванулся к Прокофию, схватил его за ворот фланелевой рубашки, рванул на себя.
— Да ты что, сказился? — испугался Прокофий. — Не нравится, — значит, не видал я твою Анфису, и дело с концом!
— Нет, уж начал брехать, так бреши, пока не подавишься, — отпуская ворот, потребовал Тимофей.
Прокофий обиженно смотрел на него осоловевшими глазами.
— Чего ты меня пужаешь? Гляди, как бы не пришлось кулаком слезы вытирать. У доброго казака как? От хозяина конем несет, от хозяйки — дымом. А у тебя, выходит, наоборот.
— Ты говори, говори! — сгорая от нетерпения, теребил его Тимофей. — Где видал, как и... сам понимаешь...
— Где видал, я тебе уже докладал, — невозмутимо продолжал Прокофий. — А как дело было, я тебе зараз нарисую. С офицериком под ручку плыла. По бульвару. Хохочет, стерва, заливается. А я с линейкой начальника лазарета в ту саму пору поджидал. Подвешиваю я это, в самый раз, торбу с овсом коню на голову, и меня тут как громом вдарило! Оглянулся: Анфиса! Кличу ее, а она хоть бы взглядом повела. Офицерик ей говорит: «Вас, кажется, кто-то зовет». А она зубы оскалила, смехом вся так и изошла: «Ой, вы меня, поручик, не разыгрывайте! Ну сами подумайте, кто тут меня может знать? Я в Армавире первый раз в моей молодой жизни». И тот, кобелина, тож давай ржать. Видать, крепко поддатый был. Так и прошли мимо меня, а я в дураках остался. Ну, думаю, и черт с тобой. Высоко девка взлетела, падать низко будешь, раз с земляками знаться не желаешь.
— Может, обознался ты, Прокофий? — несмело спросил Тимофей, все еще не веря тому, что услышал. — Может, та девка на Анфису дюже похожая?
Прокофий раздраженно хлопнул по столу тяжелой ладонью. Яйцо покатилось со стола и упало на пол.
— Ты чего это, Тимофей, из меня дурака делаешь? Да у меня глаза — я через землю насквозь кого пожелаешь узрею. И голос ее. Я что, твою Анфису не видал?
— И больше ты ее не встречал?
— Да на што она мне сдалась? И ты зря по ней страдаешь, вот что я тебе докладаю. Непутевая, выходит, баба. Мужик у ней плачет, а она, стерва, пляшет. Да ты, Тимоша, не горюй. Ноне чужих женок — навалом, бери — не хочу.
— Я тебе не Тимоша, понял?
— А кто ж ты мне? Ну чего зверем смотришь? Знал бы, не рассказал. Я вот за своей женкой не страдаю. Ишо чего не хватало — из-за поганой юбки себя казнить. По мне чужая жена — лебедушка, а своя — горькая полынь. А ты, ранетый конник, можно сказать, герой, в ту войну тебе бы запросто Георгия нацепили, а ты раскис, как несмышленое дите. Разве ж это жена? Ты — в Тверь, а она в дверь.
— Убью! — страшным, чужим голосом вскрикнул Тимофей, хватая костыль.
— Тю, скаженный! — разозлился Прокофий. — Из-за какой-то бабы...
Он выхватил костыль из рук Тимофея, и тот как-то враз обмяк, притих, закрыл лицо ладонями. Губы его дрожали, знобящая тоска сжала тисками.
«Неужто правда? Неужто Анфиса продала нашу любовь?» — метались в голове дикие мысли.
Самое страшное было в том, что он не мог сейчас найти иных доказательств, которые бы напрочь опровергли все то, что наговорил ему Прокофий, и в этой неизвестности таилось такое отчаяние, что хотелось взвыть.
— Плюнь ты на нее с высокой колокольни, — занудно гнул свою линию Прокофий, но его слова не доходили до сознания Тимофея, он думал свое, и в этом своем сидел как заноза один и тот же вопрос: «Неужто она могла предать?»
— Ну чего тебе маяться? Что у вас, семеро по лавкам? Детишек нет, а раз ей всякие офицерики, выходит, дороже тебя, так пропади она пропадом, ведьма крутозадая! Да я тебе такую девку приведу — пахать на ней будешь. Грудя такие — на одну лягешь, другой накроешься. Одному тебе что за жизня? Как гусь без воды, так казак без жены. Вторая жена — она самая надежная. Знаешь, как умные люди гутарют? Первая жена, значит, от бога, вторая — от человека, а третья — прямым ходом от самого черта. Вот за вторую и будешь держаться, как за конскую гриву.
Тимофей молчал, не отрывая от лица ладоней. Прокофий вдруг засуетился:
— Кончай ночевать! А то поезд свой прокукуем.
Тимофей сидел недвижно, будто никто — ни Прокофий, принесший ему горькую весть, ни люди, галдевшие в закусочной и обсуждавшие свои, чуждые ему дела, ни все, что происходило вокруг на этой враз опостылевшей ему земле, не существовали для него, да и сам он уже как бы не существовал.
— Пошли, — тронул его за локоть Прокофий. — По всему видать, поезд пойдет, Гляди, людишки на станцию рванули.
Тимофей тяжело встал, взял костыли, грузно и отрешенно оперся на них, медленно пошел к выходу. Прокофий сноровисто шел впереди.
На станции царила та беспорядочная и бестолковая возня, которая всегда образуется, как только пассажиры узнают, что к платформе приближается поезд. Он и впрямь приближался, посвистывая и обдавая мечущихся по платформе людей мокрым горячим паром. Пассажиры с мешками, котомками и сундуками штурмом осаждали вагоны. И если бы не находчивость Прокофия, Тимофей так бы и остался ночевать в Белореченской.
Прокофий вмиг сообразил, что Тимофею с его костылями не пробиться к ступенькам вагона. Беспокоился он не столько за Тимофея, сколько за себя. Ему до зарезу нужно было именно сегодня вернуться в Майкоп, где его ждал перекупщик лошадей.
— А ну, господа хорошие, посторонись! — зычно крикнул Прокофий, работая локтями. — Дорогу инвалиду войны, георгиевскому кавалеру!
— Мы здесь все инвалиды! — взвизгнул господин в шляпе.
— Это ты — инвалид? — грозно взревел Прокофий. — Тыловая паршивая крыса ты, а не инвалид!
— Господа, это что же происходит? Он же оскорбляет мою честь...
— Начхал я на твою честь! — еще громче заорал Прокофий, все ближе прижимаясь к ступенькам вагона. — А вот он, — воспользовавшись замешательством людей, осаждавших вагон, Прокофий подтолкнул Тимофея к двери, — он, чтобы ты в тылу сидел и брюхо наедал да в поездах раскатывал, пулю на фронте получил. А ну, посторонись, а то стрелять буду!
Толпа отхлынула, Прокофий проворно вскочил на ступеньки и втащил в тамбур Тимофея. И тут же помчался в вагон, чтобы занять сидячие места. Это ему опять-таки удалось.
— Вот как их, гадов, надо, — хвастливо сказал Прокофий, удобно располагаясь на скамье. — А то фронтовику ходу не дают.
— Ну, ты и силен, — похвалил его Тимофей, но чувство неприязни к Прокофию не затухало. Не встретил бы его Прокофий или же, встретивши, не признал, куда бы как легче ему было. А то как соли на рану насыпал. Целую горсть.
И все же одновременно упрекнул себя: «Прокофий тебя и накормил, и помог в вагон влезть, и работенку обещает, а ты с ним как с лютым недругом. Не он же виноват, что твоя Анфиса...»
— Эх, Прокофий, — мягко и уже дружелюбно сказал Тимофей, радуясь, что сидит в вагоне, — кабы знал, что тебя встречу, коня бы своего не отдавал.
— Какого коня? — заинтересованно встрепенулся Прокофий.
— Своего, какого еще. По кличке Рокот. Это, я скажу тебе, конь.
— Куда ж ты его подевал?
— В станице оставил. Старикам одним. За то, что от смертушки меня спасли.
— В какой станице?
— Да здесь, недалече. В Родниковской.
— Ну, это ты зря, земляк. Такие подарки вздумал подносить. Ноне хороший конь знаешь в какой цене?
— Жизня — она цены не имеет.
— Так-то оно так, — не совсем убежденно согласился Прокофий. — Зачит, в Родниковской, говоришь? Так мой батя покойный родом оттуда. Дюже хорошая станица. Я там в Лабе с девками купался, когда к бате, бывалыча, приезжал. Ох и девки были — первейший сорт!
Прокофий привалился к стене, собираясь вздремнуть. Потом вдруг открыл глаза и пьяно выдохнул в лицо Тимофею:
— А за Анфису забудь. Богатую тебе невесту найду. По мне, Тимоша, будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога, понял, землячок?
— Спи! — гневно одернул его Тимофей. — И больше ее не трожь. Это мои дела.
— Хозяин — барин, — развязно сказал Прокофий. — Только, — он хитро поводил толстым пальцем с выщербленным ногтем у самого лица Тимофея, — на чужих жен не заглядывайся, а за своей приглядывай.
Паровоз дернул, буфера лязгнули, и вагоны медленно покатились мимо станции. Тимофею хотелось смотреть в окно, но место возле него занимал Прокофий, и приходилось тянуть шею, чтобы получше рассмотреть то, что проезжали.
Стояло лето, но дни были похожи на осенние, когда тучи черной сворой мечутся по небу, голые деревья трепещут от пронизывающего ветра, то и дело срывается с небес холодный дождь, на дорогах стоит, не просыхая, вода, а лужи дрожат нервной рябью. Вороны в такую пору не рассиживаются подолгу на почерневших ветвях, а беспокойно мечутся низко над землей; поля стоят стылые, черные.
На душе у Тимофея было тоскливо, будто оборвалась какая-то очень нужная для жизни нить, связывавшая его с окружающим миром. В эти минуты он вдруг понял, что счастье его не в том, что он чудом спасся от гибели, не в том, что сейчас он едет туда, где прошло его детство, где он вырос и где пришла к нему любовь, а в том, чтобы снова быть со своими боевыми друзьями, которых подарила ему фронтовая судьба и с которыми он чувствовал себя сильным и гордым. А сейчас он — листок, оторвавшийся от ветки и гонимый злым ветром неведомо куда и неведомо зачем. И оттого что он сознавал невозможность возврата к той жизни, которая, хотя и была суровой, стала такой же естественной и необходимой, как привычка дышать, — это сознание угнетало его, отнимало веру в надежду.
Прокофий уже неистово храпел, а Тимофей не мог оторвать взгляда от вагонного окна. Поезд тащился медленно, так как рельсы шли в гору, вагоны качало и трясло, как худую арбу, но Тимофей не мог заставить себя вздремнуть. Что-то до сердечного озноба родное и вместе с тем сейчас совершенно чужое возникало в окне: колючие ветки акаций и боярышника, остроконечные, словно неживые, пирамиды тополей, убогие будки стрелочников, гудящие мосты через горные речушки — чем меньше речушка, тем злее и своенравнее, — ровные, как солдатский строй, полосы лесопосадок.
Сильное, как магнит, чувство, притягивавшее Тимофея к родному гнездовью, растворялось в горестных думах, в пучине неизвестности. Он все более и более винил себя за то, что вздумал ехать сюда, в этот распроклятый город, распроклятый потому, что его здесь не ждала Анфиса.
«А хотя бы и ждала, то что? — горестно думал Тимбфей. — Все одно это не жизнь, когда вокруг тебя беляки. И как ты все это выдюжишь, бывший красный конник? Приеду, приковыляю в свою хату, да и прощевай, Анфиса Григорьевна, может, на том свете встренемся с тобой, бывшая моя жена...»
Револьвер был при нем, он опустил руку в карман брюк, погладил холодную сталь загрубевшей ладонью и понял, что иного пути у него нет и не будет, и потому облегченно вздохнул, как человек, нежданно-негаданно для себя нашедший простой выход из нескончаемой черной пещеры...
На город уже ложились сумерки, когда поезд тихо остановился у платформы майкопского вокзала. Тимофей растолкал Прокофия, и они вышли на станционную площадь.
Уличные фонари не горели, и это обрадовало Тимофея. Прокофий тут же предложил нанять извозчика.
— А ежели пёхом, так ты и к утру до своей Госпитальной не доковыляешь, — убежденно сказал он и уже через минуту подогнал свободную пролетку прямо к тому месту, где стоял, опершись на костыли, Тимофей.
Кони, с ходу взяв рысью, зацокали копытами по булыжнику, и Тимофея с щемящей остротой опалило воспоминание детства: он лежит вечером один, маленький и беспомощный, на печи, уже темно, и за окнами по мостовой изредка пронесется пролетка. Гремят колеса, стучат копыта о камень, высекая, наверное, искры, звенит смех — то мужской, то женский, цепко ухватился за вожжи разбитной извозчик, едут куда-то веселые, одаренные счастьем люди... И от всего этого веет чем-то таинственным, сказочным и манящим.
Прокофий жил в центре, до которого извозчик домчал их быстро.
— А теперича, земляк, шпарь на свою Госпитальную, ни пуха тебе, ни пера. Обделаю свои делишки, наведаюсь к тебе, накрывай на стол, — тараторил Прокофий, перед тем как спрыгнуть с пролетки. — А то сам приходи, как припрет. Ежели патруль пристанет — вот, держи. — И он сунул в карман Тимофею горсть монет. — А с тобой я в полном расчете, — обратился он к извозчику. — Доставь мово лучшего друга до дому с ветерком, да так, чтоб в полной его целости и сохранности.
Извозчик присвистнул, пролетка понеслась, и Тимофей почувствовал, что он совсем одинок, один на всем белом свете. Пока Прокофий был с ним, он нетерпеливо ждал его ухода, а сейчас готов был умолять нежданно повстречавшегося ему земляка не покидать его одного.
Было уже совсем темно, когда извозчик доставил его на Госпитальную улицу. Проклиная ухабы и дальнюю дорогу, он выманил у Тимофея еще полтинник и, не задерживаясь, погнал лошадей обратно.
Тимофей долго и неприкаянно, как чужой, стоял возле дома, в котором когда-то жил, не решаясь войти. Побеленные известью стены неясно проступали в темноте, ставни были закрыты, и только калитка почему-то была распахнута настежь, словно кто-то вошел в нее и забыл закрыть. Где-то грохотала война, в кровавой сече рубились люди, а здесь стояла такая тишина, что брала оторопь. Тимофею стало жутко, и прежде чем войти в калитку, он извлек из кармана револьвер, взвел курок и только тогда шагнул во двор. Стараясь не греметь костылями, отодвинул засов и нажал на дверь. Та подалась, и он понял, что дверь не заперта.
Тимофей шагнул в темноту проема. На него пахнуло спертым, застоявшимся воздухом, плесенью. Дрожащими пальцами он чиркнул спичкой о коробок, но сломал ее. Снова чиркнул, уже осторожнее. Крохотное пламя скупо осветило пустую, пугающую своей немотой комнату, русскую печь посередине, голые стены.
Тимофей поджег кусок бумаги — то был обрывок афиши, предусмотрительно сорванный им с уличной тумбы. Стало светлее, и Тимофей, ожидавший увидеть в комнате полнейший хаос, с удивлением обнаружил, что все в ней — и стол, и кровать у дальней от окна стены, и табуретки — стоит почти что в том же порядке, в каком оставалось, когда он покинул дом и ушел на войну. А главное — крашеные половицы были чисты, кто-то, видимо, недавно их мыл, потому что у печи стоял таз с водой и возле него лежала мокрая половая тряпка.
Тимофей присел на табуретку, все еще сжимая в руке наган.
«Вот ты и дома. — Страшная тоска сжала его сердце. — Вот и конец твоей дороги, Тимоша. И — точка!»
Он медленно поднял руку с наганом, будто держал в руке что-то очень тяжелое, поднес его к виску. «Это поганое дело надо делать враз и навеки, — как бы приказывал себе он. — А то, не ровен час, пожалеешь себя, передумаешь». Прежде чем нажать на спуск, Тимофей немного помедлил. Перед глазами, как живая (он даже с ужасом ощутил на своем холодном лице ее дыхание), возникла Анфиса. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, запыхавшись, будто прибежала откуда-то издалека, и вдруг рассмеялась беззвучным и долгим смехом.
«Смеешься, бесстыжая! — с яростью всмотрелся в нее Тимофей. — Ничего, ты у меня еще и поплачешь!»
Он снова начал медленно нажимать на спуск и в этот момент услышал девичий голос, прозвучавший со стороны дверей с неподдельным испугом и отчаянной решимостью:
— Кто здесь?
Тимофей вздрогнул всем телом, рука его враз обессилела, и наган с громким стуком упал на пол. Он хотел зажечь спичку, но в дверях замерцал огонек свечи, и Тимофей при ее неверном свете с трудом рассмотрел девочку-подростка, прижавшуюся к стене и со страхом смотревшую на него.
— А ты кто такая? — спросил Тимофей, не узнавая своего голоса.
— Ариша я, — боязливо промолвила девочка.
— Откуда ты взялась? — Тимофей был взбешен, что она помешала ему сделать то, что он задумал.
— А я туточки пока живу. Папаню у меня убили. Мы с маманей тут жили, потому как хата заброшенная была. А маманя померла, вот я одна и осталась.
— Одна? — не поверил Тимофей. — И как же ты живешь?
— А так. Жить-то надо!
«Как она сказала? — изумленно подумал Тимофей. — «Жить-то надо!» Отца убили, мать умерла, а она туда же — жить! А чего тут особого? Это дело понятное, ежели не ей жить, то — кому? А твоя, Тимофей, жизня все одно конченая, зря она тебе помешала. Хлопнул бы себя — и никаких тебе мучений, прямым ходом — в рай. А то и в ад. Какая разница?»
— Ну-ка, дай свечку, — попросил Тимофей.
Девочка без боязни приблизилась к нему, протянула огарок свечи. Тимофей поднес ее к Арише, желая лучше рассмотреть лицо. На него доверчиво и независимо смотрели большие, еще детские глаза.
— Только вы долго свечку не жгите, — тоном хозяйки предупредила Ариша. — Это у меня последняя.
— Хорошо, не буду, — пообещал Тимофей. — И сколько же тебе лет?
— Так всегда маленьких спрашивают, — улыбнулась Ариша. — Как зовут, сколько лет. — А я уже, слава богу, не маленькая. На тот год пятнадцать будет.
— Пятнадцать? — озадаченно хмыкнул Тимофей. — А на вид — мелюзга.
— Да это вам так кажется. Да еще в темноте. Вы на меня днем поглядите. Не маленькая я. И сильная.
Они помолчали. Тимофей прижал большим пальцем фитиль, и слабенькое пламя тут же погасло.
— А я вас, дядя Тимофей, знаю, — раздалось вдруг из темноты.
— Откуда? — изумился Тимофей.
— А вот и знаю. Вы — Дятлов, а мы через три дома от вас жили. Комельковы мы.
— Комельковы? Так ты ж совсем недавно от горшка два вершка была.
— Так то недавно. Я при царе совсем маленькая была. А как революция — так вот и выросла.
— Да уж, выросла, — усмехнулся Тимофей, проникаясь все большей доверчивостью и теплотой к Арише и радуясь, что рядом с ним сейчас есть хоть одна живая душа. — И как же ты тут живешь?
— Живу! — почти весело откликнулась Ариша. — Кому на огороде подсоблю, кому на базар сбегаю, а кому и белье постираю, — так и кормлюсь. А сплю туточки, чтоб никому не мешать. Наш дом сгорел. В него снаряд угодил, когда наши отступали.
— А ежели тебя беляки схватят? Не боишься?
— Боюсь. Как они в город пришли, от страху поджилки тряслись. Запрусь на ночь, а все одно боюсь, пока не засну. А днем я завсегда от них хоронюсь. Как увижу солдата или офицера — нырь куда-нибудь. А догнать, так меня никто не догонит, даже мальчишки.
— Да... — раздумчиво протянул Тимофей. — Несладкая у тебя жизня.
— Дядя Тимофей, а вы меня не прогоните? — боязливо спросила Ариша и, как удара, ждала ответ.
— Чего ж я тебя гнать буду? Я ж не зверюка какая-нибудь.
— А почему вы без тети Анфисы?
Вопрос этот из ее уст был столь неожиданным, что Тимофей долго не мог справиться с судорогой, которая намертво свела скулы.
— А вот насчет этого я тебе ничего не могу сказать, — с трудом, едва слышно сказал Тимофей.
— Живая хоть она? — продолжала допрашивать Ариша.
— И что ты ко мне привязалась? — разозлился Тимофей. — Дай отдохнуть с дороги.
— Хорошо, — смиренно сказала Ариша. — Я больше ничего не буду спрашивать, раз вы не хотите. Вы только не волнуйтесь, я за вами буду ухаживать, вы же на костылях. И сейчас постелю, ложитесь. Да если б и без костылей, куда мужчине без женской помощи?
«Гляди, как рассуждает, ровно взрослая», — подумал Тимофей, а вслух сказал с неприкрытой иронией:
— Тебе еще самой нянька нужна, а ты туда же... Ты хоть ела сегодня?
— Конечно, ела. А как же без еды? У меня еще черный хлебушко остался. Хотите, дам?
Пронзительная жалость к этой девчушке опалила загрубевшее сердце Тимофея.
— Да я сыт по горло, — отказался он. — Ты сама подкрепляйся. Твоя жизня впереди еще. Закрывай дверь на крючок и ложись.
— Хорошо. Я на печке лягу.
— Я тоже спать буду. Умаялся за день. А утром мы с тобой думать будем, как жить дальше. Утро, оно вечера завсегда мудренее.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Зима на Кубани стояла слякотная. Туманы нависали над землей, невозможно было взглянуть на небо и всмотреться в размытые сыростью тусклые звезды.
Крушинский в тощей шинелишке нещадно мерз, по-собачьи дрожал, хватал судорожным ртом промозглый воздух и мечтал лишь о том, чтобы хоть немного согреться. Знобящая стужа заползала в душу, сковывая мысли и поступки.
В стрелковой роте, куда определили Крушинского, его философские экскурсы о смысле жизни, пространные рассуждения о роковых последствиях стихийных бедствий, далекие от практического применения в боевой обстановке, вызывали вначале настороженность, а вскоре и подозрительность. Одни посчитали его за ненормального, вторые узрели особо хитрую тактику человека, прикрывающегося умственными странностями, чтобы обеспечить себе независимость и свободу действий. А нашлись и такие, кто готов был немедля разоблачить его как агента красных. Туманность в изложении мыслей всегда возбуждает сомнения в истинных целях того, кто их произносит.
В конце концов все это, как и следовало ожидать, имело для Крушинского весьма неприятные последствия. Настал день, когда на него нацелилась врангелевская контрразведка.
Начальник контрразведки полковник Волобуев слыл даже среди офицеров большшим оригиналом. Уже то, что не каждый арест заканчивался у него виселицей, создавало ему славу либерала и едва ли не вольнодумца. Волобуев же прекрасно понимал, что чем яростнее контрразведка будет рубить головы и правым и виноватым, тем накаленнее будет гнев масс. И потому всячески лавировал, изображая перед своим начальством рвение, усердие и беспощадность, а перед населением — мягкосердечие, гуманность и едва ли не справедливость.
В тот день, когда к Волобуеву приволокли вконец растерянного и измученного Крушинского, полковник был в превосходнейшем настроении: он нащупал нити, ведущие к городскому подполью красных, и, решив дать подпольщикам, как он изъяснялся, «вволюшку наиграться», готовился захлопнуть капкан и вновь ощутить чертовски приятное позвякивание очередной награды на своей широкой, вместительной, как бы специально приспособленной для обильного количества орденов груди. Для Волобуева не существовало ничего прекраснее наград, и чем их становилось больше, тем желаннее и нетерпеливее было ожидание новых. Даже деньги не притягивали его к себе с такой магической и даже ему самому непонятной силой, как ордена и медали.
Волобуев вольготно устроился в широком кресле, не оставив в нем ни малейшего свободного промежутка и блаженно возложив массивные руки циркового борца на столь же массивные резные подлокотники. Так он мог сидеть часами, для постороннего глаза вроде бы совершенно бесцельно. На самом же деле он мыслил, анализировал, продумывал и взвешивал каждый шаг в предстоящей операции, к которой готовил своих сотрудников. Мозг Волобуева практически не отдыхал. Даже во сне он беседовал со своими агентами, учиняя им разнос или же благоволя к ним.
В этот-то момент ему и доложили о Крушинском. Он уже был наслышан о нем из устных доносов и неоднократно интересовался им. Люди с нестандартным умом всегда вызывали у него обостренное любопытство и столь же обостренную подозрительность.
Добрыми, почти умиленными глазами Волобуев долго всматривался в возникшего на пороге Крушинского, военная форма которого находилась в вопиющем противоречии с его потерянным лицом.
— Вы — живописец, — вкрадчиво заговорил Волобуев. — И мы с вами, можно сказать, на одной стезе. Я ведь, признаюсь, до этой проклятущей, каторжной работенки тоже кое-что малевал. Так, для души, на услаждение супруги и детишек. Для отдохновения. А вы, надеюсь, всерьез?
— Кто знает? Без этого не могу.
— И портреты рисовали? — заинтересованно спросил Волобуев, радуясь, что ему удалось отвлечь Крушинского от назойливой темы смерча и этим побудить его к нормальному разговору.
— Пейзажист. Поклонник Левитана.
— Пейзажист? Поклонник этого иудея? Не годится, вовсе не годится. Какие сейчас могут быть пейзажи? Человечество бурлит, страстишки кипят! Что там вам вулканы, что там вам извержения лавы! А коли так, то кто-то тонет в океане страстей, кто-то вздымается на гребень. И тот, кто наверху, жаждет обожания, почитания и даже, если хотите, некоего обожествления. Представьте: грядет час, отворятся врата Москвы, и барон Петр Николаевич Врангель — на белом коне, под звон колоколов! Звонари-то в белокаменной уже со ступеньки на ступеньку карабкаются к колоколам, вот-вот ударит стоустый благостный перезвон. Вот такой звук я одобряю, вот тут я тоже за то, чтобы ударить в колокола, как вы уже изволили призывать.
Волобуев передохнул, вытер капли пота на бугристом, шишковатом лбу и продолжал с прежним вдохновением:
— Ждем явления Георгия победоносца народу. И запечатлевать его надобно для истории уже сейчас, незамедлительно, запоздалость, даже самую малую, нам никто не простит. Предвидение надлежит в ход пустить.
— И он уже известен, этот новоявленный Георгий победоносец?
— Ну кто же так вот, напрямик? — с укоризной ответил Волобуев. — Нет, в дипломаты вам идти противопоказано. Вы нас, ради бога, не смешите. Неужто не догадываетесь?
— Видимо, генерал Деникин?
Глаза Волобуева прямо-таки загорелись наивностью, но вопрос Крушинского он обошел молчанием.
— Или же адмирал Колчак?
— А я-то по простоте душевной думал, что вы простак. Ан нет, коль вознамерились меня исповедовать. И что это вы, мумия ты моя египетская, взялись мне экзамен учинять? Пользуйтесь, пожалуйста, моей добротой и сверхтерпимостью. Не желаете ли мой вопросик откушать? Вы у кого нынче служите? Под чьим знаменем воюете? Чей хлебушек, извините, жуете? То-то! Вот и сообразите сами, чей портретик вам надобно изготовить. А вы — пейзаж! Оставьте свои кустики и цветики барышням, пускай они их до обморока нюхают. А я вам кроме вопросиков теперь уже серьезно сформулирую вашу сверхзадачу: прославление вождей белого движения средствами живописи.
— Не знаю, право, — развел руками Крушинский. — Но если следовать вашей логике, то надлежит писать с барона Врангеля.
Волобуев просиял, выпростал себя из кресла, но тут же снова водворил мощный зад на предназначенное ему место.
— Лихо! А эти мои щенки слепые скулят: психика, психика! Дай бог каждому такую психику! Это надо же так угодить — в самое яблочко! Теперь-то уж мы вас, дорогуша, не выпустим, нет-нет, и не мечтайте!
— Выходит, как во все времена, горе от ума?
— Ох уж эти мне творческие личности! Не успеешь сказать «а», как они до самого «я» проскочат. Этакие знатоки русского языка! Не выпустим — в смысле того, что вы нам позарез нужны, а не в том понимании, что будете любоваться небесами через решеточку.
Крушинский растерянно смотрел на Волобуева. Все закрутилось настолько стремительно, что он не успел ни возразить, ни высказать свои сомнения.
— Помилуйте, я же не портретист. Поймите, ваше благородие!
— Никаких «ваше благородие»! — с неподдельной искренностью провозгласил Волобуев. — Величают меня Афанасием Никодимовичем. И вы так величайте. Без всяческого стеснения! И никаких пейзажей! — почти с воодушевлением воскликнул Волобуев. — Сейчас наверняка осведомите меня о том, что даже Левитан не писал людей. И что женщину на картине «Осенний день. Сокольники» ему изобразил единокровный братец Антона Павловича Чехова. Знаем‑с, знаем‑с, слегка начитаны. Но это все прекрасненько, когда нет войны. А война свое диктует.
— Но у меня ничего нет — ни холста, ни красок...
— Какие пустяки! — прервал его Волобуев. — Да мы вам, коли понадобится, — вагон красок и вагон кистей! И холста расстелим — кубанскую степь хватит накрыть, до самого последнего кургана. А только живописуйте, дорогуша, живописуйте. Всю душу, всю искру божью вложите, а сделайте так, чтобы наша слава военная — Петр Николаевич от лицезрения собственного изображения восторгом изошел. Чтоб портретик потом прямиком на Всемирную выставку, в Париж!
Волобуев нажал какую-то кнопку на приставном столике. Нажатие было столь энергичное, что Крушинскому показалось, будто крышка столика прогнулась. Тут же распахнулась дверь и влетел молодой, весь как на шарнирах, поручик. На его лице было отпечатано лишь одно чувство — готовность.
— Мольберт и кисти — художнику господину Крушинскому! — раскатисто прогрохотал Волобуев. — Лучшие краски! Лучшую комнату! Усиленный паек! Десять метров холста! Первоклассного!
— Слушаюсь! — с превеликим усердием рявкнул поручик. — Мольберт, кисти, краски, комнату, паек, холст, — стремительно, как бы состязаясь со стрекотаньем пулеметной очереди, и в той же последовательности, как это было сказано Волобуевым, перечислил он. — Будет немедленно исполнено!
И тут же вылетел за дверь, создав у Крушинского впечатление, что никакого поручика в кабинете вовсе и не было.
— Видали, как у нас? — горделиво вознесся Волобуев, радуясь и умиляясь произведенному впечатлению. — У нас так: начальник повелевает — подчиненный выполняет — и радуется! — И добавил уже раздумчиво, с философским налетом: — А кому охота в окопах вшей кормить да пули на своей шкуре считать?
— Я же никогда в жизни не видел барона Врангеля, — не унимался Крушинский.
— Увидите, увидите. Главное — не переживать. И позировать он вам будет послушно. История требует, не мы грешные. Великая перспектива в жизни у Петра Николаевича, прямо-таки сногсшибательная, помяните мое слово. Истинный вождь! — И, слегка понизив голос, как бы доверяя Крушинскому сокровенную тайну, присовокупил: — Будущий государь всея Руси... Он, именно он! Остальные — калифы на час, не более того. А какое жизнеописание у него, я вам доложу, какой несравненный колорит! Не биография — восторг! Уникум! Это, знаете, чтобы от эскадронного до командующего корпусом вымахать, это полевой галоп!
Крушинский с нетерпением ждал окончания длинной тирады и все порывался встать и уйти. Волобуев это заметил.
— К делу, великий мастер, к делу! — весело воскликнул он и хлопнул ладонью по столу. — А чтобы дело спорилось, пока я вас с Петром Николаевичем не сведу, всенепременно выслушайте его жизнеописание. Нет, нет, — уловив нетерпеливый, загнанный взгляд Крушинского, попытался успокоить его Волобуев, — в самом сжатом, можно сказать, спрессованном виде. Телеграфной строкой. Время — деньги.
Волобуев уселся поудобнее, задумался. После недолгой паузы продолжал:
— А какая у него биография! В шестнадцатом командовал наследника цесаревича полком, что входил в состав Уссурийской конной дивизии генерала Крымова, назначался дежурным флигель-адъютантом к его императорскому величеству. Детство и юность провел на Дону. В японскую сражался в рядах Забайкальского казачьего полка... Человек неукротимой решимости! В тот самый день, когда ему стало известно, что верховным главнокомандующим назначен какой-то прапорщик Крыленко, он тут же решил оставить армию. Каково?
Волобуев снова передохнул, вытер пот со лба огромным платком.
— А вот вам конкретный фактик, послушайте. После Февральской было. Как-то казачки изволили ослушаться. Приказано было погрузить казачью бригаду в эшелон и направить в Одессу. А комитетчики — на дыбы. Петр Николаевич незамедлительно: подать автомобиль! И — в бригаду, самолично. Казачки толпятся во дворе штаба дивизии. Петр Николаевич к ним: «Здорово, молодцы казаки!» Молчат. Комитетчик наглеет: «Господин генерал, я должен вам заметить, что здесь нет ни молодцов, ни казаков, здесь есть только граждане». И что же думаете? Петр Николаевич спокойненько так произносит: «Вы правы, мы все граждане. Но то, что мы граждане, не мешает мне быть генералом, вам — комитетчиком, а им — молодцами казаками. Что они молодцы, я знаю, потому что водил их в бой, что они казаки, я тоже знаю, я сам командовал казачьим полком, носил казачью форму и горжусь тем, что я казак». И тут же — со значением: «Здорово еще раз, молодцы казаки!» В ответ — громовое: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Ну как?
Волобуев замолк и с видом победителя посмотрел на художника. Потом продолжал тоном заговорщика:
— На днях Петр Николаевич соизволит быть в одном общественном месте. В каковом точно — извещу вас позже. Очень даже необходимо вам его лицезреть. Чтобы настроиться. А пока что отдыхайте, набирайтесь сил и вдохновения. Без оного даже я работать не могу.
Волобуев хлебнул из хрустального стакана воды, тщательно вытер салфеткой по-женски яркие губы, повелительно нажал кнопочку. Влетел все тот же поручик.
— Голубчик, — просительно, будто к старшему по званию, обратился к нему Волобуев, — помогите мне.
— Мольберт, кисти, краски, комната, паек, — все готово, ваше высокоблагородие! — отчеканил поручик с той ошеломляющей радостью, какая означает, что достать все это и вообще все то, что прикажет полковник, — сущий пустяк и даже превеликое удовольствие.
— Спасибо, голубчик! Ты убежден, что господин Крушинский останется доволен?
— Так точно!
— И за то спасибо. А теперь, голубчик, проводи господина Крушинского на его квартиру. Будем отныне называть ее мастерской. И быстренько переодень. Все это, — Волобуев брезгливо ткнул массивным указательным пальцем в военную форму Крушинского, — выкинуть к чертям собачьим, это ж надо так вырядить самого, можно сказать прямого наследника Левитана. Подбери, голубчик, хороший модный костюм. И для работы что-либо удобное. Вели доставить ему продукты, видишь, он при мне стесняется кушать. И приставь ему в помощь, а также для воодушевления Анфису Дятлову. Я вам уже изволил намекать о ней, — осклабился Волобуев. — Век не забудете мою предусмотрительность. Как поведет своими карими разбойными глазищами — мертвый из могилы выпрыгнет. Незамедлительно.
— А винтовка? — растерянно и невпопад спросил Крушинский.
— Ваше оружие — кисть, — жестко отчеканил Волобуев. — Кисть — и ничего более! Винтовочку вашу пристроим, не переживайте. А вечерком, этак часиков
в шесть, я за вами пришлю. Подождите минуточку в приемной.
Когда Крушинский вышел, прикрыв за собой дверь Волобуев почти вплотную подошел к поручику, притянул его за ремень портупей к себе и отчетливо, по слогам, проговорил в подставленное с готовностью ухо:
— За этим художничком — от слова «худо» — смотреть в оба! За каждым его шажком! Ловить каждое его словечко! На лету! С пылу с жару! С кем начнет снюхиваться — фиксировать! Очень он нам сейчас нужен будет, этот маленький Левитанчик, очень, голубчик!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Илья Шафран был в большой обиде на свою молодость. Это же надо судьбе так все подстроить, что в самый разгар революции, когда не было ничего важнее, чем защитить ее от всяческой контры, он, Илья, выглядел совсем как желторотый птенец, которому нельзя было доверить сколько-нибудь ответственное задание. Илья пытался отпустить усы на манер Шорникова, но они, как назло, отказывались расти, а черный пушок над верхней цвета спелой клюквы губой выглядел как откровенная насмешка.
Стараясь быть солиднее, Илья украдкой отрабатывал перед старинным, выволоченным из какого-то купеческого особняка зеркалом суровый вид, хмурил ершистые брови, сгонял с лица навязчивую улыбку. Илья любил заниматься самобичеванием, мысленно истязал себя, обвиняя в том, что не умеет достигать цели с той стремительностью, с какой ее достигали его сверстники на дорогах гражданской войны.
Его ценили за острый ум, находчивость, смелость, умение фантастически ловко и правдоподобно разрабатывать легенды. Шорников использовал это качество молодого сотрудника и каждый раз, выслушав от него один из вариантов легенды, предназначенной для разведчика, засылавшегося в деникинский тыл, мысленно восхищался логикой и предусмотрительностью Ильи, а вслух лишь бросал коротко и многозначительно:
— Ну-ну... Посмотрим, как сказал слепой. И так далее.
Илья, принимая эту фразу как выражение сомнения, начинал с жаром доказывать свою правоту, а Шорников с ехидцей охлаждал его:
— Жизнь, она похитрее твоих придумок. Она такое может вывернуть — сам бог Саваоф затылок чесать будет.
— Уж лучше пусть чешет пятку, — пытался свести разговор к шутке Илья.
Но Шорников шуток не принимал. Вызвав к себе Шафрана, он, на этот раз без длинных предисловий, сухо изложил суть дела.
— Наши готовятся к наступлению в районе Курганной, — сказал он, вертя перед собой очки. — А в Армавире у беляков бронепоезд.
— Понятно, — живо отозвался Илья. — Этот бронепоезд необходимо парализовать.
— Да ты погодь. Я еще не зануздал, а ты уже скачешь. Ясно, что парализовать. А как? Лучше всего взорвать бы этого паразита.
— Зачем взрывать? — изумился Илья. — Это абсолютно нереально.
— А как? Пушкой его сковырнуть? Так он ее не подпустит — кругом, сколько глаз берет, степь.
— А мы его без единого выстрела! Без единой капли крови! — весело воскликнул Илья. — Он у нас с места не сдвинется, будет стоять как заколдованный.
— Ну-ну, — поощряюще пробурчал Шорников. — Чего ты с ним надумал сотворить?
— Все гениальное просто. — Илья взял полевую карту и карандаш. — Вот здесь бронепоезд. А вот река Кубань. На берегу роща.
— Ну и что из того?
— Так это же прекрасное место для пикника. Я сам тут бывал с девчатами, когда в студентах ходил.
— Для пикника? Это еще что за зверь?
— Это, Василий Макарович, не зверь, это весьма занятное мероприятие. Когда собирается веселая компания. Мужчины и женщины. Вино. Шашлыки. Музыка. Танцы. И даже поцелуи.
— Ты давай покороче. У меня на трепотню времени нет.
— А это не трепотня. Я вполне серьезно. Женщины приглашают мужчин на пикник. И дело в шляпе.
— Какие женщины? Какие мужчины?
— Желательно, Василий Макарович, чтобы красивые женщины. А мужчины — чтобы обязательно офицеры. И соблазн победит. А пока вакханалия не кончится, ваш драгоценный бронепоезд не сдвинется с места.
— Ну, ты даешь! — начиная догадываться о существе замысла, почесал затылок Шорников. — Да только кто всю эту кашу заварит? Ты, что ли?
— Ох, если бы можно — с превеликим удовольствием! Но мне это, как вы знаете, не с руки. Это доверим осуществить милым женщинам с их обворожительными улыбками.
— Откуда ты их возьмешь?
— А они у нас есть, Василий Макарович. Неужто позабыли? Например, Анфиса Дятлова. Чем не красавица?
— Анфису ты не трожь, — нахмурил брови Шорников. — Она для других целей у нас. Ее нам надо беречь. И так далее...
По правде говоря, Шорников обдумывал планы более внушительные, рассчитанные главным образом на взрыв железнодорожного полотна, и затея Ильи поначалу показалась ему слишком легковесной, больше похожей на игру, чем на серьезное дело, и вряд ли эта игра могла дать те результаты, на которые Илья так смело рассчитывал. Была и еще одна причина, из-за которой ему не хотелось соглашаться с планом Ильи. В этом случае к заданию нужно было подключать обязательно Анфису Дятлову, а это грозило ей многими неприятностями, вплоть до провала. Что они, беляки, не догадаются, кто подстроил этот пикник и с какой целью? А если узнают, то главный удар их контрразведки неизбежно обрушится на Анфису, и тогда пропала ее молодая жизнь в самом расцвете лет. А жизнь Анфисы ему, Шорникову, с некоторых пор была вовсе не безразлична. Желание увидеть ее хоть на самое короткое время, переброситься пусть одним, даже ничего не значащим словом, — это желание с уходом Анфисы не только не ослабевало, но, более того, крепло тем сильнее, чем далее уходил тот день, в который он проводил ее то ли на подвиг, то ли на верную гибель.
Однако настырный Илья твердил свое и верил в успех.
— Что мы будем иметь в итоге этого предприятия? — доказывал он Шорникову. — Хотите, Василий Макарович, я заранее все предскажу?
— Смотри, какой пророк объявился, — хмыкнул Шорников. — Загубим мы Анфису, вот и весь итог.
— Ни в коем случае! — горячился Илья. — Призовем на помощь элементарную логику. Значит, так. Кто такая сейчас Анфиса Дятлова? Подруга Ксении Варенцовой-Гнедич. А кто такая Ксения Варенцова-Гнедич? Фаворитка самого Врангеля. Вот Ксения все и затеет. А мысль эту подаст ей Анфиса. И когда все это цирковое представление окончится, вся вина падет на Ксению, чтобы не слишком шалила. Кстати, полковник Волобуев ее не переваривает. И у него будет прекрасный повод скомпрометировать Варенцову-Гнедич и турнуть ее на все четыре стороны.
Шорников иронически покачал головой и развел руками.
— Птенец ты еще, Илья. Желторотый. И так далее. Ты же своими руками тот самый дом, который построил, разрушишь. Сейчас какая ситуация? А ситуация такая, что Анфиса через Ксению может выведывать все, что ей только захочется. И все это течет к нам в руки. А ежели Ксении пинка дадут — слепая твоя Анфиса будет, да еще и глухая.
— Это не моя, а ваша Анфиса, Василий Макарович, — смело уточнил Илья. — Но не в этом проблема. Почему вы исключаете совершенно противоположный вариант?
— Какой?
— А вот какой. Еще бабка надвое сказала, выгодно ли Волобуеву изгонять Варенцову-Гнедич. Тут, кажется, я с выводом явно поспешил. А если вдуматься, так скорее невыгодно. И вряд ли он станет предавать огласке всю эту историю.
— Это почему же?
— Очень просто. Обрушиться на Ксению — значит вызвать гнев Врангеля. Это раз. А раздуть всю историю с пикником — значит самого себя высечь. Выходит, прохлопал ушами полковник Волобуев? Какой же он после этого начальник контрразведки? И замнет он все это дело для ясности, объяснив задержку бронепоезда, к примеру, чисто техническими причинами.
— Твоими бы устами да мед пить, — насмешливо сказал Шорников. — Ну, опоздает бронепоезд в этот раз, а что потом? Он же живой останется. А его надо взорвать или пустить под откос к чертовой бабушке.
Илья прищурил и без того узкие, как щелки, глаза и сказал, будто размышляя с самим собой:
— Оно, безусловно, лучше бы, чтобы этот мастодонт взлетел на воздух. Но кто его сейчас взорвет? Подрывников у нас готовых нет. А наша большевистская партия как учит? Во всяком деле должна быть программа-минимум и программа-максимум. Так давайте выполним сперва программу-минимум.
— Ты со своими теориями, Илья, у меня в печенках сидишь, — беззлобно сказал Шорников. — Одно тебя спасает: котелок твой хорошо варит. Но прежде чем все это затевать, я доложу начальнику штаба Румянцеву. И если ты за свои чудачества схлопочешь от него нахлобучку — выручать тебя я не собираюсь.
— Согласен. Готов, чтоб в телеге, по булыжнику, прямиком на Гревскую площадь.
— Какую еще площадь? — насторожился Шорников.
— Есть такая площадь в Париже, столице Франции. Перед ратушей. Бывшее место казни. Там стояла гильотина. На этой площади провозглашали Третью республику и Парижскую коммуну. И здесь же отсекли голову Людовику Шестнадцатому.
— Ратуша... Гильотина... — задумчиво произнес Шорников. — Слова-то все у тебя заковыристые.
Ему очень хотелось, чтобы Илья пояснил смысл этих незнакомых слов, но он опасался просить об этом, боясь, что его молодой сотрудник и вовсе задерет нос.
Однако Илья сам пошел ему навстречу.
— Ратуша — это здание городского самоуправления, ну как у нас Совет. А гильотина — такая чудесная игрушка, которая отсекает головы. И еще одна информация к вашему сведению. Если вы, Василий Макарович, после победы мировой революции приедете в Париж, я вас очень прошу, не старайтесь найти Гревскую площадь.
— Не понимаю.
— В начале прошлого века она была переименована в площадь Ратуши.
— Надо же, — протянул Шорников. — Спасибо, что сообщил, а то в Париже, чего доброго, и заблудиться можно.
К удивлению Шорникова, начальник штаба дивизии отдал предпочтение замыслу Ильи Шафрана. Расхаживая возле стола той четкой и изящной походкой, которая обычно отличала сугубо военного человека старой закалки, Румянцев изредка поглядывал на Шорникова и, словно чеканя каждое слово, говорил:
— Простите, товарищ Шорников, но я принужден высказать мнение, которое несколько отличается от вашего. Чем привлекает план товарища Шафрана? Прошу вас, товарищ Шорников, не счесть за труд вдуматься в суть, и вы с предельной ясностью определите его несомненные преимущества.
Румянцев был из царских офицеров, имел звание полковника, и хотя сразу же после революции перешел на сторону Советской власти, Шорников не мог заставить себя во всем ему доверять.
«Многовато патоки, бывший полковничек, в твоих речах, — слушая Румянцева, неприязненно думал Шорников. — Так и стелешь, так и стелешь, а случись что — жестко класть будешь. За тобой только и знай, что присматривай. А то махнешь со своими картами к самому Врангелю...»
И хотя не было никаких фактов, которые могли бы бросить тень на Румянцева и скомпрометировать его, Шорников не мог отделаться от подозрительности. А это, естественно, не располагало к душевным откровениям.
Внешне Румянцев не подавал и виду, что чувствует к себе недоверие, но в глубине души очень переживал.
— Итак, с вашего позволения я назову вам явные преимущества данного плана. Операция, которую нам предстоит провести, носит локальный, иными словами, ограниченный характер. Не скрою, ваш план вывести бронепоезд Чаликова из строя путем взрыва — превосходен. Но у нас, к сожалению, в данный момент нет времени на подготовку подрывников. Локальность же плана наступления на Курганную позволяет ограничиться задержкой бронепоезда хотя бы на несколько часов. И если у вас, уважаемый товарищ Шорников, есть возможность через своих людей реализовать замысел товарища Шафрана, то я был бы вам чрезвычайно признателен.
Шорников нетерпеливо слушал Румянцева, и так как тот не стоял на одном месте, а находился в непрерывном движении, меряя пол длинными ногами, плотно обтянутыми новенькими, с иголочки, защитного цвета галифе, он следил за ним взглядом, в котором трудно было скрыть раздражение.
«Кто знает, может, он одобрил замысел Ильи, чтобы напакостить», — подумал Шорников и сердито буркнул:
— При чем тут признательность? Это наше общее дело.
— Разумеется, разумеется, — охотно подхватил Румянцев. — И если вы не возражаете, я доложу начдиву. Окончательное решение, несомненно, останется за ним.
Румянцев улыбнулся, как бы давая понять, что больше к своим словам ему добавить нечего. Улыбка эта, хотя и не содержала в себе приторности, призвана была скрыть и ту обиду, которая возникла в нем еще тогда, когда Шорников изложил ему план задержки бронепоезда в самых общих чертах, не считая возможным сообщить, с чьей конкретно помощью этот замысел будет осуществляться.
«Ничего, — успокаивал себя Румянцев, — впереди еще много боев, и товарищ Шорников в конце концов убедится, что я не перевертыш, а честный патриот, хотя и беспартийный».
Когда Шорников сообщил Илье, что командование дивизии одобрило его предложение, тот, к великой досаде своего начальника, даже не выказал удивления. Лицо его продолжало оставаться таким же радостным, сияющим и по-детски счастливым, каким оно было почти всегда.
Шорников во всем завидовал своему подчиненному: и его молодости, хотя и был всего на пять лет старше Ильи, и его способности смотреть на жизнь открыто, весело, а порой и бесшабашно, с неизменной верой в успех, будто она состояла лишь из одних радостей, удач и захватывающих приключений. А еще завидовал бывший шахтер Шорников тому, что Илья получил образование. Но зависть не мешала Шорникову любить и ценить Илью и, более того, стремиться получить от него то, что называют духовным богатством человека. То, что рассказывал ему Илья, Шорников запоминал до малейших подробностей, и если в житейских вопросах он справедливо считал себя более опытным и мудрым, то познаний в истории, литературе, музыке у него, разумеется, не было, и Шафран, общаясь с ним, постепенно подковывал его.
Когда выдавалась свободная минутка и Илья вдруг выплескивал на удивленного Шорникова новую порцию каких-либо исторических фактов или событий, тот слушал его с обостренным интересом, впитывал все, как губка воду, не показывая, однако, своего жадного любопытства. Всего полгода прошло с того дня, как они впервые сошлись друг с другом и без раскачки впряглись в свое сложное, опасное, порой мучительное, каторжное дело, состоявшее в том, чтобы любой ценой раскрыть замыслы противника и тем самым сделать свою дивизию зрячей, помочь ей добиться боевого успеха. И хотя этот срок был невелик, он не просто сдружил Шорникова с Ильей, но и породнил их, и теперь Шорников не мог и представить себе, что придет день, когда Илью возьмут от него и переведут в другую дивизию, или, что еще хуже, с ним приключится беда, которая во фронтовой обстановке может случиться в любой момент с каждым из них.
Коньком Ильи Шафрана были полководцы. Шорников много раз пытался понять, как голова этого юноши вмещает в себя столько фактов, событий, цифр, имен, но это оказалось тщетной попыткой. И потому ему оставалось лишь удивляться и восхищаться.
В вещмешке у Ильи могло не оказаться и черствой горбушки хлеба, но там всегда были книги, и он, если позволяла обстановка, набрасывался на них с той нетерпеливой жаждой, с которой путник в пустыне набрасывается на неожиданно обнаруженный источник воды. И так как знания, почерпнутые Ильей из книг, не могли без применения покоиться в его голове и просились наружу, то он и обрушивал их на озадаченного Шорникова.
— Василий Макарович, вы любите месяц июль? — мог ни с того ни с сего спросить у Шорникова Илья.
— Какая разница, люблю — не люблю! Оно, конечно, летом лучше, чем зимой.
— Значит, июль вам по душе. А почему этот месяц так называется, вам никогда не приходило в голову?
— Как это почему? Назвали так, и баста. Вот ты — Илья. Почему? Да так родители нарекли. Между прочим, в честь Ильи пророка. Так что у тебя имя ни к чертям собачьим, слишком божественное.
— Не в имени дело, — краснел Илья. — Так вот, к вашему сведению, Василий Макарович, назвали месяц июлем в честь Юлия Цезаря. Потому что он в этом месяце родился. А прежде он назывался квинтилием. И учтите, квинтилий переименовали в июль еще при жизни Цезаря. Вот это, скажу я вам, слава.
— А он что, Цезарь этот, из трудящегося народа? — осторожно спрашивал Шорников.
— Увы, он из патрициев. Причем очень знатных.
— Патрициев?
— Ну, вроде из наших буржуев.
— Тогда на кой ляд ты мне этим Цезарем мозги засоряешь?
— Так он жил еще до нашей эры. И был великим полководцем и государственным деятелем. И даже писателем. Вы знаете, сколько он одерживал побед?
— И знать не желаю. Для кого он их одерживал? Сам говоришь, что для патрициев. Ты лучше о наших полководцах расскажи, о рабоче-крестьянских. К примеру, ты о Буденном слыхал?
— К сожалению, нет.
— А про Ворошилова знаешь? Донецкий слесарь. А главное, мой земляк.
— Тоже не слыхал.
— Ну так услышишь. А то — Цезарь, Цезарь...
— Я уверен, Василий Макарович, что опыт полководцев древности тоже можно взять на вооружение в гражданской войне. В интересах пролетариата.
— Какой еще опыт? Что у нас, своей головы на плечах нет?
— Цезарь не лез на противника нахрапом, как иной раз мы, а разъединял его и бил по частям. Это во-первых. Цезарь держал войска в кулаке и быстро создавал превосходство в силах на главном направлении удара. Это во-вторых. А когда у него было маловато силенок, он действовал стремительно, напористо, шел на военную хитрость, искусно маневрировал. Это вам в‑третьих. А одерживая победу в бою, не останавливался, как это бывает в нашей дивизии. Возьмем станицу — и по куреням отъедаться да отсыпаться. А Цезарь безостановочно преследовал вражескую армию до полного уничтожения. Это в‑четвертых. И как вы любите повторять, и так далее. Кстати, он очень ценил конницу.
— Вот это по-нашенски! — одобрил Шорников.
— А еще — разведку.
— Выходит, таких, как мы с тобой, ценил? — обрадовался Шорников. — Видать, этот Цезарь был парень не промах.
— А если я добавлю, Василий Макарович, что великий русский полководец Суворов и французский император Наполеон считали, что каждый военный обязан изучать труды Юлия Цезаря и знать их назубок?
— Это точно?
— Абсолютно. Особенно надо изучать историю его Галльских походов. Их было целых восемь. В результате римляне завоевали всю Галлию.
— Галлию? С чем ее едят?
— Это территория, на которой в наше время располагаются Северная Италия, Франция, Люксембург, Бельгия, Германия, часть Голландии и Швейцарии.
— Вот это аппетит! — поразился Шорников. — Все это проглотил и не подавился? Так он, выходит, захватчик, а значит, лютый враг трудового народа.
— Это уже другой вопрос, — уклонился от спора Илья. — Я говорю о его полководческом искусстве.
— А что, в этом направлении придется мне нашего начдива просветить. Да и начальника штаба не мешает.
— Ну, что касается Румянцева, то ему все это известно. Он же военную академию кончал.
Илье очень хотелось познакомить Шорникова с Цезарем поглубже, прочитать ему, что писали о Цезаре Цицерон, Светоний и Плутарх. Тем более что именно эту книгу он обнаружил в разрушенной библиотеке, когда отступали из Армавира. Илью самого привлекла мысль Плутарха о том, что для деятельной натуры Цезаря успехи не служили основанием для покоя. Напротив, как бы воспламеняли и подстрекали его к великим предприятиям в будущем. Это было, отмечал Плутарх, некое соревнование с самим собой, словно с соперником, и стремление будущими подвигами превзойти совершенные ранее.
«Вот каким надо быть! — с завистью размышлял Илья. — А что ты, Илья Шафран, значишь на этом свете? Собираешь по крохам через Анфису Дятлову какие-то жалкие сведения, что-то из них учитывается, что-то отбрасывается. Посмеется иной раз начдив над твоей информацией, гаркнет: «Шашки к бою!» — и помчал лихой полководец напролом, как бык на тореадора, никакой тебе военной хитрости. А потом еще и скорбит, что много потерял своих боевых товарищей, вечная им слава. А мог бы и не потерять, если бы знал, как воевал Юлий Цезарь. Вот бы мне доверили водить войска, какие бы фанфары славы гремели! И вообще, совершить бы что-то такое, чтобы имя твое запомнили все, даже далекие наши потомки. Да где уж тебе, дорогой товарищ Шафран, до таких великих свершений! Лишь бы товарищ Шорников похвалил — и на том спасибо...»
Так рассуждал о славе и своей скромной судьбе Илья Шафран, отправляясь в ночь на встречу в условленном месте со связным, который должен был передать новые сведения, добытые Анфисой Дятловой, и через которого Илья должен был растолковать ее новое задание.
Он шел, хорошо ориентируясь в ночи, предчувствуя, как после его возвращения в штаб Шорников станет дотошно расспрашивать об Анфисе: как там она, веселая или печальная, не угрожает ли ей опасность и не передавала ли чего устно лично для него, Шорникова. И когда узнает, что не передавала, почернеет, умолкнет и уйдет в себя.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
У Врангеля не было желания ехать в театр. Он никогда не принадлежал к поклонникам Мельпомены, считая, что театр — это нечто искусственное, не относящееся к тем ценностям, какие имеют ощутимую пользу для человека, посвятившего себя исключительно военной карьере. Не был он и меломаном, и потому горячие заверения полковника Волобуева о том, что в спектакле будет много музыки и танцев, не прибавили ему желания отправиться в театр. Все, что не относилось к его непрестанной и неутолимой жажде славы, к рождению все новых и новых замыслов, способствующих развенчанию его главного соперника — Антона Ивановича Деникина, не могло привлекать Врангеля, ибо не имело для него никакого практического значения.
И потому, когда полковник Волобуев с чарующей улыбкой стареющей кокотки пытался соблазнить его посещением городского театра, Врангель, все более мрачнея и наливаясь неприятием, молча всматривался в него, как в человека, которого он вот-вот прикажет вздернуть на виселице, ничуть не пожалев о его скорбной и трагической участи.
— Ваше превосходительство, — не придав ровно никакого значения роковой мрачности Врангеля, еще более осклабился в зубастой улыбке Волобуев, — мозг великого полководца нуждается в отдохновении. И, смею вам доложить, ничто так благотворно не влияет на суровость души, как божественные ножки танцовщиц.
Врангель живо восстановил в памяти матовые, радующие своей упругой нежностью ноги Ксении и несколько оживился.
— А главное, ваше превосходительство, — уже без улыбки, принимая торжественную позу, возвестил Волобуев, — человечество жаждет лицезреть своего кумира и вождя, вздымающего святые хоругви во имя освобождения России.
При этих словах, прозвучавших как сигнал боевой трубы, Врангель встал, прямой и стройный, устремив все еще мрачный, неживой взгляд куда-то поверх головы Волобуева.
— Этот исторический момент, — возвышая самого себя в своих глазах, рокотал Волобуев, — долженствует быть запечатлен на полотне кистью большого мастера живописи, коего после окончания спектакля милостиво прошу принять для приличествующего данному случаю разговора и для подачи необходимого импульса художнику.
Врангель скользяще стрельнул черным глазом в Волобуева, беспокойно и тревожно заерзавшего в кресле.
— Сподручно ли, Афанасий Никодимович, при ваших многотрудных обязанностях, отвлекать свою кипучую энергию на подобное предприятие? — не без искренности вопросил Врангель, чувствуя, однако же, внутреннюю сладость от замысла Волобуева. — И не забываете ли вы о том, что при моем положении и заботах весьма непозволительно отдавать драгоценнейшие минуты на беседы с не известным мне художником?
Врангель сразу же понял, что Волобуев потащит в театр и художника, а значит, вряд ли будет благоразумным везти с собой Ксению, а это в свою очередь приведет к тому, что она надует губки. А Врангель женских упреков, а тем паче слез, не выносил.
Волобуев нутром почувствовал, что все эти вопросы не более как попытка не выпускать на волю того неутоленного зверя, который издавна поселился в душе Врангеля и которого именуют честолюбием.
— Мы, ваше превосходительство, — тут же откликнулся Волобуев смиренно и почти ласково, — не принадлежим самим себе. Мы в плену у капризнейшей из любовниц — госпожи истории. И она вертит нами, как ей заблагорассудится. И тут ничегошеньки не попишешь. Повелевает сия дама оставить на обозрение далеким потомкам нашим живые портреты военных гениев — как же с этим может конкурировать дух сопротивления и тем более ложной скромности? И позвольте доложить вам, ваше превосходительство, портретное изображение — это лишь первый шаг в намеченной мною стратегической программе, призванной питать анналы истории. Одновременно смею предложить вам написание ваших личных мемуаров. Ни один день, ни один час вашей жизни из цикла ваших мудрых деяний, ни одна мысль из тех мириад мыслей, кои владеют вами, не должны исчезнуть бесследно, все надобно фиксировать. — Тут Волобуев поймал себя на мысли о том, что слово «фиксировать» было одним из его любимых слов, и любовь эта проистекала, по всей вероятности, от его профессиональной принадлежности. — Ваши деяния войдут в летопись истории и, смею утверждать, даже в учебники по военному искусству.
Идеи Волобуева подкупали Врангеля, но он хотел остаться в его глазах человеком, начисто лишенным тщеславия.
— До этого ли ныне?
— Молю всевышнего, чтобы вы не изволили отложить сие на потом! — театрально вздымая пухлые, ухоженные руки, провозгласил Волобуев. — Я сам преисполнен готовности быть вашим летописцем.
— А кто же будет истреблять тайных врагов отечества? — Врангель произнес эту фразу без малейшего оттенка иронии и уставился на Волобуева стеклянным, немигающим взглядом.
— Смею заверить вас, ваше превосходительство, меня на все хватит, силы в себе ощущаю прямо-таки неистребимые. Душу вложу!
Врангель был из тех динамичных, словно бы начиненных бесовской энергией людей, которые не могут принудить себя хотя бы минуту спокойно посидеть на одном месте, — жажда действия всеохватно верховодила им, находя свое проявление в постоянном движении, сопровождаемом выразительными, полными эмоций жестами и клокотанием новых замыслов.
При последних словах Волобуева он молодцевато забегал по кабинету, поражая полковника юношеским гибким станом и бурей чувств, полыхавших и на его лице, и, чудилось, во всей фигуре. «Сколько силушки в нем, удали, веры! — восхищенно причмокнул пухлыми губами Волобуев. — Разве сравнишь его с Деникиным, или тем паче с забулдыгой Май-Маевским, или со Слащевым, этим законченным психопатом?»
— Решено! — враз оборвав нескончаемые словесные упражнения Волобуева, отчеканил Врангель. — Едем!
Они спустились по тускло отблескивающим ступенькам к парадному выходу, где их ожидал автомобиль. Врангель опустился на сиденье, как на седло, — с проворством и почти парадным изяществом прирожденного конника. Волобуев тяжело плюхнулся рядом с ним.
Между тем Крушинскому незадолго до этого уже передали распоряжение Волобуева быть в готовности, и он в назначенное время стоял в ожидании его приезда на перекрестке, у дома, где размещалась мастерская. Настроение у него было подавленное, ему никуда не хотелось ехать, но не подчиниться воле Волобуева он не мог. Крушинский не имел ни малейшего желания лицезреть Врангеля, а тем более писать его портрет, однако другого выхода пока что не было, и он решил всецело положиться на свою судьбу.
На настроении Крушинского отражалась и та отчужденность, с которой относилась к нему Анфиса. Бывая в его доме, она все время молчала, думая о чем-то своем. И только когда Крушинский сказал ей, что сегодня едет в театр, вдруг оживилась:
— Это хорошо. И поезжайте. А то вы туточки совсем прокисните.
— А я ведь не один еду.
— Так еще лучше. С женщиной куда как веселее.
— В том-то и дело, что не с женщиной. С самим генералом Врангелем. И с полковником Волобуевым.
— Везет вам, вы обязательно поезжайте, — с непонятной Крушинскому настойчивостью поспешно сказала Анфиса. — Вам такое счастье привалило, а вы еще и сомневаетесь.
— И не поехал бы, так принуждают, — посетовал Крушинский. — Велено писать портрет.
— Самого Врангеля? — заинтересованно спросила Анфиса.
— Ну разумеется. И хотят, чтобы я вжился в образ.
Анфиса прикинула, что, общаясь с Врангелем, Крушинский может стать человеком, которому, чем черт не шутит, тот расскажет что-нибудь такое, что не грех узнать и Анфисе.
— Чего же вы раньше не сказали? — засуетилась она. — Я вам сейчас брюки поглажу. И сорочку. Разве ж в таких, неглаженых, можно в театр идти?
Стараниями Анфисы Крушинский вышел на улицу в ладно сидящем, отутюженном костюме, блестевших глянцем туфлях (хоть смотрись в них, как в зеркало!) и шляпе, подчеркивавшей его элегантный вид.
Машина, визжа тормозами, подкатила к тротуару. В ней, на заднем сиденье, торжественно, словно принимая парад, возвышались Врангель и Волобуев.
Врангель бросил небрежный взгляд на Крушинского, вновь мысленно посетовал на Волобуева с его вечными фантасмагориями, крепко сжал тонкие, бескровные губы и едва кивнул на приветствие художника.
— Рядом с шофером! — тоном хозяина произнес Волобуев, и Крушинский поспешно и как-то неуклюже-стыдливо сел на отведенное ему место.
Машина грозно заурчала и, выпуская облачко гари, понеслась по булыжной мостовой к театру.
Здание театра было ярко освещено снаружи, и потому площадь, на которой он находился, тоже пропечатывалась в густой темноте вечера светлым пятном. Казалось, что этот, освещенный фонарями театр — единственное светлое место во всей России, погруженной во тьму...
Автомобиль затормозил у запасного входа. Тут же Врангеля с восторженным подобострастием встретил директор театра и, расточая сладкие улыбки, повторял одни и те же слова:
— Милости просим... Мы счастливы...
— Мое посещение не предавать широкой огласке, — сурово сказал ему Врангель.
— Ваше превосходительство, приняты все необходимые меры, — поспешил заверить его Волобуев.
Директор галантно указал направление, по которому надлежало идти, на всякий случай улыбнулся Крушинскому, и они вошли в подъезд. Поднявшись по ступенькам, оказались в ложе второго яруса, которая располагалась в глубине и потому лишала любопытных возможности разглядеть тех, кто в ней находился.
Врангелю, однако, хорошо был виден партер. Он давно не был в театре, и его несколько передернуло от дорогих, нарядных туалетов зрителей. Тут и там, отражаясь в свете хрустальных люстр, яркими молниями по-змеиному вспыхивали бриллианты в серьгах и перстнях оживленных, сияющих улыбками женщин, лоснились дорогие меха, сверкали причудливыми украшениями модные шляпки. Чудилось, что в театре блеск, сияние, ослепляющая россыпь ювелирных украшений господствуют над людьми: сверкали погоны и аксельбанты офицеров, сверкали, источая все цвета радуги, драгоценные камни, сверкали жемчужно-белые зубы красивых женщин...
«Впрочем, — уже спокойнее подумал Врангель, — этот контраст между ужасами войны и этим блеском необходим. К тому же это театральное празднество свидетельствует о том, что наши победы на Кубани и Дону прочны и незыблемы. И все идет как в старые добрые времена!»
Поднялся занавес. Давали оперетту «Птички певчие». Постановка отдавала той посредственностью и серостью, которые часто бывают заметны в игре провинциальных актеров. Аффектация била через край, канкан был схож с кривляньем проституток во время оргий. Врангель пришел в крайнее раздражение и бросал свирепые взгляды в сторону Волобуева, который, подобно разжиревшему коту, сладко дремал в кресле.
В антракте Врангель неожиданно обратился к Крушинскому:
— Каково ваше просвещенное мнение о спектакле?
Крушинский растерялся. Слушая оперетту и глядя на сцену, он все время думал, сравнивая главную героиню «Птичек певчих» с Анфисой: «Нет, Анфиса совсем не такая. Эта — вздорная, вульгарная баба, прошедшая огонь, воду и медные трубы, а та — чистая, свежая, истинная...»
И потому не сразу нашелся, что ответить.
— Неужели вы не составили своего мнения? — нетерпеливо спросил Врангель. — У художника подразумевается обостренное чутье на подлинное и поддельное.
— Я отвечу вам вашими же словами, — подавив нерешительность, сказал Крушинский. — Вы нашли очень точное определение. Искусство может быть или подлинным или поддельным.
— Но вы ничего не сказали о «Птичках певчих», — напомнил Волобуев.
— А что можно сказать, если здесь искусства нет и в помине?
— Вот видите, — повернулся к Волобуеву Врангель. — А вы мне давеча все уши прожужжали со своими «Птичками».
— Но зато какие актрисы, ваше превосходительство! Не столь уж важно, как они лицедействуют на сцене. Гораздо предпочтительнее их поведение после спектакля.
И он рассыпал по ложе дробный, похотливый смешок.
— То-то вы дремали с таким превеликим наслаждением, — поддел его Врангель.
Кончился антракт, в зале погасли огни, но занавес почему-то не поднимался. И тут на авансцену вихляющей походкой вышел высокий, с седой шевелюрой господин во фраке и, будто с церковного амвона, бросил в публику слова, извергая их в каком-то нечеловеческом экстазе, как в цирке:
— Милостивые государыни и государи! В то самое время, когда мы здесь веселимся, предаваясь сладостям жизни, с восторгом лицезреем прекрасных женщин, там, на фронте, — он ткнул длинным сухим пальцем почему-то вверх, — геройские наши войска не на живот, а на смерть борются за честь единой, великой и неделимой России! Стальной грудью прикрывают они нас от врага, неся нам мир и благоденствие. Мы обязаны всем им, этим героям, и их славным вождям. Я предлагаю вам, — тут голос его превратился в призывный страдальчески-торжественный вопль, — приветствовать одного из них, находящегося здесь, в нашем театре, — генерала Петра Николаевича Врангеля!
Сноп света внезапно ударил в ложу, где сидел Врангель, в ту же секунду стремительно взвился занавес, оркестр грянул туш, сгрудившаяся на сцене труппа и публика в партере, стоя, повернувшись к ложе, неистово зааплодировали. Там и тут раздавались крики «Виват!» и «Ура!».
Все ликовало в груди у Врангеля. Он стоял, как изваяние, сияя черными глазами, и казалось, что еще немного, еще один шквал аплодисментов, и он воспарит над партером, как воспаряют святые в проповедях священников.
Теперь, после такого оглушительного приема, спектакль и вовсе показался Врангелю не соответствующим той жажде славы и действия, которые всецело владели им, обжигая душу. Не дождавшись окончания спектакля, он покинул театр. За ним поспешили Волобуев и Крушинский.
Врангель был настолько вдохновлен приемом, что полностью игнорировал то обстоятельство, что этот второй «спектакль» был хорошо подготовлен и отрепетирован не кем иным, как Афанасием Никодимовичем Волобуевым, который сейчас шел вслед за ним и блаженно щурил глаза в предвкушении похвалы, а то и очередной награды.
— В гостиницу «Палас»! — распорядился Врангель. — Я чертовски проголодался.
— Да, ваше превосходительство, совершенно верно, не искусством единым жив человек, — охотно согласился Волобуев.
Однако обстановка в ресторане, куда они пришли, показалась Врангелю весьма неблагоприятной. Зал переполнен разношерстной, галдящей на разные голоса публикой. Столики были почти сплошь оккупированы изрядно «заряженными» офицерами. Одни, завидев Врангеля, поспешно вскакивали и вытягивались во фронт, другие продолжали звенеть бокалами. Со всех сторон гремели пьяные, исполненные дикого восторга крики «ура», вся ужинавшая публика выметнулась из-за столиков и черной тучей двинулась на Врангеля. Оркестр оглушительно грянул воинственный марш.
Врангель, ответив на приветствия взмахом руки, сел за ближайший свободный столик. За ним следом уселся Волобуев, указав место и Крушинскому.
Но побыть Врангелю вместе со своими собеседниками не дали. Восторженные возгласы не утихали, со всех сторон к нему протягивали бокалы с вином. Одни поздравляли с последними победами, другие лезли обниматься, третьи просили ответить на вопросы, среди которых были и явно наглые. Это бесило Врангеля.
Так и не поужинав, он покинул ресторан и вместе со своими спутниками поехал на станцию, в свой салон-вагон.
Только здесь, в привычной обстановке, он почувствовал облегчение и расслабился. В нем зрела, набирая силу, подспудная окрыляющая мысль: «Сегодня тебе аплодировал какой-то захолустный театрик, а завтра будет чествовать и прославлять вся Россия!» И эта мысль так согревала его душу, вливала такие мощные силы, что он позабыл и о дрянном спектакле, и о неприятных вопросах, которыми его, как пиками, пытались уколоть в ресторане. Он настроился на благодушный лад. Приказав подать ужин, Врангель по-домашнему устроился в кресле и впервые за все это время выдавил на своем колючем и хищноватом лице некое подобие улыбки.
Волобуев сразу же смекнул, что настал благоприятный момент для беседы, которая может пойти на пользу Крушинскому в работе над портретом.
Подали ужин. Врангель широким жестом длинных костлявых рук пригласил присутствующих к трапезе.
— Теперь вы и сами убедились, как тяжко бремя славы, — заговорил он с видом мученика. — Но это еще можно пережить. Гораздо более сложно другое. Я имею в виду нынешнюю обстановку. Вас, господин Крушинский, я вынужден предупредить, что все мною сказанное отнюдь не для прессы. Предупреждать вас о последствиях какого-либо малейшего даже разглашения считаю излишним. Тем более что вас опекает такой надежный патрон. — Врангель положил длинную худую ладонь на мясистое плечо Волобуева. — Чтобы понять меня, вам должно проникнуться сложностью той ситуации, в которой мне по предначертанию всевышнего выпало действовать.
Врангель отрезал кусочек сочного, с кровью, бифштекса, тщательно прожевал его, запил вином и продолжал:
— Нами отбита у красных громадная территория. Ценою огромных, не поддающихся описанию жертв. Но на ней царит первозданный хаос! Кубань и Дон управляются целым выводком мелких сатрапов, начиная с губернаторов и кончая самым захудалым войсковым начальником, комендантом или контрразведчиком. Обыватель положительно сбит с толку, запуган и не знает, кого ему слушаться, чьим повелениям внимать. Целые тучи всевозможных авантюристов заполонили отбитую у врага территорию и, пользуясь преступным бессилием власти, проникли во все поры государственного организма.
Врангель откинулся в кресле, заговорил еще более торопливо, отрывисто. Язык не поспевал за мыслями, и фразы были похожи на спешащего человека, то и дело спотыкающегося о неровности дороги.
— Законность предана забвению. Каждый дудит в свою дуду. И знает, каналья, что действует совершенно безнаказанно. Губительный пример, к величайшему сожалению, подается сверху.
— Один Май-Маевский чего стоит! — угоднически вставил Волобуев. — Пьет без продыху и просыпу, устраивает оргии.
— Май-Маевский не в счет, — резко оборвал Врангель. — Вы, Афанасий Никодимович, хитрец. Бьете из пушек по воробьям. А о птицах покрупнее почему-то умалчиваете.
— Так я, ваше превосходительство, и до крупных птиц доберусь.
— Ну-ну...
— А чем Антон Иванович лучше? Тем, что не пьет? — будто в омут прыгнул Волобуев. — Так это не бог весть какая заслуга.
— Вот именно, — напористо продолжал Врангель. — Меня всегда возмущало, что людям, не способным справиться с выпавшей на их долю ответственностью, более того, колоссальной исторической задачей, как раз судьба и вручает штурвал государственного корабля. Это же возмутительный парадокс!
— Случай! — пропел на той же высокой, с возмущением, ноте Волобуев. — Но разве вы не видите, ваше превосходительство, что генерал Деникин выпустил эту власть из своих рук? И вот вам результат — хищения, мздоимство. А эти великолепные запасы продовольствия, снаряжения, обмундирования, что поставляют нам англичане? Все это бессовестно расхищается. Наши доблестные воины вынуждены сесть на шею населению. А это непосильное бремя. Прекрасная пища для большевистской пропаганды. Нужен новый вождь белого движения, мудрый, с просветленным умом и железной рукой.
И Волобуев преданно уставился в лицо Врангелю, будто тот уже и был тем новым вождем, о котором он только что сказал.
— Однако хватит о политике, — великодушно заявил Врангель. — Господина Крушинского она, видимо, мало интересует.
Крушинский слабо улыбнулся:
— Действительно, я всегда старался быть подальше от нее...
— Великолепно! — одобрил Волобуев. — Искусство должно быть чистым и незамутненным. Ваше превосходительство, — обратился он к Врангелю, — художнику конечно же самое главное — лицезреть вас. Это даст ему возможность точнее и ярче изобразить ваши черты на полотне. И если позволите, господин Крушинский приступит к эскизам.
— Если это столь необходимо...
— Именно необходимо! Вы готовы, господин Крушинский?
— Пожалуй. А вас я попрошу, — сказал он Врангелю, — во время позирования быть возможно естественнее. Мне будет легче, если вы продолжите свой рассказ и позабудете о моем существовании.
— И все же, лучше, если вы услышите от его превосходительства нечто биографическое, предоставляющее особый интерес для художника, — сказал наставительно Волобуев.
— Воля ваша, — согласился Крушинский.
Врангель закурил папиросу, затянулся дымом и сел так, чтобы Крушинскому лучше было видно его лицо, освещенное зеленоватым светом, исходящим от абажура.
Крушинский разложил на столике куски ватмана, прихваченные с собой в папке, и, бросая короткие взгляды на Врангеля, принялся стремительно наносить штрихи черным карандашом.
— Собственно, жизнь моя и впрямь богата яркими событиями, — заговорил Врангель, глядя в черное стекло вагонного окна. — Я счастлив, что был близок к царю: меня назначили к его императорскому величеству флигель-адъютантом. Помню, будто это было вчера, как я вступил в дежурство в Царском Селе. Была суббота. Я сменил флигель-адъютанта герцога Лейхтенбергского. Государь в этот день завтракал у императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака государь гулял, а затем принял нескольких лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка.
Врангель шумно вздохнул, испытывая приятное томление от сладостных воспоминаний.
— Обедали на половине императрицы, — продолжал он. — Я провел целый вечер в семье государя. Он был весел и оживлен, подробно расспрашивал меня о полке, о последней блестящей атаке в Карпатах. Разговор велся частью на русском, частью, в тех случаях, когда императрица принимала в нем участие, и на французском языке. Я был поражен видом императрицы... Ярко выступали красные пятна на лице. Особенно поразило меня болезненное выражение ее глаз. Императрица интересовалась организацией медицинской
помощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что введенных противогазов. Великие княжны и наследники были веселы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом полка, спрашивал, какие в полку лошади, какая форма. После обеда перешли в гостиную императрицы, где пили кофе и просидели часа полтора.
— Ваше превосходительство, — попросил Волобуев, — расскажите о празднике георгиевских кавалеров. Это достойно кисти большого художника. Тем более, что вы и сами кавалер ордена святого Георгия и кавалер георгиевского оружия.
— Было это событие в ноябре. Все кавалеры Георгиевского креста были приглашены на торжественный молебен. Собрались все в театральной зале. Из лазаретов доставили тяжелораненых, их разместили на сцене, прямо на носилках. Свита и приглашенные сидели в партере. Вскоре прибыл царь с императрицей. По отслужении молебна генерал-адъютант принц Ольденбургский взошел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу государю императору и августейшей семье. Царь выпил чарку и прокричал «ура» в честь георгиевских кавалеров. Царь и царица обошли раненых, беседуя с ними. Царица внимательно расспрашивала каждого, склонившись к носилкам, но по виду ее было видно, что мысли ее где-то далеко-далеко...
— Я рассказываю лишь для того, чтобы, позируя, не превращаться в мумию, — заметил Врангель, видя нетерпение и скуку на лице художника.
— Да, да, ваш рассказ очень помогает мне, — заверил Крушинский.
— А как-то декабрьским утром, — продолжал Врангель, — направились мы в Царское Село. Там предполагалось вручение лошади, подседланной маленьким казачьим седлом, наследнику. Лошадь отправили ранее, я же выехал с депутацией по железной дороге и вез заказанную для наследника форму полка. Мы едва не опоздали к назначенному времени вследствие неисправности пути. На станцию за нами были высланы кареты. Мы поехали во дворец. Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы вошли в зал. Государь в сопровождении наследника появился перед нами. Я представил государю офицеров, и он непринужденно, словно давно их знал, повел с ними беседу. Потом все вышли на крыльцо, чтобы осмотреть коня и сфотографироваться.
— А между тем в Царском Селе в свое время учился Пушкин. Всего-навсего... — задумчиво произнес художник.
Врангель сделал длинную паузу. Крушинский поднял голову и вздрогнул: прожигая его, горели зияющей чернотой глаза барона...
— Надеюсь, господин Крушинский, — вкрадчиво проговорил Волобуев, — что одного сеанса вам вполне достаточно? Его превосходительство и без того был безмерно щедр, уделив вам столько внимания и драгоценного времени. В остальном вам следует всецело положиться на творческую фантазию, коей вам не занимать.
— Да, да, — как в бреду поддакнул Крушинский. — Мне вполне достаточно...
— Вас проводят, — сказал Волобуев и вызвал дежурного офицера.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Квартира, которую полковник Волобуев столь возвышенно и торжественно возвел в ранг мастерской, вызывала у Крушинского явное неприятие. Ему нужен был простор для глаз и для мысли, а в комнатах, как бы наперекор этому желанию и для того, чтобы непрестанно отвлекать его от мольберта и вызывать неутихающее раздражение, сгрудилась старинная, с вычурной резьбой и инкрустацией, мебель: столы, шкафы, комоды, трельяжи, этажерки, кресла, торшеры. Одна стена в гостиной была увешана картинами, исполненными в дурном, слащавом вкусе, но зато обрамленными тяжелыми, с позолотой, рамами. Другая была сплошь занята многочисленными фотографиями, на которых запечатлелась, видимо, вся династия хозяев дома — от младенческого возраста до глубокой старости. На третьей висели музыкальные инструменты — гитара, мандолина, скрипка и две балалайки. Занимая едва ли не треть гостиной, громоздился рояль. Огромное венецианское окно было задернуто тюлевыми, потемневшими от пыли гардинами и шторами из малинового бархата, а потому почти не пропускало света. Создавалось впечатление, что хозяин дома — то ли сбежавший подальше от фронта купец, то ли какое-то значительное лицо или же местная знаменитость, попавшая в немилость к властям, — незримо обитает в доме и не дает Крушинскому отбросить навязчивую мысль о том, что за ним неотступно и пристально следят.
И потому в первые дни своего пребывания в этом доме он испытывал явную неприязнь к Анфисе Дятловой, зная, что она приставлена к нему Волобуевым. Подозрение Крушинского усиливалось еще и тем, что Анфиса появлялась всегда неожиданно, в разное время, почти неслышно ступала по половицам, будто подкрадываясь к нему, чтобы узнать, что он делает. Двери она открывала плавно, бережно придерживая их, чтобы они не хлопали и не скрипели.
«Что-то не похожа она на казачку, — размышлял Крушинский. — Те как шальные — скорые, дерзкие, а эта тихая, скромная, молчаливая...»
Анфиса, придя в дом, ни секунды не оставалась без дела, хлопотала по хозяйству: готовила еду, прибирала в комнатах, стирала белье, делая все это без лишней суеты, степенно и размеренно, своими действиями как бы придавая особую значимость работе. При этом она вела себя так, словно находилась в доме одна. Лишь изредка украдкой она бросала в сторону художника строгий мимолетный взгляд, и если ему удавалось перехватить его, то тут же стремительно отводила глаза.
Крушинский работал медленно, особенно после того, как увидел Врангеля вблизи и говорил с ним. Срок, который ему определил Волобуев для написания портрета, уже истекал, а художник все никак не мог настроиться на работу. Эскизы и наброски выходили из-под его кисти совсем не такими, какими их ожидал Волобуев. И не только потому, что душе Крушинского были милее пейзажи, но главным образом по той причине, что всякий раз, пытаясь выразить в эскизе самые характерные черты Врангеля, он с чувством смятения и страха убеждался в том, что на холсте возникает не живое лицо, а нечто мертвое, напоминающее человеческий череп с его пустыми, бездонными глазницами и безжизненным оскалом лошадиных зубов. И потому выражение лица Врангеля выходило не таким, каким от него ожидали — исполненным величия и торжественности; на холсте Крушинского он был похож на пигмея, старающегося выпятить свою мнимую значительность и скрыть адское тщеславие и звериную жестокость. Сколько бы Крушинский ни напрягал свою волю, он не мог пересилить себя, потому что перед его глазами все время возникал не тот Врангель, которого ему столь усердно и ликующе рисовал Волобуев, а тот, который с леденящей надменностью, величием и пугающей мрачностью сидел в ложе театра, а затем в ресторане гостиницы «Палас» и, наконец, в салон-вагоне.
Беседа с Врангелем привела художника к мысли о том, что на стороне этого барона — такое же средоточие зла и несправедливости, которое заключено в нем самом, и потому чувство неприязни к нему и Волобуеву захлестывало его.
Оставшись один, Крушинский имел возможность размышлять. Он пытался понять, может ли Врангель и те силы, которые за ним стоят, победить в этой яростной и непримиримой схватке. И не находил точного ответа, считая, что добро и зло всегда воюют между собой и победа остается то за злом, то за добром.
Крушинский был противником любой войны, что же касается войны гражданской, в которой целая нация разделилась на два непримиримых лагеря, в которой сын идет против отца, отец против сына, брат против брата, сестра доносит на сестру, а мать проклинает сына, — такая война казалась ему явлением, противоречащим разуму, добру и справедливости. Его сознание никак не могло постигнуть классового характера войны, а идея о том, что война может быть справедливой и несправедливой, не воспринималась им, ибо он предавал анафеме все войны, любое убийство человека человеком. И если бы его спросили, в каком стане — красных или белых — он намерен определить свое место, то он был бы совершенно искренне удивлен уже самой постановкой вопроса. Сама революция отпечаталась в его сознании, как подобие смерча, и, зная по собственному опыту, что укрыться от смерча невозможно, он испытывал ко всему происходящему трепетное, переходящее в чувство тревоги волнение.
И все же художник понимал, что за Врангелем, Деникиным, Колчаком и иже с ними — то жестокое, несущее оковы рабства прошлое, которое они пытались отстоять и сохранить, и что красные, напротив, пытались похоронить это прошлое и на его обломках построить нечто совершенно новое, пока непонятное ему. Крушинский не мог примириться лишь с самим методом осуществления этих социальных задач — насилием. Он был убежден, что все новые социальные изменения можно утвердить с помощью добра, убеждения и воспитания людей, их нравственным самоусовершенствованием.
Для Крушинского Анфиса скоро стала вроде тени, от которой невозможно избавиться и к которой столь же легко привыкнуть, как человек привыкает к самому себе. Занятый своими делами, Крушинский старался не смотреть на нее. Для него она долгое время просто не существовала. И вдруг все изменилось. Как-то Анфиса пришла раньше обычного, негромко поздоровалась и, подойдя к окну, отдернула штору. Минуту она стояла, не двигаясь, и смотрела на улицу. Солнечный луч, свежий, еще ранний, несмелый, падал на ее лицо, и Крушинский, взглянув на девушку, вдруг обомлел: перед ним возникло видение, в котором воплощалось чудо русской женской красоты — той, что заставляет учащенно биться сердце и забыть обо всем, что существует на свете — солнце, лесе, степи, луне, людях, — обо всем, кроме одной-единственной...
В первое мгновение он не поверил своему чувству. Но все пристальнее вглядываясь в какие-то новые, не замеченные им прежде черты Анфисы — легкую улыбку, светившуюся в жгучих глазах, полуоткрытые яркие губы, таящий в себе загадочную недосказанность взгляд, — во всем этом он открыл для себя новый мир — мир совершенства, гармонии и обаяния.
«Вот с кого надо писать портрет», — окрыленно подумал он, и его передернуло от того, чей портрет он пишет сейчас. И тут же пришла мысль о том, что Врангель, чей облик он обязан запечатлеть на холсте, — то зло, которое несовместимо с красотой и несет ей верную гибель. И он ощутил в себе уже не поддающуюся былым колебаниям решимость исполнить то, что уже исподволь зрело в его душе, но не могло осуществиться, потому что не способно было преодолеть мучительные сомнения и колебания. То ему казалось, что его замысел слишком наивен и, будучи исполнен в натуре, может вызвать у окружающих лишь чувство недоумения и иронии по поводу странной наивности художника. То он утверждался в выводе, что тот портрет, который он задумал, будет страшнее пули и виселицы, мучительнее пыток и казни. И у людей откроются глаза на злодеяния Врангеля и его свиты.
Как на чаше весов колеблются предметы с равным весом, так и в душе Крушинского нескончаемо колебалось решение, и он никак не мог сделать окончательный выбор. Но в то памятное утро, когда Крушинский увидел Анфису в каком-то новом свете, он отсек для себя все колебания раз и навсегда.
Прошло еще несколько дней, и Крушинский понял, что не может не заговорить с Анфисой, и то будет не просто ничего не значащий, будничный разговор, а его исповедь перед ней. Он обязан выразить свое отношение к ней, пусть она знает все и не остается в неведении. Решившись на это, Крушинский с жаром принялся за работу. И сам удивился тому, что портрет,
тот самый, который он задумал, пошел! Дело сдвинулось с мертвой точки, и понадобилось всего три дня, чтобы его завершить. Вглядевшись в изображение Врангеля, Крушинский испытал истинное удовлетворение и заранее представил себе, как этот портрет воспримут Волобуев и все окружающие его господа, а главное, как разъярится сам Врангель! Вот это будет фейерверк! «В нем ты сгоришь и сам», — скорбно и как-то отрешенно подумал Крушинский, с разных сторон подходя к портрету и внимательно рассматривая его.
Наконец он снял его с мольберта и, оглядываясь вокруг, будто желая убедиться, не следят ли за ним, засунул его за широкую спинку громоздкого дивана. Тут же натянув на подрамник чистый холст, он закрепил его на мольберте и принялся за новый портрет Врангеля, теперь уже обычный. Нанося кистью мазки на холст, он то и дело ловил себя на том, что не может сдержать смеха, душившего его. «Вот уж я вас повеселю! — со злорадством думал он. — Я вам представлю нового монарха!»
Крушинский и сам поражался тому, что прийти к окончательному решению он смог не в результате абстрактных умозаключений, а лишь тогда, когда его озарила неповторимая красота Анфисы. Он пытался найти ощутимую связь между этим озарением и решимостью изобразить Врангеля таким, каким он его увидел в натуре, и никак не мог уцепиться за эту незримую, но столь прочную нить. Видимо, просто понял: эта красота, как и красота всей земли, и добро, которое она призвана нести людям, вопиют о том, чтобы их защищали, берегли, лелеяли и не отдавали на растерзание тем, кто несет с собой гибель.
Готов был уже и второй вариант портрета, когда Крушинский решился заговорить с Анфисой. Он долго смотрел на нее, сидящую в кухне на табуретке, так долго, что она почувствовала его пристальный взгляд и обернулась.
— Боже мой! — с дрожью в голосе сказал Крушинский. — Боже мой!
— Чего это ты? — испугалась Анфиса.
— Смотрю и не верю. Не могу поверить.
— Да об чем ты?
— Не верю, что природа способна сотворить такое.
Анфиса изумленно смотрела на него, все еще не понимая истинный смысл того, что он говорит.
— Такое чудо, как вы... — едва слышно прошептал Крушинский. Впервые в жизни он осмелился сказать женщине такие слова.
Смуглые щеки Анфисы вспыхнули, будто по ним полыхнул отсвет молнии.
— Тю на тебя! — смущенно отмахнулась она. — Баба и баба. А знаешь, какой у меня норов? Любому мужику рога обломаю. Окромя моего Тимоши, никто такого притеснения не выдюжит.
— Вы замужем? — едва не простонал Крушинский.
— А то как же? Пять годков уже.
— И вы любите мужа? — вырвалось у Крушинского.
— Кабы не любила, разве жила?
— Куда же вы так торопились?
— Как это куда? На кудыкину гору! Нешто в девках сидеть? У девки доля ясная и понятная — не зевай а то проворонишь.
— Неужели вы на все это так просто смотрите, все будто так и надо?
— Чудак человек, на земле живем, не на небе! А земля грешная, не зря бог окромя рая ад при себе держит. А раз земля грешная, — значит, и мы не без греха. Ты вот на меня уставился, а, чай, знаешь, что это грех, потому как я — мужняя жена. Ты в зеркало на себя глянь — на лице-то все написано, все задумки твои видать.
— Нет, нет, что вы... Вы заблуждаетесь. И зачем же так... обнаженно... Я красотой любуюсь. Красота — это высшее из чудес на земле.
— Да уж чудо! — фыркнула Анфиса и стала поспешно накрывать на стол. — Тебе обедать пора. А то на голодный желудок — и такие думки. Ешь, поправляйся. Вон какой худющий! А я пойду, мне пора.
— Останьтесь, прошу вас! — Просьба была им высказана столь трогательно и беспомощно, что Анфиса рассмеялась:
— Ну и чудной! То зверем смотрел, то не отпущаещь.
Крушинский терялся в догадках, что с ним произошло. Поначалу при встречах с Анфисой ему даже хотелось обидеть ее, оскорбить, прогнать с глаз долой. Уже то, что ее прислал Волобуев, вызывало в нем судорожное чувство гнева. А сейчас он не мог и представить, что она уйдет.
Он попытался неловко обнять Анфису, но она с женским проворством оттолкнула его, и он, пошатнувшись, задел плечом мольберт. Портрет зашатался и остался висеть перекошенным.
— Рисуешь? — усмехаясь, спросила Анфиса. — Вот и рисуй себе, а рукам волю не давай.
И она ушла, все так же независимо и гордо держа голову на высокой, как у лебедушки, шее.
На другой день она подошла почти вплотную к мольберту, присмотрелась к портрету.
— Никак, ты другой портрет рисуешь?
Крушинский вздрогнул: недоставало еще, чтобы она догадалась о его замысле.
— Нет, нет, это тот самый, — поспешил он заверить ее, думая о том, где бы понадежнее запрятать тот,
дерзкий.
— Да ладно уж, я в твоих делах вовсе не разбираюсь, — с равнодушием, в котором Крушинский уловил оттенок притворства, сказала Анфиса. И вдруг решилась: — А ты бы сделал для меня, что мне нужно, если я тебя попрошу?
— Ну конечно! С превеликой радостью! — оживился Крушинский.
— А ты не торопись, сердешный, не дюже шибко стребай, а то споткнешься, — охладила его пыл Анфиса, — И не послухал еще, чего я просить буду, а уже поскакал.
— Но я же ради вас...
— Да хоть ради кого! Я еще хворостину не выломала, а ты радуешься. Такие быстро тянут, да мелко пашут.
— Напрасно вы сомневаетесь во мне. Приказывайте, а я вам докажу. Клянусь вам...
— Ну зачем сдались твои клятвы? Не люблю я таких слов. Кто легко словами кидается, тот в делах не горазд. Ну, да бог с тобой, будем считать, что мы с тобой ни об чем серьезном не гутарили.
— Но, Анфиса, честное слово, вы меня заинтриговали. Теперь мне покоя не будет. Раз уж начали — договаривайте до конца. В противном случае я в предположениях, как в тумане, заплутаюсь. Я и сам дела жажду, настоящего дела.
— Какого еще дела? — насторожилась Анфиса. — Вон оно, твое дело, — кивнула она на мольберт и с улыбкой, в которой было трудно уловить насмешку, добавила: — Дюже хорошо ты малюешь. Аж завидки берут!
И она неторопливо проплыла к двери, прикрыв ее за собой, как всегда, бесшумно.
«Сколько в ней противоречий, сколько контрастов! — изумленно подумал Крушинский. — И не так уж проста, как ты считал раньше. Может быть и строптивой, и дерзкой, а ходит, как пава, как бестелесное существо, точно призрак. Не женщина, а сплошная загадка!»
Он долго бродил из комнаты в комнату, натыкаясь на стулья, не зная, куда себя деть. Скорее бы прислал за ним Волобуев! Но он, как об этом ему сообщила Анфиса, уехал на передовую и, по всему видать, забыл о художнике.
Крушинский подошел к мольберту, схватил ненавистный портрет и швырнул его на пол.
«А все же я буду писать Анфису! — решил он. — И тогда — прощай пейзажи! И неужели будет забыт Левитан? Не знаю. Знаю одно: сколько ни создам картин, главной из них будет портрет Анфисы...»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Врангеля неожиданно вызвал к себе в ставку Деникин, и Ксения загрустила, ощутив неуемную потребность излить свою душу Анфисе. Отужинав, она зазвала ее к себе и уговорила остаться ночевать в светелке.
— Боюсь я одна, Анфиса, — обнимая подругу за плечи, растроганно сказала Ксения. — Ночами не сплю. Кошмары снятся. То в пропасть лечу, то гонятся за мной красные. Крикнуть хочу, на помощь позвать, а голоса нет. Ложись со мной.
Анфису внутренне передернуло. Уж очень ей не хотелось ложиться в ту самую постель, в которой проводил ночи вместе с Ксенией Врангель. Но Ксения не отстала, пока не добилась своего.
«Ладно уж, — подумала Анфиса, — будет подходящий случай поговорить с ней». А говорить было о чем. Не далее как вчера связной от Ильи Шафрана передал ей задание: во что бы то ни стало задержать бронепоезд хотя бы на два часа, чтобы он не смог оказать огневой поддержки казачьим частям, засевшим в станице. И совет, как лучше это сделать.
Постель, на которой возлежала Ксения, была роскошной. Пышно взбитая перина, шелковые пододеяльники, огромные, отборного лебяжьего пуха подушки, белоснежные, накрахмаленные до холодного хруста простыни — все располагало к неге, вызывало чувство блаженства.
Анфиса быстро разделась, пригасила ночник и, как в пропасть, упала на пуховую подушку. Ксения тотчас, как это делают маленькие дети, боязливо прижалась к ней, и Анфиса ощутила на своей щеке ее горячее, возбужденное дыхание.
— Спасибо тебе, Анфисушка, — замурлыкала Ксения, — теперь мне вовсе не страшно. Хоть одну ночку посплю спокойно.
— Да чего ты пужаешься? — удивилась Анфиса. — У дверей часовой стоит.
— А все равно страшно, — жалобно пролепетала Ксения. — А вот с тобой — ничуточки. В тебе есть что-то такое, что располагает. Ты такая сильная, надежная...
— Боягузка я, — возразила Анфиса, с неприязнью чувствуя на своих плечах холодные нервные пальцы Ксении. — Дюже боюсь. Почище тебя.
— Нет, нет! — запротестовала Ксения. — А какие у тебя, милочка, прелестные формы, какая ты вся упругая, тебя даже не ущипнешь. По сравнению с тобой я просто малявка. И что во мне привлекательного нашел Петр Николаевич, ума не приложу!
— Не бреши, Ксюша, — горячо возразила Анфиса, — не гневи бога. Красивая ты, аж глазам больно. И фигурка точеная, мужики в этом деле толк знают. Куда мне, простой бабе, до тебя!
— Скушно мне стало жить, Анфисушка. Петр Николаевич часто в отъезде...
На высокие окна купеческого дома, в котором жила Ксения, тяжелым плотным пологом навалилась черная ночь. Где-то за печкой без умолку трещал сверчок. Во дворе лениво побрехивала собака. На окраине города, как удары пастушьего кнута, сухо щелкали выстрелы. Женщины боязливо прислушивались.
— А хочешь, Ксюша, развеем мы твою скуку? — загадочно, стараясь разжечь у Ксении любопытство, спросила Анфиса, воспользовавшись тем, что Ксения на время приумолкла.
— Нет, это невозможно, — разочарованно отозвалась Ксения.
— А вот и возможно, — уверенно возразила Анфиса. — Что мы с тобой видим в жизни хорошего? Кругом смерть, кругом кровушка льется. Сгинем мы с тобой в одночасье. Пропадет ни за понюх табаку наша цветущая молодость, и не помянет никто. Да еще у тебя хоть Петр Николаевич есть, а я одна как перст. Если бы не ты — давно бы на тот свет унеслась. Пора уж нам повеселиться; что у нас, на это правов нет, не заслужили?
— А как? — изнывая от нетерпения, поторопила ее Ксения.
— А вот послухай, — уже твердо, как о чем-то, не подлежащем сомнению, сказала Анфиса. — Погодка нынче дюже справная, на фронте вроде бы поутихло. Твоего милого нет. Вот и давай сами похозяйнуем. Однова на свете живем! Потешим себя вволюшку.
— Да не томи, раскрывай свои карты.
— Погоди трошки, не погоняй. Дай слово, что будешь согласная.
— Ну, разумеется, не откажусь, впрочем, если ты предложишь что-то укладывающееся в рамки возможного и благоразумного.
— Укладается, дюже укладается. Послухай меня. Ты же знаешь, я тутошняя. Мне Кубань — матерь родная. Я здесь каждый кустик знаю, каждый камушек под моей ногой хрустел. Такое есть местечко — голова кругом пойдет!
— Природа меня мало волнует, — зевнула Ксения.
— А ежели на той природе, которая тебя не волнует, — скатерка, а на ней вина крымские да закуска кубанская? А вокруг той скатерки — офицерики молоденькие? Да музыка играет, солнышко светит, а потом и месяц ясный взойдет, тогда как?
— О, это уже представляет интерес, — оживилась Ксения. — Но как же всему этому дать практический ход?
— А дюже просто, — уверенно сказала Анфиса. — Ты знаешь капитана Никандрова?
— Этого несносного усача-таракана?
— Зато какой сильный мужик! И дюже охоч до баб.
— Нет, Анфиса, даже и говорить на эту тему не хочу.
— Ну, тогда... Не знаю, кого тебе и предложить. Может, поручика Иванникова?
— Размазня и недотепа.
— Вот беда с тобой! Погоди, погоди, а ежели полковника Чаликова?
— Командира бронепоезда?
— Ну да. Ты его знаешь?
— Еще бы не знать. Только он не в моем вкусе. Кривоногий, лысый, да еще и прихрамывает. Пытался объясняться в любви, но, узнав о моих отношениях с Петром Николаевичем, счел благоразумным ретироваться.
— Да бог с ним, с Чаликовым! — не сдавалась Анфиса. — Эка беда, что он кривоногий! Он же кавалерист, а у них ноги завсегда такие. Я как на него гляну — меня аж в дрожь кидает. Всем мужчинам мужчина! У него не кровь — кипяток!
— Да, действительно, когда он на меня смотрит — глаза горят.
— Вот видишь! А какие у него офицерики! Один другого красивше, как на подбор. И ежели ты Чаликова хоть одним только пальчиком к себе поманишь, он и сам как собачонка прибегит, и щенят своих приведет. Выбирай, кого твоя душенька захочет.
— Но как же все это поумнее сделать? Чтоб до Петра Николаевича, избави господь, не дошло?
— Так если ты согласная, я тебе подсоблю.
Ксения, предчувствуя нечто необычное, приподнялась на кровати, воскликнула:
— Анфисушка, ты чудо! Дай я тебя расцелую! Ведь мы с тобой совсем закисли. У Петра Николаевича все дела и дела, я его очень хорошо понимаю, сочувствую, он же полководец, но ведь я тоже человек. Не хотела я тебе признаваться, да уж откроюсь: не одна я у него, Анфисушка, мне верные люди поведали. Так отчего я должна влачить участь рабыни? Но только все надо сделать, чтоб комар носу не подточил. Иначе он меня как собачонку вышвырнет.
— Так неужто мы, бабы, мужика не обхитрим? Еще как обхитрим! И сделаем мы вот так, — переходя на шепот, сказала Анфиса. — Ты напишешь Чаликову записку: так, мол, и так, желаю с вами провести денек на берегу Кубани. А удастся, так и вечерок наш будет. А чтоб злые языки не болтали, прихватите с собой своих офицеров.
— Это прекрасно! — захлопала в ладоши Ксения. — Пикник, именно пикник! Чаликов согласится, я уверена. А там хоть трава не расти!
И женщины, найдя общий язык, договорились, не теряя времени, действовать. Анфиса взялась утром сходить на железнодорожную станцию и вручить Чаликову записку от Ксении. Та же брала на себя заботу об устройстве пикника с помощью знакомого офицера-интенданта.
В ответ на откровения Ксении Анфиса рассказала ей о своем разговоре с Крушинским.
— Зачем ты так с ним? — упрекнула ее Ксения. — Грубо, бесцеремонно. Ты же совсем не такая. Ты нежная, добрая, чуткая,
— Так он прицепится как репей, — засмеялась Анфиса. — Хоть таким манером трошки отпугну. Нехай соображает, какой зверь в моем обличье сидит.
— Ох, Анфиса, этим мужчину, если он влюблен, не отпугнешь.
— И то верно гутаришь. Разве ж кобеля палкой отгонишь? Что я тебе, Ксюша, скажу... Нравится он мне. Дюже нравится. А только мужу своему законному не могу изменить.
— Глупые условности! — фыркнула Ксения. — Ты думаешь, что твой муж — святой? Безгрешных мужчин на свете не бывает.
— Да знаю я, — потупилась Анфиса. — Им лишь бы юбка, поманит — побегит, как скаженный. Только мой не из таких. У нас с ним любовь.
— Не верю я ни в какую любовь! — резко оборвала ее Ксения. — Есть только отношения. Все остальное придумали поэты.
Анфиса не стала с ней спорить и лишь согласно кивала, хотя всем своим существом восстала против цинизма Ксении.
— Я тебе, Ксюша, так завидую! Ты у нас как у бога за пазухой. Полковнички вокруг тебя вьются.
— Да, Анфиса, мне на судьбу роптать грех. Петр Николаевич влюблен в меня, на руках готов носить. Смотри, какие серьги он мне подарил — с бриллиантами.
Анфиса взяла серьги в ладонь бережно, боязливо, будто опасалась раздавить их своими сильными пальцами. Даже в полутьме (она прибавила в лампе фитиль) они сверкнули, как крошечные молнии.
— Красотища какая! — ахнула Анфиса. — Счастливая ты! Мне таких сроду не видать.
— Сама виновата, что свое счастье упускаешь. Гордыню не хочешь смирить. Не бойся, не убудет. Мы же на войне. Нас же могут убить, Анфиса!
— Да когда же эта война треклятая кончится? — жалобно проговорила Анфиса.
— А по мне — хоть все время война! — задорно откликнулась Ксения. — Я люблю жизнь бурную, взрывчатую, яркую, как фейерверк! Во мне цыганский дух, Анфиса! Кочевать люблю, гнезда уютные ненавижу, там дремота, спячка, болото!
«В окопы бы тебя, под пули, да вшей кормить, была б ты не такая справная да гладкая. И гутарила бы по-другому», — зло подумала Анфиса, а вслух сказала восторженно:
— И то! А я так и вовсе: без войны — кто? Корову доить да мужнины портянки стирать. Борщ варить да детишек рожать. Муторная жизня. А еще мне война потому люба, Ксюша, что она меня с тобой свела.
— Без войны — трясина, Анфиса! А сейчас — ветер, выстрелы, страсти, свобода духа и тела. Помнишь, как мы Петра Николаевича спасли? Сердце поет, как вспомню!
Они долго еще не могли заснуть, обсуждая, как умнее тайно провести предстоящий пикник. Ксения преисполнилась решимости осуществить этот замысел как можно скорее. Дело было за Чаликовым.
Рано утром Анфиса с запиской Ксении отправилась на станцию и быстро нашла бронепоезд, мрачно застывший между двумя составами теплушек. Казалось, эта тяжелая и грозная громада, отливающая холодной пугающей сталью, мирно и устало дремлет на рельсах и ровным счетом никому не угрожает. Капли росы на темной броне, сверкавшие на утреннем, еще нежарком солнце, усиливали это мирное впечатление от грозной машины. И только стволы пушек, хотя и зачехленные, настороженно и хищно выставленные из броневых башен, напоминали о том, что бронепоезд вот-вот загрохочет по рельсам, начнет изрыгать огонь и смертельные снаряды, косить наступающие цепи красных из захлебывающихся яростью пулеметов.
Часовой, вразвалку ходивший вдоль состава, остановил Анфису. Солдат был высок, шинель сидела на нем кургузо, доставая лишь до колен, и оттого он казался совсем нестрашным. Анфиса приветливо заулыбалась ему, словно встретила хорошо знакомого ей человека.
— Куда путь держишь, сестрица? — Сияющее лицо Анфисы настроило часового на мирный лад. — Здесь посторонним не велено.
— Та разве ж я посторонняя? — задорно вскинула голову Анфиса. — Сам видишь — сестра милосердия. Как раны вашему брату перевязывать, так не посторонняя. А если хочешь знать, так я к самому полковнику Чаликову.
— А нашим братом, значит, брезговаешь? — не без ехидства спросил часовой, пронзительно нацелившись на Анфису въедливыми, колючими глазками.
— И чего мелешь? — резко оборвала она его. — Не ровен час, поранят тебя, так не пужайся, перевяжу.
— Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему.
— Ну, чего забухтел? — миролюбиво остановила его Анфиса. — Недосуг мне. Я к полковнику Чаликову по важному делу посланная. И ты лучше скажи, где мне его поскорей найти.
— Их высокоблагородие находятся сей минут на станции, — важно ответил часовой. — Должно, в самый раз какаву принимают.
— Вот и спасибочки. Побегу, а то мне влетит.
— Так опосля, как управишься, ко мне заверни. Сменюсь я, погутарим. — Часовой хитро подмигнул Анфисе.
Анфиса бегом устремилась к станции.
С полковником Чаликовым Анфиса едва не столкнулась, когда он стремительно, хотя и прихрамывая, выходил из кабинета начальника станции. Полковник был вертляв, нескладен, но голову держал по-орлиному гордо. На сестру милосердия, шедшую ему навстречу, он, занятый собой и своими мыслями, не обратил никакого внимания.
— Аркадий Аристархович! — громко окликнула его Анфиса, будто уже давно знала полковника и удивлена была тем, что тот проходит мимо нее, не замечая. Она понимала, что чем смелее будет действовать, тем успешнее пойдет ее разговор с Чаликовым. — Здравствуйте! Меня понудило к вам обратиться крайне важное и неотложное дело.
Анфиса с трудом отгоняла от себя казачьи словечки, так и липнувшие к языку, и стремилась изо всех сил копировать изысканные фразы Ксении.
— Ко мне? У вас? — холодно и надменно окинул ее взглядом с головы до ног Чаликов, сделав ударение на словах «у вас». — Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Однако я слушаю вас.
— Простите, — замялась Анфиса, пытаясь кокетничать, зная, что это получается у нее совсем не так, как у Ксении. — Простите, но дело это такое щепетильное, что я не могу вот так, на ходу...
Чаликов между тем успел хорошенько рассмотреть Анфису и помягчел.
— Готов выслушать вас, мадемуазель, — решив не придавать значения тому, что перед ним обычная сестра милосердия, со всей вежливой предупредительностью произнес Чаликов, покорно склонив голову. — Прошу вас в кабинет.
Распахнув тяжелую дверь, Чаликов галантно пропустил Анфису. За громадным столом восседал массивный человек в форме железнодорожника. Увидев Чаликова, он вскочил с кресла, потеряв всю свою начальственную величавость.
— Но я хотела бы... — замялась Анфиса, загадочно глядя на полковника. — Мне велено говорить с вами только с глазу на глаз.
— О, разумеется! — Полковник постарался придать своему баритону мелодичное бархатное звучание.
— Разрешите... С вашего позволения... — суетливо, скороговоркой выпалил начальник станции, стремительно, насколько позволяла громоздкая, тяжеловесная фигура, исчезая ва дверью.
Чаликов изящным жестом указал Анфисе на стул и, подождав, пока она сядет, расположился напротив.
— Я весь внимание, мадемуазель, — со значением произнес Чаликов, напряженно всматриваясь в лицо Анфисы и часто моргая прищуренным глазом, в то время как другой глаз спокойно, почти недвижно, выжидательно уставился на нее. Анфиса нарочито помедлила, испытывая терпение Чаликова, а затем негромко, как бы с трудом подбирая слова, сказала:
— Я к вам с поручением от Ксении Николаевны Варенцовой-Гнедич.
Чаликов от неожиданности привстал на стуле, снова сел, но по холеным рукам его, которые неспокойно ерзали по столу, Анфиса поняла, что это известие его изрядно взволновало.
— От Ксении Николаевны? — переспросил Чаликов. В голосе его послышалась радость, которую он старался приглушить, но не сумел. — Надеюсь, она в добром здравии?
— Более того, она прекрасно выглядит! — в тон ему ответила Анфиса. — Так ходуном и ходит. Да она сама вам написала, велела передать вам как можно шибче.
— Шибче? — оторопев, переспросил Чаликов.
— Простите, быстрее, — смущенно поправилась Анфиса, мысленно казня себя за то, что никак не может обойтись без привычных словечек.
Анфиса, как нечто драгоценное и хрупкое, протянула Чаликову конверт, от которого повеяло запахом ландышей, и просияла солнечной улыбкой, как бы и сама предвкушая ту приятность, которую ощутит полковник, едва начнет читать письмо.
Чаликов торопливо, сгорая от нетерпения, вскрыл конверт и припал глазами к плотному листку бумаги, на котором ровным, почти каллиграфическим почерком было вы ведено:
«Аркадий Аристархович! Настал момент, когда я, хотя и призываю на помощь все свое благоразумие, не в силах более таить от Вас нетерпеливое желание встретиться с Вами. Уже давно, с того дня как впервые увидела Вас, сдерживаю себя от того, чтобы мои откровения и тайна моей души стали известны Вам. Но вчера, страдая от тоски, я вновь перечитала «Евгения Онегина», и особенно прелестное письмо Татьяны, и поймала себя на мысли, что не смогу остановить себя, не последовав ее примеру, столь смелому, но и столь же целомудренному. И ежели Вы сами не подаете к тому повода, то я, даже рискуя вызвать Ваше осуждение, решаюсь объясниться первой с той степенью доверительности, которая, надеюсь, останется между нами. Смею рассчитывать на понимание Вами того, что я остаюсь безраздельно преданной человеку, которого боготворю, и что мое искреннее расположение к Вам не нарушит нынешней ситуации и Вы должным образом оцените мое чувство и не истолкуете превратно это письмо. Я ни за что не решилась бы на столь небезопасную для меня, как, впрочем, и для Вас, откровенность, если бы не знала о Ваших чувствах ко мне и о том страдании, которое, как я догадываюсь, Вы испытываете, не находя с моей стороны ответного зова. С тем чтобы наши желания не остались лишь красивой, но несбыточной мечтой, приглашаю Вас на пикник, который имеет быть завтра в полдень на берегу Кубани, близ хутора. Место избрано с таким расчетом, чтобы наша встреча происходила на лоне природы, чарующей своей красотой. Дабы это рискованное предприятие, на которое я решаюсь лишь ради Вас, не стало предметом злословия и возможных подозрений, приезжайте не один, а вместе со своими офицерами, что будет и веселее, и безопаснее, а главное, лишит возможных доносчиков всяческих предосудительных доказательств. Прошу Вас настоятельно и о том, чтобы Вы не откладывали ни на один день нашего замысла, надеюсь, Вы и сами догадаетесь, в силу каких причин. Обстоятельства ныне очень благоприятны, и кто знает, не изменятся ли они вскорости совершенно в противоположном направлении. Ксения.
P. S. Письмо это передаст Вам моя верная подруга Анфиса Григорьевна Дятлова, на которую Вы можете полностью положиться. Ей же сообщите и Ваше решение, которого я жду с нетерпением и трепетом. Письмо же ради моего и Вашего спокойствия верните Анфисе Григорьевне».
По мере чтения письма безмерная радость горячими волнами окатывала Чаликова, он лишь сожалел о том, что до встречи с этой, по всему видать, доступной Ксенией нужно ждать еще целые сутки, в то время как он готов, бросив все дела, мчаться к ней незамедлительно.
«Да, да, — твердил он себе, — именно сейчас, когда барон в отъезде, мы и можем встретиться. Однако же какова фурия! Она влюблена в меня, в этом теперь нет ни малейшего сомнения. И как, бестия, продумала диспозицию! Если бы ее фаворит умел вот так же искусно разрабатывать план наступления».
Хотя Ксения и заверила его в письме о надежности Анфисы, Чаликов, памятуя о конспирации, не подал и виду, что совершенно ошеломлен таким неожиданным подарком судьбы. Он неторопливо, как бы в раздумье, и почти равнодушно свернул листки, вложил их в конверт и, слегка улыбаясь, сказал:
— Передайте милейшей Ксении Николаевне мой сердечный привет и скажите, что я вполне разделяю те мысли, которые она изложила в своем послании. А вас, Анфиса Григорьевна, я от всей души благодарю за столь умелое выполнение возложенной на вас миссии.
Чаликов говорил, а правый глаз дергался в нервном тике, делая его и без того свирепое лицо устрашающим. «Пбегит, куды он теперь денется? — радостно думала Анфиса. — Теперь ты в наших силках будешь трепыхаться, как суслик в капкане».
— Чрезвычайно польщен был лицезреть столь очаровательную посланницу от Ксении Николаевны, — встал со стула Чаликов.
— Спасибо, — расцвела Анфиса. — А письмецо вы, уж будьте так ласковы, возверните.
Чаликов неохотно протянул ей конверт, и Анфиса выскользнула за дверь.
Пока Анфиса была с визитом у Чаликова, Ксения отдала все необходимые распоряжения интенданту, и тот, прекрасно сознавая, что фаворитке барона лучше угодить, чем не прислушаться к ее капризам, подготовил все для того, чтобы пикник удался на славу. Скатерть-самобранку, полную вин, яств и цветов, расстелили на полянке под густой чинарой. Отсюда, с крутого каменистого берега, хорошо было видно далеко окрест.
Дни стояли еще по-летнему теплые, и только редкое золото листьев в зеленых кустарниках напоминало о том, что осень не за горами.
Ксения и Анфиса прикатили на пикник в фаэтоне. Едва кучер натянул вожжи, сдерживая нервных, горячих коней, как трое молодых офицеров, стоявших под чинарой, устремились к женщинам, помогли им сойти с фаэтона на землю. Все уже собрались и ждали лишь прибытия полковника Чаликова, чтобы начать пикник.
Ксения шумно выражала свое неудовольствие тем, что Чаликов позволяет себе опаздывать. Офицеры наперебой пытались успокоить ее, объясняя задержку полковника чрезвычайными служебными обстоятельствами.
— Я немедленно уезжаю! — гневалась Ксения. — Обещание, данное даме, принято исполнять неукоснительно. Это по меньшей мере неприлично!
Однако офицеры не дали ей говорить — подхватили на руки и понесли к чинаре. Ксения заливисто хохотала.
— Вы наша пленница, и мы вас не отпустим! — кричал долговязый прыщеватый поручик. По всему было видно, что он уже успел откушать «смирновской». — Неужто вы покинете общество, готовое преклонить перед вами колени? Ничто не может помешать нашему веселью!
— Вы правы, поручик! — согласилась Ксения. — И я повелеваю немедля начать трапезу, не ожидая тех, кто позволяет себе приехать после дамы.
На белоснежных скатертях, расстеленных под чинарой, громоздились жареные поросята и куры, форель, помидоры, огурцы, охапки пряной зелени, арбузы и дыни, гроздья винограда. Тут и там красовались бутылки «смирновской», крымских вин и шампанского.
У такого угощения трудно было сдерживать нетерпение проголодавшихся, жаждущих крепко выпить и плотно закусить молодых, отнюдь не страдающих отсутствием аппетита офицеров.
К счастью, на изгибе полевой дороги заклубилась пыль, и вскоре показались два всадника, скачущих во весь опор. То был Чаликов с адъютантом. Подскакав едва ли не к самой чинаре, Чаликов резко осадил взмыленного коня и ловко, как на джигитовке, спрыгнул на землю. Небрежно кинув повод подскочившему денщику, он стремглав, скрывая хромоту, бросился к стоявшей поодаль Ксении и, порывисто схватив ее руку в длинной — до самого локтя — белой лайковой перчатке, прильнул к ладони мокрыми губами.
— Сударыня, простите великодушно, я так спешил к вам, что одного коня запалил на полдороге, пришлось возвращаться, менять коня, и вот я перед вашими прекрасными очами... — Он выпалил все это гортанно, на едином дыхании.
Ксения изобразила на томном неприступном лице явное неудовлетворение запоздалыми извинениями полковника.
— Нет, нет, ваши оправдания не могут быть признаны сколько-нибудь удовлетворительными. И в наказание с этой минуты вы обязаны исполнять все мои капризы, даже если они вам покажутся неисполнимыми и сумасбродными. Таков вам мой приговор, Аркадий Аристархович.
Чаликов ловко изогнулся в поклоне, изобразив на свирепом лице полнейшую преданность и повиновение.
— Слушаюсь и счастлив быть вашим рабом! — пролаял он, и Ксения милостиво подставила ему локоть.
Чаликов повел ее к месту пикника. За ними дружно устремились все остальные.
Был полдень, и солнце слегка припекало. Тепло его, столь привычное летом, сейчас, в преддверии осени, было особенно ощутимым. Все вокруг — крутой берег реки, надежно укрытый перелеском, дальние поля, огромная раскидистая чинара — замерло, как в ожидании чуда. Ни один листок не трепетал, ни одной тучки не плыло в высоком холодном небе, ни один стебелек в степи не колыхался. Волшебная сила осеннего солнца принудила все застыть в томительном ожидании близкого перелома погоды. Даже река внизу, под обрывом, бравшая приступом обломки серых отполированных скал, приглушила свои обычно грозные звуки.
И только люди, собравшиеся под чинарой, казалось, бросили дерзкий вызов тому покою и умиротворенности, которыми была охвачена вся окружавшая их природа.
Тон восторженному восприятию всего происходящего задал сам Чаликов. Он громче всех произносил длинные, цветистые тосты в честь Ксении. Его панегирики охотно и бурно подхватывали офицеры. Анфиса то и дело подливала им «смирновской». Ксения, вся пунцовая от выпитого вина, воспринимала неумеренные восхваления как должное. Тщеславие распирало ее, ища выхода.
— Господа! — не выдержала она. — То, что говорил здесь Аркадий Аристархович обо мне, — это лишь попытка оценить меня как женщину. Но он совершенно уклонился от того, чтобы рассказать обо мне как о воительнице. Разумеется, ему неведома моя биография, и потому я расскажу о себе сама. Надеюсь, что это придаст господам офицерам доблести.
— Ура! — взвизгнул прыщеватый поручик, плотоядно нацелившись в Анфису полубезумными восторженными глазами.
Его возглас подхватили. Зазвенели бокалы, оживление достигло той точки накала, когда любое слово, порой даже глупое,
принимается со смехом и ликованием.
— Просим! Просим, рассказывайте! — вскричал все тот же поручик.
— Извольте, господа. Я откроюсь вам в самой счастливой поре моей жизни. Вы готовы мне поверить?
— Готовы! — нестройно рявкнули офицеры.
— Так вот, извольте. Перед вами — прапорщик из женского батальона смерти. Того самого, которым командовала храбрейшая из женщин прапорщик Бочкарева.
— Ура! — перебивая ее, снова провозгласил поручик, пристраиваясь рядом с Анфисой.
— Да, да, господа, я служила у Бочкаревой! Это удивительная женщина. Муж у нее погиб на германской, и она решила мстить за него. Шесть раз была ранена, заслужила солдатского Георгия. Кто из вас, господа, может сравняться с ней?
— Никто! — услужливо подхватил поручик. — Но в предстоящих боях...
— Докажите это в предстоящих боях, — с вызовом продолжала Ксения. — А пока что я выдам вам один секрет. По виду сия Бочкарева страшненькая, не приведи господь. Ни мужик, ни баба. И несмотря на это, многие офицеры пытались добиться ее благосклонности. Она же с презрением отвергала их, говоря, что, пока мы не одержим победу над немцами, она не подпустит к себе ни одного мужчину.
— Но простите, Ксения Николаевна! — бурно запротестовал Чаликов. — Я решительно против утверждения Бочкаревой. Ну что за вздор! Никто так не воодушевляет мужчин на подвиги, как женщины. Так было во все века.
— Вы могли бы добавить: красивые женщины, — подчеркнула Ксения. — У меня была задушевная подруга — Маргарита, дочь адмирала Скрыдлова. Вот это была красавица! С нее иконы писать. А она с винтовкой — в атаку.
— Выпьем же за женский батальон, но не батальон смерти, а батальон жизни! — провозгласил громадный, дотоле молчавший с мрачным, отрешенным видом офицер с погонами артиллериста.
Его предложение было встречено бурным ликованием.
— Господа, а какие были бои у Сморгони в июле семнадцатого! — все более распалялась Ксения. — Ранило Бочкареву. Взрывом снаряда контузило меня и Маргариту. Но мы не отступили. В тех боях было взято две тысячи пленных. Женщины показали мужчинам, как должно воевать.
— Виват! Слава! — пытаясь обнять и поцеловать Ксению, визжал поручик. — Ксения Николаевна... Ксюша... Выпьем на брудершафт!
— Вы же знаете историю войн, господа. Ни в одной воюющей армии не было женских батальонов, кроме русской.
Чаликов, пританцовывая вокруг Ксении на манер горячего коня, жадно ловил каждое ее слово.
— Да, господа, я подтверждаю — кроме русской! — заученно повторил он. — И я предлагаю не далее как завтра сформировать команду женского бронепоезда. И назвать ее «Прапорщик Ксения Варенцова-Гнедич».
— Прекрасная идея!
— Вашими устами, господин полковник, глаголет сама мудрость!
— Это будет самый непобедимый бронепоезд!
— Однако, господа, справедливо назвать такой бронепоезд «Прапорщик Бочкарева», — скромно возвестила Ксения. — Я польщена, но, право, не рискнула бы идти под команду полковника Чаликова.
— Я в полном замешательстве... Ну почему же... — растерянно заморгал длинными ресницами Чаликов. — Неужто я успел зарекомендовать себя как деспот?
— Властолюбие — вовсе не порок, — поспешила успокоить его Ксения. — Вы меня превратно поняли. Мое отношение к вам, Аркадий Аристархович, надеюсь, вам хорошо известно. — Ксения многозначительно посмотрела на Чаликова. — Просто мне жалко моих кос. Однажды, когда я вступила в женский батальон, мне их уже остригли. И вот теперь, когда они отросли, мне вновь предстоит такая же малоприятная процедура.
— Мы сделаем для вас исключение! — пылко заверил Чаликов. — Мы же не варвары, мы цивилизованные люди!
Мрачный артиллерист набычился, зло сверкнул большими, уже налившимися пьяным безумием глазами.
— Цивилизованные! — глухим, как из подземелья, басом, передразнил он. — А что же мы палим друг в друга из пушек? Вешаем, предаем огню, калечим души, насилуем женщин...
— Вы рассуждаете, Савельев, как большевик! — взвизгнул поручик. — Как вы смеете здесь, в присутствии прекрасных дам...
— Какие дамы! — фыркнул артиллерист. — Шлюхи со звериными инстинктами...
Поручик подскочил к Савельеву с кулаками.
— Готов стреляться с вами! — наливаясь яростью, подступил к нему Савельев.
— Поручик, прошу вас, не омрачайте наше веселье, — остановила его Ксения. — Капитан прав. Но то, что он сказал в наш адрес, для меня звучит как высшая похвала.
— Ксюша, — укоризненно шепнула ей Анфиса.
— Да, как высшая похвала! — с вызовом продолжала Ксения. — Для наших доблестных офицеров мы готовы быть и женами, и сестрами, и любовницами!
— Богиня! — облапил ее Чаликов.
Слова Ксении потонули в том беспорядочном шуме, который всегда сопутствует кутежу.
— А кто организатор пикника? — Поручик напрочь забыл о существе разговора и о капитане, переключившись на другую тему. — Как же можно, господа? На пять офицеров всего две дамы! Ведь это сущее надругательство над нашими чувствами и желаниями! Это просто надувательство, господа! И потому я заранее объявляю, что оставляю за собой Анфису Григорьевну!
— Только по жребию! — взревел адъютант Чаликова. — Пусть все решит жребий!
— Заткнитесь! — резко оборвала его Ксения. — Право выбора всегда принадлежало даме!
— Богиня! — с восторгом пролаял Чаликов, тяжелой рукой терзая ее талию. — Мудрейшая! Воплощение совершенства!
— Терпеть не могу комплиментов, — во всеуслышание заявила Ксения и, наклонившись к Чаликову, прошептала: — Я сейчас исчезну. Идите вслед за мной в рощу. Но не сразу. Выждите минут десять. И постарайтесь незаметно.
Она подошла к Анфисе и велела ей занять офицеров игрой в карты, а сама, улучив удобный момент, скрылась в роще.
Чаликов вскоре последовал за ней. Когда офицеры начали горячо пикироваться между собой, пытаясь соединить несоединимые мнения о женщинах, он юркнул в кусты. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он быстро пошел по тропинке в глубь леса.
Чаликов возбужденно дышал, душа его ликовала. Одно лишь тревожило, окутывая знобящим холодом горячее чувство радости: не дошло бы сие предприятие, избави господь, до Врангеля. Погоны сорвет! И тут же тешил себя успокоительной мыслью: подчиненные не осмелятся, не донесут, ибо расправа с ними будет короткой и беспощадной. О том же, чтобы молчали остальные, вероятно, позаботилась сама Ксения, иначе не решилась бы на такой шаг. Выпитое вино придавало Чаликову ту смелость, которая ломает препятствия, и он перестал думать о возможных неприятностях.
Еще издали он приметил яркое розовое платье Ксении и ее широкополую шляпу. Она устремилась навстречу проворно, раскованно, как бы по воздуху неся свою фигурку, изящными движениями рук отводя от лица ветви, склонившиеся над тропинкой. Чаликов подскочил к ней, судорожно схватил протянутую для поцелуя руку.
— Вы несете мне счастье! — единым выдохом выпалил он, пытаясь определить настроение Ксении по выражению ее лица.
Чаликов виртуозным движением расстелил на полянке свой плащ. Ксения, бегло взглянув на него, игриво усмехнулась:
— Однако, полковник, вы весьма предусмотрительны. Чувствуется немалый опыт. Но откуда вы взяли, что я решусь на столь безрассудный поступок?
— Простите... Но, Ксения Николаевна, я прочел ваше письмо... И сейчас вы сами позвали меня... И я отбросил прочь всякие сомнения...
— И решили, что я буду в вашей воле, — все так же лукаво продолжала Ксения. — Вы не слишком тонкий знаток женской души, Аркадий Аристархович.
Чаликов тупо, немигающе смотрел на нее, пытаясь понять и разгадать странный и причудливый ход ее мыслей.
Ксения, приподняв платье, уселась на плащ и, глядя на Чаликова снизу вверх, капризно сказала:
— Право, мне жаль вас, Аркадий Аристархович. Но жалость часто оборачивается разочарованием для того, к кому она обращена.
«Это как же понимать? — путался в своих предположениях Чаликов. — Что это она вздумала меня за нос водить? Решила поиграть? Нет, дорогая, таких, как ты, надо брать штурмом».
Чаликов стремительно опустился рядом с Ксенией, крепко обхватил ее стан, пытался дотянуться губами до ее губ. Однако Ксения напрягла все силы, уперлась руками в грудь Чаликова и отпрянула от него, изобразив гнев и отчаяние.
— Какой позор! — воскликнула она, и Чаликову показалось, что из ее разъяренных глаз посыпались искры. — Вы не приняли во внимание, полковник, что перед вами женщина из батальона смерти, а не девка из непристойного заведения! Или вы полностью доверились гадкому мнению вашего Савельева?
Чаликов растерянно и оскорбленно смотрел на нее, и в нем закипала злость, готовая проявиться в непредсказуемых и безрассудных поступках.
— Простите, — глухо и мрачно произнес он, дрожа от обиды и гнева. — Но в таком случае, Ксения Николаевна, к чему весь этот спектакль? Вы решили поиздеваться надо мной и тем доставить себе удовольствие? В таком случае примите мои извинения и забудем о том, что между нами произошло. Вернемся к обществу, для которого и без того наше отсутствие покажется по меньшей мере странным.
Неприступное лицо Ксении вдруг преобразилось, на лице засияла нежная, таившая в себе коварство улыбка.
— Какой же вы, право... — пропела она. — При малейшем препятствии сразу же и в кусты? Я о вас думала совсем иначе. И считала, что для вас не существует никаких преград. Может, я хотела вас испытать? Ведь я рассчитывала прежде всего на слова любви и ласки, которыми столь дорожит женщина. Здесь, на войне, среди ужасов и страданий, такие слова дороже золота, выше наград и почестей. А вы — с места в карьер, без слов, без любовных признаний. Неужто вы так очерствели душой, что не можете взять в толк азбучные истины?
Длинная тирада Ксении размягчила Чаликова. Вообще-то он не чувствовал вовсе никаких угрызений совести из-за того, что без всяких прелюдий, которые, по его твердому убеждению, лишь тормозили дело, пошел в атаку. Теперь же он разгадал в словах Ксении готовность к компромиссу и снова поверил в возможность успеха. Перемена же тактики не составляла для него большого труда, так как была делом весьма привычным.
— Я готов предать себя анафеме за столь необузданные действия. — Голос его звучал преданно и влюбленно, как у актера на провинциальной сцене. — Что касается моих чувств, то они вам давно и хорошо известны. За один ваш поцелуй я готов пожертвовать жизнью.
— Говорите, говорите... — Глаза у Ксении были полузакрыты, пушистые ресницы трепетно вздрагивали. — Продолжайте же...
— Аркадий Аристархович! — Голос поручика, раздавшийся издалека, произвел на Чаликова то же действие, какое производит неожиданный взрыв.
— Вас зовут, — обеспокоенно сказала Ксения, пытаясь приподняться с земли.
— Нет, нет! — Ярость захлестывала Чаликова. — Не обращайте внимания!.. К черту!
«Проклятая кокетка! — злобно подумал он. — Если бы не твои глупейшие капризы... А теперь этот пьяный болван...»
— Полковник Чаликов! Аркадий Аристархович! — донеслось уже ближе с явной настойчивостью.
— Какая, однако, скотина! — выругался Чаликов. — Так нагло...
— Однако же что-то случилось, — встревожилась Ксения, вставая. — Вам следует отозваться.
— Эта пьяная обезьяна дождется, что я его пристрелю! — Гнев Чаликова достиг того предела, когда он готов был совершить самый необдуманный поступок.
— Аркадий Аристархович! — Теперь уже кричали со стороны реки, и Чаликов узнал голос капитана Савельева. — Отзовитесь же! Объявлена боевая тревога! Нам приказано срочно выступать!
— После боя я жду вас у себя, — тоном приказа объявил Чаликов.
— Увы, это невозможно, — вздохнула Ксения.
Чаликов окатил ее взглядом, полным ненависти, и, на ходу одергивая измятый китель и поправляя ремни, побежал по тропинке.
Когда Ксения вышла из рощи, она увидела лишь густое облако пыли, вздыбившееся из-под копыт, да Анфису, поспешно убиравшую со скатерти вина и закуски.
— Ой, Ксюша! — испуганно затараторила она, увидев подругу и бросившись к ней навстречу. — Что было, что было! Со станции прискакал вестовой, наши бьются с красными у Курганной, просют подсобить бронепоездом. Гутарил, цельный час не мог полковника Чаликова найтить.
— И когда ты распрощаешься со своими казачьими вывертами? — возмущенно оборвала ее Ксения. — Терпеть не могу! Неужели нельзя по-русски объяснить?
— Не гневайся на меня, Ксюша, — смиренно потупилась Анфиса. — Я завсегда так говорю, когда переживаю. А ты что такая смурная?
— Трус этот твой Чаликов! — резко ответила Ксения. — Трус и мерзавец!
— Да разве ж он мой? Тебе он люб.
— Ненавижу!
— А я тебе что гутарила? Я ж тебе других предлагала.
— Не прощу я ему! А все ты затеяла! — Ксении хотелось сорвать зло на Анфисе. — Пикник, офицерики. Вот тебе и пикник! Пьяные рожи, хамье...
— Так война же, Ксюша, куды денешься? Не шутейное дело. Наша жизня известная — не радуйся нашедши, не плачь потерявши.
— Философ ты доморощенный! — Слова Ксении были полны иронии. — Однако как мы будем до города добираться? Эти подлецы наш фаэтон угнали! А вдруг, не ровен час, Петр Николаевич вернется?
— Со мной не пропадешь! — весело сказала Анфиса. — Шиш маслом им, а но фаэтон! Я его еще попервах на хутор спровадила. Чтоб нас дожидал. Отсюдова две версты ножками дойдем, не дюже устанем. Зато до города враз добегим, с ветерком!
— И все-таки ты у меня умница, — смягчилась Ксения. — Надо же, какая предусмотрительная! А на чем же офицеры уехали?
— А за ними линейка пришла. Чего за них переживать!
Анфиса подхватила сумку, и они резво пошли к хутору, укрывшемуся в садах за поворотом реки. У Анфисы было прекрасное настроение. Она в уме прикинула время, которое было упущено Чаликовым. Выходило, что бронепоезд должен был прибыть в Курганную не меньше чем на три часа позже, чем было приказано.
...Полковник Волобуев, узнав об опоздании бронепоезда, пришел в ярость. Он немедля вызвал к себе Чаликова. Тот стоял перед ним с отвисшей челюстью и пытался оправдываться, упирая на то, что не мог позволить себе отказаться от приглашения дам.
— Дам?! — взревел Волобуев. — Вы, полковник, сделали открытие! Оказывается, пока мы будем воевать с красными, вы на своем бронепоезде приметесь гоняться за каждой юбкой! Вы стали в строй доблестных защитников отечества, чтобы уничтожить красных или танцевать с дамами падекатр?
«Почему же именно падекатр? — некстати гнездилось в голове у Чаликова. Он презирал бальные танцы и был поклонником лезгинки с ее свистом и гиканьем. — Какая наглость — обвинять меня в том, что я танцевал падекатр!»
Волобуев еще долго отчитывал Чаликова, нагнетая в себе гнев и низводя провинившегося полковника до положения пособника красных.
Однако же с докладом Врангелю об опоздании бронепоезда и о пикнике, устроенном в честь Ксении, Волобуев не спешил. Более того, взвешивая на чаше весов и пытаясь определить, что для него выгоднее — предать всю эту некрасивую историю гласности или счесть за благо сделать вид, что ничего особенного не произошло (бывали и не такие кордебалеты!), — неизбежно приходил к выводу, что слово — серебро, а молчание — золото. В самом деле, что ему сулит откровенный доклад Врангелю? Известно, что гнев обманутых мужчин обрушивается прежде всего на тех, кто пытается открыть им глаза. Возможен и вариант, при котором Врангель простит Ксению и, вместо того чтобы выдворить ее в окопы, оставит у себя. Что тогда? А тогда уже сам Волобуев может получить пинок в зад или же, в лучшем случае, будет находиться под двойным обстрелом — Врангеля и Ксении. Уж эта фурия не простит ему своего унижения до гробовой доски. Отсюда вывод: намылить шею Чаликову и держать его в постоянном страхе перед возможным разоблачением и, следовательно, превратить его в своего послушного раба, а всю эту неприглядную историю замять, объяснив, паче чаяния, если потребуют, что бронепоезд не смог прибыть к месту боя в положенное время по любой другой причине. Да мало ли! Красные разобрали путь, машиниста заподозрили в измене, и так далее, и тому подобное. Для вящей же убедительности — расстрелять двух-трех виновных из технического персонала или же вовсе со стороны.
На этом варианте Волобуев и остановился, почувствовав к себе еще большее уважение и похвалив себя за умение с блеском выходить из самых сложных и опасных ситуаций. А Чаликов и Ксения пусть дрожат, оставаясь в неведении насчет того, какой очередной шаг предпримет он, полковник Волобуев.
Ксения и впрямь дрожала, с ужасом ожидая возвращения Врангеля. Анфиса как могла успокаивала ее, но та обрушила на подругу весь свой гнев.
— Ты ничего лучше не могла придумать? Зачем было связываться с этим проклятым бронепоездом? — набросилась она на Анфису. — Что, мало офицеров вокруг штаба вьется? Да еще затеяла пикник у черта на куличках!
— Тю на тебя! — отбивалась от нее Анфиса. — Сама же меня просила к Чаликову сходить. Забыла, что ты о нем говорила? Горячий, лихой, как зыркнет — всю до пяток обжигает. Говорила? А теперь я виноватая!
— Ну что ты, что ты! — Ксения обхватила ее за плечи и стала успокаивать. — Я человек справедливый. Верно, Чаликов мне импонировал. А это всегда вдохновляет, хотя внешне он ничего особенного. Ладно, Чаликова я беру на себя. Но кто просил тебя устраивать пикник на берегу Кубани? Ведь если бы мы расположились где-то неподалеку от бронепоезда, все было бы хорошо.
— Не было бы хорошо, — плача, возразила Анфиса. — Они бы и туточки все на бровях ходили!
— Это весьма логично. А посему не будем предаваться унынию, — подобрела Ксения. — Зато урок получили на всю жизнь. Отныне будем умнее. Главное, чтобы обо всем этом не пронюхал Петр Николаевич. А уж Волобуева я знаю, как укротить!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Крушинский валялся на диване в ожидании вызова к Волобуеву, когда пришла Анфиса. Он вскочил на ноги, стал извиняться.
— Чего уж там, — с мрачной улыбкой сказала Анфиса.
Крушинский не узнавал ее. Анфиса, и без того смуглая, почернела, взгляд живых, светившихся глаз был горестным и незрячим.
— Что с вами? — встревожился Крушинский.
Вместо ответа Анфиса порывисто вынула из сумки револьвер и протянула Крушинскому:
— Возьми.
— Зачем? — отшатнулся от нее Крушинский.
— Подумай — поймешь. Голова у тебя для чего?
— Это чтобы я... из него? Себя? Или кого?
— Волобуева, — тихо, но твердо сказала Анфиса. — Когда за портретом придет.
— Нет, нет, — сбивчиво заговорил Крушинский. — Я не смогу...
— Чего ж ты тут про чудо гутарил? — с горькой укоризной спросила Анфиса. — И кто ж тебя такого полюбит?
— Какого?
— Недотепистого.
— Возможно, вы правы... Но объясните, бога ради, что произошло?
— А ничего, — металлическим голосом ответила Анфиса. — Ничего, окромя того, что этот пес вонючий... — Анфиса не решалась продолжить начатую фразу и в упор, не мигая, смотрела на Крушинского, словно ожидала его помощи...
Крушинский не сразу вытолкнул из сведенной судорогой гортани:
— Я убью его...
И они оба надолго замолчали, ошеломленно, будто не узнавая друг друга и не находя слов, которые были бы способны выразить их состояние.
— Но вы... могли защититься... — нарушал оцепенение Крушинский.
— А ты бы защитился? — зло спросила она. — Когда два казака руки скрутили.
— А пока не скрутили? У вас же был револьвер.
— Был. Только не могла я стрелять.
— Но почему?
— Чего пристал? — как ужаленная, вскрикнула Анфиса. — И без тебя тошно! Нельзя мне было стрелять, понимаешь, нельзя, и все тут!
И она, уткнув голову в ладони, зарыдала — громко и безутешно. Крушинский подошел к ней, осторожно обнял за плечи, прошептал дрожащими губами:
— Давайте револьвер!
Анфиса перестала плакать и, не оборачиваясь к нему, сказала с отчаянной твердостью:
— Не дам. Не надо. Не слухай меня, непутевую бабу. Ты свое дело делай. И портрет в городе на видном месте повесь.
— Какой портрет?
— Тот, что у тебя за диваном лежит.
— Вы... знаете? — испуганно спросил Крушинский.
— А чего ж мне не знать? Ты ж как ребенок малый. Трудно тебе жить на свете.
«Как верно, как все точно она говорит, — растроганно подумал Крушинский. — Да, она красива не только внешне, у нее красотой наполнена сама душа».
— А о том, чего я тебе говорила, — строго сказала Анфиса, — не вздумай кому проболтать. Ничего, я выплачусь, может, и полегчает. А не полегчает, так он завсегда со мной. — И она показала на револьвер.
— Нет, нет, вы должны жить! — боясь за нее, умоляюще воскликнул Крушинский.
— Какая у меня теперь жизня! — горестно промолвила Анфиса. — Самая проклятущая! А ты не раскисай. И портрет, раз намалевал, так доведи до конца. На людном месте повесь.
— Да, да, я все сделаю! — подхватил Крушинский. — Я и сам хотел, да не знал, как это сделать. А вы все так хорошо придумали.
— А как повесишь, так сразу и тикай из города. А то портрет снимут, а тебя заместо него повесют.
— Конечно, конечно! Но как мне теперь без вас? Вам тоже надо бежать... — Он порывался добавить «со мной», но не отважился.
— Еще чего? Куды я побегу? Мне негоже отселева бечь.
— Но почему?
— Мое это дело, не твое. Ты вот лучше скажи, где портрет вешать будешь.
— Как где? На площади, в центре.
— И долго ты думал? — рассердилась Анфиса. — Народ по площади-то и не ходит, разве господа какие да военные. А остальные шмыгнут, как та мышь в нору, и давай бог ноги, лишь бы на глаза этим антихристам не попадаться. И часовых там полно. Думаешь, они тебе портрет вешать помогут?
— Действительно, в ваших словах есть логика.
— Не знаю, чего в них есть, а только меня послухай. Завтра воскресенье. Где народу будет тьма? На базаре да в церкви. Из ближних станиц понаедут. Вот на базаре и вешай. Там старая каланча есть. Заброшенная. Высокая. В самый раз для портрета. Ты вот лучше скажи, залезешь на ту каланчу?
— Попробую, — неуверенно отозвался Крушинский и смущенно потупился.
— Туточки пробовать некогда, — решительно заявила Анфиса. — Тут или грудь в крестах, или голова в кустах.
Она снова критически осмотрела Крушинского с ног до головы, сокрушенно спросила:
— Ты хоть, когда малый был, на крыши залезал?
— Нет, как-то не приходилось. Рисовал я, некогда было.
— Ну и мужик! — удивилась Анфиса. — Да не обижайся, шуткую я. Раз не лазил, то и не суйся, свалишься прямо на Волобуева. — Она задумалась. — Я к тебе пацана одного пришлю. Дюже ловкий. Он по деревьям лазит, как обезьяна. С ним и пойдешь. — Она с откровенной жалостью посмотрела на Крушинского. — Давай присядем на дорожку. Когда теперича свидимся? Может, и никогда.
Анфиса села на краешек табуретки, Крушинский — на диван, все еще не веря, что сейчас она уйдет.
— Вот и все, — сказала она, вставая. — И вот тебе мой совет. Пробирайся в Майкоп. Адрес такой: Госпитальная улица, дом тридцать седьмой. — Она вздохнула глубоко и тяжко. — Там мы с Тимошей жили. А когда — уже и не припомню. — Она снова помолчала. — А за те слова, что ты мне говорил в тот день, спасибочки. Ни от кого я еще таких слов не слыхала. Нет, брешу, Тимоша тоже говорил, да как-то не так, как ты. У тебя красивше выходит.
— Нет, не надо, не благодарите меня, — попросил Крушинский. — Вы такая... такая...
— Перестань! — нахмурилась Анфиса. — Так я сразу и поверила. Все одно это ни к чему. Прощай!
И она, как-то стыдливо чмокнув его в щеку, почти бегом выскочила за дверь. Крушинский было рванулся за ней, но что-то остановило его, и он лишь успел заметить, как в окне синим облачком промелькнул ее платок.
Крушинский в отчаянии закрыл глаза. Все закружилось, завьюжилось в его голове: смерч, поднимающий в воздух дома, Волобуев, рассыпающий в этом вихре дробный, издевательский смех, зияющие черной пустотой глаза Врангеля, горячие подвижные губы Анфисы, тянущиеся к его холодной щеке, — и он вдруг бессильно рухнул на заскрежетавший всеми своими старыми пружинами диван...
Он не помнил, сколько времени пролежал, почти потеряв сознание, и никак не мог поверить, когда очнулся, что все еще жив. Кто-то дергал его за плечо, думая, что он спит, и твердил одни и те же слова:
— Дяденька, вставай! Дяденька, вставай!
Крушинский рывком сел на диване. За окном смеркалось. Перед ним стоял мальчуган с худым остроносым лицом и рыжим вихром на голове, свесившимся на лоб.
— Ты кто? — отрешенно спросил Крушинский, все еще не в силах понять, сон это или явь.
— Петька я, — назвался мальчик. — Меня тетя Анфиса послала.
Только сейчас Крушинский вспомнил о том, что Анфиса обещала прислать ему помощника.
— Да, да, — засуетился он, вскакивая. — Сейчас я достану портрет, и пойдем.
— Еще рано нам, — по-взрослому серьезно сказал Петька. — Сейчас луна светит.
— Ты прав, — приходя наконец в себя, согласился Крушинский.
— Перед рассветом надо, — деловито уточнил Петька. — Часовые в энто время дюже крепко спят. И патрули притомятся.
— Хорошо, так и сделаем. А пока поешь. Тут у меня хлеб есть и сало. И еще яблоки. Будешь?
— А то нет? Я с утра не жрамши.
Крушинский повел Петьку на кухню, зажег свечу, задернул штору. Петька с наслаждением принялся за еду, не обращая внимания на Крушинского. Тому есть не хотелось, нервное напряжение цепко держало его в своем плену.
Еще в те дни, когда он решил одновременно с портретом нарисовать и карикатуру на Врангеля, он не мог себе и представить, как с этой карикатурой поступить. Долго хранить у себя он ее не сумел бы, так как Волобуев часто присылал к нему под разными предлогами своих людей и те запросто могли пронюхать, где лежит портрет. А вывесить его скрытно, да еще в многолюдном месте, было бы предприятием совершенно не реальным. Даже в случае удачи портрет этот не провисел бы и нескольких минут — его живо убрали бы с глаз долой, и тогда вся затея Крушинского лишалась бы всяческого смысла. А вот на базаре, как задумала Анфиса, портрет может провисеть долго, пока не спохватятся. Да и не так просто будет снять его с каланчи.
Крушинскому хотелось, чтобы все задуманное свершилось как можно скорее. Иначе обстановка могла резко измениться. Вдруг Волобуеву придет блажь приехать и посмотреть, как идет работа над портретом, тем более что уже заканчивался срок, отпущенный им Крушинскому для ее завершения. И тогда все рухнет.
Петька поел, смахнул со стола крошки и тоже бережно отправил их в рот. Степенно запил все это кружкой горячей воды, поблагодарил и лег на диван, свернулся калачиком и вскоре задышал с тихим присвистом.
Крушинский потерянно сидел в кресле. Сон его не брал. Пока он работал над портретом, пока к нему приходила Анфиса, даже пока его терзал своими бесконечными словесными излияниями Волобуев, — в нем было то чувство своей необходимости, которое связывало его с жизнью и имело какую-то определенную цель. Пусть это не представляло собой подлинного творчества, пусть не давало истинного морального удовлетворения, но он был занят своим привычным делом, а значит, и существовал. Сейчас же, когда и портрет, и его двойник — карикатура были окончены, когда из его и без того неприкаянной жизни ушла Анфиса, состояние горькой опустошенности обрушилось на него, и он снова ощутил свою ненужность, бесцельность жизни, которая приносила ему одни лишь страдания.
И вдруг, вспомнив о том, что ему предстоит сделать этой ночью вместе с Петькой, Крушинский ожил, распрямился и воспрянул духом. «А ведь это тоже цель! — внушал он себе. — Пусть я не воюю вместе с красными, пусть не стреляю, я нанесу им удар, этим врангелевцам, своим оружием — кистью! От этого не будет зависеть исход войны, останутся живы и Врангель, и Волобуев, и иже с ними, но мой портрет-карикатуру увидят люди, и она раскроет им глаза...»
С такой отрадной думой он и задремал. Что-то черное закружилось у него перед глазами. Он всмотрелся — то была громадная черная птица. Она ожесточенно била сильными, крепкими, раскинутыми в полный мах крыльями и не могла взлететь. Птица, схожая с коршуном, неслась на него, крылья бились на тугом ветру, и вот уже на своем лице он почувствовал и осязаемо ощутил жесткое прикосновение перьев. Он открыл глаза и сперва не мог отделаться от мысли, что перед ним не коршун, а самый обыкновенный Петька.
— Дяденька, нам пора, — озабоченно сказал он. — Я вас еле разбудил.
Крушинский вскочил на ноги, вытащил из-за дивана портрет, обернул его куском холста. Петька набросил на плечо смотанную в кольцо веревку, заранее припасенную им.
— Я пойду первый, а вы за мной, — тихо сказал Петька. — Только не шумите.
Петька привычно шел переулками, не заходя во дворы, боясь растревожить собак. Крушинский едва поспевал за ним. До рынка они добрались быстро, счастливо миновав патрулей, которые более дотошно контролировали центральную часть города.
Даже в темноте Крушинского поразила высота каланчи. Она смотрела незрячими провалами крохотных окон и вздымала свою верхушку высоко над окружавшими ее деревьями.
— Как же ты туда залезешь? — шепотом спросил Крушинский.
— А я уже три раза на нее залезал. На спор, — так же тихо отозвался Петька.
Они укрылись у темной, невидимой с улицы стены каланчи, где густо разбросала ветви пахучая бузина. Крушинский привязал веревку к гвоздю, предусмотрительно вбитому им в деревянный подрамник, другой конец отдал Петьке, держа в руках портрет. Тот обвязался веревкой вокруг туловища и, не мешкая, начал проворно карабкаться по стволу. Толстая суковатая ветвь дерева как бы обхватила почти самый верх каланчи, словно помогала ей стоять ровно, не наклоняясь к земле.
Петька быстро, по-обезьяньи перелезал с ветки на ветку, задерживаясь время от времени лишь для того, чтобы подтянуть к себе портрет, то и дело цеплявшийся за густую крону.
Наконец пришел самый ответственный момент: Петьке предстояло перебраться со ствола на верх каланчи. Крунинский замер внизу. Он был уверен, что Петька не сможет дотянуться до металлического, состоящего из железных прутьев обвода на крыше каланчи. Тут требовалась сноровка циркового акробата.
Петька изо всех сил потянулся к поручню, и Крушинский невольно зажмурил глаза. И лишь когда наверху что-то легонько звякнуло о жестяную крышу, он открыл их и, к своему ужасу, не увидел Петьки. Впрочем, разглядеть его в темноте было не так-то просто. Крушинский чуть не бегом обогнул каланчу — Петьку не было видно и отсюда. Крушинский испугался. Куда он мог деться? Хотелось окликнуть его, но это было крайне опасно.
Сколько прошло томительных, полных неизвестности минут — Крушинский так и не осознал. Он стоял, панически вглядываясь в верхушку каланчи, как вдруг сбоку от него, из кустов бузины, послышался запыхавшийся голос Петьки:
— Дяденька, полный порядок. Идите сюда.
Крушинский едва не рассмеялся от радости: Петька уже на земле! Он подошел к тому месту, куда его звал мальчик, и поднял голову в ту сторону, куда тот указывал ему. Там, наверху, хоть и с перекосом, болтался, слегка раскачиваемый ветром, портрет!
— Какой же ты молодец! — прошептал Крушинский. — Без тебя я бы не смог. А теперь его трудно будет достать.
— А пусть попробуют! — задорно ответил Петька. — Окромя меня, ни один пацан туда не залезал. А Витька Черкасов попробовал, так ногу сломал. Упал!
— Спасибо тебе, малыш!
— Какой я малыш? — обиделся Петька. — А вам, дяденька, уходить надо. Скоро светать будет. Тетя Анфиса наказала, чтобы я вам дорогу на Майкоп показал.
— Хорошо, пойдем, — согласился Крушинский, с печалью сознавая, что еще немного — и этот город, и Анфиса, а теперь вот и Петька навсегда исчезнут из его жизни.
Но зато, внушал он себе, в городе остался портрет. Те, то увидит его, сразу же узнают Врангеля. В том, что портрет в точности соответствует оригиналу, у Крушинского не было ни малейшего сомнения. Но людям предстанет не живое лицо Врангеля, а голый череп, с зияющей чернотой пустых глазниц, с выступающими вперед и лишенными кожного покрова скулами, с раздувающимися в гневе и ненависти ноздрями. От испуга они закроют глаза, а открыв их, с изумлением вновь увидят Врангеля, с его кривой, будто от сабельного удара, усмешкой. Лицо его будет наводить ужас мертвым оскалом лошадиных зубов и двумя скрещенными человеческими костями на груди, там, где на черной черкеске только что, чудилось, висел Георгиевский крест...
Что произойдет с той огромной толпой, которая сгрудится возле каланчи, позабыв о возах с кавунами, о глечиках с кислым молоком, о мешках с картошкой, о клетках с мечущимися по ним курами? Пронесется ли над головами вопль восторга, исторгнутый сотнями глоток, раздастся ли гомерический хохот, разбегутся ли кто куда, от греха подальше, люди, узревшие этот страшный портрет, начнут ли истово креститься старухи, подслеповато косясь на пришедшего из ада дьявола, пошлют ли вослед художнику хвалу или проклятья, — этого Крушинский, выбравшийся на шоссейную дорогу, ведущую к Майкопу, не знал, да и не мог знать. Но он чувствовал себя окрыленным: первый раз в своей жизни он совершил нечто такое, за что, и в этом он был убежден, ему никогда не придется краснеть перед людьми.
«Мой первый вернисаж, — усмехнулся он, спеша удалиться от города. — Подарок полковнику Волобуеву. Вот так-то, мумия ты моя египетская!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Шорников и Илья долго, до хрипоты, спорили, кому из них привести в исполнение заочный приговор ревтрибунала о смертной казни Волобуева. В приговоре была такая строка: «как матерого врага трудового народа, заклятого вешателя и озверелого садиста — расстрелять».
Шорников с пеной у рта доказывал, что это обязан сделать только он, и никто другой. Бросая, как козырные карты, один аргумент за другим, Шорников наконец выдохся и решился на последнее:
— Кто посылал Анфису Дятлову? Забыл? Вот я за нее и должон отомстить.
Илья оторопел. Этот довод был поразительно веским, и он винил себя за то, что вынудил Шорникова пойти на крайности и говорить столь откровенно.
— Понимаю, — тихо сказал он. — И очень даже разделяю ваши чувства, Василий Макарович. И все же вам идти нельзя.
— Ты опять за свое? — загремел Шорников, наливаясь гневом.
— А вы призовите на помощь все свое спокойствие, проявите железную выдержку и послушайте. Я вам сейчас все объясню, Василий Макарович. В полном соответствии с законами логики.
— Ушлый ты больно, — сердито сказал Шорников. — А чего мы тут рогами уперлись — не пойму. Кто здесь старший — ты или я? И базар разводить я не позволю.
— Старший, разумеется, вы, — все так же спокойно продолжал Илья. — Разве я оспариваю? Но, выходит, Василий Макарович, для вас главное не успех дела, а престиж. Ну сами посудите, допустят вас к самому Врангелю? Или пусть даже только к Волобуеву? С вашим-то рабоче-крестьянским фасадом. Сразу заподозрят неладное. И каков будет результат? А никакого, точнее, результат будет можно сказать, самый плачевный: Красная Армия потеряет одного из лучших своих сынов.
— Ты это брось! — резко прервал его Шорников. — Я этого не люблю!
— Ну хорошо, — терпеливо продолжал Илья. — Теперь посмотрите внимательно на меня. — Он заносчиво покрутил головой с заколыхавшейся гривой черных волос. — Перед вами — аристократ, которому откроют любые двери. А что, нет? Породистая голова. Глаза, можно сказать, навыкате. А вы разве не видите, какой у меня нос? Мне могли бы позавидовать гладиаторы. Плюс ко всему, я вас очень прошу, не пренебрегайте моими актерскими способностями. Да я любую роль как по нотам разыграю. Я даже Отелло играл! Правда, в любительском спектакле.
Хотя Шорников ничего прежде не слышал ни о гладиаторах, ни об Отелло, это произвело на него должное впечатление. Сам он перевоплощаться не умел, а Илья обладал этим преимуществом, которое для данного случая могло оказаться решающим.
— Будь по-твоему, — нехотя согласился Шорников. — Но учти, ты обязан угробить этого паразита. И не просто угробить, а возвернуться вполне целым и невредимым.
— Есть, угробить и возвернуться! — радостно воскликнул Илья, будто ему предстояла приятная и увлекательная прогулка. — А уж за Волобуева не волнуйтесь, поберегите свои нервы.
Они долго обмозговывали, как лучше подступиться к Волобуеву, и наконец остановились на одном, предложенном Шорниковым варианте, который привел Илью в восторг...
Прощаясь с Ильей, Шорников не выдержал, сгреб его в охапку, отвел в сторону будто ослепшие глаза.
— Ну, давай, Илюха. И до скорого возвращения...
— Постараюсь, — с грустью ответил Илья: только в эту минуту он осознал, как не хочется ему расставаться с Шорниковым и то, что идет туда, откуда уже может не вернуться...
Комдив одобрил план Шорникова.
— Я категорически против тактики индивидуального террора, — играя темляком шашки, решительно заявил он, внимательно глядя на Шорникова и стараясь определить, произвел ли то впечатление, которое должен был произвести этой фразой, подтверждавшей его теоретическую подкованность. — Но в данном разе — согласен. Этот гад Волобуев нам уже всю плешь переел. Сколько эта гидра распроклятая наших людей загубила! И Анфиса после его реакционного, прямо скажем, мерзкого и пакостного дела возьмет да и руки на себя наложит. Нет, пора с ним кончать!
...Между тем Афанасий Никодимович Волобуев продолжал преуспевать. Он обустроил свои отношения с Врангелем настолько искусно, что тот постепенно проникся к нему безмерным доверием, которое пошатнулось лишь после случая с Крушинским. Но ведь и тут им руководили самые лучшие побуждения!
Начальнику контрразведки удалось внушить Врангелю неотступную мысль о том, что только Волобуев, как верный его слуга и неподкупный страж, сможет уберечь будущего правителя всея Руси от происков террористов, которых вокруг якобы не счесть и которые спят и во сне видят, как бы отправить барона туда, откуда еще никто не возвращался.
Именно он, Афанасий Никодимович, а не кто-либо иной, разработал для Врангеля режим, определив ему наиболее рациональное начало работы с семи часов утра, когда человеческий мозг являет собой первозданную ясность и наиблагоприятнейшую прозорливость. До восьми часов утра он должен был пребывать наедине с собой, стремясь породить особо ценные мысли, долженствующие лечь в основу приказов, распоряжений и указаний, приспособленных специально для того, чтобы проявить себя с должной эрудицией в беседах и рассуждениях с лицами, прибывающими на прием.
Этот час был для Врангеля самым мучительным и не приносил ни радости, ни успокоения. Он был из тех людей, которые не только не любят, но и совершенно не умеют оставаться наедине с собой. Их постоянно мучит то обстоятельство, что в минуты одиночества они остаются незримыми для окружающих, которые теряют всякую возможность восторгаться своим кумиром и тем самым окрылять и вдохновлять его на новые свершения. Все, кто окружал Врангеля, были для него что ветер для крыльев птицы: тугие потоки хвалы играли роль той плотной воздушной массы, о которую опирались крылья, чтобы сделать новый рывок в высоту.
Ровно в восемь в кабинет Врангеля кошачьей походкой входил начальник штаба генерал Шатилов. Ему, своему любимчику, Врангель уделял не меньше сорока минут. Затем друг за дружкой тянулись иные, менее нужные лица — до часу дня, засим следовали обед и прогулка по городу с адъютантом, чья должность находилась под прицельным, недреманным оком полковника Волобуева.
Точное соблюдение режима беспокоило Волобуева лишь в одной плоскости — безопасности Врангеля и создания у него устойчивого представления, что ему отовсюду — из любого переулка, старинного особняка или же из пролетки, проносящейся мимо, а то и от обычного прохожего, с тупым любопытством уставившего взор в объявление на тумбе, — грозит опасность.
Не случайно Врангель более всего на свете не любил приема посетителей, хотя Волобуев клялся и божился, что обеспечивает строжайшую проверку и обыск их перед тем, как они появятся перед очами барона.
И все же бывало и так, что и Волобуев давал маху. Это случалось в дни, когда Афанасий Никодимович позволял себе расслабиться после бессонной ночи, проведенной в каком-нибудь злачном месте.
Одним из таких дней «отключения» и воспользовался Илья, о чем ему сообщили надежные люди, укрывавшиеся в подполье. Ему удалось незаметно проникнуть в город, обосноваться на явочной квартире и выбрать удачный момент для того, чтобы записаться на прием к Врангелю. Расчет был прост: прийти к барону под видом человека, желающего предложить весьма ценную идею для ускоренного разгрома красных. При этом Илья предполагал, что Врангель или поручит переговорить с ним Волобуеву, или же Волобуев окажется в его кабинете, и тогда разговор с ним будет короток.
Илья не очень надеялся, что его примут. Но Врангеля настолько заинтриговала таинственность, с которой было обставлено это предложение, а главное, то, что его и самого постоянно терзала мысль о возможности создания такого чудодейственного оружия, которое оказалось бы мощнее даже английских танков, что он решил выслушать пришедшего. Волобуева под рукой не оказалось, и Врангель велел адъютанту допустить к нему Илью.
Ровно в четыре часа дня тот подошел к дому, где размещался Врангель. Часовой проверил его паспорт и велел обратиться к адъютанту. Илья, войдя в коридор, стремительно опустил револьвер в урну, стоявшую у стены, и прошел в приемную. Нагловатый, самоуверенный адъютант презрительно осмотрел молодого человека, одетого, однако, в дорогой штатский костюм, при галстуке, и вызвал казака, который сноровисто обшарил грубыми ладонями одежду и, ничего не обнаружив, тут же исчез.
Адъютант провел Илью в кабинет к Врангелю. Барон сидел в кресле так, будто проглотил аршин, и прицелился взглядом охотника в посетителя. На него произвел благоприятное впечатление тот факт, что вошедший был молод, благороден лицом и манерами (возможно, из порядочной семьи) и вовсе не представлял внешне оборванца, коих в городе было в избытке. То, что посетитель выглядел усталым, даже изможденным, не вызвало у Врангеля удивления: какой энтузиаст идеи, да еще в такое жестокое время, занятый своими мучительными исканиями и не имеющий вдоволь хлеба насущного, не выкажет усталости и озабоченности?
— Прошу садиться, — располагающим к беседе жестом пригласил Врангель, так как Илья продолжал жаться у дверей.
— Благодарю, — изображая жалкое замешательство, проговорил Илья, не сразу решаясь опуститься в предложенное ему кресло. «Был бы при себе револьвер, вот кого бы надо ухлопать», — мелькнуло в голове у Ильи.
— Прошу, прошу, — уже настойчивее и нетерпеливее повторил Врангель и, подождав, когда посетитель воспользуется его предложением, поспешно, с явным любопытством, спросил: — Так в чем же, желал бы я знать, заключается ваше предложение?
Илья боязливо взглянул на Врангеля. Глаза его заблестели, как у помешанного, он оживился, задвигался бестолково, как на шарнирах, всем телом и, спотыкаясь почти на каждом слове, судорожно заговорил:
— Ваше превосходительство... Я долго не мог решиться... Я не осмеливался беспокоить вас...
Да, да, не смел... Но красные агенты проникли во все поры... Не будьте столь благодушны...
— Однако ближе к делу, — поморщился Врангель.
— Я бы не позволил себе... — не обращая внимания на требование Врангеля, продолжал бестолково ронять слова Илья. — Но убежден, что мое изобретение будет вам в высшей степени необходимо... Без него вам грозит гибель! — трагически произнес Илья, очумело оглядываясь на дверь. — Вы можете заверить меня, что нас никто не подслушивает?
Удивление Врангеля росло. «Да в своем ли он уме?» — подумал он, готовясь вызвать адъютанта, чтобы выпроводить странного посетителя. Илья сразу подметил перемену в его настроении.
— Я знаю, вам так мучительно трудно, — заговорил он уже нормальным языком. — Кругом измена, предательство, крамола. Один трюк художника Крушинского чего стоит.
— Изложите суть вашего изобретения, — нахмурился Врангель. — Не будем отвлекаться. У меня крайне ограничено время.
— Вас окружают чудовища, бездари, интриганы! — наслаждался своими словами Илья. — Они мечтают низвергнуть вас!
— Что вы такое говорите? — насторожился Врангель. — У вас есть доказательства?
— Сколько угодно! Умоляю вас выслушать меня. Я изобрел прибор. Это похоже на компас. Вы незаметно закрепляете его в вашем столе. Входит посетитель. Вы беседуете с ним и в этот момент незаметно нажимаете кнопку прибора. И стрелка незамедлительно укажет вам, кто перед вами — германофил или приверженец Антанты, большевик, кадет или монархист. Или — террорист, трус, интриган, предатель. Кроме того, прибор читает мысли! Шкала делений всеобъемлюща — все пороки человека, включая даже склонность к разврату. Гарантирую абсолютнейшую точность! Вы представляете, как легко вы сможете расправляться с вратами? У меня готов чертеж.
Илья с величайшей осторожностью развязал тесемки папки. Можно было подумать, что в папке упрятана бомба. Но, кроме листка ватмана небольшого формата в ней ничего не было. Илья протянул листок Врангелю. Руки его слегка тряслись, и оттого листок тоже трепыхался. Илья крутил головой, как бы желая убедиться, что кабинет пуст.
Врангель оторопело разглядывал странный чертеж, ровным счетом ничего в нем не понимая. Что-то действительно напоминало в этом рисунке компас, в глазах рябило от множества цифр и формул.
— Однако это способен оценить лишь специалист, — теряя интерес к чертежу, холодно проговорил Врангель. Он не спускал глаз с Ильи. Тот сидел бледный, трясущийся и был похож на куклу, которую дергают за нитки. Время от времени он жалко улыбался и тут же мрачнел, принимая крайне озабоченный, тревожный вид.
«Типичный умалишенный, — брезгливо подумал Врангель. — Развелось их, как бешеных собак. Чем-то смахивает на этого негодяя Крушинского. Последствия войны. — Он откинулся в кресле. — А если бы действительно иметь такой приборчик! Повертелся бы у меня Антон Иванович и все его прихвостни, как караси на горячей сковородке!»
Врангель нажал кнопку звонка. Влетел, как ошпаренный, адъютант.
— Полковника Волобуева разыскали?
— Никак нет, ваше превосходительство! Но принимаем самые энергичные меры!
— Разыскать немедля! — гаркнул Врангель. — А вы подождите в приемной, — сказал он Илье. — Займитесь господином изобретателем, — приказал он адъютанту.
Илья вышел в приемную.
— Он не в своем уме, — гневно сказал Врангель адъютанту, когда за Ильей захлопнулась тяжелая дверь. — Пусть Волобуев приведет его в чувство! И впредь ко мне всякое дерьмо не пропускать!
Адъютант выскочил в приемную и схватился за телефоны, приказывая найти Волобуева хотя бы на дне морском. Илья, согнувшись и мрачно глядя в пол, сидел на стуле.
Затрещал телефон. Адъютант схватил трубку, как неразорвавшуюся бомбу.
— Слава богу, что нашли! Пусть идет незамедлительно. Командующий гневается!
В это время Волобуев заехал к себе на работу, взял с собой заветную голубую папку и, выйдя на улицу, плюхнулся в пролетку.
— Гони! — приказал извозчику.
Волобуев направлялся к Врангелю с явной неохотой, почти стопроцентно рассчитывая получить в лучшем случае очередную головомойку, а в худшем — оказаться отстраненным от своей
притягательной должности. Врангель никак не мог простить ему всю эту крайне неприятную историю с Крушинским. Толпы народа на базаре, а потом и присоединившиеся к ним жители примыкавших к нему улиц едва ли не всю первую половину дня, не далее как неделю назад, имели удовольствие безнаказанно лицезреть карикатуру на Врангеля, болтавшуюся на самом верху каланчи, и эти «смотрины» едва не вылились в серьезные беспорядки, пока конные казаки нагайками не разогнали чернь с рыночной площади. Все тут было: и дьявольский хохот, и большевистские выкрики, и возмущение состоятельных горожан, которые тут же все свалили на бездеятельность и преступное ротозейство контрразведки и заклинали командование покарать виновных, оказавших услугу агентам красных. Нашлись и такие, кто азартно швырял в портрет каменья, гнилые яблоки и помидоры.
И хотя первый, самый страшный гнев, обрушившийся на Волобуева от самого Врангеля, несколько поутих, Волобуев знал, что первым его вопросом будет, изловлен ли злодей художник, которого невесть где раскопал, на свою беду, начальник контрразведки, и при получении ответа отрицательного могут быть большие неприятности.
И потому Волобуев предусмотрительно прихватил с собою папку, в которой значились большевики из подполья, уже вздернутые на виселицу, а также аккуратную тетрадочку, где Волобуев каллиграфическим почерком начал первую главу жизнеописания Врангеля. Неужто не сменит гнев на милость дражайший Петр Николаевич? Стоит подсунуть сии листочки ему на рассмотрение, как можно будет повернуть весь разговор в благоприятственном направлении.
Приободрив себя, Волобуев почти вылетел из пролетки, скорым шагом устремился к крыльцу, решительно взялся за ручку двери приемной, по-хозяйски рванув ее на себя, изобразил на припухшем круглом лице с темными обводьями вокруг глаз должную озабоченность.
Едва он переступил порог, на ходу застегивая непослушные пуговицы кителя, как Илья порывисто вышел из-за двери и тихо, чуть дрогнувшим голосом спросил:
— Полковник Волобуев?
— В чем дело, мумия ты моя египетская? — вскинул Волобуев красные от бессонницы и пьянок глаза, ища адъютанта. Однако тот был в кабинете у Врангеля.
— Дело в том, — не давая Волобуеву опомниться, быстро проговорил Илья, — что именем революции вы приговорены к смерти!
Он выхватил наган, который успел извлечь из урны, когда Врангель беседовал с адъютантом, и всадил три пули в грузное тело начальника контрразведки.
Волобуев, истошно вскрикнув, рухнул на пол. Илья вымахнул в открытое окно и задами, через дворы, помчался к окраине города. Он достиг уже перелеска, примыкавшего к последним дворам, надеясь скрыться в нем, как позади себя услышал погоню: то с гиканьем и свистом, стреляя на ходу, неслись вслед за ним на полевом галопе казаки из охраны Врангеля...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Крушинский любил афишные тумбы. В каждом объявлении — будь то афиша спектакля в городском театре, реклама бакалейного магазина или же частное объявление о продаже домика с вишневым садом и банькой во дворе, — таилась какая-то неразгаданная и потому манящая к себе жизнь со своими заботами, интересами и страстями.
Было время, когда Крушинского интересовало в афишах все подряд: фамилии актеров, занятых в той или иной роли, названия торговых компаний, описания происшествий, пропаж и находок. Он мог подолгу быть очарован красивой и звучной фамилией актрисы, и вдруг ее лицо постепенно возникало перед ним как бы в зыбком тумане — полное очарования и немой грусти; он пытался мысленно угадать ее жизненный путь в разные годы и рисовал в своем воображении портрет женщины, предназначенной, как ему казалось, лишь для одной роли: смягчать людские сердца, делать их добрее, нежнее и красивее.
Торговые объявления нравились Крушинскому своим деловым зазывным языком, за которым скрывались то какой-нибудь пройдоха, поднаторевший на обмане покупателей, то преуспевающий торговец, лихорадочно подсчитывающий по ночам свои барыши, то почуявший близкий крах и разорение купчик, проживающий остатки денег в кабаках.
И лишь люди, объявляющие о продаже своих домов, представали его воображению в одном и том же облике — растерянные, сломленные судьбой, принужденные горестно покидать насиженные гнезда и с отчаянием бросаться в омут неизвестности.
С большим трудом, рискуя быть схваченным, добравшись до Майкопа, куда и советовала ему ехать Анфиса, Крушинский исходил уже едва ли не весь город в поисках объявления о сдаче жилья. Как на грех, улицу и номер дома, которые назвала ему Анфиса, он начисто забыл, и никакие попытки напрячь память и восстановить в ней адрес ни к чему не привели.
И потому оставалось одно — снять угол у какой-нибудь хозяйки, соблазнив ее возможностью дешево приобрести картины, найти себе хотя бы временный приют, тем более что надвигалась осень, а за нею уже маячила и зима. Пока что Крушинскому негде было приклонить голову, и объявление о сдаче угла или комнаты было бы равнозначно спасению из того положения бездомного бродяги, в котором он сейчас находился.
Моросил дождь, нагоняя уныние и тоску. Крушинский брел по улице, опасаясь навлечь на себя внимание патрулей. Его тянуло к базару, где он надеялся добыть хоть что-нибудь из съестного. По правде говоря, он даже не представлял себе, как это сделать, ибо по природе своей был крайне застенчив, не приспособлен к крутым обстоятельствам и не умел обременять других людей какими-либо просьбами.
Блуждающий взгляд его вдруг скользнул по высокому, когда-то крашенному зеленой краской забору. На ржавом кривом гвозде слегка колыхался под каплями дождя мокрый клочок бумаги. Трудно понять, почему он вдруг заинтересовал Крушинского. Он приник к бумажке и с трудом разобрал несколько строк, написанных химическим карандашом, отчего буквы слиняли и расползлись: «Здается комната мусчине спокойного ндрава недорого и чтобы непьющий. Кривой переулок, 12, рядом с Госпитальной».
Крушинский несколько раз перечитал объявление, все еще не веря в его реальность. Госпитальная! Так это та самая улица, которую ему второпях назвала Анфиса! И вслед за этим озарением в памяти возникла цифра: тридцать семь! Ну конечно же, она так и сказала: «Госпитальная улица дом тридцать семь!»
Он едва не вскрикнул от радости. Скорее, скорее на Госпитальную, и если даже там никого не окажется или ему откажут в пристанище, у него в запасе есть еще и ставший таким бесценным неведомый прежде Кривой переулок. Спасибо ему уже и за то, что он не где-то в безвестном пространстве, а именно рядом с Госпитальной улицей. И как прекрасно, что он, Крушинский, как раз и не пьет и не курит, а значит, в точности соответствует требованию, которое содержалось в объявлении.
И тут неприятная мысль обожгла его: он же без паспорта! Паспорт изъяли еще тогда, когда пригнали на призывной пункт, а Волобуев так и не вернул его, видимо опасаясь, что художник может скрыться. Оставалось одно — сказать, что паспорт утерян, и попытаться разжалобить хозяев, чтобы те разрешили ему хотя бы переночевать.
У семенившей мимо старушки он спросил, как пройти на Госпитальную.
— Дак это, сынок, аж на том конце. Как от церкви свернешь налево, так прямо и прямо. И в нее самую упрешься.
Крушинский поблагодарил и, волнуясь, прибавил шагу. Когда он приближался к церкви, ударили в колокола. Сразу в нем ожило детство, набожная мать, деревенская церквушка с высокой, будто пытавшейся достать крестом до самого всевышнего, колокольней на крутом берегу Москвы-реки. Деревушку разметал смерч, а колокольня осталась стоять — торжествующе, гордо, будто старалась внушить людям, что она не подвластна никаким стихиям.
«Как давно это было, и было ли?» — печально подумал Крушинский.
Госпитальную улицу он нашел довольно быстро. Это была тихая, почти безлюдная улица на окраине города. Домишки, смотревшие маленькими окнами на выгон, были сплошь с палисадниками, в которых еще не увяли астры. Кое-где у заборов, как это бывает в станицах, стояли скамейки. Вымощенного булыжником тротуара, как в центре города, здесь не было, и потому не заезженная телегами улица заросла почти сплошь травой и бурьяном.
«Как здесь хорошо! — обрадовался Крушинский. — Прелесть этой улочки в том, что она стойко сопротивляется цивилизации. И даже в дождь здесь тепло сердцу».
Он медленно шел вдоль улицы, вглядываясь в номера домов. У многих из них были наглухо закрыты ставни, как это обычно бывает при отъезде хозяев или ночью, когда их закрывают, чтобы обезопасить себя от воров, или же в сильную жару, чтобы укрыться от палящего солнца.
На углу возвышался кособокий уличный фонарь. «Какая, должно быть, темнота царит здесь по ночам», — отметил Крушинский и подумал, что в его положении это как раз и подходит.
Наконец он дошел до дома с номером тридцать семь. «Значит, это здесь», — подумал Крушинский, и ему очень захотелось, чтобы случилось чудо и из дома, распахивая настежь старую калитку, выбежала ему навстречу запыхавшаяся, сияющая от счастья Анфиса.
Однако, судя по закрытым ставенкам, в доме никого не было. Сам же дом напоминал старую игрушку, о которой забыли и которую забросили за ненадобностью. Он грузно осел в землю одним боком, и крохотные его оконца были почти на уровне пояса Крушинского, как это бывает, когда человек останавливается возле полуподвального помещения. Побелка на фасаде и краска на ставенках сильно облупились, и казалось, что он изрыт темноватыми крупными оспинами. Черепица на крыше местами была разбита, местами плотно покрылась зеленоватым слоем мха, хотя сейчас, на тихом дожде, старалась казаться моложе, чем была на самом деле.
И все же домик сразу понравился Крушинскому. Он и сам не смог бы объяснить почему: может, тем, что от него веяло стариной, а наверное, прежде всего потому, что в нем жила Анфиса.
Крушинский не без колебаний взялся рукой за мокрую калитку, медленно открыл ее, посматривая на окошко, выходившее во двор и не запечатанное ставней, с надеждой, что в нем появится хоть одна живая душа. Но окно было безжизненно, и только герань краснела на подоконнике, как бы свидетельствуя о том, что жилье не покинуто людьми.
Дождь хотя и был тихим, а капли его будто просеивались через мельчайшее сито, Крушинский успел основательно вымокнуть. С пиджака и шляпы стекала вода.
Войдя в калитку, Крушинский осмотрелся вокруг. Двор был совсем крохотный, стиснутый соседскими заборами. Поодаль от тыльной стороны дома лежала груда бревен, сваленных здесь, видимо, еще в незапамятные времена, что было заметно по их почерневшему виду и по зарослям бурьяна вокруг. Дальше, к противоположному забору, шли рядком запущенные грядки, и трудно было понять, что растет на них; а еще дальше раскинули корявые ветви старые вишни.
Крушинский поднялся на крыльцо и осторожно постучал в дверь. Никто не отозвался, вокруг было все так же тихо, только дождь стучал по черепице и по лужицам, образовавшимся вокруг крыльца. Он постучал сильнее — молчание. Тогда Крушинский, отчаявшись, забарабанил в дверь кулаком.
— Кого черт принес? — раздался вдруг из глубины дома глухой раздраженный мужской голос.
— Выйдите, пожалуйста, на минутку, — просяще произнес Крушинский, теряя всякую надежду на отзывчивость хозяина.
В доме что-то глухо стукнуло.
— Проваливай, откуда пришел! — Ярость клокотала в голосе хозяина. — Сами нищие!
— Простите великодушно, — громче сказал Крушинский, решив не сдаваться, пока не выйдет хозяин, — но я вовсе не нищий.
— Так какого тебе дьявола надобно, если не нищий? — раздалось уже ближе, почти у самой двери.
— Этот адрес... — Крушинский немного раздумывал, говорить это ему или нет, и вдруг решился: — Этот адрес мне дала Анфиса Дятлова.
Ответом ему было долгое молчание. Он хотел было уже уйти и отправиться в Кривой переулок, как дверь распахнулась настежь и Крушинский увидел перед собой высокого (он наклонил плечи, чтобы рассмотреть Крушинского), чернобородого, похожего на цыгана человека, опиравшегося правой рукой о костыль. В первый момент Крушинский так и не понял, о чем говорит взгляд его пронзительных страдальческих глаз под густыми широкими бровями; в нем соединялись неприязнь к незнакомцу и острое, возбужденное любопытство.
Глядя друг на друга, они молчали, словно не зная, с чего начать разговор, которого опасались и тот и другой. Но первым не выдержал хозяин:
— Анфиса? Ты сказал — Анфиса?
Что-то мучительно-горькое было в том, как он произносил это имя.
— Совершенно верно, — ответил Крушинский. — Этот адрес дала мне Анфиса Дятлова.
— Проходи. — Теперь в голосе хозяина прозвучала жалость, обращенная непонятно к кому — то ли к Крушинокому, то ли к самому себе. — Я сейчас печь растоплю, одежу тебе просушить надо.
Он первый прошел в горницу. Крушинский перешагнул порог вслед за ним. Там стоял полумрак, лишь сквозь щели в ставнях струился слабый свет.
— Садись, — кивнул хозяин на табуретку, встряхивая гривой иссиня-черных курчавых волос.
Крушинский сел. Хозяин открыл железную дверцу печи, кинул несколько полешек дров на еще не совсем погасшие угли.
— Разгорится сейчас. Ранняя осень ноне, — словно оправдываясь за погоду, сказал хозяин.
По его лицу, выражавшему нетерпение, было видно, как он жаждет, что пришелец заговорит. Но Крушинский предпочел, чтобы он сам задавал ему вопросы.
— И где ж ты встревался с ней? — осторожно, будто невзначай, с трудом выдавил вопрос хозяин.
— Простите, но с кем я имею честь? — поинтересовался Крушинский. В самом деле, не может же он открывать душу первому встречному.
— А ты кто такой? Каким ветром занесло?
— Моя фамилия — Крушинский. Зовут Ратмиром. По профессии художник.
— Сам майкопский?
— Нет, здесь я впервые. Я москвич.
— Чего ж тебя черт-те куда занесло?
— Очень просто. Революция. Гражданская война. Красные и белые. Смерч.
— Смерч? — переспросил недоуменно хозяин.
Крушинский кивнул.
— На фронте воевал? — строго спросил хозяин.
— Практически нет. Хотя и был мобилизован. А почему вас это интересует?
— Время такое. Откель я знаю, что ты за человек?
— Так и я о вас абсолютно не осведомлен. Кроме того, я уже представился, а сам даже вашего имени не знаю, — с обидой проговорил Крушинский.
— Вот ты говоришь — мобилизовали. А куда?
— В дивизию Врангеля.
— Вон оно как... — мрачно изрек хозяин и, надолго замолчав, занялся печью.
— Но я не принимал участия в боях. Меня заставили портреты рисовать, — надеясь развеять подозрения хозяина, сказал Крушинский.
Хозяин, стоявший на коленях возле печки, не поворачивая к нему головы, спросил сдавленным, дрогнувшим голосом:
— Выходит, там и Анфису видал?
— Мы с вами явно в неравном положении, — воспротивился отвечать на этот вопрос Крушинский. — Скажите хоть, кто вы, как вас зовут.
— Какая разница кто? Дятлов я. А зовут Тимофей, по батюшке Евлампиевич. А только ты раз зачал говорить, так и договаривай. Твоя сабля — моя голова.
— Так вы тот самый? Анфиса часто ваше имя вспоминала: Тимоша да Тимоша.
Тимофей рывком встал с пола, схватил костыль и стоял, гневно глядя на Крушинского, как будто тот и был главным виновником его горя.
— «Тимоша», говоришь? А сама — с поручиками по бульварам? Это как?
Крушинокий тоже встал — порывисто, нервно, как бы и этим хотел выразить свое несогласие с ним и неприятие тех слов, которые он выпалил с неприкрытой злобой.
— Как вы не правы! Я знаю Анфису. Она не из таких, поверьте мне!
— А из каких?
— Она чистая, верная. Если бы вы только могли представить, сколько мук и страданий выпало на ее долю!
— А кто ее туда силком пихал? Что сама накрошила, то пусть и хлебает.
— Нет, нет, истина не на вашей стороне. Так сложились обстоятельства. А обстоятельства бывают выше наших желаний. Вы — счастливый человек, если у вас такая жена!
Тимофей хмыкнул, глядя на Крушинского как на блаженного.
— Баба, она и есть баба, — мрачно изрек он. — Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет.
— Как вы можете так говорить о женщинах? — запинаясь, горячо возразил Крушинский. — Их нужно понимать. Все беды оттого, что мы их не понимаем. Женщина выше нас, сердечнее, чище, мудрее. Нет, что там, она выше всего земного! Пока мужчины не научатся ее понимать и ценить, они не испытают истинного счастья.
— Мудрено гутаришь, — усмехнулся Тимофей, зыркнув глазами. — А как быть, ежели она не баба, а сатана в юбке? Тогда как?
— Нет! — со всей страстью воскликнул Крушинский. — Вы говорите совсем не то, что думаете. Наша жестокость, самовлюбленность, вера в свою непогрешимость — вот что приводит к заблуждению. Женщина не может быть сатаной. Вы посмотрите, как позаботилась о ней природа. Женщина — средоточие земной красоты. И это вовсе не случайно, это ее высшее предназначение — излучать красоту. А красота и злодейство несовместимы.
— Ладно, — махнул рукой Тимофей, чувствуя, что Крушинского ему не переговорить. — Ты небось голодный как волк? Я тоже еще сегодня не жрал. А соловья баснями не кормят. Пойдем на кухню, поедим чего.
— Неудобно, право, — поежился Крушинский.
— Неудобно голому в крапиву садиться, — хмуро пошутил Тимофей.
На кухне было светло, и Крушинский невольно зажмурил глаза, а когда открыл их, увидел, что дождь за окном шел на убыль и откуда-то из-за края тучи проглянуло солнце. Пока Тимофей, поставив чугунок на стол, разливал в миски кулеш с пшеном, Крушинский с интересом разглядывал его. Черная борода делала Тимофея старше своих лет, но придавала ему мужественности. Нос был по-орлиному крут, в глазах будто тлели угольки. «Да, у Анфисы хороший вкус», — подумал Крушинский и вдруг со щемящей болью осознал ту горечь разлуки, какая, наверное, терзала сейчас сердце Тимофея, и свою полную беспомощность в том, чтобы изменить ход событий и повернуть к лучшему судьбу этих двух разъединенных смерчем войны людей.
— Вот ты тут о красоте гутарил, — неожиданно заговорил Тимофей, нехотя хлебая деревянной ложкой суп. — А то не знаешь, что они своей красотой одно замышляют — как бы нашего брата мужика до себя приманить, а потом вволюшку над нами же и поизгаляться. Ихняя красота нам завсегда боком выходит.
— Нет, нет, вы глубоко заблуждаетесь, — запричитал Крушинский. — Красота искренна. Она требует ответного восторга, ласки, нежности, обожания.
— Брехня! Отчего мужик дешев? Оттого что глуп.
— Мы сами превратили женщину в зверя. Она вынуждена защищаться, ловчить, хитрить, лгать. Но придет время — люди станут другими — чистыми, прекрасными, добрыми.
— Поешь ты, как тот соловей, — недобро усмехнулся Тимофей. — А только бабу мы на свою колодку не перетянем. Ежели она потаскуха, так до конца жизни потаскуха.
Крушинский почувствовал, что эти слова поранили ему душу.
— Анфиса ваша не такая! — с возмущением выкрикнул он. — Как вы смеете произносить такое! Разве она виновата, что мы все попали в смерч? Война уродует женщину, убивает ее. А убивать женщину — значит убивать будущее.
Тимофей отодвинул миску, положил на край ее ложку.
— Чего об этом гутарить? — уже мягче сказал он. — Все одно не договоримся. Твои слова как святым кулаком да по окаянной шее. Ты лучше скажи, как ты сюда попал и чего шукаешь.
И Крушинский поведал ему всю историю своей жизни и своих бесконечных скитаний. Солнце, вырвавшееся из-за туч, уже клонилось к закату, а он все говорил и говорил, словно от его исповеди перед Тимофеем зависела вся его оставшаяся жизнь.
— Ясно и понятно, — коротко подвел итог Тимофей. — Оно ведь в жизни как? Какова балалайка, такова и пляска. Выше себя не прыгнешь. И раз так, оставайся у меня. Вдвоем оно сподручнее.
— Спасибо, — растроганно произнес Крушинский. — Вы — мой спаситель, этого я никогда не забуду!
— Да чего там! А с портретом ты это здорово придумал.
— Не я один. Если бы не Анфиса...
— Да ладно! Тебе лишь бы ее передо мной оправдать...
— Но я же совершенно искренне, честно!
Тимофей молчал, глядя куда-то в одну точку.
— А вы так и живете один? — спросил Крушинский.
— Есть тут еще одна девчонка, — нехотя ответил Тимофей. — Аришка. Она к бабке в станицу подалась. За харчами. Да вот третий день как ушла и доселе не вернулась.
— Не случилось ли что? — забеспокоился Крушинский.
— Чего сразу паникуешь? Куды денется? Прыткая она! А ты оставайся. А то закукуешь, как та кукушка, у которой своего гнезда нет.
— Но я должен вам честно признаться, что я без паспорта.
Тимофей почесал затылок.
— Это, конешно, хужей. Ну да, как мой дед говорил, не жаль спины, а жаль дубины. Перебьемся как-нибудь. Ноне таких, как ты, мильон с хвостиком. А за то, что про Анфису рассказал, благодарствую.
Так и остался Крушинский у Дятлова. Подружилсся с вернувшейся из станицы Аришей. Ему сразу понравилась эта смышленая, ловкая, не по годам развитая девочка. Без дела он не сидел — вместе с Тимофеем нанимался копать картошку на огородах, подряжался грузчиком на товарной станции, работал на лесопилке. Тем и кормились.
Крушинского мучила бессонница. Он засыпал на короткое время, стонал, когда во сне мерещилась всякая чертовщина, снова пробуждался и после этого уже долго не мог заснуть. Тимофей спал крепко, но и он порой кричал среди ночи, словно стоял посреди степи:
— Анфиса!
— Что, дядя Тимофей? — спросонья испуганно спрашивала его Ариша. — Только я не Анфиса, я — Ариша...
— Ну, ладно, Ариша! — Тимофей злился на самого себя. — Разница какая? Одна сатана! Хочешь, женюсь на тебе?
— Не надо на мне жениться, дяденька Тимофей! Я вам и так помогать буду. Когда постираю, когда борщ сварю. А то полы помою... Нешто я убегу от вас?
— А подрастешь — к молодому переметнешься. Знаем мы вас как облупленных.
— В жисть от вас не сбегу!
— Слыхали... Хорошо ты баюкаешь, да сон не берет. А спохватишься — тебя и след простыл.
— А куда мне бежать? Одна надежа на вас.
Крушинский прислушивался невольно к этому странному разговору, то удивляясь его откровенности, то опасаясь за Аришу. «А в самом-то деле, каково ей одной жить среди двух мужчин? И вырасти она не выросла, и подросла уже до той черты, когда недалеко и до греха. А Тимофей, ожесточенный на Анфису, уже и о женитьбе заговорил». И Крушинский решил не давать Аришу в обиду, попытаться образумить Тимофея, если тот сойдет с тормозов.
Оказалось, однако, что его вмешательства не потребовалось. Тимофей относился к Арише бережно, как к дочке, не позволял делать тяжелую работу, оставлял лучшие куски, чтобы не отощала. Была Ариша трудолюбивой как пчелка, приспосабливалась к любым, самым тяжким условиям и никогда не роптала. Она и минуты не сидела без дела, и все ей было с руки: она и шила, и вышивала, и готовила обед, и колола дрова, как будто ее с малых лет учили всему этому.
Шли дни за днями, как вдруг произошло неожиданное, враз повернувшее ход событий в совершенно противоположном направлении.
Ветреной ночью, когда с мрачного, тяжелого неба стал срываться первый снежок, а в доме благодаря стараниям Ариши в печке весело трещал хворост, кто-то с улицы боязливо дотронулся до ставни.
— Стучат... — сразу же встрепенулась Ариша.
— Ветер никак не перебесится, — сонно отозвался Тимофей.
Крушинский уже крепко спал и не слышал того, что произошло дальше. Через несколько минут сквозь завывания ветра послышался теперь уже отчетливый стук в ставню.
— Кому там не спится? — сердито сказал Тимофей, нехотя слезая с кушетки.
Он прихватил костыль и пошел к входной двери, светя перед собой коптилкой.
— Кто там? — громко спросил Тимофей.
Никто не ответил на его вопрос.
— В молчанку играть будем или как? — разозлился Тимофей. — Кто там стукотит, я спрашиваю!
И вдруг совсем рядом, прорываясь сквозь завывание ветра, жалобно прозвучал голос, который Тимофей узнал бы и в свой последний час:
— Я это, Тимоша... Я, Анфиса...
Тимофей рывком отбросил засов, распахнул дверь. Ворвавшийся в коридор ветер задул ночник, и он не видел, а лишь чувствовал, как через порог шагнула женщина, закутанная платком, с которого на Тимофея, стоявшего в исподнем белье, сыпануло мокрым снегом. Женщина кинулась к нему, будто хорошо видела его в темноте, обхватила сильными холодными руками, и Тимофей ощутил на груди ее трясущуюся голову и капли влаги — то ли слезы, то ли тающие снежинки.
— Погоди, погоди, — неловко проговорил он, ошеломленный встречей. — Еще застудишь меня.
— И правда, застужу, — опомнилась Анфиса, отшатываясь от него.
— Пойдем, пойдем, — торопливо позвал он, словно боялся, что она как внезапно появилась, так же внезапно и исчезнет в снежной тьме.
Они вошли в комнату, Тимофей подцепил из печки уголек, зажег фитиль. Коптилка неярко засветилась. Он поднес крохотное дрожащее пламя к самому лицу Анфисы, как бы желая удостовериться, что это именно она, а не какой-то другой человек. Но то была она! Она часто дышала ему в лицо, запыхавшаяся, счастливая, разгоряченная долгой ходьбой и легким морозцем.
— Ты?! — вскрикнул Тимофей.
— Живой! — опустошенно и потерянно сказала Анфиса и, качнувшись, опустилась на табуретку.
— Живой, куды я денусь, — приходя в себя, сказал Тимофей. — Да вот гляжу, и ты живая.
Анфиса всмотрелась в него, пытаясь по глазам прочитать его мысли.
— Не рад мне, Тимоша? — удивилась она.
Тимофей помолчал, потом ответил спокойно и вроде бы равнодушно:
— Рад — не рад, какая в том разница.
— Чует мое сердце, что не рад, — испуганно проговорила Анфиса и, бросившись к Тимофею, крепко обхватила его руками, прижалась всем телом.
— Чего об этом зря гутарить? — отвел взгляд Тимофей.
— Любый мой! — задыхаясь от нежности, прошептала Анфиса. — И где я только тебя не шукала... Не верю, что нашла...
— Шукала, да не там, где надо, — еще сильнее нахмурился Тимофей. — Когда хорошо шукают, так находят.
— Так все одно, нашла же, — жалобно сказала Анфиса. — Только не верю я, Тимоша, в свое счастье, убей меня, не верю. Неужто это ты?
Тимофей сел на кушетку, отчужденно отвернулся от Анфисы, будто ее и не было рядом.
— Ну хорошо, откроюсь тебе чуток. Только побожись, что никому ни единого моего словечка не перескажешь.
— Еще чего — божиться! — фыркнул Тимофей. — Ясное дело, никому не скажу.
Анфиса долго молчала, не зная, как ей начать. И наконец решилась.
— Красные меня к белякам послали, Тимоша. Можешь ты это понять? И там я что мне велели красные, то и сполняла.
Тимофей рывком обернулся к ней.
— И долго ты думала, как бы поскладнее сбрехать?
— Не веришь? — вскрикнула Анфиса.
— А как докажешь?
— Как же я тебе докажу, Тимоша? Только своей чистой душой.
— Ладно, спи, — коротко бросил он. — Утром поговорим. А за красных ты не прячься, у меня свидетели есть...
Он лег, устроился поудобнее и вскоре захрапел.
Анфиса лежала на краешке кушетки безмолвная, потерянная. Разве такой представляла она себе их встречу?
Полная дурных предчувствий, она задавала себе вопросы, не находя на них ответа. Что случилось с Тимошей? Может, у него другая женщина? Или кто-то наговорил на нее? Да и как ей теперь отвечать на вопросы Тимофея? Она то вдруг решалась открыться ему во всем, рассказать и о Шорникове, и об Илье, и о том, какие задания она получала от них и какие сведения передавала. И даже о Ксении. Но тут же обрывала себя, внушая, что не имеет на это права, недаром же Шорников не раз так строго предупреждал ее о сохранении тайны. Да и поверит ли он ей, даже если она ему во всем откроется? Ведь не может она ему доказать.
— Тимоша... — жалобно позвала она.
Но он захрапел сильнее, и Анфиса почувствовала, что он притворяется, не спит.
— Тимоша... — снова прошептала она. — Я же только на одну ночку... Сбежала я... Нельзя мне тут долго... Дознаются, и тебя погублю...
Тимофей не отвечал. Может, и в самом деле заснул. И она затихла, закрыла глаза...
Едва забрезжил рассвет, как Тимофей выметнулся из постели. Оделся, не глядя на Анфису, шагнул к двери, опираясь на костыль.
— Пораненный ты? — охнула Анфиса.
— А то не видишь! — грубо отрезал он.
— Да куда ж ты?
— Зараз возвернусь.
Он подошел к окнам, вытащил щеколды из запоров, отправился на улицу. Рывком пооткрывал ставни. За окнами, слегка припорошенный снегом, под низким чужим небом лежал просторный и тоже словно чужой выгон.
Тимофей вернулся в комнату с какой-то отчетливо видной по его лицу странной решимостью. Анфиса уже успела одеться и покорно сидела на кушетке, словно ожидая приговора.
— Гутарить будем при свете, — многозначительно заявил Тимофей. — Так, чтобы я глаза твои хорошо видел — остался в них стыд или весь испарился.
— Об чем ты, Тимоша?
— А то не знаешь об чем. Скажи, какая непонятливая!
— Ну и чем же я перед тобой провинилась, Тимоша, что ты уже и пожалковал, что приголубил меня?
Тимофей с неприкрытой усмешкой окинул ее с ног до головы, как бы говоря презрительно: «И чего придуряешься?»
— А вот это разговор длинный, — враз закипая ненавистью, накопившейся за долгое время разлуки, предупредил Тимофей. — А ежели ты торопишься к своим разлюбезным поручикам и прочему офицерью, так я могу и короче.
Анфиса враз сникла, румянец на щеках поблек, и она как-то сразу состарилась. Значит, уже наговорили ему, нашептали в уши, потому он и такой, совсем не похожий на ее Тимошу.
— Ясное дело, — обреченно промолвила она. — Только я ни в чем перед тобой не виноватая.
— А это мы еще посмотрим, — угрожающе произнес Тимофей. Смущение и настороженность Анфисы еще больше озлобили его. Значит, и впрямь вину за собой чует, значит, не зря Прокофий рассказывал, как она с поручиком по бульварам шастала. — А только я тебе сразу скажу: умела грешить, умей и покаяться. А еще, как моя покойная бабка говорила, каков грех, такова и расправа.
— Не виноватая я, — твердила Анфиса, глядя ему прямо в глаза.
— И не стыдно вот так на меня пялиться? — возмущенно спросил он. — Ты лучше скажи, как у белых оказалась и как там свое времечко веселое проводила.
Анфиса смотрела на него жалобно, будто молила пощадить.
— А вот этого, Тимоша, я тебе не могу рассказать, хоть убей меня на этом месте.
Тимофей от ярости вскочил на ноги, хотел ударить ее наотмашь, но с трудом сдержался.
— Это как же понимать? — Голос его охрип, он уже не владел собой. — Единокровному, можно сказать, мужу? Да какие такие секретные дела ты там крутила, окромя бесстыжего твоего распутства, чтобы в энти дела мужа своего не допущать? Это как же понимать, — распалял он себя все сильнее, — распрекрасная ты моя супружница, каковая обязана верность мужу блюсти до самой своей смертушки? Я што, беляк? Или гидра какая?
— Не беляк ты, Тимоша, красный конник ты, — пытаясь вложить в эти слова всю искренность своей души, заговорила Анфиса. — И я тоже красная, ты не думай. А только не могу, казни ты меня, режь, сожги в печи огненной, — не могу, не имею таких правов...
Тимофей в гневе отшвырнул костыль.
— Понятненько... Вполне ясный вопрос, в каких делах бабы своим мужикам не признаются. А если ты красная, так у красных бы и воевала, а то у беляков развлекалась!
— Как же ты... — едва не задохнулась она от обиды и, вскочив с кушетки, принялась поспешно натягивать на себя пальто.
— Сбечь от меня хочешь? — не помня себя, взвился Тимофей. — От поручиков небось не бегала? С белым офицерьем, заклятым врагом нашим, на пуховых перинах тешилась, так от кушетки нос воротишь? Убью!
Анфиса, дрожа от страха и горя, подскочила к дверям. Тимофей выхватил из-под матраца наган, рванулся вслед за ней.
— Все одно убью, паскуда!
Анфиса остановилась на пороге, гордо подняла голову, сокрушенно сказала немыми губами:
— И такого дурака я любила...
Слезы выступили на ее потухших глазах, и она выбежала на улицу. Тимофей помчался следом. Улица еще была безлюдна, где-то во дворах в последний раз проголосили третьи петухи.
— Стой, не уходи! Не уходи, говорю! — крикнул Тимофей.
Он не видел, что позади него уже стояли встревоженные и растерянные Крушинский и Ариша. Анфиса скорой, неверной походкой удалялась в конец улицы, оставляя на снегу отпечатки маленьких ног.
— Убью! — снова страшным голосом взревел Тимофей, нажимая на спуск.
Крушинский кулаком саданул по его плечу. Грохнул выстрел. Анфиса оглянулась, осуждающе покачала головой, крикнула не своим, срывающимся голосом:
— Эх ты, стрелять не умеешь!
Тимофей помчался за ней, как разъяренный бык.
— Не подходи! — как на самого лютого врага, вскрикнула Анфиса, и было в этом крике столько презрения и гнева, что Тимофей остановился, точно споткнувшись о невидимую преграду.
Анфиса повернулась к нему спиной и скрылась за поворотом, в переулке. Так он и запомнил ее, уходившую — покачивавшуюся от слабости и пережитого, но гордо вскинувшую голову, будто уходила навсегда с этой горькой, полной мук и страданий земли.
Тимофей долго и окаменело стоял на одном месте, не решаясь сойти с него. Потом медленно повернулся к Крушинскому:
— Ты по какому праву? Кто тебя просил?
Но в словах его уже не было злости.
— Лучше стреляйте в меня, — твердо и искренне сказал Крушинский. — Или скажите мне спасибо. Сейчас вы могли убить свое счастье.
Тимофей не то зарыдал, не то истерически захохотал, пошел, шатаясь, по улице, с непокрытой головой, туда, куда скрылась Анфиса.
Но сколько он ни искал ее, так и не смог найти.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Весна двадцать второго года была в Майкопе голодной, но спорой и веселой. Еще болели раны, еще не все мужчины вернулись домой, еще не просохли слезы на глазах матерей, еще почти в первозданном виде зияли своей пустотой покинутые окопы и воронки от снарядов, еще стояли тут и там, пугая своей разверстой оголенностыю, развалины домов, но все равно гражданская война уходила в историю.
Уже в мирные лагеря, для мирной боевой учебы выезжали не привыкшие к тишине и оседлой жизни полки и бригады повзрослевшей в боях и походах Красной Армии.
Антанта, получившая крепкий удар прикладом в зад и убравшись восвояси, с удивлением и опаской поглядывала на подраставшего ребенка — так и не разгаданную ею новую Россию, осиротевшую, как ей казалось, без извечного монарха, — лелеяла мечту не мытьем, так катаньем задушить взбунтовавшийся против «мирового порядка» народ.
Бывшие полководцы Красной Армии в ночные часы, свободные от учений, занятий и совещаний, засели за мемуары, в которых торопливыми, горячими строками спешили запечатлеть опыт минувшей войны, ибо твердо знали, что война эта не последняя, а потому и торопились описать ее как бы в назидание своим преемникам.
Засел за мемуары и барон Петр Николаевич Врангель, с позором изгнанный из Крыма. Первую главу он начал писать еще на яхте «Лукулл», намереваясь завершить весь свой объемистый труд не позднее чем к концу двадцать четвертого года в Сремских Карловицах, что в Сербии, куда забросила его судьба. Он писал с азартом, зло, часто ломая перья от излишнего напряжения и натуги, а также на почве неизлечимого невроза, писал, пытаясь оправдаться перед потомками и наделяя нелестными эпитетами неблагодарную и коварную историю, а также сподвижников своих по белогвардейскому стану. Писал, сводя запоздалые, теперь уже никого не волнующие счеты.
Мирною жизнью дышала страна. Мирною жизнью зажил и Майкоп. Весной двадцать второго года его бесчисленные палисадники, бульвары и скверы благоухали сиренью. Ее охапками тащили девчонки в школу, своим учителям; торговки — на рынок, на бойкие перекрестки и на вокзал, в надежде продать хотя бы по дешевке; охочие до девок парни, спешащие на вечернее свидание в городской парк, где по воскресеньям гремел литаврами военный духовой оркестр.
Соловьи, не умолкавшие до самой зари, оглашали парк и городские окраины ошалело-певучим, теперь уже мирным щелканьем, как бы подтверждая, что ныне если уж и не навсегда, то надолго отгремели выстрелы, суматошные окрики патрулей и что пришла самая пора вить мирные гнезда.
Именно таких соловьев услыхал и Тимофей Дятлов в майскую ночь — в первую ночь, в которую он и Ариша стали мужем и женой. Тимофей то бурно ласкал жену, вкладывая в эти еще непонятные Арише, вызывающие тревожное смятение в ее душе ласки всю свою исстрадавшуюся нежность, всю отболевшую тоску по Анфисе, то принимался горячо шептать ей на ухо слова, от которых ей становилось и стыдно, и сладко, то говорил громко, бесшабашно, чтоб услышала вся Госпитальная улица, как они теперь будут жить, как возьмутся строить новый дом и как народится у них много детей-пострелят.
А едва забрезжила заря, Тимофей встал и вышел во двор. Плеснул в лицо студеной после ночи водой из рукомойника, взглянул на небо. Солнце еще не взошло, но восток начал розоветь.
«Ну и денек сегодня будет, на славу!» — удовлетворенно подумал Тимофей и быстрым шагом поспешил на базар, куда уже с разных направлений тянулись подводы, запряженные лошадьми и быками, устремились хозяйки с сумками и кошелками, нищие с пустыми котомками.
Тимофей шел теперь уже без костылей и радовался жизни. Еще бы не радоваться — нога почти зажила, досаждая только в непогоду, и он чувствовал в себе прилив сил. Горькие думки об Анфисе отдалило время, как бы низвергло их в черную, бездонную пропасть, а судьба взамен подарила ему Аришу — молодую, ласковую, работящую и преданную ему — о какой жене еще можно было мечтать! Зимой Тимофей работал на лесопилке, потом на мебельной фабрике, поднакопил деньжат, и хоть были они, эти деньги, такие, что отдай целую пачку, а взамен получишь коробок спичек, но все же деньги есть деньги, и он чувствовал себя с ними увереннее и спокойнее. Полегчало еще и потому, что ушел от него Крушинский. Вот уже год минул, как пригрела его молодая разбитная вдова, из тех, кто, как ни увертывайся, все одно на себе женит. По странному совпадению жила она в том самом Кривом переулке, о котором Крушинский, искавший пристанища, вычитал в объявлении. Встречаясь с Тимофеем, Крушинский всегда, улыбаясь, вспоминал об этом, а на вопросы отвечал, что все хорошо, Степанида (так звали вдову) кормит его на убой, отвела комнату под мастерскую, а что ему еще надо? Снова Крушинский мог рисовать, правда пока только надкроватные коврики с пейзажами, и Степанида таскала их на рынок, где они пользовались большим спросом.
Тимофей быстро примчался на базар и первым делом устремился туда, где торговали всяческим барахлом. Еще с вечера он загадал купить Арише в подарок красивое платье. Пускай порадуется, заслужила, да и сроду она ничего хорошего и нарядного не носила, все в обносках с чужого плеча. Он так увлекся этой задумкой, что с трудом дождался утра, и теперь мечтал только о том, чтобы нашлось красивое платье, заранее опасаясь, хватит ли у него денег.
Он остановился у лотка, где были развешаны платья,
пытливо и дотошно всматриваясь в них и все не решаясь, на каком остановить свой выбор. Платья казались ему одно красивее другого, да только какое из них понравится Арише? «Вдвоем надо было прийти, пущай бы сама и выбирала, — подумал Тимофей, но тут же возразил сам себе: — Надо, чтоб сюрприз был, тогда и радости будет больше».
Наконец он остановился на ярком, цветастом платье. «Вот это в самый раз, — отметил он. — Чего еще молодой бабе надо, как не цветы?» Он попросил продавца подать ем платье.
— Французский маркизет! — гордо и значительно возвестил длинный как жердь продавец, ловко стеля платье прямо на протянутые руки Тимофея. — Прямым ходом из Парижа!
— Знаем мы ваши Парижи! — насмешливо охладил его Тимофей. — Думаешь, как мужик, так ни хрена в этом деле не кумекает? Ты лучше цену назови.
Продавец назвал. Тимофей чуть не икнул — за платье надо было отдать почти все деньги, заработанные им за целую зиму. «А что мы с ней лопать будем? Поцелуями живот не набьешь», — растерянно подумал Тимофей, собираясь вернуть платье, сославшись на то, что не подходит размер или же расцветка.
— Красота-то какая! — раздался позади Тимофея женский голос. — За такое все, что хочешь, отдам!
Тимофей обернулся. Перед ним, восхищенно глядя веселыми дерзкими глазами то ли на платье, а скорее всего, на Тимофея, стояла молодая женщина. Она скалила крепкозубый рот в ослепительной улыбке.
— А ну, примерь, — попросил Тимофей, протягивая ей платье.
— Тю! — воскликнула она. — У тебя что, глаз нету? Да если я его надену, так оно враз треснет по всем швам. Ты что, не видишь, какая я справная да гладкая?
— Верните, гражданин, платье! — разозлился продавец. — Тоже мне, покупатели! — брезгливо добавил он.
Тимофей, не принимая во внимание его слова, приложил платье к плечам женщины.
«Видать, будет как раз, — прикинул он. — А, была не была! Разве ж Аришка не заслужила?»
— Беру! — решительно обратился он к продавцу. — Заверни да тесемочкой перевяжи, чтоб все честь по чести.
— Это мы мигом! — засуетился продавец, радуясь, что с утра пораньше сбыл не очень-то ходовой товар: народишко сейчас все больше у мясных ларьков толчется да возле хлебушка, а этот, видать, богач, деньги некуда девать. Небось на войне-то грабанул...
Тимофей бережно взял сверток и, подмигнув разбитной бабенке, стал протискиваться сквозь толпу к выходу. И здесь, почти у самых ворот, нос к носу столкнулся с Прокофием Федотовым.
— Ба! — едва не заорал тот. — Базар — это, брат, великий сводник! Второй раз мы с тобой на базаре встречаемся. Куда ты запропал?
Тимофей огорчился. Он так спешил к Арише, а тут эта неприятная для него встреча!
— Никуда я не пропадал, — неохотно ответил он. — Это ты обещал заглянуть, а сам исчез — и концы в воду!
— Так я в горы ездил, — криво усмехаясь, оправдывался Прокофий. — А потом в Родниковской жил, дом родительский ремонтировал. Делов — по горло. А ты, я вижу, с покупкой? В самый раз обмыть.
— Некогда мне, — попытался уйти от навязчивого Прокофия Тимофей.
— Э, брат, так не бывает! Идем в чайную, угощаю. Да хоть расскажи, как живешь.
— А чего рассказывать? В другой раз. Живу и живу.
— «В другой раз»! — передразнил Прокофий. — А может, другого раза не будет. Вот пойдешь ты в милицию, болтанешь про свово закадычного дружка Прокофия Федотова — и заставят меня рылом хрен копать.
— Ты по себе не суди, — огрызнулся Тимофей.
— Да я так, для красного словца, — приторно заулыбался Прокофий. — Думаю, если чего, так подтвердишь, что честный я трудящий. Жизня, она, видишь, как крутанулась — к кому передом, а к кому и задом. Ну пойдем! Хоть на часок!
Как ни хотелось Тимофею уйти от его приглашения и не терять времени, не сумел вывернуться из цепких лап Прокофия.
— Ну, ежели только на часок...
— Да чего нам в чайной тереться, вшей собирать, — уже по дороге сказал Прокофий. — Зайдем ко мне домой. Женка в Родниковскую уехала, вот мы с тобой и похолостякуем.
Прокофий жил недалеко от рынка. Они прошли через палисадник, и Тимофей едва не задохнулся от сладостного запаха сирени. Дом у Прокофия был кирпичный, с мезонином, стоял основательно, выделяясь среди неказистых соседних домишек своей внушительной солидностью. «Да, это не то что у тебя — хибара», — подумал Тимофей, с интересом и завистью оглядывая добротное жилье.
Прокофий открыл тяжелую дверь тремя ключами, впустил Тимофея в прихожую. Здесь размещалась вешалка, на ней висели пальто с дорогим воротником, брезентовые плащи. Три ступеньки вели дальше, в коридор, а из него широкие стеклянные двери — в комнаты. Войдя в гостиную, Тимофей чуть не ахнул: на полу и на стене — огромные бухарские ковры, в шкафу — хрустальная посуда и сервизы, над диваном — охотничьи ружья. Увидев, как все это восхищенно и озадаченно рассматривает Тимофей, Прокофий загадочно усмехнулся:
— Вот так и живем, землячок. А что, не заслужили? Воевали за что? И все — своим горбом.
«Рассказывай сказки», — хотелось сказать Тимофею, но он промолчал.
Прокофий быстро собрал на стол. Таких яств Тимофею сроду не приходилось отведать: красная икра в хрустальной вазочке, жареный поросенок на огромном блюде, молодая редиска... Тимофей сглотнул густую, вязкую слюну.
— Здорово ты живешь! — вырвалось у него.
— А то как же? — задорно похвастался Прокофий. — Хочешь — и тебя научу, как жить. А пока сидай, отметим нашу встречу. Оно в жизни как устроено — старый друг лучше новых двух. Верно? Давай за встречу.
Тимофей все эти годы жил трезво: денег едва на хлеб хватало, да и мог он вполне обходиться без хмельного зелья. На чистую голову и жить легче, и здоровье крепче. И потому уже первая рюмка ударила ему в голову, и он набросился на еду.
— Ещь, землячок, не стесняйся. Для тебя мне ничего не жалко, — с жадностью выпивая стопку за стопкой, уверял Прокофий. — Хошь, последнюю рубаху с себя сниму?
Тимофей лишь слегка притрагивался к рюмке, что выводило Прокофия из себя:
— Гребуешь? Не уважаешь?
— Отвык я, — честно признался Тимофей. — От водки душа чужая.
— Как жил-то, расскажи, — наседал Прокофий.
— Обнаковенная у меня жизня. Как видишь, не помер. А живу не так, как ты.
— Ну и дурак! Ты за што про што с беляками рубился?
— За то, чтоб человек человеком стал. И чтоб один на другом не ездил. При царе как было: один с сошкой, а семеро с ложкой.
Прокофий посмотрел на Тимофея так, будто тот малость рехнулся.
— И ты вот так мозгуешь, что все по-другому будет? Ну, видал я придурков, а такого, как ты, — впервой. Инвалид, белогвардейскую пулю в подарок получил, а он — с хлеба на квас. Да ежели б я на твоем месте — давно бы во дворце жил. Пришибленный ты или чего?
Тимофей оттолкнул в сторону тарелку с едой.
— Ты вот чего... — набычился он. — Ты меня не трожь. Что мне положено, Советская власть все даст, не ты. Как на ноги, вроде меня, поднимется. Ты что, не видишь, что она тоже вся изранетая? Ты вот всю жизнь под себя греб. А придет час, призовут и спросют: ты, Прокофий Федотов, какую пользу для нашего молодого обчества принес? Вот и попробуй ответствуй. Небось язык-то и прилипнет.
Прокофий зло сверкнул на него покрасневшими, почти безбровыми глазами.
— Ты меня не пужай! Отвечу, будь спокоен. У меня здеся вот... — Он вскочил из-за стола, подбежал к пузатому комоду, не глядя, выхватил из ящика пачку каких-то бумажек, встряхнул ими высоко над нерасчесанной, начинавшей плешиветь головой. — Вот, читай, ежели грамотный! Здеся все сказано, все пропечатано. И сколько лошадей я в конницу самого Буденного поставил и ни гроша за то не взял, и сколько беднякам, вроде тебя, помог! Читай!
Он совал бумажки прямо под нос Тимофею, но тот отвернулся.
— Прочитают, кому надо, — сухо сказал он.
— То-то! — торжественно кукарекнул Прокофий. — А то он меня пужает!
Прокофий снова спрятал бумаги в комод, прочно уселся за стол, как бы и этим говоря: нет, шалишь, меня с моего места не сдвинешь, пупок надорвешь!
— Ну, хрен с тобой, я на тебя, земляк, не в обиде, — вдруг миролюбиво протянул Прокофий. — Я тебя понимаю, живешь ты несладко. Но у тебя друг есть, можно сказать, закадычный — сам Прокофий Федотов. Ты мне поможешь, я тебя в обиде не оставлю.
— Не надо мне помогать, — с твердостью в голосе сказал Тимофей. — Я и сам как-нибудь. Руки-ноги на месте, голова тоже вроде еще соображает.
— Гляди, какой гордый! — покрутил головой Прокофий, и на его длинной шее отчетливо взбугрились синеватые жилы. Он помолчал и вдруг спросил: — Баба у тебя есть?
— Есть, — неохотно ответил Тимофей.
— Анфиса?
— Нет, не Анфиса.
— Так, выходит, она и не возвернулась к тебе? Выходит, так с беляками и скурвилась?
— Откуда мне знать, — пожал плечами Тимофей.
— Да ты не тужи по бабе: бог девку даст, — подбодрил его Прокофий, ощерившись желтыми зубами, и погрозил Тимофею толстым пальцем: — А вот где она, ты, землячок, должон знать, как дважды два. Сейчас житуха какая? Власть новая, она пронюхает, кто кому хвост заносил. Иль до тебя ничего не доходит? А ежели кто капнет: так, мол, и так, у Тимофея Евлампиева сына женка с белыми путалась? Тогда как? И загремишь ты, земляк, туда, где Макар телят не пас. Очинно просто загремишь!
Только сейчас дошел до Тимофея скрытый смысл его слов. А в самом деле, если кто расскажет, неизвестно, как еще дело повернется. Доказывай, что не верблюд.
— Ноне все могет быть, — тягуче продолжал Прокофий, нарочно растягивая слова и делая длинные паузы, чтобы держать Тимофея в напряжении. — Времечко такое, что лиса и во сне кур считает. И ты на меня, землячок, зверем не смотри. Я как скала. Из меня, — Прокофий ударил себе кулаком в грудь, — клещами не вытягнешь! Я за своих друзей и товарищей родных под пулю пойду!
Он долго всматривался в Тимофея хмельными, с бесинкой глазами, стараясь понять, какое впечатление произвели на него эти слова, помрачнел и, ложась локтями на стол, перегнулся к нему:
— А только и ты за меня, землячок, постой. Оно ведь как? По которой реке плыть, ту и воду пить. Ты за меня — я за тебя. Я, когда белые здесь хозяйновали, мог бы тебя с потрохами продать да еще и деньгу на этом заработать. А не продал я тебя, Тимофей!
— Что-то непонятно гутаришь ты.
— Все понятно! — ликующе воскликнул Прокофий. — Ежели что, я скажу, что твоя Анфиса была у красных и никаких таких белых поручиков на бульварах не видела. А мне хвост кто прищемит — ты подтверди, что я за красных горой стоял.
— Вот оно как...
— А то как же! Ты не думай, ежели ты не согласный, так я и сам вывернусь! Огонь кочерги не боится. А только оно спокойнее на душе, когда друг за дружку горой. Ударим по рукам?
Прокофий, опрокидывая рюмки на стол, сунул ему жилистую волосатую руку. Чтобы отвязаться от Прокофия, Тимофей слегка пожал его потную шершавую ладонь.
— Вот и сговорились, земляк! — обрадованно заключил Прокофий. — Я знал, что ты свой в доску.
— Ну ладно, — привстал Тимофей. — Спасибо за угощение, я пошел.
И он решительно направился к двери.
— Ты заходи ко мне, всегда рад буду. И я к тебе как-нибудь загляну. Ты где проживаешь?
— Да там же, где и жил.
— На Госпитальной? Добро, нагряну к тебе в гости!
— Нагрянешь, так встренем, — уклончиво сказал Тимофей.
Он вышел на крыльцо. Солнце уже успело подняться над городом. Слово за слово, а просидел он у Прокофия порядком. Заждалась его Ариша, совсем заждалась!
Он поспешил домой. Было муторно на душе от неприятного, скользкого разговора с Прокофием. «Надо ж так испортить настроение, как с утра было хорошо!» — подумал Тимофей и прибавил шагу.
Тимофей подходил уже к площади, от которой начинался городской парк, тянувшийся к обрывистому берегу реки Белой, как до него донеслась траурная музыка.
Он прислушался. Музыка послышалась ближе, и была в ней такая невыразимая печаль, что у него захолонуло сердце.
«Хоронят кого-то», — догадался он.
Тимофей по молодости своей не любил похорон и всегда старался обойти траурную процессию. А тут вдруг случилось с ним то, чего никогда не бывало: Тимофея вдруг неудержимо потянуло на площадь, туда, откуда уже гремел, набирая грозную и скорбную силу, похоронный марш.
Он пришел на площадь, когда гроб уже опустили в могилу и засыпали свежей, влажной, дышавшей весенним паром землей. Воздух распорол залп ружейного салюта. «Гляди-ка, на площади хоронют, да еще и с салютом, как на фронте, — удивленно подумал Тимофей. — Небось большой начальник помер, а может, и красный командир».
Тимофей остановился поодаль, не решаясь подойти к месту похорон, где собралась большая толпа и колыхалось на ветру Красное знамя.
«Вот уж в чем все люди на всем белом свете равны, так это в том, что никому еще не удавалось уйти от своего смертного часа», — сам с собою размышлял Тимофей.
Вновь заиграл военный оркестр, теперь уже марш «Прощание славянки». Тимофею и прежде, на фронте, доводилось слушать духовые оркестры — так себе, с хрипотцой, со ржавчинкой, а то и кто в лес, кто по дрова. И все равно хотелось встать во весь рост и идти в атаку на белых гадов. А этот оркестр был слажен, сыгран и голосист. «Да, большого командира хоронят, — снова предположил Тимофей. — Видать, не меньше чем комбрига».
Он подошел поближе. «Может, из наших кого, из буденновцев... — невесело подумал Тимофей. — И война уже, можно сказать, околела, а люди все падают. Долго еще эта война стрелять будет, аукаться».
Подойдя к толпе, он негромко спросил степенного, с седой бородкой старичка:
— Кого хоронют?
— Видать, человека, — отчужденно и скрипуче отозвался старик.
— И без тебя знаю, что человека.
В этот момент караул с винтовками наперевес, чеканя шаг, прошел перед могилой. Оркестр внезапно смолк, и наступила странная тишина. Толпа все еще не расходилась. Тимофей протиснулся между плотно стоявших людей, крепко зажав сверток: чего доброго, в сутолоке свистнут — останется Аришка без подарка!
Наконец он оказался почти рядом с могилой. Над ней возвышался фанерный обелиск с красной звездочкой наверху. В напряженные глаза Тимофея с дощечки резанули черной тушью выведенные слова:
«Анфиса Григорьевна Дятлова. Отважный сотрудник ВЧК — ГПУ.
Даты рождения и смерти слились в глазах Тимофея в единое неразборчивое целое, растворились в мутной пелене. Было такое состояние, будто он враз ослеп. И радовался, как великому счастью, этой слепоте, как избавлению от страшной беды, такой, от которой нет и не будет спасения.
Тимофей пытался снова прочитать надпись, надеясь, что он ошибся, что все это ему померещилось, как в дурном сне, — и не мог.
— От ран, бают, на тот свет рано ушла. Много разов была ранетая, — раздался поблизости женский голос.
«От моих ран ушла ты, Анфисушка! — содрогнулся Тимофей. — От меня, окаянного, смертушку приняла!»
Он чувствовал, что сейчас заплачет навзрыд, заплачет беспомощно и запоздало, но даже плач был стиснут в его душе стальными тисками, даже губы не разжимались, будто залитые горячим свинцом.
Так и стоял он окаменело у могилы, почерневший и страшный в своей неприкаянноети, словно решил остаться здесь навсегда. Люди уже расходились, а он все стоял и стоял, глядя не на груды душистой сирени, что сплоить укрыли могилу, а на дощечку с неправдоподобно ужасной надписью:
«Анфиса Григорьевна Дятлова».
«И фамилию твою не сменила», — подумал Тимофей, и от сознания этого ему стало еще горше.
И тут Тимофей заметил, как на площадь на крупной, размашистой рыси подкатила пролетка. Извозчик туго натянул вожжи, разгоряченные, серые в яблоках кони нехотя остановились, нервно забили копытами о землю. Из пролетки легко соскочил худой, высокий и бледный человек в военной гимнастерке и букетом цветов в руке.
— Погодь, ты куда? — накинулся на него извозчик. — Гони деньгу!
— Так я сейчас и обратно на вокзал, — сказал военный.
— Нет, милый, ты допрежь за один конец деньгу плати. Знаем мы вас! Нырнешь в подворотню — ищи-свищи!
— У тебя же в пролетке мой чемодан.
— А что в том чемодане? Ты давай наличными. Кони овес хрумтят. Они на одном сене тебе не повезут, не поскачут. А овес ноне — сходи на базар — обомрешь.
Но приезжий уже не слушал его. Он снял фуражку, медленно обошел могилу вокруг, вчитался в надпись на обелиске и бережно опустил к его подножию цветы.
— Был у меня уже один такой шустряк, — призывая к себе в единомышленники Тимофея, продолжал гнусаво бормотать извозчик, разглаживая куцую, жидкую бороденку. — Довез его честь по чести, а он — прыг с пролетки, шнырь через двор — и ходу. Знаем мы вас, ушастых!
Тимофея раздражал его скрипучий, неприятный голос.
— Ты, батя, закрой поддувало, — незлобно, но внушительно одернул его Тимофей. — Не видишь, человека схоронили.
— Ну и чего как схоронили? — петушился извозчик. — Эка невидаль! Придет час — и нас с тобой зароют, только не на площади. От нее, треклятой, не убегишь!
— Заткнись! — приказал ему Тимофей. — Еще слово — и я из тебя...
Извозчик дернул за вожжи и отъехал подальше.
Военный между тем подошел к Тимофею.
— Вот, опоздал, — печально развел он руками. — Как уж спешил, а все равно не успел.
Тимофей молчал, уставившись в землю.
— А вы не из родственников? — поинтересовался военный.
Тимофей хотел было ответить, что нет, но у военного был такой открытый, чистый взгляд и такая тихая печаль отсвечивала на его лице, что он не выдержал:
— Жена она мне была...
— Жена? — изумленно переспросил военный. — Так вы — Тимофей Дятлов?
— Он самый.
— А я — Шорников. Василий Макарович.
Тимофею ничего не говорила эта фамилия, и он все так же равнодушно смотрел на незнакомца.
— А в тыл к белякам я ее засылал, — неожиданно сказал Шорников, глядя куда-то мимо Тимофея. — И скажу тебе напрямик, теперь уже можно, громадную пользу она нам принесла. Бесценная она женщина.
Он помолчал и вдруг заторопился.
— А ты держись, Тимофей Дятлов, — негромко сказал он. — Теперь ее не вернешь. А здесь, — Шорников приложил ладонь к груди, — она у нас всегда будет.
Ему очень хотелось сказать вместо «у нас» — «у меня», но он сдержал себя.
— Было бы время, рассказал бы тебе о ней, — сказал Шорников, взглянув на часы. — А если короче — гордиться надо такой женой! Дня не проходило, чтоб о тебе не вспоминала. Все «Тимоша» да «Тимоша» у нее на языке. Вот так-то. А мне пора, уже на поезд опаздываю. Будешь в Армавире — заходи, горотдел ГПУ, спросишь Шорникова. Есть о чем тебе рассказать.
Шорников вспрыгнул в пролетку, махнул Тимофею рукой. Кони с места рванули вскачь, пролетка гулко покатилась по булыжнику.
Тимофей очнулся от горьких дум и с удивлением обнаружил в руке сверток, повязанный алой ленточкой.
«А ей платье так и не успел купить», — горько подумал он.
Тимофей низко поклонился могиле, взял с нее комок свежей, не успевшей подсохнуть на легком ветерке земли, вынул из кармана чистый носовой платок, бережно положил в него и медленно, через силу, то и дело оглядываясь назад, поплелся домой.
По дороге он завернул в Кривой переулок. В калитке его встретила Степанида, дородная, статная, кровь c молоком. Тимофей спросил о Крушинском.
— Где же ему быть? — недовольно ответила Степанида. — Малюет день и ночь. А ты чего такой, как в воду опущенный? — поинтересовалась она. — Иль беда какая?
— Позови мужа-то, — не отвечая на вопрос, попросил Тимофей. — Нужен он мне.
— Так я счас. Получай свово дружка.
Крушинский вышел, жмуря уставшие глаза от яркого солнца.
— Тимофей! — обрадованно воскликнул он, крепко пожимая его вялую руку. — Как прекрасно, что ты пришел! А меня тут совсем мысли одолели. Заходи, хочется душу излить. Степанида не в счет, ей бы только развлекаться. Нет, дорогой мой, что ни говори, только родство душ приносит счастье.
— Да я на минуту, — не двигаясь с места, сказал Тимофей. — Просьба у меня. Нарисуй мне портрет.
— Какой портрет?
— С Анфисы моей.
— Так я давно уж написал. По памяти. Степанида все порывалась его на толкучку снести, да я не дал. А она сама не своя — ревнует.
— Вот и отдай его мне. И тебе спокойнее будет.
— Конечно, отдам. А как к этому отнесется Ариша? Не получится так, что я буду служить вам против своей воли яблоком раздора?
— Это мои дела, — угрюмо сказал Тимофей.
Крушинский понимающе кивнул, скрылся в доме, долго там пропадал и наконец вышел, держа в руке небольшой портрет. Тимофей посмотрел на холст и обомлел: на него смотрела
живая Анфиса!
— Дарю от чистого сердца, — искренне сказал Крушинский. — Повесь ее так, чтобы на нее свет падал. А я буду приходить к тебе, чтобы полюбоваться. Кстати, ничего о ней не слыхать?
— Померла она, — выдавил из себя Тимофей.
Глаза Крушинского широко раскрылись, в них плеснуло детской синевой неба, которую внезапно закрыли тучи.
— Неправда! — будто этим криком он мог спасти Анфису и возродить ее из мертвых, замахал руками Крушинский. — Ты врешь, Тимофей!
— Кабы неправда. А то правда...
— Смерч... — прошептал Крушинский. — И ее настиг смерч! А я все живу и малюю бездарные коврики! Признаюсь тебе: она была моим кумиром. — Он заговорил горячечно, как в бреду. — Человечество любит создавать кумиров. Чтобы было кому поклоняться. Кому верить. Кому плакаться на свою судьбу. И каждый создает своего бога, даже лик у каждого свой! И у нее — свой!
Он остановился, стараясь отдышаться, и продолжал еще стремительнее и сбивчивее, вытирая ладонью крупные капли пота со лба:
— Кумиры бывают истинные. А бывают и ложные. Проходит время, и вдруг с разочарованием узнаешь, что твой кумир — пустышка, ноль. А ты, веря в него, сжег частицу своей жизни! Анфиса не из таких! Она истинная, настоящая, святая... — Он задохнулся, дико озираясь по сторонам. — И теперь я обязан, — уже тихо и смиренно заговорил он, — запечатлеть ее. И всю эту страшную войну... И ее героев... И мучеников... На свалку эти проклятые коврики! Я еще поднимусь... Поднимусь...
Тимофей, не попрощавшись, повернулся и пошел прочь. Никакие слова, даже идущие от сердца, сейчас не согревали его.
Так он и появился на пороге своего дома перед встревоженной Аришей, держа в одной руке сверток с платьем, а в другой — портрет.
— Где ж ты пропадал! — радостно вскрикнула Ариша. — Заждалась я тебя.
Он протянул ей сверток.
— Это тебе.
— Мне? — удивилась Ариша. — А что?
— Разверни, увидишь.
Ариша сноровисто развязала узелок ленточки, развернула бумагу и, увидев платье, ослепившее ее всеми цветами радуги, зарделась от счастья.
— Ой, Тимоша! — захлопала она в ладоши, — Ой, спасибочки тебе! Я такого никогда не носила.
— Ну так носи.
Ариша стрелой метнулась к зеркалу примерять платье, а Тимофей бережно, будто в руках было что-то стеклянное, повесил на гвоздик портрет Анфисы.
Сияющая Ариша появилась на пороге, и вдруг улыбка схлынула с ее лица.
— Тетя Анфиса? — медленно, почти по слогам, проговорила она.
Тимофей, не отвечая, нахохлившись, как подбитый коршун, сидел на табуретке, и Арише почудилось, что перед ней старик.
— Выходит, мне платье, а сердце — ей. — В том, что сказала Ариша, не было и тени упрека, и Тимофею показалось, что она говорит сама с собой.
— Дуреха ты, — беззлобно проговорил он.
— Нет, не дуреха, — все так же мягко и покаянно сказала Ариша. Она медленно сняла через голову платье, осторожно положила его на кушетку перед Тимофеем, надела свою старенькую, много раз штопанную юбку, потом такую же, в латках, блузку и тихо, почти неслышно, вышла из комнаты.
И Тимофей вдруг осознал, что теперь и она, как когда-то Анфиса, уйдет, и уйдет навсегда, оставив его одного доживать эту постылую, ставшую ему совсем ненужной жизнь.
Он вскочил на ноги и бросился догонять ее. Распахнул калитку и, задыхаясь от страха, выбежал на улицу. Суматошно, незряче огляделся вокруг. Ариши нигде не было.
— Ариша!!! — вырвалось из его души.
Никто не отозвался. Тимофей снова крикнул, еще и еще. Он уже и сам не понимал, какое имя кричал, как в страшном бреду, — Ариша или Анфиса. Все смешалось, и все было тщетно.
И вместо ответа откуда-то с небес, со стороны гор, что недвижно и властно возвышались над Майкопом, донесся сильный и грозный гул. Тимофей в страхе попятился. Ему почудилось, что горы падают на него, еще мгновение — и они рухнут на землю всей своей тысячелетней тяжестью и он навсегда исчезнет под ними. Что-то крича, нелепо размахивая руками, он побежал по улице, надеясь спастись.
Но горы и не собирались падать. Они все так же торжественно и величественно возвышались над городом, над людьми, надо всем миром. А тот гул, который ударил в уши Тимофею, был не более чем предвестием зарождавшейся в теснинах гор яростной грозы. Она была еще далеко, но уже предвещала людям и новые страдания, и новое счастье...
ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Детям моим — Евгении, Наталии и Вячеславу — посвящаю

Уличный фотограф
Идея сфотографироваться в парке в день последнего экзамена пришла в голову, как это ни странно, не Кешке Колотилову, всегда любившему запечатлевать себя для истории, не Мишке Синичкину, прозванному в школе «лондонским денди» за фанатичное стремление одеваться по последней моде (что было для него сравнительно просто, ибо отец его был портным, и портным хорошим), не Тимке Тимченко, по прозвищу Тим Тимыч, который вообще избегал фотообъектива, как заяц избегает нацеленной на него двустволки (по причине предельной узкости, а точнее, спрессованности лица и ярко выраженной остроносости он не относил себя к числу фотогеничных особ). Пришла же эта идея Вадьке Ратникову, чья доведенная до своего окончательного апогея скромность вызывала уже не столько восхищение, сколько взрыв иронических, даже ядовитых, эмоций.
— Что есть скромность? — монументально воздевал холеный, аристократической породы указательный палец Кешка, возвышаясь своей поджарой, как у гончей, фигурой над нескладным, отнюдь не атлетического сложения Вадькой. Видя, как Вадька беспомощно и отчаянно хлопает редкими рыжими ресницами, безуспешно пытаясь понять, к чему клонит Кешка, и боясь клюнуть на очередную «покупку», торжествующе, как с амвона, изрекал: — Скромность — это кратчайший путь к неизвестности!
Кешка вообще питал непреодолимую страсть к афоризмам.
Услышав новое, доведенное до степени парадокса определение скромности, Вадька неожиданно расхохотался. Потом так же внезапно осекся, будто запретил самому себе столь бурно реагировать на Кешкин треп, и снова стал таким же задумчивым, серьезным, целиком ушедшим в себя, каким он обычно и был.
Вполне возможно, что мысль сфотографироваться на память не возникла бы у Вадьки, если бы они не шли сейчас по аллее городского парка и если бы на пути у них не оказалась огромная неуклюжая тренога с громоздкой, как большая скворечня, деревянной фотокамерой.
Уличный фотограф, еще издалека заметив ребят, неторопко и валко бредущих по аллее, конечно же смекнул, что у него наклевывается отличный шанс подзаработать на их прекрасном настроении и младой беспечности. Он был в курсе всех событий, происходящих в городе, этот уличный фотограф. Знал, у кого намечается свадьба и даже у кого предстоят похороны, кто планирует торжественно отметить свой юбилей, а кто питает особую страсть к тому, чтобы на витрине в парке увидеть свое изображение и хотя бы таким образом прикоснуться к нетленности. А уж о том, что в школе закончились экзамены и ошалевшие от радости десятиклассники, еще не вполне поверившие в реальность того, что наконец сбросили тяжкий многолетний груз со своих еще почти детских плеч, жаждут каких-то необычных поступков и даже приключений, — уличный фотограф знал несомненно. Тем более что был отцом сына-десятиклассника, завалившего экзамен по химии, но не потерявшего надежду получить разрешение на пересдачу, так как папа был в школе своим человеком, фото которого красовались на всех школьных стендах и даже проникли в личные альбомы учителей.
Цепким взглядом определив, что к нему приближаются именно выпускники, уличный фотограф, натренированно, почти артистически, улыбаясь все шире и обаятельнее, вышел из-за своей кормилицы — камеры и по-мушкетерски истово раскланялся. Для полного эффекта ему явно не хватало широкополой шляпы со страусовыми перьями и, что еще важнее, гибкого юношеского стана.
— Молодые люди уже жаждут запечатлеться! — не вопросительно, а как о чем-то давно решенном и не подлежащем сомнению, объявил он, выразительным жестом фокусника сорвал крышечку с объектива и произвел ею молниеносное вращательное движение.
В линзе сверкнуло солнце, по-свойски подмигнув счастливым выпускникам. Кешка предостерегающе выставил вперед ладонь, всем своим видом показывая, что он решительно отвергает поползновения уличного фотографа.
— Уймите ваши страсти, сеньор, — выразительно посмотрев на фотографа, бархатистым голосом изрек он. — Убежден, что вы и сами отдаете себе отчет, что ваши фотографии, даже самые удачные, отнюдь не шедевр мирового искусства. Мы же воспитаны на лучших образцах, исполненных в соответствии с принципом социалистического реализма. Вы и в самом деле уверены, что мы сможем различить друг друга на вашем монументальном полотне? И сможем, не испытывая угрызений совести, поместить вышеназванную продукцию в личный семейный альбом?
Речь Кешки была столь откровенно изничтожительна и так агрессивно неожиданна, что круглое, сияющее и зазывное лицо уличного фотографа враз слиняло. Вадьке стало жалко его. Он было раскрыл рот, чтобы хоть как-то смягчить остроту момента, но фотограф уже оправился от Кешкиного натиска.
— Молодой человек, — укоризненно произнес он, подчеркивая свое достоинство, — вас, извините меня, не было еще и в проекте, когда я вот этим самым аппаратом, — он, будто девушку, погладил ладонью камеру, — снимал в Одессе авиатора Уточкина, а в Негорелом — Максима Горького.
— Не сомневаюсь, что у вас богатейшая фантазия, маэстро, — небрежно откликнулся Кешка. Информация уличного фотографа, прозвучавшая как сенсация, не опалила его воображения. — Прощаясь с вами, мы можем лишь пожелать вам и впредь снимать только гениев!
— А давайте сфотографируемся! — вдохновенно воскликнул Вадька, желая хоть этим спасти уличного фотографа от разгромной тирады Кешки. — А, ребята? — уже умоляюще продолжал он. — Представьте: через три месяца мы уйдем в армию. И разлетимся на все четыре стороны. А, ребята?
— Абсолютно точно: нас четверо, сторон света столько же, — заметил Тим Тимыч.
— А разлетимся, так что? Фотографироваться будет поздно, и захотели бы, да ничего не выйдет, — все с тем же воодушевлением продолжал Вадька. — А когда встретимся? Кто знает? Да никто не знает!
— Остановись, мгновение, ты прекрасно! — почти пропел Кешка, ежась от косноязычия Вадьки.
— А в самом-то деле, — поддержал Вадьку Мишка Синичкин. Он вдруг представил своего отца — портного, у которого бы не захотели шить пиджаки и брюки заказчики. — Сдается, вы уже не хотите и думать о том, что школа закончена и необходимо запечатлеть наши счастливые и совершенно лишенные забот физиономии?
— Тебе хорошо, — не сдавался Кешка. — У тебя костюм из Рио-де-Жанейро.
— Но вы будете запечатлевать не костюмы, а ваши одухотворенные лица! Придет время, и вы, любуясь, не оторвете взгляда от этой фотографии. И будете вспоминать меня добрым словом, — ожил уличный фотограф. — Может, вы думаете, что я не имею заработка? Так я вас очень прошу так не думать. Что я на вас заработаю? Вы уже подсчитали мои дивиденды? Я заработаю на вас несчастный ломаный грош, но я выше меркантильной выгоды! — Голос его поднялся до уровня высокой патетики. — Я хочу запечатлеть вашу неповторимую юность!
— Уговорили, — сдался Кешка. — Куда прикажете садиться?
— Вот сюда, — засуетился фотограф. — Вот на эту великолепнейшую скамью, которую будто бы специально установили здесь для вас. Я снимал на ней таких знаменитостей!
— Только не говорите, пожалуйста, что вы снимали на ней Дюма-отца вместе с Дюма-сыном. Умоляю вас, не говорите этого, — остановил его Кешка, скорчив шутовскую гримасу.
Но теперь уже фотографа невозможно было сбить с толку, даже если бы Кешка выдал что-либо еще более язвительное. Фотограф приступил к делу, которому посвятил свою жизнь, и все, что он сейчас предпринимал, можно было бы назвать священнодействием. Он прочнее установил треногу на посыпанной крупным песком аллее, виртуозным движением обеих рук расправил раструб из черной материи позади камеры, удивительно ловко просунул в него свою аскетически удлиненную голову и, протянув правую руку вперед, начал усиленно вращать никелированное колесико в нижней части камеры, отчего она громоздко заскользила по направляющим полозкам, то сжимая, то разжимая черные складки футляра. Наконец, выпростав голову, он по-юношески стремительно подбежал к скамье, на которой сидели четверо друзей, нетерпеливо ожидавших завершения этих нудных манипуляций, и вдохновенно, будто в их жизни предстояло некое историческое событие, заговорил:
— Нет, вы только посмотрите, как они сидят! Так можно сидеть где хотите, но только не на такой ответственной съемке. Я уже подозреваю, что из вас никто не снимался в кино и никто не станет вторым Николаем Крючковым. Ах, как он прекрасно сыграл Клима Ярко в «Трактористах»! Можете себе представить, когда он пел: «Броня крепка, и танки наши быстры...», мне самому захотелось забросить на любой, самый захудалый коммунальный чердак эту проклятую камеру и пойти в танкисты. Да, да, не улыбайтесь столь сакраментально, мои прекрасные юноши! Если вы думаете, что я шучу или просто загибаю от нечего делать, то вы очень и очень ошибаетесь. Нет, нет, у вас очень узковатое, но весьма фотогеничное лицо! — Он повернул голову Тим Тимыча вбок. — Это лицо древнего римлянина! И потому оно смотрится только в профиль, запомните это, юноша, на всю вашу долгую-долгую жизнь! А вы, — теперь он добрался до Вадьки, — вы, в отличие от своего соседа, смотрите мне прямо в аппарат, и никуда больше, избави господь! Вы, конечно же, даже не подозреваете почему? Секрет мастера! Никогда не снимайтесь в профиль, я вас умоляю! Вы красавец, когда снимаетесь в фас! Вы меня правильно поняли — красавец! А в профиль, вы меня простите за мою назойливую откровенность, вы не только не захотите подарить свое изображение любимой девушке, но даже сами с негодованием отвернетесь от самого себя и будете мучить свою матушку одним и тем же вопросом: почему она родила вас, не позаботившись о том, чтобы ваш нос не был столь отчаянно вызывающим? Он затмевает у вас все остальное. Но это лишь тогда, когда вы позируете в профиль. Да, да, и сложите руки перед собой на груди, так будет гораздо выразительнее. Уверяю вас, каждый скажет, что вы задумались, по меньшей мере, над смыслом жизни. А может, и над тем, что произойдет с нашей планетой, поскольку на ней поселился такой злодей, как Адольф Гитлер.
— Я чувствую, что мы так и не сфотографируемся, — нетерпеливо заерзал на скамье Кешка, готовый вскочить и гордо удалиться. — Вы же не режиссер Протазанов, а мы не актеры.
— Да, я не Протазанов! — почти с радостью подхватил фотограф. — Я Ефим Разгон, и, как видите, моя фамилия ничуть не хуже. Сейчас я займусь вами, молодой человек. Что я хочу попросить у вас? Сделайте более озабоченное лицо. В ваших глазах, я бы сказал, безумно обаятельных глазах, поселилась младая беспечность. Вы читаете газеты? Вы слышите, как старушка Европа содрогается от лязга немецких танков? Я не хочу предсказывать ничего дурного, типун мне на язык, но, скажите, вы можете поручиться, что эти танки захотят остановиться у нашей границы и танкисты, как наш Клим Ярко, переквалифицируются в трактористы? Называйте меня как вам будет угодно. Да, я старый ворон, который любит каркать, но я, молодые люди, читаю газеты, слушаю радио, я видел своими глазами, как господин Риббентроп ехал по улице Горького в Кремль. Вы думаете, я поверил хотя бы одному его слову? В таком случае я могу на вас обидеться на всю мою оставшуюся жизнь.
— Вы нас как будто стращаете? — вскинулся на него Кешка. — Вы разве забыли слова товарища Сталина?
— Нет, нет и еще раз нет! — испуганно отшатнулся от Кешки Ефим Разгон. — Я очень хорошо, более того, наизусть знаю слова товарища Сталина. Да, мы ответим тройным ударом на удар поджигателей войны! И я очень хочу, молодой человек, очень прошу, чтобы этот прекрасный лозунг каждый, кто только задумает посмотреть вашу школьную фотографию, прочитал бы в ваших мужественных глазах. — Он вгляделся в Кешкины бледно-голубые глаза, от бесовской красоты и томности которых и впрямь сохли десятиклассницы и даже кое-кто из девятого класса, и удовлетворенно изрек: — Именно так! Теперь в вашем взгляде лед и пламень. А вы, юноша, — он наконец дошел до Мишки, — клянусь всеми своими предками, очень добрый, хотя и достаточно бойкий экземпляр. Пусть ваше лицо излучает только доброту. Это необходимо хотя бы для контраста. Нет, молодые люди, — возвращаясь к камере, возвысил голос Ефим Разгон, — если вы решили, что я халтурщик, то пусть ваши юные, пышущие здоровьем лица станут от стыда красными, как первомайские флаги. Фотография — это моя судьба, я умру, снимая колпачок с моего аппарата на очередной съемке. Вот увидите! А сейчас я призываю вас превратиться в изваяния. На один только миг!
Затвор издал звук, похожий на скрип старой калитки, и юноши поняли, что дело наконец сделано.
— А когда будет готово? — нетерпеливо спросил Кешка, получая от фотографа квитанцию.
— Завтра в это же время, — с важностью в голосе и как бы теряя интерес к клиентам, сказал Ефим Разгон. — Моя фирма гарантирует скорость, качество и только положительные эмоции!
Кешка беззаботным взмахом ладони попрощался с уличным фотографом, покровительственно обхватил Вадькино плечо левой рукой и сказал с улыбчивой иронией, которая всегда въедалась во все, что бы он ни произносил:
— Однако маловато мы заказали фоток, коллега. Всего по три штуки на брата. А между тем, если подойти к проблеме по науке, получается ерундистика с маком. Поворочай мозгами, Вадик. Маме ты фотку обязан оставить? Еще бы, она же будет рассматривать ее в бессонные ночи, когда сыночек подхватит песню в армейском строю. Итак, мамочке экземпляр номер один, как и положено поступать воспитанному и добропорядочному сыночку. Что же касается экземпляра номер два, то его, сэр, вы обязаны вручить в лирико-интимной обстановке своей возлюбленной. Опять краснеешь, малыш? — Кешка не щадил тех чувств, которые всегда предательски обозначались на Вадькином лице. — Но кто не знает о твоем романе, достопочтеннейший? Увы, этот роман уже перестал быть тайной. Не можете надежно хранить свое эпистолярное наследие, милорд! Кто же оставляет любовные письма в учебнике по тригонометрии, на который у нас и без того столь повышенный спрос? Ну, не злись, Вадик! — еще крепче обхватил Вадима Кешка. — Бери пример с меня — я ничего и нисколечки не скрываю. Все лицезреют меня и Анюту как неразделимое целое, все к этому привыкли, и потому народ безмолвствует. Более того, на нас могли бы обрушиться пересуды, если бы в один прекрасный день мы с Анютой перестали влюбленно смотреть друг на друга. Вот тогда бы посыпались запросы, как в английском парламенте. Так-то, Вадимчик! А как неразумно поступаешь ты? Пытаешься целоваться с Асей тайком. Вывод? Массы до сумасшествия жаждут хоть в щелочку увидеть по меньшей мере один ваш поцелуй. Ну, все, все, я прерываю свою обвинительную речь, — поспешно оборвал нескончаемую тираду Кешка, видя, что Вадька насупился и помрачнел до той степени, которая уже чревата взрывом. — Я просто хотел сказать, что оставить Асеньку без своего изображения было бы в высшей степени неблагородно. А предусмотрел ли ты фотку для нашей обожаемой классрукши? Антонина свет Васильевна непременно пожелает поместить в домашний альбом самых гениальных своих воспитанников. Представляете, братцы, проходит, предположим, четверть века, нам уже за сорок, прибываем в свое родное гнездо. Тим Тимыч, естественно, — комкор, Мишка — нарком легкой промышленности, я, разумеется, академик, лауреат Нобелевской премии. А ты, Вадик, ты-то кем станешь, дружище? Не иначе как звездой киноэкрана, ты же как-то поведал свету о том, что тебя пытались снимать в картине «Пламя гор». Отдаешь должное моей блистательной, почти фантастической памяти, джентльмен? Ты плакал там над убитым отцом. Или ты навек останешься сочинителем од и сонетов?
— И сколько часов ты будешь разглагольствовать? — хмуро осведомился Вадька.
— Да пусть треплется, — милостиво разрешил великий молчун Тим Тимыч.
— Слушаюсь и повинуюсь, — галантно раскланялся Кешка. — Значит, смею вам напомнить, экземпляр номер три вручаем Антонинушке. Кроме того, у каждого из нас есть братья, сестры, племянники, друзья и подруги. А потом появятся сыновья и дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки. И все они будут мечтать о том, чтобы заполучить эту историческую школьную фотографию. Итог: каждый из нас закупает у гения фотохроники Ефима Разгона минимум по десять фоток. Ефим Разгон огребет кучу денег, вполне достаточных, чтобы купить себе виллу на островах Зеленого Мыса.
— Смотрите, горы! — неожиданно вклинился в Кешкино стрекотанье негромкий и удивленный голос Вадьки.
В той стороне, куда показывал Вадька и где, казалось, кромка городского парка поглощалась горизонтом, вздымая свои тяжелые снежные вершины, недвижимо застыли горы. Наверное, они были видны так отчетливо с самого утра, но Вадька как бы открыл их заново только сейчас.
Они на миг остановились на аллее и молча смотрели, как Эльбрус и Казбек горят розоватым манящим пламенем. Сколько раз прежде эти горы вставали перед ними, но сейчас у друзей было такое чувство, будто именно в этот час народились на свет и возвысились на горизонте новые вершины.
— Взойти бы и сесть на ту седловину, — мечтательно сказал Мишка, кивая на Эльбрус.
— Да, взойти, и обязательно вчетвером! — подхватил Кешка. — Вот как сейчас!
— Не в этом дело, — охладил его рассудительный Тим Тимыч. — Кто-то обязательно сойдет с дистанции.
— Отъявленный пессимист! — фыркнул Кешка.
— То, что одному под силу, другому — слабо́, — все так же серьезно продолжал Тим Тимыч. — У меня друг — альпинист. У подножия все герои. А на маршруте — один устал и лапки кверху, второй шоколадку хочет, третий по маме соскучился. Глядишь, лезли наверх четверо, поднялся один. Так что, не в этом дело.
— Закоренелый мизантроп, — подвел черту под Тимкино высказывание Кешка. — Кстати, Тим Тимыч, на твою долю я выкуплю не десять, а лишь девять фоток. Насколько я информирован, ты за свои восемнадцать лет ни разу не влюблялся. Убей меня, не понимаю, как человек с обликом древнего римлянина может существовать без девочек.
— Я ненавижу женщин! — В свое запальчивое и гневное восклицание Тим Тимыч постарался вместить как можно больше искренности. — Все они — красивые и кикиморы —
способны лишь предавать!
Вадька удивленно посмотрел на Тим Тимыча. Он никак не мог представить себе Асю в роли предательницы. Если бы не стыдно было перед окружающими, он каждый день начинал бы с того, что целовал Асю в ее смуглые, вспыхивающие пожаром щеки. Казалось, ничто в мире — ни мать, ни солнце, ни даже сам бог, если бы он существовал, — не могло быть для Вадьки столь же притягательным, необходимым, как Ася. Сила земного притяжения была ничто по сравнению с тем, как манила она его к себе — то загадочно, то реально.
— Но, позвольте, мистер мизантроп, — с великолепным прононсом заговорил Кешка, — ваш лозунг приведет к гибели человеческого рода. Кроме того, женщины — чудо природы. Стоит жить уже ради того, чтобы хоть на мгновение узнать обнаженную маху!
— Все они — красивые и кикиморы — способны лишь предавать, — Тим Тимыч упрямо твердил свое.
— И как ты можешь такое! — не вытерпел и Вадька. — А твоя мама — разве она не женщина?
— Не в этом дело. Это единственная женщина, которую я люблю. И точка! — почти свирепо отозвался Тим Тимыч.
— Боже мой, с каким человеком мы свели дружбу! — Кешка воздел свои бледно-голубые очи к небу. — Помоги, господи, образумить заблудшего отрока...
В колючих, как репейники, глазах Тим Тимыча раскалились злые угольки, он оттолкнул Кешку, пытавшегося облапить его, и почти выкрикнул, не сдерживая бешенства:
— Паяц несчастный! Целуйся со своей Дульсинеей, только не в классе за партой! Апулея начитались!
Вадька и Мишка притихли, панически ожидая взрыва, и были ошеломлены, услышав Кешкин хохот, раздавшийся поистине с гомерической силой. Кешка хохотал долго, с наслаждением. Казалось, этот хохот вот-вот достигнет гор, и эхо вернет его обратно, в тихий и немноголюдный сейчас парк. — Цицерон! Сократ! — восторженно восклицал Кешка в паузах между хохотом. — Марат! Робеспьер! А между тем, кретинище, ты даже не подозреваешь, как ты меня превознес! «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал...» — пропел Кешка. — Нет, надо же! Так возвеличить, так обласкать! Я по гроб жизни перед тобой в долгу, милейший ты наш Тим Тимыч!
— Рехнулся он, что ли? — подозрительно косясь на Кешку, спросил плетущийся в сторонке Тимка. — Паяц, сказано, паяц...
— Да, я паяц и тем горжусь! — уже серьезно воскликнул Кешка. — Горжусь тем, что живу на земле и радуюсь жизни. И тем горжусь, что люблю. И что целуюсь. Хочешь, я свою Анюту при всех расцелую вот здесь, в этом парке? Или на Кабардинской? Хочешь?
— Ну и целуйся, юбкострадатель! — презрительно набычился Тим Тимыч.
— А ты, Тим Тимыч, случаем, не больной? — озорно вскинулся на него Кешка, все еще надеясь перевести столь неожиданно вспыхнувшую ссору в мирное русло.
— Подлец ты, Колотилов! — словно выстрелил Тим Тимыч и, круто свернув в боковую аллею, стремительно зашагал прочь.
— Зря ты его так, — с жалостью в голосе сказал Мишка. — Ты же знаешь, он парень обидчивый.
— А мне с Казбека плевать на его обиду! — неожиданно взорвался Кешка. — Когда он меня каменьями, вы с Вадькой в рот воды набрали?
Они остановились и стали похожи сейчас на взъерошенных петухов. Кешка ждал, что друзья начнут оправдываться или попытаются нападать на него. В его возбужденном мозгу уже рождались веские и неотразимые доводы, но Валька вдруг сказал просто, мирно и обыденно:
— Ребята, а хорошо, что сфотографировались, да? По крайней мере, на фотке вчетвером будем. А то, глядишь, подеремся и каждый — своей дорогой.
Эти слова немного охладили Кешку, но он долго не мог утихнуть, оглядывался назад, надеясь увидеть возвращающегося с повинной Тимку, и, не обнаруживая его, вновь закипал:
— Из-за того, что его Катька в восьмом классе переметнулась к Гришке Воскобойникову, возненавидел весь прекрасный пол! А заодно и своих лучших друзей!
Гулять по парку им расхотелось. Мишка сказал, что ему позарез нужно выполнить поручение отца — купить ниток в магазине «Галантерея», а Вадька, как всегда, должен был отправляться в столовую получать комплексный обед. Родители Вадьки учительствовали в школе и домашние обязанности, связанные с питанием, возложили на него. Кешка, не скрывая обиды, холодно распрощался с друзьями. Вадька и Мишка пошли к выходу из парка, Кешка же наоборот, продолжил путь в ту сторону, где, уже укрываясь синеватой мглой, громоздились горы. Он будто намеревался совершить восхождение. Один, без своих друзей.
На другой день Вадька, не сговариваясь, встретился с Кешкой у уличного фотографа. Ефим Разгон, широко улыбаясь, вручил им четыре пакета фотографий.
— В каждом пакете по десять штук, — многозначительно заявил Разгон.
— Как вы угадали наши мысли? — изумился Кешка, выпялив на Разгона свои бледно-голубые глаза.
— Ефим Разгон не только фотограф, милый юноша, он еще и волшебник, — важно произнес тот. — И поимейте в виду, что за дополнительные двадцать восемь фотографий я с вас не беру ни копейки. Пусть это будет мой скромный дар будущим защитникам Родины. — Он вдруг посерьезнел и сказал со скорбью в голосе таким тоном, будто признавался им в чем-то самом сокровенном: — Если хотите знать, мои юные друзья, я тоже имею сына. И его тоже заберут в армию. Нет, простите, я неправильно выразил свою мысль. Скажите, разве это годится, когда говорят, что в армию забирают? Нет, в армию — я, как вы понимаете, говорю о нашей, Красной Армии — не забирают, в армию идут — с радостью, с гордо поднятой головой. Вот у вас, — он обратился к Кешке, — на вашей вельветовой курточке я вижу значок «Ворошиловского стрелка». Это очень почетный значок, я дико завидую, когда вижу его на груди таких же юношей, как вы. Мой сын, его зовут Яшенька, имеет значок ГТО второй степени, но он никак не может заработать «Ворошиловского стрелка», потому что левый глаз у него, как у горного орла, один-ноль, а правый, тот самый, которым надо целиться в мишень, а значит, и во врага, — всего ноль-шесть, вы думаете, это не обидно? Но он все равно тренируется в тире каждый божий день, и пусть у него по трижды нелюбимой химии хроническая двойка, он пойдет в армию со средним образованием и с гордо поднятой головой. И кто знает, может, там, на больших учениях, не хотелось, чтобы на настоящей войне, вы встретитесь с моим Яшенькой. Вы не будете жалеть, если заимеете такого верного друга, как мой сын.
Вадька и Кешка машинально слушали неторопливую, задумчивую речь Ефима Разгона, а сами всматривались в фотографию, будто никогда еще не видели себя такими, какими были изображены на этом листке фотобумаги.
Слева на скамье сидел Тим Тимыч. У него и впрямь было лицо древнего римлянина, короткая, ершистая прическа, взгляд человека, раз и навсегда определившего свою цель в жизни. Костюм у Тим Тимыча был, пожалуй, ничуть не хуже, чем у «лондонского денди» Мишки Синичкина. Левой рукой Тим Тимыч как бы полуобнял Вадьку, который с напряженной задумчивостью, даже угрюмостью, всматривался в объектив, словно пытался увидеть в нем свою судьбу. Несмотря на старания Ефима Разгона, Кешке не удалось отрешиться от беспечности, и лицо его было, как всегда, иронично-улыбчивым. С Вадькой у него было общее только одно — и тот и другой пялились в аппарат, и тот и другой сложили руки на груди. В аппарат смотрел и Мишка, но более застенчиво, пожалуй, даже добродушно.
— Ну вот и родилась наша школьная фотография, — деловито сказал Кешка. — Сэру Тимченко вручи пакет сам. И тоже десять фотографий, а не девять, как я ему обещал. Никогда не поверю, что он не втюрится. Тоже мне, протопоп Аввакум!
— В сведению некоторых эрудитов, — со смехом сказал Вадька, радуясь, что хоть раз сумел подловить Кешку, — протопоп Аввакум был женат, страстно любил свою жену — протопопицу, звали ее Анастасия Марковна, и были у них дети. Анастасия Марковна слыла очень верной женой. Она, не задумываясь, пошла вслед за протопопом в ссылку, в Сибирь.
— Ты это серьезно? — растерянно удивился Кешка. — Ну, тогда — отец Сергий. Тот, чтобы не согрешить, палец себе оттяпал! Указательный!
Злая река Урвань
Повестки из военкомата все еще не было, и перед четверкой друзей встала не дающая покоя проблема: куда девать нерастраченные силы? Естественно, изрядная доля их сил ушла на выпускные экзамены, часть безвозвратно иссякла в дни, когда они сдавали экзамены на значок «Готов к труду и обороне», но, несомненно, силы еще оставались. После фотографирования в парке их содружество как-то распалось, и каждый занялся своими делами.
Вадька едва ли не каждый день бегал в редакцию молодежной газеты и оставлял у хмурого и острого на язык литсотрудника аккуратно переписанные на тетрадных страничках в клеточку стихи. Литсотрудника раздражало не столько стремление Вадьки утвердиться в поэзии, сколько то, что тот писал стихи бисерным почерком, не пропуская ни одного ряда клеточек.
— Вы, юноша, — назидательно, не глядя на Вадьку и небрежно развалясь на обшарпанном стуле, изрекал узколицый, преждевременно лысеющий литсотрудник, — уже сделали меня близоруким. Какого, извините меня, дьявола вы прибегаете к столь возмутительному методу письма? Экономия бумаги? Или задались целью вывести из строя лучшие кадры нашей редакции? Но это, юноша, заранее спланированная диверсия! Взгляните сами! — Он совал листок Вадьке под нос. — Что это, я вас спрашиваю? Письмена древних? Шифровка резидента? Абракадабра! Единственное, что слегка приглушает мою ярость, — это сами стихи. И то лишь в те счастливые мгновения, когда мне удается их расшифровать.
Насладившись длинной тирадой, литсотрудник, которого Вадька считал едва ли не Виссарионом Белинским, а сотрудники редакции, то и дело вбегавшие в кабинет, звали его, к величайшему удивлению Вадьки, просто Жорой, наконец победоносно впивался взглядом в слинявшего и раздавленного обвалом уничижительных междометий начинающего поэта, вскакивал со своего стула и, театрально взмахнув рукой с зажатым в ней листком, завершал:
— Я засылаю их в набор, о величайший из пиитов!
И тут же, нахмурившись еще решительнее, произносил с таинственной задумчивостью, будто вопрошая самого себя:
— И чего они ко мне привязались со своим Жорой? Какой я им Жора? У меня есть имя и отчество. Меня зовут Олег. Олег Александрович.
И он тут же вылетал из кабинета, будто его засасывало в аэродинамическую трубу. От двери, в которой он исчезал, до Вадьки долетал порыв ветра, схожий с зарождающимся ураганом.
Вадька исправно покупал в киоске газету и каждый раз, испытывая волнующую дрожь надежды, приникал к ней, как измученный жаждой путник припадает к воде из внезапно обнаруженного в пустыне колодца. Его стихов в газете, не было. Прекрасные, как ода, слова «Я засылаю их в набор!» тускнели и как бы исторгали саркастический смех.
Вадька никому из друзей и тем более Асе не признавался в своих набегах в редакцию и тщательно скрывал от всех даже то, что пишет стихи.
Что касается Мишки Синичкина, то он в эти дни вынужденного ожидания усердно помогал отцу, а по вечерам столь же усердно бегал с Раечкой на танцплощадку в городской парк. Мишка обожал фокстроты и достиг в этом танце высокого класса. Надо было видеть, как он, впадая в экстаз, выделывал такие пируэты, что окружавшие танцплощадку зрители разевали рты от удивления. Раечка была счастлива. Она тоже не уступала Мишке и томно смотрела на вдохновенное лицо своего кумира, со страхом думая о том дне, в который нужно будет, распростившись с танцплощадкой, мчаться на вокзал, чтобы проводить Мишку в армию. Особо она скорбела по роскошному Мишкиному чубу, который придется, неизбежно подавив в себе безмерную жалость, остричь. Именно такими — наголо остриженными, неузнаваемыми и смешными — уходили в армию вчерашние мальчишки.
Кешка Колотилов целыми днями и вечерами пропадал у Анюты Скворцовой. Они то сидели, закрывшись в Анютиной комнате, которую ее родители по-прежнему называли детской, то забирались в дальний, потаенный уголок сада, под старую грушу. В детской Анюта непременно садилась за пианино, и Кешка восторженно смотрел, как ее длинные, белые, с перламутровыми ноготками пальцы то будто в панике стучали по клавишам, то обессиленно и нехотя кружили над ними, как бы боясь к ним прикоснуться. От музыки, которую Анюта заставляла исторгать старое пианино, Кешке было и радостно и горько. И все же главным для него в эти минуты была не музыка, а сама Анюта. В душе он испытывал явную неприязнь к черному полированному ящику, который отнимал у него Анюту даже на короткое время. Зато как раздольно было ему под старой грушей! Здесь они были совершенно скрыты от посторонних глаз, и Кешка, не теряя ни минуты, жадно обнимал Анюту, чувствуя, как и она стремится теснее прижаться к нему. Ей нравилось, что Кешка, не в пример несмышленым мальцам, которые только воображают, что целуются, а на самом деле лишь боязливо прикасаются губами, целовался по-настоящему.
И Кешка и Анюта знали, что ребята в школе уже окрестили их мужем и женой. Это же предсказывала и Антонина Васильевна. По этой причине они, в противовес стыдливому Вадьке Ратникову, не скрывали своих чувств. Уверившись в том, что их дальнейшая жизнь определилась в школе с вполне достаточной ясностью, Анюта и Кешка не испытывали страха и волнений от предстоящей разлуки. Между ними все было решено давно и твердо. Как только Кешка отслужит срочную, в первый же день его возвращения они идут в загс. Три года ожидания? Подумаешь три года! Кешка попросит в военкомате определить его на службу куда-нибудь поближе. Анюта сможет его навещать. Они будут писать друг другу как можно чаще. Тут у них порой происходили споры. Кешка говорил, что будет писать один раз в неделю, Анюта же утверждала, что надо писать не менее двух раз, иначе любовь постепенно иссякнет. В ответ на Кешкины доводы о том, что его могут послать на учения или же в летние лагеря, где почта ходит не каждый день, Анюта, обидчиво поджав губы, возражала:
— Нет, нет, Иннокентий, ты и не думай! Если ты пропустишь хоть один день, — значит, я сделаю вывод, что ты меня разлюбил!
Кешка подсчитывал в уме: если выполнять каприз Анюты, то за время службы ему придется написать ни много ни мало больше тысячи писем. Он обалдело смотрел на свою избранницу, пытался обратить все в шутку, но Анюта была неумолима.
— Я очень ревнивая, — с гордостью признавалась она. — Ты, Иннокентий, даже не представляешь себе, какая я ревнивая. Я убью тебя, если узнаю, что ты меня разлюбил.
«Любил», «разлюбил» были ее самыми частыми словами.
Кажется, один Тим Тимыч был всецело обуян подготовкой самого себя к службе в армии. Он вскакивал с постели ни свет ни заря, бежал в палисадник, где среди кустов сирени стояла водопроводная колонка. В подставленное ведро яростно била тугая струя воды, такой холодной и хрустально-прозрачной, что казалось, она попала в водопровод прямиком со снежных хребтов Кавказа или, по крайней мере, из протекавшей невдалеке от дома горной, своенравной и стремительной реки Нальчик. Тим Тимыч, повизгивая, опрокидывал ведро на себя и, страдая от обжигающего холода, с неиссякаемым старанием вытирался докрасна вафельным полотенцем. Сменив трусы, мчался на дистанцию пять километров. Маршрут пролегал по самым тихим и безлюдным переулкам, пешеходные дорожки которых давно заросли крапивой и лебедой. Финиш пробега совпадал со спортплощадкой соседней с его домом школы, где по случаю каникул и раннего времени никого не бывало. Тут Тим Тимыч нещадно эксплуатировал казенное имущество — турник, брусья и «коня». На турнике — подтягивание с согнутыми в коленях под прямым углом ногами и так, чтобы перекладина каждый раз оказывалась на уровне подбородка, а затем перевороты. Он мечтал овладеть «солнцем» и поставил своей целью добиться этого до дня получения повестки из военкомата. Брусья давались ему легче. Стойку на вытянутых руках он делал лихо. А «конь» всегда был подвластен с первой попытки. Перелетая через него, Тим Тимыч испытывал истинное наслаждение. После спортплощадки он бежал на свой двор к гантелям, гирям и пористой резине. И с отчаянным упорством накачивал мускулы.
И уж после всего этого он откликался на зов матери, которая ждала его завтракать. Ел Тим Тимыч много, но в сущность еды не вникал, вырабатывая в себе неприхотливость, и всецело был занят думами о предстоящей жизни: в какие войска попадет, какие места будет занимать на спортивных соревнованиях, какие оценки получать по боевой и политической подготовке, как будет выглядеть его карточка взысканий и поощрений. Все эти армейские премудрости были ему знакомы со слов отслужившего родственника дяди Ефрема. Тим Тимыч мечтал не просто о службе — он решил посвятить армии всю свою жизнь. И не просто армии, а именно танковым войскам. Идти в училище сразу же после десятилетки он не хотел. Нет, сперва послужит рядовым, поест солдатской каши, набьет мозолей, а уж потом подаст рапорт о зачислении в военное училище. Иначе какой из него командир?
Втайне Тим Тимыч мечтал о том, что станет полководцем, маршалом, таким, как Климент Ефремович Ворошилов или Семен Михайлович Буденный. И будет награжден орденом, причем обязательно орденом Красного Знамени, каким награждали в гражданскую войну самых героических командиров.
Катю Лушникову, как он старался уверить самого себя, начисто изгнал из своего сердца и даже из головы. С Гришкой Воскобойниковым, который (Тим Тимыч был убежден в этом!) переманил Катю лестью и хитростью, а также билетами на вечерние сеансы в кино, он продолжал здороваться, но Кате измены не простил. А неприязнь, граничившую с ненавистью, которые возникали у него при одном только появлении Кати, Тим Тимыч перенес на всех девчонок, решив навсегда поставить на них крест. Почти искренне он утешал себя тем, что женщины могут быть только помехой для целеустремленных людей, к которым Тим Тимыч причислял и себя.
Вот так, в том неопределенном промежутке времени между концом экзаменов и призывом в армию, они и проводили свое время, изнывая от того, что до отъезда было, как им казалось, еще бесконечно далеко, и от того, что все, чем они сейчас занимались, было совсем не то, что им нужно в жизни.
Школьную фотографию, исполненную уличным фотографом Ефимов Разгоном, они, показав родителям и знакомым, забросили кто куда: кто в ящик письменного стола, кто в семейный альбом, кто в книжный шкаф. И только Вадька предусмотрительно положил ее в старенький фанерный чемоданчик, который собирался взять с собой в армию. Туда же он сунул и общую тетрадь в картонных корочках, намереваясь вести дневник и сочинять стихи.
Разлучившись на целых две недели, они неожиданно, не сговариваясь, почувствовали острую необходимость общения. Слишком долго связывала их школа, чтобы можно было теперь обойтись друг без друга. Но каждый из них не мог переступить ту черту, которая мешала примирению. По молодости им казалось, что это унижало их собственное достоинство.
Первым переступил эту черту Вадька. Наверное, прежде всего потому, что он не был злопамятным от рождения и быстро забывал обиды. Была и другая, может быть, даже более основательная причина. Из всех четырех друзей один только Вадька увлекался рыбалкой, которую многие считали занятием несерьезным и легкомысленным. И вот Вадьке страсть как захотелось порыбачить, причем с ночевкой, но мать его одного не пускала. И тогда Вадька отправился к друзьям.
Первый, к кому он пришел, был Мишка Синичкин. Валька застал его в портняжной мастерской, где он помогал отцу гладить, видимо, только что сшитые брюки. Мишка ловко орудовал огромным чугунным утюгом, в крохотных окошечках которого деловито пламенели угольки. От влажной отпарки шел густой, пахнувший горячей шерстью пар.
Вадька терпеливо ждал на пороге, но Мишка не обращал на него никакого внимания, подошел к нему лишь тогда, когда повесил идеально отглаженные брюки на деревянные плечики.
— Привет труженикам легкой промышленности! — весело сказал Вадька.
— Привет! — поздоровался Мишка сдержанно. Рука у него была горячей, и сам он сейчас был чем-то похож на утюг, которым только что гладил брюки. — Хочешь заказать себе модный пиджак?
— Ты уверен, что нас в армии не переоденут? — удивился Вадька. — Слушай меня внимательно, — заговорщически продолжил он. — Я пришел с тем, чтобы вырвать тебя из цепких лап эксплуататоров... — Он выразительно покосился на Мишкиного отца.
— Здравствуйте, Вадик! — между тем, приветливо взмахнув рукой, сказал Мишкин отец, принимаясь чертить кусочком мела на отрезе бостона. — Кажется, вы хотите выкрасть моего помощника?
— Борис Моисеевич, только на один день, — бодро заверил Вадька и, обращаясь к Мишке, взял быка за рога: — Махнем на рыбалку? С ночевкой.
— В таком случае вы можете быть уверены, что крадете его с моего согласия, — милостиво разрешил отец Мишки и сразу же потерял к ним всякий интерес.
— Спасибо, Борис Моисеевич! — обрадованно воскликнул Вадька.
— Главное в жизни — кислород, — махнул рукой Борис Моисеевич. — А какой может быть кислород в этом филиале ада?
— А танцы? — непроизвольно вырвалось у Мишки.
— Ну, ты даешь! — язвительно произнес Вадька. — Фанатик фокстрота! Какой кислород на танцплощадке? Миллиарды и даже триллионы бактерий.
— Так я же не рыбак, — все еще пытался увильнуть Мишка.
— Рыбачить буду я, — настаивал Вадька. — А тебе будет поручена ответственная и крайне почетная роль виночерпия. И еще ты будешь есть уху. На природе. Под грохот водопада. Среди диких скал. Неужто танцы затмили тебе весь белый свет?
— Но я уже договорился с Раечкой...
— Не погибнет твоя Раечка. Встречи прекрасны, если существуют разлуки.
— А куда ехать? — поинтересовался Мишка осторожно.
— На Урвань! — торжественно объявил Вадька.
— На Урвань? — испуганно переспросил Мишка. По его оторопелому лицу можно было подумать, что Вадька предложил ему отправиться по меньшей мере на Галапагосские острова.
— Вся планета уместилась на твоей танцплощадке, — упрекнул его Вадька. — И за что тебе Мария Антоновна ставила четверки по географии? Ты имеешь хоть малейшее понятие, где течет река Урвань?
— Нет, — честно признался Мишка.
— Тем более тебе необходимо расширять свой кругозор, — наставительно заявил Вадька. — К твоему сведению, река Урвань находится отнюдь не на краю света. Мы садимся в комфортабельный вагон пассажирского поезда и через сорок минут высаживаемся вблизи этой реки, неподалеку от впадения в нее реки Нальчик. В Урвань впадает также и Черек, что течет в столь же неизвестном и таинственном для тебя Черекском ущелье, вблизи Голубых озер. Надо полагать, о существовании этих озер ты тоже слышишь первый раз в жизни?
— Нет, о них я слыхал.
— Слава аллаху! Урвань, да пополню я твои убогие познания в географии, в свою очередь, впадает в Малку, а Малка — в Терек, понял, знаток бальных танцев?
Мишка кисло поморщился:
— Вадик, я тебя очень прошу, не подражай Кешке.
— То есть?
— Ну, говори своим языком. Пожалуйста. Если ты хочешь, я поеду. Но только обязательно вчетвером. Разве ты сможешь уговорить Тим Тимыча после того, что произошло в парке?
— Уговорю.
— И может быть, можно будет пригласить Раечку? — осторожно спросил Мишка.
— Ни в коем случае! — непреклонно заявил Вадька, наслаждаясь Мишкиным смущением и растерянностью. — Это — мужское мероприятие, и точка!
— Я же только поинтересовался, — оправдывался Мишка.
От Мишки Синичкина Вадька поспешил к Кешке. Мишка жил неподалеку от рынка, на Почтовой, которая с восхода солнца до самого вечера, особенно по воскресным дням, кишела людьми. А дом Кешки располагался в укромном месте, в самом начале курортного поселка Долинский. На Почтовой, как это свойственно всем улицам, прилегающим к рынку, ютились, прилепившись один к другому, как ласточкины гнезда, всевозможные мастерские, крохотные магазинчики, забегаловки, парикмахерские, пивнушки, закусочные. А в Долинском было малолюдно, редкие дома, похожие на дачи, стояли поодаль друг от друга, окружив себя рощицами акаций, каштанов, ясеней, грецких орехов да тихими полянками, от разноцветья которых рябило в глазах. Здесь на все голоса звенели птицы и какой-нибудь вопль ошалелого мальчишки воспринимался как светопреставление.
Чтобы попасть к Кешке, надо было миновать парк, срезав под углом его, выйти к домику краеведческого музея, приютившегося в глухом углу, у самой ограды, и по недавно заасфальтированной дорожке направиться к окраине Долинского. Вадька очень любил эту дорожку, потому что именно по ней носилась как угорелая Ася Малинина на своем велосипеде. Этот велосипед подарил ей брат-летчик, приезжавший в отпуск. Велосипед был предметом острой зависти одноклассников. Вадька же любовался не велосипедом, а тем, как ловко, отчаянно дерзко, каталась на нем Ася. Как молния, она проносилась мимо изумленных прохожих и, будто истинная циркачка, на ходу стремительно вскидывала ноги в красных туфельках с педалей на руль. В этот момент в душе у Вадьки ощущался льдистый холодок, и он с нетерпением ждал, когда она наконец снимет ноги с руля и поедет, как все нормальные люди. Боясь за нее, он мучительно завидовал ее отчаянной смелости.
Вадьке повезло: он поспел в ту самую минуту, когда Кешка собирался уходить из дому. Он только что помыл голову, высушил волосы на солнце и причесывался перед зеркалом в просторной и светлой прихожей. Мягкие льняные волосы были похожи сейчас на каштановое облако, опустившееся ему на голову.
Кешка откровенно кисловато посмотрел на вошедшего Вадьку, давая понять, что тот приплелся к нему не вовремя и что, как бы ни был важен и неотложен вопрос, ради которого Вадька решил к нему прийти, он, Кешка, не сможет ему уделить того внимания, какое смог бы уделить в более подходящий момент.
— Спешу к Анюте, маэстро, — объявил Кешка многозначительно. — И потому могу подарить тебе не более пяти минут. Сможете ли вы, сэр, уложиться в такой жесткий регламент?
— Смогу, — заверил, подражая ему, Вадька, — если ты дашь мне вставить хотя бы одно слово в свою тронную речь.
— Я умолкаю и весь обращаюсь в слух.
Вадька поспешно и довольно сбивчиво объяснил Кешке цель своего визита. Кешка оживился. Он еще усерднее принялся жать оранжевую резиновую грушу, прикрепленную к флакону, обволакивая свою голову струей одеколона.
— Прекрасная мысль! — восхищенно одобрил он. — Это надо же придумать — рыбалка с ночевкой! Именно с ночевкой — голосую двумя руками! Анюта будет в восторге. Ты не можешь себе представить, ее родители, как два беркута, денно и нощно стерегут свою дщерь. А тут мы объявим, что поход по решению комитета комсомола, явка для всех обязательна.
— Но мы решили, что поедем вчетвером, без девчонок, — не очень решительно сообщил Вадька, потоптавшись у порога.
— Кто это — мы?
— Я и Мишка.
— Ну, диктаторы! — с наигранным возмущением заговорил Кешка. — Они, видите ли, решили!
— Мишка тоже не берет Раечку, — попробовал обосновать свою позицию еще одним аргументом Вадька.
— Вадим Ратников, я всегда верил в твою мудрость. Отличник, гордость класса, у Антонинушки ежечасно на языке как образ героя нашего времени, и вдруг столь непродуманное вещание! Раечка и Анюта — это же лед и пламень! Раечка дальше танцплощадки не сделает шагу. А моя Анюта пойдет за мной на Эверест! Я призываю тебя, Вадик: шевели мозгами хотя бы один раз в сутки!
Кешка вдруг остановился, будто шел по ровной дорого и споткнулся неизвестно обо что.
— А Тим Тимыч? — отчужденно и хмуро спросил он. — Этот женоненавистник тоже едет?
— Не знаю, — ответил Вадька. — Я с ним еще не говорил. Но лучше бы вчетвером. Как на фотографии.
Кешка покровительственно хлопнул ладонью по узкому и покатому Вадькиному плечу и иронически усмехнулся.
— Ребенок ты еще, Ратников, пеленать тебя надобно. «Как на фотографии», — в точности копируя Вадькину интонацию и даже тембр голоса, передразнил он. — Какая фотография способна отобразить жизнь? Вот мы живем сейчас, а придет день, когда нас не будет. Найдут нашу фотографию чужие и незнакомые люди. Посмотрят — сидят четыре юнца, скажут — друзья — водой не разольешь. А на самом деле дружба наша — так, одна видимость. У каждого своя дорожка в жизни. Может так случиться, что и не повстречаемся больше никогда.
— Это зависит от нас самих, — убежденно сказал Вадька.
— Не только от нас. Это как судьба повернет, — возразил Кешка. — Но, господин посол, пять минут давно истекли!
И Кешка, приветственно взмахнув рукой и одарив Вадьку солнечной, жемчужной улыбкой, стал спускаться с крыльца, выбивая на каждой ступеньке нечто похожее на чечетку. Вадька вначале плелся за ним, но, выйдя за металлическую ограду Кешкиного дома, остановился. Кешка исчезал за поворотом каштановой аллеи.
— Так ты поедешь? — крикнул ему вдогонку Вадька.
— Непременно! — обернулся на ходу Кешка. — Завтра в семь ноль-ноль буду на столичном вокзале с Анютой!
Теперь оставался Тим Тимыч. Так как Кешка не высказал своего отношения к поездке Тим Тимыча на Урвань, то у Вадьки руки были развязаны. Ехать — так обязательно вчетвером, ведь не зря же они три года подряд, начиная с седьмого класса, сидели на задних партах по соседству, и не зря же вся школа считала их неразлучными друзьями.
Тим Тимыч упражнялся в лазании по канату. Точнее, это был не канат, а толстая бельевая веревка, которую Тим Тимыч с трудом выпросил у матери и привязал к раскидистой ветке карагача. В тот момент когда Вадька появился во дворе, Тим Тимыч заканчивал подъем и, ухватившись за корявую, бугристую и прочную, как железо, ветку, закреплялся на дереве. Таким методом Тим Тимыч приучал себя не бояться высоты. Он тут же цепким взглядом узрел Вадьку.
— Очередной к канату! — незамедлительно подал команду Тим Тимыч, подражая школьному учителю физкультуры.
Вадька подошел к веревке, подскочив, ухватился за нее и начал, прижимая ноги к животу и обвивая ими веревку, подтягиваться. С грехом пополам ему удалось добраться лишь до середины каната. Зависнув и тоскливо взглянув на недосягаемого Тим Тимыча, он понял, что руки полностью обессилели и что придется с позором прыгать вниз.
— Не спускайся! — властно потребовал Тим Тимыч. — Собери всю волю в кулак. Кто кем командует: ты канатом или канат тобой? Докажи, что ты человек!
Однако, чтобы доказать, что он человек, Вадьке не хватило сил. Он мешком скатился на траву под карагачом, чувствуя, как веревка обожгла ему кожу ладоней.
— Хиляк-самоучка! — презрительно подвел итог Тим Тимыч. — И таких слабаков призывают в армию!
— Ладно, слезай, — разозлился Вадька. — У меня к тебе разговор.
— Я прекрасно услышу тебя, — как ворон, устраиваясь в своем гнезде, откликнулся Тим Тимыч. — Одновременно я натренирую свой слух. Ну-ка, произнеси какое-нибудь число. Только шепотом.
— Шестьдесят восемь, — прошептал Вадька.
— Шестьдесят семь, — громко и уверенно отозвался Тим Тимыч.
— Ошибся! — ликующе воскликнул Вадька. — Зарубят на медкомиссии! Не «шестьдесят семь», а «шестьдесят восемь»!
— Ты не сбрехал? — заволновался Тим Тимыч. — Честно? А ну, еще раз!
— Иди ты! — отказался Вадька. — Мне некогда. Еще удочки надо подготовить. И червей накопать. И рюкзак уложить.
— Зачем? — удивился Тим Тимыч, спускаясь вниз.
Вадька рассказал.
— Нет, это не по мне, — наотрез отказался Тим Тимыч. — Бесцельно сидеть на берегу и ждать, когда эта ненормальная рыба захочет клюнуть?
— Да по тебе это, по тебе! — как можно убедительнее вскричал Вадька. — А форсировать бурную водную преграду под огнем противника — не по тебе? А вскарабкаться на скалы со срочным донесением — не по тебе? А уха из форели и напиток из облепихи — тоже не по тебе? А ночь у костра? Тепленькое одеяло — вот что по тебе! И мамочкины пирожки с капустой!
— Почему с капустой? — удивился Тим Тимыч. — Я их ненавижу — с капустой! Вот с фасолью — это я обожаю.
— Катись ты со своими пирожками! — раздраженно сказал Вадька, захлопывая за собой калитку. — Пожалеешь, что не поехал.
— Кто сказал, что я не поехал?.. — возмутился Тим Тимыч.
Он хотел еще что-то произнести, но не мог. Вадька облапил его так яростно, что слова застряли у Тим Тимыча в горле...
На Урвань они приехали, как выразился Кешка, чин чинарем — пассажирским поездом. Кешка всю дорогу скулил, что, несмотря на все его усилия, родители не отпустили Анюту. Друзья втайне радовались такому обороту дела. Было бы ужасно, если бы среди них сейчас оказалась эта красивая, капризная и своенравная Анюта.
Спрыгнув с высоких подножек на галечную, захрустевшую под ногами насыпь, они подождали, пока тронется поезд. Стоял он здесь, на полустанке, минуты три. Потом вагоны дрогнули, гремя сцепкой и буферами, и покатились к равнине, к станции Котляревской, туда, где, вырвавшись из горных мрачных теснин, устремился к Каспию Терек. Паровоз то и дело притормаживал на отлогом спуске, вагоны с металлическим лязгом «целовались», но все это уже потеряло для четверых друзей интерес, потому что в трехстах метрах, за сизо-дымчатыми колючими зарослями облепихи, бурлила и пенилась, пытаясь сдвинуть с места камни и валуны, своенравная и загадочная Урвань.
Один за другим они вытянулись на тропке. Шествие возглавлял Вадька. Ему не терпелось попытать рыбацкого счастья.
Было раннее утро, но солнце уже припекало. В выжженной траве отчаянно стрекотали кузнечики. Вспугнутый людьми, нехотя взлетел с открытого места и перемахнул в кустарники фазан. Хвост его радугой сверкнул на солнце. Река гремела по каменистому ложу, как древняя колесница. От нее тянуло знобящей, принесенной с ледников прохладой.
Пробравшись сквозь цепкие, стерегущие реку кустарники, они выбрались на каменистый берег. Теперь река простиралась перед ними, не тая от них ничего — ни скалистого, в зеленоватых, под медь, изломах правого берега, ни казавшегося отсюда крохотным железнодорожного моста, ни зарослей облепихи.
Дожди давно не шли, и потому вода в Урвани была настолько прозрачной, что на каменистом дне можно было различить каждую песчинку. Все вокруг — и колючая трава, и жестяные листья кустарников, и даже сам воздух — звенело сухостью. И только вода, вобравшая в себя злой холод ледников и синеву высокого, без единого облачка, неба, освежала эту сухость и приглушала страх перед зноем. Река, хотя и обмелела, обнажив потерявшую цвет и блеск гальку, была сейчас сильнее самого солнца.
— Красотища-то какая! — распахнув длинные тонкие руки, будто собираясь обнять все, что было вокруг, воскликнул Кешка. — И на такое чудо не дали взглянуть Анюте!
— А река так себе, не очень бурная, — безмятежно оценил Урвань Мишка. — Вот когда я был с отцом на Енисее...
— Не в этом дело. Река как река, — прервал его Тим Тимыч. — Малая горная река Приэльбрусья. Вполне преодолимая водная преграда. На данном участке доступна для форсирования танками. Причем своим ходом, без понтонов.
— Жаль, что обмелела, — сокрушенно вздохнул Вадька, разматывая удочки. — Придется искать омут. Иначе останемся без ухи.
— А нас не запугать! — с воодушевлением заявил Кешка и принялся извлекать из рюкзака консервы, копченую колбасу, пирожки, огурцы, помидоры. Напоследок он выудил бутылку вишневой настойки. — Как видите, уважаемый потомок Аксакова, даже без вашей рыбы нам не грозит голодная смерть.
Глядя на Кешку, неуклюже сгорбился над своим потертым портфелем под крокодилову кожу Мишка. Он щелкнул замками и торопливо, застенчиво вынул из портфеля огромный кулек.
— Это — конфеты. «Раковая шейка», — пробормотал он. — Раечка устроилась работать на кондитерскую фабрику. А я очень люблю чай, только не с сахаром, а с конфетами.
— Завидую! — пророкотал Кешка. — Раечка устроила своему избраннику райскую жизнь! Оригинально!
— А я картошки накопал. Молодой. Саперной лопаткой, — серьезно и озабоченно сообщил Тим Тимыч. — Лопатку мне дядя Ефрем подарил. И вот это, — с гордостью похлопал он по пузатому, набитому картошкой вещевому мешку.
— Мог бы накопать и не саперной, а обычной, будущий Суворов, — почти ласково пропел Кешка, видимо рассчитывая на примирение с Тим Тимычем. — Однако в любом случае «картошка — объеденье, пионеров идеал», и «тот не знает наслажденья, кто картошки не едал». Приступим к трапезе.
— И не думай, — твердо отчеканил Вадька, уже дрожавший радостным предчувствием первой поклевки. — Сейчас — рыбалка. И так утреннюю зорьку упустили. А вы пока окунитесь, позагорайте и нагуляйте аппетит.
Кешка состроил кислую мину, но, ко всеобщему удивлению, сопротивляться не стал.
Вадька разулся, закатал белые парусиновые штаны до колен и, вздрагивая от накаленной солнцем гальки, обжигавшей голые ступни, пошел искать омут. Пришлось перелезать через обросшие зеленью мокрые валуны, колоть ноги об острые сухие сучья, схожие с костями динозавров, проваливаться в рыхлый песок. Но что все это значило, если через какие-то считанные минуты он сможет забросить донку в круговорот омута, где наверняка ждет желанную насадку хитрая, осторожная форель.
Наконец за огромным выступом скалы он увидел тяжелую круговерть воды — верный признак омута. Вода вращалась почти на одном месте, образуя живую как ртуть воронку со вспененными гребешками. Вадька дрожащими пальцами наживил червяка на крючок, поправил свинцовое грузило-оливку и, стараясь не хрустеть галькой, подкрался к нависавшему над омутом кусту боярышника. Тень от Вадьки не ложилась на воду, она распласталась на мокром песке берега, и это его обрадовало. Он знал, что главное пугало форели — шум на берегу и внезапная тень на воде. Взмахнув коротким удильником, Вадька послал крючок в воду, стараясь попасть в центр водоворота. Грузило коротко и обреченно булькнуло и исчезло в воде. Вадька смотал излишек лески, течение тут же упруго натянуло ее.
Издали, там, где было решено остановиться на ночлег, слышались голоса и смех ребят. Они визжали от ледяной воды и, видимо, долго не могли согреться на солнце.
Сейчас Вадька забыл обо всем на свете — и об армии, и о родителях, и даже об Асе. Сейчас в мыслях было только одно: ожидание того счастливого мига, когда туго натянутая течением леска вздрогнет от резкого толчка, толчок ударит в Вадькину ладонь и она автоматически вскинет удилище, делая точную и верную подсечку. Или он поймает форель и докажет, что он не просто рыболов-теоретик, или не поймает ее и тогда будет обречен на бесконечные насмешки своих однокашников.
Вадьке повезло: внезапно клюнуло так, что молниеносной дугой свело кончик удилища. Вадька подсек, крупная рыба рванулась к коряге, колыхавшейся над водой. Он едва успел сдержать этот безумный порыв, в который форель, казалось, вместила свою обреченность и адскую надежду на спасение. Вадька не дал ей уйти под корягу, и она тотчас стрелой ринулась в противоположную сторону, к руслу реки, на быстрину. Леска зазвенела, как натянутая тетива. Форель, почувствовав сопротивление, живой серебристой торпедой выметнулась из воды и в тот же миг снова скрылась в бурлящем водовороте. Сердце у Вадьки то замирало и холодело, то окатывалось жаром. Сейчас все, что было у него самого ценного, он отдал бы за то, чтобы рыба не сорвалась с крючка, не оборвала леску. А это могло случиться в любую секунду. Вот уже леска, натянутая рыбой и течением, легла на острый гребень валуна. Стоит помедлить, замешкаться, и валун перережет ее как бритвой. Вадька, вздымая кверху удилище, вбежал в воду, скользя по мокрым, покрытым водорослями камням, едва удерживая равновесие. Леска освободилась от валуна и заметалась из стороны в сторону вслед за мечущейся в панике рыбой. Вадька отчаянно старался не дать ей уйти в русло, где вода, стиснутая с двух берегов каменными громадами, неслась тяжелым, бесноватым потоком. Там — спасение форели и там же — позор Вадьки. Да и кто поверит ему, что форель сорвалась, — рассказывай байки, потомок Аксакова!
Постепенно броски рыбы стали утихать, видимо, она уже основательно притомилась. Но Вадька не доверял этому смирению. Передохнув, форель могла снова затеять с ним дерзкую игру, борясь за свое спасение. Вадька осторожно потянул леску на себя и почувствовал волнующую тяжесть живой рыбы. Эту тяжесть, естественно, увеличивало сопротивление горного потока, и все же было ясно, что попался крупный экземпляр. Вадька потянул смелее, стремясь вывести рыбу между обнаженных камней и черных коряг в тихую прибрежную заводь. Это ему удалось.
И вот уже из воды показалось живое серебряное веретено. Уже видны, будто нанесенные тончайшей кистью, яркие, обжигающие глаза точки — алые, как капельки крови, черные, будто смола, и белые — под цвет снежных вершин. Форель! Вадька подтащил ее к самому берегу и легким рывком, едва вывесив на леске, шлепнул на горячую гальку. Форель, словно пробудившись и собрав последние силы, встрепенулась радугой и заплясала в яростном вихре, выражая протест против насилия и горькое отчаяние. Леска вдруг ослабла, грузило и крючок зависли над веткой орешника, и Вадька понял, что рыбе удалось освободиться от крючка. Не раздумывая, он прыжком тигра взметнулся над бьющейся о гальку рыбой и, растопырив руки, плюхнулся на нее. Теперь он, глубоко, часто и возбужденно дыша, крепко держал холодную трепещущую рыбу в руках. С трудом поднялся на ноги и, качаясь, пошел подальше от воды, будто еще не веря в то, что форель не сможет вырваться и вернуться в свою родную Урвань.
Так, пошатываясь от усталости, волнения и счастья, Вадька подошел к лежавшим на песочке друзьям.
— Эврика! — первым заметил его Кешка. — Посмотрите на этого верного ученика Сабанеева! Оказывается, он и взаправду рыбак!
Он вскочил, выхватил форель из ослабевших Вадькиных рук и принялся выбивать чечетку. Резинка на его синих мокрых трусах, видимо, ослабла, потому что они спускались все ниже и ниже и вот-вот могли оказаться у самых колен. Кешка вовремя подтянул их, водворив на прежнее место.
— Да ты весь изранен, — спохватился вдруг Мишка. — Вадь, ты разбил коленку.
Вадька оглядел себя. Только сейчас он заметил, что кожа на коленке содрана, по ноге, облепленной песком и илом, струится кровь, на локтях кровоточат ссадины.
— Ничего, — бодро сказал Вадька, — до свадьбы заживет.
— Восемьсот граммов, — уверенно определил Тим Тимыч, взвешивая рыбу на ладонях, как на весах. — Примерно двухсуточная норма рядового бойца.
— В отличие от завтрака турецкого офицера: стакан чачи и две маслины, — ввернул Кешка.
— И все-то ты знаешь, — улыбнулся Вадька.
— А вы не улыбайтесь, юный Сабанеев, — важно остановил его Кешка. — Продолжайте отлавливать ценные породы пресноводных рыб. Неужто вы думаете насытить этой малявкой четырех богатырей?
— Ничего не выйдет, — сокрушенно сказал Вадька. — Эта форель распугала всю рыбу. В течение часа в омуте делать нечего. А там уже и полдень — из-под камней и коряг ее не выудишь. Предлагал же ехать с вечера.
— О величайший из
рыболовов! — распаляясь до восторга, сказал Кешка. — В таком случае объявляется аврал по случаю приготовления ухи!
Они взялись за дело. Вадька принялся чистить и потрошить рыбу, Кешка проявил себя как утонченный мастер сервировки скатерти-самобранки. Неправдоподобно тонкими ломтиками он нарезал колбасу, аккуратно, не оставляя рваных зазубрин, вскрыл консервные банки, восхитительным натюрмортом разложил на расстеленном плаще овощи и фрукты. Мишка скромно и не очень уверенно чистил картошку. Что касается Тим Тимыча, то он с похвальным рвением взялся за раскладку костра. Делал он это с дотошной основательностью. Саперной лопаткой бережно удалил дерн, стараясь снять абсолютно ровный и одинаковый по толщине прямоугольник, вырыл удобное углубление для укладки сушняка, приспособил по бокам две рогульки и поместил на них перекладину. Затем отправился за сушняком и притащил несколько охапок, будто собирался жить на берегу Урвани целую неделю. Поджег костер одной спичкой. Он вспыхнул и разъярился быстро, но пламя не могло соперничать с ярким солнцем, и его жадные желтые языки угадывались лишь у самого основания сложенных пирамидкой сучьев, а выше растворялись в солнечном мареве, оставляя после себя легкий и зыбкий, неуловимо струящийся след.
Варкой ухи распоряжался Вадька. Он принадлежал к числу тех редких мужчин, которые не только ловили рыбу, но и любили чистить и потрошить ее и варить уху, никому не передоверяя этого ответственного дела.
Обедали, расположившись под тенью развесистой чинары. Ароматно дымилась уха. Вадька долго отказывался от наливки, которую в граненый стаканчик цедил Кешка, и выпил лишь тогда, когда над ним начали потешаться. Наливка горела на солнце как рубин, была густой и сладкой.
Ели уху из общего котелка деревянными ложками, прихваченными из дому предусмотрительным Тим Тимычем. Уха была не ахти какая наваристая и тем более не тройная, но, свежая, приправленная укропом и петрушкой, она вызвала восхищение. Друзья взахлеб хвалили варево и превозносили гениальность Вадьки.
Насытившись, Кешка принялся философствовать.
— Мои юные сверстники, — удобно развалившись у кряжистого ствола чинары и закурив папиросу «Казбек», заговорил он, — вы никогда не задумывались над своим будущим? Толстой утверждал, что человек меняется каждые семь лет. И это, видимо, соответствует истине: в семь лет человек идет в школу, в четырнадцать начинается период зрелости, в двадцать один он, как правило, обзаводится семьей, в двадцать восемь — уже окружен детьми, в тридцать пять в расцвете сил, к сорока двум достигает наиболее значительного положения в обществе, в сорок девять становится мудрецом, в пятьдесят шесть жизнь начинает катиться под уклон, в шестьдесят три дело идет к старости, в семьдесят уже маячит закат...
— Откуда тебе все это известно? — удивился Мишка. — Можно подумать, что ты уже прожил жизнь.
— Есть опыт, накопленный человечеством, — задумчиво, без кривлянья проговорил Кешка. — И учтите, милорды, каждые семь лет происходят события, которые потрясают мир.
— Значит, когда нам стукнет по двадцать один, произойдет что-то потрясающее? — недоверчиво спросил Мишка.
— Но что может произойти? — беспечно смеясь, фыркнул Вадька.
Кешка показал ему палец:
— Смешно?
Вадька рассмеялся еще громче.
— Ну что... что... — Смех не давал ему говорить. — Что... может... Ха-ха-ха!.. Ну что может... в самом деле... произойти?
— Война, — с четкой угрюмостью выпалил Тим Тимыч и почему-то вздернул свой древнеримский нос к небу. Оно было безмятежным.
— Война? — все никак не совладая со смехом, переспросил Вадька. — Ну, ты даешь, милорд!
— Терпеть не могу обезьян и попугаев, — обозлился Тим Тимыч, намекая на то, что Вадька явно подражает Кешкиной манере разговора.
— Между прочим, Тимофей Тимченко близок к истине, — авторитетно заявил Кешка. — А Вадим Ратников находится под прямым и не всегда благоприятным воздействием благодушия. И потому будем, мушкетеры, снисходительны к этому еще неоперившемуся птенцу. Что касается меня, то я убежден, что война грянет значительно раньше и к тому времени, когда нам должно было бы исполниться по двадцати одному, кое над кем из нас уже будет возвышаться могильный холмик...
— Типун тебе на язык! — испуганно нахмурился Мишка.
— Зато как будет прекрасно, — распалял свое воображение Кешка, — как будет волнующе, когда, например, моим родителям придет открытка: «Ваш сын Иннокентий Колотилов погиб смертью храбрых в боях за нашу Родиву». Представляете, товарищи бойцы?
— Не в этом дело, — все так же хмуро изрек Тим Тимыч, — главное — не погибнуть, а победить.
— А сие от вас, легендарный герой, не зависит, — хмыкнул Кешка, не терпевший патетики, когда она исходила от других. — Тут уж все решает ее величество судьба и ее высочество удача.
— Человек решает, — упрямо отрезал Тим Тимыч.
— Неужто Гитлер осмелится? — серьезно спросил Вадька.
— Еще как осмелится! — не задумываясь, сказал Кешка. — Он всю Европу под себя подмял. А вот об нас зубы обломает, смею вас заверить, милые юноши.
— А не лучше ли нам охладить свои разгоряченные головы? — предложил Мишка, пытаясь сбить друзей с проторенной темы разговора. Все, что говорилось о войне, вызывало у него учащенное сердцебиение и озноб, схожий с приступом малярии. Он понимал: если будет война, придется разлучиться с Раечкой, а это не укладывалось в его голове.
Мишкины слова были восприняты как команда. С веселым гиком они вскочили со своих мест и помчались к реке. Однако в воду приходилось входить осторожно, чтобы не удариться о нагромождения камней и противостоять сильному течению, способному сбить с ног. Вода обжигала холодом, казалось, до самых костей. Друзья визжали, пулей вылетали на берег, чтобы согреться на солнце.
— Чепуховая река, — ворчливо сказал Тим Тимыч. — Даже плавать негде.
Незаметно подкатился вечер. На смену неподвижному зною вначале несмело, а затем, дождавшись, когда солнце скатится за горизонт, откуда-то из-за невидимых отсюда гор легким ветерком заструилась прохлада. Тим Тимыч предложил в спешном порядке построить шалаш.
— К чему такие гигантские проекты? — лениво откликнулся Кешка, успевший вздремнуть в тени чинары.
— К тому, что без шалаша кое-кто под утро запросится к маме, — с суровой логикой объяснил Тим Тимыч.
— Да, к сожалению, существует разница температур, — поддержал его Мишка.
— За дело! — призывно воскликнул Вадька и, подавая личный пример, принялся рубить маленьким топориком ветки орешника.
Смастерили шалаш быстро. Конусообразный, он чем-то походил на индейскую хижину. На землю кинули охапку сена, обнаруженную Тим Тимычем вблизи железнодорожной насыпи. Сено было сухое, каждая былинка насквозь прокалена солнцем, попадались злые колючки, но лежать на нем было приятнее, чем на голой каменистой земле.
Ночь нахлынула на Урвань внезапно. Казалось, крыло огромной птицы накрыло землю. В густой черноте неба вспыхнули крупные звезды. Тим Тимыч снова разжег костер и принялся печь картошку. Горячие обуглившиеся картофелины, обжигая пальцы, катали в ладонях. Кешка первым успел снять пропекшуюся и затвердевшую кожуру, посыпать рассыпчатую мякоть солью.
— И больше ничего не надо для счастья! — пропел Кешка, обжигая губы картошкой.
Поужинав, друзья долго сидели у тлевшего костра. Молчали все, кроме Кешки. Сквозь сладко наплывавшую дрему Вадька слышал его неумолчное рокотанье:
— Главное в человеке — воля. Я ежедневно тренируюсь. Каким образом? Ставлю перед собой цель — осуществить возникающее вдруг желание. Хотите примеры? Извольте. На прошлой неделе ко мне явилось желание сочинить фантастический рассказ. И что вы думаете? Взял чистую тетрадку, вооружился ручкой — и сочинил!
— Прочитай, — полюбопытствовал Мишка.
— В связи с тем что я забыл его дома, твое желание, мистер Синичкин, пока что неосуществимо. Но могу пересказать сюжет.
— Пересказывай! — У Мишки глаза разгорелись как звезды.
— Вникай. Героя моего рассказа зовут Кеволеч.
— Кеволеч? — запинаясь, переспросил Мишка. Его неудержимо манило к себе таинство, которое звучало уже в самом имени.
— Что за странное имя? Чертовщина какая-то, — недоумевающе сказал Вадька.
— Нет, оно вовсе не странное! — рьяно защищался Кешка. — Именно Кеволеч! Слушайте, в чем суть. Этот самый Кеволеч — существо необыкновенное. Титан мысли и воли. Он наделен сверхъестественным даром — продлевать жизнь любому человеку и даже делать его бессмертным. Все человечество поклоняется ему. И вот в один прекрасный день люди, населяющие планету Земля, вдруг узнают, что Кеволеч серьезно болен и что ему самому грозит смерть. Представляете себе состояние тех, кто надеялся благодаря Кеволечу дожить до трехсот лет или обрести бессмертие? Все приходят в ужас, начинаются волнения, восстания и перевороты. Попытки найти средство, спасающее Кеволеча, безуспешны. Люди, близкие к его окружению, стремятся выведать секрет. С этой целью к нему подсылают женщину — молодую и самую красивую из всех живущих на земле — Иволетту. Кеволеч открывает ей секрет, но находится предатель, который убивает Иволетту. Кеволеч умирает в страшных муках, обрекая людей на короткую жизнь. Это самое суждено и нам с вами.
— А наверное, есть секрет бессмертия, — мечтательно произнес Мишка, зачарованный рассказом Кешки. — А мы его не знаем.
Тим Тимыч подбросил сухих веток в костер и усмехнулся:
— Не в этом дело. Бессмертие не в том, сколько лет живет человек.
— А в чем же? — насторожился Кешка.
— А хотя бы в том, какой он, этот человек.
— Изрекаешь банальные истины, философ, — пытался отмахнуться от него Кешка.
— А ты все еще тешишь себя детскими забавами, — огрызнулся Тим Тимыч. — Кеволеч! Думаешь, никто и не догадается, что ты слово «человек» кверх тормашками перевернул?
— Мыслитель! — восхитился Кешка. — Я счастлив, что мы с тобой помирились.
— А кто тебе сказал, что мы помирились? — с вызовом спросил Тим Тимыч.
— Бросьте, ребята! — блаженно позевывая, вмешался Вадька. Занозистость и ершистость Тим Тимыча казались ему чрезмерными. — Скоро расстаемся, а вы так и будете враждовать? Зря мы, что ли, сидели на «Камчатке»?
— Самое главное, — вмешался в разговор Мишка, — чтобы нас взяли в тот род войск, для которого мы больше подходим. Я, к примеру, мечтаю стать интендантом.
— Это чтобы во время войны сидеть в тылу? — с издевкой спросил Кешка. — И кататься как сыр в масле?
— Почему же в тылу? — не горячась, рассудительно ответил Мишка. — Кто обеспечивает войска снарядами, патронами, обмундированием, хлебом, наконец? Военные интенданты! Без них не выиграешь ни одного боя. И не только в тылу они сидят. Часто бывают на передовой. Один интендант на войне с белофиннами даже орден получил. Я читал. И лично для меня слово «интендант» звучит как музыка...
Мишка неожиданно оборвал свою речь и отвернулся к костру.
— Нет, меня в интенданты и калачом не заманишь, — решительно заявил Кешка. — Я по природе романтик. Или море, или Пятый океан!
— В артиллерию бы, вот здорово! — едва не задохнулся от волнения Вадька. — Помните, как в картине «Если завтра война»?
Если завтра война, если завтра в поход,
Загрохочут могучие танки,
И пехота пойдет, и линкоры пойдут,
И помчатся лихие тачанки!
Кешка пропел это с большим подъемом.
И ребята подхватили:
На земле, в небесах и на море
Наш ответ и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!
— Один Тим Тимыч не сообщил нам о своем предназначении, — передохнув от песни, напомнил Кешка.
Тим Тимыч упрямо молчал. Только сейчас Вадька подумал о том, что Тим Тимыч, когда пели песню, не открывал рта, а лишь беззвучно шевелил губами.
— Итак, Тим Тимыч, имеется ли в твоем вещмешке маршальский жезл или ты довольствуешься саперной лопаткой? — не унимался Кешка.
Тим Тимыч вновь не удостоил его ответом.
— Не трогай его, — дернул Кешку за плечо Вадька.
— Давайте лучше поговорим о девочках, — неожиданно предложил Мишка. — Вы еще не подумали о том, что мы уйдем в армию, а наши девочки останутся без нас? И как мы будем жить без них? И как они будут жить тут без нас? Моя Раечка уже сейчас не находит себе места, когда я говорю ей об этом.
— Раечка будет присылать нам «Раковые шейки» со своей кондитерской фабрики, — попытался пошутить Вадька, но, увидев печальное Мишкино лицо, смолк.
— А у нас с Анютой никаких проблем, — хвастливо заявил Кешка. — Теперь она от меня никуда — будет ждать хоть двадцать лет.
— Это почему же? — поинтересовался Вадька.
— А очень просто, — все тем же самоуверенным тоном продолжал Кешка. — Мы с ней, можно сказать, как муж и жена.
Все промолчали, а Тим Тимыч весь съежился и пересел подальше от Кешки под предлогом того, что в его сторону тянуло дым от костра.
— У вас, юноши, любовь носит чисто платонический характер. Символика! — будто с трибуны, нарочито торжественно провозгласил Кешка. — Записочки, стишата, мечты о робком поцелуе. Воздыхатели вы, а не мужчины! У нас с Анютой все ясно и определенно. Мы с ней дружим почти с первого класса. И считаем, что теперь уже достигли того возраста, когда всяческие предрассудки и условности незачем принимать во внимание. Мы — рыцари свободной любви.
— Врешь ты все, Кешка, — не совсем уверенно предположил Вадька, обескураженный откровенным признанием. — Фантаст ты...
— Нет, не фантаст! — ликующе отверг Вадькины слова Кешка. — Я — земной человек, а вы живете в плену ложных постулатов. И никогда не испытаете счастья, потому что вас вечно будут сковывать вами же придуманные условности. Да хотя бы вот ты, Вадька. Ты хоть раз целовался с Асей?
Вадька насупился и молчал.
— А если бы ты знал, как целуется Анюта!
— Ну зачем ты... — подавленно прошептал Мишка. — Я бы никогда не стал так о своей Раечке.
— Подумаешь, святоша! — взорвался Кешка.
— И все-таки я не стал бы так о Раечке... — настаивал на своем Мишка.
— Ва-а-а-дька! — вдруг раздался отчаянный крик Тим Тимыча со стороны реки.
Они вскочили на ноги и помчались. Вадька включил прихваченный из дому карманный электрический фонарик. Спуститься к реке в темноте, при слабом луче фонарика, оказалось непросто.
Фонарик высветил сперва валун, коряжистое дерево, обреченно свесившееся над бурлящей черной водой, а потом и Тим Тимыча, безуспешно пытавшегося перебороть течение и ухватиться за выступавшую из воды корягу. Он был в одежде, с вещмешком за спиной.
— Как ты здесь очутился? — крикнул Вадька, пытаясь перекричать шум несшегося в стремнине потока.
— Тоже мне, нашел время проводить пресс-конференцию, — пробурчал Кешка и, отыскав на берегу длинную увесистую палку, протянул ее Тим Тимычу.
Тот сноровисто ухватился за нее и, спотыкаясь о камни, начал выбираться из реки. Вылез он на берег мокрый, дрожащий. Зубы стучали от холода, как клавиши пишущей машинки.
— Поздравляю с форсированием водной преграды, — торжественно протянул ему руку Кешка, но Тим Тимыч не ответил.
— Не паясничай! — оборвал Кешку Вадька. — Скорее к костру, не видишь, он закоченел.
Тим Тимыча привели к костру, помогли снять рубашку и брюки, чтобы просушить их над огнем.
— Согрелся? — участливо спросил Вадька.
— Не в этом дело, — все еще не попадая зуб на зуб, пролепетал Тим Тимыч. — Лопатку жалко.
— Саперную? — уточнил Кешка, не удержавшись от иронии.
Тим Тимыч отвернулся от него.
— И чего переживать? — удивился Кешка. — В армии другую выдадут. Еще получше этой. Ну, вы как хотите, а я пошел спать.
И Кешка решительно направился к шалашу.
— А все же как ты в реке оказался? — проводив Кешку взглядом, спросил Тим Тимыча Вадька. — И когда ты успел?
Тим Тимыч долго не отвечал, а потом сконфуженно, будто в чем-то был виноват, сказал:
— Уйти хотел.
— Куда?
— В город.
— Так поезд же утром.
— Пеший переход. Пусть не с полной выкладкой, а все же тренировка. И форсирование реки.
— Ненормальный! — не выдержал Вадька. — А мы бы искали. Хорош гусь!
— Нормальный я, — вздохнул Тим Тимыч. — Просто поскользнулся и упал. Урвань — река злая. Закалка нужна. А у меня разве закалка? Или у тебя? А у Кешки только и силы что в языке. Зачем мы, такие слабаки, армии нужны?
— Значит, ради тренировки все это затеял?
— Не в этом дело, — ответил Тим Тимыч. — Не мог я его слушать. Понимаешь, не мог!..
Накануне
Ночное купание Тим Тимыча в Урвани не прошло даром: он занемог и слег в постель. Правда, уложить его было непросто. На все увещевания матери — такой же порывистой, неутомимой, как ее сын, — Тим Тимыч упрямо и категорически ответствовал, что никакая у него не простуда, а просто играет кровь и что утихомирить ее можно лишь пребывая на ногах. Совладать с Тим Тимычем смогла лишь высокая температура: когда ртутный столбик подскочил до тридцати девяти, он забеспокоился.
— Придется лечь на денек, — заплетающимся, как в бреду, языком сказал он. — Но только на денек, ни секундой больше.
— «На денек», — сердито передразнила мать. — Ныряй под одеяло и помалкивай. Сейчас тебе сушеной малинки заварю. А не будешь слушаться — улепетнут твои дружки в армию — только гудочек от их эшелона и услышишь. А тебя, горемыку, на инвалидность...
— Ну, ты, мам, даешь, — всерьез заволновался Тим Тимыч. — Каркать-то зачем? Да я к утру буду как штык...
С этими словами Тим Тимыч забрался на старый диван, выпиравшие пружины которого остро ощущались всей спиной, и, чувствуя неловкость от своей беспомощности и от того, что не он сам, а мать укрывает его стеганым одеялом, попросил:
— Только ты Вадьке и Мишке ничего не говори, будут зубоскалить. Я за ночь эту температуру поборю...
— Эх, отца с нами нет, — вздохнула мать, тайком от Тим Тимыча смахивая слезу. — Он бы тебе твою температуру ремнем в один момент сбил.
— Как же так, мам, тридцать девять, а морозит?
— А очень просто, — объяснила мать и провела грубоватой, шершавой ладонью по воспаленному лбу Тим Тимыча. — Значит, еще выше подскочит. Придется доктора вызывать.
— И не вздумай! — вскинулся с постели Тим Тимыч.
— Ладно, ладно, лежи смирно, я тебя по-своему лечить буду. Травами. Как бабушка твоя.
— Не в этом дело. Это же чистое знахарство, — запротестовал Тим Тимыч. — Я, мам, категорически против. Лечи по всем правилам нашей медицины. Ты, мам, у меня совсем темная. Наша советская медицина — лучшая в мире. И никаких трав не признает.
— И у кого ты болтать научился? — рассердилась мать. — Небось у Кешки Колотилова.
— При чем тут Кешка? — сердито выпалил Тим Тимыч, враз вспомнив все, о чем разглагольствовал Кешка на берегу Урвани.
Мать, казалось, пропустила все это мимо ушей. Она достала из старенького комода, с которого уже слоями облезла краска, стеклянную банку с сушеной малиной и разожгла керогаз, от которого сразу же потянуло керосиновым чадом.
— А на отцову могилку я и без тебя поеду, — послышался из кухни ее вдруг изменившийся и ставший глухим и скрипучим голос. — Когда я тебя-то дождусь? Теперь на три года ты не мой, а государственный.
— Государственный — это ты здорово сказанула, мам, — цокая зубами, откликнулся Тим Тимыч. — И ты, мам, обязательно съезди.
— Далеко ехать-то, аж в Карелию. — От одного предчувствия такой дальней поездки мать зябко поежилась. За всю свою жизнь она не выезжала из города дальше узловой станции Прохладная, да и та, казалось ей, существует где-то в другом мире. — С тобой бы вдвоем...
— Так я, мам, как отслужу, мы с тобой съездим. Подумаешь, три года. Пролетят, не заметишь, вот и всех-то делов.
— Эх ты, дите! — вздохнула мать. — Ничегошеньки ты еще в этой жизни не смыслишь. И зачем вздумали таких молокососов в армию призывать? То ли дело раньше: у человека уже семья, хозяйство, он на своих ногах, а потом уж и в армию. Соображали, что к чему. А теперь птенцов желторотых — да в шинель. Какие из них вояки?
— Не в этом дело, — уже борясь со сном, пролепетал Тим Тимыч. — Ты за нас будь спокойна... И радио слушай...
На миг перед его воспаленными глазами закачались под тяжким ветром, застилая небо и погружая всю землю в зыбкую темноту, великаны-сосны. Оттуда, со стонущей от ветра сосны, прогремели частые выстрелы финской «кукушки», и перед Тим Тимычем явственно, как живое, возникло лицо отца. Все в его облике было сейчас бесконечно знакомым и родным, все, кроме глаз, которые всегда светились теплом и добротой, а сейчас горели гневно, испепеляюще. Отец еще стоял на ногах, не выпуская из рук винтовки, оторопело смотрел на Тим Тимыча, будто не понимая, почему он не хочет его спасти. И вдруг земля вздыбилась под отцом и он поднялся вместе с нею и стал медленно клониться к ней, как клонится поначалу подрубленный дуб, и, рухнув на окоченевшую вмиг траву, исчез в огненной тьме...
Тим Тимыч тяжко застонал и затрясся под одеялом.
— Ты потерпи, потерпи, сынок, — донеслось до него издалека, будто мать шептала ему эти слова откуда-то с высоты небес и каждому слову нужно было прорваться через толщу облаков, прежде чем коснуться ушей Тим Тимыча. — Запей аспирин малиновым чаем...
К утру Тим Тимыч, вопреки своим заверениям, был вовсе не «как штык». Температура упорно вцепилась в него, словно хотела доказать, что не все зависит от воли человека, даже от такой железной воли, какую в себе изо дня в день вырабатывал Тим Тимыч. Пришлось вызвать доктора.
Доктор — сухонький старичок с взъерошенными, точно собиравшимися взлететь, бровями — долго прослушивал Тим Тимыча стетоскопом, каждый раз удивленно покачивая клинышком-бородкой, прикладывал костлявые пальцы левой руки к горячей груди Тим Тимыча и стучал по ним пальцами правой, отчего получался звук, похожий на стук кастаньет во время исполнения испанских танцев. Танец с кастаньетами Тим Тимыч видел однажды в летнем театре. На полукруглой эстраде со вздымавшейся над ней обшарпанной раковиной выступали тогда артисты какой-то заезжей оперетты. Досмотреть до конца это представление Тим Тимыч не пожелал, так как сразу же зачислил оперетту в разряд никудышных и несерьезных представлений. Все эти шутовские канканы и куплетики, по его убеждению, не выдерживали никакого сравнения с военными маршами в исполнении духового оркестра. А вот сухой и настырный звук кастаньет врезался в память Тим Тимыча, хотя время от времени отравлял ему настроение.
— Прекратите! — бредил Тим Тимыч, когда доктор настойчиво повторял свои манипуляции, простукивая ему грудную клетку. — Я не люблю оперетту!..
Доктор изумленно поглядывал на него, но так как у Тим Тимыча глаза были плотно закрыты красными, вспухшими веками, а сам он не пытался пояснить, чем вызван его столь бурный протест, то он и продолжал простукивать выпиравшие из-под туго натянутой загорелой кожи ребра Тим Тимыча.
— Если к завтрему температура не понизится — придется положить в больницу, — хмуро изрек доктор визгливым тенорком, не глядя на испуганную, пригорюнившуюся мать. — Вполне вероятно, что у него воспаление легких.
— Никаких больниц! — вдруг почти здоровым голосом выкрикнул Тим Тимыч и открыл глаза. — И никаких воспалений! Легкие у меня закаленные! Я на медкомиссии так дунул, что цилиндр вылетел!
Доктор испуганно воззрился на Тим Тимыча через выпуклые стекла очков.
— Молодой человек, — от укоризненного тона голос доктора стал еще более визгливым, — да будет вам известно, что я окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета еще до революции...
— Оно и видно, что до революции, — ворчливо перебил ого Тим Тимыч.
— Тимка! — грозно предостерегла его мать.
— Если вы не будете лечиться, — угрожающе сказал доктор, выписывая рецепты, — то ваши могучие легкие станут очень хилыми. А что касается моего опыта, молодой человек, то я поставил на ноги не одну сотню людей. И заметьте, обхожусь без рентгена и прочих современных новшеств.
Всю ночь Тим Тимыч стонал, метался в постели, что-то выкрикивал угрожающее, будто наяву боролся с невидимым противником, а к утру взмок так, будто его окунули в Урвань.
— Вот теперь пойдешь на поправку, — облегченно вздохнула мать. — Уразумел, какая сила в малине?
Она принесла Тим Тимычу кружку горячего молока с медом и поставила ему на табуретку рядом с диваном. Табуретку делал отец еще тогда, в той счастливой жизни, когда они жили втроем, Тим Тимыч был маленький и не было еще войны с белофиннами. Мать очень дорожила этой табуреткой и разрешала садиться на нее только по праздникам или же самым желанным гостям. А так как гости в ее доме были очень редки, то как-то зимой на табуретке сидела классная руководительница Антонина Васильевна, которая приходила к ним, чтобы всерьез поговорить с матерью о том, что у ее сына из рук вон плохи дела с литературой и русским языком.
— Он прекрасно знает алгебру, физику, химию и даже астрономию, — удобно устроившись на табуретке, торопливо и с восхищением говорила Антонина Васильевна, словно спешила сообщить исключительно приятную новость и как бы опасаясь, что им кто-либо помешает. — Иными словами, у вашего Тимы огромная тяга к точным наукам. И это, конечно, не вызывало бы отрицательных эмоций, если бы... Дело вот в чем. — Антонина Васильевна хотела быть как можно деликатнее. — На уроках литературы у вашего Тимы будто язык отнимается. Подкреплю это примером хотя бы последних занятий. Я задала классу выучить наизусть отрывок из «Разгрома» Фадеева. Чудесный писатель, прекрасный роман! Это то место, когда отряд Левинсона попадает в болото, в засаду. Такой трагический момент! Так ваш Тима запомнил только одну фразу: «Молчать! — вскричал Левинсон, по-волчьи щелкнув зубами и выхватив маузер». И все, представляете?
Тимкина мать сокрушенно покивала головой, сопровождая этими испуганно-печальными кивками почти каждое слово Антонины Васильевны, особенно когда она цитировала «Разгром», хотя не имела ни малейшего представления ни о Фадееве, ни о его книге. Она зачарованно смотрела на вдохновенное лицо учительницы, страдала оттого, что Антонина Васильевна была недовольна, и радостно оживала, когда та хвалила сына то за пятерку по физике, то за десятки в мишенях на занятиях по военному делу. Больше всего мать боялась, что Антонина Васильевна не успеет ей все рассказать до прихода Тим Тимыча, и потому суетливо повторяла одни и те же слова:
— Вот я уж ему... Ишь, какой умный...
Но именно эти слова и настораживали Антонину Васильевну, она тревожно всматривалась в усталое лицо матери, мысленно отмечая, что Тим Тимыч — ее копия, и взмахивала руками:
— Нет, нет, никаких мер принуждения, никаких наказаний! И не вздумайте! Его надо убедить, понимаете, убедить, что современный красный боец, а тем более командир, — это человек высокого интеллекта и литература должна быть спутницей всей его жизни. А какие взгляды у вашего Тимы? Вы знаете, что он мне заявил? Литература, говорит, это для развлечения, когда у человека много свободного времени. Вы представляете, Анна Филипповна, как узко он смотрит на духовные богатства человечества и как негативно воспринимает воспитательную роль литературы, представляете?
— Представляю, очень даже представляю, Антонина Васильевна, — торопливо соглашалась мать и снова твердила свое: — Вот я уж ему... Ишь, какой головастый...
А когда Тим Тимыч поздно вечером возвратился домой, мать встала перед ним как воплощение кары за страшные грехи.
— Ты почему это по литературе двойку схватил?
— По литературе? — озадаченно переспросил Тим Тимыч, пытаясь сообразить, каким образом мать пронюхала про эту несчастную двойку. И, набравшись храбрости, мрачно и решительно ответил: — Литература, мама, мне ни к чему. Я вот уйду в армию и там останусь.
— Как это останешься? — всплеснула руками мать.
— А так. На всю жизнь.
— А какой ты красный боец, и тем более командир, если без этого богатства?
— Какого еще богатства?
— Какого, какого... Наизусть не учишь...
— А, Левинсон, — усмехнулся Тим Тимыч. — Понятно.
— А вот мне не понятно, — все больше распалялась мать. — Ты что думаешь, в армии литература не нужна?
— Не в этом дело. Воюют, мам, не книжками, На войне — танки, самолеты, артиллерия.
— Выходит, сам Ворошилов книг не читает? — вдруг ошарашила Тим Тимыча мать. — И Буденный?
Этот вопрос застал Тим Тимыча врасплох, и он не нашел на него немедленного ответа. Но надо было отвечать, и он не очень уверенно проговорил:
— Как это не читают? Читают. Только военные книги, а не про какую-то там Ларину Татьяну. Не в этом дело...
— Башковитый ты больно, — не нашла больше аргументов мать. — Только двойку по литературе исправь. Или я тебя самого начну исправлять, хоть ты и вымахал чуть ли не до потолка.
Теперь, когда Тим Тимыч заболел, мать жалела, что угрожала ему за двойку, боялась, что он сляжет надолго и, избави бог, не сможет встать на ноги, когда из военкомата придет повестка, которую Тим Тимыч ждал с нетерпением.
Первым, кто пришел его навестить, как это ни казалось удивительным, был Кешка Колотилов. Он возник на пороге веселый, сияющий и возбужденный, с огромным букетом роз. Вельветовая куртка цвета какао с молоком была распахнута, складка на спортивных брюках отутюжена до совершенства, а наивно-смелые глаза взирали на Анну Филипповну с благоговейностью. Вежливо поздоровавшись, Кешка, не ожидая приглашения, переступил порог, и комната наполнилась смесью запахов роз и одеколона «Жасмин».
— Где скрывается этот рыцарь печального образа? — загремел Кешка. — Где этот Илья Муромец, сиднем сидящий тридцать лет и три года? Не те ныне пошли богатыри, Анна Филипповна! Вникните сами: на три минуты обмакнулся в Урвань — и, пожалуйста, постельный режим...
— У Тимы высокая температура, — жалобно вставила мать свою короткую фразу в поток слов Кешки.
— А вот мы его и вылечим! — бодро заявил Кешка. — Он у нас быстро встанет на ноги!
И, величественным жестом распахнув дверь в комнату, где лежал Тимка, шагнул туда с такой уверенностью, будто и в самом деле нес с собой исцеление.
— Кончай сачковать, мистер Тимченко! — восторженно изрек Кешка, усаживаясь на табуретку, и с мушкетерским изяществом протянул Тим Тимычу букет роз.
Тим Тимыч с трудом открыл воспаленные глаза, невидяще посмотрел на Кешку, пытался отвернуться к стене, но не смог.
— Смотри, будущий Кутузов, какие розы! Из моего личного палисадника.
Тим Тимыч неприязненно взглянул на Кешку и, слабо взмахнув выпростанной из-под одеяла рукой, отстранил цветы.
— Ну зачем же ты так? — оторопело проговорил Кешка. — Я к тебе всей душой, я всегда был противником кровной мести... Неужто ты не в восторге от этих роз?
— Не в этом дело, — мрачно отрезал Тим Тимыч. — Я не девчонка, чтоб цветочки нюхать.
— И все же я не верю, что ты лишен чувства прекрасного, — задумчиво сказал Кешка. — В армии без этого не проживешь. Ты видел парад на Красной площади? А я, маэстро, видел. В тридцать девятом. Ну, доложу я тебе, зрелище! А духовой оркестр! Под такой марш — да в атаку! Представляешь: знамя полыхает на ветру, музыка хватает тебя за душу, а ты с винтовкой наперевес — врукопашную! И смерть не страшна!
Тим Тимыч лежал, отрешенно прикрыв глаза, и, казалось, не слушал Кешку. На самом же деле он не пропускал ни единого слова, и чем мелодичнее и восторженнее лилась Кешкина речь, тем с большей неприязнью воспринимал эту речь Тим Тимыч.
— Не в этом дело, — вдруг почти безразлично произнес он. — Ты «Севастопольские рассказы» читал?
— Левушки Толстого? — развязно подхватил Кешка.
Тим Тимыч не удосужил его ответом.
— А сам-то ты читал? — вскинулась на Тим Тимыча вездесущая мать. — У него же, Кеша, двойка по литературе. Он же книг в руки не берет...
— А за меня всю литературу Колотилов прочитает, — с напускной беззаботностью произнес Тим Тимыч. — Особенно про Ромео и Джульетту. Или про виндзорских проказниц.
— Вы попали в самую точку, сэр. В городской библиотеке уже нет книги, которую я бы не прочитал.
— А розы давай сюда, я их в вазу поставлю. — Мать взяла букет из рук Кешки, но обратилась к Тим Тимычу: — Человек ему от всей души, можно сказать, от всего чистого сердца, а он нос воротит. Разумный какой!
— Не в этом дело, — махнул рукой Тим Тимыч, будто отгонял от себя назойливую муху.
— Я ведь не ради благодарности, Анна Филипповна, — приторно произнес Кешка. — Я пришел, чтобы отвлечь будущего великого полководца от тяжких мыслей. А еще — чтобы сообщить исключительно важные для этого неулыбчивого сеньора новости.
— Какие еще новости? — как бы без всякого интереса тут же спросил Тим Тимыч.
— Терпение, мой друг, терпение... — Кешка нарочно сделал длинную паузу, показавшуюся Тим Тимычу нестерпимо долгой. — Новость номер один: всех парней нашего класса зачисляют в команду сто девяносто шесть.
— Сто девяносто шесть? — подскочил на диване Тим Тимыч. — Танковые войска?
— Блажен, кто верует, — почти пропел Кешка. — Хоть тресни, не догадаешься!
— А ты не играй на нервах! — вскипел Тим Тимыч, грозно уставившись на Кешку.
— Открою тебе великую военную и почти государственную тайну, Котовский нашего времени, — театрально строя гримасы, тянул Кешка. — И только потому, что ничего на свете не ценю выше дружбы. Не в пример некоторым штатским, — подчеркнул он выразительной интонацией. — Но, учти, все, что я тебе сообщу, — не для печати!
— Кого ты предупреждаешь? — обиделся Тим Тимыч.
— Так вот, уважаемый хронический двоечник по лучшему из предметов, который ведет сама классная руководительница Антонина свет Васильевна. Слушай меня внимательно. Если ты думаешь, что, попав в команду номер сто девяносто шесть, ты станешь танкистом, или летчиком, или, на худой конец, артиллеристом, то ты глубоко и безнадежно заблуждаешься. Даже если ты предположишь, что попадешь в пехоту — царицу полей, то и в этом случае ты уподобишься слепцу.
— Значит, морфлот? — с еще не исчезнувшей надеждой спросил Тим Тимыч, приподнимаясь на локтях.
— О гениальный провидец! — во весь рот разулыбился Кешка, со смаком предвкушая реакцию Тим Тимыча. — Ты когда-нибудь в своей еще не столь продолжительной, но бурной жизни слышал о такой профессии — писарь?
— Писарь? — осторожно переспросил Тим Тимыч.
— Совершенно точно: писарь, — с подчеркнутой наивностью подтвердил Кешка.
— Ну и что? — Тим Тимыч ощутимо почувствовал, как его начинает знобить.
— А то, — невозмутимо продолжал Кешка, — что и я, и ты, и Вадька, и даже Мишка Синичкин — все мы загудим в роту писарей. Военных писарей, — уточнил Кешка.
— Видел трепачей, но таких, как ты... — набычился Тим Тимыч.
— Хочешь — верь, хочешь — как хочешь, — беззаботно и ничуть не воспринимая слова Тим Тимыча как обиду, отозвался Кешка.
— Откуда ты эту чушь выкопал? — тоном прокурора спросил Тим Тимыч. — Какая сорока тебе на хвосте принесла?
— Это не сорока. Это майн фатер по большому секрету мне шепнул. Чтобы я никому ни гугу. А я, видишь, ради тебя...
— Не в этом дело, — еще сильнее помрачнел Тим Тимыч. — Не могли твоему отцу такие сведения дать.
— А ты забыл, кто есть мой фатер? И кем ему доводится наш горвоенком?
От этих слов Тим Тимыча прошибло потом. Крупные капли его заструились по лбу, и так как лоб был нахмурен и морщины собрались в гармошку, то капли стекали по ним к глазам. Только сейчас до Тим Тимыча дошло, что Кешка не треплется. Ведь его отец, профессор, состоит в каком-то родстве, хоть и дальнем, с городским военкомом, и, конечно же, тот мог заранее сказать ему, в какой род войск загудят призывники школы номер три.
— Ничего у них не выйдет, — упрямо сказал Тим Тимыч, придавая своему голосу особую твердость. — Я своего добьюсь.
— Умерь свой необузданный пыл тореадора, — захохотал Кешка. — Как прикажет военкомат, так и будет. И ничегошеньки тут не попишешь — у них разнарядка. И — баста! И — концы в воду!
— Да такой и специальности военной нет — писарь, — пытался опровергнуть Кешку Тим Тимыч.
— Есть, любезнейший! — почти с восторгом воскликнул Кешка. — Я все уже вынюхал. Пока ты с лейкоцитами борешься, я всю информацию добыл. С превеликим трудом. Действуя где подкупом, где лестью, а где нахальством. Уподоблялся и Макиавелли, и Жозефу Фуше, и Чарли Чаплину, и еще бог знает кому!
Чувствуя, что Кешку опять заносит и что он уйдет от главного вопроса, Тим Тимыч властным жестом велел ему умолкнуть.
— Рад, что попал в писаря, да? Обалдел от счастья? Ну и радуйся! Меня в писаря никто не загонит! Я Наркому обороны напишу!
— Пиши хоть самому господу богу, — примирительно сказал Кешка. — А только готовься в писаря. Ты читал «Поручика Киже» Юрия Тынянова? Уверен, что не читал. Так именно на страницах этого произведения рассказывается, как благодаря писарю, который вместо «поручики же» начертал «поручик Киже», появился этот мифический герой. Сам император проявлял о нем трогательную заботу. Так что профессия очень даже романтическая. От писаря, к примеру, иногда зависит, представить тебя к ордену или повелеть тащить на эшафот.
— Так у меня почерк ни к черту. Я его даже сам не разбираю, — ухватился за последнюю соломинку Тим Тимыч. — И по русскому, что ни диктант, то трояк. Никто меня в писаря не возьмет.
— Как миленький почерком овладеешь! — пообещал Кешка. — Причем не абы каким, а каллиграфическим. Знаешь, как военком товарищ Миронов говорит? В армии закон: не можешь — научим, не хочешь — заставим. А товарищ Миронов у нас в гостях частенько бывает.
Доводы Кешки были настолько внушительны, что Тим Тимыч потерял всякую надежду их опровергнуть, а потому бессильно откинулся на сбитую в комок подушку и умолк.
— Да дьявол забери эту команду сто девяносто шесть! — беспечно воскликнул Кешка. — До октября еще далеко, могут новую разнарядку прислать. И окажешься ты, Тим Тимыч, точнее, Тимофей Тимченко, в грозном танке. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны!» — пропел Кешка. — Давай сменим пластинку. Выслушай главную новость. И я уверен, вся твоя болезнь испарится.
Тим Тимыч молчал, уставившись в одну точку на дощатом потолке. Кажется, это был сучок в сосновой доске, который представлялся ему то мордой лающей собаки, то лицом злорадно хихикающего клоуна.
— Сегодня, Тимоша, у тебя день приемов, — между тем значительно и веско продолжал Кешка, избавив свою речь от иронии и шутовства. — Сегодня во второй половине дня тебя посетит одна принцесса.
— Какая еще принцесса? — испугался Тим Тимыч.
— Не волнуйся, не заморская. Но — красивая, хоть вешайся! Ресницами ветер разгоняет. А как зовут — пошевели мозгами. Может, и догадаешься.
— Не нужно мне никаких девчонок, — зло, почти с ненавистью, заявил Тим Тимыч и отвернулся к стене, как бы давая понять, что разговор окончен.
Рота писарей
Нежданно-негаданно Вадька Ратников попал в артиллерию. Правда, не сразу. В Приволжске, куда прибыл их эшелон, Вадьку и трех его друзей определили в роту, о существовании которой Вадька прежде не мог и подозревать, хотя о ней еще в эшелоне ему все уши прожужжал Кешка. Она именовалась, мягко говоря, очень прозаично, уже в самом своем названии заключая нечто вроде насмешки: рота писарей. Вадьку и особенно Тим Тимыча зачисление в писаря сразило наповал. Они испытывали муки совести, стыда и собственной ущербности. Вадька ни в письмах Асе, ни в письмах маме даже не упомянул о роте, намекая, что все, что связано с его военной службой, — великая тайна. Тим Тимыч ходил мрачный и молчаливый, казалось, даже под страхом пытки из него невозможно было выдавить ни одного лишнего слова.
Мишка Синичкин старался ободрить его, подчеркивая, что военный писарь очень близок к интендантам, но это не производило на Тим Тимыча сколько-нибудь заметного впечатления.
Кешка же, напротив, оставался все таким же веселым, шустрым и остроумным, каким был до призыва, и его вроде бы совершенно не волновало, летчиком ли взмывать в небеса, кавалеристом ли стелиться в галопе или же корпеть над бумагами.
Рота писарей поначалу, когда она была всего лишь обозначением воинской специальности, представлялась Вадьке некой чиновничьей канцелярией, где на множестве массивных двухтумбовых столов высокомерно и чинно, сознавая свою абсолютную власть над человеком, громоздились мощные папки с неисчислимым количеством бумаг: заявлений, докладных, анкет, прошений, реестров, отчетов, справок... Во всевозможных бланках было множество граф, зиявших белоснежной пустотой до той самой секунды, пока бланк не оказывался в цепких руках ротного писаря. Чудилось, что, попадая писарю, он, этот бланк, вдруг оживал, обретал свое лицо и издавал свой, только ему присущий, вопрошающий голос. И этим Вадьке предстояло заниматься в то самое время, когда его одноклассники на бреющем полете будут утюжить разметавшегося в панике противника или с командирского мостика линкора подавать зычные команды, блистая якорями на фуражке! Он же, Вадька, будет корпеть в ротной канцелярии над очередной бумагой, заботясь лишь о том, чтобы как можно виртуознее, грамотнее и без единой помарочки вывести очередную фамилию для представления к награде, а возможно, и для препровождения на гарнизонную гауптвахту.
Однако на первых порах все подобные предположения оказались опрокинутыми. Будущих писарей разместили в просторной казарме, где в один длинный ряд выстроились койки с соломенными матрацами. Напротив, через широкий проход, обитали бойцы второго года службы. Это было отчетливо видно, когда гремела команда «Подъем!». Новички вскакивали суматошно, ошалело путались в непривычном обмундировании и, подгоняемые безжалостным ефрейтором, выметались из теплой казармы на леденящий мороз. А старослужащие выполняли команду неторопливо, ревниво оберегая свой престиж.
Будущие писаря, вместо того чтобы вооружиться бумагой, чернилами и перьями, получили винтовки, противогазы и подсумки. Уже в первые дни службы Вадька уяснил, что такое ползти по-пластунски, бегать кросс в противогазах, а также заправлять соломенный матрац так, что даже наметанный глаз старшины не мог заметить на натянутом одеяле ни единой морщинки.
Но все-таки сознание своей неполноценности от пребывания в писарской роте держалось в Вадькиной голове очень стойко, и потому его исхудавшее от непривычных перегрузок лицо чаще всего было хмурым и жалким.
Кешка Колотилов старался изо всех сил, чтобы его подбодрить и воодушевить.
— Кто такой ротный писарь? — витийствовал Кешка, неумело наматывая обмотки на свои тощие, прямые, как жердь, лодыжки. — Ротный писарь — это в своем деле Наполеон! Кто пишет в бою реляцию о награждении человека, совершившего подвиг? Писарь! В его руках — судьбы людей! Он может или вознести, или ниспровергнуть. Ошибись он всего лишь на одну букву в фамилии — и все! Не видать тебе ордена! Он же составляет и список
убитых. И шлет похоронки. И учтет, сколько ты, Вадим Анатольевич Ратников, съел за месяц сухарей и концентрата «Суп-пюре гороховый». Кстати, изобретателя этого восхитительного продукта питания я бы представил, как минимум, к Нобелевской премии. А еще, Вадик, именно я, писарь, могу сделать так, чтобы ты на века был занесен на скрижали истории. И кто ты есть, когда родился, крестился, женился, жил ли за границей и имеешь ли родственников, махнувших за рубеж вместе с бароном Врангелем.
Вадька воспринял все эти восторги Кешки без всякого энтузиазма. Впрочем, и сам Кешка был крайне непоследователен в своих суждениях. Когда ротный, выстроив роту после окончания курса молодого бойца, долго доказывал им преимущества специальности военного писаря, Кешка шепнул Вадьке на ухо:
— Слыхал? Пропел гимн ротным писаришкам. А сам? Уверен, считает нас тыловыми крысами с носами, вымазанными фиолетовыми чернилами. Заметил, любимое его слово — «хиляки»? Назло накачаю мышцы. А вообще, у этого ротного интеллект амебы.
— Зачем ты так зло? — удивился Вадька. — Ты же его совсем не знаешь.
— Осточертела мне эта рота, — кисло сказал Кешка. — И чего это папахен старался?
— Что? — не понял Вадька. — Какой папахен?
— Да мой, чей же еще, — невозмутимо пояснил Кешка. — Мой любимый папахен. Упросил военкома, чтобы подобрал мне специальность, наиболее полно отвечающую моему интеллекту. Я согласился лишь при одном условии: если в ту же команду зачислят всех четверых.
Вадька обалдело посмотрел на Кешку, все еще не понимая, шутит ли он или говорит всерьез.
— Кто тебя просил?! — возмутился Вадька.
— Не трепыхайся, Вадик, — ласково пропел Кешка. — Это судьба. Я предчувствую, что всю жизнь наши дороги будут пересекаться. И это прекрасно, ибо я твой верный друг. Честное слово! И смогу простить тебе любую обиду. Вот только одного тебе не смогу простить.
— Чего?
— Если ты влюбишься в мою Анюту и она мне изменит.
— Ерунду мелешь... — отвернулся Вадька.
— Я знаю, к тебе девки льнут, — не принимая неприязни Вадьки, сказал Кешка. — А лучше девок на свете ничего нет. Не зря же их придумала природа. Это только Тим Тимыч как был, так и останется евнухом. Где-то он сейчас, бедолага?
Вадька с острым чувством неприкаянности вспомнил о Тим Тимыче, который пробыл с ними вместе чуть больше недели и сразу же был отправлен, как было объявлено, «к новому месту службы». К какому именно — никто не знал, хотя предположений на этот счет было предостаточно. Боец их отделения татарин Мухарамов, большой любитель халвы, тайком бегавший в командирскую столовую за бубликами и целыми связками прятавший их от зорких глаз старшины за огромными полами шинели, авторитетно заявлял, что Тим Тимыча отправили за рубеж, в Германию, откуда он будет посылать в Москву самые секретные сведения о намерениях Гитлера.
После ужина, перед вечерней проверкой, Вадька любил «окопаться» в ленинской комнате, полистать подшивки газет. Даже из одних заголовков было ясно, что Европа уже задыхается в дыму пожарищ, что кровавое чудище фашизма ползет по трупам людей. Еще до того, как Вадька надел красноармейскую форму, гитлеровская Германия оккупировала Польшу, затем вторглась в Норвегию. Вскоре пришел черед Голландии: немцы высадили в Роттердаме воздушный десант. Гитлеровский зверь хищными прыжками набрасывался на суверенные государства.
К тому времени как Вадька попал в роту писарей, Муссолини уже терзал Грецию. Об этом писали газеты, и естественно, Вадька был в курсе событий. Но, конечно же, он не мог и предполагать, что 18 декабря 1940 года, в тот самый день, когда его, Кешку и еще пятнадцать человек из роты писарей, имевших среднее образование, отбирали для зачисления в полковую артиллерийскую школу, Гитлер утвердит план «Барбаросса», или директиву № 21 о развертывании военных действий против СССР. По плану «Барбаросса» гитлеровские силы вторжения состояли из трех групп армий. Северная группа, которую возглавлял Лееб, должна была вторгнуться в СССР из Восточной Пруссии, через Прибалтику и наступать на Ленинград. Центральной группе войск под командованием Бока предписывалось нанести удар в направлении Минска и Смоленска и затем овладеть Москвой. Южная группа войск под началом Рунштедта должна была форсировать Днепр и захватить Киев. Основные силы сосредоточивались в центральной группе армий.
Разумеется, ничего этого Вадька не знал. Не знал он и того, что ему самому уже уготовано судьбой попасть именно на тот участок фронта, который противостоял группе армий «Центр», а точнее, в ту точку этого фронта, которая находилась в деревушке неподалеку от Вязьмы.
Сообщения газет день ото дня были все тревожнее, но ни Вадька, ни его сверстники не воспринимали эти сообщения как предвестие войны. Все еще не верилось, что Гитлер осмелится порвать пакт о ненападении и ринуться на Советский Союз. В ноябре Вадька прочитал в газете совместное коммюнике о переговорах Молотова в Берлине и красным карандашом подчеркнул слова: «Обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию». А через два дня, 12 декабря (чего уже ни Вадька, ни кто-либо другой не могли прочитать), Гитлер издал военную директиву № 18, в которой черным по белому стояло: «Начались политические переговоры с целью выяснить, какую позицию займет Россия в ближайшем будущем. Независимо от исхода этих переговоров все приготовления для кампании на Востоке, проводимые в соответствии с устными указаниями, должны продолжаться».
Так они параллельно и готовились: Гитлер — к нападению на Советский Союз и Вадька — к защите Советского Союза. Зачисление в полковую артиллерийскую школу Вадька воспринял с восторгом. Правда, он не был силен в математике, а в полковой школе чуть не с первых занятий надо было осваивать теорию стрельбы, баллистику и другие премудрости. Это заметно снижало настроение Вадьки. Зато Кешка чувствовал себя как птица в небесах: математик он был первоклассный.
Вадька и Кешка попали служить в городок на правом берегу Волги, и в роте писарей остался лишь Мишка Синичкин. Изо всех сил он старался показать, что рад за своих друзей и не страдает оттого, что остается один, но Вадьке было очень тяжело смотреть на его слинявшее, ставшее жалким и беспомощным, доброе, в ярких веснушках, лицо.
В полковой школе порядки были строже, чем в роте писарей. Чуть не каждый день лыжные кроссы, которых Вадька и Кешка особенно боялись, так как в Нальчике в глаза не видели лыж. Нарком обороны маршал Тимошенко издавал приказы — один суровее другого. Перво-наперво он отменил статью Устава внутренней службы, которая определяла, что при температуре ниже минус пятнадцати градусов все занятия должны проводиться только в казарме, и таким образом выкурил бойцов из теплых гнезд на мороз. Говорили, что это решение диктовалось опытом финской кампании, где было немало обмороженных. На первом месте по количеству часов оказалась тактика, причем все занятия, какой бы ни была погода, проводились только в поле. Как всегда в таких случаях, пустились в крайности. Даже матчасть артиллерии изучали не в специально оборудованном классе, а прямо в артпарке, у «живой» гаубицы, вопреки завыванию метели и ядреному морозу, эдак градусов под двадцать пять — тридцать. В шинелишках, подбитых ветром, в кирзовых сапогах и легоньких буденовках, будущие артиллерийские зубры выплясывали нечто похожее на танец папуасов, пропуская мимо ушей рассказ взводного о том, как устроен поршневой затвор, противооткатный механизм или дульный тормоз орудия. Взводный, объясняя, тоже приплясывал, что вряд ли помогало ему согреться или же завоевать у подчиненных авторитет.
Еще один строгий приказ — это приказ об отдании чести. Завидев командира, боец обязан был незамедлительно перейти с обычного шага на строевой и отдать честь. Кешка, одним из первых умудрившийся заполучить увольнительную в город, с упоением рассказывал, как, отдавая честь лейтенанту, появившемуся на противоположной стороне улицы, он поскользнулся, рухнул в снег, а поднявшись, повторил все сначала с такой изящной удалью, что местные красавицы пришли в восхищение.
Нарком утвердил также новый Дисциплинарный уста, в котором предусматривалось содержание на гауптвахте — обычной и строгого режима. Самым грозным начальником для бойцов стал ефрейтор, которого опасались больше, чем командира взвода. Дисциплина и порядок в армии крепли день ото дня. «Старички», привыкшие к вольготной жизни, ворчали, пытаясь усомниться в необходимости столь суровых порядков, а неосведомленные новобранцы считали, что так было всегда.
Зима, которой суждено было стать перевалом между сороковым предвоенным и сорок первым военным годом, казалось, длилась целую вечность. Вадька даже успел получить взыскание за то, что на тактических учениях обморозил щеку. После отбоя он усердно мыл полы в казарме и ломиком скалывал лед на каменном крыльце. Обида на взыскание быстро улетучилась, а пятно на щеке осталось надолго, и Вадька радовался тому, что здесь его не видит Ася.
В мае артполк выехал в летние лагеря, и Вадька очутился в царстве берез и ландышей, любоваться которыми было попросту некогда: строевая подготовка, огневая подготовка, матчасть артиллерии, стрельба прямой наводкой, политподготовка, комсомольские собрания, красноармейские собрания, лекции, политинформации, беседы агитаторов, просмотр кинофильма, строевой смотр, смотр оружия, тактическая подготовка то днем, то ночью, форсирование водной преграды, утренняя гимнастика, утренний осмотр, вечерняя проверка, спортивная подготовка, конная подготовка, подъем, отбой, тревога... Все это вращалось с бешеной скоростью, стремительнее, чем планета Земля. Вадька засыпал над только что начатыми письмами.
Ася молчала. Хорошо хоть приходили письма от мамы. Она сообщала о том, что выслала посылку с салом и гусиным жиром — от обморожений, или о том, что видела Асю: «Она как ветер в красной косынке», — мама очень любила неожиданные сравнения. А то вдруг написала, что решила приехать на несколько дней проведать сыночка, и, возможно, приедет не одна, а вместе с Асей, чем немало встревожила Вадьку. Он редко заглядывал в зеркало, но всякий раз с неприязнью на свое, ставшее чужим, лицо. Заострившийся нос, впалые щеки, длиннющая, как у гуся, шея, на которой болтался воротник гимнастерки с неумело подшитым белым подворотничком. Выгоревшая на солнце, стриженая, похожая на шляпку подсолнуха голова, оттопыренные уши, и над всем этим великолепием — стираная-перестираная хлопчатобумажная пилотка. Физиономия явно не для киносъемок и не для всеобщего обозрения. Видимо, по этой причине Вадька обожал строй — там он мог легко затеряться и сразу же превратиться из отдельного индивида в частицу воинского коллектива. Особенно покойно ему было за широкой, мощной спиной впереди идущего богатыря Мухарамова.
Что касается Кешки, то внешне он мало чем отличался от Вадьки, хотя ему удавалось обособиться от того, что выпадало на плечи остальных. Взводный — молодой лейтенант, недавний выпускник училища, с орлиным носом и свирепой фамилией Громовержцев — сразу же узрел в Иннокентии Колотилове талант математика и приблизил его к себе настолько ощутимо, что тот мог позволить себе едва ли не каждую неделю отправляться в городской отпуск, прибыть в столовую вне строя или же увильнуть от кросса под видом подготовки к очередному занятию по теории стрельбы. Вадька завидовал Кешке, но каждый раз смирял свою зависть и покорялся судьбе.
В воскресенье утром 22 июня Вадьку вызвал дежурный по полку. Неподалеку от штаба, в беседке у трех старых берез, стояла мама. Вадька сразу узнал ее — в летней широкополой панаме, в белой кофточке английского покроя и в слегка расклешенной коричневой юбке. Если бы не панама, можно было бы подумать, что только что прозвенел звонок на перемену и она вышла из класса, направляясь в учительскую. Вадька заметил маму еще издалека, а она, близоруко щурясь и пытаясь ладонью уберечь глаза от солнца, смотрела куда-то поверх сына, словно он должен был появиться у черты горизонта или же сойти с небес. И только когда Вадька подошел к беседке почти вплотную, она увидела его и метнулась ему навстречу. Вадька весь напружинился и смутился лишь от одной мысли: к нему, взрослому, восемнадцатилетнему парню, уже почти сержанту, приехала мать, будто он ребенок из детского сада. Мать обнимала его, целовала в полыхавшие жгучим огнем щеки, а он, стыдясь своих чувств, чуть отстранял ее от себя, повторяя одни и те же слова:
— Мама... Ну что ты, мама...
Потом они долго сидели в беселке, и мама почти все время говорила об Асе — и какая она стала красивая (еще красивее, чем была!), и что в красной косыночке она точь-в-точь цыганочка. Ася мечтала приехать, но ее не отпустили родители. Мать ругала себя за то, что в спешке забыла захватить письмо, которое Ася написала ему. Это письмо так и осталось лежать на столе в учительской. Как всегда, мама строила самые невероятные предположения насчет забытого письма: его могут вскрыть из любопытства или выбросить в мусорную корзину. Но если этого не произойдет, то она в первый же день после возвращения домой вышлет письмо Вадику. Оставалось непонятным, почему Ася не послала письмо по почте. Все было бы намного проще и надежней.
Вслед за этими оправданиями мама забросала Вадьку вопросами: как ему служится, хорошо ли кормят, не устает ли он, не холодно ли спать в палатке, хороший ли у него командир, есть ли друзья, не обижают ли его... Вадька пытался отвечать, но мама уже перескакивала на следующий вопрос, словно боялась, что не успеет обо всем расспросить. На все вопросы Вадька отвечал преимущественно одним словом: «нормально», но, так как в той интонации, с которой он произносил это «нормально», не было страстной убежденности, мама то и дело недоверчиво и беспокойно вглядывалась в него и безмолвно покачивала головой.
Вадька терпеливо ждал, когда мама умолкнет, намереваясь расспросить ее подробнее о том, как она живет, здоров ли отчим, в какой институт поступила Ася, что нового в Нальчике, спрашивала ли о нем Антонина Васильевна. Но мама все говорила и говорила, пока ее не прервал внезапно появившийся возле них дежурный по полку:
— Простите, товарищ Ратникова, но вашему сыну нужно срочно прибыть в расположение своего дивизиона...
— Что-нибудь случилось? — встрепенулась мама.
— Не волнуйтесь, он скоро вернется, — успокоил ее дежурный, но голос его был напряженным.
— Я побегу, — нахлобучив пилотку, выскочил из беседки Вадька.
— Вадик, а сумка? — крикнула она вдогонку. — Я привезла колбасу, яблоки, печенье...
— Потом! — отмахнулся Вадька, исчезая за палатками.
Если бы он знал, что будет значить это беспечное «потом», которое так уже никогда и не сбудется!
Вадька бежал к расположению своего взвода, а над лагерем уже взвился сигнал горниста. Горнист трубил общий сбор. Полк был построен по тревоге. Только что по радио выступал Молотов. Гитлер напал на Советский Союз. Война!
После митинга Вадька отпросился у взводного к матери попрощаться. Уже издали он увидел ее, и острая жалость охватила все его существо. Мама стояла неподвижно, будто окаменев. Вадька приблизился к ней почти вплотную, а она не могла найти в себе силы, чтобы сдвинуться с места. Панама валялась на траве, ветер разметал пряди волос. Вадька приник к ее груди, а она стояла все такая же окаменевшая, будто неживая.
— Ты не волнуйся за меня, мама, мы им покажем, этим гадам... — негромко произнес Вадька, словно был повинен в том, что началась война. — Не надо было тебе приезжать, мама...
Она молчала, и Вадька лишь ощущал, как ее дрожащие пальцы прикасались к его голове. Мама будто ослепла и онемела, и Вадька в испуге отпрянул от нее. Она незряче смотрела куда-то поверх его головы, как бы силясь увидеть там что-то спасительное.
— Неужели... это правда? — с трудом разжала она спекшиеся губы.
— Мама, мне пора, — нетерпеливо сказал Вадька. — Мы идем на погрузку. Я должен догнать колонну.
— Да, да, иди... Иди... — шептала она, пошатываясь. — Иди, родной...
И только в этот миг Вадька почувствовал, что он покидает мать, беспомощную, жалкую, сраженную страшным известием. И, наверное, долго не сможет узнать, что с ней. Именно в этот миг он ощутил свое кровное, нерасторжимое родство с матерью, женщиной, которая породила его и сыновняя любовь к которой обычно подменялась то его беззаботностью, то боязнью опеки, то грубоватым мальчишеским самоутверждением.
И сейчас, чувствуя, что пять минут, отпущенные ему взводным, давно улетучились, Вадька вначале прибавил шаг, то и дело оглядываясь на мать, а потом припустил изо всех сил по пыльной дороге вслед за вытянувшейся на ней походной колонной дивизиона. И в это мгновение спиной почувствовал, что с матерью что-то случилось. Он обернулся. Мать бежала за ним, протягивая руки, будто веруя в то, что сможет остановить его и не пустить туда, куда он шел... «Она упадет, она сейчас упадет», — колотилось Вадькино сердце. Он предостерегающе взмахнул рукой, требуя, чтобы она остановилась. Мама и впрямь, кажется, послушалась его, приостановилась, теперь уже не бежала, но все равно шла и шла, и пыль тяжелым облачком кружилась над ней.
Так Вадька и расстался с мамой.
Курсантов полковой школы выпустили в тот же день, досрочно. И потому присвоили не сержантов, как полагалось окончившим полный девятимесячный курс, а младших сержантов — у них появилось по одному сиротливо сидевшему в петличке треугольнику.
Полк в тот же день погрузился на ближайшей станции в эшелон, погромыхавший по рельсам на запад.
...Стояли жаркие, сухие дни. Даже ночами в теплушках сохранялось дневное тепло. Эшелон останавливался редко. Мелькали станции и полустанки, пока еще не тронутые войной. Девчата бросали в теплушки полевые цветы.
Кешка Колотилов был в ударе. Он с нетерпением подсчитывал километры, оставшиеся до линии фронта, и воодушевленно говорил о том, что там, на войне, их ждут Золотые Звезды Героев и что агрессор получит по зубам.
— Этот Гитлер всем своим потомкам закажет нападать на Россию! — горячился Кешка. — Чтоб неповадно было совать свое свиное рыло в наш советский огород!
Он много философствовал и проводил исторические параллели.
— Ты знаешь, — обняв Вадьку за шею, рассказывал он, — Гитлер вторгся в Россию на день раньше, чем Наполеон. И кончит тем же самым. Вот увидишь, дадим мы ему коленкой под зад. Нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим! Вовремя мы с тобой родились, товарищ Вадя! На настоящую войну едем! А то так бы и смотрели войну только в кино. Пусть нам позавидуют те, кто еще не родился! Тим Тимыч небось все еще в писарях, строчит гусиным пером. А Мишка Синичкин — тот и вовсе в тылу. Надо же, в такое время залезть в берлогу.
— Он же будет готовить кадры для фронта, — сказал Вадька. — Чем плохо?
— Никакой романтики, — кисло отозвался Кешка. — Всю жизнь топать по шпалам. Вот мы — другое дело. Артиллеристы! Залп по Берлину!
Между тем эшелон приближался к фронту. Как-то утром бойцы увидели разрушенное, обгоревшее здание маленькой станции, потом вереницу людей, тянувшихся по дороге с детьми и скарбом. Высоко в небе пронеслись самолеты. В теплушке вихрем занялся спор: наши или немецкие?
— Первые приметы войны, — протянул Кешка, и было заметно, что он помрачнел.
— Прощай, халва! — тоскливо объявил Мухарамов.
— И бублики тоже, — добавил кто-то.
— Ну что разбубнились? — снова взбодрился Кешка. — Еще пороху не нюхали, а уже столько эмоций.
А вечером, когда эшелон остановился на большом железнодорожном узле, часть бойцов батареи отобрал в свое подчинение порывистый, как вихрь, щеголеватый лейтенант с черными усиками и автоматом на груди, заговорщически подмигнул опешившим бойцам и сиплым, лающим голосом выстрелил:
— Голов не вешать! Все к лучшему в этом лучшем из миров! Мы сделаем из вас первоклассных лейтенантов!
— Мы же на войну, — робко обронили из строя.
— Кто-то что-то сказал или мне показалось? — сурово пролаял лейтенант, уверенный, что ответа не последует.
Вадька Ратников оказался в числе тех, кого присмотрел лейтенант. Так он неожиданно расстался с Кешкой Колотиловым.
Прощаясь, Кешка небрежно, почти равнодушно, сказал:
— А знаешь, Вадька, я тебе не завидую. Пока ты доберешься до училища, мы немца расколошматим. И тебя всю жизнь будет мучить совесть. Из-за того, что во время войны отсиделся в тылу. Впрочем, все это от тебя не зависит. Прощай и до встречи после войны!
Приказ: не стрелять
В жизни Тим Тимыча, как по мановению некоего волшебника, вдруг образовалась полоса сплошных радостей и удивительного везения. Первой радостью было то, что он наконец покидал Нальчик, городок хотя и живописный, манивший к себе неисчислимые племена туристов, но не дававший Тим Тимычу по-настоящему развернуться и обрести свое истинное призвание. Все-таки это был город детства, а Тим Тимычу нестерпимо хотелось поскорее расстаться именно с детством.
К чему эти длительные и тягучие, почти бесцельные подступы к взрослости, к становлению и совершенству? Ведь о человеке судят не по его детству, о котором даже в жизнеописаниях великих людей говорят или мимоходом, или же с иронией, а по его взрослой поре, когда он способен совершать поступки, нужные обществу.
Так рассуждал Тим Тимыч, и потому предстоящее расставание с родным городом, а следовательно с детством и юностью, воспринимал не только как вполне естественное, но и как крайне необходимое и желанное событие.
Протяжный гудок паровоза, который спустя минуту должен был увлечь за собой эшелон новобранцев, прозвучал для Тим Тимыча не печально и тоскливо, как это воспринимали провожавшие, в том числе и его мать, а как симфония счастья и предвестие сбывающихся надежд. Конечно, жалко было маму, которая оставалась теперь одна, но Тим Тимыч уверовал в то, что, служа в армии и будучи командиром, он сможет стать для нее настоящей опорой, и потому гнал жалость прочь.
Второй радостью было то, что Тим Тимыча первым из школьной четверки сняли со всех видов довольствия в роте писарей и зачислили в команду, формировавшуюся для отправки в другую, судя по предположению Тим Тимыча, танковую часть. И хотя это были всего-навсего слухи и даже маршрут был неизвестен, Тим Тимыч чувствовал себя окрыленным.
Впрочем, через две недели все стало ясно. Когда их эшелон, груженный танками и артиллерийскими орудиями, грузно и гулко прогромыхал мимо притихшего в ночи вокзала, Тим Тимыч, приучивший себя спать не более четырех-пяти часов и поэтому все еще бодрствовавший, успел прочитать надпись на фасаде здания: «Брест». Эшелон вскоре замедлил ход и, перескочив со стрелки на стрелку, остановился на совершенно безлюдном разъезде, исчерченном стальными линиями рельсов, отражавших призрачный свет луны. Прозвучала команда выгружаться.
Танкисты занялись своими танками, артиллеристы — орудиями, а взвод пехотинцев, в котором был и Тим Тимыч, посадили в грузовик и отправили, как вскоре выяснилось, в штаб пограничного отряда. Там им было объявлено, что они зачисляются в пограничные войска.
Тим Тимыч загрустил, пытался прощупать высокого поджарого капитана в зеленой фуражке, нет ли возможности определиться в танкисты. Капитан смерил его удивленным взглядом колючих, как крохотные ежи, глаз.
— Фамилия?
— Красноармеец Тимченко!
— Так вот, красноармеец Тимченко, — сурово отчеканил капитан. — Первое. Армия — это вам не невеста. Ее не выбирают. В ней служат. Второе. Пограничные войска — особые. Не каждому доверено ходить по последним метрам советской земли. Вам — доверили. Как понимать ваш вопрос?
— Есть, служить в пограничных войсках, товарищ капитан! — поспешил отчеканить Тим Тимыч, сознавая, что своим вопросом едва ли не потерял оказанное ему доверие.
Так Тим Тимыч, пройдя учебный пункт, попал на пограничную заставу.
Вид заставы вначале удивил его и даже вселил в душу чувство острого разочарования. Уже само слово «застава» выстраивало в его мыслях нечто особенное и совершенно необыкновенное. Застава представлялась ему то крепостью из железобетона, глубоко вросшей в землю и уже поэтому неприступной, то чем-то схожей с дотом, огороженным прочной высокой стеной и широким рвом, наполненным водой.
На самом же деле он увидел старый кирпичный дом под замшелой черепичной крышей. Наверное, прежде этот дом принадлежал какому-нибудь помещику. По своей архитектуре это был гибрид с ложными колоннами и с претензией на роскошь, доступную карману не столь уж богатого владельца. Дом и надворные постройки — конюшню, сараи, склады и баню — окружала металлическая ограда с копьями на прутьях. К дому вела аллея из старых дуплистых лип.
Эта прозаическая картина вконец расстроила Тим Тимыча. Едва приметный заряд бодрости вселили в него лишь часовой, прохаживавшийся по двору, да высокая деревянная вышка, на которой Тим Тимыч сразу же приметил пограничника, приникшего к окулярам стереотрубы.
Зато служба на заставе пришлась Тим Тимычу по душе с самых первых шагов. Ему понравилось, что пограничники ведут ночной образ жизни, понравился строгий и торжественный ритуал боевого расчета, и особенно слова начальника заставы: «Приказываю выступить на охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик...» Даже то, что вместо сокращенного «СССР» начальник заставы называл его родную страну полным, преисполненным гордости именем, вызывало в душе Тим Тимыча чувство радости и счастья.
...Заря занималась над лесом такая, будто именно в это утро родилась и земля, ждавшая этого рассвета как избавления от мрака небытия, и небо, вдруг ощутившее в своих холодных высотах прикосновение еще далекого, потустороннего солнца. Тим Тимыч вгляделся в эту зарю, пульсировавшую, как человеческое сердце, пронзительно яркими красками, и вздрогнул не столько от озноба, вызванного студеным дыханием предрассветного ветерка, сколько от сознания того, что еще ни разу не видел такой прекрасной и страшной зари, какая вставала сейчас как предвестие чего-то трагического.
Прежде Тим Тимыч не позволял себе расслабляться до такой степени, чтобы размышлять о природе. Он был убежден, что это удел малодушных, ушедших в слишком личные чувства людей, и потому танки, валившие на своем пути деревья, вызывали у него не вздохи о загубленном лесе, а восторг перед мощью бронированного чудовища, сотворенного человеком.
И потому сейчас, чувствуя, как пламенеющая над лесом заря вызывает в нем восхищение и протест, он в страхе зажмурился, чтобы отогнать от себя непрошеное видение.
Но это не помогло. Заря разгоралась все ярче. Она уже змеилась пожаром, предвещая ненастье.
Тим Тимыч приподнялся с земли. Капли, сыпанувшие с потревоженного куста орешника, льдисто обожгли лицо. Он огляделся, ища глазами старшего наряда сержанта Твердохлебова. Для Тим Тимыча этот невысокий, приземистый сержант с вечно хмурым, нелюдимым взглядом разбойничьих глаз был и царем, и богом, и воинским начальником. Именно глаза и были самым грозным оружием Твердохлебова. Они заменяли ему и слова, и жесты, и замыслы, выражая всякий раз новые чувства и мысли, которые были понятны, как считал Тим Тимыч, без всяких разъяснений.
Твердохлебов должен был находиться слева от него, у раскидистой березы с изогнутым, как знак вопроса, стволом. Однако все старания Тим Тимыча разглядеть его не увенчались успехом. «Вот как надо маскироваться», — с острой завистью подумал Тим Тимыч и снова приник к влажной от росы траве.
Полыхавшая над горизонтом заря сейчас отражалась в каждой росинке, отчего они дрожаще вспыхивали то малиновым, то оранжевым, то зеленым светом. Что-то фантастическое было в этой цветной игре росинок, которые как бы торопились в момент восхода солнца изумить мир.
Досадуя на то, что позволил себе отвлечься от наблюдения за простиравшейся перед ним лощиной, Тим Тимыч резко потянул на себя винтовку. Светящиеся радугой росинки враз потухли. Тим Тимыч удовлетворенно усмехнулся и откинул набрякший от влаги капюшон парусинового плаща с головы на спину.
И тут он не поверил своим ушам. В затаившуюся, как тигрица, тишину вначале несмело, будто прощупывая ее незыблемость, а потом все напористее, настырнее ворвался надсадный, подвывающий гул мотора. Он ударил в уши Тим Тимыча внезапно, и он сразу же понял, что гул этот зародился не на земле, а в небе, будто в пожаре зловещей зари. Тим Тимыч не видел еще самого источника звука, но было ясно, что такой звук может издавать только самолет.
Тим Тимыч вновь попытался обнаружить Твердохлебова, чтобы доложить ему, но старший наряда точно провалился сквозь землю. А гул мотора между тем все наглее, зловещее накатывался на землю, как бы пригибая к ней березовую рощу на противоположном берегу реки и саму реку с ее тяжелой бурой водой, которую не смогла высветить даже заря.
Прошло всего лишь несколько секунд, и Тим Тимыч увидел распластанный в небе самолет, словно бы неподвижно застывший над горизонтом. Он вскинул к глазам мокрый от росы бинокль, пытаясь быстрее поймать в окуляры самолет. И тут же поймал его перекрестием бинокля — черный силуэт на фоне багрового неба. Мгновение — и самолет вырвался из перекрестия, как бы освобождаясь из плена окуляров. Но бинокль теперь уже был не нужен: Тим Тимыч увидел, что самолет с ревом приближается к линии границы. Он летел так низко, что были отчетливо видны черный в белых обводьях крест на фюзеляже и свастика на хвосте.
Что за самолет? Истребитель? Бомбардировщик? Транспортник? Может, учебный? Или разведчик? По силуэту выходило, что разведчик. Но почему же он готов пересечь границу, будто ее не существует? Но если он перелетит границу, значит, это уже не просто самолет, а самолет-нарушитель! И значит, он, Тим Тимыч, как человек, которому поручена охрана этой границы, обязан принять все меры, чтобы нарушитель не смог вторгнуться в пределы территории Советского Союза. А что он может, Тим Тимыч? Что он может со своей винтовкой образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года?
И все же — может! Он будет стрелять по самолету, как учили его на занятиях по тактике: возьмет нужное упреждение с учетом скорости самолета и ветра и нажмет на спуск. Попадет или не попадет, собьет или не собьет — но совесть его будет чиста. Самолет, словно чудовище, распростерся почти над ним, над пограничной рекой, над границей. Как посмел он, этот воздушный пират, приблизиться к границе, устремиться через нее к чужой ему земле, будто эта земля принадлежит ему и будто он на ней единственный и полновластный хозяин?
Тим Тимыч не слышал щелчка курка — его заглушил тяжелый, свирепый гул мотора, ударивший в уши. Тень, затмившая зарю, пронеслась по травам, пригибая их к земле. Тим Тимыч перезарядил винтовку, снова нажал на спуск и тихо ахнул, не веря тому, что видит: самолет, как подстреленный дикий гусь, завалился на одно крыло и, клюя носом, с надсадным, стонущим ревом устремился к земле, словно его неудержимо манило к ней как к спасительнице. Черный шлейф дыма стелился по ветру и сопровождал его до той самой секунды, в которую он наконец-то встретился с земной твердью. Несколько секунд шлейф как бы соединял упавший на землю самолет с небесами, и тут же где-то вдали взвихрилось синее пламя взрыва.
Тим Тимыч неторопливо приподнялся с земли, все еще не веря в то, что это именно он сбил самолет.
— Тимченко! Что ты натворил! — совсем рядом раздался заполошный, схожий с отчаянием крик Твердохлебова. — С ума спятил?
Тим Тимыч вскочил на ноги, привычно вскинул на плечо винтовку. Она, весело звякнув, ладно обтянула брезентовым ремнем еще мокрый от росы плащ, доверчиво прижалась к худому плечу.
Подбежавший к нему Твердохлебов был похож сейчас на взъерошенного петуха.
— Я тебе команду давал? — жалобно вскрикивал Твердохлебов. — Давал я тебе команду?
— Не в этом дело, товарищ сержант. Команду вы мне не давали, — спокойно, с достоинством ответил Тим Тимыч, глядя прямо в округлившиеся от страха глаза Твердохлебова.
— То-то же! — торжествующе воскликнул Твердохлебов, и жалостливые нотки в его скрипучем голосе погасли. — Кто давал тебе право открыть огонь?
— Советский Союз дал право, — четко выделяя каждое слово, ответил Тим Тимыч.
— Ты меня политграмоте не учи! — снова взорвался Твердохлебов. — Здесь, в наряде, я тебе и Москва, и Советский Союз, понял?
— Откройте Устав внутренней службы, товарищ сержант, — устало посоветовал Тим Тимыч. — Там перечислены и ваши права, и ваши обязанности. И мои тоже.
— Устав? — грозно переспросил Твердохлебов. — Я тебе покажу устав! Под трибунал пойдешь! Приказ на боевом расчете зачитывали — слыхал?
— Какой приказ? — почти равнодушно осведомился Тим Тимыч.
— «Какой, какой», едрена корень! — передразнил Твердохлебов, которого больше всего бесило спокойствие Тим Тимыча. — Приказ, чтоб такие, как ты, с перепугу в небо не палили.
— Это я — с перепугу? — возмутился Тим Тимыч.
— Не петушись, — осадил его Твердохлебов.
— А если бы он по заставе шандарахнул?
— Если бы да кабы! А я из-за твоей дурости под трибунал не хочу!
— Успокойтесь, товарищ сержант, — глухо сказал Тим Тимыч. — Не в этом дело. Стрелял я. И сбил я. Мне и отвечать. И если сейчас второй такой гад границу нарушит, я и его собью. Если попаду, как в этого.
— Ну, герой! Ну, полководец! — почти восхищенно пропел Твердохлебов. — На боевом расчете был, когда приказ объявляли?
— Не был.
— И ничего не слышал о приказе? Ясно было сказано: по самолетам, перелетающим через границу, огня не открывать, докладывать.
— Разве есть такое понятие «перелетающий самолет»? — удивился Тим Тимыч. — Я знаю, что есть «нарушитель границы».
— Много о себе понимаешь, — вместо ответа буркнул Твердохлебов, как бы окончательно ставя точку на затянувшейся дискуссии. — Так свою молодую житуху можешь на самом корню загубить.
Тим Тимыч ничего не ответил. Опустив голову, он шел вслед за Твердохлебовым, и сознание исполненного долга переполняло все его существо. Наверное, его поступок был для него противоестественным, потому что с первого дня службы в армии он воспринял уставы и приказы как нечто непререкаемое и незыблемое, будто выкованное из одного куска стали. И потому для него самого было сейчас странным и необъяснимым, что он не испытывал даже предчувствия страха или раскаяния, а напротив, как самый обычный подросток, сгорал от любопытства: какого типа самолет он сбил, где он рухнул, удалось ли спастись летчикам?
Как бы там ни было, а нарушитель наказан, и наказан справедливо, за то, что советская граница оказалась для него вовсе не запретной, не неприступной, а просто некоей условной чертой на топографической карте, с которой можно и не считаться. Тим Тимыч украдкой погладил ладонью еще теплый ствол винтовки: какая же она молодчина, не подвела! Ведь, в сущности, он стрелял лишь потому, что не мог не стрелять в такой ситуации, но стрелял, будучи совершенно уверенным, что из винтовки самолет не подбить. И вдруг такая победа! Полнейшая неожиданность этой удачи делала ее еще более значительной и ценной.
Размышляя таким образом, Тим Тимыч настолько задумался, что едва не налетел на внезапно остановившегося Твердохлебова. Колючие глаза сержанта нацелились в упор на него.
— Вот что, Тимченко, — сглатывая слюну, проговорил он, — есть у нас с тобой выход. Доложим, что он сам... Ну, в результате аварии... Все равно никто не поверит, что ты его из винтовки...
— Товарищ сержант, — мгновенно отреагировал Тим Тимыч, — я доложу, как было. А вы — как хотите.
— Вольному воля, — обиженно заключил Твердохлебов. — Тебя же, дурака, хотел спасти. А ты сам в пекло. Учти, защищать не стану.
— Спасибо, товарищ сержант...
А на заставе между тем было вовсе не до восторгов. Именно в этот час начальник заставы старший лейтенант Коростелев, улучив свободную минуту, забежал к себе на квартиру и, схватив в охапку молодую жену, жарко целовал ее в румяные пухлые щеки. Еще не прошел медовый месяц, а в ушах Коростелева звучали песни с недавно сыгранной свадьбы, и Люба манила его к себе как магнитом, когда он ее видел. В последнее время дома он бывал редко: дня не хватало и спокойных ночей — без тревоги, без команды «В ружье!», без яростного всполоха сигнальных ракет, тихого ржанья коней и злого лая служебных собак, — таких спокойных ночей уже давно не бывало.
Они только решили отдохнуть, как вдруг в открытые окна дома ворвался отдаленный всплеск взрыва. Коростелев прислушался.
— Война? — испуганно прошептала Люба, прижимаясь к нему и как бы ища у него защиты.
— Какая война! — успокоил Коростелев жену, в то же время чутко прислушиваясь и в душе радуясь тому, что за первым взрывом не последовало второго. — Какая война! — повторил он уже веселее и беззаботнее, снова целуя сразу похолодевшие Любины щеки. — Какая война, если я тебя люблю и если у нас будет сын, и тоже — пограничник!
Люба притихла. Но Коростелев, не замечая ее состояния, целовал Любу с такой страстью, с какой целуют, расставаясь навсегда. Забывшись, он не услышал, как по гулким деревянным ступенькам в дом вбежал щупловатый юркий боец Ващук.
— Товарищ старший!.. — с порога выпалил он певучим баском, вовсе не совместимым с его щуплостью. — Вас к телефону! Начальник отряда срочно требует. Сказал, чтоб по тревоге, одна нога здесь, другая там!
— А ты, Ващук, без цитат! Доложил — и исчезни!
Ващук мгновенно загремел по ступенькам крыльца и испарился так же стремительно, как и возник.
Коростелев уже успел подпоясаться, застегнуть портупею и нахлобучить на голову фуражку.
И — вымахнул из дому, на ходу чмокнув жену в щеку.
Разговор с начальником отряда Звягинцевым с первых же слов сбил с Коростелева радужный настрой.
— На участке твоей заставы, — мрачно и тяжело, будто отливая каждое слово из свинца, говорил Звягинцев, — сбит немецкий военный самолет. Почему не докладываешь?
— Самолет? — с удивлением, какое вовсе не поднимает авторитета в глазах вышестоящего начальника, переспросил Коростелев, вмиг позабыв о Любе.
— Я не по-русски говорю? — сдерживая гнев, поинтересовался Звягинцев. — Немедленно расследуй происшествие и доложи лично мне. Надеюсь, приказ тебе известен? Вот у меня под стеклом на столе выписка. Цитирую: «При нарушении советско-германской границы самолетами или воздухоплавательными аппаратами огня не открывать, ограничиваясь составлением акта о нарушении государственной границы. О каждом нарушении границы германскими самолетами или воздухоплавательными аппаратами немедленно заявлять в устной или письменной форме протест соответствующим представителям германского командования по линии пограничной службы». Ясно написано, Коростелев? А кто подписал, знаешь? Лично нарком подписал.
— Товарищ майор! — взмолился Коростелев. — Уверен, что это ошибка. Весь личный состав заставы с приказом ознакомлен. Да и сбивать-то их нечем! Что его, винтовкой собьешь?
— Ты, Коростелев, антимонии не разводи! — уже с искорками ярости в голосе произнес Звягинцев. — Чем ты самолет сбивал, я не знаю. Может, ты его фуражкой сбил. Она у тебя шестьдесят второго размера. А только лежит он, бедолага, в трех километрах от села Бобренки бездыханный и теперь уже никогда не взлетит. К месту происшествия выехал капитан Резников с двумя штабистами. Туда же скоро прибудет германский пограничный комиссар Рентш. Немедленно выезжай на место происшествия. Я жду точного доклада к девяти ноль-ноль. Что я округу доложу, ты подумал? И что мне скажут, предполагаешь, стрелок-самоучка?
— Есть, немедленно выехать к месту происшествия! — отчеканил Коростелев и, убедившись, что Звягинцев положил трубку, неторопливо, но четко приказал стоявшему неподалеку дежурному по заставе: — Седлай коней! Со мной — Онипко!
В сущности, команду можно было и не подавать: кони начальника заставы и его ординарца все время стояли оседланными у коновязи, лишь подпруги были ослаблены, оставалось только подвести коней к воротам. Онипко тоже в любой момент был на подхвате, будто возникал из-под земли.
— Свяжитесь с нарядами, выясните, кто стрелял по немецкому самолету, — подумав, отдал распоряжение старшине Коростелев. — Вернусь — чтоб все было ясно, как под микроскопом. — Коростелев впервые пожалел, что неделю назад выпросил у начальника отряда краткосрочный отпуск своему замполиту Лушину, уехавшему на Кубань проведать тяжело больную мать.
От заставы до Бобренок было около пяти километров проселочной дорогой. В спокойной обстановке Коростелев любил скакать по ней, наслаждаясь всем, что простиралось вокруг: полем дозревающей ржи, отороченным березовой рощей, одиноким хуторком, прилепившимся к роще, тропками, разбегавшимися от дороги с редкими лужицами, оставшимися после дождя. Коростелев любил смотреть на все это потому, что именно в этой ржи он первый раз поцеловал свою Любку, в роще среди берез они бегали друг за дружкой лунной ночью, а хуторок был ему родным, потому что в нем родилась и жила до свадьбы его нареченная.
Теперь же перед его взором была только дорога, которая, казалось, скачи он еще стремительнее, была нескончаемой. Бобренки, притаившиеся в лощине, не торопились показать себя, а Коростелеву уже не терпелось увидеть самолет, упавший где-то неподалеку от села.
Да, Звягинцев, конечно, прав. Сейчас, когда действовал приказ НКВД, запрещавший открывать огонь по немецким самолетам, всякое его нарушение было чревато неприятностями. Ну, куда ни шло, постреляли, попугали — об этом можно умолчать, да и в случае чего запросто отбрехаться — попробуй, докажи! — а вот когда он, родимый, лежит распластанный и горит синим пламенем — тут уже не отбрешешься, тут отвечать надо. Правда, в душе Коростелева все еще теплилась надежда на то, что вышло какое-то недоразумение. Может, в этого нахального ястреба никто и не стрелял, сам, голубок, потерпел аварию, а немцы замыслили списать ее на нас. В таком случае ничегошеньки у них не выйдет, покажем им дулю с маком. Есть и еще один вариант: сбить его могли орлы с соседней заставы лейтенанта Смородинова. Конечно, он, Коростелев, не будет злорадствовать, если уготованные ему неприятности падут на соседа, но истина есть истина, и ни к чему ему, Коростелеву, замаливать чужие грехи. А если все же Смородинов здесь ни при чем и никакой аварии, а и впрямь кто-то с его, коростелевской, заставы захотел поупражняться в меткой стрельбе да и доупражнялся? Коростелева вновь неприятным холодком обожгла эта мысль, и он со страхом подумал не о себе, а о Любе. Что могут сделать с ним, Коростелевым? Дать суток десять ареста с содержанием на гауптвахте? Это можно пережить, стыдно только подчиненным будет в глаза смотреть. Но в
конце концов, поймут они его, не за пьянку же его посадили. Но десять суток — это минимум. Максимум — могут уволить из войск, да еще и по партийной линии выговор припаять. Ему-то что, уволят из войск — вернется на свой завод в Армавире, где слесарем работал, взыскание со временем снимут. А вот Люба? Не хочет она уезжать из родных мест и хуторок свой даже на Москву не променяет. Да и гордилась перед подружками, будто он не лейтенант, а генерал. От одной мысли, что придется с петличек отвинчивать три эмалевых рубиновых кубика — три кубаря, да и сами петлички отпарывать, — от одной только этой мысли Коростелева прошиб холодный пот и всегда сияющее, счастливое от избытка сил и здоровья лицо посерело. Потому что теперь, когда он женился на Любе, все, что могло произойти с ним плохого, становилось бы уже бедой не только его, но и Любы. Все это уже заранее разжигало в нем чувство неприязни к тому, кто посмел ослушаться строжайшего приказа из самой Москвы. Хотя, если говорить честно, Коростелев внутренне не был согласен с этим странным приказом, потому что с того дня, как он стал пограничником, в нем возникло и, словно металл в форме, навсегда закрепилось чувство того, что граница, обозначающая пределы его государства, — это такая линия, нарушать которую не дано никому, а если кто не посмеет посчитаться с этим железным законом, тот должен испытать на себе немедленное, неотвратимое, как рок, суровое возмездие. Кто дал право этим фашистам вести себя так, будто не для них писаны законы государств? И как бы им понравилось, если бы наши самолеты вот так же нагло и бесцеремонно перелетали на их территорию? Возмущение, которое переполняло Коростелева, не утихало еще и потому, что приказ о запрещении вести огонь по самолетам-нарушителям он воспринимал как проявление слабости и опасался, что точно так же истолкуют это запрещение и немцы. Им только дай палец в рот — всю руку оттяпают...
— Товарищ старший лейтенант! — обрадованно, ясным тенорком воскликнул Онипко. — Смотрите!
Коростелев, очнувшись от невеселых дум, автоматически натянул поводья. Разгоряченный конь затанцевал на месте, сердито грызя удила. Он то и дело непокорно вздымал голову и косил горячими, возмущенными глазами на своего всадника.
Коростелев посмотрел туда, куда показывал Онипко. Примерно в полукилометре от дороги, посреди желтеющей ржи, распростерлась бесформенная груда металла, которую, если бы не неестественно вздернутое к небу крыло и не искореженный хвост, понуро клонившийся к земле, невозможно было бы принять за самолет. Что-то еще горело в этой груде, и ветерок беспечно играл сизым дымом. За поворотом дороги Коростелев увидел эмку, а приглядевшись, и трех военных, торопливо устремившихся к сбитому самолету. В переднем он сразу же по размашистой и стремительной, чапаевской, походке узнал начальника штаба капитана Резникова.
Коростелев нервно спешился, бросил, не глядя, поводья Онинко и почти бегом, шуршаще рассекая густое жнивье, устремился навстречу Резникову, надеясь представиться ему до того момента, как тот приблизится к сбитому самолету. Резников заметил его издали, но не подал виду и шагал вперед, оставив далеко позади своих сопровождающих.
И все же Коростелев нагнал Резникова и, горячо дыша, отчеканил:
— Товарищ капитан! Начальник заставы...
— Знаю, что начальник! — резко отсек остальную часть фразы капитан. — Вы, старший лейтенант Коростелев, несете всю полноту ответственности за чрезвычайное происшествие. Максимально! Извольте доложить, по какому праву ваша застава нарушает приказ! Мы не потерпим анархии!
Резников не протянул руки и, не мигая светлыми, почти прозрачными и как бы застывшими от гнева глазами, отчужденно смотрел на Коростелева, словно верил в то, что от такого взгляда старший лейтенант будет способен немедленно исправить свой промах и свершится чудо: из груды горящего металла встанет, как птица Феникс из пепла, сбитый самолет и, разогнавшись по ржаному полю, взмоет ввысь и полетит себе в свою Германию, как ни в чем не бывало.
Однако никакого чуда не происходило, и, понимая это, Резников, поостыв, спросил:
— Кто стрелял по самолету?
— Товарищ капитан, назвать фамилию виновника я еще не готов.
— Почему?
— Доклада с границы пока не поступало. По приказанию начальника отряда я срочно выехал в ваше распоряжение...
— В ваше распоряжение... — почти передразнил Резников. — Мне нужны не вы, а ваш доклад о причинах нарушения приказа и о виновниках этого происшествия.
— Ясно, товарищ капитан! — багровея от обиды, все так же четко проговорил Коростелев. — Хотя я еще не уверен, что самолет сбит бойцами моей заставы.
— Он не уверен! — с удивлением, в котором сквозила грозная ирония, воспроизвел слова Коростелева капитан. — Он не уверен! — Это он произнес, обращаясь уже не к Коростелеву, а к подошедшим командирам. — Он не уверен, что самолет сбит, обломки пред нами, и между прочим, в тылу участка вашей заставы, товарищ старший лейтенант!
Коростелев угрюмо и сокрушенно молчал. Резников обернулся и подал знак рукой бойцам, приехавшим вслед за ним из отряда:
— Осмотреть место происшествия! Максимально!
Бойцы приблизились к останкам самолета, осторожно обходя места, где еще из-под обломков вырывалось тихое, затухающее пламя.
Резников терпеливо ждал результатов осмотра. Вскоре к нему подбежал рослый запыхавшийся старшина.
— Товарищ капитан! Обнаружены два немецких летчика. Один мертвый, весь обгорел. А второй еще жив.
— Оказать первую помощь, — коротко приказал капитан. — И немедленно в машину и — в госпиталь.
Старшина поспешил выполнить приказ.
Резников стоял все так же недвижимо и невозмутимо смотрел, как бойцы пронесли мимо него на брезенте немецкого летчика. С головы пилота наполовину сполз шлем, обнажая удлиненную, с ранними залысинами голову и шрам на лбу с запекшейся кровью.
— Машину вернуть на заставу Коростелева! — бросил им вслед капитан. — Мне — коня! — Резников как бы выстреливал короткие, звучные фразы. — Вы — со мной, — на мгновение обернулся он к Коростелеву. — Встреча с немецким погранкомиссаром в тринадцать ноль-ноль. Максимально! Составить акт! — Теперь уже Резников отдал распоряжение сопровождавшим его командирам.
Резникову подвели коня Коростелева, старший лейтенант сел на коня Онипко, и они, с места взяв галоп, поскакали на заставу. За всю дорогу ни Резников, ни Коростелев не произнесли ни слова.
У ворот заставы их встретил дежурный. Поодаль от него, неловко переминаясь с ноги на ногу, стоял Тим Тимыч, сменившийся с наряда.
— Выяснили, кто стрелял? — негромко спросил у дежурного Коростелев, едва тот закончил свой рапорт Резникову.
— Выяснить не удалось, товарищ старший лейтенант, — виновато ответил дежурный. — Ни один наряд, находившийся на участке заставы в это время, огня не открывал.
— Выходит, сам упал, — мрачно констатировал Резников. — Ну и цирк у вас, старший лейтенант. Выясните вы, в конце концов, кто стрелял? — Тон, каким задал этот вопрос Резников, красноречиво говорил о том, что он окончательно потерял терпение.
— Я стрелял, товарищ капитан! — громко и смело, будто сообщая о победе, воскликнул Тим Тимыч.
— Вы? — не веря тому, что слышит, уставился на Тим Тимыча Резников.
— Так точно, я, боец Тимченко! — четко, строевым шагом приблизился к капитану Тим Тимыч и столь же четко приложил ладонь к фуражке, отдавая честь.
— И как же вы его сбили, боец Тимченко? — в упор рассматривая худощавое лицо Тим Тимыча, спросил Резников.
— Из закрепленной за мной винтовки, товарищ капитан! — с воодушевлением и готовностью ответил Тим Тимыч. — Винтовка номер одна тысяча семьсот тридцать три!
— Одна тысяча семьсот тридцать три... — как бы в лирическом раздумье повторил капитан, и Коростелев, зная его характер, чувствовал, что вслед за этой лирикой неминуемо последует взрыв.
Однако на этот раз взрыва не произошло. Резникова, казалось, парализовала нагловатая смелость бойца Тимченко.
— Значит, из винтовки... Максимально... — не находя в себе сил выйти из глубокой задумчивости, протянул Резников. — А ты, случаем, не брешешь, боец Тимченко? — совсем не по-уставному спросил капитан и даже сам удивился, что от всегдашней официальной манеры разговора и с подчиненными, и с вышестоящими начальниками он перешел почти на панибратское фамильярничанье, которого не терпел.
— Факт выстрела может подтвердить сержант Твердохлебов! — выпалил Тим Тимыч, оборачиваясь и нетерпеливым жестом призывая стоявшего у крыльца сержанта засвидетельствовать его признание.
— Ну, кто был прав тогда, на учениях, старший лейтенант? — Резников просиял столь победоносно, будто ему только что вручили по меньшей мере ценный подарок. — Кто доказывал, что винтовкой можно сбить самолет?
— Вы, товарищ капитан! — надеясь, что гроза миновала, поспешил ответить Коростелев.
— А кто настаивал на том, что это невозможно?
— Начальник отряда майор Звягинцев! — почти услужливо ввернул Коростелев.
— То-то же! Максимально! — удовлетворенно произнес Резников, и в тот же миг его торжественно-хмурое лицо вновь будто застыло и глаза льдисто похолодели. — А вам, боец Тимченко, известен приказ...
— Так точно, товарищ капитан, известен! — не дождавшись, когда Резников закончит фразу, отбарабанил Тим Тимыч.
— В таком случае чему вы столь бурно радуетесь, боец Тимченко? — грозно спросил Резников. — Не думаете ли вы, что я незамедлительно вручу вам медаль «За отвагу»?
— Не думаю, товарищ капитан!
— Так почему вы нарушили приказ?
— Немецкий военный самолет нарушил государственную границу Союза Советских Социалистических Республик, — почти торжественно ответил Тим Тимыч. — И я поступил с ним так, как положено поступать с нарушителем!
— Значит, вы сознательно нарушили приказ?
— Не в этом дело...
— Так, понятно. За эту «сознательность» объявляю вам, боец Тимченко, десять суток ареста. Для начала, на период следствия. А затем не исключено, что вы пойдете под трибунал. Максимально!
— Есть, пойти под трибунал, товарищ капитан! — Голос Тим Тимыча стал звонким.
— Смотрите, какой герой! — вконец разгневался Резников. — Ничего себе, дисциплинка на заставе, — скосил он бесцветные, холодные глаза на Коростелева и, лихо щелкнув по голенищу сапога ивовым прутом, пошел к крыльцу.
Твердохлебов поспешно подскочил к Тим Тимычу и горячо, спотыкаясь от своего бессилия, проговорил ему прямо в ухо:
— Ну и дурень ты, ну и бестолковщина! Обещал же тебе, что не доложу! Мало ли отчего эта птичка гробанулась? Может, у летчика шарики в башке перемешались? А может, немецкий рабочий класс сработал? А ты: «Я сбил!» Из-за тебя и мне суток пять припаяют.
— А я могу твои пять суток к своим приплюсовать, — продолжал храбриться Тим Тимыч. — Какая разница? А только пусть зарубят у себя на носу: советская граница им не позволит...
Чего не позволит немцам советская граница, Тим Тимыч произнести не успел, так как запыхавшийся дежурный по заставе потребовал его к капитану Резникову.
— Вот что, боец Тимченко, — хмуро, не глядя на него, сказал капитан, — поедете со мной на переговоры с немецким погранкомиссаром. Но без моего разрешения не мурлыкать. Ни единого слова, понятно?
— Понятно, товарищ капитан! — отчеканил Тим Тимыч, пытаясь сообразить, для какой цели капитан решил взять его с собой.
— Готовность — к двенадцати тридцати, — добавил капитан уже менее сурово. — Пообедайте, ибо приема с коньяком и лимончиком не предвидится. Максимально.
Тим Тимыч, получив разрешение, отправился на кухню. Заставский повар Ковальчук моментально поставил перед ним миску густых щей с большим куском свинины. Это была мозговая кость — то, что обожал Тим Тимыч. В этом благородном жесте повара он сразу же уловил искреннее сочувствие. Вести на заставе разносятся с быстротой майской молнии, и Тим Тимыч понял, что повар уже в курсе событий и той кары, которая обрушилась на него. Столь явной щедрости от повара Тим Тимыч прежде не удостаивался, даже когда после ночного наряда просил добавки.
— Подкрепляйся, — милостиво сказал Ковальчук, с нескрываемой завистью глядя на Тим Тимыча. — Будь моя воля, я бы тебя к ордену представил. Ишь, разлетались, и граница им нипочем. — Ковальчук присел к столу, за которым ел Тим Тимыч, и доверительно присовокупил: — Как на губу поедешь, загляни ко мне. Я тебе сала из своего энзе припасу, понял? А то ведь там не курорт, одни сухарики да водичка.
Тим Тимыч благодарно кивнул, есть ему не хотелось вовсе, но он ел, чтобы повар не подумал, что он переживает из-за сбитого самолета и из-за предстоящего водворения на гауптвахту. Даже на гильотину надо идти весело и гордо, внушал себе Тим Тимыч.
К двенадцати ноль-ноль на заставу вернулась машина капитана Резникова. Штабист, приехавший на ней, был хмур и озабочен, сразу же направился в канцелярию и, уединившись с Резниковым, доложил, что тяжело раненный немецкий летчик еще по дороге в госпиталь скончался. Капитана это сообщение еще более расстроило, и он, то и дело поглядывая на часы, сердито слушал подробности, считая, что теперь они абсолютно несущественны и что на предстоящих переговорах все козыри будут в руках у немецкого погранкомиссара.
— Пора, — скупо произнес он. — Мы должны прибыть к месту встречи минута в минуту. Максимально. Немцы дьявольски пунктуальны.
Он хотел добавить, что пунктуальности как раз не хватает русским и что всегда, когда нужно поспеть вовремя, обязательно случится что-либо непредвиденное и пакостное: то спустит проколотый скат, то в дорожной хляби забуксует машина, а то и ненароком кончится бензин.
На встречу с немецким погранкомиссаром выехали вчетвером: капитан Резников, штабист со странной фамилией Перебейнос, Коростелев и Тим Тимыч. Каждый из них, сидя в тесной машине и глядя на мелькавшие по обе стороны деревья, думал о своем. Капитан Резников пытался предвосхитить, как будут вести себя немцы и как им доказать, что пограничный отряд не несет ответственности за самолет и что ответственность за нарушение границы должна взять на себя немецкая сторона. Доказать все это до марта сорокового года было значительно проще, но сейчас на календаре уже начал отстукивать свои дни июнь сорок первого, и все давно стало иным. Главное заключалось в том, чтобы в любой, пусть самой немыслимой, ситуации не поддаваться на провокации, то примитивные, то изощренные, на которые немцы были большие специалисты. Резников вел учет этих провокаций, с упрямой пунктуальностью записывая все подробности. Но если бы из этих записей сделать выборку, обозначив лишь суть провокаций, то один их перечень занял бы, наверное, целую общую тетрадь.
Чего тут только не было! Срезан ножом угол пограничного столба номер 115... Пограничный наряд шестой заставы обстрелян с немецкой стороны из пулемета трассирующими пулями... На участке погранотряда нарушили границу три германских бомбардировщика... Столкновение пограничного наряда третьей заставы с группой вооруженных нарушителей в составе восьми человек... Продолжается передвижение германских войск вдоль границы... Продолжается отселение местных жителей из приграничных районов. Оставленные жителями постройки занимаются немецкими войсками... В местечке на сопредельной территории расположился механизированный полк... На приграничную станцию прибыл эшелон с танками... На аэродроме сопредельной стороны отмечено до сотни самолетов... Во многих пунктах вблизи границы у реки сосредоточены понтоны и надувные лодки... В мае на участке отряда задержано 120 нарушителей — в три раза больше, чем за период с января по апрель, а за первую неделю мая — 82 нарушителя, причем нарушители снабжены приемно-передающими радиостанциями, оружием и гранатами... На сопредельной стороне германская пехота отрабатывает гранатометание из окопов и стрельбу из минометов... В село на сопредельной стороне прибыло до двух полков гаубичной артиллерии на конной тяге...
Машину то и дело встряхивало на ухабах и корневищах деревьев втянувшейся в лес дороги, и капитан Резников невесело перебирал в памяти эти записи. Будучи разрозненными по времени, они выглядели не столь угрожающими, но стоило их спрессовать воедино в пределах небольшого пространства, как они начинали ударять в мозг набатным колоколом. Против многих записей значилось: заявлен протест, заявлен протест, заявлен протест, — но немцы столь же упрямо и педантично продолжали нарушать границу и нагло игнорировать наши требования.
«Да... — размышлял Резников. — Начали они с того, что портили пограничные столбы, а завершают тем, что приготовились к броску на нашу землю».
По сравнению со всем этим самолет, сбитый упрямым и своенравным бойцом Тимченко, казался пустяком, но Резников, понимая это, все же вынужден был подвергнуть аресту с содержанием на гауптвахте нарушителя приказа, дать всему делу серьезный ход. Этим самым он хотел упредить более строгую кару, которая могла бы низвергнуться на бойца Тимченко сверху, и уберечь парня, который, хотя Резников и не показывал этого, пришелся ему по душе своей прямотой и смелостью.
Направляясь на встречу с немецким погранкомиссаром, Резников был заранее уверен, что она не принесет никаких результатов — в том смысле, что немцы как летали через нашу границу, так и будут летать, и летать еще более нагло и чаще. Резников понимал, что точно так же, как и во взаимоотношениях между двумя людьми, когда зарывается и наглеет один из них, крайне важно вовремя осадить наглеца и поставить его на место решительными, смелыми действиями, вплоть до применения силы, иначе наглость неизбежно перейдет все допустимые пределы, так и во взаимоотношениях между двумя государствами бесполезно ограничиваться одними увещеваниями и призывами к благоразумию, если они оказываются совершенно бесплодными. Однако постоянное и ставшее уже неизменным требование не поддаваться на провокации уже настолько прочно и всесильно овладело Резниковым, что определяло все его действия в любых передрягах. И сейчас он, внутренне радуясь, что самолет-нарушитель получил то, что должен был получить, видел в бойце Тимченко человека, который вполне мог спровоцировать если не нападение немцев, то хотя бы их ноту протеста, направленную по дипломатическим каналам, а то и с публикацией в прессе.
Домик, в котором проходили встречи погранкомиссаров, стоял на опушке леса, обращенной к реке, по которой проходила граница. Прежде этот домик занимал лесничий. Резников очень любил лес и, как заядлый охотник, всегда водил дружбу с егерями. Но с тех пор как он чуть ли не изо дня в день вынужден был приезжать на встречу с немецким погранкомиссаром, чтобы заявить очередной протест, и лес, и дорога, петлявшая в нем, как издыхающая гадюка, и бревенчатый домик, и даже воспоминания о егерях и удачной охоте стали вызывать в нем сперва смутное, а потом все более явное чувство неприязни, как точно такое же чувство стало в нем вызывать даже само слово «протест». Чем ближе подъезжал Резников к месту встречи, тем неукротимее вскипала в его душе ярость и нервное напряжение усиливалось оттого, что ему нужно было постоянно сдерживать схожее с кипящей лавой чувство.
Едва машина остановилась, как Резников стремительно вышел из нее, оглушительно хлопнув дверцей, и сразу же, став еще более стройным и подтянутым, и даже щеголеватым, уверенным и четким шагом пошел в домик. В просторной комнате, где пахло хвоей и сосновыми стружками, стояли широкий стол и крепкие, будто навечно сработанные, стулья. Штабист, сопровождавший Резникова, изящным и многообещающим жестом выметнул из планшетки топографическую карту и аккуратно разложил ее на столе.
Тим Тимыч, пока что не получивший никаких распоряжений и потому продолжавший безучастно сидеть на заднем сиденье эмки, видел, как почти вслед за Резниковым в дом вошел рослый немецкий офицер, во всем облике которого главным и определяющим была неприкрытая спесь. Немец шествовал так, будто и у крыльца, и в домике, и во всей округе не существовало никого, кроме него самого, а если даже кто-то случайно и существовал, то ни с кем он не намерен был считаться.
Тим Тимыч и вовсе застыл на своем сиденье: впервые в жизни он так близко, почти в упор, увидел живого немецкого офицера, и только теперь ему вдруг стало жалко капитана Резникова, который из-за него, беспутного бойца Тимченко, вынужден будет выслушивать претензии этого чванливого, влюбленного в самого себя фашиста.
Долго размышлять ему не пришлось. Боец из охраны подбежал к машине и сказал, что капитан Резников вызывает бойца Тимченко к себе. Тим Тимыч выскочил из машины и бегом преодолел расстояние до крыльца. На ступеньках он почувствовал, как сердце, будто дятел бил клювом по стволу, застучало в груди, но он взял себя в руки и решительно распахнул дверь в комнату. Резников жестом указал на дальний от стола угол, где ему надлежало находиться. Этот же жест, как его понял Тим Тимыч, означал, что представляться ему не надо.
Послушно выполнив распоряжение капитана, Тим Тимыч пристально разглядывал немца, стоявшего по другую сторону стола, точно напротив Резникова.
— Господин пограничный комиссар, — громко и отчетливо начал Резников, останавливаясь и делая паузы лишь для того, чтобы дать возможность переводчику перевести его слова, — сегодня в пять часов тринадцать минут германский одномоторный самолет нарушил советскую государственную границу на данном участке, — Резников дотронулся остро отточенным карандашом до карты, — и, потерпев аварию, упал в трех километрах от села Бобренки. — Резников указал место падения самолета, однако немец даже не удосужился нагнуться к карте, продолжая недвижимо смотреть прямо перед собой. — Факты нарушения государственной границы Союза Советских Социалистических Республик германскими самолетами, — еще жестче продолжал Резников, — неоднократно отмечались и ранее. Исходя из вышеизложенного, по поручению командования я уполномочен заявить германской стороне решительный протест. Максимально!
Резников умолк и в звенящей тишине, воцарившейся сейчас в комнате, немигающе смотрел прямо в узкое холеное лицо немецкого офицера, ожидая его ответной реакции.
Подполковник Рентш, слушая перевод заявления Резникова, оставался все таким же бесстрастным и преисполненным чувства высокого достоинства человеком, которого, если судить по его каменно застывшему лицу, не только не волновало, но и вовсе не интересовало ни то, что произошло с немецким самолетом, ни то, что советский погранкомиссар со столь решительной интонацией заявил ему протест. Немец продолжал молчать, пауза явно затягивалась, и у Резникова на скулах бешено зашевелились, то напрягая кожу, то ослабляя ее, крупные желваки.
— Какова причина аварии германского самолета? — каркающим голосом наконец взорвал тишину Рентш, продолжая смотреть не на Резникова, а куда-то поверх его головы.
— Германский самолет сбит советским пограничным нарядом как нарушитель государственной границы, — стремительно ответил Резников, и Тим Тимыч про себя отметил, что капитан не хочет делать паузы, чтобы не подражать Рентшу.
— Пограничным нарядом? — не выказывая любопытства, бесстрастно переспросил немец после минутного молчания, в течение которого он как бы переваривал слова Резникова, — Советские пограничные наряды имеют на своем вооружении зенитные пулеметы?
— Германский самолет, — почти торжественно произнес Резников, — сбит выстрелом из винтовки образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. Максимально!
— Из винтовки? — Окаменелость Рентша исчезла, и он стал похож на нормального, живого человека, забывшего о необходимости сделать обязательную минутную паузу. — Это невероятно, господин капитан!
— Очень даже вероятно, — усмехнулся Резников, довольный, что заставил ожить этого манекена. — И сбил его боец Тимченко, который здесь присутствует.
Подполковник Рентш стремительно и как бы защищаясь от возможного нападения обернулся туда, куда ему указывал Резников, и уставился на не менее ошеломленного Тим Тимыча немигающим, пронзительным взглядом. Тим Тимыч внутренне съежился, будто на него нацелили дуло пистолета.
— Боец Тим-тшен-ко? — переспросил немец, словно во всей этой истории особенно важна была фамилия пограничника. — Но я не знаю зольдат немецкой армия, который мог сбивать самолет из винтовка. Это есть самолет, но не есть дикий утка! — слегка коверкая слова, произнес Рентш по-русски.
Он несколько минут все с той же нагловатой пристальностью изучал Тим Тимыча, оглядывал его с ног до головы, и вдруг, неожиданно для всех присутствующих, порывисто, на негнущихся ногах подошел к нему и театрально протянул ему руку:
— Я хочу поздравлять вас, боец Тим-тшен-ко, — считая, что жестом истинного арийца он осчастливит этого невысокого, щуплого азиата, сумевшего сбить из винтовки (несомненно, это или заведомая выдумка русских, или же помог его величество случай!) немецкий военный самолет.
Тим Тимыч вконец растерялся и панически переводил взгляд с холеной руки немецкого офицера на продубленное ветром и солнцем лицо капитана Резникова и не знал, как ему поступить.
Выручил его Резников. Он едва заметно кивнул, и Тим Тимыч расшифровал этот скупой жест как разрешение, протянул руку немцу. Тот пожал ее, внутренне поражаясь тому, что этот русский дикарь не оценил великодушного шага немецкого офицера и не воспринял его как высокую награду.
Все тем же порывистым, жестким шагом немец вернулся на свое место, будто не мог стоять на другом. Лицо его снова приняло высокомерное, отчужденное выражение.
— Я уполномочен заявить, — раздельно, чеканя каждое слово, произнес Рентш, — что германская сторона выражает сожаление в связи с тем, что немецкий самолет оказался в пределах воздушного пространства Советского Союза. Однако совершенно ясно, что это произошло без какого бы то ни было злого умысла. Я склонен предполагать, что экипаж самолета потерял ориентировку. Немецкие летчики, пилотировавшие самолет, обучаются в летной школе и совершали обычный учебный полет. Германская сторона считает, что стрельба советских пограничников по самолету не вызывалась необходимостью, учитывая, что отношения между Советским Союзом и Германией основываются на пакте о ненападении. Германская сторона надеется, что впредь подобных недружественных акций в отношении немецких самолетов не будет допущено.
По мере того как немец произносил эти слова, как бы показывая, что все, о чем он сейчас говорит, лично ему почти безразлично, Резников наливался гневом. Воспользовавшись тем, что немец сделал продолжительную паузу, дававшую основание предположить, что он завершил свой монолог, Резников произнес краткую речь с той железной твердостью, которая в дипломатических правилах считается отклонением от принятого этикета, но которая, как сразу же отметил Тим Тимыч, отрезвляюще подействовала на немца.
— Советская сторона, — сказал Резников, — еще раз заявляет решительный протест по поводу нарушения немецким самолетом государственной границы СССР. Максимально! И выражает надежду, что германская сторона примет необходимые меры к тому, чтобы подобные факты были впредь исключены. Пользуясь случаем, я хотел бы обратить внимание германской стороны на то, что за последнее время нарушения границы СССР немецкими самолетами участились. Это уже не единичные случаи, а целая продуманная система, имеющая цели, несовместимые с пактом о ненападении.
Рентш слушал внимательно, опять-таки глядя куда-то мимо Резникова, но Тим Тимыч сумел уловить в его взгляде некоторую растерянность, смешанную с негодованием, вызванным тем, что этот советский капитан как бы читает ему мораль.
— Германская сторона оставляет за собой право настаивать на высказанной мною версии и требует передать останки самолета и трупы летчиков, — коротко и глухо произнес Рентш.
— Советская сторона готова выполнить эту просьбу и предлагает германскому погранкомиссару ознакомиться с текстом акта.
Резников протянул переводчику лист бумаги с отпечатанным на нем текстом, и тот прочел, сразу же переводя с русского на немецкий:
— «Мы, нижеподписавшиеся, представитель пограничной охраны СССР капитан Резников и представитель пограничной охраны Германии подполковник Рентш, составили настоящий акт в том, что 5 июня 1941 года в районе 101—103 — погранзнаков германский военный самолет, нарушив границу, перелетел на территорию СССР. В результате обстрела самолета при нахождении его на территории СССР самолет был сбит и упал на территорию СССР, в трех километрах от села Бобренки. Самолет типа «разведчик». При падении самолета один пилот погиб, второй тяжело ранен. Последний по дороге в госпиталь скончался.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах».
Переводчик вернул акт Резникову, а тот протянул его Рентшу. Пристально вглядевшись в текст акта, как бы проверяя, насколько точно перевел его переводчик, Рентш стремительно извлек из кармана френча авторучку и, положив акт на карту, размашисто подписал его, кивком давая понять, что считает переговоры законченными.
«А прежде приносил извинения и заверял, что больше таких нарушений со стороны Германии не повторится», — устало подумал Резников, подписал акт и взял под козырек.
...Через три дня после этих переговоров Тим Тимыча водворили на гарнизонную гауптвахту. Переживал он это событие очень тяжело. Если бы прежде кто-либо посмел предсказать, что в армии его ожидает гауптвахта, он бы не выдержал и поколотил такого «прорицателя». Не было дня в преддверии призыва, чтобы Тим Тимыч не мечтал о том, что в армии он заслужит орден и даже звание Героя Советского Союза. Теперь же вместо ордена он заработал десять суток ареста, и еще неизвестно, что ждало его впереди, ибо капитан Резников предупредил, что будет проведено дознание.
С тех пор как Тим Тимыч уехал из Нальчика, он ни разу не вспомнил о родном городе. И не потому, что был бесчувственным человеком. Просто некогда было вспоминать. Город все еще оставался в его воображении колыбелью младенца, а о младенческом возрасте вспоминать не хотелось. Даже письма матери он писал раз в месяц, и то столь короткие, что они были похожи на военные сводки: жив, здоров и все нормально.
Здесь же, на гауптвахте, он впервые подумал о том, что́ с ним было до призыва в армию, с волнением, которого не ощущал прежде. В душу как бы из далеких, напрочь растворившихся в бездне времени лет пахнуло и ледяной прохладой Урвани, и сладким запахом цветущих акаций на Кабардинской, и хохотом никогда не унывавшего Кешки Колотилова, и жалкой улыбки Кати, в последний раз взглянувшей на него, перед тем как исчезнуть навсегда. И почему-то уже не с прежней тоской, а здраво подумал он о том, что Катя любила не его, а другого. В этом сумеречном воспоминании было что-то странное. Было так, будто все это происходило не с ним и не с ней.
Сейчас перед его глазами навязчиво и возбуждающе вставал образ Любови Никаноровны Коростелевой, и Тим Тимыч испытывал отчаянное и горькое чувство зависти к старшему лейтенанту, который сумел отыскать на белом свете такое сокровище и имел полное право называть эту молодую, обаятельную и возмутительно красивую женщину не по имени-отчеству, а просто Любой, Любашей или даже Любкой. Тим Тимыч и сам еще не понимал, чем, какой немыслимой силой влекла его к себе эта женщина, всегда посматривавшая на него чересчур снисходительно, как смотрит мать на еще неоперившееся дитя. И чем сильнее проявлялась непонятная, таинственная власть этой женщины над Тим Тимычем, тем острее он чувствовал свою вину перед Коростелевым, тем заметнее смущался и боялся смотреть ему в глаза, когда тот обращался к нему. Тим Тимыч мысленно казнил себя за то, что, приняв, по его мнению, единственно верное и разумное решение возненавидеть всех женщин на свете, какими бы они красивыми и манящими ни были, вновь начал поддаваться странному и необъяснимо упорному влечению к женщине. Временами он радовался тому, что Люба уже была замужем, уже отдана другому, и потому влечение к ней оставалось платоническим, а она так никогда и не смогла бы узнать, с какой тайной силой страдает по ней Тим Тимыч.
А главное, об этом никогда не узнает Коростелев, которого Тим Тимыч очень любил за удаль, за преданность границе, за умение понять любого бойца. Вот и на днях, отправляя Тим Тимыча в отряд, где его ждала гауптвахта, Коростелев стиснул его за плечи своими мощными ладонями, по-отцовски встряхнул и, лукаво улыбаясь, подмигнул:
— А ты не дрейфь, боец Тимченко! Ты, может, думаешь, я на губе не сидел? Имей в виду, даже Чкалов сидел! Великий летчик нашего времени! А между нами, мальчиками, говоря, правильно шандарахнул ты этих зарвавшихся асов. И придется еще нам с тобой, Тимофей Николаевич, по этим летунам огонь вести, помяни мое слово. И потому — возвращайся скорее, дорогой наш боец Тимченко! Мне сейчас каждый штык позарез нужен. — Он еще доверительнее склонился к Тим Тимычу и негромко добавил: — Все будет в порядке. Майор Звягинцев отпишется перед округом, округ — перед Москвой. Звягинцев знаешь какой дипломат — ему прямая дорога в Наркоминдел...
Тим Тимыч, смущенно раскрасневшись, слушал его, с огромным трудом сдерживая себя, чтобы не сказать вслух: «Товарищ старший лейтенант, вы со мной как с человеком, можно сказать, как с другом, а ведь я люблю вашу жену...»
...Наконец Тим Тимычу объявили, что срок его пребывания на гауптвахте закончился, но до особого распоряжения ему надлежит оставаться в гарнизоне отряда. Это, по всей видимости, означало, что предстоит дознание.
А как ему хотелось поскорее вернуться на заставу! Она, эта застава, стала для него как магнит, неудержимо притягивающий к себе. Что-то родное, истинное, свое, неотделимое от его существа, таила в себе его первая в жизни застава, и Тим Тимыч всерьез был уверен, что без него она не сможет так же надежно беречь от врага свой участок границы, как могла это делать вместе с ним. Он всерьез уверовал, что без него застава оказывалась совсем беззащитной, и думал о ней, как о живом человеке, как о матери, которая ищет защиты у своих сыновей. Возможно, он не думал бы об этом так взволнованно и пронзительно-тоскливо, если б на этой заставе не жила Любовь Никаноровна Коростелева, чужая жена, как на грех воплотившая в себе тот идеал женщины, который нежданно возник в душе Тим Тимыча, заставляя его мечтать, надеяться и страдать.
По этой причине сообщение о том, что ему пока что не разрешено вернуться на заставу, повергло Тим Тимыча в уныние. Значит, та угроза, которую ему высказал капитан Резников, не была лишь средством припугнуть его, а таила в себе те дальнейшие непредвиденные еще неприятности, которые должны были обрушиться на Тим Тимыча за то, что он посмел ослушаться строгого приказа. И если прежде, до водворения на гауптвахту, Тим Тимыч, несмотря ни на что, был непоколебимо убежден в своей правоте, то теперь эта уверенность была ослаблена. А вдруг и в самом деле то, что он сбил немецкий самолет, значительно серьезнее, чем он предполагал? Ведь он мыслит с точки зрения рядового бойца, а там, в Москве, мыслят с точки зрения всей страны и даже всего земного шара. И вдруг он вместо того, чтобы принести своей стране пользу, своим анархистским поступком принес ей вред? Может быть, приказ о запрещении вести огонь по самолетам, нарушающим наше воздушное пространство, исходит от самого товарища Сталина?
Тим Тимыч внутренне содрогнулся от этих страшных предположений и провел бессонную ночь. А утром, когда горнист сыграл подъем, он вдруг успокоился и впервые подумал о своей судьбе без чувства обреченности. Ведь ничего уже нельзя переделать, ничего не повернуть вспять. Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Тим Тимыч сосредоточил на этих мыслях всю свою волю, и от этого даже предчувствие суда военного трибунала перестало быть таким невыносимо страшным, каким оно было прежде.
Тим Тимыча особенно огорчало то, что после освобождения с гауптвахты его не привлекали ни на занятия, ни на работу и он вынужден был оставаться один на один со своими мыслями. По сравнению с заставой здесь, в отряде, как казалось Тим Тимычу, было слишком спокойно, будто отряд находился за сотни верст от границы. И потому Тим Тимыч с нетерпением ждал вызова или к начальству, или к дознавателю, лишь бы поскорее избавиться от самого невыносимого для человека состояния — состояния неизвестности.
В субботу почти всех бойцов гарнизона отправили на заставы. Знакомый по гауптвахте боец доверительно сообщил Тим Тимычу, что немцы придвинули вплотную к границе танки и артиллерию и что дело идет к войне.
— Не посмеют они! — горячо возразил Тим Тимыч. — Каши они еще мало ели!
— Ты думаешь, если один самолет сбил, у них больше не найдется? — усмехнулся боец.
— При чем тут самолет? — обиделся Тим Тимыч. — Разве одними самолетами войну выигрывают? Не в этом дело! А немецкий пролетариат? Он же может Гитлеру в спину...
— Хорошо бы, — уклончиво сказал боец, явно не желая продолжать разговор на эту тему.
Вечером Тим Тимыч принялся было за письмо матери, но, едва начав его, отложил в сторону. О чем писать? О своей нелепой судьбе?
А на рассвете Тим Тимыча вскинула с койки война... Трясясь в кузове старенькой полуторки, в которую погрузили остававшихся в гарнизоне бойцов, Тим Тимыч кипел от переполнявших его противоречивых чувств. Радость от сознания того, что отныне и следствие, и трибунал становятся такими же нереальными и противными здравому смыслу, как и приказ о запрещении вести огонь по вражеским самолетам, грозно сталкивалась с щемящей тревогой и волнением за судьбу Любови Никаноровны, которая конечно же попала под огонь врага, как попала под этот огонь и вся застава. Если бы он, Тим Тимыч, умел водить машину, он сам сел бы за руль, и тогда эта скрипящая таратайка летела бы на заставу быстрее ветра!
К счастью, застава Коростелева была ближней от отряда, миновать ее было просто невозможно, и это придавало Тим Тимычу бодрости.
Уже на дальних подступах к заставе, едва ли не сразу же за Бобренками, Тим Тимыч и все, кто ехал в машине, услышали густой, непрерывный стрекот автоматных очередей и винтовочных выстрелов. Изредка с адским кряканьем рвались мины. Чем ближе они подъезжали к заставе, тем отчетливее накатывался на полуторку гул танковых моторов, и в этом гуле мотора полуторки почти не было слышно.
На повороте, от которого тропинка во ржи вела на заставу, Тим Тимыч перемахнул через задний борт полуторки и, глотая густую, саднящую в горле пыль, помчался, сжимая в руке винтовку, туда, где призрачно угадывались ворота заставы.
— Назад! — раздался ему вслед сердитый вопль младшего сержанта. — Нам приказано на десятую!
Тим Тимыч сделал вид, что ничего не расслышал, и помчался еще стремительнее. Как он мог допустить, чтобы его застава вела бой с фашистами без него! Чего доброго, так можно опоздать и к тому моменту, когда и пограничники, и части Красной Армии перейдут границу и начнут громить врага на его территории. Нет, допустить такого Тим Тимыч просто не мог, не имел права и никогда не простил бы себе, если бы все произошло иначе.
Тим Тимыч выбежал из-за рощи и остановился, ошеломленный непривычным и страшным видом заставы. Разрушенное прямыми попаданиями снарядов, здание горело, дымилось и плавилось в потоке огня. Гремели взрывы и выстрелы. Содрогалась земля. С ходу было невозможно понять, кто и откуда стреляет. Двор заставы был безлюден. В роще обезумело неслись два коня, один из них с седлом.
Тим Тимыч хотел было побежать к опорному пункту. Наверняка там в окопах и ходах сообщения сосредоточились все бойцы заставы. Но тут же помимо своей воли он бросился к дому, в котором жил Коростелев. «Только взгляну, как там, не нужна ли помощь, и сразу же в окопы», — решил Тим Тимыч, подбегая к крыльцу.
Самым странным и удивительным было то, что дом этот, в отличие от горящей, разрушенной заставы, стоял совсем целехонький, будто его заворожили и уберегли от выстрелов. Лишь окна были распахнуты настежь и неясная тень обреченности нависла над ним, несмотря на то, что в стеклах играло утреннее солнце.
Тим Тимыч взбежал на крыльцо, метнулся в дверь. Здесь, в квартире Коростелева, он бывал всего два раза, когда приходилось вызывать начальника заставы. Эти посещения были настолько кратковременны, что он успевал лишь бросить мгновенный взгляд на Любовь Никаноровну. Какой была квартира в те, еще мирные дни, он так и не рассмотрел. И потому сейчас ему показалось, что ничего в этой квартире не изменилось. Если бы не грохот выстрелов и взрывов в стороне заставы, могло бы показаться, что Любовь Никаноровна куда-то совсем ненадолго отлучилась и вот-вот ее босые загорелые ноги мелькнут на крыльце, припечатывая мокрыми от росы маленькими ступнями певучие деревянные половицы.
Однако сейчас было не до чудес. Тим Тимыч сноровисто обежал дом вокруг и, не останавливаясь, ринулся к опорному пункту.
Навстречу ему, будто вырвавшись из адского пламени, бежали черный от копоти Твердохлебов, с отрешенным, невидящим лицом, и какой-то незнакомый боец в каске.
— Тимченко! — задыхаясь, хрипло прокричал Твердохлебов. — Спустись в подвал, помоги вынести раненых! Приказано отходить!
— Отходить? — ошалело переспросил Тим Тимыч. — Ты с ума сошел, Твердохлебов?!
— Выполняйте приказ, боец Тимченко! — зло отчеканил тот.
Тим Тимыч поразился тому, что Твердохлебов приказывал ему так, будто он ни на одну минуту не отлучался с заставы и будто его появление не может удивлять или радовать. Именно в этот миг Тим Тимыч понял, что война не просто меняет привычное, но опрокидывает и ломает его, как не отвечающее ее существу.
— Погоди, — остановил Тим Тимыча худой, вертлявый боец в каске, когда тот уже приблизился ко входу в подвал. — Ты только ей не говори...
— Чего не говори? Кому не говори? — прокричал он, полагая, что боец не расслышал его в грохоте нового взрыва.
— Не говори, что старшего лейтенанта убило, — ответил тот и скрылся за углом здания.
Тим Тимыч оторопело оглянулся вокруг, подавленный всем тем, что лавиной обрушилось на него. Война... Бой... Горящая застава... Убит Коростелев... Раненые... Взрывы... И безучастное солнце, которое все так же весело всходило сейчас над землей, словно ничего особенного на этой земле не происходило, словно война была таким же естественным и обычным явлением, как дождь и ветер, как облака и дозревающая рожь.
Не разбирая крутых ступенек, Тим Тимыч почти скатился в подвал; здесь тоже струилась, забивая нос и легкие, едкая гарь. После яркого света казалось, что в подвале стоит гулкая полутьма. Однако Тим Тимыч сразу же разглядел Любу, нет, Любовь Никаноровну. Задыхаясь, она пыталась разорвать на две части нижнюю рубашку, ту самую, которую
бойцы в обиходе называли нательной. Прочное полотно никак не поддавалось ее рукам, рубашка как живая белела в полутьме. Боец, над которым склонилась Люба, негромко стонал, как бы стыдясь своей слабости, а она тревожно и ласково приговаривала, повторяя одни и те же слова: «Потерпи, сынок... Потерпи, сынок...»
Эти слова вовсе не подходили к ней, потому что она сама была почти такого же возраста, как и тот, кого она называла сынком. И Тим Тимыч тут же прервал ее:
— Любовь Никаноровна, приказано отходить!
Люба непонимающе посмотрела на него и, когда он повторил ей те же слова, метнула на него недобрый, даже сердитый взгляд — точно именно он принял решение об отходе и не дает ей возможности перевязать бойца.
Тим Тимыч выхватил из ее рук рубашку, вмиг располосовал ее на две части и сноровисто перевязал раненого. Он сразу же узнал в нем Ковальчука, того самого, который столь одобрительно отнесся к его поступку и снабдил увесистым куском сала. Сейчас Ковальчук смотрел на него мутными, ничего не видящими глазами и вздрагивал всем телом, когда Тим Тимыч покрепче стягивал его раненую ногу самодельным бинтом.
Закончив перевязку, Тим Тимыч ощутил, что стоит на коленях почти вплотную к Любе. Чуть покачнись — и можно будет коснуться ее плечом. Временами, когда гул наверху смолкал, он слышал ее учащенное дыхание, даже стук ее сердца и больше всего страшился взглянуть ей в лицо.
— Надо вынести раненого, — твердо сказал Тим Тимыч, вставая. — Приказано отходить. Немцы могут ворваться сюда...
— Вдвоем нам не вынести, — тихо сказала Люба, поведя рукой вдоль противоположной стены, и только сейчас Тим Тимыч увидел еще трех лежавших ничком и уже перевязанных бойцов.
— Вынесем, — заверил Тим Тимыч. — Вы мне только на ступеньках подсобите.
Не сговариваясь, они приподняли Ковальчука и понесли его к выходу. В подвал текла новая волна гари, воздух накалился от огня, было тяжко дышать. Люба боялась, что у нее загорятся волосы. С трудом они вынесли раненого наверх. Тим Тимыч взглянул на крышу здания и простонал от бессилия: еще минута — и она рухнет, завалит вход в подвал. Люба поняла его без слов. Они оттащили раненого к забору, и Люба тут же метнулась назад, к подвалу.
— Стойте! — в отчаянии крикнул Тим Тимыч, но было поздно.
С треском и скрежетом рухнула крыша, Любу ударило куском черепицы, и она упала на землю. Тим Тимыч подбежал к ней, схватил на руки и, торопясь, понес от горящей заставы.
Никогда еще в своей жизни он не ощущал себя таким сильным, как сейчас. Что-то богатырское пробудилось в нем, и он не чувствовал тяжести. Он был счастлив, потому что нес Любу, и даже война в это мгновение почудилась ему совсем в другом облике — не в страшном, сеющем смерть и разрушения, а в добром, давшем ему возможность прикоснуться к Любе, обнять ее и нести, нести, чтобы спасти от гибели.
Он был уже почти у опушки рощи, как совсем рядом грохнул снаряд. Что-то схожее с ударом молнии вздыбило землю и взвихрило отпрянувшие с опушки березы. Тим Тимыч понял, что падает и, падая, роняет Любу, да, теперь уже не Любовь Никаноровну, а Любу.
«Теперь у нас не будет сына...» Любе почудилось, что она прошептала эти слова и что Тим Тимыч услышал и обязательно передаст их Коростелеву.
«Я не сказал тебе, что старший лейтенант Коростелев погиб. И что, спасая тебя, я ни разу не выстрелил в наступающих гитлеровцев... Это всегда будет мучить мою совесть... Хотя... хотя это же я, именно я, сбил самолет. Но не в этом дело...» Тим Тимычу казалось, что он произнес эти слова и что Люба услышала их.
Но Тим Тимыча никто не услышал.
Высота 261,5
Рота второй раз поднималась в атаку и снова откатывалась назад, стремительно уменьшаясь в объеме, подобно шагреневой коже, и оставляя убитых на склоне зловредной высоты, будто начиненной пулеметами, минометами и автоматами.
Мишка Синичкин обессиленно, уже ничему не удивляясь, свалился в окоп. Шинельная скатка смягчила удар, и он, словно парализованный, обреченно застыл на ней, запрокинув голову и закрыв глаза. «Как хорошо, что ничего этого не видит Раечка», — мелькнуло в его сознании, и тут же все исчезло — и Раечка, и бой, и перекошенный криком рот сержанта, и ослепительное солнце, умудрившееся нацелить свои раскаленные лучи прямо в окоп.
Он не видел, как после недолгого затишья роту в третий раз подняли в атаку, не слышал, как ротный хрипло и остервенело матерился, подгоняя замешкавшихся в окопе бойцов, не слышал, как снова хряснули мины о задубеневшую, сухую, давно не принимавшую в себя дождя землю. Не видел, как рота опять схлынула с высоты в свои траншеи, и не знал, что теперь уже от нее остался едва ли один взвод.
Очнулся Мишка лишь тогда, когда кто-то из бойцов выволок его из окопа и швырнул, как нечто неживое, о колючую, звенящую на диковатом ветру траву.
— Видали, братцы? — возмущенно, по-петушиному прокричал боец. — Мы кровь проливаем, а он на чужом хребте — в рай!
— Кухня придет — враз оклемается, — услужливо подхватил кто-то.
— Комроты доложить надобно! — решительно произнес третий. — Таких — на распыл! Перед строем!
— «Перед строем!» — передразнил, кукарекнув, первый. — Кого строить будешь?
Мишка открыл тяжелые веки. Лилово сиял закат, и прямо на нем огненно, намертво и как бы навечно впечатавшись в чужое, непонятное небо черным проклятьем, распростерся огромный тяжелый крест. Купола церквушки, стоявшей на той самой высотке, которую безуспешно пыталась отбить у противника рота, он не видел и потому со страхом и отчаянием смотрел на этот, непонятно откуда возникший тяжелый крест — страшный в своем таинстве.
— Молчит, паскуда! — возмутился тот, что вытащил его из окопа.
Мишка пошевелил непослушными губами.
— На шепот перешел, — ядовито прозвучал скрипучий голос. — Здесь, едрена мать, шепот немодный.
— Ребята, что со мной? — чуть громче выдавил Мишка. — Как получилось? Убейте меня, не помню...
— Рассказывай байки! — зло оборвал чей-то бабий голос.
— Вы чего это? — густым басом рассудительно спросил человек, видимо только что подошедший к окружавшим Мишку бойцам. — Да он же контуженый! Совсем озверели? Так звереть надо к тем, кто на этой окаянной высоте сидит. Его в медсанбат надо, да где тот медсанбат...
— Больно ты, сержант, солома-полова, жалостливый, — угрюмо произнес тот, кто выволок Мишку из окопа. — Ты лучше тех пожалей, кто на высоте полег. Этот с перепугу в штаны наклал.
— В бою его видел? — без запальчивости спросил сержант. — А вот ты, Гридасов, свой первый бой уже начисто, видать, запамятовал. Хочешь, напомню?
— Чего напоминать-то? — сник Гридасов.
— Есть чем. А Синичкина я видел, рядом со мной на высоту карабкался. А что на третьем заходе сломался, так и не такие, как он, ломаются.
Возбужденный, на высоких нотах, разговор затухал. Бойцы валились на землю, потные, горячие тела обдавало порывистым, схожим с осенним, ветром. Вмиг накатывалась обвальная дремота. Для того чтобы доказывать что-то свое, не было ни сил, ни желания, ни воли.
— Вот, пожуй, Синичкин, — мягко сказал сержант и протянул к его губам черный сухарь. — Подкрепись. Кто знает, может, ротный опять в атаку поднимет. И поимей в виду: второй раз защитить тебя не смогу.
— Спасибо, товарищ сержант, — растроганно произнес Мишка, пытаясь раскусить крепкий, как камень, сухарь. — Второго раза не будет. Клянусь вам здоровьем Раечки...
— Какой еще Раечки? — насторожился сержант, думая, что Мишка бредит.
Мишка смущенно закашлялся, почувствовал, что краснеет, и, стыдясь своего состояния, отвернулся.
— Ты это брось, — беззлобно продолжал сержант. — При чем тут Раечка? Ты присягу принимал? Принимал. Вот это и есть твоя клятва. А за Раечку будешь думать после войны.
— После войны... — точно эхо повторил Мишка. — Сколько же надо вот таких высоток отбить, чтобы «после войны»?
— Подсчитаешь, солома-полова, — кукарекнул вдруг Гридасов. — Еще первую не отбил...
Ему никто не ответил. Если бы не ветер, по-звериному жадно лизавший сухую траву, то вокруг — и над безжизненной деревушкой, и над высотой, словно помертвевшей от оцепенения, и над окопами, и над дальними, окаймлявшими горизонт лесами — стояла бы глухая, безъязыкая и тяжкая тишина.
На какой-то миг Мишке Синичкину почудилось, что теперь уже навсегда кончилась война — отстрекотали автоматы, отлаяли минометы, отлязгали танки, отревели пикирующие бомбардировщики. Казалось, что не было никакой войны, а все происходившее с ним — и первая и вторая атаки, и контузия во время третьей атаки, — все это привиделось ему в дурном, кошмарном сне. И деревушка, и церковь на высотке, и страшный черный крест, впечатавшийся в огненно-лиловый горизонт.
Мишка лежал теперь уже один у окопа, и все еще никак не мог понять, почему молчит пулемет, поливавший их нещадным огнем с колокольни церквушки. И почему, если молчит пулемет и молчат минометы, ротный не поднимает их в новую атаку? Может, и ротного уже нет в живых? Но в таком случае поднять роту может любой командир взвода и даже сержант. Значит, они тоже лежат сейчас на звенящем ветру, будто прикованные к этой неласковой, шершавой земле? Мишка ждал их команды, как избавления от мучившей его совести. Главным для него стало доказать всем этим людям — и Гридасову с его петушиным тенорком, и тому незнакомому бойцу, который требовал пустить его, Мишку, на распыл, да еще не как-нибудь, а перед строем роты, и даже сержанту Малышеву, пожалевшему и защитившему его, — что он, ротный писарь Михаил Синичкин, не трус и храбрости ему не занимать, и что Раечке никогда не будет за него стыдно. Сейчас, в эти минуты, у него не было никаких желаний, кроме одного, всецело овладевшего им, — услышать хриплый, диковатый голос ротного: «За мной, в атаку, вперед!» И он, красноармеец Синичкин, первым выполнит эту команду и не остановится на пути к высоте даже затем, чтобы отдышаться и хватануть пересохшим ртом глоток колючего ветра. Теперь его сможет остановить только пуля, но он, Мишка Синичкин, верит в свою судьбу, верит потому, что последними словами Раечки, которые она жарко прошептала ему на ухо еще там, на нальчикском вокзале, в тот миг, когда эшелон уже лязгнул буферами и медленно, как бы раздумывая, поплыл мимо перрона, были слова: «Я заколдовала тебя. Заколдовала!» И Мишка настолько поверил в это, поверил, как в заклятье, что воспринял их как некий талисман, способный уберечь его и спасти в любую грозу. Свистела у самого уха огненной осой трассирующая пуля, с адским шипением, как натянутую парусину, распарывал воздух над головой снаряд, а Мишка повторял как одержимый то мысленно, а то и вслух Раечкины слова: «Я заколдовала тебя!», и они, эти волшебные слова, сбывались — все пули и все осколки проносились мимо, не задевая его.
«Я не погибну, не погибну, — шептал он, — не может быть, чтобы колдовство Раечки не спасло меня в самом страшном бою». И он уверовал, что пройдет всю войну — от ее первой до последней минуты — и останется цел и невредим. Иначе и не может быть, ведь у него есть Раечка, ждущая его возвращения, и если с ним случится беда, она не выдержит, не перенесет страданий. И Мишка, думая об этом, уже боялся не столько за себя, сколько за Раечку.
Думы о Раечке наполняли душу Мишки тихой, затаенной и светлой радостью, от которой его жизнь даже здесь, на войне, в окопах, под пулями, под июльским зноем, казалась желанной. Они побеждали возникавшую в сердце тоску, вселяли надежду в свою неуязвимость.
Если правомерно то обстоятельство, что любому человеку, даже храбрецу, сколько бы он ни воевал, трудно, а точнее, невозможно привыкнуть к войне по той простой причине, что война угрожает человеку гибелью в любой миг его жизни, то по отношению к Мишке Синичкину это обстоятельство было во сто крат правомернее. С простодушной, почти младенческой, наивностью он убеждал самого себя в том, что война эта не надолго, что вот-вот придет день, в который не только их изрядно потрепанная в боях рота, но и весь полк, и дивизия, и армия, и фронт, подсобрав силы, в едином порыве навалятся на врага и погонят его туда, откуда он пришел. То, что рота уже неделю толчется у этой треклятой высоты и никак не может овладеть ею, Мишка считал вполне естественным и нормальным, потому что господствующая высота есть господствующая высота и у противника из-за этого явное и неоспоримое преимущество. Но, по мнению Мишки, это преимущество временное, не может же быть так, что лишь одна их рота будет каждый день по три раза взбираться на эту высоту, откатываться с нее и вновь взбираться. Пришлют подкрепление, и тогда фрицы неизбежно запросят пощады, не помогут им ни пулемет на колокольне, ни миномет за кирпичной стеной разрушенного скотного двора, ни губные гармошки, на которых они истерично пиликают по вечерам.
Уму непостижимо, почему немцы держатся за какую-то убогую высоту, будто именно от нее зависит исход всей войны. Другое дело — наша рота. Из таких вот высоток состоит вся земля русская, и отдать хотя бы одну в руки врага — все равно что живое тело отдавать по частям — сперва палец, потом ладонь, а потом и всю руку.
Мишка вдруг почувствовал прилив сил и понял, что сможет встать на ноги. Здесь, за бугром, в лощине, это было почти безопасно — не станут же немцы стрелять из пулемета по одному-единственному бойцу. Оторвав голову от земли, он сел, как бы проверяя свои возможности, растерянно огляделся вокруг и, опираясь на вытянутые назад ладони, медленно и надсадно, как после тяжелой болезни, встал — сперва на колени, а потом и на ноги. В первый момент было такое ощущение, будто это вовсе не его ноги — они одеревенели и не слушались. Его пошатывало, и все же Мишка был рад, что способен стоять на ногах, не прибегая к посторонней помощи.
Медленно, боясь, что его снова притянет к себе земля, он приподнялся и встал на колени. Шинельная скатка душила его, но не было сил перекинуть ее через голову и избавиться от тяжелой ноши. Так он и встал на ноги — в скатке через плечо и с винтовкой в руке, которую не выпустил даже тогда, когда терял сознание. Качаясь, пошел нетвердым, спотыкающимся шагом младенца туда, откуда доносился громкий, порой взрывчатый разговор.
За изгибом лощины он увидел спорщиков: то были сержант Малышев, Гридасов и еще какой-то незнакомый Мишке боец. Малышев сидел на трухлявом пеньке и, казалось, безучастно наблюдал за тем, как Гридасов, отчаянно и бестолково размахивая длинными руками, пытался что-то доказать понуро стоявшему напротив него низкорослому, с широкими покатыми плечами бойцу. Не доходя до них, Мишка остановился. Ему страсть как хотелось сесть на небольшой взгорок, но он опасался, что если сядет, то уже не сможет подняться.
— Брать высоту? — подкукарекивал Гридасов, вопрошая не то сержанта Малышева, не то понурого бойца. — Вы что, братцы, солома-полова, белены объелись? На кой ляд она нам нужна? Сколько ребят уже на ней положили, а толку чуть!
— А приказ? — не очень уверенно спросил боец.
— Приказ? Какой, к ляху, приказ? Кто его тебе отдавал?
— Комроты, — осмелился поднять глаза и посмотреть прямо в лицо Гридасову незнакомый Мишке боец.
— «Комроты»! — зло передразнил его Гридасов. — А где он, солома-полова, твой комроты? И где та рота? Вон они где! — И Гридасов ожесточенно ткнул длинным, костлявым пальцем в сторону церквушки. — Ни комроты, ни самой роты, считай, нетути. Теперь мы сами себе командиры! Ежели охота тебе переть на эту самую высоту — на здоровьице! Я тебе не мешаю. А только и ты мне не мешай, а то горло перегрызу!
— И куда же ты попрешь, Гридасов, если не на высоту? — тихо, чеканя каждое слово, спросил Малышев.
— А то мое личное дело, — кукарекнул Гридасов.
— Ой, нет, родимый ты мой, не личное! — повысил голос Малышев и с силой похлопал тяжелой ладонью по кобуре пистолета. — Ох, не личное!
— А ты меня не стращай! — заорал Гридасов. — Я не из твоего отделения! Ты вон, солома-полова, своими командуй, которые на скате лежат. Только встанут ли? И кто ты такой, чтобы меня стращать?
Малышев встал с пенька. Обычно добрые, будто подсиненные под цвет ясного неба, глаза его ярились гневом.
— Хочешь знать, кто я? — с тихой силой глухо спросил Малышев. — Командир роты, понял? Мог бы и сам допетрить.
Гридасов гулко, будто из пустой бочки, неестественно расхохотался:
— Ну, сержант, ты даешь! Ну и хохмач ты, сержант! Это что же: самозванцев нам не надо, командиром буду я? Силен, бродяга, а? — попробовал поискать поддержки у понурого бойца Гридасов.
— А что? — вдруг горячо, возбужденно вспыхнул боец. — Комроты и есть! Что такое мы без командира? Сброд!
— Пигмеем ты был, солома-полова, пигмеем и останешься, рядовой-немазаный Романюк, — презрительно процедил Гридасов, и его толстая нижняя губа брезгливо отвисла.
— А ты кого хочешь спроси! — запальчиво воскликнул Романюк, не придав значения оскорбительным словам Гридасова. — Всех, кто в живых остался, спроси! Вон Синичкин стоит, ты и его спроси!
Гридасов лениво обернулся в ту сторону, где стоял Мишка, криво ухмыльнулся:
— Стану я его спрашивать! С дезертирами не разговариваю!
— А сам в дезертиры навострился? — хмуро спросил Малышев. — Если хочешь знать, Синичкин понадежнее тебя.
От этих слов кровь прилила к Мишкиному лицу, и он пожалел, что оказался так близко.
— Да ты подойди, — с мягкой настойчивостью проговорил сержант. — Совет держать будем.
— Военный совет в Филях! — ехидно кукарекнул Гридасов.
Мишка, с трудом переставляя негнущиеся, неподатливые ноги, стронулся с места.
— Обмотку-то наверни, вон, как гадюка, за тобой ползет, — осклабился Гридасов. — Тоже мне боец, солома-полова!
Малышев терпеливо дождался, когда Мишка приковыляет к ним, скрутил махорочную цигарку, закурил и заговорил неторопливо, рассудительно, как-то совсем по-домашнему.
— В Филях так в Филях, — без язвительности согласился он с Гридасовым. — Только, известное дело, в Филях Кутузов решал. — Чувствовалось, что перед Гридасовым он хочет показать, что тоже не лыком шит.
— А под Тарасовкой — полководец Малышев! — кукарекнул Гридасов, скорчив глупую рожу. — Фельдмаршал, солома-полова...
— Значит, так, — милостиво пропустив мимо ушей колючие слова Гридасова, продолжал Малышев, — обстановка на сегодняшний день складывается такая. Немец уже далеко за Тарасовку попер. Мы, можно сказать, у него в тылу. Ему, немцу, с нами возиться — только время терять. Но опять же он себе на уме: а вдруг с наступлением осечка? Тогда и Тарасовка ему манной небесной покажется. Вот он и сообразил оборудовать здесь опорный пункт. На колокольню — пулемет, на скате танк в землю зарыл — дот получился — люкс! Ну и отделение автоматчиков, как резерв. Вот и пораскинем мозгами — какой у нас с вами выход? Как ты соображаешь, Синичкин?
— Брать высоту! — выпалил Мишка. — Пусть все поляжем, а высоту возьмем!
— Расхрабрился, припадочный, солома-полова! — взъярился Гридасов. — Он тебе из танка возьмет!
— Верно говорит Синичкин! — запальчиво поддержал Мишку Романюк. — Есть приказ командира роты. А приказ надо исполнять — и баста!
— Ну, предположим, что обойдем мы эту раскудрявую Тарасовку, — рассуждал словно бы сам с собой Малышев, не глядя на них. — Как мы пробьемся из окружения? От собаки бежать — загрызет. Силенок у нас — взвода не наберешь.
— А на высоту лезть силенок у тебя хватит, геройский сержант? — торопливо перебил его Гридасов.
Вслушиваясь в то, что говорил Гридасов, Мишка поймал себя на мысли о том, что и в манере разговора, и в браваде, и в стремлении подначивать Гридасов чем-то очень схож с Кешкой Колотиловым. Вот только внешний вид у него совсем другой — нескладный, лицо язвительное, некрасивое.
Малышев долго молчал. Потом сбросил рыжую, промокшую от пота пилотку, зачем-то взъерошил почти такие же рыжие волосы, перекусил поднятую с земли соломинку крепкими, будто отполированными, зубами.
— Синичкин прав, — уверенно сказал Малышев. — И Романюк прав. Брать высоту — другого выхода нет.
— Очумел ты, Малышев, солома-полова...
— Брать, но с умом. В атаку не пойдем.
— А как? — нетерпеливо спросил Романюк и сел рядом с Малышевым, словно боялся, что не расслышит всего, что тот будет говорить.
— А вот так, — как бы припечатал свое решение Малышев. — Распределим, кто что будет делать. Гранаты у нас есть? Есть. Вот ты, Гридасов, самый сильный, как тьма на землю ляжет, возьмешь связку гранат — и к танку. По-пластунски.
— Еще чего! — обозлился Гридасов. — Нашел самого сильного, солома-полова! Сам-то небось издаля будешь наблюдать, как Гридасов кишки рвет?
— Тебе, Гридасов, такого важного дела доверить нельзя. Гранат жалко. С танком я сам справлюсь, — спокойно сказал Малышев и спросил:
— Ерохин и Карпенко живы?
— Куда они денутся? — усмехнулся Гридасов. — Они как заколдованные.
Мишка вздрогнул от этих слов, точно они относились и к нему. «Нет, нет, это не они, это я заколдованный», — хотелось сказать ему, но перед ним, как бы наяву, возникло лицо Раечки, и он забыл обо всем.
— Ерохин учился в школе снайперов, — сказал Малышев. — А Карпенко — отличный стрелок, с нашей заставы.
— С какой еще заставы? — недоверчиво осведомился Гридасов.
— С пограничной, — словно говорил о самых обыденных вещах, ответил Малышев. — Не видишь? — И он показал рукой на свои петлички.
Мишка изумленно всмотрелся в воротник его гимнастерки. После того как эта гимнастерка побывала и на жарком солнцепеке, и на проливных дождях, после того как проползла вместе с сержантом по глинистой неласковой земле не один десяток километров, трудно, почти невозможно, было различить цвет петличек, но что-то схожее с цветом весенней травы в них еще теплилось.
— Фуражку жалко, фуражку, когда в разведку ходил, потерял. В горячке не заметил. По дурости потерял, — сокрушенно говорил Малышев. — Короче говоря, братцы, построим всех, кто остался, на боевой расчет. Как на заставе.
Мишка вдруг подумал: до этой минуты Малышев никогда не говорил, что он служил на границе. Другой на его месте уже бахвалился бы почем зря. Такой, как Гридасов. Зато теперь, когда они попали в отчаянное положение, когда надо было найти самый верный выход, сказал о том, что он пограничник, и время от времени повторял: «Как у нас на заставе».
Романюк, получив задание Малышева, ошалело сорвался с места и помчался собирать остатки роты. Вскоре возле Малышева сгрудились два десятка бойцов, часть из них — раненые. Небритые, с прикипевшей на лицах пороховой гарью, бойцы хмуро, но еще с незатухшей надеждой смотрели на сержанта.
Малышев встал, резко одернул гимнастерку, лихо расправил складки, набежавшие на пряжку ремня, и начал говорить каким-то чужим голосом — властным, суровым и непререкаемым.
— Слушай, боевой расчет, — чеканил Малышев. — Воевать будем только ночью. Днем — отсыпаться в укрытиях. Ерохину и Карпенко — снять пулеметчика с колокольни. По-снайперски, как у нас на заставе. Посадят другого — снять и его. А только чтобы пулемет этот, — возвысил голос Малышев, — замолк, и — навечно! — Он выдержал долгую паузу и без перехода сердито спросил: — Саперы есть?
— Есть! — послышались голоса.
— Саперам — разминировать скаты, сделать проходы на высоте, с тыльной стороны. Атаковать будем, когда он нас поливать свинцом не сможет.
Он сделал долгую паузу и, стараясь не смотреть в сторону Гридасова, твердо добавил:
— Танк беру на себя.
Гридасов внезапно вышел из строя. На его рябоватом лице все странно смешалось: гнев и стыд, гордость и уничижение, открытая напористость.
— Танк, сержант, я никому не отдам, — глухо, но твердо произнес он, и притихший строй замер, услышав эти глухие, но твердые слова. — Танк этот, солома-полова, мой...
— Ты хорошо обдумал, Гридасов? — нервно спросил Малышев. — От этого танка...
Он не договорил, остановленный жестким, упрямым взглядом Гридасова.
Малышев подумал сейчас о том, что Гридасов поставил его в нелепое положение. Разрешить ему взять танк на себя означало бы отказаться от своих же собственных слов, которые он произнес в тот момент, когда Гридасов обвинил его в том, что он, сержант, пользуясь своей самозваной властью, хочет отсидеться в безопасном месте, посылая под пули других. Но и отказать означало бы вывести из строя и оскорбить недоверием вполне боеспособного бойца.
— Бери танк, Гридасов, коль он тебе так понравился, — почти неприметно улыбнулся Малышев. — Но тебе нужен напарник. Как у нас на заставе — парный пограничный наряд.
— Разрешите мне! Я пойду! — с мольбой в голосе воскликнул Мишка, словно заранее знал, что Гридасов с ходу отвергнет его. — Я гранаты метал!
Гридасов повернулся к нему всем своим жилистым, гибким, как у гончей, корпусом, зачем-то застегнул воротничок гимнастерки.
— Чего ты метал? Гранаты? — тоном, с каким обращаются к несмышленышам, когда поражаются их наивности, переспросил Гридасов. — А связку ты в руках держал?
— Связку? — растерянно заморгал глазами Мишка. — Связку не держал.
— Ну, стало быть, сапог лаптю не брат!
В строю раздался смешок. Щеки у Мишки заалели, как у красной девицы. Больше всего на свете он боялся этой предательской красноты, которая выдавала все его чувства.
— Хорошо, — вдруг смягчился Гридасов. — Ползи со мной. Только никаких, солома-полова, обмороков!
Малышев тяжелой ладонью хлопнул Гридасова по узкому плечу.
— Годится, — одобрил он решение Гридасова. — А сейчас всем проверить оружие. Командирам отделений доложить о наличии боеприпасов. Разрешаю израсходовать половину сухого пайка. Завтракать будем завтра в Тарасовке. Если пробьемся. До темноты всем отдыхать. Распорядок — днем спим, ночью службу несем. Как на заставе!
Мишке показалось, что летний день будет длиться нескончаемо. Уже и солнце скатилось за горизонт, как в бездонную пропасть, а все еще было светло, и небо почти не потеряло своей незамутненной голубизны, и ветер, как и днем, суматошным лисьим хвостом стлался над мертвой неприкаянной травой.
Теперь Мишка ни на шаг не отходил от Гридасова. Он боялся, что тот, лишь чтобы не противиться Малышеву, согласился взять его с собой, а в последний момент, перед тем как ползти к танку, постарается отвязаться от него. Он все более утверждался в этой мысли потому, что Гридасов не обмолвился с ним ни единым словом и вел себя так, будто не собирается идти на задание.
Гридасов бродил по траншее, острил, рассказывал байки, смысл которых не доходил до Мишки, и, как видно, изо всех сил старался показать, что ему не страшны ни танк, закопанный в землю и ощеривший на них свое орудие, ни сам сатана. Вскоре эта бравада ему явно наскучила, и он улегся неподалеку от окопа в воронке (не далее как утром сюда угодил снаряд, выпущенный этим самым танком). Мишка приплелся к нему, уселся напротив и развязал свой вещмешок. Весь сухой паек был цел, и почему-то совсем не хотелось есть. Мишка вытащил сухарь, банку свиной тушенки и протянул Гридасову:
— Возьмите.
Гридасов с удивлением и жадностью посмотрел на продукты, с орлиным клекотом сглотнул слюну и с небрежностью бросил:
— А сам чего? Не осилишь? Лопай, а то у тебя шея с бычий хвост.
— Пропал аппетит, — сокрушенно признался Мишка.
— Это еще чего такое? — удивился искренне Гридасов. — На войне, солома-полова, такого не бывает. Или с перепугу?
— Нет, не с перепугу, — как можно убедительнее возразил Мишка. — Мне бояться нечего. Меня пули не возьмут.
Гридасов впервые пристально посмотрел на Мишку, пытаясь по его воспаленным глазам понять, всерьез ли он говорит или бредит. Но так и не понял.
— От пули на войне ни маршал, ни рядовой не застрахованы, — наставительно произнес он, вонзив финку в крышку жестяной банки и ловко, без передыху, вскрывая ее. — Здесь как промеж сохи да бороны не схоронишься.
С той же лихой ловкостью он положил, не теряя ни крошки, кусок тушеного мяса с подтаявшим желтоватым жиром на сухарь и в два приема уничтожил искусно сооруженный бутерброд.
— Ешь! — повелительно произнес он, без промедления подготавливая вторую порцию. — Блин не клин, брюха не распорет. Теперь я твой командир. Теперь я у тебя заместо маршала, понял? И ежели ты, солома-полова, попрешь на эту высоту не пожрамши, толку с тебя будет ноль целых, хрен десятых. И Раечка твоя от тебя отрекется.
— Почему отречется? — словно ужаленный, стрельнул вопросом Мишка.
— А оч-чен-но просто, — самодовольно и радуясь тому, что большая часть тушенки перепадет ему, протянул Гридасов. — Девке, солома-полова, мужская сила завсегда требуется. Ей знаешь какой огонь нужен? Чтоб искрилось!
Мишка хмуро и отчужденно молчал. Он отчетливо представил себе, как жарко они целовались с Раечкой, как подолгу сидели в темноте у нее в квартире, когда дома не было родителей. Но Мишка не мог и подумать о том, чтобы позволить себе что-то большее, чем поцелуи, от которых и у него и у Раечки распухали губы. Он вспомнил, с какой тревогой они смотрели друг на друга на следующее утро, когда приходили в школу, опасаясь, что за ночь губы не успеют отойти и в классе, особенно такие, как Кешка Колотилов, непременно заметят эту перемену в их облике и начнут злословить.
Ему вдруг захотелось бросить в лицо самодовольному, наглому Гридасову какой-нибудь очень веский довод, начисто опровергающий его грешную правоту, но он не придумал ничего иного, как выпалить:
— Будут у нас с Раечкой дети, будут!
Гридасов снова оглядел щуплую фигурку Мишки с длинной и тонкой шеей, на которой свободно болтался ворот гимнастерки, и кисло ухмыльнулся, отчего оспины на его лице пропечатались еще настырнее.
— Валяйте, солома-полова! Вот уж правду говорят: где черт не сладит, туда бабу пошлет. Держи! — Он протянул Мишке банку с остатками тушенки. — Однако не тот разговор ведем. Мы не к Раечке в гости собираемся.
— Понимаю. — Мишка приготовился ловить каждое слово Гридасова.
— А понимаешь, так расстилай шинельку, вздремнем минуток шестьсот!
— Шестьсот?
— Ну, не шестьсот, так шестьдесят.
— А как же гранаты? Надо связки приготовить, пока светло.
— Это уже не твоя заботушка. Вот это видел?
И Гридасов вытащил из вещмешка немецкую противотанковую гранату.
— Вы где взяли? — удивился Мишка.
— Где взял, там ее уже нетути. Глупейший ты, солома-полова, вопросик подкинул. Сразу видать, сосунок. Небось прям из десятилетки в армию загудел?
— Да, после окончания средней школы.
— Оно и видать, что после окончания. Чему вас там только учили? Хреновине всякой! Жизни надо учить, а не трепологии. Есть у меня братень. Младшой. Семь классов прошел, а пробка в хате перегорела, велю исправить, так он до этой пробки дотронуться боится. Спрашиваю: физику учил? Учил. А какого же ты хрена пробки боишься? Так мы, говорит, законы учили. Какие еще, спрашиваю, солома-полова, законы? К примеру, говорит, закон Бойля — Мариотта. Так что, спрашиваю, будешь делать: вот так всю ночь без света в хате сидеть, шишки на лбу набивать иль Бойля вместе с Мариоттом позовешь, чтобы пробку починили?
— Да, вы совершенно правы, — подхватил Мишка, — практики у нас совсем мало было. Еще спасибо, в тир водили, да и то редко. А пробку и я не могу заменить.
Гридасов возмущенно кукарекнул и расставил перед Мишкой раскрытый вещмешок.
— Вот гляди, салажонок, — горделиво произнес он, поочередно взвешивая на ладони противотанковую гранату, фугаску, бутылку с зажигательной смесью и винтовочные патроны россыпью. — Значит, план соорудим такой. Я ползу впереди, ты, само собой, за мной, точнее, справа сзади. Я — с противотанковой, а ты, солома-полова, с поллитровкой. — Он протянул Мишке бутылку с зажигательной смесью. — Когда я его гранатой шарахну, она мгновенного действия, сразу кинешь зажигалку. — Он подумал, наморщив лоб. — Нет, лучше мне подашь.
— Я кину! — взмолился Мишка. — Я по гранатометанию...
— Тоже, скажешь, обучался? — нетерпеливо перебил его Гридасов. — Знаем мы эту учебу, солома-полова. Ты в бою гранату кидал? Нет? Ну и сникни. В бою это совсем другое дело. Бывает, такой мандраж тебя возьмет — проклянешь свою нервную систему. Вместе с этими, как их...
— С условными рефлексами? — услужливо подсказал Мишка.
— А ну их! — махнул рукой Гридасов. — Короче, кидать буду я. И гранату, и зажигалку. А ты в случае чего меня огнем прикроешь. — Он как-то непривычно, по-детски улыбнулся и, не глядя на Мишку, добавил: — Ну, а славу поделим пополам.
— Какую славу? — недоуменно переспросил Мишка.
— Такую. Когда с духовым оркестром встречают. Чтобы ордена вручить. Спи давай.
Гридасов, распластавшись на плащ-палатке, мгновенно уснул, подтверждая это своим храпом, тоже чем-то схожим с петушиным кукареканьем.
Мишка подложил скатку под голову, закрыл ладонями глаза, чтобы уходящее солнце не тревожило их, но уснуть не мог. Он представил себе, как бы наяву, ночную вылазку, представил, как они, уничтожив танк, обеспечат роте бросок на высоту и как в Тарасовке Малышев выстроит всех, кто останется в живых, и скажет, что бойцы Гридасов и Синичкин выполнили свой воинский долг как надо. А впереди еще будут бои, и чем черт не шутит, появится на его, Мишкиной, груди орден или хотя бы медаль, и Раечка будет гордиться им с такой же пылкой радостью, словно бы это наградили ее.
С неожиданной тревогой Мишка подумал о том, как немыслимо далеко от этой Тарасовки, от пышущей огнем высоты, от его траншеи самый родной город на свете — Нальчик, и нальчикский вокзал... Только одна Раечка где-то рядом с ним и идет всюду, куда бы ни шел он.
Разные думы одолевали сейчас Мишку, и вдруг пришла одна, на которую он сам не мог ответить.
— Товарищ командир! Товарищ командир! — горячо, громким шепотом позвал Мишка.
— Кого зовешь? — сонно, с неудовольствием откликнулся Гридасов.
— Вас! — все так же взволнованно произнес Мишка.
— Меня? — не поверил Гридасов. — Нашел командира, солома-полова! Один-разъединственный ты у меня подчиненный!
— Вот скажите, — пропустил мимо ушей эти слова Мишка, — в Германии что — все фашисты? Ну, все до единого?
Гридасов ошеломленно молчал и раздумывал, как ему поступить разумнее — сделать вид, что не слышал вопроса, отмахнуться от Мишки, сославшись на то, что надо хоть чуток вздремнуть, или же вовсе притвориться спящим. Но вопрос оказался таким, который задел его и переборол равнодушие.
— А чего тут думать? Все до единого — и баста! — твердо, чтобы подавить возможные колебания и у себя, и у Мишки, отрезал Гридасов. — Все они гады, и весь разговор.
— Как же так? — удивился Мишка. — А где же ихние коммунисты?
— Коммунисты? — переспросил Гридасов. — Коммунистов Гитлер давно перевешал. Да в концлагерях сгноил.
— Ну кто-то же остался? Ну пусть не коммунист, пусть беспартийный. Скажем, рабочий. Он тоже в нас будет стрелять?
— Нет, он целовать тебя зачнет! — зло произнес Гридасов. — А потом пригласит тяпнуть шнапсу и закусить, к примеру, шпротами. Как раз такой рабочий, солома-полова, сидит в этом расчудесном танке.
— И все-таки не верится, что все они гады, — настаивал на своем Мишка.
— Я тебе не поверю, я тебе, цыплак недоношенный, не поверю! — разъяренно вскинулся с земли Гридасов, и Мишка в испуге отшатнулся от него. — Заруби себе на чем хочешь — пока идет война, для нас с тобой хороших немцев нет! Понял, солома-полова? Ты их приглашал в Тарасовку? Нет? Ну и я их тоже не звал. Я в дивизионке стихи читал, — смущенно добавил он. — Забыл, кто сочинил. Там такие слова есть: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» Вот это ты и делай. А иначе он тебя и Раечку твою... — Гридасов не договорил и умолк.
Мишку тоже наконец сморила усталость, и он задремал. Очнулся только тогда, когда Гридасов, бесцеремонно ухватив его за плечо, растолкал.
— Ну и здоров же ты дрыхнуть...
Мишка вскочил на ноги, не понимая еще, кто произнес эти слова, но тут Гридасов для верности сказанул свое излюбленное «солома-полова», и все моментально прояснилось.
Над всхолмленной равниной стояла тихая звездная ночь. Лес на горизонте будто приблизился к деревне, и чудилось, что, наверное, там, в старых дряхлеющих елях, злыми угольками вспыхивают пронзительные волчьи глаза. Было такое ощущение, что ни вокруг, ни за горизонтом, ни во всей Европе нет никакой войны, а есть только тихое небо с любопытными звездами, есть сонное стрекотанье кузнечиков в сухой, еще теплой траве и есть почти неслышное дыхание людей, непонятно по какой причине ночующих здесь, в чистом поле, вместо того чтобы попроситься на ночлег в рубленые избы столь близкой деревни.
— Идем, сержант зовет, — недовольно пробурчал Гридасов, прилаживая гранату к тренчику ремня. — Не выговорится никак.
— Инструктаж, — то ли спросил, то ли объяснил Мишка.
— Я сам кого хошь проинструктирую.
Малышев сидел на бруствере и потихоньку потягивал самокрутку, прикрывая огонек ладонью.
— И чего тебе не спится, сержант? — беспечным тоном поинтересовался Гридасов. — Танк загорится — проснешься.
— Прикрывать тебя будут два автоматчика, — не принимая шутки, произнес Малышев. — Танкисты начнут разбегаться — автоматчикам будет работа. И на тот случай, если немец из деревни подкрепление двинет.
— Два автоматчика? — переспросил Гридасов. — А ты не больно щедрый, сержант.
— Остальной народ сберечь надо, — озабоченно сказал Малышев. — Для последующего прорыва из окружения.
— Дите ты еще, сержант, хоть и полководец, — деловито произнес Гридасов. — О каком прорыве толкуешь? Да он нас, солома-полова, ежели захочет, в один прием скушает и пуговиц не выплюнет. Нам, сержант, выход один — в лес.
— По грибы, что ли? Или по ягоды? — невесело усмехнулся Малышев.
— Зря издеваешься, сержант, — переходя на серьезный лад, ответил Гридасов. — Партизанский отряд надобно сколотить.
Малышев погасил окурок о подметку сапога и впервые с внезапно пробудившимся уважением посмотрел на Гридасова.
— Вот это идея, Гридасов, — тоном человека, сделавшего открытие, протянул Малышев. — Это, я скажу тебе, идея...
— Возвернусь я, сержант, обговорим. Есть кой-какая мысля. Вот только этот расчудесный танк как бог черепаху разделаю, и тогда мы с тобой, сержант, сработаем, солома-полова. Со мной, сержант, не пропадешь! Все будет, «как у нас на заставе»!
Он горделиво толкнул плечом Малышева, как бы подтверждая свои слова этим выразительным жестом и как бы прощаясь с ним. Малышев все понял.
— Присматривай за ним, — кивнул он на Мишку.
— Не надо за мной присматривать, товарищ сержант, — обиделся Мишка. — Что я, маленький?
— Ну, ладно, ладно, — густо пробасил Малышев. — Ни пуха ни пера...
— К черту! — кукарекнул Гридасов и размашисто шагнул в сторону деревни. Мишка рванулся вслед за ним.
Идти было непросто. Гридасова поглощала темнота, и он то и дело скрывался из глаз. Мишка боялся потерять его и старался не отстать. Лощина, расстилавшаяся перед высотой, днем казалась ровной, как стол, накрытый плохо разглаженной скатеркой. Но оказалось, что это не так. Мишка то попадал ногой в рытвину, то спотыкался о неприметный в темноте пригорок, то застревал в ершистом низкорослом кустарнике.
Так они прошли минут десять, и Мишка недоуменно смотрел в покачивавшуюся впереди него спину Гридасова: неужто он так и будет переть во весь рост до самого танка? Словно бы почувствовав немой вопрос своего напарника, Гридасов внезапно остановился. Мишка, не ожидавший этого, ткнулся в него.
— Тихо, скаженный, — негромко охладил его Гридасов. — Не к Раечке на свидание...
Как почудилось Мишке, он долго вглядывался и вслушивался в темень, оставаясь неподвижным, будто неживым. Неожиданно Мишка понял, что он нюхает воздух.
— Отсюда поползем, — шепнул Гридасов. — Саперы наши здесь копошились. Только чтобы — без единого звука. А то он над нами, солома-полова, похохочет...
Мишка так и не уяснил, кого имел в виду Гридасов — то ли немецкого танкиста, то ли сержанта Малышева.
Они легли на траву, которая уже успела остыть от дневного зноя и на которую, видимо, ближе к рассвету должна была пасть холодная роса. Гридасов полз неторопливо, с остановками, сберегая силы и стараясь продвигаться вперед как можно бесшумнее. Мишка изо всех сил подражал ему, чувствуя, как изодрал локти, колени и живот о твердую, как жесть, землю, о колючки кустарника. Он полз, не поднимая головы и стараясь не думать о том, долго ли еще ползти. Он полностью полагался на Гридасова, уверовав в него, как в человека, не способного ошибаться. Конечно же, Гридасов подползет к танку ровно настолько, насколько будет возможно, чтобы танкисты не всполошились, и ровно настолько, чтобы не просто добросить до танка гранату, но и попасть в самую уязвимую его часть — в боковую или в хвост. Гридасов все рассчитает, все учтет.
Так рассуждал Мишка, время от времени переводя дух и вытирая рукавом взмокревший лоб, не ведая о том, что Гридасов в кромешной тьме сбился с пути, приняв за танк какое-то невысокое строение, видимо, сарайчик на краю деревни. Признаваться в этом Синичкину он не хотел и потому свернул на южный скат высоты, где и был зарыт этот проклятущий танк. Мысленно ругая себя, Гридасов пополз быстрее. Он знал, насколько коротка и призрачна летняя ночь с ее мгновенно исчезающей темнотой, будто ее с поспешной жадностью проглатывает какое-то таинственное чудовище. Не успеешь оглянуться, как ни свет ни заря выкатывается из-за трепетного горизонта круглое румяное яблоко солнца и все окрест становится зримым. И если до этого момента танк не вспыхнет синим пламенем — дело швах, придется, как паралитикам, лежать, вдавившись в землю, до самого вечера, пока снова не наплывет на высоту желанная темнота. Это ежели они, фрицы, позволят тебе лежать.
Они снова ползли, и Мишке живо припомнилось, как в первый месяц службы в роте писарей учил их ползать по-пластунски маленький вертлявый ефрейтор с черными въедливыми глазками, дорвавшийся до власти. Он жил командами, наслаждался ими, и, наверное, у него сладко щемило сердце, когда он видел, что его команды безропотно выполняются. Нужно отдать ему должное — все, что надо было выполнять на занятиях, он добросовестно, с завидным рвением показывал сам. И сейчас Мишка испытывал к нему чувство благодарности: это же он научил его ползать по-пластунски, то есть так, как ползали донские казаки-пластуны — намертво слившись с землей, левая рука вскидывается вперед, правая нога сгибается в колене; упор пяткой в землю — бросок тела вперед; правая рука — в сторону противника, левая упирается в землю — снова бросок; и все это в бешеном, почти нечеловеческом темпе. Ползать так, как ефрейтор, ни Мишка, ни его сверстники, ясное дело, не научились, но кое-что теперь, когда так пригодился ему полученный навык, Мишка уже мог, и он гордился, что ползет ничуть не хуже Гридасова. Конечно, Гридасов длинный, гибкий, за ним поспевать трудно, но Мишка все же поспевал.
Гридасов снова замер на месте, казалось, что он внезапно уснул, и это обеспокоило Мишку. Он подполз к нему вплотную, осторожно тронул за ремень. Гридасов дышал тяжело, с каким-то надрывом
и не отозвался.
— Товарищ командир... — прошептал Мишка. — Что с вами, товарищ командир?
— Ну чего тебе? — грубо ответил Гридасов.
— Вам помочь? — вежливо осведомился Мишка.
Гридасов резко повернул к нему взъерошенную голову, и Мишке почудилось, что глаза его сверкнули, как злые угольки.
— Помочь... — шепотом передразнил его Гридасов. — Помощничек, солома-полова... Танк видишь?
Мишка чуть приподнялся на локтях и повертел головой. Совсем рядом, на склоне высоты, взгромоздились черные, прислонившиеся друг к другу избы.
— Нет, не вижу, — сокрушенно признался Мишка.
— Вот и я не вижу, — гневно, распаляя себя, проворчал Гридасов, будто в том, что он не может обнаружить танк, виноват единственный человек на земле — Мишка Синичкин.
Мишка расстроился. Как же так, он безоглядно уверовал в Гридасова, который полз столь отчаянно, убежденный в точности избранного им маршрута, и вот тебе результат этой слепой веры. Не понадейся на Гридасова так опрометчиво, Мишка и сам бы наметил ориентиры до цели и все было бы иначе. Но все это уже позади и ничего не поправишь. Мишка усиленно засопел, не зная, что предпринять.
— Ты не убивайся, Синичкин, — вдруг зашептал ему прямо в ухо Гридасов. — Я заплутал, я и выплутаюсь.
Гридасов успокаивал Мишку, но что-то в его голосе потеряло былую непробиваемую уверенность, и Мишка заметил, что любимая его присказка «солома-полова» теперь исчезла, будто все это говорил не Гридасов, а совсем другой человек.
Несмотря на обещание выплутаться, Гридасов недвижно, как убитый, лежал на земле. Мишка встревоженно сопел рядом. Он взглянул на небо, и мелкая дрожь холодной россыпью окатила его спину. Что-то уже поблекло в небе, тьма будто слиняла, и чем ближе к горизонту, тем светлее обозначалась узкая полоска, словно кто-то из глубины леса подсвечивал ее неровным, дрожащим светом.
— Светает... — прильнул Мишка к Гридасову.
И словно бы в ответ на этот возглас, тьму неба крутой, змеящейся дугой с шипеньем распорола осветительная ракета.
— Засекли? — только и успел спросить Мишка, намертво впечатываясь в землю.
Гридасов диковатыми глазами, казалось смотревшими из самой земли, пристально проследил за полетом ракеты и, когда она наконец погасла, хрипло и от души выругался.
— Товарищ командир! — с ошалелой радостью зашептал Мишка. — Я танк увидел!
— Где? — не двигаясь, жадно спросил Гридасов.
— Вот здесь, левее приблизительно ноль-сорок... — возбужденно доложил Мишка.
— Расстояние?
Мишка замялся, боясь ошибиться.
— Метров триста...
Гридасов наконец оторвался от земли и вгляделся туда, куда показывал Мишка.
— А и верно, он, паскуда... — обрадованно заключил Гридасов. — Он, миленок... Как же я тебя, родимый, проглядел? Молодчага ты, Синичкин!..
Эта внезапная похвала подействовала на Мишку столь ошеломляюще, что он едва не бросился к Гридасову, чтобы стиснуть его крепкими благодарными объятиями.
— Вперед! — тихо скомандовал Гридасов. — Теперь он наш, теперь он под нашу дудку плясать будет, солома-полова...
Они снова поползли, уже уверенные, но еще более осторожно, боясь, что немцы снова навесят над деревней осветительную ракету. Мишка так и не осознал, насколько близко они подползли к танку. Он начисто потерял ощущение и пространства и времени и, лишь когда слегка отрывал голову от земли, цепко всматривался в горизонт.
Сейчас, в эти минуты, он ненавидел с такой отчаянной силой, на какую только был способен человек, все, что могло нести с собой свет: предрассветную полоску над зубчатой кромкой леса, осветительную ракету, которую в любой миг могли снова выпустить немцы, и даже солнце, которое он так любил и которое олицетворяло собой и его детство, проведенное в солнечном Нальчике, и любовь к Раечке, и которое сейчас, если бы оно хоть краешком высунулось из-за леса, стало бы его самым смертельным врагом.
— Приготовь зажигалку, — прервал его взбудораженные, суматошные мысли Гридасов. — Сейчас мы его, миленка, пощупаем...
Гридасов рывком подбросил свое гибкое, послушное тело над землей, и Мишка не столько увидел, сколько ощутил взмах его руки с зажатой в ней гранатой, взмах, в который он вложил всю силу, ловкость и надежду. Чудилось, что он и сам в это мгновение не удержится на месте и полетит вслед за гранатой навстречу взрыву.
Громоподобный взрыв напрочь задавил тишину и тяжело обрушился на еще не пробудившуюся землю.
— Зажигалку!
Мишка не расслышал этого слова, по-петушиному выкрикнутого Гридасовым, но все же понял, что́ именно требуется от него, и стремительно протянул ему бутылку с горючей смесью.
Гридасов яростно швырнул ее в невидимый пока танк, и тут же над мрачной степью взвихрилось пламя.
— Горит! — заорал Мишка, вскакивая на ноги. — Танк горит! Гридасов, миленький, горит!
Гридасов схватил его за ногу и рывком бросил на землю.
— Щенок! — громыхнул Гридасов. — Автомат приготовь! Сейчас он огрызаться начнет!
Над взбудораженной, стонущей высотой снова огненным шатром повисла ракета, застрекотал пулемет. Мишка передернул затвор и удивленно смотрел на полыхающий танк. Трудно было осмыслить, что набросилось на темноту с большей яростью и что светит сильнее — горящий танк или ракета. Мишка вдруг снова различил крест церквушки, тот, что так поразил его на вечерней заре. Сейчас церковь была будто бы распятой на костре, и чудилось, что горит не танк, а этот впечатавшийся в предрассветное небо крест.
Мишка перевел взгляд на танк и увидел, как с него спрыгнули и метнулись в темень две отчаянные фигурки. Он сразу же понял, что это танкисты спасаются от огня. Снова все озарила ракета, и Мишка неподалеку от себя увидел бегущего танкиста в шлеме. Вначале ему показалось, что в руке у танкиста горит факел, как бы освещая ему дорогу в темноте. Танкист бежал прямо на них, и Гридасов полоснул по нему короткой очередью. Тот, будто споткнувшись, упал, и теперь Мишка понял, что никакого факела в его руке нет, что это горит его комбинезон.
— Отходим! — приказал Гридасов и, пригнувшись, развернулся спиной к высоте.
— Я сейчас, сейчас... — судорожно отозвался Мишка. — Я догоню, догоню...
Он повторял и повторял эти слова, а сам как завороженный смотрел на горевшего танкиста и вдруг, решившись, ринулся к нему, понимая, что Гридасов уже, наверное, далеко от него.
Бросаясь к горящему танкисту, Мишка и сам еще не осознал, что побудило его принять это решение. Инстинктивное стремление спасти человека, попавшего в беду? Извечное чувство сострадания? Или шалая надежда на то, что немецкий танкист решил воспользоваться удобным случаем, чтобы перейти на сторону тех, против кого он вынужден воевать? В эти взрывные мгновения Мишка не смог бы ответить на эти вопросы даже самому себе.
Мишка подбежал к танкисту и, сбросив с себя скатку, отпустил тренчик и стал изо всех сил сбивать шинелью огонь. Это был лишь миг, но и его было достаточно, чтобы Мишка смог в упор увидеть лицо танкиста и изумиться тому, что он, этот танкист, очень похож на него, Мишку, и вроде бы на Тим Тимыча, и на Вадьку Ратникова, да и, пожалуй, на Кешку. Всем — и широким носом, и длинной, тонкой шеей, и большими удивленными глазами с мохнатыми, как пчелы, ресницами. Эта похожесть потрясла Мишку едва ли не сильнее, чем все, что произошло сейчас на высоте. «Почему же он воюет против нас, почему?» — сверлил его мозг тяжкий, безответный вопрос, сверлил настолько беспощадно, что Мишка горел желанием задать его этому, похожему на него парню.
На самом же деле ничего схожего с Мишкой в облике немецкого танкиста не было и в помине. Это был совсем другой человек, совсем другой...
Мишка уже почти сбил огонь с горящего танкиста, как вдруг вновь дьявольским огнем вспыхнула ракета и он увидел нацеленное прямо ему в лицо дуло чужого пистолета. В какой-то миг он успел рассмотреть танкиста: совсем еще юное загорелое лицо с крутым подбородком, кудрявые светлые волосы, выбившиеся из-под шлема, и немигающие, будто мертвые, навыкате глаза...
«Как хорошо, что этого не видит Раечка... » — летящим в пропасть камнем мелькнуло в сознании Мишки.
Гридасов, чувствуя неладное, вернулся назад и вдруг услышал короткие, хлесткие выстрелы. Гридасов прострочил автоматом тьму и, подбежав ближе, увидел распластанного на земле Мишку, а чуть поодаль — немецкого танкиста. На нем тлел комбинезон, от которого занялась огнем Мишкина шинелька.
Гридасов прильнул к Мишке и понял, что прибежал слишком поздно.
«Не так это просто, сержант, уберечься, как ты мечтаешь. Не ты смерти ищешь, она тебя сторожит. Здесь, сержант, война...» — подумал Гридасов, обращаясь почему-то к Малышеву, словно он стоял перед ним.
И бросил последний взгляд на Мишку: «А малый хороший был. Настоящий. Хоть и чудак...»
Навстречу ему уже взбиралась на высоту жиденькая рота сержанта Малышева.
Кешка, Тося и луна
Вышло так, что одним из уцелевших во время бомбежки эшелона орудий было то, которым командовал Иннокентий Колотилов.
Когда «юнкерсы», облегчив себя, сбросили бомбы и, злорадно выставляя свою безнаказанность, ушли за горизонт, всюду — и на полотне дороги со вздыбленными, исковерканными рельсами, и в ближней роще, где в пламени метались березы, — нависла тяжелая, опаленная солнцем тишина, прерываемая стонами раненых и паническим ржанием коней. Если во время бомбежки стоял грохот, истерически выкрикивались команды, перемешанные со злой руганью, то сейчас люди, придавленные всем происшедшим, замкнулись, ушли в себя и будто онемели.
Оправившись от паники, бойцы начали сгружать орудия с платформ и подтягивать их к большаку, который то круто уходил от железной дороги, то еще теснее прижимался к насыпи.
Первая бомбежка горячей взрывной волной разверзла восприятие жизни на две непримиримые, враждебные друг другу части: на мир и на войну. Все, что было с бойцами до взрыва первой бомбы, было лишь условным, а потому во многом неверным ощущением войны, но еще не самой войной, было тем мирным, самоуверенным и беспечным состоянием, когда человек воспринимает опасность смерти как нечто нереальное, непосредственно к нему не относящееся. Это были еще лишь мечты о том, как мужественно поведет себя человек в бою, словно бы застрахованный от вражеских пуль и осколков, а не сама реальность. В настоящем же бою человек, впервые опаленный смертным дыханием войны, вдруг открывает в себе новые черты характера. Открыв их, он либо восторгается, либо ужасается этими чертами, либо просто смиряется с ними как с фатальной неизбежностью.
Совершенно неожиданное открыл в себе и Кешка Колотилов, когда три «юнкерса» сбрасывали на эшелон бомбы. Распластавшись на горячей траве и пытаясь впечататься в землю, чтобы спастись от гибели, Кешка вдруг почувствовал, что его обуял страх — отчаянный страх за свою жизнь. Сейчас, в эти минуты, весь мир — и солнце, и людей, и всю землю — затмила от него единственная, ошеломляющая своим могуществом мысль о спасении, о том, чтобы выжить в аду бомбежки, знать и чувствовать, что по-прежнему, как и до взрыва бомбы, бьется сердце, дышат легкие, видят глаза, слышат уши, повинуются ноги и руки.
«Сейчас осколок вопьется в тебя — и все! — в ужасе взвихривались мысли в голове у Кешки. — И все! И тебя не будет! Небо будет, и солнце будет, и Анюта будет — а тебя не будет! Ты исчезнешь, превратишься в прах, и вороны будут каркать над тобой...»
Сейчас для него перестало существовать все — и бойцы, сновавшие возле горящего эшелона, и сам эшелон, и все, что происходило на земле в эти пугающие своей мрачной бесконечностью тягостные минуты бомбежки. Существовал только он сам, и существовало его стремление наперекор судьбе остаться в живых, существовало то, что было нацелено лично против него — гитлеровские самолеты и бомбы низвергающиеся на эшелон, то, что стремилось стереть его, Кешку Колотилова, с лица земли.
Самолеты уже скрылись, а Кешка все еще не мог поверить в реальность того, что небо вновь не обрушит на него смерть, и потому не мог заставить себя подняться с земли. Бойцы уже сгружали гаубицы, впрягали в передки уцелевших коней, перетаскивали подальше от горевших вагонов ящики с боеприпасами, мешки с овсом, катили железные бочки с горючим, а Кешка все еще прижимался к земле, будто надеялся на то, что она укроет его и спасет от новой бомбежки.
Все были заняты делом, казалось, Кешку никто и не замечал. Наконец он медленно, озираясь по сторонам, поднялся, ощущая уже не столько страх, сколько обиду на то, что никто даже не поинтересовался, что с ним произошло. «А если бы ты был ранен или убит? — с горечью подумал Кешка. — Никому, оказывается, ты не нужен. Песчинка во Вселенной!»
Однако долго размышлять было некогда — Кешку уже втянуло в тот водоворот, который всегда образуется после воздушного налета и в котором необъяснимо смешиваются растерянность и собранность, радость от того, что беду пронесло, и горечь от того, что уже лежат ничком — кто распластав руки и ноги, кто сжавшись в комок, будто не хватило земли, чтобы лечь по-человечьи свободно и раскованно, — первые жертвы, те самые ребята, которые только что смеялись и пели, ругались и курили, балагурили о девчатах. Странно, что сейчас Кешку не мучил вопрос: кого убило? Не потому, что он не хотел об этом знать, а потому, что страшился ответа на этот вопрос, как бы опасаясь, что, называя фамилии убитых, вдруг назовут и его. А может, те, кто лежит сейчас на истекающей горьким дымом земле, так же, как и он, не решаются встать?
Увидев, что пятеро бойцов, упираясь сапогами в сыпучий грунт косогора, спускают гаубицу вниз, к большаку, Кешка подбежал к ним и с налету пристроился к свободному месту у станины. Казалось, никто не обратил внимания на его внезапное появление, а сам он вначале даже не взглянул на лица бойцов. Они с большим трудом, напрягаясь так, что на спинах под черными от пота гимнастерками вздувались мускулы, едва сдерживали тяжелое, неподатливое орудие, готовое своенравно вырваться из их рук.
Когда орудие наконец оказалось на пыльном ухабистом большаке, взмыленные бойцы повалились на траву. Только теперь Кешка понял, что это его гаубица и его расчет. Значит, повезло ему с первого дня войны! Но радостное чувство охлаждала мысль о том, что все, что происходило во время бомбежки, могло произойти и без его участия. Ведь он был занят самим собой, и за все время — с того момента, как резко затормозил паровоз, растревожив окрестности протяжным, словно молящим о пощаде гудком, как прозвучала команда «Воздух!», и до той минуты, как «юнкерсы» растаяли в небе, — он, Кешка, не отдал своему расчету ни единого распоряжения. Сейчас, растерянно грызя стебелек травинки, он ждал упреков, язвительных насмешек, но никто не сказал ему ни слова.
— Вот и приехали, — тяжко вздохнул кто-то из бойцов. — И пальнуть не успели.
— Зато он нам разгружаться помог. Не прилети он, сколько бы копались, — усмехнулся наводчик Саенко — высоченный костлявый боец, которому во время наводки орудия никогда не удавалось укрыться за щитом.
— Да, влепил он нам, — сказал заряжающий Тихомиров. — Из батареи двух орудий как не бывало. И стрельнуть не успели.
— Злее будешь, — жестко проронил Саенко. — Небось мамку с тятькой вспомнил?
— А ты небось не вспомнил? Ну, герой! — разозлился Тихомиров.
— Еще как вспомнил! — весело откликнулся Саенко. — И не только тятьку с мамкой. Господа бога вспомнил!
«И они еще шутят, зубоскалят», — с неприязнью и удивлением подумал Кешка, вслушиваясь в этот разговор.
Мысли его прервал возглас старшего на батарее Селезнева — молодого поджарого лейтенанта, вдоль и поперек затянутого новенькими, сверкающими лаком и при каждом движении скрипящими ремнями. Лейтенанта выпустили из училища досрочно, всю дорогу, пока ехали к линии фронта, он петушился, командовал звонко, азартно. Сейчас голос его осел, и сам он как-то обмяк, будто враз постарел. Но ремни все так же скрипели, и он то и дело резким движением больших пальцев рук разгонял складки на новенькой гимнастерке, настырно собиравшиеся под ремнем.
— Командиры орудий, ко мне! — Эта команда, столько раз повторявшаяся в том, теперь уже не существующем, мирном времени, прозвучала сейчас как нечто противоестественное тому, что происходило вокруг.
Горели теплушки, как-то странно накренившись, безжизненно застыл на рельсах паровоз, все еще дыша остатками пара; беспокойно прядали ушами и нервно встряхивали гривами кони; недвижно, будто в непробудном сне, лежали убитые. И потому до Кешки не сразу дошел смысл команды; он услышал ее, но не воспринял как требование, относящееся к нему. В то время как двое сержантов из четырех (один командир орудия был ранен во время налета) уже стояли перед старшим на батарее, обозначая собой максимум внимания, Кешка продолжал безучастно сидеть на станине гаубицы.
— Командир третьего орудия! — раздраженно воскликнул Селезнев. — Колотилов! Где Колотилов? — нетерпеливо словно от наличия Колотилова зависел исход боевых действий, повторил он, и только теперь Кешка, будто возвратившись на землю из небытия, понял, что зовут именно его.
— Колотилов, вам особое приглашение? — ядовито спросил старший на батарее, когда Кешка подбежал к нему.
Кешка молчал, глядя прямо в глаза старшему на батарее, и тот осекся, то ли остановленный этим жалким вопрошающим взглядом, то ли не имея возможности развивать свою мысль о последствиях неисполнительности в условиях фронтовой обстановки.
Старший на батарее заговорил совсем иначе, чем это было в том, мирном, времени. Каждое его слово звучало сейчас как откровение, таящее в себе опасность. Он передал приказ комбата сосредоточиться на окраине деревни, название которой тут же улетучилось из Кешкиной головы, оборудовать огневую позицию и ждать дальнейших распоряжений. На месте вынужденной разгрузки оставалось лишь с десяток бойцов, которым предстояло похоронить убитых.
— А та станция, где мы должны были разгружаться, уже у немцев, — шепнул Кешке словоохотливый командир первого орудия Лыков, когда батарея, поднимая сухую пыль, наконец вытянулась на большаке.
Кешка нервно стрельнул по нему глазами, как бы прося его не продолжать делиться с ним своими страшными новостями, но тот не унимался:
— Что́ станция, я тебе такое скажу... — Он перешел на шепот: — Немцы Минск взяли...
— Чего мелешь? — оборвал его Кешка. — Сорока на хвосте принесла?
— Мелко плаваешь, Иннокентий, — покровительственно похлопал его по плечу Лыков. — И нос задираешь. Здесь тебе, малыш, не рота писарей. Здесь, между прочим, стреляют.
Кешку передернуло от такой наглости. Привыкший ко всем относиться с иронией, он не переносил такого обращения с самим собой.
— И ты, Иннокентий, запомни, — продолжал накалять его Лыков. — Тебе со мной тягаться бесполезно. И в высшей степени бессмысленно. И по части того, что происходит на фронтах. И ежели придется по танкам прямой наводкой. Ты, дорогуша, запомни: я или голову сложу, или вернусь домой с Золотой Звездой Героя. А ты, Иннокентий, создан только для мирной житухи. Загрызет тебя война, малыш.
— Не тебе об этом судить! — запальчиво возразил Кешка.
— Отчего же не мне? — удивился Лыков, одарив Кешку белозубой, ядреной улыбкой. — Думаешь, не видал, как ты расчетом командовал?
— Ты о чем? — насторожился Кешка.
— А все о том же, — многозначительно протянул Лыков. — О бомбежке...
Батарея вытянулась по большаку, послушно повторяя все его изгибы, и Кешка поспешил за своим орудием, радуясь тому, что может прервать неприятный для него разговор.
Дорога казалась длинной, нескончаемой. Самое неприятное было то, что все окружающее — и лесные рощи, и перелески, и крутые овраги, и дальние деревушки — таило в себе неизвестность. Вроде бы двигались по своей земле, но уже не по привычной — мирной, спокойной и доброй, а по тревожной, знобящей и тяжелой. Бойцы шли понуро, настороженно, часто поглядывая на небо.
Вражеские самолеты в этот день больше не появились. Уже после полудня батарея втянулась в узкую ухабистую улочку будто напрочь вымершей деревеньки, примостившейся на косогоре. Последовал приказ оборудовать огневую позицию на окраине, в яблоневом саду. Яблони были старые, сквозь тяжелую листву они протягивали к небу коряжистые, узловатые ветви.
Гаубице Колотилова выпало стать неподалеку от небольшой скособоченной рубленой избы. Ее почерневшие мшистые бревна выпирали из стен, как ребра диковинного животного. Окна даже при солнечном свете казались незрячими. Только в одном из них сиротливым огоньком горела герань.
Расчет взялся за трассировку и отрытие орудийного окопа с таким рвением и старанием, словно собирался стоять на этой позиции всю войну. Не прошло и часа, как гаубицу уже можно было закатывать в окоп почти полного профиля. Оставалось лишь вырыть траншеи для расчета, погребки для снарядов, укрытие для передка, оборудовать коновязь в роще.
Кешка, успевший обрести устойчивость, споро помогал расчету. Когда работа подошла к концу, он направился к колодцу. Но у колодезного сруба не оказалось ведерка. Кешка свесился через сруб, ощущая холодную близость воды.
— Попейте, — совсем рядом послышался девичий голос.
Кешка обернулся. Перед ним стояла тоненькая, хрупкая девушка в голубом линялом ситцевом платье, трепыхавшемся на ней от порывов ветра. Она была боса, маленькие ступни ног и лодыжки, покрытые золотистым пушком, припорошила пыль. Волосы взвихрило и разметало по оголенным плечам. Чудилось, она была совсем невесомой и вот-вот, подхваченная ветром, взлетит над землей.
Девушка обеими ладонями бережно, как драгоценный сосуд, держала кувшин, по его матовой темно-коричневой поверхности стекала тоненькая струйка молока.
— Попейте, — певуче повторила она, несмело глядя в лицо Кешки. — Я сама доила.
Она протянула Кешке кувшин, а он все изумленно смотрел и смотрел на нее, пытаясь понять, откуда она взялась здесь, в пустой, осиротевшей деревушке, рядом с гаубицами, простершими тяжелые стволы в ту сторону, куда устало и отрешенно скатывалось жаркое солнце.
— Попейте, — почти умоляюще попросила девушка.
Кешка поспешно схватил кувшин, боясь, что она уронит его. Пить ему очень хотелось. Он пил большими, жадными глотками парное, пахнущее свежими сливками молоко, от наслаждения зажмурив глаза. А когда оторвал губы от кувшина и размежил веки, девушки уже не было. Кешка диковато огляделся вокруг, но ни поблизости, ни у крохотной избы, ни возле перелеска не увидел ее. Он долго ждал ее появления, но не дождался. Так и пришел к орудию с кувшином, на донышке которого еще оставалось несколько глотков молока.
Окунувшись в привычные заботы, он на время забыл о встрече. Может, и забыл бы совсем, если бы не Лыков. Он пришел к Кешкиному орудию, как всегда, вразвалочку, довольный собой. Кошачьи глаза его масляно улыбались.
— Ну как? — с лукавой ехидцей спросил он. — Готов к труду и обороне?
— А ты, полководец, готов? — в тон ему задал вопрос Кешка. — Только не обороняться мы будем, а наступать!
— И к наступлению готов, — доверительно понизил голос Лыков. — Знаешь ли ты, малыш, какая деваха скрывается вон в той бревенчатой развалюхе? Продержаться бы здесь до утра, атакую, будь спок!
— Как бы отступать не пришлось, — попытался охладить его Кешка. — Хорохоришься, как петух.
— Чапай никогда не отступал! — блестя воспаленными глазами, хохотнул Лыков и вразвалочку зашагал к своему орудию.
Кешка смотрел ему вслед, поражаясь и завидуя тому, что Лыков и здесь, где вот-вот на них накатит война и где каждую минуту с наблюдательного пункта комбат может скомандовать открыть огонь, живет и мыслит так, будто в их жизни ничего не изменилось.
«А как там сейчас Вадька Ратников? — вдруг обожгло душу Кешке. — А Мишка Синичкин? А Тим Тимыч? Где они? Может, еще и на фронт не попали, да и не попадут вовсе? А может, уже и в живых нет?»
И Кешке вдруг очень захотелось, чтобы все они, владельцы двух последних парт в классе, оказались сейчас вместе.
«Как это прекрасно — дружить, — мечтательно подумал Кешка. — И как тяжко сходиться с новыми людьми».
Старшина уже созывал батарею на ужин, и Кешка вместе со всеми направился к полевой кухне. Повар щедро накладывал в протянутые котелки густую гороховую кашу. Кеша тоже протянул свой котелок, но его с игривой заносчивостью оттер своим мощным плечом Лыков.
— Командиру первого орудия положено без очереди, — назидательно изрек он и, подмигнув повару, внушительно добавил: — Мне на двоих. И зачерпни с мясом, гений кулинарии!
Кешка промолчал, сжав губы. Даже то, что Лыков своей манерой разговаривать был похож на него, Кешку, но не нынешнего, а того, школьного, вызывало раздражение и неприязнь.
Получив ужин, Кешка уселся на трухлявом пеньке неподалеку от кухни. Мешал молодой гибкий побег, и Кешка пригнул его к земле. Отсюда хорошо была видна тропинка, ведущая к деревне, к той крайней избе, в которой, если верить Лыкову, жила, видимо, та девушка.
Лыков не стал задерживаться возле кухни. Кешка увидел, как он поспешно удаляется по тропинке с котелком в руке. В его походке отчетливо проступали нетерпение и охотничий азарт.
«К ней пошел», — невесело и с завистью подумал Кешка.
После ужина Курочкин, горластый и нахрапистый человек, не любивший делать никаких поблажек своим подчиненным, неожиданно смилостивился и оставил у орудий только наводчиков и заряжающих, а остальным разрешил отдыхать. Кешка примостился на траве у старой яблони. Сняв тренчик со скатки, расстелил шинель, ею же и накрылся. Сон скрутил его почти мгновенно.
Очнулся он оттого, что кто-то осторожно тронул его за плечо. Он в страхе отпрянул в сторону и ошалело осмотрелся вокруг, не понимая, что произошло.
Высоко в небе загадочно и немо сияла почти полная луна, и в ее призрачном, неживом свете Кешка, все еще не веря себе, рассмотрел девушку. Она недвижно стояла вблизи него, будто не на земле, а на легком облаке, плывущем над землей. Это была та самая девушка, что поила его молоком, — высокая, хрупкая и растерянная.
Кешка приподнялся с шинели, все еще не решаясь встать, и изумленно смотрел на девушку, похожую на привидение.
— Ты можешь помочь мне? — негромко и взволнованно спросила она.
— Как? — выдавил он из себя вопрос, сознавая, что спрашивает совсем не о том, о чем надо было спросить.
— Вон там, за садом, есть овраг, — ответила девушка. — Пойдем со мной.
— Зачем? — Кешке еще казалось, что все это происходит во сне.
— Я тебе все расскажу, — настойчиво сказала она, боясь, что он так и не послушает ее. — Там, в овраге...
— Но я не могу уйти с огневой позиции, — продолжал сопротивляться Кешка. — И тебе здесь нельзя.
— Это совсем рядом, — умоляюще сказала она. — Если что, ты тут же вернешься.
— Но зачем? — Кешка наконец встал на ноги.
— Пойдем! Скорее!
Она схватила его за руку и увлекла за собой, сразу же перейдя на бег. Ладонь ее была маленькая, она утонула в широкой ладони Кешки, и он с тревогой ощутил ее горячее, трепетное прикосновение.
Девушка, видимо, хорошо знала дорогу к оврагу. Она бежала впереди, ловко и гибко лавируя между деревьев. Не прошло и пяти минут, как они оказались в овраге, плотно заросшем колючим кустарником. Отдышавшись, присели на траву.
— Спасибо тебе, — почти нежно, с искренней благодарностью произнесла она, и только сейчас Кешка рассмотрел ее большие черные глаза, в которых отражались две крохотные луны.
Кешка молчал, все еще не понимая, за что его благодарят.
— Спасибо, — еще проникновеннее повторила девушка. — Ты не знаешь, почему мы стараемся спастись от малой беды, когда кругом такая большая беда?
— Ты думаешь, я смогу ответить на твои странные вопросы? — Кешка начинал злиться. — Ты хотя бы сказала, кто ты, как тебя зовут.
— Кругом война, — не обижаясь на его раздражение, продолжала девушка, будто говорила сама с собой. — И никто не знает, что с нами будет. А я все пыталась себя уберечь. И мама всегда повторяла: береги себя, береги себя...
— Ты что, бредишь? — взорвался Кешка.
— Тут один ваш... — замялась девушка. — Ну, он приставал ко мне. А я убежала. Может, и не надо было убегать...
— Это — Лыков. С котелком? А в котелке — гороховая каша? Какая скотина!
— Ты веришь в судьбу? — судорожно схватив Кешку за локоть, спросила девушка. — На каникулы я собиралась ехать в Керчь, к тете. А тут вдруг письмо от бабушки. Она захворала. И я помчалась сюда. А тут война... В деревне одни старики. Бабушка померла. Куда мне теперь?
— Тебе надо уходить.
— Уходить? Разве от войны убежишь? Возьми меня с собой.
— Ты в своем уме? — испугался Кешка, боясь, что эта незнакомая и непонятная ему девчонка пристанет к нему как репей.
— Может, и не в своем... — покорно согласилась она. — Как тут будешь в своем...
Она помолчала, ожидая, что скажет Кешка.
— Ты спрашивал, как меня зовут, — неожиданно встрепенулась она. — Тося. Очень простое имя. Легко запомнить.
— Иннокентий, — представился Кешка.
— Иннокентий? — удивилась Тося. — Впервые слышу...
— Почему же впервые? — фыркнул Кешка. — Не такое уж оно редкое.
Он все пристальнее всматривался в Тосю, пытаясь сравнить ее с Анютой. Прежде всего его поразило сходство имен, в этом было что-то неожиданное и роковое. Во всем остальном Тося совершенно не походила на Анюту. Анюта была крупнее, в свои восемнадцать лет она выглядела старше. А Тося — хрупкая, какая-то прозрачная, дунет ветер — и понесет ее, как былинку. У Анюты — светлые, будто солнцем выжженные волосы, загадочный взгляд, ямочки на пухлых щеках, а сами щеки цвета утренней зари. А Тося — смуглая, как черкешенка, с тлеющими угольками пронзительных глаз. Здесь, вдали от гор, посреди среднерусской равнины, возле берез, она казалась чужой.
— Тебе надо уходить, — угрюмо повторил Кешка, словно боялся, что сейчас возникнет Анюта и увидит его с Тосей. — Я дам тебе банку тушенки и сухарей. На дорогу. Уходи, пока не начался бой.
— Хорошо, — покорно согласилась она. — Только посидим немного. Здесь, как подняться из оврага, есть стожок. Пойдем.
И Кешка, зная, что все дальше уходит от батареи, повиновался ей, как будто она обладала какой-то волшебной силой.
Стожок был небольшой, скособоченный, наполовину разметанный ветром, но сено было свежее, еще не прокаленное солнцем, и источало терпкий запах ромашки. Кешка повалился на сено, радуясь, что лицо и шею настырно покалывают сухие стебельки, а нос щекочет от сенной пыли. На миг начисто забылось все — и орудие, ставшее на свою первую огневую позицию, и орудийный расчет, проводивший свою первую фронтовую ночь под огромным лунным небом.
— Это я сама выметала стожок, — похвасталась Тося, садясь рядом с Кешкой. Она одернула платье, безуспешно пытаясь прикрыть им голые коленки. — У бабушки корова была. А я сроду траву не косила. Ты когда-нибудь косил?
— Не приходилось, — нехотя признался Кешка. — Впрочем, не столь уж великое искусство.
— Нет, не скажи! — горячо запротестовала Тося. — Не скажи! Еще какое великое! Вот я поначалу — машу косой, а она, проклятущая, не косит. Я даже плакала от обиды.
— Нашла от чего плакать!
— Ну как ты не понимаешь, это же еще до войны было! Сейчас из-за этого не стала бы плакать. Сейчас все по-другому. И что же будет, ты не знаешь? Ты видишь, они все идут и идут. А наши все отступают и отступают.
— Паническое у тебя настроение, Тося, — назидательно оценил ее слова Кешка. — И слово «отступают» вычеркни из своего лексикона.
— Да я бы с радостью вычеркнула! — искренне воскликнула Тося. — Вон у вас какие пушки.
— Гаубицы, — поправил Кешка.
— Гаубицы, — послушно повторила она. — Вот и остановите немцев, не пускайте дальше нашей деревни.
— И остановим, — пообещал Кешка.
Впрочем, пообещал не очень уверенно. Неуверенность эта проистекала по понятным причинам: Кешка еще не видел ни одного живого фашиста, а его орудие еще ни разу не выстрелило по врагу. Он пребывал в том, непонятном самому себе, неприкаянном и противоречивом состоянии, когда смятение то приглушается надеждой на лучшее, то вновь прорывается в сердце с еще более страшным навязчивым ожесточением.
Луна начала скатываться за горизонт, предвещая раннюю зарю, и Кешка не мог отбросить прочь мысль о том, что вместе с зарей на огневую позицию накатится нечто грозное, зловещее и в судьбе его произойдет какой-то крутой поворот.
Откуда-то с востока, в той стороне неба, где солнце собиралось сменить луну, взметнулся и пронесся над полями и перелесками холодный ветерок. Тося зябко повела плечами и придвинулась к Кешке.
— Замерзла? — участливо спросил он, обнимая ее за плечи.
Тося кивнула, не глядя на него.
— Признайся, Кеша, у тебя есть девушка?
Кешка замялся.
— Значит, есть, — не дождавшись ответа, грустно промолвила Тося. — Красивая? И ты ее любишь?
— Типичные девчачьи вопросы, — презрительно отозвался Кешка. — Но какое это имеет значение для мировой революции?
— Для мировой революции — никакого, — грустно сказала Тося, — а для меня имеет.
Она спрятала лицо, прижавшись к его плечу, и заговорила стремительно и сбивчиво:
— А знаешь, когда я увидела тебя? Еще когда ваша батарея шла по деревне. Меня как кто надоумил. То сидела в подполье, боялась бомбежки. А то к окошку потянуло. Как магнитом. И как раз — вы... Я еще никогда никого не любила... И как это среди всех я заметила именно тебя? Почему? Сама не знаю... — Она вдруг запнулась и спросила осторожно, испуганно, словно боясь его откровенного ответа: — А вдруг тебя убьют, как же тогда она? Как жить будет?
— Кто? — сделав вид, что не понял, о ком идет речь, уточнил Кешка.
— Ну, твоя девушка. Как ее зовут?
— Какая же ты любопытная! Ну, уж если тебе так хочется, изволь: Анюта.
— Анюта? Красивое имя.
Из всего того, что сбивчиво и нервно говорила Тося, Кешка усвоил только то, что она из всех, кого успела рассмотреть через свое окошко, выбрала именно его, и сознание этого обдало его радостной, опьяняющей волной, вызывая гордость и самодовольство.
«А она хороша, — в упор разглядывая ее лицо, схожее с изображением святых на иконах, думал он. — Конечно, в сравнении с Анютой проигрывает».
— Как интересно устроена земля, — будто самой себе сказала Тося. — И люди на ней. Почему мы с тобой встретились? Значит, все, что происходит на земле, — случайность? Но тогда какой смысл жить? И почему люди так ценят жизнь, если и сама жизнь — случайность?
— Самое время философствовать, — едко процедил Кешка. — А война сейчас ради чего? Ради жизни. Иначе зачем воевать?
— Но чтобы сберечь жизнь, нужно, чтобы тысячи, а может, и миллионы, потеряли ее?
— А ты не боишься погибнуть?
Кешка не ожидал этого вопроса. Ему всегда нравилось говорить о подвигах других людей и об их героической гибели. А о своей гибели... Кому нравится говорить о своей гибели! Он не считал такой порядок мыслей ущербным, полагая, что точно так же мыслят все люди, влюбленные в жизнь.
— А кто не боится погибнуть? — ушел от прямого ответа Кешка. — Вот ты — не боишься?
Тося обернулась к нему, и он поразился тому, что это была уже совсем другая девушка. Матовая бледность лица, подсиненная неживым светом луны, исчезла, и теперь лицо ее само излучало свет, но уже живой, ликующий и счастливый, с которым не могла соперничать луна.
— Раньше не боялась. А сейчас боюсь.
— Сумасшедшая! — испуганно отшатнулся от нее Кешка. — Ты же меня абсолютно не знаешь. Я тебя — тоже. Сейчас комбат передаст команду с НП, и я пулей полечу на огневую. А потом батарея сменит позицию. И наверное, ты меня больше никогда не увидишь. И мы никогда не встретимся. Ты хотя бы подумала об этом?
— Подумала! — все так же весело воскликнула Тося. — И ты не бойся! И если останешься жив на этой войне, иди спокойно к своей Анюте. Я не стану навязываться. И никогда не пожалею о том, что случилось.
— Нет, это не укладывается в моей голове, — начал нервничать Кешка. — Ты или дитё, или ненормальная.
— И дитё, и ненормальная, — без обиды сказала Тося. — Какая есть. Такой больше не встретишь. И не волнуйся. Сейчас рассветет, и я уйду.
Кешка расчувствовался, благодарно притянул ладонями ее лицо к себе, погладил жесткие курчавые волосы.
Тося диковато обожгла его почерневшими глазами.
— Давай посидим просто так, молча. И я уйду.
Тося не просто ждала, а мысленно молила Кешку, чтобы он не отпускал ее вовсе или же хотя бы просил задержаться, пока батарея не открыла огонь. Но он молчал, и желание того, чтобы она поскорее ушла, все сильнее овладевало им.
— А что это за дорога? — наконец нарушил молчание Кешка.
Начинало светать, и он приметил неподалеку от стожка наезженную колею среди травы, смутно поблескивавшей холодной росой.
— Эта? — Тося удивилась его вопросу. — По ней на сенокос ездили. И чтоб сено вывозить. Только сейчас вывозить некому. Она прямо на большак выходит. А ты что? Все напоминаешь мне о дороге? Так вот возьму и не уйду. Назло тебе.
— Когда Сократа приговорили к смерти, — задумчиво произнес Кешка, — он обратился к судьям с такими словами: «Но пора нам уже расходиться: мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить. А какая из этих двух судеб лучше, знают только боги...»
— Ты даже Сократа призвал на помощь, чтобы прогнать меня, — горько, с дрожью в голосе, сказала Тося.
— Я не гоню тебя, — не очень уверенно сказал Кешка. — Но сама подумай. Мне давно пора на позицию. Может, там меня уже хватились. Еще посчитают дезертиром.
— Да, тебе пора, Кеша, — как-то растерянно и жалко прошептала Тося. — А знаешь, мы с тобой все равно еще встретимся. После войны.
Она прильнула к нему, чтобы поцеловать на прощание, но Кешка вдруг весь напружинился и стал суматошно оглядываться по сторонам.
— Тихо... — В голосе его прозвучал страх. — Ты ничего не слышишь? Кажется, ветка хрустнула...
Они застыли, не двигаясь. Тишина была сонной, сторожкой, и казалось, ее не нарушал ни один звук. Птицы в перелесках еще не пробовали свои голоса. Молчали собаки в деревне. Не подавали признаков жизни и ранние петухи.
— Тебе почудилось, — успокоила его Тося. — Хочешь, я провожу тебя? Ты обещал мне продукты. А утром я уйду.
Кешка бесшумно встал, протянул руку Тосе. Еще раз огляделся вокруг и не заметил ничего подозрительного. Было по-прежнему тихо. Лишь стало темнее — ночь не хотела уходить бесследно.
Неожиданно где-то у горизонта полыхнуло пламя, и почти сразу же до них донесся протяжный злой взрыв. Потом другой, третий...
— Орудия бьют, — сказала Тося. — Так уже было.
— Фронт приближается, — шепнул Кешка. — Теперь не до прогулок при луне...
Он ускорил шаг, увлекая за собой Тосю. Они уже поравнялись с густым кустарником, как вдруг кто-то невидимый сбил Кешку с ног, навалился на него, будто хотел припечатать к земле. Кешка попытался вырваться из железных объятий — и не смог...
Очнулся он в избе, насквозь прошитой лучами солнца. Ощупал себя слабыми, негнущимися пальцами — гимнастерка была мокрой, струи студеной воды еще стекали на дощатый пол. Кешка дико вскрикнул и закрыл лицо ладонями, будто мог ослепнуть. Медленно отвел ладони, приоткрыл глаза, еще надеясь, что все ему мерещится в дурном сне.
Но все было наяву. Слегка склонившись над ним, стоял, как высеченный из камня, широко раздвинув прямые длинные ноги, огромный, с массивным лицом человек в форме немецкого офицера. Крупные, мощные лодыжки, как броней, были затянуты в глянцево блестевшие голенища хромовых сапог, высокая тулья фуражки почти упиралась в дощатый потолок.
Кешка, постанывая от боли, приподнялся, упираясь ладонями в пол, и почувствовал, что у него не хватит сил, чтобы встать на ноги.
— Ты есть очень слабый вояка... — сокрушенно покачал головой офицер. — Наверное, не занимался спорт. Но у нас очень мало времени.
Офицер взмахнул лайковой перчаткой, два солдата кинулись к Кешке, подхватили его за плечи, поставили на негнущиеся ноги и подволокли к столу, на котором лежала топографическая карта.
— Ты — сержант, артиллерист, — твердо отсекая слова, как бы не желая, чтобы они натолкнулись друг на друга, по-русски, и почти без акцента, сказал офицер. Сейчас, когда он стоял рядом с Кешкой, он уже не казался таким громадным и массивным. — Где есть твоя батарея? Как называется деревня? Сколько пушек? Ты должен отвечать честно.
Кешка молчал.
— Хорошо, — почти ласково произнес офицер. — Сейчас я буду давать тебе пистолет. И ты будешь стрелять в свою девочку. Выбирай, что тебе больше понравится.
— Нет... — судорожно выдавил из себя Кешка. — Нет!
Кешка скосил глаза и увидел Тосю. Она стояла, прислонившись плечом к косяку двери. Платье на ней было разорвано, крохотные, как у девочки-подростка, груди оголены. Она смотрела на Кешку пристально, почти безумно, как смотрят на человека, который делает последний вздох в своей жизни.
«Я же просил тебя: уходи...» Кешке чудилось, что он говорит вслух, но он только шевелил чужими, ссохшимися губами.
— Я отдавал твою девочку моим солдатам. Они очень заслужили такой подарок, — как о чем-то совершенно обычном, сказал офицер. — Теперь ты или расскажешь все, что обязан отвечать военнопленный, или будешь стрелять. Очень хорошо стрелять.
— Стреляй! Стреляй, Кеша! — крикнула Тося, но грузно подбежавший к ней солдат отшвырнул ее от двери.
— Вот пистолет. — Офицер со значением протянул Кешке вальтер. — Просто нажимай вот так. — Он показал, как надо нажать на спусковой крючок. — Очень смело нажимай. Из пушки ты уже стрелять не будешь, — добродушно хохотнул он, довольный шуткой.
— Нет! — отшатываясь от пистолета, выдохнул Кешка.
— Тогда я прикажу солдатам расстрелять тебя! Очень быстро расстрелять. — Офицер произнес это протяжно и таким тоном, будто обещал награду.
Он снова с театральным изяществом вскинул руку в лайковой перчатке, и подбежавшие солдаты выволокли Кешку из избы. Офицер последовал за ними.
Переступив порог, Кешка едва не задохнулся от яркого света. Казалось, само солнце ворвалось в его глаза, и он понял, что все окружавшее его сейчас — и это солнце, и небывало высокое небо, и земля, и деревья, — все это не сможет существовать без него и что ему нужно выжить. Если он выживет, то сможет спасти Тосю. Может, произойдет чудо... Так же как случайно его схватили, так же случайно могут и освободить...
— Считаю до трех, — теперь уже резко, враждебно отчеканил офицер и, подняв руку с зажатой в ней лайковой перчаткой, стал считать по-немецки: — Айн, цвай, драй...
— Стойте! — завопил Кешка. — Я согласен! Спрашивайте! Только ее, — он кивнул на Тосю, — оставьте в живых.
— Не смей, Кеша! Молчи! — простонала Тося, но выстрел оборвал ее стон...
В тупике
С того дня, как началась война, Вадька Ратников не видел вокруг себя людей, которые были бы столь же веселы и жизнерадостны, как Каштанов — тот самый лейтенант с лающим голосом, который отобрал в полку трех младших сержантов для отправки в артиллерийское училище.
Трудно было понять, чему он радуется. Сводки
Совинформбюро были более чем неутешительны, чувствовалось, что многое, может быть самое главное, в них недоговаривается. Нередко в них мелькала фраза о том, что наши войска после упорных боев отошли с занимаемых позиций «по стратегическим соображениям». Фраза эта, что заноза в сердце, не щадила нервы. Однако по пути на станцию лейтенант Каштанов считал возможным рассказывать веселые байки, комедийные истории и анекдоты. Рассказывая, он старался по лицам определить, насколько смешной оказалась та или иная история. И если видел, что эффект был незначительным и слабые улыбки, едва вспыхнув, тут же затухали, возбуждался и бил тревогу.
— Не дрейфь, орлята! — бодро восклицал лейтенант. — Чего приуныли, жаворонки?
— А чему радоваться? — не выдержал Вадька. — Так он и до Москвы допрет.
Каштанов круто развернул мощные плечи и монументально встал поперек дороги. Идущие за ним сбились с шага, как бы натолкнувшись на невидимую преграду.
— Кто сказал такие слова? — грозно спросил лейтенант, обводя всех гневными глазами.
Вадька не осмелился признаться.
— Кто сказал, я вас спрашиваю?! — теперь уже с неприкрытой яростью повторил вопрос Каштанов. — Трус и предатель — вот кто! Потому и молчит! Запомните: еще раз услышу такое — расстреляю! Вот из этого пистолета! — Лейтенант потряс над головой пистолетом ТТ, утопавшим в его широкой ладони. — Никто и никогда не возьмет Москву! Никто и никогда! Слышишь ты, паникер недорезанный?!
— Товарищ лейтенант, да кто-то не подумавши ляпнул, — попробовали защитить Вадьку.
— Не подумавши? — грозно растягивая слова, переспросил лейтенант. — А голова для чего? Мозги для чего? Приказываю: прочистить мозги! Будем и мы наступать, орлята! Ловит волк, да ловят и волка!
Лицо его просияло, и Вадька так и не смог понять истинной причины этого совершенно неуловимого перехода от взрывчатого гнева к почти детской радости. То ли он всерьез верил, что своей громовой речью и строгим приказом прочистить мозги смог взбодрить своих слушателей и перебороть их уныние, то ли обрадовался вовремя пришедшей на ум пословице. А может, и впрямь верил в то, что говорил.
Вадька пожалел, что не признался лейтенанту. Наверное, тот кроме бодрых слов смог бы убедить их фактами, которые известны только ему. А сейчас горечь как была, так и осталась. Горечь оттого, что отступаем, да и оттого, что, не успев принять участия в боях, он, Вадька, вместе со своими однополчанами возвращается туда, откуда прибыл, — в глубокий тыл. Все складывалось несуразно, вопреки его воле, мечтам и желаниям.
Сейчас они шли на узловую станцию, где, как сказал лейтенант, размещается штаб дивизии. Там будущие курсанты получат предписания, продпаек и первым же поездом — товарным ли, пассажирским или даже санитарным, главное, чтоб шел на восток, — отправятся к месту назначения.
День был июльский, насквозь пропеченный палящим солнцем. Небо синим шатром распахнулось над полями. Нестерпимо хотелось пить, и Вадьке все время чудилось, что где-то совсем рядом, за поворотом пыльного ухабистого большака, журчит, скатываясь к невидимой реке, звонкий ручей, к которому можно будет припасть сухими, потрескавшимися губами.
На коротких привалах лейтенант, обретая особую веселость, снова принимался рассказывать что-либо смешное.
«Лучше бы о том, как воевал, — подумал Вадька. — Наверное, как и мы, пороху не нюхал. Зачем же мне сейчас смешное, мне нужно героическое».
— Тихо, орлята! — будто желая отвлечь Вадьку от его обиды, вскрикнул лейтенант, запрокидывая к небу голову с ежиком волос. Странно было уже то, что он потребовал тишины, хотя все, с кем он был, молчали, сглатывая вязкую слюну пересохшими глотками. — Тихо! Распахните глаза, откройте уши — как он вьется, как поет!
— Кто? — без особого интереса спросил Вадька, пытаясь высмотреть в небе то, что видел лейтенант.
— Эх ты, черствая твоя душа! — разочарованно взглянул на него Каштанов. — Да вон же он! Жаворонок!
Он замер и повелительным жестом руки потребовал от Вадьки, чтобы тот прикусил язык.
— Все! — как-то обреченно сказал Каштанов. — Улетел. Это ж надо, война кругом, а он поет! А как детство напомнил, стервец! Ты, Ратников, в детстве слушал жаворонка?
— Кажется, нет, — сознался Вадька. — Я в детстве рыбачил. На небо некогда смотреть — поклевку прозеваешь.
— И зря, — сказал Каштанов, будто прощаясь с чем-то очень ему дорогим. — Небо — это, брат, все! Ты только представь, что нет его над головой, ну совсем нет, как же тогда жить?
Лейтенант замолк и долго шел молча.
...Откуда в небе появились немецкие самолеты — никто не успел заметить. Вадька лишь тихо вскрикнул, а они (их было, кажется, два) уже черными распятиями стелились над дорогой, будто давно высмотрели и выследили этого веселого лейтенанта и решили проверить его истинную силу.
«Вот тебе и жаворонок», — мелькнуло в сознании у Вадьки, и он суматошно метнулся куда-то в сторону от дороги, подчиняясь страху и чувству самосохранения. Страх был настолько всемогущ, что он не видел, куда побежали остальные, и боялся взглянуть в небо. Лишь каждой клеточкой своего существа он ощущал захлебывающийся злорадством рев моторов, ощущал над собой их хищно распластанные тела и свою полную беспомощность перед ними. Чувствовалось, что все пули, вспарывавшие воздух и решетившие землю, предназначены только ему, и никому больше. Вадька не сразу понял, что самолеты, проносясь над дорогой, взвывая, разворачивались и снова заходили на них, настырно обстреливали из пулеметов крошечный пятачок местности, по которому рассеялись люди.
Вадьку спасло то, что на его пути попался куст с густой, похожей на шатер кроной. Не веря в то, что он еще жив, Вадька нырнул головой в куст, будто тот был надежной защитой, и, цепенея, замер в нем. Было такое состояние, будто даже по возбужденному дыханию самолеты могут обнаружить его в этом укрытии.
Налет длился всего несколько минут, но Вадька не ощущал времени. Он очнулся не тогда, когда рев моторов стал затихать и постепенно растворился в пространстве, а когда в уши сильнее грома ударила внезапная, схожая с чудом тишина. Вадька высвободил голову из колючих ветвей и осторожно осмотрелся вокруг. Небо было таким же чистым, умиротворенным и добрым, каким было до появления самолетов. Но Вадька все еще никак не мог поверить в эту обманчивую доброту.
Он поискал беспокойными глазами своих товарищей, но в первую минуту не увидел их и испуганно вскочил на ноги, опасаясь, что они ушли и позабыли о нем. И тут по другую сторону дороги, в сотне метров от себя, заметил лейтенанта. Он лежал на спине, как-то беспечно и даже картинно разбросав руки, и казалось, что он снова приметил в небе своего жаворонка. Поодаль лежали два сержанта — один на боку, другой — свернувшись калачиком, как сворачиваются люди, если им холодно.
«Что же они не встают? — с тревогой подумал Вадька. — Или не знают, что самолеты уже улетели?»
— Товарищ лейтенант! Ребята! — крикнул Вадька.
И вдруг сердце обожгло страшным предчувствием. Но почему все они — и лейтенант, и двое его товарищей — очутились так близко друг от друга, вместо того чтобы, как и следовало во время налета, разбежаться врассыпную? Значит, они так верили в неуязвимость веселого лейтенанта, что стремились быть поближе к нему, ища в этой близости спасение.
Он побрел к ним. Вадька еще никогда в жизни не видел убитых, причем вот так, внезапно, что невозможно было поверить в то, что они уже мертвы.
Щеку лейтенанта пересекла алая полоска еще незапекшейся крови. Вадька отпрянул от него. Ему почудилось, что Каштанов улыбается все так же радостно, как улыбался перед тем, как упасть на эту густую траву. Открытые, остановившиеся глаза его неотрывно смотрели в небо.
Все! Никто не остался в живых. Теперь он был совсем один под этим обманчивым небом, посреди тихого, страшного луга.
Вадька сел на подвернувшийся под ноги пень. Его бил озноб. Не от страха. От бессилия и одиночества.
Он растерялся и не знал, как поступить. Не было воли и желания что-то решать, хотелось остаться здесь, вместе с погибшими, и погибнуть самому. Вадька свалился на землю, зарывшись мокрым — то ли от пота, то ли от слез — лицом в траву. Никто из тех, кто совсем недавно шел рядом с ним, не успел сделать ни одного выстрела на этой войне, и вот теперь все они недвижно лежат здесь, вдали от родного дома. Мысли его то проносились вихрем, то получали какое-то странное, пугающее замедление, и голова вовсе отказывалась думать. Только одна мысль все время холодила душу: он почти ничего не знал ни о лейтенанте, ни о ребятах, с которыми оказался вместе. Будто если бы знал, то не дал бы им погибнуть.
Он решил вот так и лежать — будь что будет! Все равно он ничего не сможет сделать, даже похоронить убитых. И потому, что не было сил, и не было чем вырыть могилу. Как он придет в штаб? Как докажет, что его должны были направить в училище? Могут запросто посчитать за дезертира. И правильно сделают.
Самым непонятным было то, что он не ощущал радости от того, что остался жив. Было такое состояние, что он совсем один на этой земле, с таким обманчивым небом. Нет, не может быть, чтобы не произошло чудо! Все равно лейтенант и сержанты, подчиняясь силе волшебства, оживут, вскочат на ноги и кинутся к нему, Вадьке. Вадька ощутил неотвратимую потребность услышать лающий голос лейтенанта, его раскатистый, пронизанный искрами смех. Тот самый смех, который совсем недавно был неприятен ему, сейчас казался необходимым, способным заставить вновь обрести силу и волю, желание жить и бороться.
Вадька вдруг вспомнил, что безоружен. Карабины они оставили в подразделении: лейтенант заверил, что до станции рукой подать и что хватит его пистолета. Очень он все же был самонадеянным, этот юный лейтенант, подумал Вадька и тут же упрекнул себя за то, что нехорошо думает о погибшем человеке.
Он вспомнил о пистолете, том самом, которым грозился Каштанов за кощунственные слова о Москве. Надо было взять пистолет, но Вадька долго не решался снова подойти к лейтенанту.
Наконец все же подошел и... тихо вскрикнул. Ему показалось, что лейтенант приподнялся на локте и тянет в его сторону неживую, вялую руку. Вадька бросился прочь, но что-то более властное, чем страх, остановило его и заставило вернуться. Лейтенант лежал в прежней позе. Вадька, став на колени, склонился над ним. Веки убитого слегка вздрагивали, губы приоткрылись, и что-то похожее на стон послышалось в звонкой солнечной тишине.
— Товарищ лейтенант! — Вадька прильнул ухом к широкой груди Каштанова и никак не мог понять, дышит он или нет. — Товарищ лейтенант!
Оглядевшись, он заметил у лежавшего вблизи убитого сержанта притороченную к ремню фляжку в фланелевом, туго обтягивающем ее мешочке. Поспешно и стыдливо, будто делал что-то недозволенное, Вадька снял ее. Во фляжке булькало немного воды. Он открутил пробку и приложил горлышко ко рту лейтенанта. Теплая вода потекла тоненькой дрожащей струйкой. Каштанов едва уловимо пошевелил губами. Под наглухо застегнутым воротничком гимнастерки судорожно дернулся кадык.
«Живой, живой, все-таки живой!» — затрепыхалось в голове у Вадьки, и он представил себе, как этот богатырь отбросит в сторону уже ненужную фляжку, хлопнет по Вадькиному плечу широкой крепкой ладонью и, озарив его дьявольски веселой улыбкой, скажет: «А он-таки поет, все поет, стервец!» — и Вадька снова увидит трепещущего в небе жаворонка.
Но лейтенант лежал не шевелясь, будто ему было очень удобно и приятно лежать в этой высокой траве и смотреть в небо, надеясь увидеть там неказистую серую пичугу с хохолком — птицу своего детства.
Вадька пристально смотрел на лейтенанта, все более сознавая, что теперь он не сможет уйти отсюда, бросив его. Но разве сможет он дотащить его до станции? Ясно, что на себе не сможет. Тащить волоком — не легче, да и раненый может не выдержать.
Вадька ухватился за бугристые плечи лейтенанта, пытаясь приподнять его. Каштанов застонал, прошептал что-то несвязное. Вадька просунул руки под мышки раненого, с силой потянул на себя. Ему едва удалось сдвинуть Каштанова с места. «Всего полметра, — огорченно подумал Вадька. — Долго придется тащить...»
С трудом он подтащил Каштанова к обочине большака. Надежда была именно на большак: вдруг появится кто-то из своих. Но никого не было видно. Лишь, уплывая к горизонту, тяжело, как море, колыхалось марево.
И тут пришла простая и, казалось бы, самая верная мысль, но он тотчас с испугом отверг ее. Мысль же заключалась в том, что можно, оставив лейтенанта одного под кустом, пойти на станцию и позвать на помощь. Конечно же, ему дадут машину или повозку, и он вернется, чтобы подобрать раненого и отвезти его в санбат. Идея!
Вадька подтащил лейтенанта к кусту, наломал ветвей и замаскировал его. Вылил из фляжки последние капли воды на горячее лицо раненого. Тот вздрогнул всем телом и приоткрыл глаза. Только сейчас Вадька совсем близко увидел его глаза — большие, по-кошачьи зеленые. Еще немного, и они оживут и поразят внезапно вспыхнувшим сиянием.
— Вы полежите, товарищ лейтенант, — надеясь, что Каштанов услышит его, и как бы оправдываясь перед ним, негромко сказал Вадька. — Совсем немного полежите. Я — мигом. Вот увидите!
Тяжелая голова лейтенанта медленно склонилась в сторону Вадьки.
— Ты... не бросай... меня...
— Нет, нет, не брошу... Никогда не брошу... Только сбегаю за подмогой!
Каштанов снова прикрыл глаза.
Вадька бросил взгляд на пистолет, высунувшийся из кобуры. Первым желанием было взять его с собой. Он вытащил пистолет и проворно сунул в карман. Почему-то не хотелось, чтобы это увидел лейтенант.
Уже идя по большаку, Вадька остановился в тяжелом раздумье. Ведь он оставляет раненого без оружия! Ну и что, это же ради самого Каштанова! Ему, Вадьке, пистолет нужнее, жизнь раненого сейчас зависит только от него. Будет жив Вадька, будет спасен и лейтенант. А вдруг, пока он бегает на станцию, резко изменится обстановка, внезапно появится противник, раненый будет обнаружен? Вот тогда-то ему и пригодится пистолет. Хотя бы для самого себя. Если не будет выхода.
Вадька неохотно вернулся к раненому, вложил пистолет в его немощную ладонь.
— На всякий случай, товарищ лейтенант...
— Не бросай... — вновь прошептали посиневшие губы раненого, и Вадьку потрясло то, что он произносит одно и то же, не веря ему.
— Не брошу! — громко воскликнул Вадька. — Вот увидите! — Он поймал себя на том, что тоже повторяет свои, уже сказанные прежде слова, будто не знает других.
Думая, что поступил правильно, Вадька пошел к станции. Задыхаясь, взобрался на бугор. Наскоро вытер рукавом гимнастерки взмокревшее лицо и чуть не вскрикнул от радости: впереди, в обрамлении старых лип и вязов, виднелось строение из красного кирпича. По всем признакам — и по частым столбам, на которых отсвечивали провода, и по желтой глинистой насыпи, похожей на срез слоеного пирога, и по водонапорной башне — это и была станция. Казалось, до нее рукой подать. Вадька ускорил шаг, а с бугра припустил бегом. Тяжелые кирзовые сапоги приковывали ноги к земле, следовало бы перемотать выбившуюся из-под ступни портянку, но Вадька не останавливался. Скорее к станции, там спасение и для него, и для лейтенанта Каштанова!
Он уже приближался к железнодорожному полотну, как раз в том месте, где через овраг с пересохшим ручьем был перекинут мостик, как со всех сторон его окатило ревом моторов. Это были очень знакомые звуки! В небо, несовместимо с его умиротворенностью и спокойствием, снова ворвались немецкие самолеты. Теперь их было больше — сколько, Вадька не успел сосчитать. Он лишь отчетливо видел черные цилиндры бомб, сыпавшихся из люков самолетов и косо, с коварной поспешностью устремлявшихся туда, где виднелись красное здание станции и деревянные домишки поселка. Взрывы — сразу в нескольких местах — ахнули один за другим, сливаясь в непрерывный грохот, и хотя солнце приглушало кровавые отсветы пламени, было ясно, что в поселке занялся пожар.
Вадька ожесточился. Упрямо решив не прятаться, он шел и шел, напрягаясь и тяжко дыша, к возникшему перед ним маленькому строению. Видимо, это была будка стрелочника.
Взглянув на самолеты, которые кружились над станцией и пикировали на нее, словно вознамерились стереть в порошок, Вадька подбежал к будке и сразу же увидел сорванную с одной петли дверь. Жалобно поскрипывая, она раскачивалась, подобно маятнику. Окна были вырваны взрывной волной, стены изрешечены осколками.
У порога лежал небольшой сверток, в цветастом тряпье. Вадька наклонился и оцепенел: сверток оказался запеленатым грудным ребенком с крохотным, как у куклы, лицом. Сперва он и подумал, что это кукла, но, присмотревшись, понял: ребенок! Глаза его, с пушистыми ресницами, были плотно закрыты, как они обычно закрыты у спящего младенца, губы крепко сжаты, а посиневшее личико искажено гримасой боли. Оно было застывшим, как маска.
Вадька неумело взял сверток на руки, пинком ноги отбросил дверь, освобождая проход, и перешагнул через порог. Глаза, привыкшие к слепящему солнцу, не враз разглядели сидящую на скамье женщину. Волосы ее были растрепаны, легкая белая кофточка сбилась набок, обнажая часть груди. Она что-то несвязно бормотала и, завидев Вадьку, вытянула к нему руки. Так просят милостыню.
— Дитё... дитё... — сквозь несвязную речь донеслось до Вадьки лишь одно отчетливо звучащее слово.
— Да, да, ребенок, — понятливо закачал головой Вадька, не зная, отдавать ребенка женщине или нет. Уж слишком пугающий, отрешенный вид был у нее. Она все так же недвижно сидела на скамье, точно была прикована к ней. Судорожное бормотание сменилось рыданием, она стала истово биться головой о сосновые доски, которыми была обшита стена. Сквозь раздирающий душу плач прорывалось одно и то же слово:
— Дитё... Дитё...
Вадька решился и протянул ей ребенка.
— Ребенок! Вот же ребенок! — громко сказал он, и женщина, вдруг приглушив рыдания, сжала ребенка ладонями и почти вырвала его из Вадькиных рук, будто он не хотел его отдавать. Сдернув с плеча кофточку, она обнажила тугую смуглую грудь и, прижав к нёй ребенка, вновь забормотала что-то бессвязное. Никогда еще Вадька не видел так близко оголенную женскую грудь и, хотя понимал, что в кормлении ребенка матерью нет ничего такого, что вызывало бы стыд, смущенно отвел глаза.
Мать тихо покачивала ребенка, ее резкие, горестные черты лица смягчились. Но лишь до того момента, как пристально всмотрелась в младенца. Беспокойство, схожее с паникой, появилось в ее взгляде. Она поднесла ребенка к лицу, отчаянно встряхнула, снова припала к нему губами и вдруг неудержимо и страшно засмеялась. В этом пугающем смехе непостижимо звучали, сливаясь воедино, безнадежное отчаяние и смертная тоска.
Вадька был поражен, что она все сильнее трепала ребенка, припадала к нему искаженными нечеловеческим смехом губами, а он по-прежнему не просыпался.
«Да он же неживой, он мертв», — вдруг осенило Вадьку, и он в ужасе выскочил наружу.
Смеркалось. На горизонте громоздились тучи. Накрапывал дождь. Остро пахло мазутом и мокрой пылью. «Недаром так пекло солнце — к дождю», — подумал Вадька, как будто это имело для него какое-то значение.
Он тяжело прислонился к дощатой стене будки, чувствуя, как сами собой подламываются налившиеся тяжестью ноги. Неотвязная мысль о том, что ему надо куда-то идти, сделать что-то важное, неуловимо ускользала, и Вадька, пытаясь поймать ее, сосредоточиться и принять решение, еще больше слабел и испытывал нервную растерянность. Перед глазами замаячили станция, самолеты, рухнувшая кирпичная стена, тучи огня, дыма и пыли. Ему же надо на станцию! Зачем? Кого он может спасти? Лейтенанта? Наверное, он уже не нуждается в спасении. Ребенка? Он мертв. Эту женщину? Ее уже не спасешь. Тогда кого же? Самого себя? Но зачем спасать себя после того, что произошло?
Вадька медленно и тяжело осел на мокрую землю. «А все-таки я остался жив», — теплой дрожью колыхнулось в душе, и он впал в гулкое, тревожное забытье.
...Вадька спал, не ведая, что два полка дивизии уже попали в окружение, штаб ее разбомблен, те из штаба, кто остался в живых, спасались бегством, а станцию заняла эсэсовская часть.
Урок немецкого
В полночь на землю опустился зыбкий тяжелый туман. Не верилось, что еще вчера свирепствовало раскаленное, как в пустыне, солнце.
Вадьке так и не удалось скоротать ночь. Что-то грубое, властное и жестокое оторвало его от стены железнодорожной будки. Не понимая, что с ним происходит, он в тревожном предчувствии открыл глаза. Рядом с ним в едва рассеивающейся темноте высилась рослая, почти монументальная фигура незнакомого солдата в каске. Вадька оторопел: немец! Солдат крепко, как клещами, вцепился в его плечо и бесцеремонно потащил куда-то в темноту. Ноги ощутили скользкие шпалы, глаза — смутное мерцание мокрых рельсов, и Вадька понял, что его ведут по насыпи, вероятно, в сторону станции.
«Ты же обещал лейтенанту вернуться, обещал не бросать его...» — сокрушенно подумал он.
Немец шел широким, размашистым шагом, по-хозяйски уверенно, как местный житель. Вадька невпопад ступал мимо шпал, спотыкался и затравленно глядел по сторонам, все еще веря в спасение.
Идти пришлось недолго, немец сошел с полотна и потащил Вадьку вниз, к смутно проступавшей в черном тумане грузовой машине с крытым верхом. Молча и почти без напряжения перебросил его через задний борт. Вадька шлепнулся о плотно сгрудившиеся в кузове тела людей. Кто-то грубо оттолкнул его, будто он был виноват в том, что его сюда впихнули. Съежившись, Вадька прижался к борту и затих.
Послышалась резкая команда на немецком языке, мотор тут же взревел, и машина тронулась. Вадька не столько видел, сколько угадывал убегающую из-под колес дорогу, время от времени жмурил глаза от всполохов осветительных ракет, дугой опоясывавших пространство, и совсем упал духом.
И вдруг совершенно отчетливо осознал весь ужас своего положения. Ведь он, младший сержант Красной Армии, попал в плен, попал позорно, вследствие своей полнейшей беспечности, даже не оказав врагу никакого сопротивления. На него надеялись, в него верили как в защитника, а он сам оказался в ловушке и не смог защитить не то что страну и народ, а даже лейтенанта Каштанова и женщину с мертвым ребенком на руках. Хорош защитник!
А что, если попытаться выскочить из машины? Нет, на таком бешеном ходу все равно разобьешься, да и конвоиры не дадут уйти. Лучше пока смириться, а потом уже действовать по обстановке. Может, и суждено ему спастись...
С кем же он едет в машине? Наверное, такие же пленные, как и он. Однако рассказывали, что немцы гонят пленных пешим порядком, а тут что за честь? Да, конечно же, он, Вадька, самый невезучий. Наверное, и Кешка, и Тим Тимыч, и Мишка сейчас при деле, воюют, как и положено, а он не успел сделать ни одного выстрела по врагу. Что может быть постыднее?
Эти думы, вызывавшие тернистые муки совести, были страшнее, чем мысли о смерти. Вадька как бы попал совсем в другой мир, на какую-то другую планету, и это молнией перечеркнуло все его прошлое и будущее, мечты о доблести и славе.
...Ехали недолго, но и за этот, показавшийся годом час Вадька вдоволь настрадался. Кузов был битком набит людьми, Вадьку спрессовали, прижали к заднему борту, руки и ноги онемели. Слышались стоны, надрывный кашель, негромкая ругань. Кто-то гадал: куда везут, зачем, на что получил ответ, высказанный с усмешкой:
— Известно куда — в санаторий. Персональный лежак на пляже. Меню из десяти блюд. Брюхо приготовь!
От этой недоброй усмешки Вадьке стало не по себе, но он тут же поймал себя на мысли о том, что завидует этому человеку, его воле и выдержке.
Шофер, видимо, резко ударил по тормозам, машина дернулась как припадочная и остановилась. Конвоир что-то пролаял, что — Вадька не разобрал, но пленные принялись прыгать из машины. Подталкиваемый задними, он тоже вывалился за борт и не смог устоять на онемевших, будто чужих, ногах.
Вроде бы рассветало, но стойкий туман не давал пробиться свету. Было сумрачно, отовсюду — с деревьев лесопосадки, с брезентового верха грузовика, с кустов — беспрерывно и монотонно капало, и это усиливало тоску.
Передние тронулись с места и вразнобой пошли куда-то вперед, за ними подавленно, молча двинулись остальные. Вадька смешался с этой массой людей и теперь по пилоткам, по гимнастеркам понял, что это свои. Они были такими же юнцами, как и он. Немного отлегло от сердца: значит, не он один...
Группу пленных, которую привезли в машине, соединили с другой, еще большей по численности, и погнали по глинистому большаку. Когда туман стал редеть, Вадька по маячившему кругу солнца определил, что гонят их на запад.
...Через день, уже в сумерках, когда колонна пленных прибрела к большому селу с церковью на взгорье, конвоиры отобрали от группы два десятка человек и приказали построиться в две шеренги. Среди них оказался и Вадька.
Стоять было не менее трудно, чем идти. Те, что посильее, поддерживали слабых за плечи. Во время движения срабатывала инерция, а сейчас земля тянула к себе с отчаянной силой. Подламывались колени, дрожали мускулы.
Солнце, падавшее за горизонт, было багровым. К пленным, выстроившимся неровной, шаткой шеренгой, с крыльца большого кирпичного дома (потом Вадька узнал, что это была школа) слишком торжественно, как для приема парада, спустились два немецких офицера — оба одинаково высокого роста, издали схожие между собой, как близнецы. За ними, поотстав на почтительное расстояние, угловато и торопливо спешил тоже высокий, гибкий, как хлыст, худощавый паренек в немецкой военной форме, без погон и головного убора. Вадька ожидал увидеть разъяренных, жестоких зверей, тут же откроющих пальбу по живым людям, но, к его изумлению, офицеры приблизились к пленным с улыбкой на лицах, в которой светилось доброжелательство и которая обычно появляется у людей, желающих поздравить с каким-то приятным событием.
Офицеры остановились точно посредине строя, и теперь Вадька заметил, что, несмотря на казавшуюся схожесть, их лица резко отличны. Тот, что стоял несколько впереди и, видимо, был старшим, сразу же запоминался по резко очерченному, крутому подбородку, впалым, с синевой, щекам аскета и темным провалам глаз. Второй был круглолиц, румян, добродушен и больше походил на русского.
Худощавый, глядя куда-то поверх людей, заговорил. Вадька вслушивался в его слова, пытаясь понять, что он говорит, и тут же услышал, как кто-то с левого фланга услужливо произнес на чистом русском языке:
— Господин майор сказал, что он рад поздравить всех вас с окончанием войны. Точнее, с тем, что для вас война уже закончилась. Победоносная немецкая армия успешно наступает. В мире нет силы, которая способна ее остановить. Отныне вы будете служить германскому рейху. Но господин майор удивлен, что вы, солдаты регулярной армии, имеете такой плохой внешний вид и в вашем строю нет должного равнения и истинной военной выправки.
С того момента как зазвучал этот голос, Вадька уже не мог заставить себя вникать в смысл произносимых слов, потому что главным сейчас был не смысл, а
звучание. Голос был поразительно знаком ему до последнего звука!
Вадька стоял во втором ряду, хорошо видеть того, кто переводил речь майора, ему мешал высокий широкоплечий боец, и все же он, вытянув шею,
увидел. Увидел и в изумлении тряхнул головой, как бы сбрасывая с себя кошмарное видение: речь немецкого майора переводил человек, поразительно похожий на Кешку Колотилова!
Конечно же, это он — и точеный, древнеримский профиль лица, и льняные, светлые волосы, мелкими волнами шевелившиеся на предзакатном ветерке, и особенно голос — с переливами приятного бархатистого тембра, — все это было
его. И все же Вадька никак не мог заставить себя поверить в то, что это именно Кешка, хотелось убедиться, что все же это не он, а совсем другой человек. Это желание было столь необходимым, что Вадька боялся смотреть в сторону переводчика, чтобы окончательно не развеять надежду на то, что обознался. Он уже не мог осмыслить того, о чем, все более распаляясь, говорит немецкий майор, и того, что переводил этот парень, так похожий на Кешку.
Вадька очнулся только тогда, когда майор в третий раз повторил один и тот же вопрос, а переводчик в третий раз перевел его на русский:
— Господин майор спрашивает, кто из вас коммунисты. Он приказывает выйти на два шага вперед.
Строй молчал. Второй офицер, еще радужнее улыбаясь широким ртом и до предела растягивая сочные мокрые губы, обронил что-то снисходительно и мягко.
— Господин капитан сказал, что вы еще слишком молоды, чтобы быть коммунистами.
Майор, слегка обернувшись к нему, небрежно кивнул в знак согласия, и его фуражка, напоминавшая громадный петушиный гребень, колыхнулась. Он снова что-то повелительно и резко спросил, и Вадька подивился тому, что переводчик превращает резкие, чеканные, как удары стального резца о камень, слова майора в спокойные, нейтральные и даже доброжелательные фразы.
— Господин майор спрашивает, кто из вас комсомольцы. Он приказывает выйти из строя.
Снова никто не вымолвил ни слова, и тогда Вадька, в упор глядя на переводчика и подчиняясь внутреннему зову, хлопнул по плечу впереди стоящего бойца. Тот вздрогнул и не понял. И тогда Вадька тихо сказал:
— Дай выйти...
Боец, как положено по уставу, сделал шаг вперед и вправо, освобождая Вадьке дорогу.
Собравшись в комок, чтобы не показать свою беспомощность, Вадька вышел из строя и спокойно взглянул в лицо майору. Потом, позже, он мысленно спрашивал себя, что побудило его поступить именно так, а не иначе. И понял, что даже самому себе трудно было ответить однозначно. В самом деле, что? Хотел доказать, что война для него не окончилась, что это и будет
его первым выстрелом на этой войне? Ведь не надо было напрягать ум, чтобы понять: ничего хорошего не ждет его здесь после того, как он признается в своей принадлежности к комсомолу. Так что же? Решил очистить свою совесть, кровоточившую от того, что не спас лейтенанта Каштанова, не спас мать мертвого ребенка и, наконец, не спас даже самого себя и глупо попался в лапы к врагу? А может, прежде всего потому, что здесь же, но уже по ту сторону непроходимой и незримой границы стоял Кешка Колотилов? Или главное было в том, что в кармане гимнастерки, возле сердца, лежал комсомольский билет? Наверное, главным было все, вместе взятое.
Вадька снова метнул взгляд в сторону переводчика. Кажется, ничто не дрогнуло в лице парня, столь схожего с Кешкой, и ничем — ни жестом, ни мимикой — он не подтвердил предположения Вадьки. И он снова засомневался, Кешка ли это или же его двойник. Бывают же на свете двойники!
Вадька не вдруг понял, что он стоит уже не один, что рядом с ним, все так же нестройно, но все той же шеренгой, стоят остальные пленные.
— Господин майор спрашивает: значит, все вы — комсомольцы и только один не комсомолец?
Вадька оглянулся. Позади строя остался стоять долговязый рыжий боец. Угрюмая, вызывающая усмешка кривила его красивое, нагловатое лицо. «Наверное, не понял команды? — подумал Вадька. — Или глухой?»
— Все вы, комсомольцы, будете сегодня расстреляны. В живых останется только тот, кто не считает себя комсомольцем.
Рука майора стремительно простерлась вперед, словно указывая цель, и он торжествующе рассмеялся. Смех его тотчас же подхватил капитан, и было очень похоже на то, что они увидели веселую, более того, презабавную сценку, которую пленные разыграли перед их очами.
Нахохотавшись, капитан что-то негромко сказал майору, тот утвердительно, с важностью кивнул, и обостренный слух переводчика успел уловить короткий диалог. Запинаясь, он перевел:
— Господин капитан сказал, что надо пощадить и того... кто осмелился первым выйти из строя и... не побоялся назвать себя комсомольцем. Храбрость заслуживает уважения. Господин майор согласен с господином капитаном.
Слово «господин» в устах парня, как две капли воды похожего на Кешку Колотилова, звучало неестественно, без должного в таком случае подобострастия и даже с чуть заметной долей иронии (видно, после привычного «товарищ» он никак не мог перестроиться на «господин»), но затаенная, глубинная ненависть и к нему самому, и к тому, что он переводил, и к приятному, бархатистому тембру его голоса уже прочно и неотвратимо утвердилась в душе у Вадьки. Вот только бы окончательно убедиться, Кешка это или кто-то другой...
Сгущавшиеся сумерки еще более затрудняли сделать решающий вывод. Вадьке вдруг мучительно захотелось, чтобы все так и осталось в неизвестности. И лучше, если Кешка тоже не узнает своего бывшего друга.
Его и впрямь было сейчас трудно узнать. И без того не богатырь, он превратился в живые мощи — кожа да кости. Запавшие глаза с диковатым, болезненным блеском. Гарь и следы грязных потеков на скулах.
— Господин майор задает вам последний вопрос, — будто издалека снова послышался голос переводчика. — Кто из вас владеет немецким языком? Конечно, он очень сомневается, что в такой дикой азиатской стране есть индивидуумы, знающие такой великий язык, но все же решил спросить. В жизни бывают и чудеса! Значит, таких нет? Тогда вы должны честно ответить, кто из вас изучал немецкий язык в школе?
Какой-то злой дух обуял Вадьку, и он, как на уроке в школе, нетерпеливо и с ученической готовностью поднял руку.
На лицах офицеров, как по команде, засияли улыбки, обозначающие не то удивление, не то восхищение тем, как вел себя этот еле державшийся на ногах изможденный русский сержант.
Майор тут же что-то спросил, фраза была очень простая, знакомая Вадьке по школе: он интересовался именем и фамилией. И Вадька, стараясь опередить переводчика, ответил. Ему не хотелось, чтобы Кешка или даже человек, похожий на Кешку, назвал его раньше, чем он сам назовет себя.
— Ратников. Вадим.
Говорить было невмоготу, но Вадька назвал имя и фамилию как можно разборчивее, чтобы не оставалось сомнений и чтобы его не переспрашивали. И взглянул на переводчика: неужто тот и сейчас ничем не покажет, что узнал.
Сумерки помешали ему выяснить это.
— Ратников? — хрипловато, простуженным баском все же переспросил капитан и вдруг продолжил на чистейшем русском языке: — Это что же, от слова «рать»? — И, не ожидая ответа и не скрывая радости, что поразил всех этих пленных знанием русского языка, заключил: — Воинственная фамилия! Я беру его!
Он тут же повторил эти слова по-немецки, видимо, специально для майора. Тот заученно кивнул, как кивают на дипломатических приемах.
— Иди ко мне! — Капитан поманил Вадьку пальцем, как обычно манят собачку.
Вадька нерешительно переминался с ноги на ногу.
— Ты голоден? — почти участливо спросил капитан и сам подошел к Вадьке, но не вплотную, а остановившись на некотором удалении.
Вадька молчал, отводя невидящие глаза в сторону.
— Франц, накормить его! — приказал кому-то капитан. — И пусть отдохнет. — Он подумал и добавил: — Час. Только один час. У меня нет времени. Потом приведешь ко мне.
Переводчик молчал, то ли не решаясь переводить, то ли сознавая, что эти слова относятся к немцу, а не к русским. И все же Вадька понял почти все, что сказал капитан. К нему вдруг вернулось обостренное восприятие чужого языка, и все то, что в школе, словно по полочкам, располагалось по падежам, склонениям и спряжениям, начало обретать какой-то очень важный в теперешнем его положении смысл.
Тут же к нему подбежал уже немолодой солдат (видимо, это и был Франц), слегка поддал ему кулаком между выпиравшими под гимнастеркой острыми лопатками и повел с собой.
— Всех остальных расстрелять! — услышал Вадька схожий с железным скрежетом голос майора.
— Как? Но он не комсомолец, — сказал капитан.
— И его тоже! — жестко и непререкаемо воскликнул майор. — Если он не был предан своей стране, то не будет предан и рейху!
— Прекрасная мысль! — одобрил капитан. — И прекрасная логика, Вилли!
Солдат ввел Вадьку в какую-то каморку в подвале школы, включил переносной фонарь. Вадька увидел колченогую табуретку, поленницу дров, метлы из веток. Не ожидая разрешения, сел. Не верилось, что сидит: в пути конвоиры почти не разрешали им садиться. Стоило нарушить этот приказ, и ослушник получал пулю.
Солдат отлучился на несколько минут и принес котелок, одна стенка которого была вогнутой, чтобы удобнее приторачивать к бедру. Вместе с котелком сунул Вадьке алюминиевую ложку. Солдат все время молчал, будто был лишен языка. Вадька радовался этому молчанию. Он принялся за еду — что-то похожее на гороховую похлебку. Челюсти сводило судорогой, горло перехватывали спазмы, но он ел с жадностью. Не верилось, что можно съесть все, что налито в котелке. Минута-другая, и котелок был пуст.
Все так же молча солдат привел Вадьку в школу. Пока они поднимались по ступенькам, Вадька, еще не очнувшийся от сна, услышал дальние отзвуки орудийной пальбы. Он огляделся. Стояла темнота, звезды на небе совсем не просматривались, и трудно было понять, в какой стороне стреляют. Мелькнула надежда: «Может, наши наступают, пробьются сюда, выручат?.. Собственно, кого выручат? Тебя одного? Тех, остальных, что вслед за тобой сделали два шага вперед, уже, наверное, нет в живых...»
Вадьку шатало, саднило от рези в желудке, было такое состояние, будто он вовсе и не отдыхал — хуже, чем до сна. Он предположил, что его ведут на допрос — не зря же ему разрешили отдохнуть, чтобы ворочался язык. Едва волоча ноги, Вадька вошел в комнату, куда ему указал солдат, и слегка прищурился от неяркого, давно забытого света большой керосиновой лампы, стоявшей на столе. И сразу же до трепета в груди понял, что стоит в школьном классе — об этом ясно говорили и классная доска, и запах мела, и маленький глобус на тумбочке, и одинокая парта, на которой — Вадька был убежден — есть надписи и символы, вырезанные учениками перочинными ножичками. Сам он никогда не резал парт ножичком, но писать на крышках — писал, а с того дня, как влюбился в Асю, приходил в школу после занятий и, стараясь остаться не замеченным уборщицей, садился за ту парту и на то самое место, на котором сидела Ася, надеясь обнаружить что-либо относящееся лично к нему, хотя бы свои инициалы или слабый намек на тайные чувства Аси...
Солдат жестом указал Вадьке сесть за парту, и он сел, ощутив знобящую тоску по своей школе, по юности, низвергнутой сейчас в черную пропасть.
Он тут же услышал четкие, уверенные шаги и увидел, как из тьмы, схожая с привидением, возникла фигура капитана. Он был бодр, жизнерадостен и, казалось, испытывал искреннее чувство радости оттого, что проявил неслыханный гуманизм — накормил этого азиата и даже разрешил ему вздремнуть.
Капитан удобно, с хозяйской основательностью, уселся за стол. В желтоватом вздрагивающем свете лампы его круглое, пышущее здоровьем и крепкозубой улыбкой лицо показалось Вадьке добродушным, участливым, напоминало лицо завуча Михаила Андреевича — настолько было похоже, что капитан — это вовсе и не капитан, а учитель, которому доставляет большое удовольствие его работа и который бескорыстно любит своих учеников.
— Итак, Ратников, — его истинно русское произношение опять-таки побуждало отвлечься от сознания того, что эти слова произносит человек в форме капитана германской армии, — я буду с вами беседовать. Но для хорошей беседы нужен хороший контакт, поэтому будет лучше, если я буду говорить на «ты». Хорошо?
«Какой вежливый», — подумал Вадька, горестно думая о тех, остальных, которых майор приказал расстрелять. И промолчал.
— Да, конечно, на «ты» будет гораздо лучше, — как бы убеждая самого себя, сказал капитан. — Моя фамилия — Отто Галингер. Военный корреспондент газеты «Фелькишер беобахтер».
— Знаю, — вдруг выпалил Вадька. — Центральный орган фашистской партии.
— У тебя прекрасные познания, — обрадовался Галингер. — Это облегчает наш разговор. Я задам тебе много вопросов, на которые ты должен отвечать честно и откровенно. Русские говорят, что журналиста, особенно газетчика, как и волка, кормят ноги. До войны я встречался с русскими журналистами, у меня среди них были даже друзья. Детство я провел в России, в Поволжье. Кроме репортажей с фронта я собираю материал для книги, которая выйдет в свет к нашему вступлению в Москву. Взятие Москвы точно спланировал фюрер. Майор Вилли Кранценбах — мой хороший друг, и я уговорил его, чтобы он не расстреливал тебя. Я убедил его также и в том, чтобы он тебя не допрашивал. Какой толк, сказал я ему, от допроса какого-то младшего сержанта, который, я уверен, не успел убить еще ни одного немецкого солдата. Скажи, я был прав?
— Нет, — упрямо сказал Вадька. — Я — командир орудия и уже две недели в составе своей батареи вел огонь по противнику.
Вадька сознательно выдал этому жизнерадостному корреспонденту тираду, сущность которой не совпадала с реальностью. Но ему очень захотелось сделать так, чтобы капитан не обращался с ним как с молокососом.
— Люблю смелых, отчаянных парней, — еще более воодушевился Галингер, чем вновь вызвал досаду у Вадьки. — Но даже если все сказанное тобой — правда, кому нужны сведения о жалкой батарее, которая сейчас вместе с вашими дивизиями находится в железном кольце окружения, а наши войска совершают свой прыжок на Москву. Ты интересуешь меня совсем по другим причинам. Мне важно знать два фактора: душу славянина и фундаментальные истоки его поступков. Русские сражаются храбро. Это могут отрицать только кретины. Я иду с войсками от самой западной границы, видел, как оборонялись ваши пограничники. Я бы каждому поставил памятник за геройство. Русские дерутся до последнего патрона. И потому я хочу исповедовать русских людей разных категорий — от солдата до генерала. Только поняв фундаментальные мотивы их поведения, мы сможем успешно руководить такой сложной и загадочной страной, как Россия.
— Значит, вы меня... как подопытного кролика? — нервно спросил Вадька. — Но я не совершил ничего героического.
— А кто первым вышел из строя? — улыбнулся Галингер. — И давай договоримся: если я к тебе всей душой, то ты веди себя так, чтобы не всей спиной. — Голос Галингера зазвучал переливчато. — Меня мало интересует твоя анкета. Имя и фамилию ты уже сообщил. Год рождения, как я думаю, двадцать первый или двадцать второй...
— Двадцать второй, — сказал Вадька. Ему не хотелось продолжать этот неприятный для него разговор. Что толку, что улыбка, обходительность, вкрадчивая речь? Все равно же расстреляют, возиться не будут.
— Девятнадцать лет... — задумчиво произнес Галингер, причмокнув сочными губами, которые он время от времени стремительно облизывал кончиком языка. — Прекрасный возраст! Пора надежд и мечтаний! Адская устремленность в будущее! Думаю, что русский?
— Русский.
— А кто отец, мать?
— Отца нет. Отчим. Оба — учителя.
— О, культурная семья! Приятно беседовать с человеком из культурной
семьи. Хорошо. Что ты думаешь о немецкой нации?
— Сейчас ничего хорошего не думаю, — угрюмо ответил Вадька, сжав ладони до хруста в пальцах.
— Почему?
— Так ведь ежу понятно. Мы же вас не звали в гости. А вы пришли. И не нападали на вас. А вы — напали.
— На планете не могут существовать два диаметрально противоположных строя. Один из них должен быть уничтожен. Тот, который слабее и не имеет будущего. Ваш строй. В борьбе за существование он не может одержать победу. Почему? Вы — общество донкихотов. Нация, состоящая из людей, которые обладают крайней чувствительностью и патологической страстью к состраданию. Я бы сказал, что вы не просто сострадаете, вы
исступленно сострадаете. Вы все время жаждете кого-то спасти, кому-то помочь. Вы ринулись спасать Испанию, Абиссинию. Потом — Монголию. Зачем? Сострадание — это слабость души, ее позор. Это гибель для нации. Человечество ценит только силу и могущество. Диктатуру хорошей дубинки. Тогда оно безропотно повинуется тем, кого история избрала быть повелителями. — Он расслабился, наслаждаясь произведенным впечатлением. — Еще вопрос: как ты оцениваешь немца как человека?
— По-разному, — решительно ответил Вадька. — Есть немец Фридрих Энгельс. И есть немец Адольф Гитлер.
— Диалектика? — несмотря на прямоту Вадьки, Галингер не поступился ни малой долей своего оптимизма и не раздражался. — Я знаю, русские думают о нас как о варварах. Да, мы разрушаем все, что должно быть разрушено. Мы сжигаем на кострах книги Толстого и Гете. Для того чтобы, преодолев нижний уровень культуры, разжижающий человеческий мозг и порождающий слюнтяйство, создать культуру высшего порядка. Я сам бросал эти книги в костер и наслаждался тем, как огонь пожирал ядовитые страницы. Чтобы родились новые книги, в которых нет самоистязаний, сомнений и слякоти. Кто способен страдать и проливать слезы — тот не имеет права на жизнь. Копание в собственной душе приводит к параличу воли. Мы противопоставляем этому стальную решимость! Ваши книги хотят научить людей быть героями. Чушь! Для этого нужно прочесть всего две книги: Библию и «Майн кампф». Было время, когда я тоже пытался сострадать. Плакал, читая о Неточке Незвановой. Теперь я презираю себя за это. И вытравил ржавчину из души. — Он ослепительно улыбнулся, как бы показывая, что совершенно здоров, и отсвет горящего фитиля скользнул по его глянцевито сверкнувшим крепким зубам. — Однако у меня осталось совсем мало времени. Меня интересует и такой вопрос: твоя любимая книга?
— «Разгром» Фадеева, — не задумываясь, ответил Вадька.
— Да, я читал. А любимый образ? Левинсон, Метелица, Мечик?
— Мечик? — удивленно переспросил Вадька. — Вы это серьезно?
— Почему нет? Сложная душа, дух противоречия, нравственные метаморфозы...
— Вот именно, метаморфозы, — не дослушав, язвительно, едва ли не передразнивая Галингера, сказал Вадька.
Он сидел, обреченно опустив голову, лишенный сейчас каких-либо желаний, кроме одного — чтобы поскорее кончалась эта комедия, которую Галингер называет беседой. Захотел исповеди? Неужели ему и без того не ясно?
— Значит, Левинсон? Или Метелица? — не столько спрашивая, сколько утверждая, произнес Галингер. — Ну, хорошо, вы все учились на таких книгах, и чего же вы достигли? От первого нашего удара Советы рассыпались как карточный домик. И скоро будут окончательно повержены в прах. Славянская душа способна лишь на самоистязание, на бесплодные поиски истины, на вечное рабство у совести. Мой знакомый офицер рассказал такой факт. Один молодой русский пехотинец, совсем еще мальчишка, во время боя пытался своей шинелью сбить пламя на вспыхнувшем комбинезоне раненого немецкого танкиста. Танкист выжил, а русский погиб, потому что получил пулю от спасенного. Я не могу понять этого русского. Как это следует классифицировать? Как бунт против железных законов войны и жизни? Как игру в героизм?
Он помолчал, ожидая, что Вадька поможет ему найти ответ, но тот молчал. Нервы его были наэлектризованы, как если бы через тело пропускали ток высокого напряжения.
— Не надо играть в героев, — наставительно продолжал Галингер. — Ты назвал себя комсомольцем. Хотя мог бы скрыть. Почему не скрыл?
— Такое не скрывают, — сердито ответил Вадька, удивляясь непонятливости Галингера.
— Но какой же ты комсомолец? Комсомольцы в плен не сдаются. У тебя нет даже легкого ранения.
— Да, я опозорил честь комсомольца, — не столько Галингеру, сколько самому себе спокойно сказал Вадька. — Правда, у меня не было оружия. Но это не оправдание.
И снова его обожгла мысль: был пистолет, но он оставил его лейтенанту Каштанову, которого обещал не бросить. А выходит, бросил!
— Наполеон, — как бы рассуждая с собой, сказал Галингер, — перед отъездом на Эльбу решил покончить с собой. Он принял яд, корчился в адских конвульсиях и кричал: «Как трудно умирать! Как легко было умереть на поле битвы!»
— Он абсолютно прав, хотя и Наполеон, — прокомментировал Вадька.
Ему вдруг пришла на память когда-то очень поразившая его мысль Толстого, что жизнь человека — это приготовление к тому, чтобы достойно встретить смерть.
— Какие явления жизни ты оцениваешь со знаком плюс и какие — со знаком минус?
Вадька задумался.
— Трудный вопрос?
— Не такой уж трудный, — все более уверяясь в правоте того, что говорит, сказал Вадька. — В любом явлении есть и плюс и минус.
— О, это интересно! Ты можешь конкретизировать?
— Да, в любом. И в самом прекрасном, и в самом низменном.
— Даже в низменном — плюс?
— Да. К примеру, фашизм. Его плюс в том, что он вызывает только одно чувство — ненависть. А это побуждает к борьбе.
— Ты очень рискуешь навлечь на себя мой гнев. За такие слова отправляют на эшафот.
— Или, к примеру, то, что я попал к вам в плен, — словно не расслышав этого предупреждения, продолжал Вадька. — Тоже есть плюс. Лично для меня. Я смог узнать, кто такие фашисты. Не из книг — из своего опыта.
— Не будем продолжать эту опасную тему. Я могу выйти из терпения. Вилли уже бы пристрелил тебя.
Галингер взглянул на часы и с сожалением развел руками.
— Последний вопрос, — сказал он, вставая, и теперь его лицо едва просматривалось — свет лампы не доставал до него. — У тебя есть просьбы?
— Одна, — торопливо ответил Вадька, боясь, что капитан уйдет, так и не услышав его желания. — Скажите, как зовут вашего переводчика?
— Переводчика? — оживился Галингер, будто Вадька сказал что-то приятное. — Это Вилли его раскопал. Имя... имя... Вертится на языке. Впрочем, если хочешь, я сейчас его пришлю. Это умный парень, умеющий оценивать обстановку. Он нигде не пропадет! Думаю, ты последуешь его примеру. Все, чем ты жил, во что верил, — все исчезло. Ты живешь мифом. Не надо жить мифами! Не надо играть в героев!
Неожиданно в класс ворвался Кранценбах. От его порывистого движения возник ветерок и с кнопки, шурша по стене, сорвался верхний край географической карты.
— Отто, хватит, я сыт по горло твоими экспериментами. Через полчаса мы выступаем. Я приглашаю тебя на легкий завтрак.
— У русских это называется «посошок на дорожку», — снисходительно объяснил Галингер, обращаясь не столько к майору, сколько к Вадьке, будто тот не был русским и не знал русских обычаев. — Хорошо. Мы продолжим беседу в подходящий момент.
Он тут же перевел все это на немецкий специально для Кранценбаха, и оба расхохотались так, как хохочут, когда услышат новый скабрезный анекдот.
Они поспешно вышли из класса, где-то в конце коридора постепенно утихли их громкие и четкие, как на строевом плацу, шаги, и Вадька обернулся к двери, все еще не веря, что в нее войдет Кешка Колотилов.
Когда кто-то появился в проеме двери, Вадька понял, что вошел тот самый переводчик, но теперь он вовсе и не был похож на Кешку. Он неслышно, будто подплыл, приблизился к парте и произнес точно таким голосом, какой каждый день звучал на уроках и на переменках в средней школе, что на Степной улице:
— Здравствуй, Вадька!..
Вадька отшатнулся от него, как от прокаженного. Уже очень давно, с той минуты, как он сел в эшелон на нальчикском вокзале, его никто не называл этим ребячьим именем. Даже друзья, надев военную форму, еще там, в роте писарей, стали величать его Вадимом. Величал и Кешка. Хотя их великий начальник и уставник — ефрейтор не терпел панибратства. И вдруг как с Марса: «Вадька...» Значит, все-таки Кешка!
— Что же ты молчишь? — нетерпеливо и горячо, вполголоса говорил Кешка. — У нас всего несколько минут.
— А я уже наговорился. Досыта, — не глядя на Кешку, ответил Вадька.
— Ты? Наговорился? Да я все через окно слышал. Ты не больше трех минут говорил. В общей сложности. Тоже мне, Спиноза. Я время засекал.
— Ты уже все подсчитал... — сожалеюще проговорил Вадька. — И все рассчитал до конца жизни.
— О чем ты? Если вот это... — Кешка дрожащими пальцами схватился за отвороты немецкого кителя, — так это... — он зашептал Вадьке в самое ухо, — это маскировка.
У меня пока не было выхода. Я собираю ценные сведения. Сколько танков, орудий... И смогу передать нашему командованию...
— Когда? — Вадька отстранился от горячего дыхания Кешки. — Когда они у стен Москвы окажутся?
— И ты соглашайся, — уже громче, настойчивее заговорил Кешка. — Иначе — расстрел. Они не чикаются. А кому мы нужны мертвые? Это самое страшное.
— Самое страшное не это, — задумчиво сказал Вадька.
— Что же?
— Вот так, по-дурацки, погибнуть. Ничего не сделав для победы.
— Победы?! — Выпуклые глаза Кешки отражали желтое пламя лампы и потому тоже казались желтыми. — Ты что, слепой? Это же нашествие! Это же как Чингисхан! Украина у них, Белоруссия, скоро — Москва.
— А Москву ты не трогай, — непримиримо сказал Вадька. — Не трогай Москву. Увидишь — звоном началось, звоном и кончится.
Кешка пытался сесть за парту рядом и даже обнять Вадьку за плечи, но тот вырвался и вскочил на ноги.
— Не смей, или я ударю тебя, — глухим, неузнаваемым голосом предупредил Вадька. — Силы у меня нет, но все равно ударю.
— Неужели ты все еще не понимаешь самой простой истины? Уже нет прошлого. Его не вернешь. Разве вернешь то, что было тогда, на Урвани? Нет будущего. Потому что мы ничего не знаем о нем. Разве я мог даже предположить, что попаду в плен? Есть только настоящее, только вот этот миг. И ничего больше!
— Я помню: ты был паяцем. Был циником. Но что-то не помню, чтобы ты был философом.
Кешка хотел возразить ему, но в этот момент в классе появились Кранценбах и Галингер.
— Хорошего понемножку! — почти пропел Галингер. Видимо, «посошок на дорожку» еще более взбодрил и воодушевил его. — В заключение один эксперимент! — торжественно объявил он. — Я заключил пари с майором Кранценбахом. Блицурок немецкого языка! Тебе, — он ткнул пальцем в Кешку, — и тебе, — такой же жест в сторону Вадьки, — надлежит написать одну и ту же фразу на немецком языке. Вот мел. Прошу к доске!
Кешка взял кусочек мела и встал у доски, как это часто бывало и там, в средней школе на Степной, на втором этаже, в классе, что в конце коридора, налево.
— Пиши! — громогласно, точно вручая Кешке награду, провозгласил Галингер и продиктовал: — «Русские должны умереть, чтобы жили мы». По-немецки!
Кешка диковато оглянулся на стоявшего поодаль Вадьку и судорожно, ломая мелок, принялся писать. Поставив точку, перевел дух.
— Черня Давыдовна поставила бы тебе двойку, — спокойно отметил Вадька. — В одном предложении ты сделал три ошибки. А еще переводчик!
Кешка рукавом вытер пот со лба.
— А теперь ты, — приказал Галингер.
— Что? — не понял Вадька.
— Напиши это же предложение. Но без ошибок.
Вадька протянул руку за мелом. Кешка проворно сунул его в ладонь. Офицеры с напряженным вниманием, как если бы перед ними разыгралась испанская коррида, смотрели на Вадьку.
Вадька подошел к распахнутому окну и, размахнувшись, швырнул мел в темноту.
— Очень хорошо, — почти ласково произнес Галингер. — Теперь я не смогу спасти тебя.
— Я выиграл пари, Отто! — радостно вскричал майор. — Я был прав! Ты ничего не докажешь этому ублюдку, так как он — большевистский фанатик!
Вадька понял почти все, что сказал Кранценбах.
— Что ж ты не переводишь, господин переводчик? — спросил Вадька, повернувшись лицом к Кешке. — Переводи! Не хочешь? Тогда я тебе скажу по-русски. Помнишь школу? Какое слово ты написал первым на такой же доске? Забыл? Ты написал «ма‑ма». А потом ты написал «Ро-ди-на». Забыл? А теперь, даже если останешься жив, ты мертвец. Можешь перевести своему господину майору. Как его там — Кранценбах или Кранценберг?..
И пошел к двери. Он не знал, куда идет и зачем. Спускаясь по ступенькам крыльца, он услышал, как за спиной коротко лязгнул взведенный курок пистолета.
Вадька не остановился. Сейчас ему было страшно только оттого, что о его гибели не узнают ни мама, ни Ася, ни Антонина Васильевна, никто. Наверное, мама получит извещение о том, что младший сержант Ратников Вадим Павлович пропал без вести.
Остановившись посреди школьного двора, он услышал отчаянный вскрик Кешки:
— Не убивайте его! Не убивайте!
Усмехнувшись, Вадька брезгливо подумал: «Просит, как за себя...»
Он знал — сейчас прозвучит выстрел. Очень не хотелось умирать, и он даже за мгновение жизни отдал бы сейчас все, кроме того, что требовал от него Галингер. Сейчас Кранценбах выстрелит, и самое непоправимое будет в том, что в тот же миг не станет Аси, не станет мамы, школы и даже Кешки, с которым они вместе закончили десятый, вместе вступали в комсомол, вместе пошли в армию, и вот понадобилась война, чтобы разъединить их навсегда.
Вадька понимал, что чуда не произойдет и выстрел прогремит неминуемо. Но почему-то не хотелось умирать сейчас, когда еще не забрезжил рассвет и тьма, как бы приготовившись ополчиться на него, стала почти непроницаемой. Наверное, легче бы было расставаться с жизнью, если бы над дальним горизонтом показался хотя бы краешек такого желанного солнца, и тьма в панике ринулась бы прочь, и в небо взмыл первый жаворонок — тот, который напомнил детство лейтенанту Каштанову.
— Может быть, не сейчас? — раздался голос Галингера. — Возьмем его с собой. Любопытный субъект. Он может нам пригодиться.
— Неисправимый щелкопер! — взорвался Кранценбах. — Кто будет с ним возиться в то время, как мы идем на Москву? У тебя еще будут сотни таких экземпляров, если ты не устанешь их исповедовать.
И он прицелился в Вадьку...
Эпилог
В одной из передач, посвященных Дню Победы, по телевидению показали вроде бы самую обыкновенную фотографию, которую прислал майор в отставке Гавриил Петрович Полянский. Он сообщил, что фотография эта хранится у него с самой войны, что найдена она была в кармане гимнастерки у убитого младшего сержанта-артиллериста. Ветеран высказывал надежду, что, возможно, найдутся люди, которые узнают изображенных на ней четверых юношей, тем более что на обороте фотографии есть пометка: «Нальчик, июнь 1940 года».
И как это нередко бывает, случилось чудо. Первым откликнулся кавалер трех орденов Славы Иван Анисимович Гридасов. Он утверждал, что узнал на снимке бойца стрелковой роты Михаила Синичкина, с которым вместе выполнял задание по уничтожению немецкого танка на высоте 261,5 в начале июля сорок первого года.
О Тимофее Тимченко — пограничнике Н‑ской заставы — рассказал в своем письме генерал-майор Резников.
И самым неожиданным было то, что о последних днях Вадима Ратникова и Иннокентия Колотилова поведал гражданин ГДР, журналист Отто Галингер. В декабре сорок первого, будучи военным корреспондентом, он под Москвой попал в плен, со временем переосмыслил свое мировоззрение, стал убежденным антифашистом. Случайно он увидел именно эту телепередачу и написал большое письмо в адрес советского телевидения. К письму он приложил свою книгу «Русский характер», изданную уже после войны. В ней почти со стенографической точностью автор воспроизвел (конечно, по памяти) свою беседу с младшим сержантом Вадимом Ратниковым. Галингер сожалел, что в этом диалоге больше говорил не Ратников, а он, а надо бы наоборот.
Что касается довоенной жизни школьных друзей, то о ней во всех подробностях рассказала Антонина Васильевна — их бывший классный руководитель, заслуженная учительница Российской Федерации, которая, хоть и давно уже на пенсии, все еще руководит в этой же школе литературным кружком «Родник».
К именам погибших на войне учащихся школы, высеченным на обелиске в школьном дворе, добавились имена Тимофея Тимченко, Вадима Ратникова и Михаила Синичкина. Нет только имени Иннокентия Колотилова...
Так ожила и заговорила старая школьная фотография, сделанная уличным фотографом в нальчикском городском парке много лет назад и воскресшая волею его величества случая. Но не смогли ожить тысячи, а может, и сотни тысяч подобных фотографий, попавших в огненный смерч войны, как не ожили те, кто изображен на них.
Оглавление
ДАЛЬНЯЯ ГРОЗА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Уличный фотограф
Злая река Урвань
Накануне
Рота писарей
Приказ: не стрелять
Высота 261,5
Кешка, Тося и луна
В тупике
Урок немецкого
Эпилог