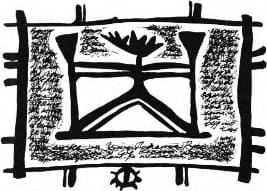КАСТРЕН Матиас Алексантери (1813 — 1852)
Кастрен Матиас Алексантери. Лапландия. Карелия. Россия
Предисловие
(А. Шифнера, переводчика на немецкий язык)
1852 год лишил Финляндию двух мужей науки, имена которых произносились с уважением не только на родине, но и в других землях. 11 (23) октября умер внезапно профессор Георг Август Валлин, сделавшийся известным своим семилетним странствованием между бедуинами, а 25 апреля (7 мая), менее чем за шесть месяцев перед ним, скончался неутомимый исследователь североазиатских языков профессор Матиас Александр Кастрен. Обоим, возвратившись на родину после многотрудных путешествий, привелось недолго действовать в университете своей родины. Они оба в одно время изъявили готовность предпринять задуманную Императорской Академией наук лингвистическую и этнографическую экспедицию на север Азии, и Академия избрала Кастрена главным образом потому, что Кастрен несколько уже лет занимался приготовительным изучением и напечатал уже несколько многообещающих результатов этой деятельности.
Кастрен родился 20 ноября (2 декабря) 1813 года в Остроботнии, где отец его Христиан был сперва капелланом в Терволе, а потом пастором в Рованьеми. По смерти последнего в 1825 году молодой Кастрен перешел к дяде Матиасу Кастрену, служившему пастором в Кеми, человеку, отличавшемуся как душевными качествами, так и ученостью; от него-то он и заимствовал первую любовь к науке. Двенадцати лет поместили его в Улеаборгскую школу, где ему пришлось содержать себя уроками младшим товарищам. Шестнадцати лет поступил он в университет в Гельзингфорсе. Сперва он думал посвятить себя духовному званию и изучал три года сряду вместе с греческим с особенной любовью языки Востока. Мало-помалу любовь к родине взяла, однако ж, перевес, и он перешел к изучению не только финского языка, но и всех языков так называемого уральского корня. На это изучение его навели, кажется, сочинения Раска. Для подробного же исследования отдельных языков этого огромного корня необходимо было познакомиться с ними на месте чрез живую речь самого народа. С этой целью Кастрен предпринял еще в 1838 году свое первое путешествие в Лапландию и затем в 1839 году — в Русскую Карелию. В 1839 же году назначен он доцентом финского и древнесеверного языка в Гельзингфорском университете во уважение его диссертации: De affinitate declinationum in lingua Fenica, Esthonica et Lapponica. В 1841 году издал он свой перевод на шведский язык народной финской эпопеи «Калевала» — перевод, который при всей верности кажется самобытным поэтическим созданием. В том же году вместе с знаменитым собирателем и издателем эпических финских песен доктором Элиасом Лёнротом отправился он снова в пограничную Лапландию и через Колу пробрался в Архангельск. Отсюда Лёнрот воротился назад, Кастрен же вследствие неожиданного пособия из финского казначейства получил возможность распространить свои исследования на ближайших самоедов. Он изучал язык их на многотрудном странствовании через пустыни Урала до Обдорска, в который приехал 9 ноября 1843 года. Расстроенное здоровье принудило его поспешить отсюда в Березов, из Березова в Тобольск, из которого в марте 1844 года возвратился кратчайшей дорогой на родину для восстановления ослабевших сил своих. Здесь занялся он печатанием зырянской грамматики (Elementa grammatices Syrjaenae), за которой в следующем году вышла напечатанная в Куопио черемисская грамматика (Elementa grammatices Tscheremissae). В ноябре 1844 года переслал он в Академию статью «Vom Einfflusse des Accents in der Läppiä ndischen Sprache», которая напечатана в «Mcmoires des savants etrangers». Ч. VI. С. 1—44. К весне 1844 года, благодаря искусству врачей, здоровье Кастрена поправилось настолько, что он мог начать большое ученое путешествие по поручению Академии. От прибытия его в Тобольск в конце мая 1845 года до начала возвратного путешествия из Нерчинска летом 1848 года, несмотря на частые возвраты болезни и все изнурительные трудности пути, он занимался постоянно и неутомимо изучением лингвистических и этнографических отношений различных племен сибирских самоедов, остяков, татар, тунгусов и бурят. В течение этого времени он переслал целый ряд любопытнейших отчетов в Академию и множество писем к друзьям и к горячему заступнику его научной деятельности в Академии (Шёгрену) — писем, полных зачастую веселого юмора и в самые тяжелые мгновения. Многие из этих писем и отчетов были напечатаны в историко-филологических известиях Академии и в финских журналах 1845—1848 годов. Осенью 1849 года издан был Академией первый плод его сибирского путешествия: «Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre». В феврале 1850 года неутомимый изыскатель в последний раз приехал в Петербург и тотчас же занялся прибывшими туда самоедами для пополнения своей грамматики самоедского языка. Осенью того же года, желая занять вновь учреждаемую кафедру финского языка и литературы, он напечатал рассуждения: «De affixis personalibus linguarum Altaicarum». В первых числах мая 1851 года он имел счастье принять из рук Его Императорского Высочества Государя Наследника, как канцлера Александровского университета, утверждение в звании профессора. Несмотря на многие занятия по службе, он неутомимо работал и над своей самоедской грамматикой, которую, за исключением учения о звуках (Lautlehre), окончил за несколько недель до своей смерти. Труд этот, который Кастрен почитал главным подвигом своим, еще при жизни завещал он Академии. По кончине его Академия вошла в сношение с наследниками и друзьями покойного для приобретения прочих лингвистических трудов его. Вследствие этого, кроме самоедской грамматики, будут изданы и его собрания материалов для языков енисейско-остяцкого, татарского, тунгусского и бурятского. Эти собрания составляют более или менее обработанные грамматики и словари поименованных языков по различным их наречиям.
Кроме лингвистических сочинений, Кастрен оставил еще несколько весьма интересных статей об этнографических отношениях различных народов великого алтайского племени и о мифологии финнов. Отрывок из его мифологических лекций, и именно «О значении имен Юмала и Укко в финской мифологии», был напечатан в девятой книжке историко-филологических известий Академии.
Вскоре по возвращении из трехлетнего путешествия своего Кастрен принялся в часы отдохновения собирать и частью перерабатывать письма и путевые записки, печатавшиеся в разных финских журналах 1840—1844 годов. Работа эта, которой он занимался и в продолжение последней болезни, была прервана его кончиной. Друзья покойного издали это собрание в 1853 году без малейшего изменения против рукописи под заглавием «M. A. Castrens Reseminnen frän ären 1838—1844», а в 1856 году вышла и вторая часть его путешествий под заглавием «М. А. Castrens Reseberä ttelser och Bref ären 1845—1849».

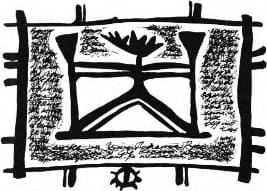
Путешествие в Лапландию в 1838 году
I. Путешествие от Торнео в Кирёки, в Энарском округе пограничной Лапонии
Пятнадцать лет тому назад решился я посвятить всю деятельность жизни моей исследованию языка, нравов, религии, обычаев, образа жизни и прочих этнографических отношений финского народа и других с ним родственных племен. Для этой цели во время пребывания моего в университете я старался теоретически и практически изучать финский язык и вместе познакомиться с родственными ему языками — эстонским и лапландским
[1]. Скоро увидел я, что для лучшего успеха в этом деле мне необходимо приобрести знания прочнее и обильнее тех, которые доставляются печатными пособиями, и что должно предпринять для этой цели путешествия в различные страны Азии и Европы. Затрудняясь в средствах, необходимых для столь дальних путешествий, я начинал отчаиваться в успехе и отказывался от лучших планов моей юности, когда соученик и друг мой доктор Эрстрём предложил мне в 1838 году объехать с ним вместе Финскую Лапонию, которую он в качестве врача намеревался обозреть в течение лета. Хотя такое слишком поспешное обозрение не могло принести мне желаемых плодов, однако же я с радостью принял дружеское предложение и рано весною выехал из Гельзингфорса.
Вскоре после моего отъезда другой воспитанник Александровского университета, магистр Бланк решился посетить Лапонию для изучения ее по части естественных наук и присоединился к нашему обществу. Случилось в то же время, что пастор Д у р х м а н получил от соборного капитула в Або поручение отправиться в Энаре, в пограничную Лапландию
[2] для назидания паствы своей. Все мы незадолго до Иванова дня собрались в Торнео, место пребывания Эрстрёма, составили общий план нашему лапландскому путешествию и отправились 13 июня.
В нескольких милях от города Торнео возвышается знаменитая гора Аава-Сакса (Aawa-Saksa), на которую путешественники с востока и запада собираются каждый год перед Ивановым днем для того, чтобы полюбоваться незаходящим ивановским солнцем. Мы пошли в сопровождении одного молодого немца и взобрались на вершину горы ровно к 12 часам. Тут нашли мы несколько городских дам и мужчин, голландского профессора Аккерсдика, который, казалось, приехал сюда для того, чтобы поверить по солнцу часы; кучу простого народа, который кричал: «Antakaa lantti!» (дайте слант — медную деньгу), и толпу мужчин и женщин, сидевших около огромного костра. Когда первые упомянутые господа удалились, а от вторых откупились мы деньгами, мы присоединились к сидящим у разведенного огня и тут только начали наслаждаться представляющеюся картиной. Вершина горы сама по себе некрасива, но окрестность восхитительна. Большая река Торнео и река Тенгельйоки сливаются у самой подошвы горы, острова их украшены красивыми домами и деревьями; видны две церкви: Матарэнги на шведской стороне, Алкула на финской, а горизонт весь окаймлен высокими горами. Вообрази наше маленькое веселое общество, сидящее за несколькими бутылками вина: молодые люди низвергают со скалы камни, девицы болтают и сеются у огня, светлое летнее солнце озаряет всю окрестность — вообрази все это, и ты получишь слабый очерк ивановской ночи, проведенной нами на горе Аава-Сакса.
Мы собрались идти домой, и все поднялись за нами. Приятно было смотреть на густую толпу людей, спускавшихся по извилинам горной тропинки; все вместе дошли мы до берега реки, девушки пели песни, и когда мы расстались, было уже 4 часа. Наш немец был вне себя от восторга: «Прекрасно! Чудесно! Восхитительно!» — кричал он на каждом шагу. Все казалось ему в высшей степени интересным и замечательным, и когда мы на станции обедали, то он положил в карман кусок хлеба (здесь употребляют ржаной хлеб) и сказал, что, возвратясь в Любек, покажет его друзьям и расскажет, как едят на границах Лапландии.
На следующий день мы осматривали церковь Алкула и гору Луппио (Luppio), представляющую замечательную игру природы — совершенное подобие нагорного замка с отвесными стенами, лестницами, гротами, сводами из прямоугольных каменных масс и т.д. Не могли мы узнать никаких преданий касательно этого места, и когда я спросил на самой горе у одного из проводников: «Onko tässä haltiota?» (Живет ли здесь дух?), он смутился и отвечал шепотом: «Kyllähän se läällä on haltio» (Конечно, здесь живет дух).
Подле церкви Алкула дорога сухим путем прекращается, и путники едут уже в лодках. Берега реки и прибрежные деревья являют глубокие следы прохождения льдин, которые идут с ужасной силою; в некоторых местах вода поднималась на три сажени против обыкновенной своей поверхности. Замечено здесь, что прилив (tulwa) случается всегда через 20 лет. И теперь еще рассказывают про ужасное весеннее наводнение 1798 года и про другое, случившееся в 1818 году; в нынешнем 1838 году вода была также выше обыкновенного, но не было такого опустошения, как в оба прежних раза.
25 числа в 11 часов утра заметили мы большую перемену во всем окружающем: горы и холмы исчезли, земля понизилась, показались болота, мох, а на берегах — растения, принадлежащие исключительно одной лапландской флоре; лесу множество, особливо соснового, но каждое дерево носит печать дряхлости, каждое стоит печально, пасмурно, покрытое мхом и как будто у могилы живой природы — не достает большого креста и надгробной надписи: «Взгляни на эти белые массы, чувствуешь ли, какой холод они распространяют? Знаешь ли причину такой перемены?». Мы переехали Полярный круг.
Здесь-то настоящая граница Лапландии. В этом царстве ночи и холода нельзя было ожидать малейших следов строения, и нам было очень приятно ошибиться в этом. С удовольствием упоминаю о двух светлых точках, озаривших нам этот хаос.
Первая есть дом директора Е... в Тортола, за 12 миль к северу от Торнео, дом, который мог бы служить украшением везде в Финляндии — тут находилось все, что сделалось необходимостью самого утонченного высшего образования: книги, музыкальные ноты, инструменты и т.п. К сожалению, дочерей директора не было дома, однако же нас угощали музыкой, и когда мы легли в постель, полночное солнце уже освещало новый, начинающийся день.
Вторая светлая точка — есть железный завод Кенгис, лежащий еще далее к северу. Тут образованность водворилась еще с лишком за 200 лет. Завод этот получил привилегию в 1637 году от королевы Христины и неутомимо продолжает с той поры свои разработки. Железо добывается из соседней горы, где прежде находилась и медная руда. Завод расположен прямо над слиянием реки Торнео с Муонио, в дикой, живописной стране. Водопад здесь — один из величайших, какие я видел: на протяжении 2000 футов он имеет 72 фута падения.
Надобно теперь сказать несколько слов о туземцах. От Торнео до Муониониски Лапландия населена финнами, частью происшедшими от лапландцев, прежних обитателей страны, частью от колонистов из различных частей Финляндии и с берегов Белого моря. Многие семейства могут еще дать отчет о своем происхождении, и по рассказам их видно ясно, что первые колонисты привлечены были в эту пустыню изобилием дичи и богатством рыбного промысла. Но мало-помалу эти промыслы уменьшились, и каждый год земледелие и скотоводство стали заменять их. Вообще приречные жители Торнео имеют теперь в образе жизни много общего с остальными обитателями страны, что даже видно в их постройках. Двор обыкновенно образует четвероугольник, застроен со всех сторон и заключает в себе: 1) жилой дом, состоящий из одной большой комнаты, pörte
[3], где собираются днем и работают, и другой маленькой, где летом спят; 2) маленькое строение, где несколько горниц летних и для гостей; 3—4) различные службы. Окна и двери украшены вырезанными деревянными выкрашенными фигурами, иногда на кровле висит венок из цветов (обыкновенно из Trollius europaeus — купальницы, сем. Лютиковых) и те же цветы разбросаны по полу. Хотя эти украшения весьма незначительны, однако радуют взоры, свидетельствуя, что жители могут не все часы своей жизни посвящать тяжелым заботам о насущном хлебе. Мебель чрезвычайно скудная, но все, что необходимо для ежедневного употребления, содержится чисто и опрятно. Особенно приятно видеть молочни опытных хозяек и их белые кадушки с молоком, которое невольно возбуждает аппетит.
Причиной особенной чистоты, какую встречали мы на всех станциях, было, вероятно, ожидание скорого прибытия французской полярной экспедиции, для принятия которой приказано было иметь все в готовности. Редких гостей этих ожидали с любопытством, но не с удовольствием. Еще прежде французы были здесь и показали себя не с выгодной стороны: они не хотели переносить трудностей пути и не выходили из лодок, как это делают все путешественники, чтобы по берегу пройти пешком, пока с помощью длинных багров не проведут лодки между быстрыми водоворотами. Англичане также, по словам туземцев, заботятся об удобствах, но платят гораздо дороже за перевоз и на быстринах, часто останавливаясь удить, дарят весь улов лодочникам.
Что до нас касается, то нельзя было пожаловаться, чтобы мы слишком заботились о своих удобствах. Мы шли целые дни по лесам и полям, переходили по болотам и вязким трясинам, помогали лодочникам тащить лодки и проводить их около берега подле быстрин и т.д. Между тем жар был несносный, мошки и комары нестерпимы. Жар был так утомителен, что мы иногда днем отдыхали и продолжали путь ночью. Если дождь заставал нас между станциями, мы разводили на берегу огонь и сушили платья. Плохо запасшись провиантом, часто принуждены были утолять голод ржаным сухим хлебом, испеченным пополам с соломой, и другой, еще менее вкусной пищей. Не взирая не все эти неприятности и неудобства, мы шли бодро и весело и 30 июня прибыли в Муониониску.
Тут мы провели недели две для того, чтобы отдохнуть и собраться с новыми силами, и для того, чтобы запастись всем нужным. Я уговорил товарищей остановиться здесь частью потому, что очень изнурился дорогой, частью потому, что нашел здесь неожиданный случай для достижения цели моего путешествия. Один природный лапландский катехизатор, воспитанный пастором Шток ф летом и помогавший ему в издании на лапландском языке религиозных книг, находился в Муониониске. Так как изучение упомянутого языка было главной целью моего путешествия, то не хотелось мне упустить такой удобный случай. С другой стороны, катехизатору было важно воспользоваться моею помощью для изучения финского языка, ибо с одной этой целью приехал он из Норвегии в Муониониску. Мы соединили наши взаимные стремления и работали усердно, каждый над своим предметом. Товарищи моего путешествия нашли также пищу для своей деятельности. Бланк обегал вдоль и поперек всю окрестную страну, собирая насекомых; Д у р х м а н помогал духовенству в отправлении треб; Э р с т р ё м, как врач, имел возможность практически употребить свои познания, но непредвиденные обстоятельства вынудили его через несколько дней оставить Муониониску и возвратиться в Торнео.
Мы же, три остальных путешественника, пробыли в Муониониске до 16 июля; лапландское лето так быстро шло к концу, что мы принуждены были пуститься в путь, дабы иметь возможность заблаговременно возвратиться домой. Не составя предварительного плана всего путешествия, направили мы путь свой к хребту, разделяющему воды, текущие в Ледовитое море, от вод, текущих в Ботнический залив. Для сокращения дороги перешли мы через славную Палласову скалу, Pallas-felsen, которую один из товарищей сравнил с «колоссальным храмом исполинов со многими куполами». Перешедши скалу, прошли мы пешком четыре мили и пришли в Кирёби, лежащее в округе Соданкила, в приходе Киттила. Оттуда в лодке вверх по течению Унасиоки (Ounasjoki), впадающей в Кеми, проплыли мы еще пять миль до деревни Пельдовуома (Peldowuoma) в лапландском округе Эпонтекис.
Прибывши в упомянутое местечко, мы собрали совет из старых и опытных жителей деревни, чтобы решить, как нам перебраться через горный хребет Лапландии с возможно меньшими издержками и неудобствами. Между тем мы уже наперед придумали купить лодку в деревеньке Вуонтисиерви, недалеко от Пельдовуома, проплыть на ней четыре мили вверх по горному ручью, называемому Кэккэлэйоки, потом перетащить эту лодку по горному хребту целую милю до ручья Нуоласиоки и вниз по течению доплыть до реки Энаре, которая в нижнем течении своем называется уже Тено и ведет к границам Утсъйоки Лапландской. Старики, собранные на совет, отвергли это предложение многими основательными доводами. «Кэккэлэйоки, — говорили они, — стремителен, а в это время года так мелководен, что и пустая лодка с трудом по нем протащится. Для переноски же через скалы всех вещей и лодки нужно нанять множество людей или по крайней мере лошадей. В Нуоласиоки даже во время разлива так мало воды, что и тогда вниз по течению нужно лодку тащить на себе». Но больше всех трудностей пути испугали нас сопряженные с ними издержки. Говорили о сотне рублей и даже больше, которых жители Вуонтисиерви требуют с путешественников за этот переезд. Не в состоянии будучи платить такую сумму, мы должны были отказаться от нашего намерения. Тотчас сделано было другое предложение, а именно: вместо того, чтобы покупать лодку в Вуонтисиерви, сделать собственную в деревне Саунаиерви, лежащей при истоке реки Энаре. Это предложение принято было с общим одобрением, и мы стали спрашивать всех присутствующих плотников, кто из них возьмется строить нам лодку, как Эрик Пельдовуома, главное лицо нашего почтенного собрания, с насмешливой улыбкой спросил: «Откуда достанем лес на стройку?». Потом с величайшим добродушием дал нам следующий совет: «Возьмите, господа, ваши ранцы на плеча, — сказал он, — запаситесь на 4 или 5 дней съестной провизией и ступайте пешком до Йоргастака (лапландская деревня на берегу реки Тено). Там найдете непременно рыбаков, которые охотно в лодке вниз по Тено довезут вас до Утсъйоки. Если же этот совет вам не нравится, — продолжал Эрик, — то ничего другого не остается, как идти через Энаре; эта дорога двадцатью милями длиннее и в тысячу раз затруднительнее». Две причины заставили нас принять последнее предложение: первая та, что Бланк в таком только случае соглашался нам сопутствовать; вторая, что Д у р х м а н полагал, что его прихожане около этого времени соберутся в Энаре и будут ждать его назидательных бесед.
Решивши главный вопрос, оставалось нам узнать, где можем найти хорошего проводника, который согласился бы указывать нам дорогу. «И е с с и о проводит вас, и никто другой», — сказал утвердительно Эрик. «И е с с и о, — промолвил другой, — выведет вас из-под воды и на дороге не бросит». Все собрание подтвердило это выгодное об И е с с и о мнение; позвали его, и он охотно взялся быть нашим проводником, только выпросил на одни сутки съездить в Вуонтисиерви проститься с женой и детьми и обещал скоро возвратиться в Пельдовуома. Тут собрание разошлось, и мы отправились на покой. Следующий день прошел весь в приготовлениях. На другое утро явился И е с с и о, совсем готовый к путешествию; Эрик предложил нам также проводить нас до хребта, т.е. сопутствовать нам первые двое суток. С полной доверенностью поручили мы себя покровительству обоих, уложились в маленькой лодке и, собственно, тут только начали лапландское наше путешествие.
День был дождливый, весьма неприятно было пуститься в путь в такой день, когда знаешь, что на пространстве тридцати миль не найдешь другой над головой кровли, кроме мрачного лапландского неба; другого очага, кроме зажженного на минутную потребность соснового пня; другой постели, кроме сырой почвы или, в счастливом случае, ущелья в горе. Мысль о предстоящих трудностях умножала еще настоящие неудобства. Со всею доброю волей не могли мы победить печального расположения духа, и каждый сидел в лодке молча и пасмурно, погруженный в свои мысли. Я же имел и ту неприятность, что сидеть было мне неловко, и потому начал раздумывать, нужен ли нам весь забранный с нами запас. Запас этот был хотя весьма незначителен, но я отдал бы охотно некоторую часть его за то, чтобы сидеть покойнее. Вот в чем состоял он: два или три лисфунта (от 40 до 60 фунтов) хлеба, пять фунтов мяса, столько же рыбы, три канны (6,5 ведер) водки, пять фунтов табаку и т.д. Кроме того, каждый путешественник взял для себя ранец весом фунтов в 15 и лопарскую шубу
[4] (mudd). Укладывать последнюю казалось мне вовсе не нужно и потому, чувствуя, что у меня вся спина промокла, я решился облечься в эту лопарскую одежду. Превращение мое развеселило наше общество. Шуба была об одном рукаве, во многих местах с мехом, в других совсем голая и доставала только до колен, а тут начинались меховые сапоги, укрепленные ремнями на икрах. Белая модная шляпа и очки на глазах составляли пресмешную противоположность с остальной одеждой.
Во весь первый день нашего путешествия дождь не переставал идти, мы с трудом плыли вверх против течения по маленькой речке Пельдайоки. К вечеру небо начало проясниваться, и солнце выглядывать из-за редеющих облаков. Живительный блеск разлился по темной поверхности вод; деревья и цветы просветлели, рыбы заплескались в волнах, и жители воздуха, щебеча, вылетели из лесных убежищ. Радостное чувство проснулось и в нашем кружке. Правя рулем, Эрик стал петь простым старинным напевом о прекрасной дочери Лоуги, о походах в Пойолу
[5] Вайнемойнена
[6] и т.д. С изумлением слушал я на границах Лапландии песни, редкие в самой Финляндии, и спросил о происхождении жителей Пельдовуома. Эрик отвечал мне, что его род происходит из богатой песнями Карелии. Первый его предок, поселившийся в Лапландии, назывался А й з а р и, у него был сын по имени П э й в и о, или П э й в и э, который вместе с тремя своими сыновьями приобрел великую славу во всей пограничной Финской Лапландии. Эрик обещался рассказать мне, когда остановимся на ночлег, многие чудесные дела, совершенные родом Пэйвио, но прежде, нежели передадим их, сообщим читателям извлечение из вышедшего в 1672 году описания Лапмаркена, Торнео и Кеми, округов пограничной Лапландии, сделанного пастором и пробстом, магистром Торнеусом.
«В деревне Пэльдоиерф жил лопарь, Пэдер Пэйвио, честный, богатый и богобоязненный лопарь. Два года тому назад его убили. У него было много сыновей, и он прежде долго со всеми домашними верно служил идолу своему сейте (сейда, Seida, Seita)
[7] и почитал его. Случилось однажды, что у него издохло несколько оленей, он обратился с мольбой к Сейте и усердно покланялся ему, но это не помогло, и олени не переставали умирать. Тогда он со всеми сыновьями идет к идолу, берет с собой множество сухих дров, украшает идола свежими пихтовыми ветвями, приносит ему в жертву кожи, снятые с мертвых оленей, вместе с рогами и головами их, все падают на колена, целый день умоляют идола явить свое могущество каким-нибудь знаком, но как знака никакого не являлось, то они встали, бросили весь сухой лес, привезенный ими, на идола, сожгли его и таким образом уничтожили предмет обожания целой деревни
[8]. Когда же язычники хотели за то умертвить Пэдер Пэйвио, то он, подобно Гедеону (Книга Судей, 6), отвечал им: «Пусть идол отомстить за себя сам». Этот Пэйвио так был тверд в вере, что когда язычники сражались против него и старались испугать его заклинаниями и колдовствами, он начал петь «Отче наш» и религиозные гимны: Trones och Fader värs sänger и пр. После того жег он всех сейт, где ни находил их, и послал старшего своего сына Вуолабба на жительство в знаменитую лапландскую деревню Эенар, которая была данницей трех королей для того, чтобы мог он сжечь там всех идолов и сейт, которых там было множество. Вуолабба исполнил это и за то принужден был бежать в другое королевство, в Норвегию, где живет и поныне».
Из этого рассказа пробста Торнеуса ясно видно, что род Пэйвио происхождения лапландского, это подтверждают торжественно все лапландцы. По словам Торнеуса, этот род прославился подвигами за веру христианскую. Предание утверждает то же самое и, сверх того, прибавляет, что Пэйвио с своими тремя сыновьями отличился и другими воинственными подвигами; в особенности прославил себя на войне с русскими карелами
[9], которых лапландцы в своих преданиях называют просто русскими. С своей стороны карелы имеют также предания о воинских подвигах рода Пэйвио, и даже «Калевала»
[10] воспевает Пэйвилэ и Пэйвэн-пойка, как неприятелей народа Калева. Хотя предания карелов и лапландцев об этом славном роде похожи на миф, но также мало можно отрицать историческое основание этих преданий, как и всем известные набеги карелов на Лапландию.
Но, чтобы возвратиться к нашему рассказчику, выйдем на берег и усядемся под густой тенью берез. Эрик сел подле меня и с глубоким благоговением начал рассказ свой: о Пэйвио-отце знал он только, что он славился мужеством в битвах с карелами, «которые в великом множестве находили на Лапландию для грабежа и убийства, мучили людей неимоверными муками, выпытывая, где скрыты их сокровища, и возвращались только тогда, когда все лодки их были наполнены серебром и другими драгоценностями». Пэйвио, по несметным богатствам своим, больше других подвергался корыстным нападениям карелов. Главное богатство его заключалось в оленьих стадах, которых было такое множество, что он должен был нанимать 30 работников и 30 работниц для присмотра за ними. Сверх того, было у него много серебра, которое, однако ж, он незадолго до своей смерти закопал в землю, и до сих пор никто не знает места, где оно находится.
Из сыновей Пэйвио самый знаменитый, по словам нашего рассказчика, был Олоф, по-лапландски В у о л а б б а. Высокий, сильный, храбрый, он, подобно отцу своему, сделал целью жизни своей сражаться с карелами. Вот как Эрик описал один из подвигов этого героя: «Однажды Олоф намеревался куда-то идти и, боясь, чтобы враги в отсутствие его не сделали набега на его жилище, перенес необыкновенно огромное дерево на скалу, положил у входа палатки своей и велел жене говорить неприятелям: «Наш сын принес сюда это дерево». Скоро после отъезда Олофа явилась толпа карел и тотчас заметила огромное дерево. Никак не могли они понять, как могло оно попасть на эту крутую скалу, и требовали объяснения у молодой жены Олофа. Жена отвечала так, как муж приказал ей. Карелы пришли в неописуемое изумление, когда услышали, что у такой молодой женщины такой сильный сын, и грабить не стали. Между тем решились дождаться возвращения Олофа и как-нибудь убить его. Когда же Олоф возвратился, никто не посмел на него напасть. Тогда карелы стали хвастать, что и в их земле есть богатырь, с которым Олоф не справится, и предложили Пэйвиову сыну идти с ними в Карелию и померяться силами с их богатырем. Олоф принял предложение и отправился с карелами в их землю. Когда оба богатыря встретились, то подали друг другу руки, и карел так крепко сжал руку Олофа, как только мог. Олоф схватил противника своего поперек тела и бросил на землю. Карел поднялся и обхватил в свою очередь Олофа, но вторично был низвергнут. Тогда Олоф советовал ему не испытывать более счастья в борьбе с ним, но озлобленный карел бросился на него с яростью, и в третий раз Олоф ударил его о землю, но уже так, что избавил от труда когда-либо встать».
Много рассказывал Эрик о силе Олофа, между прочим следующее: «Олоф возвращался однажды с рыбной ловли, и был застигнут на озере Энаре противным ветром и непогодой. Вместо того, чтобы бороться с волнами, угрожавшими залить его лодку, нагруженную сетями и рыбой, решился он пристать к маленькому островку, там поднял тяжелую ладью на плечи и перенес на берег. В другой раз Олоф шел по лесу, там увидел он стало, который силился поднять камень, но камень был так необычайно велик, что стало не мог поднять его и принялся медленно перед собою катить. Олоф долго следил, незамеченный, за усилиями стало, потом вышел из-под дерева, посмеялся над бессилием стало и отнес камень на указанное им место. Стало, испугавшись такого мощного врага, бросился бежать. Олоф долго смотрел на его бегство, наконец рассердился и побежал за ним. Стало, добежавши до реки Нейды, перепрыгнул на противулежащий берег и думал, что избавился от преследования, но Олоф сделал такой же прыжок, догнал стало и убил его». При этом рассказе должно заметить, что стало (множест. сталок) значит у лапландцев «исполин»; по-шведски
jättar, по-фински
jättiläiset и
hiidet (исполинские, сверхъестественные существа), в единственном — hiisi. Лопари описывают сталоков жестокими людоедами. Во времена язычества их племя <было распространено по всей Лапландии, но после введения христианства они переселились на морские острова.
Олоф отличался также быстротой бега. Однажды он догнал волка, бегущего за его оленьим стадом, схватил его за хвост и ударил о скалу. В другой раз, бывши на охоте за дикими северными оленями, с верным работником своим и постоянным сопутником Вуоллебом, Олоф (Валлем) нарочно погнал на него встретившуюся ему самку с ее детенком. Валле упрекнул господина своего в такой излишней смелости, тогда Олоф побежал за оленем, догнал, убил дротиком, а детеныша принес живого и, презирая такую маловажную добычу, отдал ее своему скромному слуге. Никогда не преследовал он диких оленей иначе, как когда их множество соберется в кучу.
Что Торнеус рассказывает о Пэйвио-родоначальнике и об его обращении в христианскую веру, то самое рассказывал мне Эрик о его сыне Олофе. Олоф долго был ревностным почитателем идолов, но когда молва о новом учении достигла до него, то он решился испытать богов своих. Ударил в волшебный барабан, чтобы по звуку колокольчиков узнать, счастлива ли будет его охота на оленей. Колокольчики прозвенели благоприятное предзнаменование, но охота была неудачна. В другой раз вздумал он разжечь огонь во время проливного дождя и просил своих сейтов помочь ему. Когда же желание его не исполнилось, то он обратился с молитвою к истинному Богу, и трут тотчас загорелся. После такого испытания Олоф сжег волшебный барабан, изломал сейтов и разорял все языческие памятники, где бы ни встретил их.
Второй сын Пэйвио по имени Исаак отличался искусством стрелять из лука. Он попадал в хариуса (Aesche, Salmo thymallus, семейство Лососевых), когда он показывался над поверхностью воды. Также он совершил много славных подвигов и побед над карелами, между которыми замечательна следующая: во главе одной толпы карелов, опустошавших Лапландию, был вождь, покрытый с ног до головы непроницаемой броней. От этой брони ему так трудно было двигаться, что он не мог донести вилки до рта, и слуга приставлен был для того, чтобы кормить его. Исаак долго наблюдал за этим начальником и однажды подстерег; когда он готовился обедать, Исаак натянул лук, и, как скоро слуга сунул вилку в рот, прилетевшая стрела ударила в вилку и воткнула ее в горло вождю.
Третьего сына Пэйвио звали Иоганом. Об этом рассказывал Эрик, что он был таким могучим колдуном, каких потом и на свете не было. Он часто своими чародействами истреблял карелов, когда они приходили грабить Лапландию. Однажды принудили они его вести их к месту, где надеялись найти богатую добычу. Иоган повел их на крутое отвесное место скалы Паллас и чародейством своим показал им вместо ужасной пропасти внизу деревни, где светились огни и звенели колокола. «Туда ведет дорога, — сказал грабителям Иоган, — а чтобы в такую темную ночь никто не сбился с дороги, то я с факелом пойду вперед». Затем бросил он факел в пропасть и остался на скале невидим никому. Карелы бросились за горящим факелом, и все погибли в пропасти.
Последнее происшествие рассказывается одинаково у финнов и у лопарей, но не всегда приписывают его сыну Пэйвио, иногда действует другой знаменитый герой, которого по-фински называют Лаурукайнен, по-лапонски Лаурукадш. О нем рассказывал Эрик многие другие повести, когда мы на другой день плыли вверх по речке Пельдойоки.
«Когда ты приедешь в настоящую Лапландию, — говорил он мне, — то узнаешь, что лучше лопарей нет проводников. Привыкнув с детства бегать повсюду и рыскать, как собаки, они на расстоянии нескольких миль знают каждый камень, каждое дерево, каждый источник. Но не было еще человека, который знал бы Лапландию вдоль и поперек так хорошо, как Лаурукайнен. По этой причине карелы всегда старались взять его проводником при своих набегах; с своей стороны Лаурукайнен всегда готов был указывать им дорогу, он был человек хитрый и умел так устроить, что карелы никогда не избегали постыдной смерти, как скоро попадались ему в руки. Однажды взялся он проводить толпу этих разбойников через озеро Оунасиерви. При переезде карелы проголодались и просили Лаурукайнена причалить к маленькому острову. Утоливши голод, легли они спать, но прежде приставили часового к лодкам, которых было семь (иные говорят — три), и все были наполнены съестными припасами и награбленными сокровищами. На беду их, заснул и часовой, тогда Лаурукайнен перенес в лодки все, что вытащено было на берег, именно: топоры, мечи, котлы, съестные припасы и т.д. Потом отчалил все лодки от берега и едва успел вскочить в последнюю, как часовой проснулся, хотел схватить меч свой, но его уже не было; тогда он бросился в воду и ухватился за первую ближнюю лодку, в которой был именно Лаурукайнен. Лаурукайнен взял меч и отрубил часовому пять пальцев, они упали в лодку вместе с золотым перстнем. Часовой поднял тревогу, но когда карелы прибежали на берег, Лаурукайнен отплыл уже далеко. Видя беду, карелы стали умолять Лаурукайнена и говорили ему: «Приди сюда, добрый брат, мы дадим тебе каши с шведским маслом, будешь есть своей собственной ложкой (иные говорят: ложкой твоего господина)». Лаурукайнен отвечал: «Каши и муки у меня здесь довольно». Когда же карелы увидели, что просьбы их напрасны, то один из них закричал: «Приди сюда, мы зальем тебе горло горячим оловом!». После того Лаурукайнен плавал в лодке около острова девять дней и девять ночей, стерег карелов, чтоб они не ушли. На десятый день сошел на берег и тогда увидел, что все карелы лежали там мертвые, исключая одного, который мог еще повернуть голову. Остров, где это происходило, до сих пор называется Карельским
(Karjalan saari)».
«В другой раз, — продолжал Эрик, — карелы взяли Лаурукайнена проводить их вниз по течению реки Патсъйоки (Patsjoki). Когда они проходили вблизи тамошнего водопада, то Лаурукайнен связал вместе их семь судов и просил самих карелов спрятаться под палубу, чтобы не испугаться при виде страшного водопада. Не подозревая обмана, карелы спокойно послушались совета, тогда Лаурукайнен направил суда прямо к берегу, сам вскочил на скалу, а карелы все погибли, увлеченные стремлением водопада.
В другой раз направил он судно карелов прямо на скалу в средине самой реки. Судно разлетелось, и все карелы потонули, но Лаурукайнен спасся, ибо
гнев воды (по-фински
weden ärimys) до него не касался.
После таких подвигов Лаурукайнен сделался ненавистным карелам, так что они решились убить его. Это и удалось им после многих неудачных попыток. Однажды застали они его в горнице, где у него хранилось мясо, и вообразили, что он уже совсем в их руках, стали у дверей и с нетерпением ждали, чтоб он из горницы вышел, вызывая его оттуда угрозами. Лаурукайнен не спеша завертывал мясо в шубу свою, и когда карелы громко и грозно обещали выломать дверь, если он к ним не выйдет, то он выбросил им шубу из слухового окна. Карелы приняли мясом набитую шубу за самого Лаурукайнена и бросились на нее с копьями; во время суматохи Лаурукайнен ушел и так оморочил врагов своих чарами, что они обратили оружие друг на друга, воображая везде видеть Лаурукайнена, и до последнего все погибли».
Эту же повесть слышал я после с той переменой, что вместо мяса Лаурукайнен набил шубу пухом, и, когда выбросил ее, то пух разлетелся и засыпал глаза карелам, а Лаурукайнен, пользуясь этим, ушел.
Едва только Эрик кончил свой рассказ, как мы приблизились к небольшому озеру, называемому Сейдаиерви. Я заметил Эрику, что его должно скорее называть Сайвоиерви, потому что вода была очень чиста. Ибо, по рассказам лапландцев, такие озера часто носят это название вследствие мнения, прежде бывшего в ходу у лапландцев, что в таких озерах обитают божества, называемые с а й в о
[11]; они не позволяют в своих владениях ловить рыбу, и потому те рыбаки, которые хотят ловить в их озере, должны были обманывать водяные божества, стараясь грести тихо и без шума. Эрик не обратил никакого внимания на мое замечание и утверждал, что озеро называется Сейдаиерви, основываясь на том, что на мысе, выдающемся налево против нас, стоял прежде лапландский сейта. Этот сейта принадлежал прежде знаменитому колдуну Ломпсоло, который с помощью кумира всегда имел удачный рыбный лов. На противоположном берегу другой колдун устроил себе рыбную ловлю, но так как у него не было сейты, то ни одна ловля ему не удавалась. Вот он и вздумал поправить свое дело и, покуда Ломпсоло спал, утащил и бросил его сейту, после чего рыба стала ловиться. Ломпсоло же, напротив, лишась помощи своего сейты, перестал ловить удачно, и ни одна рыба ему не попадалась. Чтобы поправить дела свои, Ломпсоло добыл себе нового сейту, и вот все рыбы стали опять ходить в его сети до тех пор, пока другой колдун опять не свалил его сейты. Чтобы прекратить споры, оба колдуна согласились сойтись на ближнюю гору и начать поединок, в котором другого оружия не будет, кроме чародейства и заклинаний. Ломпсоло пришел на назначенное место, приняв на себя вид оленя и надеясь, что в таком виде противник его не узнает. Но другой колдун, который стоял уже на горе, готовый сразиться, только увидел бегущего оленя, закричал ему издали: «Ты Ломпсоло!». Не отваживаясь на другое испытание, Ломпсоло признал себя побежденным и убежал, ибо ясно видел, что без помощи своего сейты не может иметь никакого успеха в борьбе с врагом своим.
«Мы сбились с дороги, проводник ошибся» — эта мысль часто смущает утомленного под своей ношей путешественника по Лапландии, когда он идет, не видя еще цели. Статься может, что ею смущается и благосклонный мой читатель, если взял на себя труд сопутствовать нам в наших странствованиях по богатым легендами лапландским краям. В таком случае считаю долгом взять на себя роль проводника и успокоить моих спутников, уверяя их, что мы идем по настоящей дороге. Выехавши из Пельдовуома, проплыли мы четыре мили вверх по Пельдойоки и находимся теперь недалеко от Пельдотунтури, на берегу Сейдаиерви. Из этой скалы (Пельдотунтури) вытекает Пельдойоки, течет чрез Патаиерви и Армоиерви, но становится судоходна, только когда Сейдаиерви приносит ей в дань свои воды. Даже во время разлива с трудом можно водою добраться до Армаиерви; в это же время года, как объявил Эрик, водяной путь совершенно невозможен. Он предложил проститься с водяной системой Пельдойоки и идти к хребту другой дорогой. На юг от Пельдотунтури находится на довольном большом расстоянии множество маленьких озер, доходящих до самого горного хребта. Эти озера не имеют между собой соединения, и мы должны будем, по замечанию Эрика, нести вещи наши на себе, а лодку перетаскивать посуху от одного озера до другого. Хотя подобный труд не весьма был нам приятен, но мы согласились предпринять этот путь в надежде на частые озера, на которых можно будет отдыхать.
Итак, поклажу разделили на три части, каждая от полутора до двух пуд весу; Эрик и Иессио без церемонии взвалили ее на наши плечи, сами же потащили пустую ладью. Таким образом перешли мы все пространство между Сейдаиерви, Кааккуриниерви, Нокканайнен и Патаиерви. Все эти озера находятся друг от друга весьма недалеко, но от Патаиерви до ближнего озера Витаиерви расстояние по крайней мере четверть мили. Через это пространство мы все соединенными силами тащили лодку, а притащивши ее в Виттаиерви, все вместе воротились к Патаиерви за поклажей, которая оставалась там на берегу. Переехав озеро Виттаиерви, очутились мы у самого подножия горного хребта, который называется тут, если память меня не обманывает, Корсатунтури. Тут-то начались большие труды наши; от самого берега Виттаиерви поднимается крутая скала, по которой мы должны были взбираться целых три четверти мили. Утомленные усилиями прошедшего дня, мы все предложили здесь отдохнуть и начать на другое утро восхождение на скалу, но Эрик с жаром противился такому предложению и уверял, что несколько часов отдохновения утомят нас еще больше, что мы не в состоянии будем двинуться ни одним членом. Иессио утверждал то же, и мы решились в 9 часов вечера пуститься в многотрудный путь наш. Поклажу оставили мы опять на берегу озера и потащили все вместе пустую лодку. С величайшими усилиями удалось нам взобраться на скалу, но тут вся бодрость пропала, и все силы ослабли; к довершению горя Эрик объявил, что не совсем уверен в дороге, а ведет нас по рассказам других. В раздумье уселись мы на скале, закурили трубки и стали держать совет. Общее единогласное решение состояло в том, что один из путешественников должен идти к Виттаиерви, достать из поклажи нашей единственную бутылку рома, находившуюся в нашем владении, и принести ее остальному обществу, которое, по мере сил, потащит опять лодку, следуя указаниям Эрика. Принести бутылку рома доверили мне, и я, к общему удовольствию, благополучно ее доставил, хотя не понимаю, как не заблудился, идя по дикой утесистой горе. Между тем мы дошли до маленького горного ручья, который доказывал, что Эрик не ошибся в дороге. Он утверждал, что ручей этот впадает в Корсаиерви, а этого-то именно и стремились мы достигнуть. Опорожнивши бутылку, потащили мы соединенными силами лодку сначала по направлению ручья, но тут лежало столько огромных камней, что мы принуждены были возвратиться на прежнюю дорогу. Целую ночь провели мы в этом трудном подвиге и, не видя озера, решились послать проводников наших отыскивать его. Они возвратились с радостной вестью, что мы идем по настоящему пути и что озеро Корсаиерви уже недалеко. В шесть часов утра пришли мы к нему. Эрик и Иессио отправились к Виттаиерви за нашими вещами, а мы улеглись отдыхать на берегу Корсаиерви.
Вскоре после полудня проснулись мы, промокшие от сырости, дрожа от холода; все члены казались разбитыми, в груди колотье, ноги не двигались, и все мы в чрезвычайно дурном расположении духа. Словоохотливый проводник наш простился с нами, и путешествие наше показалось нам всем крайне неприятно. Но я не хочу утомлять читателя подробностями, скажу только несколько слов о направлении нашего пути для пользы будущих путешественников. Мы плыли сначала по Корсаиерви, озеро узнать нетрудно: оно стеснено между двух скал, имеет полмили длины и так нешироко, что становится приметным с земли только тогда, когда придешь к самому берегу. К северу оно все более и более суживается и постепенно теряется в незначащем ручье, по которому должно перетаскивать лодку на каждом шагу. Пройдя около полумили вдоль этого ручья, приходишь к большой реке Ивалойоки, впадающей в озеро Энаре. Эта река так глубока, что путешественник может сидеть в лодке даже при самом ее истоке, если не желает прыгать по мокрому бугристому берегу между ивняком и осокой. После нескольких часов езды по Ивалойоки приближаешься к
ломполо (lompolo), т.е. к широкому, озерообразному разливу реки. Тут представляется взору прекрасный сухой берег с тенистыми березами и богатой растительностью. Ботаник найдет тут, конечно, многие редкие растения, но мы занимались охотнее зоологией, затеяли охоту за дикими гусями, и нам удалось значительное количество их прибавить к съестным нашим припасам. Потом продолжали спускаться вниз по реке при дружных взмахах весел.
Еще несколько часов езды, и все мы в одно время вскрикнули: «Дым! Люди!». На берегу встретил нас рыбак, лежавший у разведенного огня, следующими словами: «Кто вы, плывущие по Ивалойоки? Куда держите путь? Впрочем, зачем же спрашиваю о том, что уже мне известно! Я всех вас видел во сне, а тебя, Иессио, в образе твоего покойного отца». Когда рыбак такими словами дал знать, какого он свойства, я тот же час привел в движение свою артиллерию, т.е. поднес ему водки, дал немного табаку, купил, не торгуясь, несколько безделиц и подарил его сынишке книжек. Проглотив другую рюмку водки, рыбак стал самым любезным, откровенным колдуном и рассказал нам тысячу чудных повестей про себя и про других колдунов. Но, к сожалению, все рассказы его были несвязны, вероятно, вследствие второй рюмки. Следующий рассказ об Иогане Пэйвиоио другом чародее, Торагасе, был понятнее прочих.
«Одна ведьма-колдунья из пограничной Лапландии, которую звали Кирсти-Ноуту а, отправилась в Киттила, чтобы оттуда перегнать к себе на родину всех диких оленей. Пэйвио, узнавши ее намерение, послал Торагаса к Ивалойоки, чтобы там заколдовать ведьму и не допустить оленей переплыть реку. Когда Торагас увидел бегущих оленей, то начал всех внимательно осматривать, подозревая, что ведьма-колдунья может и сама превратиться в оленя. Однако же во всем стаде не было ни одного такого оленя, которого можно бы принять за превращенную Кирсти; всего менее мог он вообразить, чтоб она приняла образ хромого, изнуренного, тощего урода оленя, который насилу тащился за скакавшим стадом. Тогда только убедился он, что этот урод олень была именно ведьма Кирсти, когда увидел, что она не плыла через реку вместе со всем стадом, а вынырнула из нее на другой берег. Но делать было нечего, стадо было все на другом берегу, где чары Торагаса действовать не могли. Итак, он возвратился к Пэйвио и рассказал ему, как было дело. Пэйвио решился тогда послать Торагаса в Русскую пограничную Лапландию и приказал ему узнать подробно имя, свойства и все отношения ведьмы-колдуньи. Торагас исполнил похвально данное ему поручение, и Пэйвио посредством мощных чар своих взялся воротить оленей. Тотчас послал он Торагаса поглядеть, не увидит ли он где оленей. Они прибежали с таким топотом, что за три мили Торагас слышал, как щелкали (nasasi) их копыта. Стадо находилось тогда при реке, названной в память этого происшествия Назамайоки».
Все рассказы рыбака были подобного содержания. Всегда описывал он чудесные подвиги славных шаманов и в особенности способность древних шаманов принимать всякий образ, какой захотят. Такое верование в эту способность шаманов было повсеместно распространено в Финляндии и в Лапландии и до сих пор еще не совсем искоренено из головы лапландцев. По крайней мере в нашей Финской Лапландии уверяют, что в русских деревнях живут шаманы, которые, подобно Торагасу и Пэйвио, могут принимать на себя по желанию образ оленей, медведей, волков, рыб, птиц и т.д. В таком превращении шаман называется у лапландцев Вироладш, у финнов — Виролайнен, что по-настоящему означает просто эстонца. Рыбак спел мне финскую песню, где было очень много подобных превращений. Так как эта песня совсем без связи, то я просто расскажу ее содержание. Волшебник именем К а р к и а с жалуется на убыток, который терпит его родина, ибо Торагас чарами своими перегнал оттуда всех диких оленей в Киттила. За этой жалобой следует описание того срама, который Каркиас сам вытерпел от злого врага («onda owan») своего Торагаса, который изрубил его и бросил в озеро. Там Каркиас ожил и несколько лет жил в немного измененном виде под печенью одной щуки. Потом Торагас поймал эту щуку и вместе с Каркиасом держал ее три года в своем амбаре. Освободясь оттуда, начал было Каркиас ходить в человеческом образе, но Торагас поймал его на охоте и в другой раз убил. Далее Каркиас снова оживает, но, как кажется, живет в могиле и тут начинает горевать о сыне своем. Лишь только выговорил он тоску свою по сыну, как сын прилетает к нему в виде тетерева-глухаря. Досадуя, что сын равняется с ним в искусстве колдовать, Каркиас начинает ругать его, сын улетает. Тогда отец превращается в нырка-гоголя (Quakerente, Fuligula clangula), преследует сына, догоняет и приводит к себе назад. Затем следует ужасная брань отца с сыном, и песня заключается тем, что сын навсегда покидает отца.
Я записал все песни и рассказы рыбака и за то так щедро потчевал его табаком и водкой, что рыбак крепко полюбил меня и звал к себе в Киттила. Там обещал он рассказать мне кучу чудесных повестей и, сверх того, показать сейту, принадлежавшего Пэйвио. «Этот сейта, — говорил он с таинственной торжественностью, — ест людей, но ты не бойся, при мне он ничего тебе не сделает худого». При всем уважении к собственному могуществу принимал он Бланка и меня тоже за чародеев. Орудия, которыми Бланк ловил насекомых, и ножницы его казались ему чем-то волшебным, а когда я прочитывал записанное мною на бумажке заклинание, то он, увидя зачеркнутое место, указал на него, говоря: «Смотри, вот тут-то вся сила!». Рыбак этот родом был лопарь, детство провел в Финляндии и там лишился сознания своей народности и с ним вместе всякого человеческого достоинства. В существе его обнаруживалась трусость, лицемерное смирение, хитрость, корыстолюбие и многие другие способности, так легко развивающиеся у людей угнетенных. Он был отменно искусен в торговом ремесле. Мы купили у него несколько свежих форелеобразных рыб, которых он называл хариусами (Aeschen) и за которых он взял столько, сколько сам назначил. Обрадовавшись нашей щедрой плате, вытащил он из вонючего кошеля своего два сушеных хариуса, покрытых всякой нечистотой, и попросил за них почти ту же цену, какую взял за свежую рыбу. Мы и в этом удовлетворили его желание; тогда стал он собирать остатки последнего своего обеда, состоявшего из гусиных лапок, и предложил нам купить их; когда и эта продажа удалась ему, он с радость воскликнул: «Кто бы мог подумать, что здесь, на Ивалойоки, я так прибыльно буду торговать!». Между тем сын его собственной нашей смазкой намазал сапоги наши, и хотя труд его щедро окупался подаренными ему деньгами, книгами, хлебом и проч., но когда мы садились в лодку, рыбак торопливо кричал нам: «Смазка не заплачена, смазка не заплачена!». Когда же мы и за это заплатили и воображали, что совершенно удовлетворили всем его желаниям и требованиям, то попросил он еще рюмку водки на придачу.
Дальнейший путь вниз по реке Ивало был замечателен величавостью окрестной природы; не успели мы потерять из виду бездомного нашего хозяина, как шум и грохот ревущих порогов поразил слух наш и не переставал раздаваться целых три дня и три ночи. Эти пороги были чрезвычайно опасны, но нам не было другого выхода, и должно было отважно бросаться в кипящие волны, угрожающие на каждом шагу величайшей опасностью. Масса воды Ивало хотя не слишком велика, но слишком достаточна для поглощения нашей маленькой лодки. Мы должны были беспрестанно сдерживать лодку длинными шестами (lärlingar), иначе могла она силой порога удариться о скалы и огромные камни, нас окружающие. Весь день заняты мы были этой трудной работой, ночь же проводили около разложенного огня. Нигде не было крова головам нашим, целые восемь дней жили мы под открытым небом, постоянно терпя проливной дождь и пасмурную, холодную погоду.
Но возвратимся к реке и ее окрестностям. Во всей верхней части своего течения Ивало бежит между высокими, ужасными скалами, которые в иных местах нависли над поверхностью воды и не прерываются на пространстве нескольких миль. Часто Бланк и я взбирались с опасностью жизни на эти скалы в надежде порадовать себя наконец, хоть издали, видом озера Энаре. Но куда зрение ни простиралось: на север, юг, запад и восток, — везде оно встречало одни необозримые горы и скалы. Там, где между скалами погружалась более глубокая долина, туман, плавающий над долиной, иногда принимал вид озера, и мы несколько раз воображали, что видим желанное Энаре, но Иессио разочаровывал нас, уверяя, что не покажется нам Энаре, пока не кончится цепь скал.
За несколько миль до впадения реки Ивало в озеро Энаре суровые скалы, которые, подобно злому гению, сжимали бешеную, стремительную реку, начали мало-помалу исчезать, и вдали только виднелись их голые вершины. Вокруг нас явилась красивая, зеленой травой покрытая равнина. Стремительность реки уменьшилась, образовались на ней маленькие островки (holme), украшенные густыми купами лиственных деревьев; потом показались признаки человеческого жилья: стога сена, пахотные земли и т.д. Мы употребили последние силы, чтобы усиленной греблей скорее достигнуть жилья, и едва поверили глазам своим, когда вместо жалких хижин увидели в средине Лапландии красиво построенные финские дома, окруженные зеленеющими лугами и засеянными полями. Нельзя поверить, как благотворно действует такое зрелище после утомительного путешествия. Непрерывный ряд высоких, дооблачных скал, рев и кипенье водопадов смущали и каменили нам душу. Человек не может долго выносить грозную дикость природы, гибкость и восприимчивость чувств теряются, и впечатления грозной, охватывающей вас со всех сторон природы не перерабатываются в душе и только производят в ней какое-то мрачное онемение. Когда же природа становится спокойна, когда дикие стихии в мирном согласии отражают красоты создания, тогда и в сердцах людей пробуждаются свежие радостные чувства. Достойно, однако же, замечания, что самая красивая природа является мертвым трупом, если не видно на ней человеческого следа, но малейший признак: какой-нибудь дорожный знак, сломанное весло, обгорелый костер, одним словом, малейший признак обладателя вселенной — и самая мрачная пустыня наполняется жизнью, благом, красотой. Каким же земным раем показался нам Кирёби!
II. Путешествие от Кирёби до Утсъйоки
Приход Киттила во все времена был истинным местом бедности и горя. Около ста лет перед сим один живший землевладелец по имени Генрик Киро вынужден был по случаю ужасного голода оставить дом свой, поля и землю и в чужих местах искать пропитание. С таким намерением он поселился на Ивалойоки, на месте, названном после его именем — Кирёби, где хорошие луга и богатая рыбная ловля обещали ему беззаботное существование. Сначала все шло благополучно, но скоро волки и медведи стали навещать уединенную его хижину, опустошили его стада, и Киро снова обеднел и, будучи не в состоянии более содержать при себе многочисленное семейство свое, отпустил старших сыновей искать пропитание собственными трудами. Старший сын его Л а р с отправился в Норвегию и, посетив Киттилу, стал предлагать ее жителям, не хочет ли кто из них купить богато устроенную колонию в К и р ё б и, которую он будто довел до самого цветущего состояния. Томае К и р о, его родственник, давно уже терпел несносную бедность, которая тяготела над ним в Киттиле, и потому купил, не видавши, предлагаемую колонию за очень дорогую сумму. Рано весной отправился он на новое жилье: он правил сам ладьей своей вдоль по реке Ивалойоки, а жена по скалистому берегу гнала стадо. Оба вытерпели на пути неслыханные затруднения и утешали себя единственной надеждой, что в прекрасной колонии беззаботно проведут весь остаток жизни. Но, пришедши на место, они не нашли ни избушки, где бы можно было приклонить голову, и ни одного клочка земли, который бы был обработан.
Трогательно было слушать, как жена старика Томаса рассказывала эту печальную повесть, горькие слезы лились из глаз ее при одном воспоминании о том. Сам же Томас благодушно говорил: «Что прошло, то прошло! Полно, старуха, роптать на пути Провидения». Когда она рассказывала о всех обманутых своих надеждах, Томас прибавлял: «Здесь не было дома, правда, зато был лес, из которого можно было строить дома, и не нужно было лошади, чтоб издалека привозить его. На том же месте, где теперь дом, срубил я его своими руками. Песчаный пригорок превратился в зеленый бархатный луг, где, как ты знаешь, у меня паслись 30 коров и 60 овец». Тут жена прервала его замечанием, что все 60 овец в одну минуту были зарезаны волками. «Правда, — отвечал Томас, — но за наши труды и несчастья я получил медаль на шею и серебряный кубок, из которого пили двое знатных господ!».
Благосостояние, до которого мало-помалу достиг Томас, привлекло в Кирёби нескольких финнов из Киттилы и Эпонтекиса. Таким образом, по нижнему течению реки Ивало со временем возникло около дюжины финских колоний. Эти-то колонии называются Кирёби.
Покорные указаниям природы, колонисты в Киро избрали себе род жизни самый естественный во всей нашей северной Финляндии. Они преимущественно занимаются скотоводством, охотой и рыбной ловлей, земледелие же у них — второстепенное занятие и ограничивается сеянием ржи, сажанием картофеля и репы. Луга их так тщательно обработаны, что я не помню, где бы видел такую прекрасную траву, как в Кирёби. В конце ноября они привозят на оленях масло в норвежские морские бухты и променивают его на муку. Большая часть этой муки перегоняется в водку, хлеба же финны в Энаре употребляют мало.
Духовные лица в Киро очень хорошо отзывались мне о нравственности и благочестии тамошних жителей. Я сам видел редкие в других местах доказательства их услужливости и гостеприимства и не могу удержаться, чтобы не упомянуть о том. В продолжение скучного нашего переезда по Ивалойоки съели мы весь наш запас хлеба. Приехавши в Киро, мы купили у Томаса всю муку, которая была у него; ее стало только на восемь хлебов, из которых два тот же час были съедены. Остальными шестью должны мы были все четверо довольствоваться в течение пяти дней. По первому опыту, увидя невозможность такой умеренности, мы решились посетить одного колониста, живущего ниже на берегу Ивало; у него, по словам наших хозяев, было много муки. Приехавши в колонию, мы узнали, к великому нашему огорчению, что вся мука уже пошла на водку, и нам ничего не оставалось делать, как продолжать наше путешествие. Сильный дождь с грозой удержал нас на несколько часов в колонии. Когда он прошел, мы пустились опять в дальнейший путь и не успели проплыть двух миль, как увидели на пригорке у одной колонии целую сходку мужчин и женщин в праздничных одеждах. День склонялся уже к вечеру, гребцы наши не соглашались пристать к берегу, а, напротив, спешили до сумерек добраться до островка, лежащего на озере Энаре, где была лапландская деревня Юуутуа. Ночью опасно плыть по озеру — после солнечного захождения оно часто покрывается таким густым туманом, что самый искусный кормчий легко сбивается с пути. Между тем собравшиеся на пригорке люди так приветно глядели, что мне непременно хотелось видеть их вблизи. С этой целью я объявил товарищам, что у Иессио, как он мне прежде сказывал, между этими колонистами был родственник, и причины этой было достаточно, чтобы возбудить во всех, исключая Иессио, желание выйти на берег. Еще мы не успели причалить, как все мужчины, стоявшие на пригорке, прыгнули в воду по колено,
схватили лодку, вытащили на сухой берег и приветствовали нас радушными словами. Потом нас повели в горницу, где мы увидел пол, гладко укатанный и усыпанный еловыми ветками, стол и скамейки, уставленные в порядке, и недавно поновленный очаг, не успевший еще высохнуть. Все оказывали нам необыкновенную благосклонность, а хозяйка подала два огромных, еще горячих хлеба, прося не взыскать на бедном угощении. Дело в том, что пока мы пережидали грозу и дождь, из той колонии послано было без нашего ведома известие прочим колонистам о том, что мы нуждаемся в хлебе. Посланный заезжал в некоторые построенные в лесу дворы, и все жители единодушно побежали на встречу нового пастыря своего, ехавшего с нами. Чтобы принять нас достойным образом, они наскоро привели в порядок и исправили комнату. По счастью, в колонии нашлось несколько муки, из коей успели в течение нескольких часов напечь для нас хлеба. Каким образом все это сделалось так скоро, я не могу объяснить, но уверяю, что это действительно было так.
Наша беседа с дружелюбными жителями этой колонии длилась недолго, мы поплыли опять вдоль по Ивало. Вечер давно уже туманил воздух, когда мы достигли озера Энаре. На западной стороне его еще виднелись темные очерки высоких скал, между тем как на восточной было бесчисленное множество островов. Между островами были видны необозримые бухты, которые ночь покрывала уже черным своим покрывалом. Наша дорога шла не через эти островские бухты, но через бухту большого озера. Пока мы плыли, кормчий рассказывал нам все, что знал об этом озере. Он уверял, что Энаре (или
Энари, Энара, по-фински
Инари, по-лапландски
Анара, Эйнара) в длину имеет 12 миль, в ширину — 8, что на нем столько островов, что ни один смертный не мог сосчитать их, разве только Пэйвио. Один лопарь хотел некогда измерить глубину озера, привязал котел к канату и спустил его в воду. Но когда канат опустился на 200 сажен, то водяной дух
(haltia), страж острова, обрезал канат и завладел котлом. С тех пор никто не смел измерить глубину Энаре, но все принимают на веру, что большие бухты по середине озера совсем без дна.
Желая прежде ночи добраться до Юуутуа, мы сменили гребцов наших и сами сели грести. Мы гребли поочередно; отслужив мой черед, я лег спать и проснулся уже перед утром, но не в Юуутуа, а у необитаемого острова, куда кормчий принужден был пристать, чтобы не заблудиться на озере, покрывшемся густым туманом. Поутру туман начал рассеиваться, и мы вновь пустились в путь. Через несколько часов мы прибыли благополучно в упомянутую лапландскую деревню — первую, которую пришлось нам увидать с самого начала путешествия.
Вид лапландской деревни совсем непривлекателен, по крайней мере летом. Везде валяются рыбья внутренность, чешуя, гнилая рыба и всякого рода дрянь, заражающая сквернейшим запахом воздух. Не успеешь перенести это ужасное испытание, как появится другое, еще несноснейшее. Из-под низкого выхода палатки выползает куча людей, до того покрытых грязью, насекомыми и всякой мерзостью, что нельзя не содрогнуться от отвращения при первом взгляде на них. Но сами они очень спокойно на себя смотрят. Учтивость требует, чтобы все обитатели этой палатки, не выключая и детей, пожали руку путешественникам в знак привета. Когда эта церемония в глубоком молчании окончится, то можно ожидать непременно следующих вопросов: «Все ли спокойно у вас? Здоров ли государь, епископ, начальник округа (Landshöfdingen)?». Сверх того, у меня спросили, из какой я земли, и когда я отвечал, что моя земля за горами, далеко, то один лапландец спросил, не оттуда ли я пришел, где растет табак. Я вспомнил песнь Миньоны: Kennst du das Land, wo die Citronen bliihen?
[12]
Пока я разговаривал с лапландцем, женский пол деревушки оказывал великую суетливость. Любопытно было смотреть, как эти коротенькие и, на взгляд, неповоротливые существа торопливо бегали от одной палатки к другой. Вслед за тем последовало приглашение войти в маленькую, темную конурку, которая представляла комнату. Бланк и я неустрашимо приняли приглашение, Д у р х м а н еще прежде спасся бегством и до тех пор странствовал в лесу, пока не собрался с духом и не решился, наконец, приблизиться к грязному лапландскому гнезду. Между тем я преспокойно уснул в тесной этой избушке и, проснувшись, почувствовал себя столь свежим, что готов был отважно вступить в каждое лапландское жилище.
Хижина лапландская, так как и все энарские хижины, состоит из четвероугольного фундамента, которого каждая сторона состоит из трех сложенных друг на друга бревен, и из верхней дощатой части, имеющей вид пирамиды. В Утсъйоки, где мало леса, нижнюю часть кладут из камня и всю палатку обкладывают торфом для тепла. Кроме того, тамошние жилища не имеют пирамидальной формы, но скруглены и похожи на полушарие. Что же касается до внутреннего устройства, то оно почти одинаково во всех лапмарках. Во всю длину избы, т.е. между дверью и задней стеной, кладут параллельно две балки, две другие балки пересекают их поперек также от одной стены к другой. Таким образом, образовывается в избе девять отделений: три передние, то есть те, что у двери, служат для складки дров, кож для сапог и грубой домашней утвари; в трех задних, то есть тех, которые к задней стене, сохраняются жизненные припасы и то, что поценнее; из трех отделений, находящихся в середине, в самом среднем под дымовой трубой находится печь, от нее вправо живут хозяева, влево — остальные домочадцы. Если же семья многочисленна, то младшие ее члены размещаются по остальным отделениям.
Кроме, избы или палатки, у энарских лапландцев есть и другие строения. Около главного жилья всегда построены одна или несколько маленьких клетей на высоких подставках. Тут лапландцы кладут рыбу, высота предохраняет клети от нападения волков, медведей, лисиц и прочих хищных зверей. У богатых лапландцев есть, кроме того, комнаты, в которых, впрочем, не живут летом.
Когда мы приехали в Юуутуа, то застали жителей в простой, вседневной одежде; пока мы отдыхали, все они переоделись в праздничное платье. И мужчины, и женщины сняли черный свой
пески (peski) — это летняя верхняя их одежда, сшитая наподобие рубашки из дубленой оленьей кожи; вместо нее они надели такую же рубашку, только суконную. Сверх этой рубашки женщины надевают корсет, а на шею навязывают холстинный воротник, от которого висят длинные концы вроде кармана. Пояса у мужчин и женщин украшены блестящими серебряными и медными пряжками. Головной убор у женщин также довольно оригинален: он возвышается дюйма на три над макушкой и похож на подкову. Мужчины не держатся определенной формы в головном покрове. Оба пола носят обувь и панталоны из мягкой оленьей кожи, с которой шерсть соскоблена. Подробное описание лапландской одежды можно найти в книге А.И. Шёгрена (Sjögren):
«Anteckningar от forsamlingarna i Kemi Lappmark», стр. 244 и след. (Замечания об общинах лапмарка Кеми). Здесь я замечу только, что зимой мужчины и женщины носят верхнюю одежду из оленьей кожи с шерстью, одежда эта, так же, как и пески (peski), спереди наглухо сшита и имеет только одну небольшую прореху, так что кто не привык, тому очень трудно надевать и снимать ее.
Что касается до наружности лапландцев, то известно, что все они невелики ростом и обликом приближаются к типу монгольскому
[13], т.е. у них низкий лоб, выдающиеся скулы, маленькие глаза. По природе они ленивы, унылы и угрюмы. Замечают в них зависть, недоброжелательство, злопамятство, хитрость и прочие тому подобные качества, но зато хвалят их благочестие, услужливость, гостеприимство, смирение и целомудренную семейную жизнь.
Богатое рыбами озеро Энаре отучило лапландцев от их первоначальной многотрудной бродячей жизни. Теперь во всем округе не найдешь ни одного настоящего горного лапландца и ни одного кочующего, который бы занимался одним оленеводством. Все они рыбаки, или так называемые лесные лапландцы, из коих последние летом ловят рыбу, зимой пасут оленей. Впрочем, рыбный промысел — общее, главное занятие, а оленеводство так упало, что, по словам самих жителей, стада их оленей значительно уменьшились. Лесные лапландцы имеют то преимущество перед горными, что стада их не уходят весной на берега Ледовитого моря, а остаются зимой и летом в лесах, но зато они требуют большего присмотра, потому что могут заблудиться, одичать, попасться волкам или перебежать в стада горных лапландцев. Чем более лапландец втягивается в рыбный промысел, тем труднее ему становится необходимый уход за оленями, и потому горный лапландец неизбежно рано или поздно сделается рыбаком. Это превращение совершилось в короткое время не только в погосте Энарском, но и в главном приходе Утсъйоки. Вообще в нашей Финской Лапландии жители прошли уже первые две степени дикости, оставили горы и леса, или, другими словами, перестали быть горными и лесными лапландцами. Теперь они перешли на степень рыбаков, и, вероятно, недалеко то время, когда они совсем отвыкнут от жизни дикой и сделаются колонистами.
Нелишне будет сказать несколько слов об образе жизни финских лапландцев, преимущественно живущих в погосте Энаре. Весна, или Мариино время, есть самая важная эпоха в однообразной жизни лапландца. Все рыбаки из Утсъйоки и Энаре, также большая часть поселян из Соданкилы идут к морским берегам Норвегии в округ Фалед (Faelleds-District), чтобы по древнепринятому обычаю ловить там рыбу. Обычай этот состоит в том, что двое или трое наших сходятся с рыбаком норвежским, употребляют вместе с ним его лодку и сети, дают ему потом половину лова, а другую делят между собой. Десятую часть этой ловли как финны, так и норвежцы должны отдать тамошнему духовенству, а оно тут же передает ее торговцам, живущим в течение лета при бухтах и меняющим на муку все, что рыбаки могут добыть. Лапландцы жалуются на притеснения этих торгашей и за счастье почитают, если могут продать ловлю свою русским купцам, приезжающим в конце июля и в начале августа на ярмарку в бухтах, когда дозволена свободная торговля. Во время этой ярмарки русских съезжается много. Если верить показаниям одного словоохотливого лапландца, то вот какая разница в ценах русских и норвежских купцов: за одну вагу (waag=165 фунтов) муки норвежец требует 5 ваг свежей или вагу сушеной рыбы, а русский отдает одну вагу муки за две с половиной ваги свежей рыбы и одну вагу и 8 марок (4 фунта) муки за одну вагу сушеной рыбы. Но немногие финские лапландцы могут пользоваться выгодной торговлей с русскими; к Иванову дню они все разъезжаются по домам. В это время их собственные озера освобождаются ото льда, и они дома занимаются ловлей.
Тут-то начинается золотое время для лапландца, о котором он вспоминает зимой, как о потерянном рае: закупорись в палатке от мошек, с полным желудком, без забот о завтрашнем дне он может спать сколько хочет. Лапландец не променяет этого блаженства на все сокровища мира. Есть, однако, обстоятельство, которое нарушает его покой: он должен раз или два в лето переходить от одного озера к другому. Эти переходы делает всякий рыбак, живущий в округе Энаре. Лапландцы с давних пор владеют тут множеством маленьких озер, и как скоро рыба перестанет метать икру, они переходят на лов от одного озера к другому. Упомянутые озера часто соединяются одно с другим маленькими ручейками, и в таком случае переходы удобны; в лодку кладут сети, домашнюю утварь и проч, и плавают спокойно. Когда же нет сообщения между озерами, то рыбак должен сухим путем тащить лодку и все прочие принадлежности, что довольно тяжело и трудно.
С исходом лета лапландцы затворяются в зимних своих избах и питаются заготовленным запасом, то есть сушеной рыбой. Но запаса этого не может стать на всю длинную зиму. Рыбная ловля осенью подо льдом (по-лапландски juongas, по-фински juomus) едва дает ему дневное пропитание. Охота гораздо прибыльнее, особливо за дикими северными оленями, она продолжается осенью от Воздвижения до праздника Всех Святых, весной — от Благовещения до тех пор, пока земля освободится ото льда. И в древние времена охота за дикими оленями была у лапландцев важной отраслью промышленности, и для этого употреблялся особый способ ловли, который теперь оставлен и который называется
wuomen. Вот как описывает его Торнеус: «На равнине или на голой безлесной скале на протяжении одной или двух миль в длину и одной мили и более в ширину ставит охотник высокие шесты —
quasi duo cornua[14] — сперва довольно далеко друг от друга; чем далее идет он, тем ближе ставит шесты и на каждый привязывает что-нибудь черное и ужасное, чего олень пугается; в angustioribus
[15] ставит он плетень, каким обыкновенно шведы огораживают пашни, ставит его так высоко, что олень не может перепрыгнуть через него; наконец, in angustissimo
[16], он делает скат с пятью ступенями вниз, окружает его забором, который так част, что ни одно животное не может пролезать сквозь него. После всего этого лапландец обегает все горы кругом, гонит тихонько и осторожно всех попадающихся ему оленей к своему вуомену
(wuomen). Как скоро олени попадутся между двух рядов шестов, то не смеют пройти вправо и влево между ними, пугаясь черных лоскутьев, мотающихся на шестах. Лапландец с людьми своими стоит за шестами, стережет, чтобы олени из-за них не вышли, и старается медленно подвигать их вперед, позволяя им щипать белый мох (которым они питаются); олени ложатся и отдыхают, не чуя предстоящей опасности, как же скоро они приходят
ad angustiora и
angustissima[17], где с обеих сторон возвышается крепкий плетень, тогда лапландец с шумом бросается на них, преследует in
praecipitium[18] по пяти ступеням вниз; оттуда выпрыгнуть они не могут и остаются, таким образом,
in suo carcere[19]. Лапландец сам спускается туда и убивает всех — больших и малых. Ловля эта искореняет оленеводство в целой стране, потому-то другие лапландцы и ненавидят тех, кто занимается ею». По рассказам лапландцев, прежде диких оленей залавливали и во рвы, и «лапландские могилы», которые местами встречаются в Финляндии, и суть, вероятно, по большей части выкопанные ямы для ловли диких оленей. Обычай ловить диких оленей петлями сохранился доселе. Но лапландец предпочитает стрелять их из верного ружья своего, и многие уверяли меня, что во время весенней и осенней охоты им удалось застрелить около 30 или 40 оленей. Как ни прибылен этот промысел, но по самой сущности дела он не может быть надежен. Прежде для рыбака-лапландца самое верное средство пропитать себя зимой была торговля водкой с горными лапландцами. Рыбак отдавал всю муку, приобретенную им меной рыбы в бухтах норвежских, финским колонистам для выкуривания из нее водки и выменивал на водку оленье мясо у горных лапландцев, которые зимой приходили во множестве в Энаре. Обыкновенная цена была за канну (с лишком два ведра) водки олень-самец, за полканны — олень-самка. Так как рыбаки-лапландцы не очень пристрастны к горячим напиткам, то можно понять, как была им прибыльна эта торговля. Но в нашей Финской Лапландии торговля эта в последнее время решительно запрещена вследствие пагубных ее действий на нравственность. Выгоды, коих лишился энарский лапландец, конечно, со временем воротятся более правильным и улучшенным образом жизни.
Но я забываю, что мы еще находимся в лапландской избе, и после такого долгого в ней пребывания нам необходимо вздохнуть чистым воздухом. Будем же продолжать путешествие и простимся с Юуутуа, но не забудем по дороге заехать в энарский пасторский дом близ Юуутуа. Главное строение на пасторском дворе состоит из двух горниц, доступных всему, кроме солнечных лучей. Передняя комната украшается скамейкой, мало-помалу сделавшейся черной от грязных лапландских шуб; во второй стоит постель, набитая прошлогодним березовым листом и занимающая половину всей комнаты. Вместо кафельных печей в каждой горнице сложен очаг, а тепло бережется клоком сена, которым затыкается дымное отверстие в кровле. Единственные существа на пасторском дворе были чучела белок и сов. Таким образом, по прибытии нашем сюда Д у р х м а н, против чаяния своего, не нашел в церкви лапландцев и потому решился не разлучаться с нами до Утсъйоки. Мы все-таки пожелали ему счастья в новом его жилище и вместе с ним продолжали путь. Целую милю прошедши пешком до озера Стуораяура (Stuorrajaur), мы нашли на берегу его одну хижину, но, к сожалению, пустую и без лодок. Проводник уверял, что никак невозможно обойти озеро. Предложение мое развести огонь на берегу не было принято, потому что на этом месте его не будет видно за многими острыми утесами, подымающимися над озером. После долгого размышления решились мы послать постоянного сопутника нашего Иессио вместе с лапландским проводником разложить огонь на одном из мысов. Иессио воротился в полночь и сказывал, что проводник, вместо того чтобы разложить огонь, обходил тихонько мыс и, не отвечая на вопросы Иессио, манил его следовать за ним. Наконец Иессио вышел из терпения и угрозами заставил лапландца признаться, что он знает местопребывание хозяина хижины и идет к нему за лодкой, а Иессио для того ведет с собой, чтобы на возврате легче было грести. Рассерженный этим нечестным поступком, Иессио воротился, строго приказавши лапландцу не терять времени и привести лодку как можно скорее. Лапландец воротился не прежде четырех часов утра в таком дурном расположении духа и с такой сопревшей лодкой, что мы насилу могли на ней перебраться до ближайшей деревни, лежащей на острове Стуораяурского озера. В этой деревеньке нашли мы две порядочные горницы, тем не менее лапландцы жили в хижинах, по той причине, как они уверяли, что в черной, дымной хижине нет мошек. Так как день был воскресный, то Д у р х м а н должен был совершить богослужение в этой деревне. Потом пустились мы опять в путь, озером проплыли две мили и достигли финской колонии, расположенной при устье Камасъйоки. Здесь представилась нам грустная картина нищеты, порожденной не внешними обстоятельствами, не недостатком образования (хозяйка была из хорошей фамилии), но нравственным развратом, бедствием пьянства. Мы недолго тут побыли и спешили уйти на скалы. Тут впервые мы очутились в истинной земле северных оленей. Куда ни обращаешь взор, всюду видишь только олений мох — эту северную траву, на которую я никогда не мог глядеть без грустного чувства. Обширные болота, кое-где прерываемые скалами, конечно, не могли развлечь этого чувства. К довершению всего проводник наш, взятый в Юуутуа, был такой угрюмый, молчаливый лопарь, что не поддавался ни ласкам нашим, ни водке, ни угрозам. Сурово и недовольно шел он вперед с ношей за спиной и на все вопросы отвечал любимым лапландским выражением: «Не знаю, право не знаю!». Это выражение употребляет лопарь в каждой речи, не придавая ему никакого значения. Однажды я спросил у лопаря, сколько лет он жил на одном месте. Он отвечал: «Право не знаю, девятый год!».
Четыре мили прошли мы в течение осьми часов, в два часа ночи пришли к месту, где отец нашего проводника занимался рыбной ловлей. Мы ожидали приветливого, радушного гостеприимства; вышло, что во всей Лапландии это было единственное место, где с нами обошлись недружелюбно. Утомленный трудным переходом, попросил я стакан воды, чтоб освежиться, мне указали на озеро, до которого конечно было оттуда около версты. Не желая угощать нас, рыбак стал жаловаться на неудачную ловлю, но мы успокоили его, сказав, что нужен нам только отдых, а не пища. Однако лапландец не дал нам и постели. Когда ж мы принялись располагаться на скале, он указал нам маленькую пустую избушку, но и тут мы не могли заснуть. Оленьи шкуры, постланные вместо постелей, до того были наполнены насекомыми, что мы никак не могли заснуть. Мы спешили уйти от этого негостеприимного места и через несколько миль пришли к хижине, где нас приняли с ласковой приветливостью. Глава семейства был человек веселый, словоохотливый, щедрый; рыбная ловля его летом была неудачна, но он утешал себя тем, что нужды его, как и всех вообще лопарей, немного больше нужд комара. Когда я стал жалеть о бедной судьбе его соотчичей, он отвечал с довольным видом: «При всей нищете нашей мы живем беззаботно и не желаем лучшего». Он убежден был, что лапландец идет прямо в могилу, когда покидает скалы своей родины, и приводил в пример мальчика, которого отец продал богатому господину. Мальчик скоро умер, и все лапландцы уверились, что Бог наказал корыстолюбивого, бесчувственного отца смертью сына. Отца этого встретил я после у церкви в Утсъйоки. Он пришел помолиться вместе с другими, но, одумавшись, счел себя недостойным войти в храм Божий. Угрюмый, как привидение, бродил он молча по кладбищу во все время божественной службы.
Выходя из деревни, я слышал, как проводник наш расспрашивал хозяина о дороге в Миерашяур (Mieraschjaur) — следующую нашу станцию. Переговоры шли по-лапландски, шепотом, и я мог понять только, что в продолжение пути нам следует подняться на скалу и идти вдоль пересохшего ручья. В 4 часа после обеда пустились мы в путь с полной надеждой прийти вечером на станцию, что и исполнилось бы непременно при обыкновенных условиях, но, к несчастью, проводник наш совсем не знал дороги, и когда через полчаса пришли мы к озеру, он никак не мог решиться, по какой стороне идти. Иессио посоветовал держаться северной стороны, и мы пустились наудачу. Часа через четыре с великой радостью увидел я скалу, о которой сказывал прежний наш хозяин. Перешедши скалу, я заметил, что проводник слишком часто меняет направление, Бланк приметил то же, и мы вынуждены были подвергнуть лапландца строгому допросу. Он признался, что никогда тут не ходил летом, но бывал часто зимой в Утсъйоки и потому знаком с местностями, хотя, может быть, ведет нас не ближайшей дорогой, а направление меняет оттого, что на этой дороге есть много непроходимых мест. Поневоле должны мы были довольствоваться этим объяснением. Пройдя еще порядочное пространство, проводник указал нам на скалу и уверял, что как скоро поднимемся на ее вершину, то Миерашяур будет как на ладони. Мы взобрались на скалу, вскарабкались на самую вершину и не увидели Миерашяура, а только заметили над собой тучу чернее ночи. Холодный ветер подул на скале, и вскоре полился такой сильный дождь, что все горные ручьи зашумели. Не говоря ни слова, лапландец пошел проворно вперед, и мы едва могли идти по следам его. Около полуночи дошли мы до хижины в Миерашяуре.
Только что мы хотели войти в эту хижину, как дверь изнутри отворилась, вышел лапландец с озабоченным лицом и слезами на глазах. «У меня умирает жена», — сказал он едва внятным голосом, воротился в хижину и запер за собой дверь. Через несколько минут вышед опять, он сказал, что не может впустить нас в хижину, где мучится жена его, и просил опрокинуть лодку и как-нибудь под нею спрятаться от дождя. Мы последовали доброму совету, но, продрогши и промокши, чувствовали необходимость развести огонь. На всем протяжении скалы, по несчастью, не было ни плахи дров. Подле хижины
лежала срубленная елка, но, очевидно, она служила для развешивания сетей. Иессио нашел ее вполне годной и распорядился ею, несмотря на возражения проводника, защищавшего собственность бедного Педера. Скоро запылал костер, и мы отправили Иессио подать, если возможно, помощь жене Педера. Счастье благоприятствовало ему и тут; мы не успели еще заснуть, как Педер явился с просьбой дать рюмку водки жене его, которая с помощью Иессио счастливо родила мертвого младенца. Поутру на другой день схоронили мы младенца в могилку и завалили ее камнями для сбережения трупа от диких зверей.
По окончании этого обряда мы взяли у Педера лодку, сами гребли вниз по реке и в тот же вечер достигли пасторского жилища в Утсъйоки — цели многотрудного нашего путешествия.
III. Возвратный путь из Утсъйоки в Кеми
Когда мы прибыли в Утсъйоки, там жило семейство одного финского пастора, которое в этой дикой земле провело уже несколько лет, разлученное с родными и друзьями, вдали от всего образованного света. Главой этого семейства был пастор И. С. — человек образования многостороннего и с весьма энергическим характером. Покорный внутреннему призванию, он решился поселиться в Лапландии не для того, чтобы новыми открытиями в области наук приобрести лавр ученого, еще менее для того, чтобы кратчайшей дорогой достигнуть высших должностей, но с целью посвятить себя трудной миссионерской проповеди и просветить умы диких горных жителей.
Желая сколько-нибудь облегчить пребывание свое в этой безрадостной стране, С. по приезде своем в Лапландию исправил старое маленькое жилище прежних миссионеров — ветхую хижину на берегу озера Манду у самой утсъйокиской кирки. Потом отправился он в Финляндию и привез оттуда молодую милую жену, которая, не колеблясь нисколько, готова была сопутствовать мужу на край света, не взирая на слабое свое здоровье. Ее сопровождала с благородным самоотвержением девица Е. Р. — пятнадцатилетняя подруга ее.
Маленькое семейство проезжало страшные утесистые горы Лапландии в жестоко-холодную зиму. Молодые дамы научились править и сдерживать в равновесии маленькие шатающиеся санки (pulka) в то время, когда олень быстро мчал их с одной скалы на другую. Целые дни принуждены они были жаться в этом беспокойном экипаже без малейшей защиты от ледяного горного ветра. Ночью довольствовались часто снеговой кровлей или бедной лапландской лачугой. Кроме этих для всякого лапландского путешественника неотвратимых неприятностей, случались другие опасности и приключения, которые едва не стоили им жизни. Но милосердная рука провидения привела их невредимо к цели. Они достигли места своего пребывания и в тесном, низком домике неизъяснимо радовались, сидя спокойно у теплого очага и издали слушая рев бури на скалах.
Но недолго суждено им было жить спокойно: маленький домик их сгорел вскоре после прибытия их в Утсъйоки. Пастор был в то время в отлучке по делам своей службы, служителей тоже не было дома, и дамы оставались почти одни. Можно вообразить весь ужас их положения. Но каково же было и пастору С., когда по возвращении увидел он одно пепелище сгоревшего дома и не знал ничего о судьбе своих оставшихся. Вот что он писал об этом к своему Другу: «Каким ужасом поражен я был, когда приехал домой два дня после пожара и увидел одни курящиеся развалины! Я оставил на озере оленя, усталого от одиннадцатимильной дороги, сорвал с себя дорожное платье и побежал ко двору. В это время я одумался и вспомнил, что до ближнего соседнего двора на юг (приход Соданкила) было 50 миль, до Вадзое, к северу, — 16 миль, а жена моя была беременна. Недалеко стояли две или три хижины без кровли и дверей, я заглянул туда, там не было ни одного живого существа. Тогда представилась мне ужасная мысль: не сгорели ли они? А если спаслись от пожара, то, вероятно, замерзли, потому что ближе мили не было ни одного лапландского жилья. Я хотел кричать, звать их, но не мог произнести ни одного звука. В таком положении я, конечно, сошел бы с ума, если бы Амелия и Эмма не вышли из одной из этих лачужек. Пожар случился ночью. В три часа ночи жена моя проснулась и, чувствуя дым в спальне, кликнула служанку. Но кухня была уже вся в пламени, и через дверь нельзя было пройти. Жена должна была выпрыгнуть в окно, набросив на себя одну кофту, и в этой одежде вышла она ко мне навстречу. Я не мог удержать радостных слез, увидевши, что они живы. Потеря всего имущества не столько меня озабочивала, сколько беспокойство о том, обойдется ли даром бедной жене моей в ее положении весь бывший страх и тревога, тем более что и потом много было бед, которые могли стоить ей жизни».
После этого несчастного пожара С. с семейством своим больше полугода принуждены были жить в хижине, где лапландцы останавливаются, когда приезжают помолиться в церкви. Вот описание этой хижины, взятое из того же письма: «Пока одну сторону греешь, другая мерзнет. Дым постоянно стоял в избе, но старинная пословица: где дым, там тепло — не имела здесь места. Сквозь кровлю, как сквозь решето, беспрестанно лилась вода, а ветер свистел во все дыры и скважины стен».
Пять лет прошло после этого печального происшествия, и когда мы пришли к пастору С., то нашли его уже в новом доме, который он успел построить. Это жилище, тесное и маленькое, вмещало в себе, конечно, больше истинного счастья и довольства, нежели сколько обыкновенно бывает в огромных палатах. Члены маленького семейства связаны были нежной любовью и ничего выше этой любви не желали. По крайней мере пастор С. уверял меня, что нигде не было ему так хорошо, как в этом горном воздухе, а молодая жена его шла легко и весело по дороге жизни, опираясь на руку любимого мужа и окружась милыми детьми. Что же касается до девицы Р., то не только ей было хорошо и приютно с этим семейством, но она полюбила страстно высокие горы и скалы и с величайшим удовольствием носилась по их вершинам на быстрых оленях. Тем не менее казалось нам, что звуки ее арфы издавали иногда скорбные жалобы на пустоту жизни. Эти звуки сделали такое глубокое впечатление на Дурхмана, что после десятидневного нашего тут пребывания мы отпраздновали помолвку его с этой любезной девушкой. На этом празднике Бланка не было уже с нами. Незадолго прежде отправился он вверх по Тено опять в Муониониску, а на другой день после помолвки, 10 августа, и мы сДурхманом предприняли обратный путь к Энаре.
В Лапландии нельзя выбирать дорог; по той же дороге, по которой мы ехали сюда, должны были мы ехать и назад, к энареской церкви. Вначале путь шел опять по реке Утсъйоки и ее гремящим порогам; Дурхман и Иессио пробирались по ним, с трудом управляя лодкой, а я шел пешком по скалам. Грустные чувства наполнили душу при виде, какое опустошение произвел везде мороз во время пребывания нашего у пастора в Утсъйоки. Приземистые березы, окаймляющие скалу, стояли иные поблекшие, иные совсем без листа; цветы пожелтели, опустили головки и нагнулись до земли. Без цели летали горные птицы, ища убежища от холодного ветра. Все вокруг меня до того было пусто, что я с сожалением обращал взоры к приютному двору пастора, однако и тот вскоре от меня скрылся, и перед глазами поднялась снежная вершина скалы Расте-Кайзе (Raste-Kaise), облеченная густым туманом. Мало-помалу туман этот обратился в черную тучу и, к величайшей досаде, пошел за мною следом. У меня был талисман против этого врага — мой лапландский
пески (peski), но я оставил его в лодке, а лодка была далеко назади. Я решился идти как можно скорее, чтобы убежать от непогоды в маленькую рыбачью хижину, которую заметил во время путешествия в Утсъйоки. Мне действительно удалось добраться до этого убежища, но хижина, к несчастью, была заперта обыкновенным деревянным замком лапландцев, который отпирается не ключом, но каким-то умением, которого у меня не было. Не в состоянии будучи отворить двери, пытался я пролезть сквозь дымовое отверстие, но и эта попытка была неудачна. Я начал осматриваться кругом, не найду ли себе другой кровли, и, к великой радости, открыл невдалеке другую хижину. Но и та была замкнута на лапландский манер, однако ж, облитый дождем, осыпанный снегом и ошеломленный бурей, в жестокой нужде своей я скоро отыскал средство отпереть замок. Радостно вздохнул я под кровлей, но в тесной лачуге, наполненной кастрюлями, котлами и прочей домашней утварью, нелегко мне было устроить себе ночлег. Наконец удалось и это, и я заснул на разложенной оленьей шкуре. Первая мысль при пробуждении была та, что я проспал своих товарищей, что они проехали мимо, не отгадавши, куда я запрятался, и что, вероятно, будут продолжать путь до самого Энаре. Испуганный этой мыслью, побежал я к берегу и пришел в ту самую минуту, как они отталкивали лодку от берега. Действительно, они меня искали, кликали, звали, но, не получая ответа, вообразили, что я дошел до хижины Педера, которая была недалеко.
День оканчивался, когда, добравшись до этой хижины, мы принуждены были провести в ней ночь, не в беспокойной тесной лачуге, но подле огня
(nuotio), зажженного из остатка той ели, которую Иессио заблагорассудил принять в свое владение во время нашего первого тут пребывания. Само собой разумеется, что мы воспользовались удобным случаем сделать полный осмотр даров, отпущенных с нами на дорогу попечительной пасторской семьей. Мешок наш туго был набит съестной провизией и бутылками с вином, при ярко пылающем огне мы превкусно насытились и выпили по стакану за здоровье отсутствующих наших хозяев и за оставленную печальную невесту. Совсем не лишним показалось нам это подкрепление, тем более что непогода бушевала всю ночь и покрывала нас снегом и дождем так, что, несмотря на веселую вечеринку, поутру встали мы чуть не замерзлые и очень в дурном расположении духа.
Не позавтракавши и не обсушившись, спешили мы отправиться в Энаре. Дурхману нужно было поспеть в Энаре, чтобы через два дня, когда лапландцы должны были собраться в церкви, совершать богослужение. Нечаянная помолвка задержала нас в Утсъйоки долее, чем мы предполагали; не желая, чтобы Дурхмана дожидались прихожане, мы должны были ускорить шаги до изнеможения сил. Взявши в проводники Педера, мы бежали по горам, тундрам и болотам с такой поспешностью, как будто от нас зависело спасение чьей-нибудь жизни. 16 часов бежали мы без остановки и, остановившись отдохнуть, не дали себе времени порядочно поесть. Меня томили голод и жажда, я мимоходом рвал в болотах растущую морошку, но и тут злая судьба решилась меня преследовать. За мной по пятам шла несносная лопарка, и как скоро я нагибался, чтобы сорвать ягоду, она с ловкостью хищной птицы предупреждала меня. Ни ласковые слова, ни угрозы не внушали ей ни малейшего сожаления: она смеялась, слушая мои увещания. Наконец, заметив, что силы мои совсем начинают слабеть, она оторвала с низкого дерева кусок коры, облупила ее и подала мне в вознаграждение за похищенную морошку. При такой плохой пище должен я был еще тащить на спине тяжелую суму! Совсем изнурившись, добрели мы в полночь до первого финского селения. В этот день мы прошли 8 шведских миль (80 верст). Я так изнемог от такого напряжения сил, что на другой день не был бы в состоянии продолжать пути, если бы не представилась возможность большую часть дороги плыть в лодке. После этого в течение многих дней я чувствовал такое изнурение, что идти пешком не мог уже никуда.
Это время отдыха провели мы частью при церкви в Энаре, частью в деревне
Киро. Тут я с умилением убедился в глубоком и неизменном благоговении, с каким лапландцы слушают божественную службу. Двое суток провели они почти в непрерывной молитве частью в церкви, частью в собственных тесных домишках. Некоторые из них знали наизусть почти весь Новый Завет, а во время богослужения заметил я, что при пении псалмов ни один лопарь не глядел в книгу, между тем как финны часто справлялись с своими молитвенниками. В самом деле, нельзя не обратить внимания на то, что лапландцы в Энаре, бывши много лет без пастыря, приобрели столько религиозных сведений, между тем как весьма недавно они едва были знакомы с христианством. Они, правда, были окрещены во время католичества, но древнейшие церкви в Лапландии построены не раньше, как в царствование Карла IX и на собственный его счет, именно около 1600 года. Тем не менее все еще продолжали жаловаться на неведение лапландцев закона Божия, и в 1751 году в отчете, представленном главному духовному управлению в Або Нильсом Фельманом, сказано, что до самого царствования королевы Христины они «как заблудшие овцы, бродили в языческом мраке, преданные суевериям, колдовству, почитанию деревянных и каменных кумиров, и, что всего ужаснее, приносили им в жертву собственных детей».
С тех пор в Лапландии исчезло даже воспоминание о язычестве. О прежних божествах своих Айа
Икко, по-фински
Айя, Икко; Акка, по-фински
Акка, Амма; Туона, по-фински
Туони лапландцы знают только по именам их
[20]. Всем известны выше упоминаемые каменные и деревянные кумиры, или
сеиды, которые прежде чтились лопарями как пенаты
[21]. Мне рассказывали, что деревянные
сеиды выдалбливались наподобие человеческого образа почти так же, как видим их теперь у остяков, вогулов и других отдаленных отраслей финского племени. Такие кумиры недавно были найдены в часовне Тервола в приходе церкви Кеми, где известны они были под именем
молекит. Вероятно, это название заимствовано у христианских священников, называвших этих сейдов молохами, потому что и им, как Молоху, приносили в жертву людей. Догадка эта может, однако ж, быть подвергнута сомнению. Что же касается до каменных сейдов, то сказание говорит, что они состояли по большей части из естественных камней, отличавшихся величиной или наружной какой формой. В тех частях лапмарков, где живут финны, эти камни называются
кента-кивет (kenttä-kiwet), от финского слова
кента (kenttä) — место и
киви (kiwi, множ. Kiwet) — камень; это-то название показывает, что
сеиды были пенаты лапландцев, что можно видеть и из других данных. Прибавим еще о форме сейдов, что были и такие каменные сейды, которые созданы были человеческими руками. Они составлены из груды вместе сложенных камней, из которых иные представляют голову, другие — плечи, грудь и прочие части человеческого тела.
Я имел случай видеть такого сейда на одном острове Энареского озера при переезде нашем от церкви в деревню Киро. Лопари чрезвычайно боялись этого истукана, с отвращением показывали на темные кровяные и жирные пятна, видимые на поверхности кумира, которого некогда мазали жиром и кровью, и, казалось, еще верили, что в нем обитает какой-то злой дух. Проводник наш, не крещенный еще, но уже оглашенный лапландец, убеждал нас оставить скорее это нечистое место, страшась, чтобы живущий на нем дух не наслал на нас бури, и только что сели мы в лодку, он начал петь длинные духовные песни и читать псалмы. Действительно, буря как будто не посмела разразиться, и мы счастливо доплыли к старому Томасу, который по-прежнему дал нам гостеприимный приют на несколько дней.
По-настоящему мы не намеревались оставаться в Киро, но силы мои так были еще изнурены от вышеупомянутой прогулки, что я едва мог ходить по горнице, не только предпринять путешествие за три мили на скалу Сомбио (Sombio). Принужденный сидеть в бездействии, я с беспокойством видел, как лапландское небо с каждым днем становилось грознее и мрачнее, как поднимался рев бури, пожелкла трава, с деревьев свалился лист, пролетели на юг перелетные птицы, и осень водворялась со всеми своими признаками. Испугавшись этих признаков, должен я был предпринять трудный путь на скалу, и 15 августа, хотя силы были еще очень истощены, ноги распухли, а подошвы совсем стерты, решился я идти.
День давно уже сиял, когда мы навязали сумы на спину и, взявши в проводники одного финна, пошли в долгий наш путь. Не прошло еще двух часов нашей ходьбы, как загремел гром и из обложного со всех сторон густыми тучами неба полил дождь. По счастью, сторона была лесистая, и мы скоро нашли убежище от проливного дождя под несколькими ветвистыми соснами. Тут отыскали мы источник с светло-струящейся водой и вознамерились не мучить себя долее и провести здесь остаток дня, подкрепивши силы припасами, взятыми в Утсъйоки, и приготовившись, таким образом, к многотрудному странствию следующего дня.
К ночи непогода утихла, но на следующий день поднялась опять гроза с дождем и сильным порывистым ветром. Тут не нашли мы и убежища от бури; места, через которые приходилось идти, были безлесные, одни скалы и болота. В дневнике моем не нахожу ни слова о положении и особенностях этой страны, потому что дождь поливал меня беспрестанно так, что я не имел возможности обратить внимание на окружающую природу и исключительно был занят одной своей особой.
Утомленные непогодой и трудной ходьбой, обрадовались мы чрезвычайно, когда при наступлении ночи проводник указал нам на большую, уединенно стоящую сосну, под ветвями которой кое-как можно было укрыться от дождя. О покое нечего было думать, всю ночь, не переставая, гремел гром над нашими головами и не давал нам уснуть. На следующее утро мы снова пустились в путь при продолжающемся дожде и ветре. Нам предстояло перебираться через гору, поверхность которой вся покрыта была голыми камнями и обломками скал, из коих одни были так остры, а другие так скользки, что на каждом шагу мы подвергались опасности слететь с горы и сломать себе руки и ноги. Однако же мы благополучно взошли на гору и вскоре очутились на берегу озера Сомбио (Sombio). Тут отыскали мы маленькую лодку и переправились на ней через озеро к устью реки Лупро, и вдоль ее мы доплыли до одной небольшой колонии, где провели несколько часов, чтоб отдохнуть от утомительного путешествия по скалам. Долее отдыхать не имели мы нужды, зная, что следующие дни не будем напрягать сил своих пешеходством, ибо можно было продолжать путь рекою.
Во время этого переезда посетили мы несколько финских дворов, или так называемых колоний, поселенных вдоль по берегу. Имена их исчезли из моей памяти и стерлись в путевых заметках, но время не может изгладить того глубокого впечатления, которое произвела во мне ужасная нищета, тяготевшая над жителями этой несчастной страны. Семнадцать лет постоянного неурожая довели этих бедных жителей до такой степени убожества, что они, без преувеличения, питались сеном. Известно, что поселяне во многих местах в Финляндии употребляют коряный хлеб, то есть хлеб, испеченный из толченой коры, смешанной с мукой. Бедные жители озера Сомбио едва имели понятие о возможности такого изобилия, ибо сами едят солому, смешанную с древесной корой. Нынешний год солома очень рано вышла, и они бедную жизнь свою поддерживали древесной корой, смешанной с травой, которая у финнов называет
weserikko (Cerastium vulgare — ясковка, сем. Гвоздичных). Рыбная ловля была также очень незначительна, а о скотоводстве они мало думают, хотя берега вдоль реки Лупро богаты сочными лугами. В таком отчаянном положении многие из жителей хотели покинуть это «отверженное место» и переселиться на бухты Восточного финнмарка, куда и прежде выселились целые толпы их. Другие же благочестивые жители питали надежду, что будет конец их страданиям и что теперешний голод есть справедливо ниспосланное наказание за грехи.
Сокрушенные ужасной нищетой, которая встретила нас во всех колониях, спешили мы сократить наше странствование и по двухдневном усиленном плавании пристали к деревне Локка. Тут взяли мы опять сумки на плечи и продолжали пешком путь; река так извивалась, что слишком велик был бы крюк, если бы мы по ней плыли. Через три мили скучной ходьбы по пустым, не населенным местам встретилась нам опять та же река у колонии Тангуа (Tanhua). Вместо того чтобы следовать по ее течению, решились мы сухим путем идти до церкви Соданкила и оттуда рекой Китинен добраться до озера Кеми. Едва сообщили мы это намерение колонистам, как они все в один голос восстали против него, и ни один не хотел взяться проводить нас. Предполагаемое нами путешествие, по их уверениям, сопряжено было с опасностью жизни, дорога шла по бездонным болотам, которые после проливных дождей до того были, по словам их, вязки, что трудно было бы не утонуть в трясине. Однако мы не только не испугались этих предвещаний, но еще обещали большую награду тому, кто согласится указать нам дорогу по этим трясинам, которые шли на целые пять миль, и, сверх того, обязались щедро угостить и хлебом, и водкой. Соблазнившись такой приманкой, один из колонистов взялся вести нас по болоту, готов был с нами хоть на смерть и стал уверять, что несколько раз ходил по этой дороге и днем, и ночью, и пьяный, и трезвый.
Едва только взошло солнце, мы отправились. Сначала дорога шла по сухим и очень приятным местам, но скоро представилось нашим взорам необозримое болото. С содроганием глядели мы на эту колеблющуюся топь, в иных местах покрытую мхом, в другом голую, сплошную трясину. Чувство боязни овладело сначала и проводником нашим, но, покушавши исправно и напившись водки, он ободрился, запасся пятиаршинной палкой и вошел неустрашимо в топкое болото. Мы не отставали от него ни на шаг и старались ступать по следам его ног, ибо каждый неосторожный шаг мог обойтись дорого. Проводник, с самого детства знакомый с этим болотом, разумеется, лучше нас мог различить свойство земли, но и он часто мешался и палкой своей пробовал почву. Если большое пространство трясины казалось ему подозрительным, то он оставлял нас на месте и шел один на рекогносцировку. Но он редко возвращался за нами, а издали палкой указывал нам путь, по которому надлежало ступать. Часто след ноги его, по которому нам надобно было идти, пропадал, и мы приходили в великое смущение и страх. Нелегко сохранить хладнокровие, когда почти на каждом шагу вязнешь по колено в дрожащей земле и не можешь рассчитать, во сколько это трепетное болото может вынести тяжесть твоего тела. Трудно было ступать по болоту с уверенностью, когда оно под ногами нашими поднималось и опускалось, подобно поверхности моря после бури.
Эти колеблющиеся пустынные топи в иных местах пересекались узкими полосками твердой земли, и на них мы отдыхали от чрезмерно трудной ходьбы. На таких местах проводник не пропускал случая предъявить права свои на водку и, достаточно удовлетворившись, занимал нас рассказами о разных происшествиях, случившихся в этих самых местах. Большая часть этих рассказов была мифологического содержания, но в одном приключении он сам был героем. Раз, отправляясь в церковь, нечаянно наткнулся он на медведицу, сидевшую на дереве с двумя медвежатами. На эту пору он был пьян и почувствовал, что не весьма благоразумно связаться с тремя медведями, решился прежде выспаться, а потом уже рассмотреть, как ему быть. Проснувшись и отрезвившись, увидел он, что медведи все еще сидят на том же дереве, вследствие чего и начал он заряжать ружье свое. Но тут герой наш сделал печальное открытие, а именно, что у него одна только годная пуля, другой пули половина и еще заржавелый гвоздь. С такими средствами напасть на трех медведей показалось ему сперва несколько опасно, но, подумавши, отважился он променять истертую, изношенную свою оленью кожу на три прекрасные медвежьи шкуры. Храбро прицелился он на медведицу, и выстрел так верно пришелся, что она тотчас же свалилась с дерева. Тогда одного медвежонка убил он своей половинчатой пулей, другого — заржавелым гвоздем.
Богатым источником рассказов служили словоохотливому нашему проводнику отвратительные змеи, которых встречаешь в Соданкила почти на каждом шагу и которых нет во всей Лапландии. Кажется, будто эти пресмыкающиеся не могут перейти через скалу Сомбио, и потому на юг от этой скалы находится их множество; точно то же рассказывают прибрежные жители реки Кеми о миногах, что их кишит невероятное множество пониже водопада Тайвалкоски, потому что ревущий водопад ставит им непроходимую преграду. Как бы то ни было, но не подлежит сомнению, что в Соданкила находится необъятное количество змей, и что тамошние простолюдины рассказывают о них нескончаемые повести. Я записал главное содержание этих рассказов, оно состоит почти в следующем: змеи, подобно людям, живут обществами, управляются своими законами и имеют свои учреждения. В каждом обществе есть глава и подчиненные ей члены. Однажды в год собирается каждое общество на назначенное и выбранное ими место. В этих собраниях (ting, käräjet) всякий подданный имеет право представить свое предложение начальнику. Глава змей держит суд и расправу не только между змеями, но могущество свое распространяет далее владений своих. Между прочим, он назначает наказания людям и животным, умертвившим кого-либо из его подданных, или тем, на кого они за что-нибудь пожаловались.
Замечательно, что точно те же понятия о змеином роде встретил я у многих сибирских народов, родственных с финскими. Кажется даже, что эти народы питают к змеям некоторое благоговение. По крайней мере шаманы высоко почитают силу змей и потому на волшебных своих одеждах носят из лошадиных волос сплетенных змей. У финских шаманов нет подобных символов, сколько мне известно, но и у них можно найти различные волшебные вещи, которые заставляют невольно предполагать о веровании в сверхъестественную силу змей. Между этими вещами назову некоторые:
1)
Камень змеиного суда (Käärmehen kärä jäkiwi), находимый во время жатвы на скалах, с которых разошлось змеиное собрание. Этот камень шаманы почитают очень полезным в судебных делах.
2)
Змеиная кишка (Käärmehen suoli); ее истирают в крошки и кладут лошадям в корм и в пойло для того, чтобы лошади были в теле.
3)
Змеиное горло (Käärmehen suunahka). Шаманы сквозь него пропускают каплями воду в рот людям, у которых болит шея.
4)
Змеиный зуб (Käärmehen hammas). Шаман прижимает им больные места в то время, как читает заклинания.
5)
Змеиная травка. Змея держит ее во рту, пока переплывает через воду, иначе она утонет. Эта травка дает силу кусать самое твердое железо. Ею же предохраняют себя от тяжбы.
Но довольно о змеях и медведях. Что касается до собственных наших особ, то мы, вязнувши целый день в болотной тине, наконец пришли около полуночи в благоустроенное поселение, где и вознамерились отдохнуть до утра. Войдя в комнату, с удивлением заметил я, что хозяева, вместо того чтобы нас приветствовать и предложить садиться, отошли молча в отдаленную часть комнаты и там тщательно старались спрятаться от наших взоров. Измученный долгим походом, не стал я заниматься этой странностью, снял с себя сумку, бросился на лавку и тотчас же заснул. Хозяйка скоро разбудила меня и весьма ласково звала в баню, извиняясь самым трогательным образом в неучтивом своем приеме. Меду тем проводник шептал мне на ухо, что нас сочли за бродяг и разбойников, что его самого жестоко укоряли за то, что связался с таким народом, и что он с трудом мог разуверить жителей колонии и убедить, что мы люди порядочные и честные, хотя все платья наши изорваны сучьями кустов и запачканы грязью и тиной. После этого объяснения надобно было стараться исправить случившееся недоразумение. Хозяйка не только приготовила нам баню и сама там прислуживала, но с совершенной доверчивостью повела нас из бани в собственную свою спальню и постлала нам постель рядом с своей кроватью. На другое утро, нарядившись в праздничное платье, явилась она перед нами, держа в руках прекрасный поднос, на котором блестел кофейный прибор.
После завтрака отправились мы опять в путь и пришли в погост Соданкила прежде начала богослужения. Г-да духовные пошли в церковь, а я сел разбирать церковный архив с надеждой отыскать какие-нибудь данные о происхождении жителей Соданкильского прихода. Действительно нашел я в метрических книгах подтверждение догадки моей, что большая часть здешнего народонаселения происхождения лапландского, в продолжение времени принявшего язык и образ жизни финнов. В языке замечал я, однако ж, как прежде, так и после у семейств, от лопарей происходящих, некоторые особенности, а в образе жизни мало или совсем не было разницы между старинными жителями и новыми поселенцами.
Я уже сказал выше, что жители Соданкила — земледельческий народ. Хотя все их усилия в этом отношении редко увенчаны бывают успехом, но они полагают, что делают богоугодное дело, вспахивая каждый год маленькую частичку земли. Оставить землепашество для них все равно, что сделаться лопарями или язычниками, и они твердо убеждены, что природа не положила пределов этому способу добывать пропитание. Когда мороз побьет ночью все, что посеяно, то они видят в этом несчастии праведное наказание Провидения, а отнюдь не приписывают этого климату. По несчастью, это наказание случается каждый год, а если иногда его избегают, то потому только, что поторопятся свезти с поля незрелую жатву прежде морозов.
Кроме земледелия, прихожане Соданкила занимаются охотой, рыбной ловлей и скотоводством, но эти отрасли промышленности развиваются туго. По моим понятиям о физическом свойстве этих мест, скотоводство было бы самым удобным источником доходов для жителей Соданкильского прихода, но я не знаю, была бы им возможность получать большие барыши от этого промысла. Этот приход в рассуждении его материальных средств, бесспорно, беднейший во всей Финляндии. Здесь жители принуждены иногда питаться травой, как я уже выше сказал, и были примеры, что вырывали из земли палую скотину и ели полуистлевшее гнилое мясо.
Но оставим это жилище нищеты и перейдем вниз по рекам Китинен и Кеми в округ Кемитраск, лежащий несколько миль южнее. Этот приход был также, и очень недавно, населен лопарями, которые постепенно приняли язык, нравы и образ жизни финнов. Н. Фельман пишет в вышеупомянутом отчете духовному начальству об этом превращении именно, что первые миссионеры в Кемийском лапмарке Яков Лаподиус и Исаия Мансвети учили лопарей финскому языку и в то же время на чистом остроботническом наречии
[22] преподавали им учение христианское, доставляли финские книги и учили юношество читать по этим книгам. «Так как деду моему (Исайе Мансвети) весьма трудно было учить лапландцев финскому языку, то, пользуясь благоприятным случаем, представляющимся для основания колонии, он понудил различных жителей прихода Улео (Uhlea) и Ийо (Jjo) переселиться сюда, иные из них остались здесь (в Кемитраске, на низовьях Кеми), другие перешли далее в горы лапмарка; лопари хотели сначала их вытеснить, но по повелению королевских начальников колонии эти остались спокойно на местах. Эти поселенцы были по большей части финны, веселые и смышленые люди, они принесли огромную пользу лопарям и помогали деду моему в его преподаваниях; ежедневным обращением с лопарями они не только научили их финскому языку, но примером своим поощряли отказаться от поклонения кумирам, учиться читать и приобрести прямое понятие об истинной вере. В то же время лапландцы изменили совершенно образ жизни своей, начали строить дома, содержать скотину и заниматься хлебопашеством, а с тех пор, как они породнились с поселенцами взаимными браками, то по большей части бросили лапландский язык и зачали между собой и с детьми своими говорить по-фински».
В настоящее время во всем Кемитраскском приходе нет ни одного лопаря, но и здесь так же, как в некоторых местах Соданкила, особенно в погосте Куолаярви, жители изобличают лапландское свое происхождение некоторыми особенностями в языке и отчасти своей наружностью. В рассуждении нравов и образа жизни здесь столько же образованности, сколько во многих южных частях нашей страны.
Образованность и с нею вместе внешнее благосостояние распространены всего больше в приходе Кеми и Рованьеми, которые в древние времена также были населены лопарями, позднее же большую часть народонаселения составили пришельцы из Русской Карелии, или древней Биармии. Жители этих приходов все без исключения земледельцы, но это занятие не могло иметь больших успехов от многих физических препятствий и особливо от холодного климата. Зато лов семги очень здесь прибылен, также скотоводство служит значительным источником доходов. Поселяне Кеми и в Рованьеми наследовали от предков своих биармийцев великую охоту к торговым спекуляциям. Они не любят проводить время в праздности и дремоте у теплого очага, а любят пускаться вдаль за торговым промыслом, ходят в Петербург и в Стокгольм. Бесспорно, здесь должно искать причины необыкновенной образованности, которой отличаются здешние жители, и отсюда становится понятна их необыкновенная живость, присутствие духа, решимость и энергия во всех предприятиях. Может статься, и местные обстоятельства помогли в свою очередь обитателям Кеми и Рованьеми развить такие особенные качества. Известно, что река Кеми в нижней части своего течения быстра, многоводна и наполнена шумящими порогами и ревущими водопадами. Плавание по этой реке вниз и вверх всегда сопряжено с большими опасностями и требует не только великих усилий телесных, но и быстрого соображения и смелого духа. Жители проводят большую часть жизни на этой реке и, можно предполагать, что и это обстоятельство имеет влияние на их характер.
Я слышал, что в последние годы проложена дорога сухим путем из Кеми в Рованьеми и Кемитраск (низовье Кеми). Во время нашего лапландского путешествия эта дорога только пролагалась, и мы принуждены были плыть в лодке вниз по течению реки. На этом пути много различных чувств волновалось в душе моей: с самого раннего детства все водовороты, все водопады и пороги от Рованьеми до Кеми были мне знакомы, и в этих местах, где впервые увидел я Божий свет, они оставались моими единственными знакомцами, всех прочих похитила смерть. Все скорбные чувства проснулись при гробах друзей и милых родных, но вместе с ними проснулась и радость, что возобновляю знакомство с водоворотами, с порогами, с водопадами — дикими товарищами моих детских игр, столько раз готовых опрокинуть ладью мою и потопить меня. Так же, как в бывалое время, я как будто играл, летя по шумящим волнам и обливаясь брызгами пенистых стремнин. Кормчий часто уговаривал меня сойти на берег и пройти пешком те места, где водопады опасны. Он торжественно уверял, что хотя они опытные и присяжные кормчие, но не могут ручаться за благополучное плавание; я слушал его увещания и сидел в лодке и после не имел надобности раскаиваться в своем упрямстве, потому что Кормчий всех кормчих даровал нам благополучный переезд и счастливое возвращение в Кеми, где и окончилось наше лапландское странствие.


Поездка в Русскую Карелию летом 1839 года
По возвращении моем из Лапландии от многих услышал я, что в скором времени Императорская Санкт-Петербургская Академия наук снарядит ученую экспедицию в Сибирь и желает найти финляндца, который согласился бы туда ехать для разыскания наречий и этнографических отношений различных сибирских народов, состоящих в родстве с финским племенем. Я стал думать, не гожусь ли я для этого дела, вошел в переписку с нашим земляком Шёгреном, членом Академии, и, обнадеженный им, поспешил усвоить себе сведения, необходимые для этого путешествия. Я продолжал заниматься, как наконец весной 1839 года Ш ё г р е н уведомил меня, что все приготовления к ученой экспедиции отложены и что он не знает, когда эта ученая поездка состоится; он советовал мне оставить надежды и устроить мои ученые занятия независимо от Академии. Лишь только получил я это известие, то не медля обратился к обществу финской словесности с просьбой помочь мне совершить давно предположенное путешествие к живущим в Архангельской губернии карелам. Общество приняло благосклонно мое предложение и назначило вспомоществования 300 рублей ассигнациями на четыре летних месяца. Я отправился в начале мая 1839 года из Гельзингфорса в сопровождении двух молодых студентов И. М. и И. Р. Тенгстрёмов ив половине сентября возвратился назад.
Я представлял обществу, что цель поездки моей есть собрание песен, преданий, сказок и всякого рода объяснений для «Калевалы». Я выбрал именно этот предмет целью моего путешествия, основываясь на давно принятом намерении написать финскую мифологию и перевести на шведский язык «Калевалу». «Калевала» и другие, более древние собрания рун хотя представляли богатый источник для мифологических разысканий, но мне казалось, что не собранные еще волшебные руны, сказки и изустные предания могут служить важным пособием в этом отношении. Но в то время особенно занимал меня перевод «Калевалы», который в самой Финляндии составлял необходимую литературную потребность и который для иностранцев мог служить единственным способом познакомиться с нашей народной эпопеей. Убежденный в важности этого перевода, я начинал его еще прежде, но по недостатку словарей и других необходимых пособий принужден был отлагать это предприятие до тех пор, пока мне будет возможно побывать на самой родине рун и там отыскать нужные пояснения.
С этим намерением отправился я из Гельзингфорса через Саволакс в Куопио. Оттуда я хотел ехать через Иденсальми до Кайяны, но не поехал, дознавши опытом на пути в Куопио, что в Саволаксе мало найдется полезного для моей цели. Вследствие этого я решился из Куопио окольной дорогой ехать в Кайяну, захватить часть Карелии, проехавши Каави, Либелитс, Юууга, Нурмис и Зоткамо. Новый свет открылся передо мною, когда я въехал в Карелию. Уже сам внешний быт карелов, их нравы и обычаи переносят испытателя в древние времена, но еще явственнее выступает эта первобытная старина во внутренней жизни народа, в его образе мыслей и чувств. Она видна и в любви его к песням, к сказаниям и старинным сказкам. Больше всего обращал я внимание на предания. Из них самое обыкновенное есть предание о том, что древние финны, равно как и лапландцы, остяки и прочие одноплеменные народы, со страхом поклонялись некоторым деревьям. Относительно финнов предание это подтверждается буллой Григория IX, в которой сказано, что тавасты около священных своих деревьев заганивали до смерти принявших христианскую веру. Равным образом и в наших древних рунах говорится о священных деревьях, например, о рябине (Eberesche), которую часто называют
pyhä puu — священным деревом. В некоторых местах финны и теперь смотрят с благоговением на некоторые деревья и неохотно соглашаются срубать их; к таким деревьям принадлежит в особенности
Tapion puu — дерево лесного бога, то есть сосна без смолы,
Tapion kanto — пень лесного бога, то есть пень, из которого вышел новый росток, и т.д.
Большая часть сказаний, записанных мною в финской Карелии, была мифологического содержания и сильно перемешана с христианскими и магическими представлениями. Но в то же время посчастливилось мне добыть несколько сказаний, имеющих историческую основу. Я нашел их у древних обитателей страны лопарей и заметил в них большое сходство с теми, которые были мною записаны в Лапландии. Рассказы о Лаурукайнене, которого в Карелии называют Ларикка, пользуются общей известностью, по крайней мере в Либелитсе, и многие подвиги, которые в Лапландии приписываются детям Пэйвио, здесь рассказываются о том же Ларикке. Как лапландцы, так и карелы говорят, что он совершал геройские свои подвиги в битвах с русскими.
Странствуя по Карелии, остановился я на несколько дней в деревне Содкумаа, населенной финнами православного исповедания. Мне сказали, что в ней живут два отличных певца, и мне хотелось записать их песни. По несчастью, я не застал их: они вместе со многими другими жителями той деревни бежали, заслышав о моем приезде и вообразив себе, что я сборщик податей. Кроме этих певцов, в деревне была старуха — также большая мастерица рассказывать сказки и петь песни, но в то же время такая гневная и сварливая, что ее все боялись. Я чуть не испытал на себе тяжелого ее нрава. Когда я пришел к ней и спросил, не может ли она меня выучить своим песням, то она схватила метлу и хотела выгнать меня из комнаты, но вскоре опомнилась, и мне удалось выпытать от нее следующую сказку — о Маналайнене и мальчике.
«Был один мальчик, — говорила старуха, — который вбил себе в голову, что ему надо сделаться славным, отличным певцом. С этой целью он ходил в ученье ко всем знаменитым певцам и учился долго, но от всех слышал одно, что эта высокая наука никогда ему не дастся. Очень огорченный этим, он тосковал день и ночь и все придумывал сам с собою, что ему делать для исполнения своего желания. Но сколько ни думал, ни гадал он, не давались ему песни. Однажды сидел он, погруженный в свое горе, как вдруг увидел перед собой незнакомого человека. Это был Маналайнен, который, подошед к нему, спросил, о чем он горюет. Мальчик рассказал ему все, и после того Маналайнен взял его за руку и повел далеко-далеко в глухой лес. Когда они пришли в самое глухое место, Маналайнен внезапно исчез, оставив мальчика на произвол судьбы. Тут мальчик, видя себя брошенным посреди дремучего леса, излил свое искреннее горе в песнях, и лучше этих песен никогда не слагал ни один смертный». Старуха кончила рассказ свой обращением ко мне и советовала искать песен не в Карелии, но в собственном моем сердце. После этого она совсем умилостивилась и спела мне несколько песен. Эти песни принадлежат к числу так называемых hää-wirret (свадебных), хотя они были отличные в своем роде, но я не записал их, потому что содержание их было почти одинаково с теми, которые уже есть в печати. К тому же записывание песен лирического содержания не входило в план моего путешествия.
Кроме Соткума, посетил я еще другую деревню — Тайнале, коей жители православного вероисповедания, но я остался в ней недолго, потому что, кроме свадебных и похоронных песен, не посчастливилось услышать ни одной. Может статься, мог бы я собрать некоторые волшебные руны в Юууга и Нурмисе, если бы захотел своротить туда с большой дороги, но мне сказали, что Л ё н р о т недавно объехал всех тамошних шаманов и все от них разузнал, следовательно, моя поездка была бы бесполезна. Тогда пребывание мое в Русской Карелии было бы слишком коротко, и, сверх того, я спешил в Каяну, чтобы застать там Л ё н р о т а, который в скором времени должен был выехать оттуда в уезд на свою врачебную ревизию.
Расчет мой был верен: я застал вовремя знаменитого собирателя рун и, получив от него все нужные наставления для продолжения моего путешествия, в начале июня выехал из Каяны. Доселе я ездил по болотам, вдоль большой дороги, теперь должен был плыть водой вверх по рекам и озерам. Через несколько дней я достиг русской границы и скоро прибыл в деревню Колвасъярви, что в Олонецкой губернии. В этой деревне незачем было останавливаться, и я немедленно продолжал путь свой до погоста Репола, где и провел несколько дней, почти все время записывая руны эпического и волшебного содержания. Мне сказывали, что тут живет отличный песельник, но в то время его не было дома, и я, не рассудив за благо дожидаться его возвращения, решился лучше продолжить свое странствование до деревни Мииноа, где, как мне сказывали, на ту пору собралось 60 человек крестьян, работавших над проведением правильных границ между Россией и Финляндией.
Весьма неприятные предзнаменования встретили меня в этой деревне. По несчастью, один из моих товарищей при самом въезде в деревню напился из колодца воды и за обедом вздумал резать кушанье хозяйским ножом. Жители были строгие раскольники: нож и колодец, по их мнению, осквернились, и никто во всей деревне не хотел более ими пользоваться, тем более что тогда был пост. Такое нарушение обычаев старообрядцев могло навлечь нам много неприятностей, и только счастливый случай избавил нас от ответственности за нечаянное оскорбление.
Из Мииноа своротил я в маленькую, недалеко лежащую деревню Лусманлати, где жил, как мне сказали, один известный мастер петь песни. Случилось, что он именно в тот день, как я пришел, отправился на торговый промысел в Финляндию. Я тот же час послал за ним, однако воротить его не успели. Я продолжал свое путешествие и поехал в Аконлати — так называется первая деревня в округе Вуоккиньеми в Архангельской губернии. В этой деревне записал я 40 волшебных рун и, сверх того, множество сказок и преданий, и все это от одного человека, с которым мы целых пять дней неутомимо работали. Другой, также замечательный певец находился в то время, как мне сказывали, в отлучке по торговым делам в Финляндии. В той же деревне было, кроме того, много известных певцов, и вообще, каждый житель мог что-либо спеть или рассказать.
Большая часть сказаний, которые я записал, относится к лопарям. Между прочим, рассказывают, что очень давно, когда Москвой правили еще князья, а не цари, жили в Аконлати два славных лопарских шамана. Они, как уверяют, вылечили князя Московского от смертельной болезни и в награду за то получили исключительно право: один — ловить семгу в Лусманлати, другой — ловить лисиц в Саркиньеми. Далее предание говорит, что несколько пограничных финских жителей перебили лопарей и присвоили себе их владения, хотя лопари охотно бы уступили их без драки. Вообще во всей стране распространено предание, что лопари были первые ее обитатели, мало-помалу истребленные финнами во время так называемой разбойничьей, или тайной, войны (warastus-sodat, peitto-sodat). Тут же, в Аконлати, показали мне некоторые остатки лопарских древностей. Еще прежде случилось мне видеть в Финляндии и в Русской Карелии различные памятники, по которым теперешние обитатели узнают следы лопарей, но мне казалось, что можно сомневаться в лапландском их происхождении. По моему мнению, многие так называемые
лапландские кучи (Lappin rauniot) весьма двусмысленного происхождения. Под этим именем разумеют собственно очаги древних лопарей, но часто называют им же кучи камней всякого рода, сложенные рукой природы или человеческой рукой в какую-нибудь особенную, странную форму. Это название дается особливо каменным могилам, которых очень много в Финляндии, и которые, по всей вероятности, должны быть происхождения скандинавского, по крайней мере большей частью. Впрочем, этим именем называют покинутые в финских рыбачьих или охотничьих хижинах старые печи, очаги, так же, как и в военное время в глубоких лесах устроенные тайные убежища (piilo-pirtit). Такие остатки древности называют в Северной Финляндии также лапландскими кучами. В Русской Карелии и около Каяны имел я случай видеть остатки другого рода, которые называются лапландскими могилами и которые, несомненно, лапландского происхождения (Lappin haudat). Они служили, как уверяют, жилищами лопарям и действительно имеют большое сходство с некоторыми палатками, которые я видел в безлесной части Лапонии.
Эти последние состоят из землянок с кровлей конусообразной, сделанной из дерева, камней и торфа. Предание уверяет, что такого рода кровли находились прежде и на лапландских могилах, встречающихся в Карелии и в Северной Финляндии. На дне этих лапландских могил видны уголь, зола, сожженные камни, железные окалины, перегоревшая железная посуда и прочее, что подтверждает предание о том, что эти ямы были обитаемы. Другие ямы, находящиеся в Северной Финляндии и в России, имели другое назначение: их употребляли лопари для ловли оленей. Еще одно слово, чтоб закончить о лапландских преданиях: в округе Вуоккиньеми рассказывают о лапландском короле, который жил некогда недалеко от города Кеми; развалины его замка, уверяют, будто и теперь еще видны.
Известных везде в Финляндии сказаний о
Jatulin-kansa, или
Jättiläiset и
Hiidet, я не нашел нигде в стороне русской, но местные названия, происходящие от
Hiisi (множест.
Hiidet), часто встречаются, например,
Hiisiivaara, Hiiden hauta, и т.д. Что же касается до местных названий, то я должен заметить, что многие места в Русской Карелии получили имена от тавастов, например, деревня Häme, Hämehen niemi и Hämehen saari при озере Куитиярви, и т.д. Это обстоятельство может подать мысль, что в Русской Карелии были колонисты из земли тавастов, и это предположение оправдывается тем, что жители деревни Латваярви выдают себя за колонистов из земли тавастов, живущих в течение шести поколений в Русской Карелии. Во многих других деревнях, принадлежащих к округу Вуоккиньеми, находил я семейства, происходящие из разных частей Финляндии и до сих пор помнящие о своей прежней родине. Основное же население земли не происходит ни от финнов, ни от лопарей, но есть, вероятно, остаток древних биармийцев, или заволочской чуди, о коей говорят русские летописи.
Мифологических преданий очень мало в Русской Карелии. Мне кажется, что, так же, как и у финнов, все замечательные мифы передаются потомству в песнях. Очень редко, с трудом удается выпытать какое-нибудь мифологическое предание в виде сказки, и все таковые относятся к происшествиям вседневной жизни. Между тем я весьма тщательно записывал и такие рассказы; то, что при первом взгляде кажется незначительным, ничтожным, может получить большое значение и смысл при ученой разработке мифологии.
Я сказал, что мифологическая история финского народа находится в его песнях. Какого же содержания сказки? Многие из тех, которые удалось мне слышать в Карелии, суть переводы русских сказок: во всех их действуют цари, царевичи, царевны, бояре, богатыри и т.д. Многие обнаруживают какое-то родство с сказками «Тысяча одной ночи», другие носят печать германского происхождения. Любопытно, что в Русской Карелии я нашел сказку, напоминающую об Улиссе в пещере Полифема. Герой карельской сказки сидит, запертый в крепости, и стережет его великан, слепой на один глаз. Карельский герой придумывает для спасения своего ту же хитрость, какую выдумал греческий. Ночью выкалывает он глаз великану, и когда тот поутру выпускает овец своих на паству, пленник прячется под овцу и таким образом счастливо уходит из ворот. Вероятно, эта сказка, как и многие другие, принесена в Карелию русскими. Хотя большая часть тамошних сказок русского и скандинавского происхождения, однако в Русской Карелии есть сказки, носящие туземный характер. В них действует почти всегда мифологическое лицо — женщина, называемая Шьоятар-акка (Syöjätär-akka, die Ess-Greisin, das Fressweib, Баба Яга), но в сказках о ней много примешано русского, и все они так друг на друга похожи, что можно почитать их вариациями на одну тему. Видя, как малочисленны и незначительны мифологические предания в Русской Карелии, как сказки содержанием своим чужды моим занятиям, я оставил их и обратил внимание на волшебные руны (trollrunor). Собрания их еще прежде предпринимаемы были Ганандером, Топелихсом, Лёнротом и Шёгреном, но доселе немногое из этих собраний вышло в свет, а те, которые запрятаны в библиотеках, не составляют ничего целого. По моему мнению, литература такого рода так богата, что никогда не может быть вполне собрана. Хотя содержание волшебных песен однообразно, но запас вариантов весьма значителен. Так как руны такого рода, основываясь на мифологической почве, составляют богатый материал для финской мифологии, то я обратил все свое внимание на этот предмет.
Возвратимся теперь к моему путешествию. Окончив дела свои в Аконлати, я прибыл в Латваярви, проехав несколько маленьких деревень. Латваярви лежит в стороне от большой дороги, но мне хотелось увидеть там славного во всей округе певца рун Архипа. Большая часть его песен напечатана в «Калевале», и я заметил только для памяти порядок, в котором они друг за другом поются; сверх того, записал несколько еще не напечатанных рун
[23], воспевающих победу христианства над язычеством. Архип, сверх чаяния, не сообщил мне ни одной волшебной руны; он сказал, что никогда их и знать не хотел, что шаманство почитает за грешное и богопротивное дело. Несмотря на то, он был заражен суеверием земляков своих и до такой крайности вольнодумствовал, что не только дозволил нам за обедом употреблять его блюда и ножи, но даже ничего не говорил, когда курили в его горнице, чего во всей Русской Карелии мы не могли позволять себе.
Из Латваярви отправился я к церкви Вуоккиньеми, оттуда далее — в деревню Вуопинен. В этой деревне посчастливилось мне набрать множество преданий и волшебных рун. Тут же увидел я полное собрание различных орудий, употребляемых шаманами при лечении больных. Обладатель этого собрания — сильнейший шаман во всей округе — открыл мне глубочайшие свои тайны, показал, как приготовляются лекарства, и какие фокусы употребляет он при врачевании. Сверх этого, сообщил он вариант первой руны в «Калевале», я передам здесь его вкратце. Первые создания на свете были орел, летавший по воздуху, и Вайнемойнен, блуждавший по морю. Взглянув с высоты вниз, орел приметил Вайнемойнена, носимого ветром из стороны в сторону, опустился к нему, свил гнездо у него на коленях и в гнезде положил несколько яиц. Яйца покатились из гнезда в самую глубь моря, и там щука проглотила их. Орел стал везде искать яйца свои, наконец нашел их во внутренности щуки, но уже испорченные. С гневом крикнул он тогда:
Miks on munttunut munani, Kuks on soanut soaliheni?
т.е. Что сталось с моими яйцами?
Во что превратился плод мой?
Не в состоянии будучи вывести птенцов из испорченных яиц, орел, чтобы не совсем погибло семя его, создал из него мир посредством творческих слов:
Munasen ylänen puoli
Yläseksi taiwahaksi, и т.д.,
т.е. Из верхней скорлупки яйца
Вышел свод высокого неба.
(Калевала I, 235 и след.).
Я слышал в Вуонинене еще вариант последней руны «Калевалы», совсем отличный от варианта, приведенного г-м Лёнротом. По этому варианту, Создатель (Luoja) решился лишить жизни Вайнемойнена за то, что он почитал себя лучше Создателя, выше Бога
[24]:
«Luojoa parempi, jumalaa yläivämpi». Вайнемойнен вымолил позволение жить до тех пор, покуда он износит три пары железных башмаков. Прошло много времени, ибо Вайнемойнен и совсем не носил башмаков. Несколько раз посылал Создатель на землю послов своих узнать, истоптал ли Вайнемойнен башмаки, и когда послы возвращались все с одним ответом, что башмаки еще целы, то Создатель разгневался и присудил ему жить целую вечность, произнеся над ним следующий приговор:
Männe tuonne, kunne käsken, Kurimuksen kurkun suuhun, Meren ilkiän kitahan, Ikuisille istuimille, Polwusille portahille, Sielt et pääse päiwinäsi, Selkiä sinä ikänä.
т.е. Иди, куда пошлю тебя,
В пучину водоворота,
В грозную пасть моря,
Туда, к вечному заключенью, Туда, к мосту вечному.
Никогда оттуда не выйдешь, Во всю жизнь свою не спасешься.
По другому варианту, Вайнемойнен исчез, потому что Создатель осудил его блуждать по морю, терпеть участь, описанную в начале «Калевалы», и, наконец, по долгих странствованиях погибнуть в пучине водоворота.
Проведя несколько дней в Вуонинене, я продолжал путешествие свое через Йвалати (Jywä lahti) в деревню Утува, где, сказали мне, было 90 домов. Здесь прожил я целых 11 дней и по-прежнему занимался преимущественно записыванием волшебных рун. Сверх того, добыл я в этой деревне разные предания содержания исторического, относящиеся по большей части к вышеупомянутой разбойничьей войне.
В одном из этих сказаний описан набег пограничных финнов на деревню Алаярви. Ограбивши всю деревню, потащили они силой за собой старика, которого давно ненавидели и преследовали. Пока они тащили его вдоль берега озера, двенадцатилетний сын его шел по другому берегу и грозил врагам перестрелять их всех, если они не выпустят отца на волю. Не уважая угроз мальчика, разбойники ругали его и с большей жестокостью обходились с отцом. Но мальчик не пугался ругательств, продолжал идти и грозить им; тогда враги обещали исполнить его желание с условием, чтобы он с противоположного берега пустил стрелу, которая пронзила бы яблоко
(omena), поставленное на голове отца. Мальчик согласился на дерзкий опыт, и отец дал ему следующий совет: «Käsi ylennä, toinen alenna, järwen wesi wetää», то есть: «Подними одну руку, опусти другую, вода в озере притянет к себе (стрелу)». Сверх чаяния, стрела попала прямо в цель, раздвоила яблоко, и отец получил свободу. В другом, более достоверном сказании говорится о многочисленной толпе пограничных финнов, которые грабили и опустошали Русскую Карелию вдоль и поперек. Жители, спасая от неприятеля то из своих сокровищ, чего не могли унести, зарыли его в землю, а собранный хлеб частью отдали скотине на корм, частью разметали по снегу и потом от этих семян получили богатую жатву. Раз во время этого набега неприятель ворвался к одному карелу по имени Лагонен Тиита, когда он лежал, погруженный в глубокий сон. Пробудившись от стука, Лагонен вскочил с постели, схватил второпях лук, стрелы, нижнее платье и ударился бежать от врагов. Быстрым бегом своим мог бы он скоро спастись, но жестокий мороз заставил его подумать о голых ногах своих. Он остановился, приметив, что враги его немного отстали, но успел надеть исподнее платье только на одну ногу. Неприятель догнал его, тогда быстро и отважно напряг он лук и, когда враги подходили, чтобы схватить его, поворачивал то на одного, то на другого с криком: «Берегись! Застрелю!» — «Katscho, mi ammun!». Этой хитростью смутил он так врагов, что успел опять убежать, надеть нижнее платье на обе ноги и спрятаться в густом лесу. Корыстолюбивые разбойники продолжали, между тем, грабить и, совершив многие преступления, пришли наконец к озеру Туопаярви. Отсюда захотели они водой проехать в Пааярви, но, не зная дороги, взяли крестьянина из Киисъйоки и заставили его править лодкой. На этом пути был порог, называемый Ниска, с отменно быстрым большим водопадом. Как скоро приблизились они к порогу, кормчий направил судно близко к берегу, вскочил на камень и толкнул лодку вниз по течению. Враги не могли уже удержать быстрого бега своей лодки и силой стремления унесены были в пучину. Внизу водопада нашли после сорок шапок.
Кроме этих и подобных им повестей о набегах пограничных финнов на Русскую Карелию, слышал я в Утува рассказы о великанах, называемых найколайзет, или найконканза. О происхождении этого народа говорит сказание, что лесной дух (metsän рака) украл себе жену-христианку и прижил с нею мальчика и девочку, которые после соединились и произвели на свет богопротивное потомство, известное под именем найколайзетов. Не сообщаясь вовсе с христианами, народ этот жил на горе Гаапавара и там составлял отдельное, в себе самом заключенное общество. Их было будто семнадцать человек, они были стрелки, и во время разбойничьей войны они истреблены все до последнего великана. Ни прежде, ни после не удалось мне слышать какого-либо сказания об этом народе.
Посоветовавшись с опытными людьми в Утуве и исчерпав весь запас их сведений, пошел я сперва в Туопаярви, оттуда через Пааярви в Куусамо. Во время этого пути я не встретил ничего для себя замечательного, кроме множества преданий о лопарях. Между прочим, рассказывали мне, что лопари прежде были в неприязненных отношениях с народом, который назывался кивеккаат (Kiwekkäät). Может статься, это искаженное слово кивикает (Kiwikäet, един. Kiwikäsi — каменная рука) и намекает на то, что упомянутый народ употреблял камни вместо всякого другого оружия. Это предположение подтверждается тем, что на одном месте, где, по преданиям, была битва между лопарями и кивиккаатами, нашли камни, похожие на пращи. Между прочими сказаниями о лопарях, приведу еще одно, показывающее, какое было у них правосудие. Один лопарь, живущий в Куусамо, тайно убил жену свою, через несколько времени преступление это открыто было собственным его сыном — десятилетним мальчиком. Мальчик рассказал о том родственникам убитой своей матери, которые, с своей стороны, уговорили старейшин деревни разыскать дело. Судьи, следуя обычаю, собрались к виновнику и учредили у него так называемый домовой суд (käta-kärajat)
[25]. Преступление было доказано, и преступник приговорен к виселице, приговор исполнен теми же людьми, которые произнесли его. Доселе показывают место, где повешен был лопарь, и жители говорят, что не очень давно при порубке большой сосны нашли скелет его и при нем заржавелый нож, котел и топор.
Пришедши в Куусамо, я принужден был прекратить ученые мои занятия. Лето шло к концу, и средства мои истощились. К тому же места, которые мне надлежало пройти, были бедны древними воспоминаниями. От Куусамо я направил путь в Улеаборг, оттуда через Остроботнию и Тавастгустскую провинцию в Гельзингфорс. На всем том пространстве исчезли все воспоминания о мифических временах, и не было слышно рун. Здесь найдет, быть может, этнограф и лингвист богатое поле для деятельности, но эти разыскания в то время не занимали меня. Мимоходом взглянул я на мертвые памятники былого, на разнообразные кучи камней, в великом множестве встречающиеся вдоль морского берега. Я не мог заняться разысканием этих памятников, заметил только места, где эти кучи находятся, с намерением впоследствии обратить на них надлежащее внимание.


Путешествие в Лапландию, Северную Россию и Сибирь с ноября 1841 до марта 1844 года
I
В 1841 году предпринял я в сообществе доктора Лёнрота и отчасти на его счет путешествие, которое, по первым предположениям нашим, должно было ограничиться только некоторыми частями Лапландии и Архангельской губернии, но потом по непредвиденным обстоятельствам приняло для меня гораздо большие размеры. В начале ноября мы съехались по условию в приход Кеми, находящийся в 23 верстах от города Торнео к западу, и 13 числа того же месяца отправились отсюда в дорогу вверх по реке Кеми. Против чаяния, зимний путь весьма еще не установился, и поэтому начало нашего путешествия было чрезвычайно трудное. Недавно проложенная дорога от Кеми до Рованьеми и отсюда до Кемитреска была еще не наезжена и потому едва проездна, в иных же местах на ней и вовсе не было снегу. Настоящая дорога и зимой идет по реке Кеми. Но лед на ней был еще слишком тонок и неверен. Мы ехали почти все шагом, часто шли пешком, а почтовая лошадь тащила наши пожитки. В 14 дней такого странствия проехали мы 240 верст и прибыли в селение Салла, принадлежащее к приходу часовни Куолаерви и церкви Кемитраск. Отсюда мы хотели проехать в Русскую пограничную Лапландию, надеясь собрать там богатый запас для науки, потому что, сколько было нам известно, ни один путешественник порядочно не исследовал еще этих мест в лингвистическом и этнографическом отношениях. Больше всего привлекали нас лопари деревни Аккала, ибо финские крестьяне уверяли, что они живут совершенно отдельно, чуждаясь русских и всех других народов, следовательно, могли сохранить и язык, и народность свою чище других. Кроме того, они интересовали нас еще тем, что, как в Финляндии, так и в Лапландии, они слывут народом, преданным чародейству более всех других народов Севера. Непредвиденное обстоятельство помешало нам съездить в Аккалу. В Салле нашли мы жителей недоброжелательных, корыстолюбивых и лукавых, они не только не соглашались за умеренную плату проводить нас в Аккалу, отделенную от Саллы пустыней во 140 верст, но только о том и думали, как бы обобрать нас совершенно. Не успев уговорить крестьян умерить свои требования, решились мы остаться в Салле и ожидать благоприятнейших обстоятельств. Действительно, через несколько дней приехали в Саллу лопари из Аккалы с различными товарами, по распродаже которых им привелось бы возвращаться домой с пустыми
керисами (сани, в которые впрягают оленей). Мы были уверены, что это обстоятельство избавит нас от корыстолюбивых обитателей Саллы, но они и тут перехитрили нас. В то время, как лопари отдыхали еще в некотором расстоянии от деревни и мы еще ничего не знали о их приезде, несколько крестьян сговорились купить весь их товар, рассчитывая на то, что затем они уедут, не побывав в деревне. Спекуляция эта не удалась, однако ж, потому что не сошлись в цене; тогда они прибегли к другой хитрости: заподозрили нас в глазах простодушных лопарей, уверив их, что мы посланы к ним учить их читать, что мы окрестим их и принудим принять наше вероисповедание и т.д. Вследствие этого лопари удалились тайком от нас из деревни. Взбешенные, мы изменили наш план и, к великой досаде врагов наших, решились возвратиться в Энаре, дабы оттуда после Рождества пуститься в пограничную Русскую Лапландию. К тому же в Салле мы узнали, что русские лопари до самого Рождества занимаются рыбной ловлей и живут в самых жалких лачугах, но после переходят в зимние жилища, лучше защищенные от ветров и непогоды.
Изменивши, таким образом, свое намерение, выехали мы из Саллы в начале декабря, проехали несколько миль верхом, потом сели каждый в свой керис. В первый день дорога шла по льду маленькой речки, так покрытому водой, что закругленные наши
керисы казались лодками
[26]. Мой керис был очень низок, и потому вода заливала в него частенько. Раз олень мой испугался собаки, которая прыгала по льду. Он побежал, как бешеный, совался по льду туда и сюда и наконец опрокинул меня в большую лужу.
Таково было начало. В следующие дни мы ехали по горам и болотам, и также не без проказ со стороны наших необузданных оленей, и наконец доехали до деревни Тангуа, расположенной при реке Лупро. Отдохнувши здесь несколько дней, мы продолжали путь вверх по реке и приехали благополучно в Корванен — самую северную усадьбу Соданкильского округа в 200 верстах от Саллы и почти столько же от Энарского прихода.
В Корванене отвели нам горницу, в которой, по словам Лёнрота, «за несколько лет перед сим воспитывали шесть лисенков». Горница эта, разумеется, была скверная, в ней, правда, была печь с очагом, но без вьюшек, так что после каждой топки приходилось лазить на крышу и затыкать трубу клоком сена. В этом гнезде провели мы целых 12 дней, все ожидая, что смягчится, наконец, гнев снегового старца
Укко. Я то и дело выбегал на двор, чтобы посмотреть, скоро ли он избавит нас от страшной метели, но ни луча надежды не было видно на небесном своде. Солнце скрылось уже надолго, и на дворе было так темно, что даже и днем нельзя было читать без свечки. По миновании бури в усадьбу собралось с востока и с запада много людей, также ехавших в приход Энаре. Непогода и их задержала в соседней усадьбе на несколько дней. За день до Рождества мы тронулись с места. Конечно, было бы гораздо благоразумнее отправиться всем вместе, чтоб соединенными силами перебраться чрез опасную скалу Сомбио, но некоторые крестьяне остались до другого дня, рассчитывая, что легче и спокойнее будет ехать за нами по проложенной дороге. Надеясь на крепких корваненских оленей и ловких лыжников, мы пустились в путь в сообществе трех финнов и двух лопарей; всего нас было семь человек. Оленей было около тридцати, считая с теми, которые везли поклажу. Две первые мили проехали мы таким образом: один лопарь шел впереди на лыжах, ведя за собой свободного оленя, который прокладывал дорогу прочим. Две следующие мили можно было ехать без этого, потому что снег был не так глубок. Тем заключился первый день нашего путешествия. К ночи расположились мы подле снежного сугроба и развели огонь, который назывался только огнем, но не приносил ни малейшей пользы. Во время сна нашего поднялась сильная вьюга; проснувшись к утру, я крайне изумился, не видя двух наших товарищей. Мы отыскали их под кучами снега, под которыми они всю ночь проспали невозмутимым сном. При продолжающейся непогоде оставили мы с рассветом ночлег свой. Сначала мы по-прежнему тянулись за лыжником, только на самом хребте скалы снег слегся так плотно, что почти везде держал на себе оленей. Переход через хребет недолог, затем дорога сделалась опять хуже, но буря и непогода утихли. Даже показался месяц, и на небе заблестели звезды. Утомленный дорогой, я заснул в моем керисе, и сон перенес меня в красивую залу. Звезды казались мне свечами рождественского сочельника, сосны — людьми, между которыми узнавал лучших друзей моих, собравшихся вместе праздновать вечер перед Рождеством. С одним из гостей я начал горячий спор о свойстве лапландских гласных звуков, и спор кончился тем, что я ударился головой о голову моего противника. Меня пробудила сильная боль во лбу — я стукнулся головой о сосну. С просонков я хотел извиниться перед сосной, моим противником, и трудился усердно, чтоб стащить с головы крепко привязанную шапку, но лопарь, ехавший за мной, заметил весьма благоразумно, что шапку можно оставить на голове, а лучше освободить вожжи, зацепившиеся за дерево. Вскоре после этого приключения приехали мы к нежилой избушке, построенной в этой горной стороне для проезжающих. Тут мы ночевали, сделав в этот день только три мили. Посредине избы развели мы большой рождественский огонь, приставили к нему горшки с мясной похлебкой и, когда подкрепились ею, сделали чай, что вряд ли когда видано было в суомской избушке. После всего этого залегли мы спать: кто на лавке, кто на земляном полу, на который набросали немного сена и еловых веток. Когда я поутру проснулся, то звезды весело глядели сквозь полураскрытую крышу нашей хижины. Как ни красиво было это зрелище, еще красивее показался мне обширный Божий мир, когда я вышел из хижины. Он был исполнен такой торжественной, мирной тишины, что, казалось, праздновал с нами светлый день примирения и благодати. Но тишина северной зимы непродолжительна. Метель поднялась снова еще до полудня, мы были, однако ж, так счастливы, что к ночи нашли убежище в лопарской хижине на берегу озера Акуерви. Мы уже совсем было отчаивались, потому что во всем нашем обществе знал дорогу один только человек, почти слепой и ради наступивших святок так напившийся, что едва мог править оленем. Это-то последнее обстоятельство и послужило нам в пользу, ибо, по собственному признанию этого человека, во все течение дня нашим путеводителем был не он, а превосходный олень его, раз только проезжавший по этой дороге. Выехавши на другое утро из Акуерви, надеялись мы тем же днем доехать до церкви в Энаре, но ошиблись в расчете. Когда мы подъехали к озеру Энаре с дороги, стемнело совершенно, и проводник наш, и разумный олень его сбились с дороги, потому что последний никогда не ездил еще по озеру. В честь св. Стефана разъезжали мы долго туда и сюда по бухте обширного озера, вода, стоявшая поверх льда, залилась в мой керис и обледенила мою одежду. Наконец нашли след, но слепой проводник наш не отважился ехать далее по озеру. Мы воротились на берег и отыскали лопарскую хижину, в которой улеглись среди овец и других животных; людей же никого не было: они все ушли в церковь, исключая двух девушек, которых мы после нашли спящими на сосновом хворосте в лесу, в котором стерегли своих оленей. На следующее утро, еще при сиянии звезд, одна из этих девушек проводила нас в приход Энаре. Тут мы отдохнули от всех трудов наших. Вот что пишет об этом месте Лёнрот к одному приятелю: «Когда я посетил Энаре весною 1837 года, здесь была только одна церковь и около нее несколько бедных лапландских избушек; теперь, с тех пор, как здесь живет пастор, местечко это совсем изменилось. Церковь выкрашена красной краской, у пастора дом в пять комнат и еще другое строение с залой и двумя горницами, назначенное, как помнится, старшему пастору, который, хотя и живет в Утсйоки, обязан, однако ж, наезжать и в этот приход. В следующее лето построится еще дом для суда. Не удивляйся, что я распространяюсь об этих постройках; в других местах, разумеется, я и не упомянул бы о них, но вспомни, что я в Лапландии! Только тот, кто провел несколько времени в дыму лапландской хижины, может узнать настоящую цену порядочного дома, подобному тому, как настоящая цена здоровья узнается только по избавлении от тяжкой болезни; только он поймет и тот восторг, с которым мы увидели опять солнце 18 января, мы долго не могли налюбоваться им».
Во время пребывания нашего в Энаре получили мы известие, что знаменитый миссионер и писатель пастор Штокфлет, которого мы намерены были посетить в Альтене, находится теперь в Карасйоки, от Энаре только в шестнадцати небольших милях. Этот счастливый случай побудил нас отправиться в Карасйоки в начале января. Приход этот замечателен двумя большими цепями скал, через которые дорога идет почти непрерывно и которых имена Муотка и Искурас-тунтури. Первую мы переехали в жестокий мороз, но без непогоды. Когда после полуторасуточной езды мы начали спускаться с упомянутого хребта, со мной случилось несчастье: олень мой остановился вдруг на всем бегу, керис опрокинулся, и правая рука моя, в которой были вожжи, попала под керис. В таком затруднительном положении прежде всего должен я был стараться высвободить руку, но этого нельзя было сделать, не выпустивши из рук вожжей, а тогда олень, почувствовав свободу, не стал бы, разумеется, ждать, покуда я опять усядусь в керис, поскакал бы, по своему обычаю, за другими оленями и бросил бы меня на скале. Что ж было делать? Я ухватился свободной левой рукой за задок кериса и предался покорно оленю, который и поволок меня за собой. Такая езда оказалась, однако ж, столь трудной, что мне вскоре пришлось отказаться от нее. Будь темно, будь метель на дворе — этот день был бы последним днем в моей жизни, но ветер был небольшой, вечер светлый, дорога видна. Мои товарищи проехали около полумили, прежде нежели заметили мое отсутствие, и уже ночь наступала, когда они повернули мне навстречу. Вскоре после этого приключения доехали мы до Иоргастака — рыбачьих хижин на берегу реки Тено, где лопари не живут зимой, но останавливаются кормить оленей. В этом гадком месте провели мы бессонную ночь и отправились в путь еще до рассвета. Проехав около полумили по реке Тено, мы взобрались на Искурас-тунтури, где меня ожидала новая неприятность. Необузданный олень мой вздумал, спускаясь с пригорка, своротить с дороги и наскакать с такой силой на березу, что от удара об нее у меня полила кровь изо рта и из носу. Лёнрот, видя, как я горевал о моем разбитом носе, утешал меня уверением, что можно еще спасти его. Так как и для всякого сохранение этой части тела весьма важно, то я твердо решился не подвергать ее в будущем никакой опасности во время езды на оленях. В большей части случаев это действительно возможно: не надобно только слишком уже покоить ноги, действовать, напротив, ими во всех затруднительных случаях, в особенности против колебания кериса. Этого колебания никак не должно, однако ж, останавливать пятками, потому что таким образом всегда можно переломить ногу; сев на керис верхом, необходимо прижать колена крепко к наружным бокам его, а ноги спустить и отклонять керис от камней и деревьев только ступнями. Теория, кажется, простая; не такова практика, потому что олень не дает спохватиться именно тогда, когда это более нужно, т.е. при спуске с горы. Он бежит тогда так проворно, что не имеешь времени рассмотреть предметы, тем более что трудно не закрыть глаза от снега, который летит от ног его прямо в лицо. Недурно, в случае нужды, повалить керис в глубокий снег, задок его увязнет в снегу и мгновенно остановит бег оленя, но на горном хребте это невозможно, потому что беспрестанные бурные ветры сносят весь снег. Знатные и богатые путешественники берут по крайней мере одного свободного оленя на случай нужды. При крутом спуске с гор и утесов его привязывают к задней части кериса; привязанный же к заду олень всегда упирается изо всех сил и таким образом мешает впереди запряженному оленю мчаться стремглав. Для небогатых путешественников, лишенных возможности прибегать к этому средству, главное — отнюдь не сдерживать оленя при спуске с утесов, а давать ему волю бежать, как хочет. Я испытал это при спуске с Искурас-тунтури, высочайшего из всех скалистых хребтов, которые мне привелось переезжать; он понижается многими крутыми уступами. Съезжая с одного из этих уступов, я старался всеми силами сдержать бег оленя и все-таки несколько раз ударился о деревья и камни. На следующем уступе я дал, напротив, оленю волю бежать во всю мочь, сбил с ног другого оленя, переехал керис с поклажей и благополучно спустился до самого низа. Вскоре после этого мы въехали на церковный двор Карасйоки, где пастор Штокфлет принял нас с отверстыми объятиями. Мы провели в его обществе десять поучительных дней и 18 января отправились назад в Энаре. Это возвратное путешествие было действительно приятной прогулкой благодаря необыкновенно прекрасной погоде. На Искурас-тунтури показалось даже солнце, весьма, впрочем, невысоко над горизонтом. В Иоргастаке, куда приехали через сутки, вечером мы праздновали возврат солнца маленьким пиршеством, во время которого все наши олени разбежались, но, по счастью, недалеко. Мы поймали их на ближайшем хребте. В тот же вечер мы отправились далее, долго блуждали и попали наконец в лопарскую хижину, где провели остаток ночи. На следующий день мы прибыли в Энаре.
Вскоре после возвращения нашего в Энаре получил я от статского советника Шёгрена из Петербурга бумагу, которой он извещал меня, что Императорская Академия наук решила отправить ученую экспедицию в Сибирь и предлагает мне участвовать в ней в качестве этнографа и лингвиста. Я, разумеется, принял это предложение: оно вполне согласовалось с самыми горячими моими желаниями. По письму г. Шёгрена, путешествие могло состояться только через год, и год этот позволял мне не прерывать моего путешествия по Лапландии, пробираться, следуя прежнему плану, из Энаре в Русскую пограничную Лапландию, оттуда — в Архангельск, потом к европейским самоедам и наконец через Северный Урал в Сибирь, где и начнется моя академическая служба. Как я осуществил этот план, видно будет из следующего.
II
Прихожане церкви Энаре недавно пользуются счастьем иметь при церкви собственного пастора, прежде только несколько раз в год приезжал к ним пастор из Утсйоки, и потому понятно, что в эти разы прихожане съезжались сюда многочисленнейшими толпами для общественного моления. Может быть, что большая часть лопарей собирались из дальних сторон в Энаре и не из одной только набожности. Это можно сказать с достоверностью не только о русских лопарях, но и о норвежских, и финских горных лапландцах: они съезжались к энарской церкви обыкновенно во время ярмарок и общих сходок. Но какая же была причина, собиравшая сюда народ с таких дальних концов? Почти все народы хранят предание об утраченном земном блаженстве. Так и лапландцы с чувством скорби и сокрушения говорят о золотом времени, когда водка реками лилась около церкви в Энаре, и сотни людей приходили сюда согревать кровь, остывшую от горного ветра. Горный лапландец, сидя в своей уединенной хижине при слабом жаре угольного огня, часто сетует о радостях и наслаждениях того времени. Теперь торговая площадь в Энаре служит ему только печальным напоминовением прошедшего. Редко, очень редко случается в наше благоустроенное время, что какой-нибудь отважный бродяга осмелится, не взирая на запрещение, спрятать в густой чаще леса небольшой запас элизейского напитка, который делит только с испытанными верными друзьями. При таком порядке нельзя удивляться, что русские и горные лапландцы почти перестали посещать энарские ярмарки, которые утратили и свой первоначальный религиозный характер с тех пор, как приход получил особого пастора, обязанного жить в нем постоянно. Несмотря на то, энарские лапландцы собираются по старому обычаю в некоторые воскресные дни гораздо в большем числе, нежели в другие, и проводят несколько дней в маленьких шалашах, построенных около церкви. Мудрено понять, для чего эти люди собираются, если исключить свадьбы, крестины и помолвки, которые в это время совершаются. Здесь обнаруживается ясно, что лапландец от природы лишен склонности к удовольствиям, к общественным увеселениям и вообще к жизни общественной. Каждый из них, кажется, совершенно поглощен своими собственными мелочными занятиями: тасканием дров, уходом за оленями и тому подобным. Сходятся и разговаривают друг с другом только родные или друзья. Необходимо что-нибудь очень необыкновенное, чтобы люди эти пришли в большее движение. Такое необычайное происшествие случилось в последний день февраля, когда мы, два финна, и две особы благороднейшего германского происхождения уезжали из Энаре. Любопытство и врожденное участие к путешественникам собрало вокруг нас всех лапландцев, тут находившихся.
Каждый протеснился вперед, чтобы подать нам руку и пожелать счастливого пути. Круглые, освещенные солнцем лица лапландцев сияли искренним доброжелательством, любовью и беспредельным участием. Многие могут смотреть на это простодушное доброжелательство с гордым презрением, но путешествующий по Лапландии, привыкши видеть вокруг себя только одни голые скалы, записывает его и в дневнике, и в сердце своем.
Напутствуемые желаниями счастья и благословениями, пустились мы в наш длинный и затруднительный путь к русскому городку Коле, а два немца, собравшиеся в то же время в дорогу, — к Нордкану. Вместе с нами возвращались по домам множество лопарей. Сначала дорога шла поперек озера Энаре, в первый день мы доехали только до средины этого обширного озера, где захватила нас темнота ночи и принудила искать убежище на одном из островков в необитаемой хижине. Днем проехали мы по двум большим бухтам — Укон-зелькэ и Катилан-зелькэ. Последняя получила (по преданиям) это название от того, что один лопарь измерял ее глубину котлом, привязанным к веревке. Название Укон-зелькэ (по-лапландски Aeije jarugga) происхождения мифического и дает повод к некоторым замечаниям о прежней мифологии лопарей.
Везде, где говорят лапландским языком, услышишь предания о
сеидах, сиейдах, т.е. о каменных кумирах, которым лапландцы поклонялись и приносили жертвы. Жертвы состояли по большей части из рогов и костей оленей, особливо диких. Хёгстрём говорит, что некоторые сеиды окружались изгородями, обнимавшими большое пространство, и что лапландцы приносили в жертву головы и ноги всех животных и крылья всех птиц, убитых во внутренности этих изгородей. И я слыхал рассказы о том, что, отправляясь на охоту за оленями, лапландцы давали обещание отдать сеиду голову и шею оленя, если охота будет удачна; что остальные, лучшие части охотники съедали сами на месте жертвоприношения, а возвращались домой все-таки голодными, потому что и то, что они съедали, шло на пользу только сеида. Хёгстрём говорит еще, что лапландцы, промышлявшие оленями, имели обыкновение кропить сеидов оленьей кровью, а лапландцы-рыбаки — обмазывать рыбьим жиром. Когда жир высыхал от солнечного жара, то простодушный рыбак радовался, что сеид съел его приношение. Торнеус и Хёгстрём утверждают, что сеиды сделаны не человечьими руками, а как бы создания природы и большей частью престранного вида, свойственного окаменелостям (Хёгстрём). Может статься, что в отношении большей части их это и справедливо, но на одном из островов Энарского озера я видел сеида, сложенного из мелких камней, величиной и видом похожего на человека. Что касается до деревянных идолов, вырезанных из корней и человеческого вида, о которых упоминает Хёгстрём, то в Лапландии я ничего не мог разузнать о них, только в северных странах Финляндии встречаются человеческие изображения, вырезанные на коре деревьев. Они называются
молекитами и были в древние времена также предметами поклонения. В округе Соданкила и до сих пор, посещая в первый раз какое-нибудь место, обыкновенно вырезывают на дереве такое изображение. Оно называется там
гуриккайнен и отличается от
карзикко — изображений, делаемых в округе Кайяна по тому же поводу, но иначе: тут обрубают у дерева все его сучья, кроме одного, обращенного в ту сторону, где находится родина пришедшего. Эти
гуриккайнены, так как и
молекиты, — вероятно, древние идолы лапландцев, и тождественны с теми, коих Шеффер и другие писатели называют
вирон-акка, шторюнкаре и т.д., а равно и с описанными Хёгстрёмом деревянными истуканами. Не выводя никакого положительного заключения из этого предположения, из вышесказанного ясно, однако ж, что лапландцы были преданы грубому, чувственному поклонению природе. В сеидах они, конечно, не обоготворяли самого камня, но и не почитали этих каменных изображений символами или представителями божества, а просто думали, что божество живет в них. По такому пониманию сущности сеидов они верили, что они не только пожирают приносимую жертву, но и движутся. «Некоторые лопари, — говорит Хёгстрём, — верят, что эти камни живут и ходят». Это подтверждается и энарскими лопарями, между которыми существует предание, что сеиды долго двигались на поверхности воды, когда Пэйвио побросал многие из них в Энарское озеро.
Кроме сеидов и упомянутых выше деревянных истуканов, в
лапландской мифологии встречаются еще особые божества:
Эй, или
Эйш (в пограничной шведской Лапландии
Айа, Айеке, Атпйа), Акку, Гиида, Туона, Лемпо, Маддерака или
Муддерака, Укзака или
Юкзакка, Яабмеакка. Древнейшие писатели говорят еще о некоторых других божествах, но эти или просто присочинены, или приводятся по какому-нибудь недоразумению, потому что предполагают такое высокое религиозное понятие, к какому подобный дикий народ вовсе не способен. Из тех же, которые действительно принадлежат к лапландской мифологии, большая часть тождественны с финскими. Так и в мифологии финнов
Укко известен под именем
Эйя, Акку — одно с нашим
Акка или
Эммо-, Гиида, Лемпо, Туона — финские
Гиизи, Лемпо, Туони. Эйя и
Акка встречаются в Энаре как названия гор, высоких скал, больших озер. В пограничной Финской Лапландии гром называют
Эйш, уменьшительное от
Эйя — так же точно, как у финнов гром называют обыкновенно уменьшительным
Укконен. Радугу финские лапландцы называют
Эйя дауге, что соответствует финскому
Укон-каари (дуга Уккова). Имя
Гиида слышал я только в изречении:
mana Hildan (по-фински mene hiiteen) —
поди к Гиизи. Туона, Туоне или
Туон находятся в лопарском словаре Линдаля и Орлинга, но в Норвежской и в Финской пограничной Лапландии это слово неизвестно.
Яабмеакка (по-фински Туонен-акка) и
Маддеракка (по-фински маанакка и манун-эйко) встречаются также в финской мифологии, но в ней нет
Сааракка и
Укзаака. Мифологи полагают, что
Маддеракка, Сааракка и
Укзака призывались при родах, но это предположение не совсем верно и, может статься, имеет одно только филологическое основание. По словарю Линдаля и Орлинга слово
маддер в пограничной шведской Лапландии (в простонародии
маддо) значит происхождение, а слово
сарет — творить. По этому объяснению нетрудно было напасть на качества, которые приписали
Маддеракку и
Сааракку. Доктор Лёнрот заметил мне, однако ж, что эти названия, может статься, происходят от финского слова
маннер (manner) — материк, земля и
саари (saari) — остров. Такое производство не представляет в филологическом отношении никакого затруднения, потому что по духу и законам лапландского языка слово
manner (коренное
mantere, откуда mander и наконец
manner) может переходить в
madder, так как
hinta (цена, достоинство) переходит
Bhadde, rinta (грудь) —в
radde, pinta (древесная кора) — в
bidde, kant (кайма) —
Bgadde, sand — Bsaddu. В отношении к Маддеракка это производство подтверждается еще следующим изречением, сообщенным мне пастором Фельманом: «Man laem Madderest ja Madderi mon boadam, Madderakast топ laem aellam ja Madderakka kuullui mon boadam», т.е. «Я из Маддера и к Маддеру иду, Маддераккой жил я и к Маддеракке пойду». Очевидно, что это перевод слов, произносимых при христианском погребении: «Из земли взять еси и в землю пойдеши». Происходят
Маддеракка и
Сааракка действительно от финских
слов маннер и
саари, то, вероятнее всего, что финны перекрестили лапландских сеидов и обозначали словом
Маддеракка находившихся на твердой земле, а словом
Сааракка тех, которым лапландцы поклонялись на островах озер. Что же касается до
Укзакка или
Юкзака, то его можно произвести от лапландского
юкзу (лов, добыча). В таком случае оно тождественно с финским
Вилъян Эйкко.
После этого краткого вступления в темные времена лапландской древности возвратимся к нашему путешествию. Все собрались к пылающему огню, разведенному посредине хижины. Женщины сидят, однако ж, в некотором отдалении от огня, а одна молодая, цветущая девушка ушла в далекий угол и с детской радостью рассматривает кольцо, ложку и платок, привезенные ей женихом с базара. Мужчины взапуски хлопочут около горшков, проворно погружают в кипящую воду каждую поднимающуюся частичку мяса, временами вынимают кусок и с видом знатоков пробуют, уварилось ли оно. Не забывается при этом и норвежская водка. Водка развязывает язык лапландца: начинаются шутки, разговоры, веселые рассказы, и вечер проходит, таким образом, весьма приятно. Наконец горшки снимаются с огня, и общество рассаживается около них отдельными кружками. За сытным ужином, в продолжение которого царило глубочайшее молчание, все улеглись в самом счастливом расположении духа на постели из березового хвороста. Через несколько минут все спало уже крепчайшим сном, заснул и самый огонь, бодрствовали только звезды на небе.
На другое утро спутники наши разъехались в разные стороны, а мы продолжали путь наш по Энарскому озеру и, прибыв в деревню
Патсйоки, остановились в простой лапландской хижине. Хозяин ее был необыкновенно умный и чуждый всяких предрассудков лопарь. Он представил мне ясно все недостатки настоящего образа жизни энарских лапландцев, указал и способы, и средства, которыми они могли бы дойти до большего благосостояния. «Олени наши, — говорил он, между прочим, — очень неверная собственность. В одну ночь волки могут истребить большую часть маленького стада лапландского рыбака, а летом, в продолжение которого за оленями не бывает почти никакого присмотра, случается часто, что они разбегаются так, что уж и не отыщешь. Что же касается до рыбной ловли, то и эта отрасль промышленности не вернее оленеводства. Не удался летний лов, истребилось оленье стадо — чем питаться бедному рыбаку во все продолжение длинной зимы? Займись он, напротив, рогатым скотом — у него была бы не только верная собственность, но он и нажил бы еще кое-что продажей масла в Норвегию». И действительно, в этих местах можно с успехом заниматься рогатым скотом: берега реки Ивало, обработанные финскими поселенцами, очевидно доказывают, что возделывание лугов весьма возможно в энарской пограничной Лапландии. В самой Финляндии редко встретишь такую роскошную траву, какую видел я здесь по реке Ивало; и большие поля, находящиеся при ее устье, нетрудно довести до такого же плодородия. Луговые места есть также в Камасйоки, в Иоенйоки, в Патсйоки, на островах и кое-где по берегам озер. Скотоводством я отнюдь не думаю совершенно вытеснить разведение оленей и рыбную ловлю; полагаю только, что оно должно сделаться главным промыслом энарских лапландцев. Можно и при нем держать оленей, ловить рыбу, охотиться за дикими оленями и вообще употреблять в свою пользу все средства, которые представляют местные обстоятельства. Без введения же в Энарский округ скотоводства возрастание бедности и нищеты во всей стороне этой неминуемо. Стоит только вспомнить, что оленеводство, которое в Энаре давно уже в совершенном упадке, в прежнее время было столько же или еще прибыльнее рыболовства. Скотоводство было бы только заменой оленеводству, так как с некоторого времени заменяется оно продажей водки горным лопарям. Но, может быть, скажут, что лучше оживить, усилить оленеводство. По моему мнению, это совершенно невозможно, я вполне убежден, что оленеводство упало не столько от внешних причин, сколько от развития образованности между энарскими лопарями. Правда, что горные лопари во многих отношениях вредят оленьим стадам рыбаков, но главная причина уменьшения оленей, несомненно, заключается в том, что энарский лопарь привык уже к оседлому образу жизни. Чем постояннее место жительства лопаря, тем невозможнее ему содержать большое стадо оленей, потому что оленье пастбище даже и в лучших местах вытравляется скоро, а для того, чтобы оно снова поросло мхом, мало и целой человеческой жизни. .
Я сейчас сказал, что энарские лопари сделали уже некоторые успехи на пути просвещения. Это заметно более всего в религиозном отношении. Они читают много, сведущи в христианском учении и ведут жизнь тихую и богобоязненную. Преступления между ними очень редки, если исключить одно довольно обыкновенное, состоящее в том, что лопарь-рыболов застрелит заблудившегося оленя из стада горного лопаря. Но это и не почитается важным проступком, что видно даже и из того, что один слишком уж совестливый рыбак спрашивал меня пресерьезно: «Действительно ли грех — застрелить иногда оленя, принадлежащего горному лопарю?». Вообще же энарские лопари гнушаются несправедливым присвоением чужой собственности. Энарский лопарь примерно трезв в сравнении с другими лопарями. Подобно большей части смертных, он не пренебрегает стаканом водки, когда ему предложат его, но лишнего не выпьет почти никогда. Говорят, будто энарские лопари корыстолюбивы, любостяжательны и недоброжелательны; эти упреки, может быть, и не совсем неосновательны. Я заметил только, что они чрезвычайно мелочны во всем, что сколько-нибудь касается их частной выгоды, а вместе с этим и завистливы к счастью и удаче другого. Впрочем, эти недостатки не могут не развиться в народе, живущем в бедности, принужденном постоянно бороться со скупой, суровой природой.
Говоря о просвещении энарских лопарей, не могу не сказать несколько слов и о их домашней жизни. В этом отношении они образовались, по крайней мере, настолько, что имеют дома, хотя и живут в них только зимой. Летом они ведут кочующую жизнь, переходят из одной хижины в другую и ловят рыбу то в том озере, то в другом. Когда же рыбная ловля кончится и наступит зима, рыбак возвращается в свою уединенную хижину, построенную в каком-нибудь бедном горном месте. При выборе места для зимнего жилища он имеет в виду только хорошее пастбище для оленей, древесную кору для собственного продовольствия и топливо. Истощится хоть одна из этих трех потребностей — он необходимо должен искать другое место. Старики сказывали мне, что таким образом им приходится переселяться три, четыре, даже пять раз в течение жизни. Понятно, что при таких условиях лопарь и не хлопочет об улучшении жилья своего. Горница его едва вмещает членов семейства и несколько овец, которые, не взирая на кроткую их природу, содержатся в заключении под кроватью. Вышина горницы под верхней кровельной балкой равняется росту большого человека, по бокам же нельзя стоять прямо. Часть горницы, отведенная овцам, составляет иногда особое отделение, потому что несколько углубляется в землю. Кухня образует другое отделение. Что касается до печи, то устройство ее очень просто: она состоит из двух бросающихся в глаза частей — из огромного отверстия и трубы, через которую пламя беспрепятственно поднимается вверх. Единственная вещь, которая в лапландской хижине походит на роскошь, — это верешок стекла, кое-где вставленный в маленькое оконное отверстие. Столы и стулья — величайшая редкость. Не везде найдешь даже и ложку, потому что похлебку свою лопари хлебают обыкновенно чумичкой. При некоторых хижинах бывает еще маленькая клеть, куда прячут платья и все, что не помещается в горнице. У богатых лопарей бывают, впрочем, и особые овчарни, а у имеющих коров, разумеется, и особые для них закуты. Кроме того, в каждом хозяйстве при летних и зимних жилищах есть один или несколько небольших чуланов. Они устраиваются на высоких столбах для предохранения поклажи — обыкновенно съестных припасов — от волков, росомах и других хищных зверей.
Что касается до хозяйственного быта энарских лопарей, он известен всякому, кто читал какое-нибудь описание пограничной Лапландии. Рыболовство составляет их главный промысел: они все — рыбаки. Рыба, не съеденная летом, сушится и прячется на зиму. Но в холодную пору лопарь не довольствуется этой легкой пищей. Он любит, чтобы за обедом, к которому приступает обыкновенно поздно вечером, было и мясо; утром же удовлетворяется остатками прошедшего дня или сушеной рыбой. Многие лопари запасаются, сверх того, хлебом, сырами (оленьим, коровьим и овечьим), замороженным оленьим молоком, морошкой, куманикой и другими подобными лакомствами. Лопарь-рыбак добывает мясо частью охотой за оленями, частью от своего маленького стада, но чаще всего покупкой у горных лопарей. Хотя горцы неохотно продают своих оленей, потому что стада их и без того почти ежедневно уменьшаются волками, которые, по выражению одного горного лопаря, так же опасны оленям, как дьявол людям, но водка — могучий, все побеждающий посредник. Заедет путешественник в горную деревню и поднесет, по обычаю, хозяевам рюмку или две водки, его тотчас же начнут дарить жареной олениной, языками, мозговыми костями и тому подобным. Отказаться — значит обидеть хозяина, а примешь — необходимо отплачивать водкой, следуя пословице: дар за дар, или отдай мое назад. Забудешь выполнить эту обязанность — о ней напомнят. Затем следуют новые дары и новое угощение, и это продолжается до тех пор, пока есть еще капля водки в бутылке путешественника. Из этого очевидно, какой неслыханный барыш может получить смышленый купец продажей водки горным лопарям. Неудивительно, что и энарские лопари почитают торговлю ею весьма важным промыслом.
Еще несколько слов о горных лопарях. В религиозном и нравственном отношениях они гораздо ниже лопарей-рыбаков. Тому виной не один только кочевой образ их жизни, но и неведение языка, на котором до сих пор преподают им религиозное учение. Кажется, однако ж, что и горные лопари склонны к благочестию, ибо ежедневно совершают утренние, предобеденные и вечерние молитвы и тщательно научают детей тому, что сами знают. Так же, как лопари-рыбаки, они отъявленные враги всякого суеверия и идолопоклонства, а потому почти и не знают своей старины. Благочестие горного лопаря обнаруживается еще неограниченной любовь к жене, детям и домочадцам. Один горец рассказывал мне, что в течение тридцатилетнего своего супружества он не сказал жене ни одного бранного слова, напротив, обращался к ней всегда с ласковым словом:
«loddadsham» (по-фински
lintuiseni — моя птичка). Я сам видел, с какой любовью горные лопари, возвращаясь ввечеру от оленей своих или из путешествия, целуют и ласкают жену и детей. С этой мягкостью характера горный лопарь соединяет, однако ж, отвагу и смелость, которые доводят его иногда до пренебрежения и нарушения приличий, обычаев и законов. Важные преступления так же, впрочем, редки у горных лопарей, как и у лопарей-рыболовов, но в общежитии их сохраняется еще много диких обычаев; так, они любят по древнему северному обыкновению добывать желаемое кулаком, речь их часто дерзка, и все обращение грубо и заносчиво. Да иначе и быть не может: горные лопари, хотя и приняли христианскую веру, все-таки принадлежат еще к народам диким. Дикость эта обнаруживается уже и внешней стороной их жизни. Они живут, подобно всем другим дикарям, в бедных чумах. Чумы эти строятся следующим образом: вбивают четыре согнутых шеста в землю так, что из них каждые два составляют полукружие, и оба полукружия, отдаленные на несколько аршин одно от другого, параллельны друг другу. За сим соединяют их между собой поперечными шестами и оставляют только небольшую дыру для дыма и отверстие для двери. Остов этот обтягивается войлоком, одно полотнище которого служит в то же время и дверью. Очаг обозначается несколькими камнями, которыми обкладывается в середине палатки то место, где должен гореть огонь. Набросаем еще на пол березового хвороста и покроем его оленьими шкурами — и жилье их будет окончательно устроено. В этом шатре, или чуме (goatte), горного лопаря живут жена его, дети и старики, сам же он вместе с прислугой ходит за оленьим стадом, спит иногда в сугробе снега, а иногда в так называемой
лавву (lawu), еще беднейшей его чума (goatte). Эта
лавва устраивается, как скоро кругом чума уже нет мха, и олени уходят от него на небольшое еще расстояние. Не оказывается пастбища вблизи — чум переносится со всей домашней утварью, со всеми съестными припасами и со всем имуществом в другое место. По уверению Хёгстрёма, такое переселение случается раза два каждый месяц. Кроме того, весной горные лопари уходят к морскому берегу, а осенью возвращаются в горы. Как ни затруднительны подобные кочевания, еще беспокойнее для лопаря беспрестанный надзор за оленями. День и ночь должен он беречь стадо от волков — врагов хитрых, выжидающих в кустах первый удобный случай схватить добычу. Главное в надзоре за стадом состоит в том, чтобы не давать ему разбиваться. Оленей у горного лопаря бывает иногда до тысячи, и так как все олени лопарей горной деревни соединяются в одно стадо, то, разумеется, и невозможно усмотреть за ним, если оно разобьется. Поэтому лопарь беспрестанно бегает на лыжах, стараясь сдерживать все стадо вместе при помощи собак, которые так хорошо выучены, что хозяину стоит только указать на отбежавшего оленя, и собака тотчас пригоняет его к стаду. Несмотря на такой бдительный надзор, волкам все-таки нередко удается в одну ночь зарезать несколько оленей. Вследствие этого во все продолжение зимы горному лопарю незачем убивать оленей для своего употребления: он довольствуется волчьими объедками, хотя и лишается, таким образом, лучших кусков и крови, которую любит пить горячую. Напрасно полагают, что горный лопарь питается одним мясом; он, правда, к вечеру сварит себе сытную мясную похлебку (которую, в противоположность рыболовам, ест без соли), но я видел, что даже прислуга ела хлеб, масло, соленую рыбу, олений сыр
[27] и тому подобное. К главной пище лопарей-рыбаков — к древесной коре — горный лопарь не имеет нужды прибегать: он по-своему богат, и в этом-то и заключается его единственное, существенное преимущество перед первыми. Во всем остальном — в религиозном и нравственном отношениях — лопарь-рыбак гораздо выше собрата своего, живущего в горах. И сама жизнь горных лопарей далеко грубее и дичее жизни рыбаков. Последние проводят большую часть зимы в своей избе, предаваясь покою, может быть, уже слишком невозмутимому; горец же, напротив, целый день борется с холодом, бурей и непогодой и вообще принужден вести жизнь, подобающую более зверю, чем человеку. Постройки рыбаков не показывают, конечно, больших успехов в архитектуре, но если рыбак построил себе избу, обзавелся овцами и даже коровой, то это уже шаг к жизни оседлой. Однако ж он все-таки бродит летом, а иногда даже и зимой переменяет место жительства, а потому и остается еще полукочевым — чем-то средним между горным лопарем и поселенцем. Лопари-рыболовы находятся действительно в переходном состоянии, а так как все переходы довольно трудны, то и у энарских лопарей переход от кочевания к оседлости произвел значительное хозяйственное расстройство. Желательно, чтобы те, кои могут содействовать благосостоянию Лапландии, поняли настоящее значение вышеупомянутого переходного состояния и постарались привести энарских лопарей не на горы и не к норвежским
фиордам, а к тому, к чему они сами бессознательно стремятся — к совершенно оседлому образу жизни.
После всех этих отступлений пора, однако ж, собираться опять в дорогу. Впрочем, спешить отъездом нельзя, потому что для того, чтоб олени пробежали двенадцатимильное расстояние от Патсйоениски до русско-лапландской деревни Синьель, для них необходимы предрассветный отдых (Koitto lepo) и затем паства, продолжающаяся несколько времени. Потом предстоит еще немалый труд поймать оленей. Их ловят арканом, который закидывают на рога. В особенности трудно ловить оленей, происходящих от диких, потому что они, еще издали увидев человека, бегут от него. Завтрак не задерживает, конечно, лапландца так, как финна, но оба народа отличаются одинаковой способностью волочить время. Так и при нашем отъезде из Патсйоениски был уже почти полдень, когда хозяин подал, наконец, знак к отъезду. Знак этот подается обыкновенно прежде, чем запрягут оленей, потому что запряганье их так просто, что на это дело, по выражению лопарей, не нужно даже и времени. Оно производится следующим образом. На голову оленя надевают недоуздок, к которому прикреплены вожжи, а на шею хомут из мягкой оленьей кожи; последний, охватывая шею оленя, несколько удлиняется под передние ноги. Постромка составляет отдельную часть; проходя между ног животного, она прикрепляется одним концом к хомуту, а другим к петле, находящейся под передней оконечностью саней. Сани внешней формой похожи на перерубленную пополам лодку со спинкой и довольно широким дном. Что касается до их величины, то одному человеку можно удобно в них поместиться и, сверх того, для упора можно еще положить в ноги чемодан.
Олени запряжены, наконец, и все в порядке. Лопарь читает еще про себя «Отче наш» и затем пускается через холмы и горы с такой скоростью, которую можно сравнить разве только с быстрым полетом птицы. Вскоре олень умеряет, однако ж, бег свой и идет уже обыкновенно неизменной рысью, однообразность которой равно утомительна и для тела, и для души. Поэтому и бывает приятно спускаться по временам даже с крутых утесов, но дорога между Патсйоениски и Синьеля, по несчастью, совершенно ровная, и на ней нет ни утесов, ни высоких гор. Она идет по бесчисленному множеству малых и больших озер, а они-то пуще всего и истощают терпение не только своей пустынной однообразностью, но и свободным по ним разгулом ветра и непогоды. Есть, впрочем, и леса, хоть несколько защищающие по крайней мере от ветра, но тут никакого разнообразия, кроме разнообразия елей; никакого признака жизни, кроме звериных следов; никакого звука, кроме воя ветра и печального скрипа какого-нибудь столетнего дерева, которое от бремени лет склонилось к соседу и как бы молит о защите от угрожающей ему бури. Многие ровесники его лежат уже низверженные беспощадным губителем, и он, как бы из уважения к стойкости своих противников, навеял уже на них огромные груды снега. Но что эти груды в сравнении с гигантскими памятниками, которые природа воздвигла здесь на собственной могиле своей? Ты, может быть, думаешь, что эти мрачные, виднеющиеся вдалеке призраки — облака? Но разве ты не видишь, как они неподвижны? Разве не говорит тебе все окружающее и, между прочим, и самый белый покров земли, что они стоят здесь свидетелями бренности и смерти?
Такое мрачное расположение навеяла на мою душу лапландская природа в начале нашего путешествия из Патсйоениски. Чтоб дать другое направление своим мыслям, я
подъехал к проводнику и завел с ним разговор. Между прочим, я спросил его, почему, как скоро мы переехали русскую границу, напала на нас такая сильная буря? Лопарь отвечал мне, что на самой границе вместо таможни было Святое место (basse-baikke), и потому святое, что там стоял сеида. В прежние же времена лапландец никогда не проезжал мимо сеида, не остановившись подле него поесть и, разумеется, не принесши ему жертвы. Русские лопари и до сих пор сохраняют этот обычай из страха, чтоб не подвергнуться дорогой голоду или какому-нибудь другому несчастью за несоблюдение его. «Может быть, сеида требовал и от нас жертвы, — продолжал, улыбаясь, лопарь, — и этой бурей показывает нам теперь свою силу». Желая утешить гнев раздраженного бога, мы остановились закусить, но и это ни к чему не послужило. Непогода не только не утихла, но даже увеличилась, и нам оставалось только терпеть и утешать себя надеждой, что по крайней мере ночь проведем близ живительного огня. Действительно, эта надежда исполнилась. Мы нашли сваленную ель, корень которой мог бы, казалось, поддерживать вечное пламя. Мы вырыли подле него просторную яму, натаскали в нее ветвей, растянули со стороны ветра парус (loudet), поставили котел на огонь и уселись вокруг. Ветер не беспокоил нас: он оживлял, напротив, наш огонь и забавлял еще своим говором с лесом. Само собой разумеется, что в таких случаях не обходится без стакана водки и воспоминаний о друзьях и о всем, что в далекой родине драгоценно и мило. Таким образом время проходит легко и приятно в ожидании сытной похлебки, доставляющей путешественнику крепкий сон даже и в этой неприязненной пустыне. Укрепившись покойным сном, встаешь поутру, готовый на все, что ни приготовил в лоне своем вновь проснувшийся день. 27 февраля было для меня днем, о котором я решительно мог бы сказать:
perdidi diem, если бы я на самом деле был важным господином (iso herra), как величали меня иногда финские возчики, с которыми, в противоположность туземным жителям, чиновникам и другим путешественникам, я хорошо обращался, разговаривал дружелюбно о хозяйстве их, образе жизни и тому подобном. Об этом дне я ничего не нахожу в своих записках, кроме названий тех озер, которые мы проезжали по дороге от Патсйоки в Синьель. Названия эти: 1-е —
Сулъкишъяри, 2-е —
Пуольтшияри, 3-е —
Алъкасъяри, 4-е —
Камаяри, 5-е —
Пъаномъяри, 6-е —
Чоалмеяри, 7-е —
Каллаяри, 8-е —
По бласъяри, 9-е —
Гуккиссъяри. Между Чоалмеяри и Пьаномъяри тянется довольно высокий хребет, называемый
Уккашаэлъке. Видно, на этом хребте стоял также голодный сеида, потому что, как только мы перебрались через него, поднялась жестокая снежная метель, постоянно усиливавшаяся. На Гуккиссъяри, имевшем почти милю длины, она так расходилась, что едва-едва не лишила всякой возможности продолжать путь. Наконец нам удалось-таки переехать и это озеро. До деревни оставалось только каких-нибудь полмили, но кто ж не испытал, что как время не всегда определяется часами и минутами, так точно и геометрическое измерение саженями и аршинами не всегда определяет длину дороги. Нельзя себе представить, как бесконечна кажется полумиля в Лапландии, когда бушует метель и когда, утомясь от трудной дороги, жаждешь добраться до гостеприимного крова. Напрягаешь все силы зрения, чтобы открыть между деревьями желанный огонь, и раздраженное нетерпением воображение кажет тысячи огней, исчезающих через минуту, чтоб блеснуть снова и снова исчезнуть. Утомленный и раздосадованный этими обманами, принимаешь наконец за призрак и действительный огонь, и только уж лай собак убеждает окончательно, что достигли наконец желанной цели.
Синьель, как ближайшая к Энаре деревня Русской Лапландии, имеет много общего с деревнями пограничной Финской Лапландии, чего в других русско-лапландских селениях не замечается. Предположим, однако ж, что мы были уже и в последних, и изложим здесь в общих чертах нравы, обычаи и прочие особенности русских лопарей. В образе жизни они немногим отличаются от энарских. Они промышляют преимущественно рыбной ловлей и живут летом по берегам озер, рек и моря в шатрах или шалашах. Осенью или позднее, по истечении рождественского поста, они возвращаются в зимние жилища, не разбросанные далеко друг от друга, как у энарских лопарей, а соединенные по русскому обычаю большей частью в тесные деревни. Уже и это одно показывает, что русские лопари не могут держать больших стад оленей, потому что скорое уничтожение пастбищ принуждало бы их к беспрестанным переселениям всей деревней. Число их оленей в самом деле так незначительно, что небольшие деревни могут десятки лет оставаться на одном месте. Многие причины заставили русского лопаря заниматься предпочтительно рыбной ловлей. Главная из них — сама природа, благоприятствующая этому промыслу. Моря Белое и Ледовитое — просто золотые копи для рыбака, сверх того, в Русской пограничной Лапландии есть два больших, богатых рыбой озера (Имандра и Нуот) и несчетное количество мелких озер. Как же лопарю не воспользоваться такими благоприятными условиями и не покинуть для них далеко тягостнейшей горной жизни? За сим переходу к рыболовству содействовало также и греко-российское вероисповедание, по которому лопарь почти половину года должен воздерживаться от пищи, представляемой ему оленьим стадом. Несмотря на то, после рыболовства оленеводство — все-таки главный промысел русского лопаря. Занимается он, впрочем, также и торговлей, а потому на стене избы его вы всегда увидите подле образа безмен. Здесь редко спрашивают у путешественника, чего ему подать на стол, он сам должен требовать, чтоб ему отвесили хлеба, рыбы и прочего. Таким образом, во всем проявляется уже начинающееся преобладание духа торговли, но русские лопари слишком еще бедны для настоящих торговых спекуляций, для разъездов по городам и ярмаркам. Иногда приезжают они, однако ж, по торговым делам из какой-нибудь ближней деревни к церкви Энаре: так, как аккальские лопари в Саллу. Во всяком случае эта наклонность к торговле одна только и подает надежду на улучшение быта русских лопарей, по крайней мере, в хозяйственном отношении. Скотоводство совершенно им чуждо: ни у одного нет коровы, не у всех найдешь и овцу. Весьма вероятно, что они и не будут заниматься этим промыслом, ибо учителя их, русские, сами весьма не радеют о скотоводстве.
Что касается до жилищ русских лопарей, то они весьма разнообразны. Большая часть живет зимой в лачугах, похожих на энарские: таких же низких, узких и с открытым очагом. Разница только в крыше, здесь обыкновенно плоской, а внутри — в отсутствии кроватей, заменяемых широкими скамьями по всем стенам. На берегу моря, в горных и вообще безлесных странах русские лопари живут даже и зимой в палатках. Эти палатки, широкие посередине и суживающиеся к обоим концам, делают, однако ж, из досок или деревьев, врываемых наклонно. Стены их не сходятся, а замыкаются на обоих концах узкой поперечной стенкой. Плоская кровля покрыта торфом
[28], пола нет, в середине — обыкновенный очаг. Третий род жилищ составляют курные избы, гораздо меньшие и беднейшие наших финских. Круглая печь, выведенная на деревянном фундаменте, похожа на наши банные, но обыкновенно очень мала и сложена так дурно, что пламя всегда пробивает сквозь камни. Отверстие для дыма затыкается мешком или подушкой, которую поднимают вверх шестом. Встречается еще изредка и четвертый род жилья: настоящие избы, совершенно сходные с избами русских карелов, у которых печи с трубами. У лопарей, живущих в такой или даже в курной избе, палатка обращается в кухню. Для того же строятся палатки и во многих местах в Остроботнии — обычай, без сомнения, заимствованный у лопарей.
Одежда почти у всех лопарей одинакова, важнейшие и необходимейшие части ее — оленья шуба, сапоги и исподнее платье — из шкуры оленьих ног. Русские лопари пришивают сапоги к последнему, другие же зашнуровывают их только на голенях, но так крепко, что снег никак не может засыпаться внутрь. В холода норвежские и финские лопари носят медвежий воротник, который защищает не только уши и лицо, но и грудь, и плечи. У русских лопарей его нет, но зато они носят шапку с ушами, которые закрывают большую часть лица; шапка же прочих лопарей, совершенно сходная с русской кучеркой, нисколько не защищает его. Эта, по преимуществу дорожная, одежда лопарей почти одинакова у мужчин и у женщин. Разница только в шапке, тулья которой у мужчин, по русско-лапландской моде, закругленная, а у женщин — плоская, выше и шире мужской. О шапке финских лопарок сказано выше. Дома же мужчины и женщины финской Лапландии ходят в платье из толстого сукна, похожем на рубашку, тогда как в русской вместе со многими другими принята и народная русская одежда.
Перейдем теперь к внутренней жизни русских лопарей. В религиозном отношении они стоят на очень низкой степени. Они не имеют почти никакого понятия о духе и учении христианском; никто не умеет читать, и религиозные их потребности удовлетворяются только весьма редким посещением священника из ближайшей русской деревни или города. Поэтому воскресный день у них чтится только как день покоя, иногда они ходят, однако ж, в этот день в молельни, которые есть, впрочем, в каждой деревне или погосте, для того, чтоб перекреститься несколько раз перед иконой. В обыденной жизни они строго соблюдают предписания греческой церкви, но под этой христианской внешностью скрывается много суеверий. Особенно глубоко укоренилась у них вера в колдовство. Вышеупомянутые аккальские лопари, как искуснейшие колдуны, пользуются великим почетом. Они прославились этим и в Финляндии так, что даже крестьяне Саволакса ходят к ним лечиться, отыскивать потерянное. О том, как аккальские лопари колдуют, я узнал только, что они впадают в магический сон, в котором получают все нужные им откровения. Лопари думают, что во время этого сна душа покидает тело, странствует везде и разузнает, где лежит украденная вещь, отчего приключилась болезнь, чем лечить ее и т.д. Нет никакого сомнения, что сон этот большей частью шарлатанство, но он так общ всем необразованным народам всех частей света, что трудно не сознать его первоначальной истинности. Он никак не принадлежит, однако ж, к явлениям, объясняемым или, вернее, нисколько не объясняемым животным магнетизмом. Вероятно, что в сущности это был и не сон, а просто обморок, порождавшийся неестественным экстазом, до которого колдун доводил себя во время чародействия. Очень может быть, что в продолжение этого обморока в колдуне развивались, как в настоящем сне, разные неясные представления о том, что его пред тем занимало, а так как эти представления принимались за откровения, то естественно, что и самый сон или обморок не мог не получить чародейственного значения. Говорят, что колдун может приводить себя в такое состояние во всякое время, и я вполне этому верю, но только в отношении к колдунам диких народов. По крайней мере это явление совершенно согласуется со многими другими, рассказываемыми о диких народах. Приведу только некоторые, может быть, не так важные, но вполне уместные, потому что касаются именно русских лопарей. Во время путешествия моего по пограничной Лапландии мне часто советовали остерегаться русских лопарей, и именно женщин их, потому что иногда на них находит род сумасшествия, в котором они сами не знают того, что делают. Я не обращал сначала никакого внимания на эти речи, принимая их за обыкновенные басни, возводимые на лапландцев. Случилось, однако ж, однажды, что в одной деревне пограничной Русской Лапландии сошелся я с несколькими карелами и двумя русскими купцами. Они также советовали мне остерегаться и ни под каким видом не пугать лапландских женщин, потому что это, по их мнению,
res capitalis[29]. Один карел рассказал по этому случаю следующее: «Раз в молодости моей, ловя рыбу в море, я встретил лодку, в которой, кроме правившего ею лопаря, сидела еще женщина с маленьким ребенком на руках. Увидев необыкновенную мою одежду, она так испугалась, что бросила ребенка в море». «Несколько лет тому назад случилось мне быть в кругу терских лопарей, — рассказывал другой. — Мы сидели и говорили о разных неважных предметах, вдруг за стеной послышался удар, как бы молотком или пестом, и все лопари повалились тотчас на землю, подергали несколько секунд руками и ногами, потом вытянулись, как мертвые. Через несколько минут они встали, как ни в чем, как будто ничего и не было». Один из русских купцов, желая убедить меня в достоверности этих рассказов, предложил показать несколько образчиков пугливости лапландских женщин. Сперва он спрятал, однако ж, все ножи, топоры и прочие опасные орудия, которые легко могли попасться под руку, и потом быстро подошел к одной женщине и хлопнул в ладоши. Женщина бросилась на него, как фурия, и принялась царапать, щипать и бить его немилосердно, затем она упала на лавку и долго еще не могла перевести дух. Опомнившись, она решилась не пугаться уже. Следующий за тем опыт прошел благополучно: она только вскрикнула громко и пронзительно. Пока она радовалась этой удачей, другой купец набросил ей на глаза платок, и в ту же минуту выпрыгнул из комнаты. Надобно было видеть, как эта женщина начала бросаться, колотить, сбивать с ног, таскать за волосы всех находившихся в это время в избе. Я сидел в углу и с беспокойным нетерпением ожидал своей очереди. Вдруг вижу, что дикие, блуждающие глаза ее останавливаются на мне, и в то же самое мгновение она бросается на меня с протянутыми вперед руками; по счастью, два сильных карела успели оттащить ее в сторону, и она без чувств упала к ним на руки. Карелы полагали, что ее бешенство было обращено на меня моими очками. Затем пробовали испугать подобным образом еще одну молодую девушку — уронили ей на голову сосновую лучинку, она вздрогнула и выбежала вон. Потом стукнули молотком в стену, и вышеупомянутая женщина вскочила, но, закрыв руками глаза, скоро опамятовалась. Как ни ничтожны эти случаи, они все-таки показывают, как легко выходят дикари из себя и впадают в бессознательное состояние; в какой же степени должна быть развита эта способность у колдунов и заклинателей, жестоко насилующих человеческую природу свою сильными экстазами и неестественным напряжением душевных сил.
У колдунов Русской Лапландии я не нашел никаких, подобных заговорам финнов (luwut, един. — luku) заклинательных формул, видел только некоторые символические действия и по преданию соблюдаемые приемы. Приведу для примера, каким образом русская лопарка лечила вывих. Она долго водила пальцами по вывихнутому члену, как бы отыскивая боль, и наконец, отыскав, ухватила ее ногтями, понесла ко рту, разжевала и выплюнула. Она повторила это несколько раз без всяких заклинаний, болтая, напротив, во все продолжение этой смешной операции о предметах, совершенно посторонних. Больше я ничего не могу сказать о колдовстве русских лопарей, потому что не был в тех местах, где по преимуществу им занимаются, да и сам язык их был мне слишком мало известен.
Еще несколько слов о характере русских лопарей. Он почти одинаков для всей Лапландии, его можно сравнить с ручьем, воды которого текут так тихо, что и не увидишь их движения. Встретится ли какое-нибудь большое препятствие — ручей сворачивает тихохонько в сторону и все-таки достигает наконец цели. Таков характер лопаря: тих, мирен, уступчив. Любимое его слово —
мир; миром он встречает вас,
миром и провожает;
мир для него все. Он любит мир, как мать любит вскормленное ею дитя. В одной из саг говорится, что в лапландской земле в высшей степени все голо, бедно и гадко, но что в глубине ее скрывается много золота. И в самом деле, что же может быть драгоценнее миролюбия, которым лопарь наделен так щедро? Лишенный большей части наслаждений жизнью, окруженный суровой, непреодолимой природой, обреченный на нищету и лишения, он одарен завидной способностью переносить все труды и бедствия с ненарушимым спокойствием. Для своего благосостояния он требует только одного — чтобы не мешали ему пользоваться его небольшим достоянием, не трогали старинные обычаи, не возмущали его мирного спокойствия. Неприязненная природа заставляет его много хлопотать и трудиться, но затем он охотно предается тихой, по собственной его терминологии,
мирной жизни. Заранее обдуманные планы, тонкие расчеты и вообще всякая внешняя деятельность противны ему, он любит жить, погрузясь в созерцание религиозных и других предметов, не выходящих из пределов его маленького круга. Уже и из этого можно видеть, что финский тип отражается и лапландским народным характером. В сущности, и финн одарен такой же мирной, тихой, сговорчивой натурой. Уступчивый в безделицах, он делается, однако ж, героем, когда коснутся чего-нибудь, по его мнению, важного. Точно так же и лопарь доходит иногда до крайнего упорства, но тут он легко утрачивает спокойную обдуманность, которая никогда не оставляет более мужественного финна. Обращенная внутрь душевная деятельность, спокойная созерцательность сродни обоим, но у лопаря она мельче. У обоих в глубине их замкнутого характера скрывается порядочная доля хитрости и осторожности или недоверчивости — свойства, развитые, однако ж, по преимуществу у лопаря. Далее, и в лопаре заметен довольно резкий оттенок уныния, характеризующего финнов и вообще все финское племя, но не того глубокого уныния, которое беспощадно грызет финна, которое прозвано даже финским героизмом. Унылость лопаря проявляется обыкновенно в виде внешнего удручения. Вообще кажется, будто лопарь — слабейший брат финна и родился весь в мать, тогда как финн — в отца. Таков характер и русских лопарей во многих более отдаленных местностях, но в деревнях на большой
Мурманской дороге он начал уже сильно изменяться. Внутреннее довольство перешло во внешнюю бессмысленную веселость, мирная созерцательность заменилась практическим расчетом, тихое спокойствие — неуместной суетливостью. Тут вы не найдете ни мягкосердия, ни радушия, которыми отличаются другие лопари. Торговля и беспрестанные столкновения с русскими и с карелами вывели их из природного состояния невинности. В особенности сильно подействовало на них влияние первых. В кругу русских узнаешь всегда молчаливого, спокойного лопаря, но в сношении с другими лопарями он кажется русским. По-русски он говорит почти так же хорошо, как на своем родном языке, и по недостатку собственных песен любит отвести иногда душу русской песнью. По воскресеньям, даже в самые холодные зимние дни, он играет в снежки (Ballspiel) или развлекается другими русскими забавами. Даже в домашней жизни его — все русские обычаи, не говоря уже об одежде. Все, что мы сказали о веселости их, о деятельности, о торговом духе и т.д., — все это следствие русского влияния. Можно почти наверное сказать, что русские лопари рано или поздно совершенно сольются с русским народом, тем более что у них нет даже собственного книжного языка. Малочисленность их подтверждает еще более это предположение. По сведениям, доставленным мне в Коле исправником^ число русских лопарей не превышает 1844 душ.
Мне следовало бы, может быть, прибавить несколько замечаний о языке русских лопарей, но пора уже подумать и об отъезде. Итак, без дальнейших околичностей и не сворачивая никуда, пустимся в путь за 150 верст в Колу. Не обращая особенного внимания на то, что наши олени увешены колокольчиками, бубенчиками и множеством пестрой сбруи, не могу, однако ж, не обратить его на погоду, так важную для путешествующего по Лапландии, а потому скажу, что первое марта был даже и в Лапландии необыкновенно неприязненный день. Но нам стыдно было жаловаться, потому что тому же подвергалось и новорожденное дитя, которое везли в Гиперборейский город для крещения. Конечно, у груди матери было теплее, чем в открытом керисе, но, несмотря на то, что и мы были некоторым образом младенцами в лапландском мире, мы сбрасывали с себя груды снега довольно бодро: нас утешали прекрасные олени и быстрая езда на них, которой русские лопари отличаются. Две первые мили мы просто пролетели. Дорога, насколько позволяли рассмотреть сумерки и хлопья снега, шла все лесом. Вскоре добрались мы до большого озера Нуот (Nuotjäyri), проехали по нему две мили, затем вышли на берег и расположились ночевать у огня подле большого снегового сугроба. Любопытно видеть, как быстро русский лопарь разводит огонь: нащипает
несколько лучин, сломит несколько сучьев, расколет два-три чурбана, уставит и уложит все это вокруг смолистого пня, и огонь готов. Конечно, такой огонь годится только для раскуривания трубки или для растаивания снега на питье, да ему, закутанному в оленьи и овечьи шкуры, ничего больше и не надобно. Энарский лопарь хлопочет о нем гораздо более, и потому он гораздо лучше, хотя все-таки не сравняется с финским огнем. Горный лопарь совсем не разводит огня. Набредет он вечером на хорошую паству для оленей, он вырывает яму в сугробе снега и спит в ней спокойно до утра. Это даже предпочтительнее плохого огня; в хорошей лапландской шубе, натянув ее на голову, вынув руки из рукавов и спрятав их под шубу, можно провести зимнюю ночь и в горах довольно сносно. Близ огня же, даже и весьма плохого, трудно удержаться, чтоб не снять тяжелую шубу, и ночью просыпаешься промерзлый, иногда занесенный снегом, хочешь погреться у огня — огонь погас. Раздуваешь его снова, снова укладываешься и засыпаешь, чтобы через несколько времени проснуться так же неприятно. Точно так провел я всю ночь на этом ночлеге. Когда же настало желанное утро, мы проехали еще милю по озеру Нуот. По льду его бегали волки, словно собаки, жадно косясь на жирных наших оленей. Всю ночь они рыскали около нас и беспокоили оленей, которые от того были голодны и утомлены. Выехав на берег, мы остановились, чтобы дать оленям покормиться. Лопари уважают оленей за их чрезвычайный инстинкт, вследствие которого, воткнув только морду в снег, они тотчас же узнают, несмотря на глубину его, есть ли под ним мох или нет. Эта способность, необходимая для существования этих животных, может быть, еще не так удивительна, как другие их качества. Я, например, не мог надивиться, как без всяких следов и признаков дороги хороший олень сам собой привозит путешественника куда надо, если только хоть раз пробегал уже это пространство. К добрым качествам оленя принадлежит еще и то, что им можно управлять такой простой вещью, какова вожжа: перебросишь ее на правую сторону — он бежит, перекинешь на левую — он останавливается. Только при спуске с холма или с горы он слушается уже не вожжи, а собственного побуждения, которое заставляет его бежать как можно быстрее. Эти спуски очень приятны, но иногда весьма опасны, как я это вскоре и испытал на самом деле. Через несколько часов езды нам привелось спускаться с довольно высокого холма. Дорога, извивавшаяся по нему между высокими елями к речке Нутйоки, несмотря на предшествовавшие метели, защищенная от них лесом и горой, была тверда, как камень, и от большой езды страшно ухабиста. Именно тут-то и вздумалось моему оленю пуститься во всю прыть. Керис перелетал через ухабы, почти не касаясь дна, и ударялся о противоположный край их с такой силой, что я едва удерживался в нем. Кроме того, я должен был беспрестанно работать и руками, и ногами, и всем телом, чтоб отклонять его от деревьев, о которые неминуемо расшиб бы голову. По счастью, мне удалось избежать этого, я отделался только тем, что при перелете через один ухаб был взброшен вверх, потерял равновесие и упал в керис боком. Не знаю, что бы со мною сталось в этом беспомощном положении, если б следующий же ухаб не вывел меня из него. Съехав к реке, олень вдруг остановился, обернулся и посмотрел на опасный холм с видимым удивлением. Затем он бежал уже довольно смирно вдоль по реке до самого ночлега, т.е. до хижины, нарочно выстроенной на берегу для путешественников.
На следующий день два чужеземца смотрели с вершины горы на город Колу, лежащий в глубокой долине, окруженной высокими горами. Его обвивают две реки — Тулома и Кола, которые, слившись по ту сторону города, беззаботно бегут на смерть в волнах Ледовитого моря. В самом городе множество ветхих строений, но взор тотчас же отвлекается от них колоссальной церковью времен Петра Великого. Издали башни и главы ее сливаются в один огромный купол, и отсюда ее можно почти принять за лапландскую гору. Рядом с этой церковью построена другая, которая блестящей своей внешностью и малым размером намекает на новейшие времена.
III
Мы приехали в Колу незадолго до масленицы. Эта неделя во всей России посвящается пирам и веселью. Без всяких обычных представлений все приглашали и принимали нас ласково. Во всю неделю не прошло дня, чтоб нас не позвали участвовать в увеселениях города. Тут естествоиспытатель мог бы изучить ихтиологию Ледовитого моря в бесчисленных рыбных кушаньях и в то же время заняться лапландской флорой, представляемой множеством разноцветных наливок. Любитель древности мог бы также найти предметы, достойные изучения как во многих старинных нравах и обычаях, так и в различных драгоценных редкостях, переходящих по наследству из рода в род. Меня всего больше занимала русская народная одежда, особенно наряд мещанок и красивых их дочек. Наиболее бросалась в глаза шубейка, покрытая красным сукном или бархатом, с богатым золотым шитьем и блестящими жемчугами. Она очень широка, без рукавов и доходит до чресл. Не менее пышен и головной убор девушек, который в финских руках сравнивается с «прямо стоящим (вернее же, с несколько наклоненным набок) концом облака». Жаль, что финская муза не занялась и оценкой этой драгоценности, вероятно, она не отдала бы ее и за «мех черно-бурой лисицы», потому что наряд этот и в наше богатое жемчугами время стоит от трех до пятисот рублей. Само платье широко и твердо, как латы; цвет его различен, потому что собирающиеся сюда с различных сторон женщины держатся любимого цвета своей родины. Пышные белые рукава составляют также существенную часть их одежды. Эти рукава безобразно широки и вздернуты почти до ушей, отчего сами миловидные девушки кажутся угрюмыми и сердитыми. Когда я в первый раз увидел вереницу семнадцатилетних девушек, преважно выступавших в этом наряде, приподымаясь на каждому шагу на цыпочки и смотря неподвижно вперед, мне казалось, что вижу комедию, представляющую девическую гордость отцовскими сокровищами. К чести Кольских девушек скажу, однако ж, что это театральное представление только наружное. К вечеру, когда взоры строгих матерей отвлекутся от любимых дочек к еще более любимым чашкам чая, сурово-мрачные девушки порхают живо и весело в одушевленной мазурке.
Но если тебе хочется видеть этих горных дев в настоящей их стихии, пойдем со мной к лапландским горам, где занимаются забавой, называемой у русских
катаньем. Множество женщин и мужчин парами в маленьких оленьих санках летят с крутой горы вниз. Все лица сияют искренней веселостью. Мальчик радуется необычайной быстроте, молодой человек гордится тем, что может охранять свою девицу. Но что же румянит лицо девушки? Уж не мороз ли? Это предположение всего вероятнее: на дворе 26 градусов по Реомюру, а все девицы одеты в шелковые, на легком меху шубейки, в цветные ситцевые платья с красными передниками, на голове только повязка, на руках черные бархатные перчатки. Но подойдем ближе. Смотри: вот между прочими катится молодой мальчик в лапландских санках (ahkia), в которые запряжена собака. Как весело мальчику править, как больно собаке, которую толкают и колют заостренные санки! К великой досаде седока, собака остановилась на половине горы, и маленький своенравный тиран боится, чтоб на него не наехали другие санки. Оставим его, однако ж, на произвол судьбы в надежде, что он сумеет справиться и без нашей помощи. Вот летит с быстротой стрелы ничем не запряженный керис и невольно привлекает наше внимание. В керисе сидит молодой человек и держит девушку на коленях. Гордо, самоуверенно правит он санями через все извилины и ухабы, девушка дрожит от страха, от быстрой езды головная повязка развязалась, и длинные локоны развеваются ветром. Она, улыбаясь, взглядывает на своего охранителя. Геройски обнимает он одной рукой стан ее, но теряет равновесие, и поэтический восторг их оканчивается падением в груду снега к великому удовольствию и громкому смеху зрителей. Вот катится храбрая амазонка, сама правит санками и благополучно съезжает до самого конца горы. Ее приветствуют громким «ура»! Вот в самую среду блестящей толпы влетают санки, набитые мальчишками в изорванных платьях, они кричат, шумят, звонят колокольчиками и бубенчиками. Гора оглашается взрывами хохота.
Но мы подошли слишком уже близко и обратили на себя внимание. Народ начинает собираться около нас. Со всех сторон раздается: «Не угодно ли вам скатиться, ваше благородие?». — «У меня санки отличные!». — «Мои лучше!». — «Нет, мои!». — «Мои!» и т.п. Мы отходим от горы подалее.
Веселая неделя кончилась. Не объехать ли нам важнейших сановников города, не понаведаться ли об их здоровье после масленицы? Уездный врач сидит, полуразвалившись, на своем широком диване и толкует о тяжелом воздухе и о необходимости предохранять себя от скорбута
[30]. Таможенный пристав жалуется на тяжелые времена, обложившие даже и табак пошлиной. Друг его, учитель, советует ему курить все-таки беспошлинный табак, уверяя, что и это Бог простит ему. Сам учитель страдает злокачественной сыпью, исправник — ревматизмом, заседатель показал нам желтые пятна на груди. Стряпчий сидит подле истерической своей дочери. У городничего и других болит голова. Что же у судьи — решить трудно, потому что он не говорит ни слова. Дамы сидят все по домам и едят капусту. Несмотря на то, нам продолжают, однако ж, оказывать то же предупредительное внимание. Но всех более был расположен к нам исправник — человек, оказавший нам пользу даже и в научном отношении. По обязанностям службы он жил несколько лет посреди самоедов и лопарей и поэтому мог сообщить нам множество полезных сведений об этих народах. И учитель в свою очередь старался также быть нам полезным: он учил нас русскому выговору, русской грамматике и снабжал русскими книгами.
Не взирая на радушие и услужливость, оказанные нам в этом городе, во мне не замедлило, однако ж, пробудиться тайное желание отправиться поскорее к лопарям. Это желание было вполне безрассудно, потому что русский язык, который, как посредствующий язык, был необходим для предполагаемого мною изучения наречий русских лопарей, я знал слишком еще недостаточно. Вследствие этого желания мы предприняли небольшую поездку в ближайшую лапландскую деревню Кильдин. Как нарочно, мы не нашли в ней ни души и, как бы в наказание за наше без всякого плана предпринятое путешествие, должны были возвратиться ни с чем. Но где же были жители? Большая часть их повезла так называемых мурманцев к Ледовитому морю, остальные отправились в Колу, чтоб посмотреть и встретить ожидаемого туда архангельского губернатора.
Сначала мы предполагали сделать из Колы несколько поездок в пограничную Русскую Лапландию и затем, по вскрытии вод, отправиться через Мезень к самоедам
[31], но полученные из Петербурга известия побудили нас ехать в Архангельск для предварительного изучения самоедского языка под руководством архимандрита Вениамина. Таким образом, желание окончить это изучение и пуститься в путь к самоедам еще до наступления зимы лишило нас возможности побывать в Семиострове, Муотке и многих других, более северных лапландских селениях. Мы должны были ограничиться знакомством только с лопарями, живущими по дороге от Колы до Кандалака. Конечно, на всем этом пространстве только одна порядочная лапландская деревня, но зато на всех почтовых станциях живут по одному или по нескольку лопарских семейств с разных концов страны. На каждой есть по крайней мере одна хорошо устроенная изба, а потому дорога эта и представляла большие удобства для изучения разных русско-лапландских наречий, за исключением терского, но мы, по несчастью, ехали по ней во время прохода мурманцев, сильно мешавших нашим ученым предприятиям.
Так называемые мурманцы суть частью русские, частью карелы и лопари, отправляющиеся в конце марта и в начале апреля к берега Ледовитого моря для того, чтобы весной и летом ловить там рыбу. Они собираются из стран Онеги и Кеми и едут через Кандалак и Имандру до почтовой станции Разноволок, которая находится в одиннадцати милях к югу от Колы. В этом месте поезд их раздвояется. Те, которые ловят рыбу в заливах, лежащих между Кольекой губой и норвежской границей, едут в Колу и потом далее к северу. Те же, которые ловят между Колой и Святым Носом, отправляются туда прямо, не заезжая в Колу. Все поморье — от норвежской границы до Святого Носа — известно под именем Мурманского берега; к нему часто причисляют, впрочем, и часть Терского берега, но в сущности Терским берегом называется вообще весь западный берег Белого моря. Этот поезд мурманцев состоит по большей части из наемных работников. Сами же хозяева выезжают сюда в июне и июле месяцах на небольших судах, которые, смотря по размеру и устройству, называются ладьями, кочмарами и шнеками, привозят хлебные запасы на следующий год и забирают наловленную рыбу. Некоторые остаются при своих рыбных ловлях до последних чисел августа — время прекращения рыболовства; другие же идут дальше — до Вадсё, Гаммерфеста, Тромсё и других норвежских гаваней — с грузом муки, круп, равентуха, канатов, пеньки, рыбьего жира, мыла и других товаров, которые променивают на дорш (Gadeus Callarias), лисьи меха, ром, кофе, чай, сахар и другие пряности, выгодно сбываемые на их родине.
Возвратимся, однако ж, к повествованию наших похождений. Когда мы совсем собрались уже в дорогу, к нам пришли почти все значительные сановники, выпили за наше здоровье и проводили нас довольно далеко за город. Простившись здесь в последний раз с этими добрыми, радушными людьми, мы продолжали наше путешествие при свете звездного неба, сверкавшего северным сиянием, до почтовой станции Китса (Кьеддъям) в тридцати верстах от Колы. Взобравшись тут на холм, мы заметили что-то черневшее, как большой гробовой покров, на блестящей белизне снега. Мы подошли поближе, чтоб рассмотреть, что это такое, и увидели несколько десятков закутанных в теплые шубы мурманцев, преспокойно спавших, по недостатку места, на снегу. В избе мы были встречены громкими: «Ай! Ой! Черт!» и другими, еще крепчайшими выражениями, потому что не могли сделать и шагу, не наступив на кого-нибудь. Мы прибегли к помощи ямщика, и его громозвучное: «Благородные люди!» — мигом разбудило хозяина, который не только провел нас благополучно мимо мурманских подводных камней, но даже очистил нам лавку для ночлега. Поутру меня разбудили страшный крик, топот ногами и хлопанье руками. Боясь, что моей спине, уже порядочно пострадавшей в керисе, угрожает какая-нибудь беда, я торопливо вскочил на ноги и стал в оборонительную позу, но тотчас же убедился в неосновательности моего опасения. Ночной холод, который по термометрическим наблюдениям, произведенным мною посредством моего носа, вероятно, доходил до тридцати градусов, проник, наконец, и сквозь шубы мурманцев, и они за недостатком огня и водки прибегли к этим паллиативным средствам для возбуждения нужной теплоты в телах своих. Когда же в избу, и без того уже переполненную, вторглись и вчера изгнанные постояльцы, началась серьезная борьба из-за места; слабейших, разумеется, вытолкали, и они принуждены были завтракать на чистом воздухе или отправляться в путь, ничего не евши. Тут было уже не до изучения наречий, и мы в то же утро отправились далее в надежде, что на следующей станции не встретим такой сутолоки. Но мы вполне ошиблись. По приезде в Ангесварр (22 версты от Китсы) оказалось, что вся изба набита мурманцами, все они были действующими лицами в драме, которую можно было бы назвать «Спор о котле», потому что все спорили о праве поставить свой котел на огонь. А так как каждый из них имел почти равное на это право, то, разумеется, никто и не уступал, несмотря на все толки, толчки и ругательства. Кажется, что у мурманцев существуют, впрочем, на этот счет следующие постановления: кто не носил дров для разведения огня, тот к огню не допускается; кто варит хлебную похлебку, уступает место тому, кто варит уху; женщина уступает место взрослому мужчине, мальчик — женщине, батрак уступает хозяину и жене его, хозяева и батраки определяют промеж себя очередь, по которой каждый должен ставить котел свой на очаг. Однако ж оставим мурманцев в Ангесварре придумывать хоть временные учреждения для ограждения прав своих и поедем дальше, в Маанселькэ. Маанселькэ — довольно большая деревня, следовательно, спор о котле не мог задерживать здесь мурманцев на такое долгое время, как в Ангесварре, а потому вскоре по нашем выезде из последнего мы начали встречать целые полчища этих странствователей к Ледовитому морю. Они шли толпами в двадцать, тридцать и даже пятьдесят человек мужчин, женщин, стариков, молодых парней и девушек. Большая часть тащила за собой оленьи санки, на которых навалены были шубы, хлебы, якори, котлы и т.п. Встречались и керисы, запряженные собаками, а на иных, кроме прочего снадобья, сидела еще девушка, вероятно, заболевшая от утомительной дороги. Толпы эти шли с песнями и криком. А лица большей части выражали удаль и отвагу. Было много и совершенно разбойничьих физиономий, да и сами толпы по разодранным одеждам, по нечистоте и неопрятности, по проявлявшейся во всем беспечности, по диким крикам и грубым песням сильно смахивали на разбойничьи шайки. Несмотря на это, эта живая, шумная деятельность на пустынных дорогах Лапландии имела свою прелесть.
Мы приехали в Маанселькэ, или Маасесиид. Это название, очевидно, финское так же, как и названия многих других местностей на восточном, западном и южном берегах Белого моря и даже в самой Лапландии. Это подтверждает, по-видимому, предположение Шёгрена, что карелы заселяли некогда весь Кольский округ до самого Северного океана. Шёгрен основывает свое предположение не столько на финских названиях местностей, сколько на очевидном влиянии финского языка на русско-лопарский и на древнем предании о Валите, или В а р е н т е, знаменитом властителе Карелы, или Кексгольма, и даннике Новгорода, завоевавшем Лапландию, или Мурманскую землю, и принудившем лопарей платить дань Новгороду. Какую бы важность ни придавали этому преданию, о котором упоминает русский посол в договоре о границах между Россией и Данией, во всяком случае оно не доказывает еще, чтобы Русская пограничная Лапландия была заселена карелами. Если в этом темном вопросе позволительно высказывать свое мнение, то мое заключается в нижеследующем.
Частью по изустным сказаниям, частью и по письменным памятникам очевидно, что в древние времена финны, и по преимуществу карельского племени, часто делали набеги на Лапландию не для того, чтобы там селиться, а единственно для добычи. Иногда при этом происходили, и довольно значительные, сражения, в которых лопари, разумеется, по их собственным сказаниям, одерживали победу. Один из таковых набегов породил, вероятно, и предание о Варенте. В то же время и предания лопарей и финнов, и свидетельства исторические, и существующие современные отношения дают право полагать, что в смутные времена и неурожайные годы некоторые финские семейства переходили в Лапландию с мирной целью селиться. Попадали они на место, занятие которого лишало лопарей их наследственного права на леса, на рыбные ловли и т.п. Дело решалось обыкновенно небольшой стычкой, отсюда многие местности в Северной Финляндии и называются
Риитасаари (спорный остров),
Тораярви (спорное озеро) и т.д. Там же, где занятие это не касалось интересов коренных жителей, финны водворялись и жили себе преспокойно, хотя лопари и смотрели на это все-таки довольно неприязненно. Увенчивались усилия первых переселенцев успехом, слух об этом приманивал новых, и таким образом, по преданию, образовалось в Лапландии не одно финское поселение. Для примера назову поселения в Энаре, Альтене, Пульмаке, Сеиде и Карасйоки. Конечно, все эти поселения образовались в позднейшие времена, но ведь таким точно образом могли образовываться колонии и во все времена. Немногие из них сохранили свой язык и народность, а в русской части Лапландии ни одна. Это доказывает, что число финских пришельцев было невелико, вовсе не так значительно, как полагает Шёгрен, утверждая, что карелы вытеснили лопарей из всей южной и восточной части Кольского округа, заняли их земли и затем проникли еще далее на север. В таком случае упорный финский народный характер не был бы подавлен лопарями, которые и в умственном отношении стоят гораздо ниже финнов. Точно так же и предположение, что и эти карелы, в свою очередь, были оттеснены к юго-востоку русскими и вследствие этого заселили восточную часть Кеми-Лапландских стран, лишено всякого основания и опровергается малочисленностью русских поселений в пограничной Лапландии. Неоспоримо, однако ж, что народонаселение по рекам Кеми и Торнео состоит из смеси саволаксов, карелов и лопарей. Саволакский элемент преобладает на севере — в Кемитраске, Соданкиле, по Верхнему Торнео и в Муониониске. Эта колонизация объяснется еще отчасти семейными преданиями, по которым племя это переходило сюда в различные времена из различных мест и по различным причинам, большей частью, однако ж, во времена военные и в неурожайные годы. Карельское племя всего сильнее в Рованьеми, Кеми и по Нижнему Торнео. Переселение карелов покрыто мраком. Мне кажется, впрочем, весьма вероятным, что они переходили сюда мало-помалу из нынешнего Кемьского уезда, что заселили прежде всего и гуще Рованьеми и что отсюда уже перебрались в Терволу, в Кеми и к Нижнему Торнео. По этому направлению совершали они всегда свои торговые путешествия, которые были, может быть, только обновленной формой их прежних странствований и переходов внутри Финской области. Замечательно, что близ Рованьеми карельская колонизация как бы обрезывается. В Кемитраске нет и следа какого-нибудь смешения с карелами, между тем как именно эта местность и представляла им самое лучшее убежище, если б они действительно были вытеснены из пограничной Русской Лапландии в Финляндию. Сродство же жителей Кеми, Торнео и Рованьеми с русскими карелами доказывается многим. Поразительны в этом отношении многие особенности языка, между прочими — личные местоимения:
mie, sie, глагольное окончание
oitsen, окончание наречий на
sta (вместо
sti в Торнео) и многие слова, которых в другом месте не услышишь. Старинная народная одежда до того сходна у обоих народов, что несколько лет тому назад и я, и один мой знакомый приняли за русского карела-крестьянина из моей родины — Терволы. Точно так же сходны и многие из хозяйственных принадлежностей, например, сани, лодки, косы, шкапы и т.п.
Как ни сомнительно, по всему вышесказанному, предположение, что Русская пограничная Лапландия была некогда заселена значительно, а южная ее часть даже и исключительно карелами, смешение лопарского и карельского элементов заметно, однако ж, везде, особенно в южной части Кольского уезда. Оно проявляется не в одном языке, но и в телосложении, в чертах лица, в образе жизни, в нравах. Так, например, черты лица у лопарей Маанселькэ правильные, они стройны и рослы и не имеют этого тонкого, пискливого голоса, по которому тотчас можно узнать настоящего лопаря. Живут они частью в курных избах, частью в карельских домах и несколько уже десятилетий не переменяют места, что решительно не в нравах лопарей. Язык их преисполнен карельскими словами и оборотами. Хотя и здесь мы не могли порядочно им заняться, потому что в каждой избе находили большее или меньшее число мурманцев, которые вели какой-то мелочный торг, но все-таки мы слышали лапландские речи, вследствие чего и остались на несколько дней в этой деревне.
Не стану вычислять множества финских речений (финницизмов), записанных мною в Маанселькэ, скажу только мое мнение о свойстве русско-лапландского наречия вообще, за исключием, впрочем, терского, которое совершенно неизвестно. Русско-лапландское не представляет в грамматическом отношении таких существенных отличий от прочих лапландских речей, какие обыкновенно принимаются. Оно частью приближается к горно-лапландскому, частью к энарскому, а во многих местностях занимает середину между обоими. Особенность его заключается в небольших оттенках форм, по преимуществу же — в сокращении окончаний. Гласная буква на конце слов везде уступает место русским
ъ и
ь. Обыкновенное в других наречиях удвоение согласных встречается здесь реже. Нет в нем и такого бесконечного разнообразного видоизменения гласных букв, какое замечается в прочих, особенно в энарском. Богатством форм оно не может сравниться с наречием пограничной Финляндии, еще менее — с шведско-лапландским. Сами русские лопари разделяют свой язык на три главных наречия, из которых одним говорят в селениях Петсинги, Муотка, Патсйоки, Синьель, Нуотозеро, Иокостров, Бабиа; другим — в селениях Семиостров, Левозеро, Воронеск, Кильдин, Маанселькэ; третьим — на Терском полуострове, между Святым Носом и Понойем. Так как я не был во всех этих местах, то и не могу ручаться за правильность этого разделения, замечу только, что наречие лопарей Бабии скорее можно причислить к третьему отделу, более других смешанному с финским языком. Первое из этих главных наречий, по крайней мере в тех местах, где мы его изучали, — среднее между горно-лапландским и энарским; второе отклоняется от них несколько более. Впрочем, все лапландские наречия довольно сходны, если только отделить от них чуждые элементы, которые каждое по-своему заимствованы из других языков. Дело в том, что лопари имели несчастье войти в близкие сношения с другими народами, когда их собственный язык находился еще в младенчестве, вследствие этого он не только что принял бесконечное множество иноземных слов, но даже и в грамматическом отношении сложился во многом по чужим образцам. На этом-то многостороннем чужом влиянии и основывается все различие лапландских наречий. Так, в первом из вышеупомянутых русско-лапландских наречий заметно не только русское и финское, но и норвежское влияние; во втором же — русское и карельское. В некоторых местах проявляется сильнее русский элемент, в других же, особливо в аккальской пограничной Лапландии, — карельский. Для отыскания же первобытного типа лапландского языка необходимо тщательное сравнение каждого из его наречий с прочими, и при всякой разности беспристрастное исследование нельзя ли объяснить ее чужим влиянием — очистительный процесс, не лишний даже и для финского языка.
Боясь вдаться в неуместные подробности, прерываю эти замечания и отправляюсь в Разноволок (Разнъярг), попытаю, не лучше ли пойдет изучение лапландского языка хоть на этой станции. Все напрасно! Именно здесь-то и можно было воскликнуть с Карамзиным:
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Так как все вышеупомянутые полчища мурманцев должны непременно проезжать через Разноволок, и лапландские ямщики из отдаленнейших мест ждут обыкновенно на этой станции рыбаков, отправляющихся далее к западу, то и нетрудно представить себе, как здесь все оживлено в это время. Рассказывают, что несколько лет тому назад на этой станции собралось до 1200 человек. Теперь съезд был, конечно, далеко не так велик, но все-таки слишком достаточен для наполнения двух маленьких комнат. В одной из них два Кольских купца, остановившиеся здесь для продажи хлеба мурманцам, очистили нам уголок, в котором я и просидел с карандашом и бумагой в руках целых двадцать четыре часа. В этом-то именно уголке я было и подвергся участи Орфея: бешеная женщина чуть-чуть не растерзала меня. Теснота ускорила мой отъезд из Разноволока в Риккатайваль (Риксуоло).
Здесь лапландская природа, которая от самой Колы представляла нам мало замечательного, начала снова высказывать свою исполинскую сторону. В Лапландии красота природы (если только эта страна не вовсе лишена ее) состоит и летом, и зимой не в разнообразии и строгости очерков картины, а именно в решительной противоположности этому — в бесконечном однообразии. Мы теперь на озере Имандра, перед нами его бесчисленные заливы, ограничиваемые одним только темно-синим небосклоном, на левой стороне высятся мрачные, туманные очерки исполинской скалы Умитек. Как ни смутна и ни однообразна картина эта, она действует, однако ж, на человеческий дух удивительно сильно. Сколько бы ни философствовал человек, а для него рука Создателя в громадном и исполинском, как бы ни была недостаточна его форма, будет всегда несравненно очевиднее, чем в мелком и при всем совершенстве формы. Природа эта нисколько и не мертва, она оживляется ветром, играющим по далеко расстилающимся заливам, раскатами грома на уходящих в облака вершинах скал. А как хорошо зимней ночью, когда небо сверкает звездами и северным сиянием! Куда ни посмотришь вокруг себя, на каждой малейшей точке неизмеримого снегового моря видишь какое-то особенное движение, легкое дрожание, столь пленительное, что боишься утонуть в созерцании его. Взглянешь на вершины скал — они облиты вспыхивающим светом, и вам кажется, что он, подобно пламени вулкана, выходит из самой скалы. Этот свет разливается и по всему небу, погорит несколько времени и исчезнет, чтобы через несколько минут вспыхнуть снова и снова исчезнуть. Одним словом, как в итальянской природе, так точно и в лапландской вы найдете свои красоты, если только предадитесь созерцанию ее без задних мыслей, без всяких заранее составленных теорий.
В Риккатайвале мы избавились, наконец, от мурманских полчищ. Как ни было приятно отдохнуть после беспрерывной десятидневной сутолоки, все-таки нельзя было и не подосадовать на то, что из-за этих случайных помех мы решительно не достигли главной цели нашего путешествия. Да и пособить этому не было уже никакой возможности, потому что в Риккатайвале и на остальных двух станциях большая часть жителей происходила от финнов, говорила, следовательно, языком испорченным. Сверх того, и начинающаяся порча дорог заставляла нас торопиться. Днем лопари везли уже нас не так охотно, боясь утомить оленей, что иногда и случалось. По этой именно причине, прибывши в Иокостров (Tschuk suolo), мы должны были поздно вечером отправиться еще за 36 верст до Сашейке (Nieshke). Вскоре по выезде с этой станции со мной случилась маленькая неприятность. В мой керис запрягли молодого, плохо объезженного оленя. Между тем как я беззаботно любовался северным сиянием, мой олень начал бросаться из стороны в сторону. Я, разумеется, принялся воздерживать его от таких проказ, но тут, на беду мою, вожжа как-то зацепилась за рог. Это привело его в крайнее отчаяние: он рвался и прыгал изо всей мочи и запутывал вожжу все более. Я вылез из саней с тем, чтобы отпутать ее, но он не понял моего намерения и продолжал рваться еще сильнее, наконец начал действовать даже наступательно, направив на меня острые рога свои. По счастью, бросив вожжу, я успел вовремя схватить их обеими руками и пригнул его голову к земле. Не знаю, чем кончилась бы эта весьма для меня невыгодная борьба, если б мне не удалось, улучив мгновение, вскочить обратно в сани. И это было довольно опасно, потому что править мне было нечем, а по огромному, покрытому твердой корой озеру Имандра, кроме нашей дороги, пролегало еще много других, и мой олень мог завезти меня Бог знает куда. Счастье поблагоприятствовало, однако ж, мне — я скоро нагнал моих товарищей. Отпутав соединенными силами вожжу, мы поехали далее к Сашейке, куда прибыли рано утром без особенных приключений. В тот же день добрались мы и до Кандалака — порядочной русской деревни при Кандалакской губе Белого моря. Молва о наших знаниях принеслась сюда прежде нас. Меня приняли здесь, как великого прорицателя, а Лёнрота, как чудодейственного врача. Старухи приступили ко мне с просьбами, чтобы я рассказал им несколько загадочную будущность их, но нам было не до предсказаний, и мы отправились в путь, побывавши только в гостях у станового пристава, продав ненужные более керисы, шубы и прочие лапландские принадлежности мещанину Пашкову.
От Кандалака до Кеми, ближайшей нашей цели, считают 262 версты. Дорога идет частью вдоль берега, частью в отдалении от него. Сам берег населен русскими, деревни же, находящиеся в нескольких милях от него, — карелами. Последних много, конечно, и в русских деревнях, но эти поселились здесь уже в новейшие времена. Часто встречающиеся здесь финские названия местностей, как и весьма распространенные между народом предания, доказывают, однако ж, что русские деревни, по крайней мере многие из них, были прежде обитаемы карелами. Предание отличает между финнами, которых русские называют обыкновенно шведами, карелов (кареляки, корели) и чудь
[32] (чухну); юго-западный берег Белого моря оно заселяет одними карелами, а южный и западный — чудью, которую соединяет с эстами и ингерманландцами. Не распространяясь об основательности предположения, что финское племя прежде распространялось до берегов Белого моря, остановлюсь только на одном, довольно трудном вопросе: куда же делись эти древние жители берегов? Предположение, что русские оттеснили их сперва в Лапландию, а отсюда в Финляндию, весьма сомнительно. Судя по существующим в некоторых местах преданиям и по малочисленности теперешнего русского населения в северных частях Архангельской губернии, можно положительно сказать, что русские проникли в эти пустынные и бесплодные страны не войной и не большими массами, а отдельными семействами, завлеченными сюда нуждой, надеждой на легчайший способ прокормления, духом предприимчивого бродяжничества и другими случайными причинами. Поэтому право сильнейшего и не могло проявиться тут так сильно, по крайней мере в те времена, когда одна и та же вера, одно и то же правление содействовали соединению древнейших обитателей с новыми поселенцами. Это столкновение двух различных по языку, обычаям и понятиям народов необходимо должно было кончиться уничтожением финской национальности на берегах Белого моря, потому что эти берега (как я и докажу это ниже) представляли такие способы пропитания, которые могли привлекать по преимуществу русских, а не финнов. Что русское население водворилось здесь мирно и не вытеснило, а приняло в себя финское племя, доказывается далее пренаполнением русского языка в Архангельской губернии финницизмами и беспрестанными встречами под русскими шапками несомненно финских физиономий.
Примем ли это или Шёгреново объяснение исчезновения финнов на берегах Белого моря — в обоих случаях придем к одному выводу, что древнее население финнов было здесь малочисленно и слабо, потому что как поглощение, так и вытеснение их русскими (и в настоящее время весьма малочисленными на северном прибережье) возможно только в таком случае. Это явствует и из других отношений. Если я только не составил себе совершенно ложного понятия о характере и наклонностях финского народа, то берега Белого моря не представляли ничего для его врожденной деятельности. Финны расположены по преимуществу к земледелию и скотоводству; кажется, Провидение для того и призвало их на север, чтобы они своей неутомимостью, терпением, спокойным и никогда не унывающим духом обработали пустыни Финляндии, Северной России и Скандинавии. Финн любит эти занятия, и свой маленький мирок, в котором он мог бы действовать свободно и независимо, — непременное условие его благоденствия. Поэтому он часто променивает вполне обеспеченную жизнь под управлением другого человека на трудную и убогую в пустыне, по его понятиям — «у себя и воду пить из решета лучше, чем пиво из серебряной кружки в чужом доме». Вследствие этого расположения к тихому, мирному и независимому кругу действий и не могло быть многочисленного переселения их на берега Белого моря. Бесплодная, не способная к обрабатыванию почва их и постоянные холодные ветры делают земледелие почти совершенно невозможным. Здесь можно кормиться только морем — промыслом, от которого жизнь становится подвижной, бродячей, беспокойной, полной планов и спекуляций; коротко — вполне соответствующей русскому характеру. В Кольском уезде 26 русских деревень, а земледелием занимаются только три семьи. Даже и скотоводство весьма у них незначительно. Несмотря на то, русские пользуются благосостоянием, тогда как финн является здесь обыкновенно в плачевном виде нищего или батрака. Те же средства добывать, те же промыслы открыты, однако ж, и финнам, но они противны их нравам. Вся сила русского заключается в его неистощимой оборотливости, расчетливости и готовности на предприятия всякого рода. Русский ненавидит этот однообразный покой, который составляет высшее блаженство финна. Русский не может оставаться всегда под своей кровлей, какая-нибудь небольшая пашня не может сделаться для него целым миром. Он любит странствовать, добывать в странах дальних. Вы увидите его летом и в архангельской гавани, и близ берегов Норвегии; зимой — на дорогах в Москву или в Нижний. Даже и не имеющие средств на большие предприятия не остаются дома. Руководствуясь несомненным правилом: хочешь есть хлеб и зимой, не сиди летом дома, — они разъезжаются на маленьких лодках по Белому морю и ловят семгу, сельдей, тюленей и белугу. Добыли несколько копеек свыше нужного для прокормления семьи — и они предпринимают зимой более или менее далекие торговые поездки. Таков в нескольких чертах образ жизни на берегах Белого моря, и если и не вполне, то более всякого другого соответствующий природе их. По беспокойному духу, подвижности, в особенности же по сметливому и страшно расчетливому уму, русский как бы создан для обитания в этих странах. Судя по русским жителям Архангельской губернии, в целом мире нет народа, который умел бы пользоваться так, как русский, всеми возможными обстоятельствами и даже случайностями, обращая каждую безделицу в свою пользу.
На станциях между Кеми и Кандалака испытали и мы несколько обращиков этой практичности русских. В Коле мы не позаботились взять так называемую подорожную, дающую право брать почтовых лошадей, и потому должны были нанимать их. При этом мужики сталпливались всякий раз вокруг нас и начинали уверять, что все лошади в лесу, что они только что воротились и не успели отдохнуть, одним словом, употребляли все, чтобы задержать нас и через то самое взять с нас как можно дороже. В последней перед Кемью деревне они прижали нас так, что я пешком пошел за лошадьми в город, и только это, по опасению могущих выйти отсюда неприятных для них последствий, заставило их дать пару жалких кляч тотчас по моем уходе.
Кемь — небольшой городок при устье реки Кеми. В нем нет ни архиерея, ни губернатора, никаких высших сановников, ни больших домов, ни особенных памятников. Он замечателен только сильно распространившейся религиозной сектой, последователи которой называют себя староверами (другие называют их раскольниками).
Испортившаяся дорога заставила нас прожить в этом раскольничьем городе против воли почти целый месяц. Наконец 19 мая настала возможность продолжать путь. По неимению летней сухопутной дороги из Кеми в Онегу нам приходилось вверить себя бурным волнам Белого моря. Сначала мы предполагали ехать прямо в Архангельск, но водяное сообщение между им и Кемью было еще закрыто, а потому по совету жителей города мы и решились ехать в Соловецкий монастырь, находящийся верстах в шестидесяти от Кеми, на одном из островов Белого моря, в полной уверенности, что оттуда скорее переберемся в Архангельск.
Отыскав место в небольшой ладье, везшей в этот монастырь несколько богомольцев, мы отплыли туда ночью. Непреодолимый сон помешал нам обратить внимание на множество островов и скал, которые, как нам после рассказывали, встречались сначала ежеминутно. Верстах в тридцати от Кеми мы вышли в открытое море, вскоре были, однако ж, остановлены покрытыми льдом бухтами. Это заставило нас высадиться в пятнадцати верстах от монастыря, в который приехали на присланных из него лошадях и повозках по весьма тонкому уже льду.
Здесь, к крайнему прискорбию, узнали мы, что и отсюда плавание к Архангельску не началось еще по множеству носившихся по морю огромных льдов. Вследствие этого мы с благодарностью приняли предложение архимандрита пожить в монастыре до первой возможности продолжать наше путешествие. Радушные отшельники делали все, чтоб занять нас: приглашали к богослужению, показывали сокровища, возили в два других близлежащих монастыря; всего же более интересовали нас рассказы о судьбах самой Соловецкой обители со времени ее основания в 1429 году
[33]. Вскоре истощился, однако ж, и этот интерес, и наше нетерпение возросло наконец до такой степени, что мы решились пуститься в Архангельск в небольшой лодке, несмотря на все льды. Мы отправились 26 мая и добрались до него через четыре дня довольно счастливо.
По приезде в этот город мы тотчас же посетили архимандрита Вениамина, у которого, по рекомендации Шёгрена, я располагал учиться самоедскому языку все это лето. Не знаю почему, но только Вениамин не согласился быть нашим учителем. Вследствие этого план нашего путешествия изменился значительно. Лёнрот решил ехать в Олонецкую губернию для изучения вместо самоедов живущей там чуди, а я — употребить это лето на поездку к терским лопарям, которых не удалось посетить прошлой зимой, не оставляя, впрочем, и первого предположения отправиться к самоедам, как только установится зимний путь.
IV
27 июня сел я на большую ладью из Архангельска с грузом муки к Мурманскому берегу. На пути она должна была завернуть и к западному берегу Белого моря близ Трех Островов; тут я располагал выйти на берег и продолжать мое путешествие к живущим здесь терским лопарям сухим уже путем. Постоянное нездоровье — следствие моих разъездов прошлой зимой по Лапландии — не могло благоприятствовать путешествию по стране дикой и пустынной. В самую минуту отъезда я почувствовал такую слабость, что с трудом дотащился до ладьи. Нисколько не считая болезнь мою опасной, Лёнрот советовал мне, однако ж, если к следующему дню мне не будет лучше, никак не продолжать путешествие, а выйти на берег еще в Двине. Но я не мог исполнить этого совета, потому что, когда на другое утро проснулся, мы были уже в Белом море. О возвращении, разумеется, нечего было и думать, и я по воле покорился судьбе, как ни было плачевно мое положение.
Переезд от устья Двины до Трех Островов совершается при попутном ветре в 24 часа, но ветер не благоприятствовал нам. Вскоре по выезде в открытое море наступила совершеннейшая тишь, принудившая нас бросить якорь близ маленького островка. Здесь мы стояли несколько дней, постоянно жарясь на жгучем солнце. От этого здоровье мое расстраивалось все более, а силы до того истощились, что их едва доставало и на то, чтоб выбраться из тесной и душной каюты на палубу. Палуба не представляла ничего привлекательного, потому что от сильных жаров находившиеся на ней съестные припасы начали портиться и распространяли страшную вонь, которая в каюте была по крайней мере не так ощутительна. Несмотря на это, я оставлял каюту аккуратно два раза в день, потому что корабельщик и его товарищи — все строгие раскольники — совершали в ней каждое утро и каждый вечер свое длинное моление, при котором как еретик, по сделанному нами наперед условию, я не мог присутствовать. А впрочем, мне не запрещали высказывать прямо мои протестантские верования и защищать их от беспрестанных нападений корабельщика. Ему, очевидно, хотелось обратить меня в свою веру. Увидав, наконец, тщету всех усилий своих, он привел ко мне с другой ладьи, стоявшей невдалеке также на якоре, настоящего раскольничьего попа, который тотчас же подверг меня длинному допросу о моей вере. Поп этот остался, по-видимому, не совсем недовольным мною, потому что по окончании исповеди пил чай из моего стакана и повторял несколько раз, что мое еретическое вероисповедание не совсем еще дурно. Прощаясь со мной, он обещал навещать меня и употребить все, чтоб указать мне настоящий путь ко спасению.
Это, однако ж, не удалось ему, потому что на другой день (4 июля) повеял благоприятный ветер, а ловля осетров в Мурманском море как для корабельщика, так и для попа была, разумеется, несравненно интереснее всяких стараний завлечь меня в свои сети. Даже о спасении собственной души — об обычной утренней молитве — корабельщик вспомнил только после того, как поднял паруса и тяжелая ладья поплыла после недельного стояния. Сначала мы шли вдоль восточного берега Белого моря, или так называемой Двинской губы. Ветер был попутный, деревня за деревней являлись и исчезали. У Зимнегорского мыса простились мы с архангельским берегом и повернули в открытое море. К полудню восточный берег исчез, мы шли несколько часов, не видя ничего, кроме пустынного моря и мрачного неба. Вскоре показались, однако ж, белые, покрытые льдом западные, или Терские, берега; я был уверен, что в тот же день мы пристанем к
Трем Островам. Но вдруг ветер потянул на северо-восток, и я, к немалому прискорбию, заметил, что судно наше все более и более уклоняется от настоящего пути. С закатом солнца подошли мы, однако ж, к Терскому берегу, но от этого было не легче, потому что, по словам корабельщика, мы находились около полутораста верст к югу от Трех Островов. Тут мы опять стояли весь следующий день на якоре и с нетерпением ждали перемены. Я между тем расспрашивал подробно об этой местности, и когда узнал, что верстах в двадцати к северу есть русская деревня, то начал требовать, чтоб меня непременно высадили на берег, в полной уверенности, что я один отыщу эту деревню, близ которой надеялся найти и терских лопарей. Доводы корабельщика убедили меня, однако ж, подождать до следующего дня. Следующий же день (6 июля) был для раскольников великим праздником, а потому корабельщик надеялся, что усиленные молитвы их вызовут благоприятный ветер. «Увидишь, что Бог милостив и пошлет нам завтра попутный ветер», — говорил он мне после вечерней молитвы и затем, улегшись спать, рассказал еще несколько повестей о моряках, которые продолжительным постом и молитвами добывали попутный ветер.
Его уверенность оживила и меня отрадной надеждой на следующий день. С рассветом корабельщик созвал весь экипаж свой в каюту, зажег перед всеми находившимися в ней образами восковые свечи, накурил ладаном и начал читать длинные молитвы, сопровождая их частыми коленопреклонениями и земными поклонами. Как еретик я отправился, по обыкновению, на палубу. Я не спускал глаз с моря и его обширных заливов, никогда не было оно так спокойно и светло, как в это утро. Вскоре показались, однако ж, на северной части небосклона густые облака — предвестники бурного дня. Через несколько минут затем заметил я в некотором отдалении кружащийся водоворот, быстро приближавшийся к нашему судну вместе с несшимся за ним густым туманом. Такое необыкновенное явление поразило меня, и я поспешил прервать богослужение громким зовом на палубу. Все молившиеся бросились тотчас же наверх, но прежде, чем они выбежали, буря бушевала уже, и непроницаемый туман покрывал уже все. «Поднимай якорь!» — закричал корабельщик, но вместе с этим криком раздался треск, и судно наше помчалось ветром. Якорь наш, единственный наш якорь, погиб. «Что теперь с нами будет?» — спросил я корабельщика, надеясь услышать утешительное слово, но он разразился ужасными проклятиями, которые заключил желанием, чтобы черт взял и его, и меня, и судно, потому что он лишился славного якоря, за который заплатил не меньше ста рублей. Несмотря на это дикое отчаяние, он созвал, однако ж, весь экипаж на совет, на котором решили держаться как можно ближе к берегу и стараться войти в ближайшую реку. Решение это было вполне благоразумно, но невыполнимо; несмотря на все усилия вооруженного длинными шестами экипажа вести судно, на котором оставили только половину паруса, в устье реки, буря все-таки умчала его в несколько мгновений в открытое море. Тут еще сильнее почувствовали мы жестокость ее. Снасти скрипели, мачты гнулись, внутри самого судна раздавался часто треск, всякий раз наводивший на мысль, что оно разбилось. Валы поднимались, как башни, и один за другим перелетали через палубу. Все подвижное на ней необходимо было привязать или отнести вниз, иначе оно сделалось бы добычей волн. Даже матросы держались за канаты и подвергались величайшей опасности, когда приводилось переходить с одного конца судна на другой. Мне указали место в крепко привязанном на палубе баркасе, и я сидел в нем, держась руками за борта, потому что без того волны, беспрестанно хлеставшие через судно, непременно снесли бы меня в море.
После неудачной попытки ввести судно в устье реки решили править к противоположному берегу Белого моря в надежде хоть там найти спасительную пристань. Сначала ветер не благоприятствовал и этому намерению, грозил прибить нас к Соловецким островам и сокрушить судно у берегов их. Корабельщик и весь экипаж начали серьезно отчаиваться в спасении и напились с горя допьяна. От этого дело пошло, разумеется, еще хуже; слышались только брань и проклятия. Корабельщик беспрестанно жаловался мне, что водка совсем не действует на него, и не давал мне покоя, пока не выканючил у меня бутылку рома. Опорожнив ее,
он пришел в такое состояние, что не мог уже взойти на палубу и лежал недвижим в каюте. Глядя на него, и все люди один за другим разошлись по койкам, предоставив судно произволу волн моря. Один-одинехонек сидел я на палубе в моем баркасе и ждал решительной минуты. К вечеру заметил я, однако ж, что ветер начинает потягивать к востоку; сделав это счастливое открытие, я сошел в каюту, разбудил храпевшего корабельщика, послал его на палубу, а сам улегся на его место. Утомленный страшными тревогами дня, я заснул тотчас же и проспал всю ночь. Моряки говорили мне после, что этой ночи они не забудут во всю жизнь свою. Проснувшись поутру, я узнал, что мы находимся в безопасности близ восточного берега Белого моря у вышеупомянутого Зимнегорского мыса. Кроме нас, еще 30 судов, пригнанных бурей, нашли здесь убежище. Корабельщик наш добыл с одного из этих судов новый якорь и стал на нем у подошвы высокого берега.
За сим буря бушевала еще несколько дней то с меньшей, то с большей силой. Между тем и без того постоянно плохое здоровье мое расстроилось так, что корабельщик серьезно начал убеждать меня выйти на берег и воротиться в Архангельск. Но мне никак не хотелось отказаться от моего плана, к тому же я полагал, что странствование по терской Лапландии непременно укрепит меня. Вследствие этого я остался на корабле, пил чай, вел богословские прения с корабельщиком, беседовал с моряками других судов, одним словом, всячески старался сделать мое пребывание на море сколько можно сносным. Между прочим, желая узнать что-нибудь обстоятельное о надписях, которые, как слышал, встречаются на скалах Мурманского берега, я пригласил к себе в один из этих дней старого моряка, слывшего весьма сведущим в этом деле. Старик рассказал мне, что видел сам одну надпись на скале Аникеева острова, но не мог разобрать ее, потому что буквы были нерусские. Полагал, однако ж, что она сделана русскими, и вот по какому поводу: давно, в древние времена, один английский викинг повадился приходить каждое лето с кораблем своим к Мурманскому берегу и собирать с тамошних рыбаков дань рыбой, ворванью, мукой, крупой и т.п. Отказывались рыбаки платить ее — викинг вызывал лучшего из бойцов на единоборство. А так как морской этот разбойник был очень храбр и силен, то никто и не принимал его вызова, соглашаясь лучше платить требуемую им дань. В одно лето случился, однако ж, между рыбаками человек, который по неважности и невидности своей исправлял у них должность стряпухи. Несмотря на то, человек этот был одарен необычайной силой, он принял вызов викинга и избавил, наконец, рыбаков от разорительного гостя. Затем он же и увековечил победу свою надписью на скале.
Я располагал рассмотреть как эту надпись, так и все, какие встретятся на Мурманском берегу, но непредвиденные обстоятельства покончили вскоре и весь план моего путешествия. Пять дней и пять ночей простояли мы у Зимних гор (от 7 до 11 июля) в совершенной безопасности, но 11 июля ветер усилился снова, а затем разыгралась такая буря, что и в этой пристани не было уже нам защиты, и мы опять подвергались опасности потерять якорь. Она бушевала всю ночь, и весь экипаж ни на минуту не сходил с палубы. Когда я проснулся поутру, в каюте горели свечи перед образами, и корабельщик стоял перед ними на коленях. Кончив моленье, он сообщил мне, как дурно наше положение. Ночью буря усилилась значительно и начала срывать судно с якоря; утомленные ночной работой матросы перепились, и теперь все, за исключением одного, ни к чему не способны. При таких обстоятельствах, по его мнению, не было другого выхода, как сняться с якоря и пуститься на произвол ветра, а потому он и советовал мне сойти на берег и не подвергаться новым опасностям. Опасность в самом деле была немалая, к тому же, купавшись накануне, я простудился, и у меня начиналась лихорадка. Несмотря на это, я все еще не соглашался, когда же и сам корабельщик угостил себя бутылкой водки и двумя большими стаканами рома, делать было уже нечего: я решился перебраться на берег с тем, чтобы потом, смотря по обстоятельствам, возвратиться или на судно, или в Архангельск.
Единственный трезвый матрос перевез меня через пенившийся прибой на берег; оставив тут мои немногие пожитки, я отправился тотчас же отыскивать рыбачий притон, находившийся, как мне сказали, верстах в восьми от этого места. Больной, утомленный, я употребил на этот переход более половины дня и наконец добрался до двух жалких лачуг. Здесь, сколько я ни упрашивал рыбаков сходить за оставленными на берегу вещами, обещая им за это приличное вознаграждение, они ни за что не хотели оказать мне эту маловажную услугу. Возмущенный таким бесчеловечием, я отправился за ними сам и уже ночью возвратился в одну из лачуг, в которой мне отвели какой-то скверный чулан. От чрезмерного напряжения лихорадка усилилась, и я пролежал целых трое суток почти в совершенном беспамятстве; когда же пришел в себя, то узнал, что все суда ушли уже в море. Рыбаки собирались также оставить это место, а потому я и стал просить их не покидать меня одного, больного и беспомощного, на пустынном берегу, а отвезти в деревню Куя, находившуюся в 22 верстах. Казалось, что просьбы мои тронули их, но когда зашла речь о вознаграждении, то они решительно объявили, что не могут взять менее ста рублей ассигнациями, потому что теперь самое благоприятное время для рыбной ловли. Это требование превышало мои средства, и мне поневоле приходилось оставаться и ждать, что пошлет судьба моя.
Возмутительное бесчеловечие рыбаков и беспомощность моего положения не могли не иметь весьма вредного влияния на болезнь мою. Я снова впал в бредовое состояние, мне все казалось, будто я окружен разбойниками, и часто бросался из угла в угол, стараясь спрятаться от их преследования. Наконец и темный чулан мой показался мне небезопасным, и я ушел в лес. Узкая тропинка привела меня к ручейку, осененному зелеными березами и цветущим боярышником. Красота этого места пробудила во мне сознание, я лег на траву и слушал пение птиц, вдыхал в себя запах цветов. Сначала голова моя была так тяжела, что кружилась сильно при каждой попытке приподнять ее, но затем мне становилось все легче и легче. Удивленный таким внезапным поправлением, я напал было на страшную мысль, что сошел с ума; вскоре заметил, однако ж, что лихорадочный жар продолжается еще. Он и некоторые другие припадки привели меня, наконец, к заключению, что болезнь моя — чисто катаральная лихорадка. Открытие это успокоило меня вполне, и я решил тотчас же возвратиться в рыбачью хижину и приняться за лечение потогонным питьем. Подходя к ней, увидел я у входа двух солдат, пристально глядевших на меня. Я спросил, куда они идут; они ответили грубо, что куйский таможенный начальник прислал их сюда пересмотреть мои пожитки. Я согласился на осмотр без всякого сопротивления, дал даже им на водку. Мне хотелось уговорить их отвезти меня в Кую, зная, впрочем, что корыстолюбивые рыбаки, если только догадаются, употребят все, чтобы помешать этому, потому что через то лишились бы наперед рассчитанной прибыли. И в самом деле, они бродили около меня, подобно жадным волкам, и навострили уши, стараясь подслушать мой разговор с солдатами. Сначала солдаты смотрели на меня очень недоверчиво, но мой паспорт убедил их, наконец, что я русский подданный и чиновник, едущий по делам службы. Это открытие и то, что я чиновник, да еще не меньший их собственного начальника, порешили все — они взяли меня в свою лодку и привезли в Кую за весьма умеренную плату. Прибыв сюда, они отвели меня прямо к таможенному чиновнику и отрапортовали, что у меня не нашлось не только контрабанды, но и никаких других вещей, кроме нескольких книг. За сим я передал чиновнику мое положение и все, что вытерпел. Мой рассказ и продолжавшаяся еще лихорадка подействовали на него так, что он принял во мне искреннее участие: сам отыскал мне покойное помещение, позаботился и о надлежащем уходе. По счастью, у него были еще потогонные и другие простые лекарственные средства, употребление которых вскоре избавило меня от лихорадки, оставалась только страшная слабость. Когда же через несколько дней я оправился так, что можно было уже думать об объезде, в довершение своего доброго дела таможенный чиновник снарядил шлюпку и отправил меня в Архангельск в сопровождении четырех солдат. Тем и кончилось, без всякой пользы для науки, мое жалкое путешествие в терскую Лапландию.
И в Архангельске положение мое было весьма незавидное. И для жизни в городе, и для поездок в окрестности, которые хотелось бы исследовать в антикварном отношении, у меня было слишком мало денег. Казна моя состояла всего-навсего из 15 рублей серебром, а с такой суммой не много сделаешь для науки. Между тем нашлось в Архангельске несколько самоедов, которые были еще беднее меня и почитали себя чрезвычайно счастливыми, когда я приходил в их лачуги и угощал рюмкой водки. Один из них так увлекся моей щедростью, что добровольно признал себя моим слугой и обещал следовать за мной на край света. Я ограничился возведением его в звание моего учителя самоедского языка и отправился вместе с ним за 17 верст от Архангельска в деревню Уйма. Тут я провел весь остаток лета, что чрезвычайно было полезно как для моего здоровья, так и для изучения самоедского языка. Вскоре и казна моя поправилась значительно: финский Сенат назначил 1000 рублей серебром вспоможения для моего путешествия. С получением этих денег я возвратился в Архангельск, где и продолжал учиться самоедскому языку всю осень.
V
В конце ноября я в третий раз выехал из Архангельска с твердым намерением не возвращаться уже в этот город, чем бы ни кончилось предпринимаемое мною путешествие к самоедским тундрам. Архангельские друзья мои описывали тундры самыми мрачными красками и всячески старались отговорить меня от путешествия, соединенного, по их мнению, с трудностями и неприятностями, которых никак не вынесет мое слабое здоровье. Отчасти и я разделял их опасения, но кто же не доходил в увлечении юношеским энтузиазмом до готовности жертвовать идее даже и самой жизнью? Надежда обогатить науку каким-либо открытием воодушевила меня решимостью, которой, по крайней мере тогда, ничто не могло поколебать. К тому ж на этот раз многое ручалось за лучший исход предпринимаемого мною путешествия: в продолжение моего пребывания в Уйме и в Архангельске здоровье мое значительно поправилось, кошелек мой пришел в несравненно лучшее состояние и, сверх всего этого, у меня были еще открытое предписание и отличные рекомендательные письма от министра внутренних дел и от членов Св. Синода. Обеспеченный, таким образом, во всех отношениях, я пустился в путь с самыми светлыми надеждами.
Дорога шла через Холмогоры — знаменитую древнюю крепость биармийцев, теперь же незначительный уездный городок в семидесяти верстах от Архангельска. Прошедшим летом я охотно начал бы раскапывания на том месте, где, по всем предположениям, находился храм Юмалы и древнее биармийское кладбище, но тогда у меня не было на это средств; теперь же земля была скована морозом и так занесена снегом, что даже и мысль об этом не могла прийти в голову. Несмотря на то, я прожил в Холмогорах несколько дней и собрал множество преданий
[34] об исчезнувших биармийцах, о их городе и храме, о их сокровищах и славе. Отсюда я поехал в Пинегу — другой, еще меньший уездный городок, находящийся в 132 верстах от Холмогор. В Пинеге я пробыл также несколько дней, здесь заинтересовали меня старый Чудской городок и жена городничего Софья Кирилловна Громова. Неблагоприятное время года помешало мне заняться подробным исследованием первого, но зато дало возможность коротко познакомиться с последней. Она пользовалась любовью и уважением всего округа, ее называли матерью, потому что, имея шестерых благовоспитанных детей, она была ею и для чужих, нуждавшихся в материнском попечении. Кроме того, она помогала больным советом и лекарствами, которые приготовляла сама из дикорастущих трав. Всего же более прославляли ее хозяйственные знания, которыми, как рассказывали, она усилила благосостояние не только в Пинеге, но и в округе. Ей приписывали разведение во многих местах плодовитых деревьев и картофеля, и даже значительное улучшение скотоводства. Все это побудило меня искать ее знакомства, и я нашел в ней умную, энергичную женщину и прекрасную хозяйку. Только что я приехал в Пинегу и объявил о себе в полиции, что путешествую с ученой целью, почтенная эта женщина тотчас же принялась хлопотать совершенно без моего ведома о вызове ко мне отовсюду людей сведущих. Но большую часть, и притом важнейших, сведений о крае я заимствовал все-таки от нее; она знала и рассказала мне много преданий о древней чуди, и замечательно, что она сама собою дошла также до заключения, что эта чудь была финского происхождения. Стараясь всеми возможными средствами способствовать моим ученым исследованиям, супруга городничего не забывала в то же время и о моих житейских потребностях. Я должен был ежедневно обедать у нее; подметив мой вкус, она снабдила меня затем на дорогу множеством любимых мною снедей. Покойный отец этой редкой женщины, доктор богословия и философии Эрик Ленквист, был пастором в Оривези, тут во время последней войны она отдала свое сердце одному из русских офицеров и много странствовала с ним по свету, покуда судьба не поселила их в бедной Пинеге.
Не без сожаления расстался я с почтенной моей соотечественницей и продолжал путешествие к Мезени, до которой зимой считается от Пинеги 143 версты, а от Архангельска — 345. Кола на западном берегу Белого моря, а Мезень на восточном — крайние города света и последние точки просвещения. До Мезени живут русские христиане, за нею начинается самоедское народонаселение, большей частью языческое. Уже в Мезени встречал я на улицах закутанных в большие тяжелые шубы самоедов, нанимал несколько в учителя и переводчики, но они неохотно принимали мои предложения и исполняли свою обязанность так плохо, что я вскоре отпустил всех и отправился за сорок верст в Сомжу — деревню, которая в это время должна была быть настоящим местопребыванием самоедов. Но и здесь те же неудачи, потому что на все население нашла страсть к пьянству. Я выбрал трезвейшего из всех, но и он оказался решительным пьянюшкой; попробовал взять самоедку — и она не выдержала дня, нанял затем нищего, лишенного средств напиваться, — он был так ленив, что ни на один вопрос не мог отвечать путно. Видя невозможность отыскать этим путем хоть несколько сносного переводчика или учителя, я прибег наконец к министерским бумагам. Вызвав из кабака всех бывших там самоедов, я объяснил им содержание моих бумаг и на основании их потребовал, чтоб мне представили в учителя и переводчики человека трезвого и порядочного. Самоеды вообще послушны и трусливы, они тотчас же приступили к совещанию. Выбор их пал на только что прибывшего от Канинского Носа самоеда, по общему мнению, умнейшего и трезвейшего на всей Канинской тундре. Его привели ко мне, сначала он и в самом деле казался весьма порядочным, но через несколько часов мои расспросы наскучили ему, и он прикинулся больным: упал наземь, стонал и охал, и ползал у моих ног, умоляя о помиловании, до тех пор, пока, выведенный из терпения, я не вытолкал его за дверь. Вскоре затем я увидел его близ кабака лежащим на снегу в бесчувственно пьяном состоянии.
Он лежал здесь не один — все снежное поле вокруг Бахусова храма было усеяно павшими героями и героинями. Все они лежали ничью, полузанесенные снегом. Здесь царствовала тишина могильная, тогда как в кабаке раздавались неистовые крики, но отнюдь не брани и не драки, напротив, все находившиеся там были в самом веселом и дружелюбном расположении. По временам из кабака выходили полупьяные мужчины с кофейником в руках, бродили, боясь пролить драгоценный напиток, с величайшей осторожностью по снегу и внимательно осматривали каждого из павших товарищей, очевидно, отыскивая мать, жену, невесту или кого-нибудь из дорогих сердцу. Отыскав желанную особу, они ставили кофейник на снег, повертывали лежавшего навзничь, всовывали рыльце кофейника в рот своего любимца и выливали упоительную влагу в его горло. Затем они снова обращали его лицом вниз и тщательно укрывали сие последнее, чтобы обезопасить его от мороза.
Не имея возможности порядочно продолжать даже в Сомже мои филологические занятия, от нечего делать я часто любовался этими нежными сценами, повторявшимися ежедневно. Большую, однако ж, часть времени я проводил в шатрообразном шалаше, или чуме, нищих самоедов, находившемся невдалеке от деревни, чум этот был моим ученым кабинетом. Крики детей, лай собак и вой ветра не могли, конечно, способствовать основательному изучению языка, но как новичок я находил здесь все-таки много поучительного. Под конец со мной случилось происшествие, которое, может быть, отбило бы охоту к прогулкам в этот чум, если б их не прекратили другие обстоятельства. Раз, сидя в нем вечером, я заучивал некоторые самоедские изречения, вдруг, только что я произнес к немалому удовольствию самоедов довольно чисто «тансер нумгана» (у Бога непогода), и в самом деле поднялась жестокая буря. Чум затрещал, снег посыпал в скважины и в дымовое отверстие, ночник погас, и самоеды попрятались под свои меха. У меня не было меха, и мне не оставалось ничего другого, как выползти из чума и отправиться домой в деревню. Расстояние было невелико, но от непогоды страшно затруднительно. Каждый, кто и не испытал непогоды на самоедских тундрах, знает, что в бурю и метель трудно и дышать, и глядеть, и твердо стоять на ногах. Я часто должен был останавливаться, чтоб, повернувшись спиной к ветру, перевести дыхание, протереть слепившиеся от снега глаза, отдохнуть от чрезмерных усилий. От этого и от беспрестанных перемен ветра я скоро потерял дорогу. Борьба с ветром и снегом и тщетные попытки открыть огонек моего жилища напомнили мне стихотворение Карамзина, недавно мною прочтенное, где описывается колдун, пляшущий в метель. Мне казалось, что я нахожусь уже во власти злых духов, и представление это усилилось еще более, когда я услышал внятно и подле меня громкий храп. Я, однако, не испугался, но решился исследовать причину этого явления. Это был самоед, остановившийся в тундре, чтоб дать вздохнуть оленям. «Куда?» — спросил я его. «В кабак», — отвечал мне твердый голос. Объяснив самоеду, что я путешествующий чиновник, я вступил с ним в разговор и, между прочим, спросил, сколько запряжено у него оленей. Спрашивая это, я желал учтивым образом сказать самоеду: ты едешь один на стольких оленях, что мог бы и меня подвезти до деревни. Но подозрительный самоед иначе растолковал себе мой вопрос: он заключил, что я имею намерение завладеть его оленями. Он бросился к моим ногам и жалобно стал умолять меня о пощаде. Я, со своей стороны, обещал ему не только не трогать его оленей, но угостить даже водкой, если он свезет меня в деревню, и он с радостью согласился на мое предложение. Возвратясь на свою квартиру, узнал я, что архангельский гражданский губернатор приехал в Мезень и прислал нарочного в Сомжу за самоедским тадибеем, или колдуном, чтоб посмотреть его штуки. Это побудило меня отправиться в Мезень, ибо я был уверен, что меня пригласят на представление. Так и случилось, но оно ограничилось тем, что по приказанию губернатора, к немалому удовольствию ребятишек, на торговой площади был поставлен чум колоссальных размеров, в котором тадибей начал предсказывать судьбу его превосходительства, страшно стуча на своем барабане. Я тотчас заметил, что он хитрит, желая этим повыгоднее и поскорее отделаться. Когда же, оставшись с ним наедине, я сказал ему, что недоволен его гаданием, он просил моего покровительства перед губернатором и обещал мне за то показать свое искусство вполне на Канинской тундре в его собственном чуме. Уговорившись съехаться там чрез несколько дней, мы занялись оба приготовлениями к отъезду из Мезени.
Прежде, нежели расстанусь с этим городом, определю, однако ж, мимоходом границы страны, в которую отправляюсь. Она ограничивается с севера Ледовитым морем, с запада — Уралом, с востока — Белым морем, а с юга — лесами, распростертыми до 66 или 67 северной широты. Это огромное пространство, составляющее так называемую Мезенскую тундру, делится рекой Печорой на две половины. Восточную, наибольшую, половину ее, находящуюся между Уралом и Печорой, русские называют Большеземельской тундрой, или Большой землей, а самоеды — Аарка-я, что то же значит; западную же, простирающуюся от Печоры до Белого моря и не имеющую у русских особенного имени, самоеды называют Ньюде-я (Малая земля). Эта, в свою очередь, делится также на две половины — на Канинскую и Тиманскую, или Тиунскую, тундру. По официальным указаниям две последние тундры отделяются одна от другой рекой Пиошей, а по самоедским — рекой Снопой; обе эти реки впадают в Чесскую губу. К западу от одной из этих рек простирается Канинская тундра, в которую включается и Канинский Нос; к востоку же, до Печоры — Тиманская тундра. У самоедов Канинская тундра называется Салье, это значит мыс, и относится, собственно, к Канинскому Носу. Тиманскую тундру самоеды называют Юде-я — Средней землей, т.е. землей, лежащей между Канинской и Большеземельской тундрами
[35].
Чтоб не забегать вперед, я ограничусь покуда этими краткими топографическими замечаниями, впоследствии я пополню их подробнейшими описаниями местностей, которые привлекут мое внимание.
VI
19 декабря 1842 года перед домом мезенского городничего стояла кибитка, запряженная двумя лошадьми. Ямщик выносил из дому маленькие ящики, сумки, пачки, обшитые клеенкой, и два полицейских служителя укладывали все это в кибитку. Между тем на улице собралась толпа зрителей: мужчин и женщин, молодых и старых. Несмотря на сильный мороз, они простояли около двух часов подле кибитки из того, чтоб только посмотреть, как будет усаживаться проезжающий. Многие заглядывали в низенькие окна дома, желая узнать, скоро ли кончится обед, замедлявший отъезд. Наконец предмет ожидания явился взорам любопытных. Между тем как отъезжающий осматривал свои вещи и приказывал переместить некоторые, вокруг него делали разные замечания о нем и о его путешествии. «Так молод и должен ехать в Сибирь!» — сказала с сожалением пожилая женщина. «И говорят, проживет там много-много лет», — прибавил сосед ее. «Возвратится назад стариком, ну что ему будет тогда и родина, а неизвестно, за что бедного посылают?». — «Я кое-что знаю об этом, — раздался голос из толпы. — Приехав в наш город, немец подъехал прямо к городничему, городничего не было дома, но немец все-таки приказал внести свои вещи к нему, остался в его доме и все время сидел у него, как в тюрьме. Потом приехал жандармский полковник, этому отвели особенную квартиру, но он захотел жить у городничего вместе с немцем. Полковник часто до полуночи разговаривал с немцем на иностранном языке, и вот немец едет в Сибирь — дело ясное, не к добру». «Ты ничего не смыслишь, — возразил ему кто-то. — Я знаю, что у немца есть письма от важных людей и что он может делать все, что хочет. Остановился он у городничего, как все, которые ездят по казенной надобности, как жандармский полковник. И зачем он в Сибирь едет, и то знаю. Сижу я раз вечером у Алексея Васильевича, вот и приходит немец, и в руках у него огромная книга. Алексей Васильевич двадцать лет прожил в тундре и все знает, он ему и стал называть все горы и реки, а немец все записывал. Потом рассказал ему Алексей Васильевич, в каких горах черный камень, в каких синий, где медь и железо, где даже золото и серебро находится. Немец записал все это в свою книгу, стало, он ищет золота и прочего, что в горах бывает».
Все это было сказано с такой уверенностью, что никто не посмел возражать. Кто-то прибавил только: «Посмотрим теперь, откроют ли ижемские зыряне, где золотые горы, или, несмотря на пушки, которые несколько лет тому назад привезли в Ижемск, все еще будут противиться повелениям начальства». За этим поднятием моего значения раздались опять голоса сострадательные. Соболезновали не только обо мне, но и обо всех, оставшихся дома, особенно о бедной покинутой жене. Наконец меня окружила толпа нищих, которые жалобным голосом просили Христа ради, неотступнее всех была одна дряхлая баба с укутанной головой и в полосатой юбке, припевавшая: «Подай денежку нищенке, Бога буду за тебя молить, и Богородица призрит тебя на пути, нищенская молитва к ней доходит». Я развязал кошелек и раздал несколько грошей, потом вскочил в кибитку и, взглянув из нее на окружавших, увидел, что нищие, оборотившись лицом к церкви, молились, по обещанию старухи, за мое благополучие. Тут раздался благовест к вечерне. Все сняли шапки и стали креститься. Затем я слышал еще громкое «с Богом!», и потом я не слыхал уже ничего, кроме глухого колокольного звона.
Так начал я свое путешествие к самоедам. Благовест еще раздавался в моих ушах, когда я приехал в деревню Сомжу. Почтовой колокольчик возвестил жителям о приезде человека с подорожной. Мою кибитку тотчас же окружила толпа любопытных, и меня приняли, как старого знакомого, потому что я заезжал уже в эту деревню. Это было для меня тем приятнее, что надеялся избавиться от показывания моего паспорта и других бумаг, но радость моя была преждевременна. Едва успел я снять шубу, как явились два служителя закона с приказом от сановного пристава (в тот же день прибывшего в Сомжу), чтоб я немедленно явился к его благородию. Это подало повод к забавному спору о чинах, который кончился тем, что становой явился сам ко мне с почтением, сопровождаемый несколькими наиболее значительными жителями, и предписал им немедленно исполнить все мои законные требования. Затем он спросил, не имею ли я и теперь чего-нибудь приказать ему. Вспомнив об условленном в Мезени свидании с самоедским тадибеем
[36], жившим в нескольких верстах от Сомжи, я попросил проводить меня к нему, но в деревне никто не знал, где находится чум самоеда. Вследствие этого становой пристав тотчас отдал приказание отыскать чум и привести ко мне тадибея. В ожидании его я принялся приводить в порядок старые заметки — дело, за которое я всегда принимаюсь, если нет чего нужнейшего.
Посланный возвратился только на третий день после моего приезда, и с тадибеем. Когда я напомнил последнему наше условие, скрепленное с моей стороны целковым, он отвечал, что отказывается от всего, что, сделавшись христианином и стоя на краю могилы, не хочет иметь сообщения с дьяволом, что он сжег свой чародейственный барабан и даже для исцеления своей больной дочери не хотел просить совета у тадебцио
[37]; что он готов или возвратить мне целковый, или сообщить мне за него какие угодно сведения об искусстве тадибеев. Мне нетрудно было достать другой барабан и поколебать несколькими рюмками водки решимость тадибея, но я почел обязанностью уважить совесть бедного самоеда. Сверх того, сведения, которые тадибей обещал мне сообщить, были для меня гораздо важнее его фокусов: последние мог мне показать всякий необращенный еще тадибей. Приведу здесь несколько замечаний о чародействе самоедов.
Предметы магии у всех народов одинаковы, их столько же, сколько у человека желаний, намерений и нужд. Но главное — врачевание и предсказывание. У некоторых народов, например, у финнов, первое место занимает врачевство, у других, как у самоедов, — предсказывание. Смотря по различной степени образованности народов, по их образу воззрения и их духовному развитию, колдун действует или сам, силой собственного духа, или только при помощи богов, им призываемых. Так, финский колдун сам одарен способностью делать чудеса силой своей воли, проявляемой его заклинаниями — s a n a t, и силой своих знаний, доказываемых его заговорами — synty. По мнению самоедов, колдун сам почти ничего не может, он только толмач мира духов, все его могущество заключается в том, что он может приходить в сообщение с духами, называемыми тадебцио, и получать от них нужные сведения. Подобно самоедам, тадебцио упрямы, лукавы и своенравны. Иногда они вовсе не слушаются тадибея, иногда обманывают его ложными предсказаниями, старых же тадибеев решительно дурачат. Тадибей должен быть молод и полон сил, здоров и крепок, потому что часто по повелению тадебцио должен резать и терзать себя ножом и другими острыми орудиями. Говорят, что этот обычай выходит уже из употребления, но прежние тадибеи, как гласят предания, пронзали себя копьями, стреляли в себя стрелами, заставляли себя резать на мелкие куски и снова оживали. Нечто подобное рассказывается и о некоторых еще живущих тадибеях; следующее происшествие показывает, что эти рассказы имеют какое-нибудь основание. Несколько месяцев тому назад сошлись в чуме на Тиманской тундре три самоеда и один русский. Один из самоедов был посвящен в таинства тадибеев. Другие, неизвестно для чего, попросили его поколдовать. Дошедши до обычного восторженного состояния, тадибей во время самого чародейства приказал, чтобы в него выстрелили из заряженного ружья. Один из самоедов исполнил приказание, но дал промах, или, как рассказывают, пуля отпрыгнула от тела. Опять зарядили ружье, и выстрелил другой самоед, но также неудачно. Удивленный русский зарядил ружье снова, выстрелил и — попал. Тадибей упал мертвый. Я встретил на Канинской тундре несколько чиновников, которые ехали следовать это дело. Результатов следствия я не знаю, и рассказ мой основан на общих толках. О древних тадибеях рассказывают множество историй, которые встречаются и в финских народных преданиях. Они летают, плавают под водой, подымаются до облаков, проваливаются сквозь землю и принимают какой угодно вид.
Делаются же тадибеями весьма просто. Искусство это наследственно: magus non fit, sed nascitur
[38]. Того же мнения и финны, но финский чародей обязан долго учиться заговорам и заклинания и многим другим проделкам, самоедский же избавлен от всякого труда. Все, что первый должен сам выработать с помощью от отцов наследованной мудрости, все это самоедский тадибей предоставляет попечению тадебцио: он только переводит, что они говорят ему на языке, понятном одному тадибею. Хотя я и слыхал, что самоеды говорят «поучиться у тадибея», но в чем состоит это учение, никто не мог объяснить мне это порядком. Сообщу здесь то, что слышал от одного самоеда и что рассказано мне было под великою тайною. Пятнадцати лет он был отдан в науку к тадибеям, потому что из его семьи было несколько знаменитых шаманов. Учителями его должны были быть два тадибея. Они завязали ему глаза, дали ему в руку барабан
[39] и приказали барабанить. Между тем один из учителей бил его по темени, а другой по спине. Это продолжалось несколько времени, и вдруг все кругом просветлело, он увидал множество тадебциев, плясавших у него на руках и на ногах. Ученик испугался, бежал к священнику и окрестился, с тех пор он не видал более тадебциев. К объяснению этого я должен прибавить, что перед уроком тадибеи воспламенили воображение ученика рассказами о чудесах, совершаемых этими духами.
Когда тадибей как следует посвящен в таинства своего звания, то он обзаводится барабаном и особенным костюмом. Барабан, смотря по состоянию тадибея, бывает более или менее изукрашен медными кольцами, оловянными бляхами и тому подобным. Он всегда кругл, но не одинаковой величины. Самый большой, какой я видел, был в 3/4 локтя в диаметре и в 1/8 локтя вышиной. Он обтягивается с одного только конца тонкой, прозрачной оленьей кожей. Этот небольшой снаряд в руках тадибея — могущественное орудие, им возбуждает он собственный дух, его громкие звуки проникают в темный мир духов и пробуждают их от ленивого сна. Костюм тадибея красив и странен, он состоит из замшевой рубашки (самбурна) с красной суконной каймой, с такими же выпушками по всем швам и эполетами на плечах из такой же яркой материи. На глаза и на все лицо спущен лоскут сукна, потому что тадибей проникает в мир духов не телесными глазами. Голова покрыта, только узенькая лента из красного сукна проходит по затылку, а другая — по темени для укрепления лоскута, спускающегося на лицо. На груди висит железная бляха.
Наряженный таким образом колдун садится, чтоб просить у тадебцио совета и помощи. Ему обыкновенно прислуживает другой тадибей, менее посвященный. Чародейство начинается тем, что главный тадибей, стуча в барабан, запевает несколько слов таинственным, ужасающим напевом. Помощник принимается тотчас же подтягивать ему, и оба поют одни и те же слова, подобно финским рунопевцам. Каждое слово, каждый слог растягиваются до бесконечности. После этого краткого вступления, как скоро начинается беседа с тадебцио, главный тадибей часто замолкает и барабанит слабее. Вероятно, он прислушивается тут к ответу тадебцио; помощник же продолжает петь последние слова его. Но только что кончится эта безмолвная беседа с тадебцио, оба тадибея начинают страшно реветь, громко барабанить и затем возвещают изречение оракула. Замечу еще, что песни тадибеев состоят из нескольких слов и почти что импровизируются. Вообще в самоедских песнях отдельные слова не имеют большого значения, еще менее размер и стопосложение. Если певец знает, что ему нужно, слово является само собою; не приходится оно к напеву, то он выпускает тот или другой слог или растягивает его, смотря по требованию. Но если он не поет, а только читает песню, то он заботится о соблюдении некоторого ритма, к которому и мое ухо несколько прислушалось. Этот ритм, не составляя правильного стопосложения, подходит, однако ж, несколько к трохеям.
Пополню эти общие замечания описанием некоторых частных приемов самоедского чародейства. При пропаже оленя напев очень прост; тадебцио призывается следующими словами, сообщенными мне одним из тадибеев:
Придите, придите, Духи волшебные! Вы не придете — Я к вам приду.
Пробудитесь, пробудитесь, Духи волшебные!
Я к вам пришел,
Пробудитесь от сна!
Тадебцио отвечает:
Скажи же нам, Что тебе нужно? Зачем пришел Возмутить наш покой?
Тадибей:
Сейчас пришел
Ко мне ненец (самоед), Пристает ко мне Человек сей сильно: Пропал олень у него. Потому-то к вам И пришел я.
На этот призыв, по уверению моего самоеда, является обыкновенно один тадебцио. Если же их приходит много, то один говорит так, другой иначе, и тадибей не знает, кому верить. За сим тадибей начинает упрашивать своего услужливого духа отыскать оленя: «Ищи его, ищи хорошенько, чтоб олень не пропал». Разумеется, тадебцио исполняет желание его; между тем тадибей продолжает просить, чтоб он искал хорошенько, покуда олень найдется. По возвращении тадебцио тадибей принимается увещевать его, что говорил правду: «Не лги, если солжешь, мне будет плохо, надо мной будут насмехаться мои товарищи, говори прямо, что ты видел; скажи доброе, скажи злое, только одним словом; будешь говорить много (т.е. неопределенно и сбивчиво), то мне нехорошо будет», — и т.д. Тадебцио называет место, где он видел оленя. Тадибей вместе с тем, кто искал его помощи, идет к назначенному месту, но он не ответчик, если олень между тем убежал или если другой тадибей по наставлению своих тадебцио замел следы оленя, и т.д. Должно заметить, что тадибей до начала гадания осведомляется подробно обо всех обстоятельствах, при которых пропал олень: когда и где это случилось, не полагает ли самоед, что олень
украден, какие у него соседи, не во вражде ли он с кем-нибудь и проч. Если самоед не в состоянии дать ему нужных объяснений, он прибегает к своему барабану, спрашивает то же самое у тадебцио, потом снова расспрашивает самоеда и продолжает это, покуда, по показаниям самого самоеда, не дойдет до какого-нибудь решения. Это-то решение он и слышит потом во время восторженного состояния из уст тадебцио. Возможно, впрочем, что это решение составляется иногда и во время самого восторженного состояния, подобно сну или магнетическому видению; во всяком случае это верно, что тадибей действительно и сам верит, будто слышит изречение из уст тадебцио. Меня убедила в этом простота и совершенная одинаковость их рассказов, и еще более нередкое признавание колдуна, что он не мог призвать тадебцио или не мог добиться от него ясного ответа при таких обстоятельствах, при которых можно было состряпать какое угодно изречение.
Кроме означенного средства к отысканию оленя, есть еще другое, употребляемое самоедами, не посвященными в науку тадибеев. Составляют на земле круг из оленьих рогов, в средину этого круга кладут оселок, на него огниво, топор или другую железную вещь, но так, чтоб она составляла с оселком крест и легко могла свалиться. За сим самоед ходит вокруг рогов, покуда железо свалится. На которую сторону оно упало, там и олень; стоит только отправиться по этому направлению, и олень сам выйдет навстречу. Также отыскивают и заблудившихся людей, но круг составляется тогда из человеческих волос.
Призовет тадибея на помощь больной, то как бы ни было опасно положение его, лечение не начинается в тот же день, а откладывается до первой утренней зари. В продолжение же ночи тадибей призывает своего тадебцио и просит у него совета и помощи. Если больному к утру сделается лучше, то пора прибегнуть к барабану. В противном случае должно ждать седьмой утренней зари. Не поправится он и тут, тадибей объявляет его неизлечимым и даже не приступает к лечению. Оказалась, напротив, перемена в состоянии больного, тогда лечение возможно, и тадибей спрашивает его, не знает ли он, кем наслана на него болезнь, если больной не знает, тадибей продолжает расспрашивать, кто его враги, с кем он ссорился и дрался, и т.д. Не может больной и тут сообщить достаточных сведений, он вопрошает тадебцио. Не узнавши происхождения недуга, тадибей ничего не смеет предпринять. Может, болезнь послана Богом, а его всемогущества тадибей безнаказанно не может искушать. Но и в том случае, когда окажется, что болезнь произошла от злых людей, тадибей ограничивается все-таки только тем, что просит тадебцио помочь болящему. Неизбежное последствие этой помощи то, что виновник болезни сам заболевает. Не знаю, можно ли положиться на слова тадибеев, но они уверяли меня, что больше ничего не делают при лечении больных. Они говорят, что не знают никаких заговоров и заклинаний, не знают и естественных лекарств. По крайней мере я не мог открыть у них других способов лечения, кроме известного почти у всех народов прижигания. Для этого самоеды сушат березовую губку, вырезывают из нее маленькие кусочки, которые зажигают и кладут на больное место. Они считают хорошим знаком, если кусочки трута отскакивают от тела, потому что с ними отлетает и боль.
Из всего сказанного видно, что познания тадибеев, хотя они и почитаются мудрыми и сведущими людьми, на деле весьма ограничены. Впрочем, они в них и не нуждаются, имея так услужливых тадебциев. Однако ж и тадебции не всемогущие духи, они подвластны Нуму
[40], или Илеумбаэрте (Илибеамбаертье), — так называют самоеды своего бога. Это видно из одной песни, в которой тадибей посылает своего тадебцио к Нуму, чтоб попросить помощи больному. Тадибей обращается в этой песне к своему тадебцио так: «Не покидай больного, ступай наверх, ступай к Нуму и проси о вспомоществовании». Тадебцио исполняет приказание, но тотчас же возвращается с известием, что Илеумбаэрте «не сказал слова», не дает помощи. Тогда тадибей начинает упрашивать тадебцио, чтобы он сам помог; этот отвечает: «Как мне помочь? Ведь я меньше Нума, я не могу помочь». Тадибей продолжает просить его, чтоб он снова вознесся и неотступно умолял бы Нума о помощи и спасении. Тадебцио, в свою очередь, советует тадибею подняться наверх. Тадибей возражает. «Я не могу, — говорит, — добраться до Нума, он слишком далеко от меня, если бы я мог добраться до него, я не стал бы просить тебя, а пошел бы к нему сам, но я не могу, так ступай же ты к нему». Тадебцио соглашается наконец и говорит: «Для тебя я пойду, но Илеумбаэрте беспрестанно бранит меня и говорит, что не скажет мне слова», и т.д.
Скажу здесь, кстати, несколько слов о языческих верованиях самоедов. О Нуме, или Илеумбаэрте, самоеды рассказывают почти то же, что в финских песнях говорится об Укко. Он царствует в воздухе и посылает оттуда гром и молнию, дождь и снег, бурю и непогоду. Его часто смешивают с видимым небом, которое также называется нум, звезды почитаются частями Нума и называются н у м г и, т.е. Нуму принадлежащие. Радуга, как видно из ее названия н у м б а н у, слывет каймой ризы Нума. Солнце тоже чествуется как Нум, или Илебеамбаертье. На рассвете самоед выходит из своего чума и, обратившись к солнцу, молится словами: «Когда ты, Илибеамбаертье, поднимаешься, то и я поднимаюсь»; то же делает он при захождении его, говоря: «Когда ты, Илебеамбаертье, заходишь, так и я иду отдыхать». От иных самоедов я слышал, что и земля, и море, и вся природа — тоже Нум. Другие, напротив, вероятно, вследствие влияния христианства, считают его Творцом мира, полагают, что он правит им и посылает счастье и благосостояние, оленей, лисиц и всякого рода богатства. Он же охраняет оленей от диких зверей, отчего и называется также Илибеамбаертье, т.е. хранитель стад. Он знает и видит все, что совершается на земле. Когда люди делают доброе, он посылает им оленей, хороший лов, удачу во всем, продолжает их жизнь и т.д. Если же, напротив, видит, что они грешат, он насылает им бедность, несчастье и преждевременную смерть. По отсутствии ясного понятия о будущей жизни самоеды верят, что добро и зло получают должное возмездие во время самой жизни. Оттого у них безграничное отвращение от греха (хаебеа) и от дурных дел, особенно от смертоубийства, воровства, клятвопреступления и прелюбодеяния. Хотя они и преданы пьянству, чрезмерную невоздержанность считают, однако ж, грехом и праздничные дни называют днями греха (хебида ялеа), вероятно, потому, что на тундре вошло в обычай по воскресеньям и праздникам сильно пьянствовать. Нум наказывает за убийство и клятвопреступление смертью, за воровство — бедностью, за прелюбодеяние — неблагополучными родами и т.п.
Кроме Нума, самоеды чествуют еще домашних богов, фетишей, или так называемых хахе
[41]; им они передают свои желания и потребности, их помощи и содействия просят они при всяком предприятии, особенно отправляясь на ловлю. Хахе и тадебции одинаково второстепенные божества, подвластные Нуму; тадебции — духи, показывающиеся только одним тадибеям, тогда как хахе — видимые идолы, к которым могут обращаться все, не посвященные даже в таинства чародейства. Эти хахе или искусственные, или естественные произведения. К последнему разряду относятся необыкновенные камни, деревья и другие редкие порождения природы; нашел самоед такую, по его понятиям, годную в идолы редкость, он обвертывает ее пестрыми лентами и лоскутьями и возит с собой всюду. У самоедов-идолопоклонников есть особенные для этих фетишей сани, называемые хахен-ган. Если идол велик и не укладывается в сани, он считается общественным, народным божеством; на острове Вайгач таких народных идолов много, и все они из камней и скал
[42]. Главный находится посреди острова и называется
я иеру хахе, т.е. хахе — владыка земли. Это огромный камень, лежащий вблизи пещеры. Рассказывают, что в древности этого камня здесь не было, и никто не знает, когда и кем он сюда занесен; форма его похожа на человека, за исключением головы, которая слишком заострена. По этому образцу, говорит предание, самоеды стали делать идолов различных размеров из дерева, они называют их с ъ я д е я м и
[43], потому что у них человеческое лицо (съя). Эти идолы, представляющие и богов, и богинь, одеты по-самоедски, обвешены и изукрашены всякого рода лентами и яркими лоскутьями. Встречаются, впрочем, на местах, где самоеды производят ловы, и голые идолы, всегда обращенные лицом к западу.
По недостатку дерева самоеды делают себе идолов из земли и из снега, и они также называются общим именем хахе. Эти, и по преимуществу снежные, делают на короткое время для какого-нибудь особенного случая, например, для присяги. Этот религиозный обряд часто употребляется у некрещеных самоедов. Если такого самоеда обокрадут и он имеет на кого-нибудь подозрение, то призывает подозреваемого к присяге. Он делает тогда хахе из камня, дерева, земли или снега, приводит к нему своего противника, закалывает собаку, разбивает сделанный им истукан и говорит, обращаясь к тому, кого подозревает в покраже: «Если ты украл, то погибни, как эта собака». Этой клятвы самоеды боятся так, что действительный вор скорее сознается, чем допустит до нее. Иногда вместо хахе употребляют при этом обряде морду медведя, которую разрезывают в куски, и это почитается еще страшнейшим, потому что, по понятиям самоедов, медведь также божество, и гораздо могущественнейшее хахе. Эта присяга чаще всего употребляется при покраже, но ею пользуются и при других случаях. Необращенным самоедам дозволяется в судах присягать по-своему.
Жертвоприношение всегда необходимо, когда призывают на помощь хахе или съядея. Если просят только счастливого лова, то жертву может приносить всякий; если дело важнее, то должен присутствовать и совершать жертвоприношение тадибей. Обряд этот совершается несколько различно в различных местах и различными тадибеями. Мне сказывали, что в иных местах тадибей, поставив на землю хахе, втыкает перед ним прут с привязанной к верхнему концу его красной лентой. За сим тадибей садится перед прутом, обратясь лицом к идолу, барабанит и поет песню, которой молит за просящего. Через несколько времени (вероятно, вследствие какого-нибудь фокуса тадибея) лента, привязанная к пруту, начинает колебаться, что для зрителя служит удостоверением, что хахе говорит с тадибеем. Речь эту тадибей толкует просителю, содержание ее обыкновенно одно и то же: хахе обещает исполнить просьбу под условием, что ему принесут в жертву молодого оленя (самца или самку), теленка и т.п. Нередко случается, что проситель начинает торговаться со своим божеством и предлагает корову вместо требуемого быка, теленка вместо коровы или просит отсрочить, подождать, и божество, смотря по тому, в чем дело, соглашается или отказывает. Перед приступом к жертвоприношению все женщины удаляются, приводят оленя, и тадибей умерщвляет его перед идолом. Голову, рога и даже кожу развешивают на дереве перед хахе, тадибей обмазывает кровью оленя лицо идола и бросает несколько оленьего жира на огонь. Только это и выпадает на долю божества, все остальное съедает тадибей вместе с присутствующими при жертвоприношении. При еде остерегаются только, чтоб не закапать платья кровью, потому что это считается грехом и дурным знаком. Сделав этот краткий очерк внутренней жизни самоедов, отправимся далее, чтоб познакомиться с их внешней жизнью, насколько это возможно на длинном пути (в 700 верст) по пустынным тундрам, Канинской и Тиманской, до Пустозерска — русского селения при устье реки Печоры. На этом пути мы должны наперед отказаться ото всех житейских удобств: нам придется останавливаться иногда посреди тундры, под открытым небом, иногда в жалком чуме самоеда, иногда в тесной избе русского поселенца, где снег сыплется сквозь стенные скважины, где ветер задувает зажженный огонь, и где от холода может защищать только одна волчья шуба. Но ученый путешественник не должен забывать своей цели, не должен жертвовать ею для внешних удобств. Мы постараемся совестливо исполнить нашу обязанность.
Я забыл сказать, что становой пристав, о котором выше сего была речь, подарил мне при отъезде моем из Сомжи оленьи санки с рогожным верхом. В эти санки утром во второй половине декабря самоед впряг четырех бодрых оленей, столько же впряг он и в свои открытые сани. Затем, привязав одного из моих оленей к задку своих саней длинным ремнем, он уселся в них, взял в одну руку вожжу, а в другую длинную палку, которой дал по толчку каждому из оленей, и мы быстро понеслись вперед. Дорога наша идет прямо на север, и перед нами расстилается неизмеримая равнина Канинской тундры. Она почти так же нага и бедна, как и мать ее, — море, восточный берег которого был виден. Если бы услужливый ветер не сметал снег, посылаемый благим небом на эту мрачную землю, то можно было бы сомневаться, на какой стихии находишься. Только изредка встречается кое-где реденький ельник, который здешние русские называют заимствованным у финнов словом м ъ я н д a (Mänty). Чаще попадается густой ивовый кустарник, который русские зовут зырянским словом ёра (jora). Он обыкновенно указывает на присутствие маленького ручья, тихо пробирающегося по ровной тундре. Вглядываясь тщательнее, везде можно открыть небольшие возвышенности, из которых многие по наружности походят на лапонские скалы, но зимой они едва заметны, ибо все углубления вокруг наполнены снегом. Там, где такая неровность хоть несколько возвышается над поверхностью, там почва или обнажена совершенно, или покрыта только тонким, но крепким снежным черепком, сквозь трещины которого пробивается частый олений мох. Вот все, что я мог заметить, едучи из Сомжи, в продолжение нескольких часов внимательного осматривания местности. Земля была пуста и пустынна, почти как при начале творения мира, и само небо было мрачно. Мы ехали довольно быстро, пошел снег, ямщик в полголоса тянул какую-то однообразную песню.
Наконец показался чум. Он принадлежал отцу моего ямщика. Когда мы подъехали, хозяин с хозяйкой вышли, чтоб нас встретить. Я с намерением оставался в санях, чтоб узнать, каким образом нас примут. Я ожидал, что по крайней мере получу приглашение войти в чум, но я ждал напрасно. Самоеды стояли неподвижно: муж не сводил с меня прищуренных глаз своих, жена посматривала то на меня, то на мужа, ямщик медленно отпрягал своих оленей, кончив это, он подошел к своим родителям и приветствовал их словом: «Торова» (от русского слова «здорово»). «Торова», — отвечали ему в один голос отец и мать, тем и закончилась их беседа. Тогда и я подошел к моим молчаливым хозяевам и, по примеру моего ямщика, приветствовал их также словом «Торова» и получил тот же ответ. Затем опять последовала пауза, которую я, наконец, прервал приказанием заложить мне свежих оленей.
Я подошел к чуму и заглянул в отверстие, служившее дверью: там было темно, как в могиле. Я попросил хозяйку развести огонь и вошел в чум, твердо уверенный, что меня не оставят в темноте. Но и в этом ошибся. Я повторил мое приказание, и снова без успеха. Ощупью ходя по шалашу, наткнулся я на кучу хвороста, свалил ее всю на очаг, зажег серную спичку и развел яркий огонь. Тут только заметил я девушку, которая, забившись в дальний угол, с жадностью теребила и рвала зубами большой кусок мерзлого сырого мяса, причем работала и головой так, что волосы в диком беспорядке развевались около окровавленного лица ее. На меня она поглядывала по временам украдкой с выражением сильного страха, почти отчаяния. Но вдруг выражение лица ее изменилось. Положив в сторону кусок мяса, она привела волосы в порядок, вытерла лицо, глаза сияли радостью. Кто бы подумал, что такая безделица, как заблестевшая перед огнем табакерка, могла произвести столь великую перемену в душе человека! Между тем как девушка, очарованная блеском моей табакерки, сидела еще в углу, вошли остальные члены семьи и разместились перед огнем. Сын сел подле меня, по левую сторону очага; мать и отец, по обычаю, заняли правую. Девушка вышла из своего угла и уселась подле матери, чтоб лучше рассмотреть табакерку. Таким образом мы составили кружок и сидели в глубочайшем молчании, нарушаемом только треском огня. Наконец девушка прервала общее безмолвие: она заметила кольцо на моем пальце, и у нее вырвалось непонятное для меня восклицание. Потом тотчас же стала расспрашивать меня через мать свою, что бы я взял за кольцо, если бы кто захотел купить его? Я отвечал, что кольцо может быть продано только за сердце хорошенькой самоедки, и девушка снова удалилась в свой темный угол.
Между тем ямщик вынул из-за пазухи бутылку с водкой, налил себе порядочное количество в деревянную чашку, опорожнил ее разом и потом передал отцу чашку и бутылку. Отец не стал отговариваться, влил в себя полную чашку и возвратил бутылку сыну. За сим, закусывая сырой олениной, они продолжали пить, покуда не выпили всю бутылку. Мать смотрела на все это с грустью и беспокойством, она молчала, но тем трогательнее говорили ее глаза. Это не тронуло, однако ж, сына, он преспокойно выпил сам последние капли. Раздосадованный такой холодностью, я велел принести свой дорожный погребец и начал угощать хозяйку. Тут все приняло другой вид: отец и сын, бросившись к моим ногам, стали умолять меня, чтоб я и им дал хотя один глоток моей «отличной водки». «Негодяи! — крикнул я на них. — Не стыдно ли вам вымаливать водку у постороннего, когда вы сами ни одной капли не дали той, которая вам всех ближе? Я угощаю хозяйку только по милости вашего жестокосердия. Ты, бесстыднейший из сыновей, ты и теперь ешь хлеб твоих родителей — так было и во всю жизнь твою — и считаешь, что мать твоя не заслужила чарки водки!». — «Кто же мать моя?» — спросил остолбеневший ямщик. «Разве она не мать тебе?» — спросил я, указывая на хозяйку. «Это не мать», — был короткий ответ ямщика. Тогда я спросил хозяина, что ж, она разве не жена его? Сперва он ответил отрицательно, потом утвердительно. Я уже готов был составить себе весьма невыгодное понятие о супружеских отношениях самоедов, но, когда стал расспрашивать подробнее, ямщик сказал мне: «Мы не христиане, не веруем в русского Бога, у нас своя вера, и нам позволяется брать жен столько, сколько нам угодно. Из них первая уважается, однако ж, более других, я родился от первой жены, не от этой. Если бы моя мать была здесь, то я непременно дал бы ей водки, но тот, у кого только пятнадцать оленей, тот не может угощать всю семью». Несколько смягченный этим объяснением, я дал и отцу, и сыну по рюмке водки, но с условием, чтоб тотчас же запрягли оленей. Выканючив у меня еще по рюмке, они поднялись, наконец, и вышли из чума, согнали оленей при помощи собак в одно стадо, обвели его веревкой и, выбрав восемь, запрягли в каждые сани по четыре. Мы уж были готовы отправиться, когда хозяин попросил еще водки себе и жене своей. «За что мне поить тебя?» — спросил я его. «Ведь ты едешь на моих оленях», — отвечал он. «За это я плачу тебе прогоны», — возразил я. «Я дал тебе хороших оленей», — заметил он. «А сын твой везет плохо», — сказал я. «Так не давай ему водки», — был отцовский совет самоеда. Коротко, я вынужден был дать хозяину и хозяйке еще по рюмке. Затем мы отправились, на пути нас застигли темь и метель, и после многих неприятностей мы добрались, наконец, ночью до деревни Нес. Она в шестидесяти верстах от Сомжи и в ста верстах от Мезени.
Деревня Нес лежит при реке того же имени, верстах в пятнадцати от впадения ее в Белое море. Она состоит из бедных избушек, в которых живет несколько мещан, записанных в Мезени. Их отцы поселились здесь с целью поправить свое расстроенное состояние выгодной торговлей с самоедами, но торговля эта упала, потому что в настоящее время само правительство доставляет самоедам муку, соль, порох и свинец по весьма сходным ценам. Еще более повредило переселенцам следующее обстоятельство. В старину производилась в Несе продажа водки, и деревня эта служила сборным местом для всех канинских самоедов. В 1825 году прислали сюда миссионеров для обращения самоедов в христианскую веру. Действия их увенчались успехом, если об успехе судить по числу окрещенных. Для упрочения этого благого дела нужно было снабдить самоедов церквами и священниками, и в каждой из трех тундр выстроили по церкви: в Большеземельской — на реке Колве, в Канинской — в деревне Нес, в Тиманской — на реке Пёше. Две первые построены в 1831 году, последняя — в 1833-м. Вскоре после освящения канинской церкви винную торговлю по весьма понятным причинам перевели из Неса в деревню Сомжу. С этого времени самоеды редко посещают Нес. Они собираются теперь в Сомже, и тамошние крестьяне присвоили себе почти всю торговлю, которая прежде составляла главный источник дохода для жителей Неса.
Об этом я узнал еще в Мезени, а потому и поселился было на несколько недель в Сомже, но, как я уже заметил выше, самоеду питейный дом был милее моей рабочей комнаты. Вот я и отправился туда, где была церковь, в надежде, что вблизи святыни мои ученые занятия пойдут успешнее. Приехав в Нес, я тотчас же вытребовал к себе старшину Канинской тундры и приказал ему немедленно достать мне самоеда, хорошо знающего по-русски. Старшина обещал, что завтра же будет выполнено мое приказание, и я был так прост, что положился на его обещание. Прошло несколько дней, прошла неделя, и самоед не являлся. В ожидании его прошло почти и все время святок.
Читателю, может быть, любопытно узнать, как можно праздновать Рождество у самоедов. Это, как и многое в сем мире, зависит от внешних обстоятельств, а мне они на первый случай не очень благоприятствовали. Так как священник уехал, то я остановился у чиновника, под надзором которого были хлебные, пороховые и соляные магазины этой деревни. Он нанимал маленькую комнату у пономаря, сам же пономарь с многочисленным семейством, приехавшим из Мезени, помещался в кухне перед этой комнаткой. Хозяин мой, которого звали продавцом хлеба, был страшный скряга. Весь гардероб его состоял из нанковых панталонов, овчинного тулупа и засаленного сюртука, последний надевался только в торжественных случаях, обыкновенно же он ходил в тулупе. Ежедневный обед этого продавца хлеба состоял из хлеба и тухлой рыбы, которая жарилась поутру на весь день; он хотел и меня угощать этой пищей, но желудок мой восстал тотчас же против такой тирании. Я дал пономарю денег на покупку чего-нибудь получше, но пономарь, вероятно, по наущению моего хозяина, возвратил мне их назад с уверением, что в деревне нет ничего лучшего. Наступило Рождество, и на мой рабочий стол поставили ту же черную сковороду с жареной тухлой рыбой. Я бросил сковороду в угол, где рыба была съедена собаками, и так раскричался на хозяина, что он взамен рыбы принес мне достаточное количество молочной каши. Смягченный последней, я помирился с ним и затем довольствовался опять одной тухлой рыбой. Новый год приближался, мы с пономарем наставили силков для белых куропаток. Все напрасно: и в силках при вечернем осмотре их накануне Нового года ничего не оказалось. Возвратясь домой, я взял ружье и на лыжах отправился в ивовый кустарник, и там не нашел ни одной куропатки. Повернув уже домой, я заметил на противоположной стороне реки другой густой кустарник и решился осмотреть его более ради удовольствия два раза скатиться с холмистых берегов речки. Сверху я и не заметил крутого обрыва и потому слетел с него весьма некрасиво. По счастью, никто не видел моего позорного падения,
и я пришел домой как ни в чем. Дома снова овладели мною думы, как бы отпраздновать Новый год. После неудачной охоты оставалась только одна надежда на жену священника. Мой хозяин, продавец хлеба, представлял мне ее постоянно старой, гадкой ведьмой и не советовал с нею знакомиться. Нужда заставила, однако ж, меня попытать и тут счастье; не сказавши ни слова хозяину, я взял шапку и отправился.
В комнате попадьи тускло горела свечка, в кухне было темно. С стесненным сердцем отворил я дверь в кухню: на лавке кто-то храпит. Подхожу тихонько ко второй двери и долго не решаюсь отворить ее. Но и возвратиться было опасно: может, кто-нибудь заметил меня, и тогда меня сочли бы за вора. Подстрекнутый этой мыслью, я смело повернул замок, отворил дверь и вошел. У стола сидел ангел юности и красоты и читал большую книгу, а у ног его на скамеечке — маленькая девочка, с благоговением слушавшая «Жития святых». Восковая свечка горела перед иконами. Ступив еще шага два, я поклонился, хотел сказать что-то вроде привета, но попадья вдруг вскочила и ушла вместе с девочкой в кухню. «Что ж это значит? Неужто она не воротится?» — подумал я. Это было бы хотя и заслуженное, но все-таки слишком злое наказание. Подле Четьи-Минеи лежал маленький псалтырь, я развернул его, прочел несколько страниц — никто не являлся. Наконец вошла работница с самоваром, а вслед за нею и попадья, несколько принарядившаяся. Я стал извиняться, что осмелился потревожить ее. В ответ на это она упрекнула меня тем, что я до сих пор не удостоил ее своим посещением. «Жизнь в этой печальной пустыне, — прибавила она, — так печальна, что мы смотрим на нее, как на наказание, посланное нам Богом. Завернет к нам какой-нибудь заезжий, мы от всей души рады ему, и вас мы давно ожидали». Я почел эти слова пустым комплиментом и отвечал довольно сухо, что ведь иноверцы редко бывают здесь желанными гостями. Попадья с жаром возразила: «Мы люди простые, почти не знаем света, но добрых людей не боимся, какого бы вероисповедания они ни были. Злых людей не любим и презираем, хоть бы они были и единоверцы. Несмотря на то, что вы не удостоили нас посещением, я все-таки подумала, что, верно, вам плохо у жадного и скупого смотрителя магазинов, и приготовила для вас комнату, разделив теперь пустую комнату дьякона перегородкой. Я думала вас пригласить, как скоро возвратится мой муж, но если вам угодно, можете и завтра переехать». Затем она показала мне комнату — светлую и веселую. Она сама оклеила стены оберточной бумагой и выкрасила их голубой краской. В комнате был маленький диванчик и несколько чистеньких деревянных стульев. Вычищенный блестящий самовар стоял на опрятном столе. Осмотрев все, мы возвратились к чайному столу, на который, кроме обыкновенных принадлежностей, в отсутствие наше поставили пирог с ягодами. Вечер прошел незаметно в занимательных разговорах, и я забыл о настоящей цели своего посещения, о съестных припасах для приличного празднования Нового года. Да я уж об этом и не заботился, потому что решил довольствоваться до возвращения священника тухлой рыбой.
Когда я возвратился домой, смотритель магазинов храпел уже подле теплой печи. Я сел за свою работу. В полночь раздался звон почтового колокольчика, и перед нашими воротами остановилась кибитка. Я растолкал смотрителя, он не успел еще порядочно протереть глаз, как исправник вошел в комнату и потребовал ужина. «Сейчас», — отвечал смотритель и пожелал исправнику хорошего аппетита. Но смотритель знал, чем угостить своего начальника: он принес прекрасный ужин с кухни попадьи. Во все время пребывания исправника в Несе мы жили на ее счет, а тотчас после его отъезда приехал и священник. Тогда я расстался со смотрителем и провел русский праздник Рождества преприятно в добром и радушном семействе священника. До сих пор крестьяне несколько дичились меня, как немца и нехристя, но когда они увидели радушие, с каким принимали меня священник и его жена, когда узнали, что мы обедаем за одним столом (против чего вырывались даже кой-какие замечания), когда увидели, что священник в день Рождества окропил меня святой водой, тогда и они стали считать меня человеком. В Рождество несколько молодых девушек через жену священника попросили позволения спеть мне песню. Содержание ее заключалось в том, что мне сулили невесту, которой богатство, красота и дарования превозносились до небес. Но я прошу извинения, что так долго занимаю читателя рассказами о таких мелочах. Да, для многих привет, вкусный обед, хорошенькая песня, ласковое слово — мелочи, но все это далеко не мелочь
[44] на самоедских тундрах, и как редко выпадает на долю путешественника счастливая встреча с такой радушной семьей священника.
При помощи исправника мне удалось, наконец, достать себе самоедского учителя. Он хорошо говорил по-русски и был весьма умен, что для самоеда редкость. Он сознавал свои достоинства, и можно было заметить, что несколько презирал своих слабейших братий. Однажды самоеды хотели что-то поправить в его переводе, он попросил их замолчать и прибавил, что они неучи. Я всеми средствами старался удержать его подолее: разговаривал с ним, хорошо платил ему, ежедневно давал ему водки, позволял даже напиваться всякий раз, когда он изъявлял на то желание, но, несмотря ни на что, самоед скучал и постоянно порывался возвратиться на тундры. «Ты живешь со мною ладно, и я люблю тебя, — сказал он мне однажды, — но я не могу жить в комнате. Смилуйся и отпусти меня». Я увеличил поденную плату, стал давать ему больше водки, послал за его женой и детьми, давал и жене его водку и всеми возможными средствами старался развеселить грустного самоеда. Этим мне удалось удержать его еще на несколько дней. На полу в моей комнате, как будто в самоедском чуме, сидели муж, жена, дети, окруженные оленьими кожами, ремнями, ножами, коробками и подобным скарбом. Муж занимался со мной, жена шила самоедское платье и изредка помогала мужу переводить. Частые ее вздохи заставили меня, наконец, спросить о причине ее грусти, она заплакала и, рыдая, отвечала мне, что беспокоится о муже, который должен жить взаперти в комнате. «Мужу твоему ведь не хуже, чем тебе, — возразил я. — Ну, а тебе разве плохо?». — «Яо себе не думаю, я беспокоюсь только о моем муже», — сказала она наивно. Затем и муж, и жена так неотступно стали просить меня об отпуске, что я не мог отказать им. Тогда другой самоед вызвался быть моим учителем, но этот был, как почти все самоеды, и ленив, и туп. Каждый вопрос я должен был повторять несколько раз, и все-таки вполне он редко понимал меня. Например, фразу «моя жена больна», он перевел мне: твоя жена больна. Я попросил его, чтоб вместо «твоя» он сказал «м о я жена». На это он ответил уверением: «Как я сказал, так и есть». Тогда я потребовал, чтоб он перевел выражение «твоя жена больна». «Если ты говоришь о моей жене, — заметил мне самоед, — то она здорова так же, как и я». «Но если б, — продолжал я, — твоя жена занемогла и тебе вздумалось прийти ко мне и рассказать, что она захворала, как же сказал бы ты об этом на своем языке?». — «Когда я к тебе поехал, — отвечал он, — моя жена была здорова, а занемогла ль она после этого, не могу знать». Это напомнило мне одного лапонского пономаря, которого я просил перевести мне финское слово lunastan. Слово это значит: развязываю, выкупаю, искупаю. Лопарь молчал. Я повторил несколько раз вопрос мой, наконец он ответил с торжественным видом: «Ни я, ни ты, но Господь наш, Иисус Христос, всех нас искупил от грехов наших».
Утомленный глупостью моего нового учителя, я весьма обрадовался, когда жена священника предложила мне поехать вместе с нею на самоедскую свадьбу. Она праздновалась верстах в тридцати от села. Покуда попадья приготовляла все к поездке, я позвал наших самоедских провожатых и занялся расспросами обо всем, что происходит при самоедской свадьбе. Вот что узнал я из их рассказов. Когда самоед собирается жениться, он выбирает себе свата и с ним вместе отправляется к родителям той девушки, которую имеет на примете. Подъехав к их чуму, сватающийся остается в санях, а сват входит в чум и делает предложение отцу или опекуну девушки. Получается отказ — они тотчас же поворачивают домой; если же отец соглашается, то сват спрашивает, когда можно праздновать свадьбу. Но это не решает еще свадьбы: у самоедов существует обычай, по которому жених должен вознаградить отца невесты. Сколько намерен дать жених, во что он ценит свою невесту — свату это наперед известно. Если отец потребует больше этого, сват идет к жениху и с ним советуется, можно ли прибавить одного или двух оленей. Долго толкуют, торгуются и наконец так или иначе решают дело. Не сошлись в цене — жених не входит в чум, удалось свату уладить дело — он вводит жениха.
После помолвки жених уже не посещает невесту, но все сношения производятся через свата. Незадолго до свадьбы родные невесты едут в гости к жениху. Когда они напируются и напьются здесь вдоволь, сват связывает четырех оленей — двух самцов и двух самок — в один ряд, гуськом, покрывает двух передних красным сукном, привязывает колокольчик на шею передового оленя, обводит их три раза вокруг чума и потом впрягает в сани жениха. Отправляется к невесте. Впереди едет жених, его оленями управляет сват. Прибыв на место бракосочетания, сват три раза объезжает свадебный чум, останавливается позади его и оставляет здесь жениха в санях. По прибытии жениха зарезывают оленя, выпивают по стакану водки и приступают к обеду, при котором жених не смеет, однако ж, присутствовать: он остает-
ся в санях позади чума, и сват носит к нему туда кушанья и вино. После обеда сват вводит, наконец, жениха в чум. Здесь по одну сторону очага сидят родные невесты, по другую — родня жениха. Жених идет на невестину сторону и садится по ее правую руку, а сват — у ног жениха и невесты. Когда каждый займет должное место, хозяин начинает всех угощать вином. Первый стакан он предлагает через свата жениху, жених выпивает половину и передает другую половину невесте. Когда всем поднесут по одному или по нескольку стаканов, начинают есть вареное мясо, сердце отдается новобрачным. После этого порядок уже не наблюдается, каждый пьет сколько угодно, и свадьба заканчивается попойкой. Жених остается в свадебном чуме до следующего утра, хотя б вино и вышло еще до вечера. Поутру едут к жениху. Невеста лежит покрытая в своих санях, оленями управляет мать жениха. Приехав к своему чуму, она обвозит вокруг него невесту три раза, потом снимает с нее покровы и вводит в чум. Тут снова начинается угощение, убивают оленей, потчуют водкой, поют, ругаются, шутят, дерутся.
Мы застали один акт, или, вернее, одну только сцену этой драмы. Когда мы приехали, все уже были угощены порядочно. Многие лежали на открытом воздухе без чувств с открытой головой, уткнутой в снег, и ветер обсыпал их снегом. Здесь нежный супруг ходит от одного лежащего к другому, ищет свою супругу, находит, берет ее за голову, оборачивает ее спиной к ветру и ложится рядом с нею носом к носу. Там другой ходит с кофейником в руках, ищет свою возлюбленную и, найдя, вливает ей в горло несколько водки; третий наталкивается на своего недруга, дает ему несколько тузов и бежит. Далее бедного опьяневшего кладут в сани, привязывают его к ним, а его оленя — к задку своих саней и уезжают. Покуда я стоял и смотрел на эту вакханалию, меня окружила целая толпа полупьяных свадебных гостей. Каждому нужно было мне что-нибудь сказать, спросить меня о чем-нибудь, и все хотели, чтоб я их выслушивал. Не имея возможности говорить со всеми вдруг, я обратился к самому трезвому, но остальные схватили меня за шубу и начали теребить каждый к себе. С большим трудом вырвался я из их кружка и поспешил от них удалиться. В некотором расстоянии я заметил кучу девушек и пошел к ним. Они были заняты игрой особенного рода. Разделившись на две, стоявшие друг против друга партии, в каждой по семь, они перебрасывали шапку. Сторона, поймавшая шапку, оборачивалась спиной к противной и, спрятав шапку, падала на снег. Тогда другие семь нападали на них, и начиналась борьба за шапку; сперва боролись, валяясь на снегу, потом стоя, покуда не отыскивалась шапка. Они были так заняты игрой, что вначале не заметили моего присутствия, но только что увидали, тотчас же бросились бежать. Я возвратился к чуму, хозяин вышел ко мне навстречу и пригласил на чашку чаю. Мы пошли в чум, он был довольно велик, но не круглый и не пирамидальный, как почти все самоедские чумы, а овальный и состоял из двух обыкновенных шалашей. Тут лежали и сидели один возле другого мужчины, женщины, старики и молодые девушки. Между совершенно опьяневшими лежал и жених. Я сел пить чай с хозяином и сватом, с трудом мог я уговорить хозяина, чтоб он пригласил и жену священника в нашу компанию.
После чаю хозяин приказал убить отличного оленя. От легкого удара в голову обухом топора олень повалился на землю. Тогда воткнули ему нож в сердце и вынули дыхательный канал. Из-за него между присутствующими поднялся сильный спор, который кончился тем, что ближайшие родственники жениха разделили между собою горло, и каждый тут же съел свою часть. С оленя сняли шкуру, разрезали ему живот, выбросили все несъедобное и перевернули его навзничь. Он был совершенно похож на длинную посудину, наполненную кровью, в которой плавали печенка, легкие и другие лакомые части. Хозяин взял меня за руку, подвел к оленю и просил начать обед. Предложение его было весьма ясно, но я был так бестолков, что никак не понимал и стоял неподвижно подле оленя. Между тем вокруг него столпились гости, вынули свои длинные ножи, и каждый отрезывал себе по куску теплого, дымящегося мяса, обмакивал его в кровь и потом, подняв лицо кверху, всовывал одной рукой обмакнутый конец в рот и, жуя, отрезывал другой остальное, с которым поступал точно так же. Кровь так и струилась по бороде и вытянутой шее. Легкое и печень служили десертом. Когда кончился этот отвратительный обед, я попросил, чтобы сварили кусок мяса для меня и для попадьи, но просьба моя была излишня, ибо в чуме кипел уже большой котел. Мясо вынимали из котла полусырое, клали на большое деревянное блюдо и подносили почетнейшим гостям, между прочим, мне и свату. Жене же священника поднесли на доске на левую, менее почетную сторону чума. Во время этого пиршества девушки пели самоедские песни, содержание этих песен было недурно, но напев походил на кваканье лягушек. И пение, и пирушка были вдруг прерваны происшествием несколько трагическим. В дверь просунулся самоед с продолговатым лицом и резким голосом просил позволения попировать на свадьбе. Кто-то из гостей позволил ему войти, и он вошел. Хозяин не видел этого, но только что заметил непрошеного гостя, приказал его вытолкать. Некоторые тотчас же бросились исполнять его приказание, другие вступились за самоеда. Хозяин и сват вцепились один другому в волосы, и мне плохо приходилось между ними. В чуме поднялась ужасная суматоха. Кричали, ругались, дрались; горшки, котлы и другая посуда — все полетело. Кончилось, однако ж, тем, что непрошеный гость был выгнан. Когда все успокоилось, хозяин рассказал мне, что этот мошенник приходил к нему с бумагой, будто бы мною написанной, которой ему поручалось собрать для меня с каждого чума по двадцати рублей ассигнациями и с угрозой, что ослушники будут связаны и отправлены в Архангельск. Хозяин хотел наказать своего земляка за этот гнусный обман и поклялся перед образом, что мошенник безнаказанно никогда не переступит через порог его чума.
Но, кажется, пора сказать несколько слов о женихе и невесте. Первый во все время моего присутствия на свадьбе лежал пьяный у входа в чум и, кроме лица, запачканного кровью, не представлял ничего особенного. На нем была обыкновенная
малица[45] — обращенная мехом внутрь оленья шуба, похожая на рубашку, ничем не покрытая и не отороченная собачьим мехом. По наружности это был самый простой самоед: широкие скулы, толстые губы, маленькие глаза, низкий лоб и плоский нос, который со лбом составлял почти прямую линию, широкие ноздри, смуглый цвет лица, волосы черные, как смоль, и жидкие, как щетина, редкая борода, одним словом, все черты, характеризующие монгольское племя. Невеста была ребенок лет тринадцати и, по самоедским понятиям, считалась совершенной красавицей. Маленькое, круглое личико, большие губы, полные красные щеки, белый лоб, черные маленькие глазки, черные волосы — главные условия самоедской красоты. Так, в одной самоедской песне красавица восхваляется за ее маленькие глазки, за широкое лицо, за красноту щек, которая сравнивается с краснотой утренней зари перед близкой непогодой, за прямой нос и за то, что на ходу выворачивает ноги наружу. Кроме невесты, тут был еще незамужний идеал такой красоты, и меня сильно забавляли старания молодых людей поцеловать ее не в нос, как это обыкновенно делается, а в розовые губы. Весьма недурен наряд молодых самоедок: короткая оленья шубка, плотно обхватывающая верхнюю часть тела, книзу же несколько расширяющаяся и у колен окаймленная собачьим мехом. Особенно красив отложной воротник, застегивающийся на полной груди. Ноги прикрываются пестрыми штанами и чулками из оленьей же шкуры. Если рассмотреть бесчисленное множество пестрых украшений этой одежды тщательно, трудно удержаться от смеха, но не естественно ли, что, по врожденному чувству, девушке как-то неприятно облечь свое стройное тело в мохнатые звериные шкуры? Без этих шкур она не может, однако ж, обойтись, и вот она выкраивает их по своим формам, обшивает красным, желтым и синим, чтобы не приняли ее за оленя, волка или за другого какого-нибудь зверя. Но что действительно смешно в убранстве самоедской девушки, так это ее двойные косы, переплетенные лентами, обвешанные пуговицами и всевозможными украшениями и доходящие часто до пяток. В таком-то национальном наряде была и невеста на свадебном пиру, только две нитки синего стекляруса на лбу отличали ее от других девушек. Она была не так пьяна, как ее подруги, и не участвовала в их амазонских играх. Из остальных девушек и вообще из всех свадебных гостей трудно было найти хоть одного, на лице которого не было б кровавых знаков недавней драки. Драчливость усилилась в особенности к вечеру. Куда ни взглянешь — везде схватки. Всякий раз начинали тем, что вцеплялись в волосы, потом переходили к кулакам, нередко дрались и костями или другими остатками обеда. Драка начиналась без всякого повода. Натолкнется один на другого и вцепятся в волосы, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст. Никому не было спуска, каждый колотил и защищался, как только мог. Побежденный оставался на снегу, а победитель искал новых подвигов. Утомленные этими сценами, мы отправились в сумерки домой.
Через несколько дней после этой свадьбы путь мой шел на восток к Чесской губе. Ехать на Канинский полуостров было не для чего, потому что в эту зиму на полуострове людей не было. Таковое опустение полуострова — явление нередкое и, как мне
сказывали, вот по какой причине. Прибрежья Канинского Носа весьма низменны и болотисты, от этого в дождливую осень даже и самые высокие места покрываются водой, начинается затем зима с сильными морозами, повсюду образуется толстая ледяная кора, смертоносная для оленей, не имеющих возможность пробить ее своими раздвоенными копытами и добраться до мха. На горах можно, конечно, найти олений мох, но самоеду это не в помощь, потому что он и зиму, и лето занимается рыболовством и, следовательно, должен жить близ берегов моря. Вообще Канинский Нос посещается мало, даже канинские самоеды живут большей частью по берегам Тиманской тундры. К Рождеству они во множестве отправляются в окрестности Сомжи и Мезени, продают здесь оленьи шкуры, лисьи меха и все, что добыли на суше и на море, и запасаются мукой, коровьим маслом, творогом, свинцом, порохом, водкой и другими потребностями. После Рождества они возвращаются к морю, только некоторые из беднейших отправляются в Пинегу, Холмогоры и Архангельск, где мужчины нанимаются в извозчики, а женщины прокармливаются нищенством. Когда я выехал из Неса (19 января), большая часть самоедов возвратилась уже на места жительства. На протяжении почти 160 верст я встретил только один чум, да и тот принадлежал моему врагу. Он распространил между канинскими самоедами, что я иностранец и потому не мог быть послан русским правительством, что я прислан народом немцев, чтоб выведать, как лучше перебить всех самоедов и потом завладеть их оленями. На берегах рек Визы, Снопы, Омы, Виски нашел я несколько одиноких русских дворов с весьма развращенными жителями. Нередко встречались мне русские обозы, возвращавшиеся с богатой добычей от самоедов. Наконец при реке Пеше, в нескольких милях от ее впадения в море, я наехал на самоедский стан, состоящий из трех чумов. Один принадлежал тому самому тадибею, который в Сомже сообщил мне таинства своего искусства. Я условился с ним, что через несколько дней он приедет к тиманской церкви (верстах в сорока по течению реки) и там в продолжение нескольких недель будет учить меня самоедскому языку. Условие было подкреплено несколькими рюмками водки, и я весело поехал к церкви. Здесь я нашел только детей, стариков и старух, потому что священник, дьячок и их жены, составляющие почти две трети всего народонаселения, уехали в Мезень. Но прекрасное местоположение вполне вознаградило мне недостаток общества. Здесь впервые после многих месяцев я снова увидел лес и возвышенности. Чтоб вполне насладиться родной природой, я достал себе лыжи и отправился в лес с ружьем. Вскоре нашел я стаю белых куропаток и, замышляя их гибель, чуть-чуть не погиб сам. Подкрадываясь к ним, я соскользнул в глубокую, занесенную рыхлым снегом котловину ручья. Выкарабкавшись из нее не без труда, весь промоченный, я едва не замерз на возвратном пути. Только баня согрела меня и избавила от дальнейших вредных последствий. Затем мне суждена была неприятность другого рода. Тадибей не сдержал своего слова. Приезд его был для меня важен не столько в учительском отношении, сколько потому, что в окрестностях церкви не было никого, кто бы мог свезти меня ко двору, находившемуся при Пеше верстах в двадцати ниже. Положение мое было весьма затруднительно. Через десять дней меня выручили, однако ж, два тиманских самоеда, которые, прослышав, что у меня есть водка, приехали к церкви из-за ста верст в надежде выпить. Они вызвались не только прислать мне оленей, но и повестить от чума до чума всем самоедам, что приехал важный начальник по делам службы. Последнее казалось мне излишним, но самоеды настаивали, говоря, что «тундра не совсем безопасна». Я согласился более потому, что без предварительного разузнания, где находятся чумы, пришлось бы играть на тундре в жмурки.
Приняв эту предосторожность, я покинул 1 февраля пешскую церковь. Вскоре поднялась сильная непогода и заставила меня завернуть во двор, находившийся ниже при той же речке. Возчик уехал со своими оленями в ближний чум, а я остался пережидать здесь непогоду. Ветер выл до полуночи без умолку, наконец я заснул, но ненадолго, вскоре меня разбудил лай собак. Я подошел к окну: сквозь замерзшие стекла не было никакой возможности рассмотреть что-нибудь, слышались только последние глубокие вздохи ветра. Я прислушивался еще к ним, как дверь отворилась. «Кто?» — спросил я. «День, барин, будет славный», — отвечал мне вошедший возчик. Запрягли оленей, и мы пустились далее. Задолго еще до рассвета приехали мы к первому чуму. Здесь нашел я моего тадибея. Сначала он все держался поодаль от меня, но, когда я уже садился в сани, не вытерпел, подошел и стал просить водку. «Водка уложена, и для тебя я не стану разрывать уложенное», — сказал я назойливому негодяю. «Да ты не для меня потрудись, а для спасения своей души, потому что написано: кто хочет на небо, должен здесь, на земле, трудиться», — возразил хитрый самоед. Когда мы тронулись, утро занялось уже, и солнце начинало всходить, огненно-красные облака занимали большую часть небосклона и мерцали подобно северному сиянию. Предвидя непогоду, я спешил, но на самоедской тундре не все делается так, как хочется. Я думал, что взял все возможные предосторожности, предуведомив жителей тундры о моем приезде, но я забыл самое главное — захватить с собой в проводники служителя закона. Самоедов нечего боятся, несмотря на их грубость и дикость, их всегда можно склонить рюмкой водки и ласковым словом. Но, кроме самоедов, по тундрам кочует много русских и зырян
[46], которые с незапамятных времен привыкли хищничать в этих пустынях. Всеми неправдами и даже явным грабежом они завладели стадами самоедских оленей и мало-помалу сделались почти полновластными господами всей этой страны. Правительство, чтоб положить предел их своевольству и вместе с тем чтоб приучить самоедов хотя несколько к гражданскому порядку, издало недавно устав, который, по моему мнению, превосходен. Но само собой разумеется, что как бы ни был зорок закон, он все-таки не может усмотреть всего, что делается в самоедской глуши. Притеснения продолжаются по-прежнему, реже в виде явного грабежа, но зато тем чаще под более кроткой формой обмана. Главный источник зла — водка, которая, несмотря на строгое запрещение правительства, все еще провозится и, вероятно, будет провозиться к самоедским чумам, пока правительство не учредит в некоторых местах, например, в Сомже, Пустозерске, Ижме и других селениях, военные посты как для конфискования водки и других запрещенных уставом предметов, так и для наблюдения за порядком и благочинием, в особенности во время самоедских сборищ. Промышленники тундр старались надуть даже и меня. Они стакнулись и вместо того, чтоб везти к самоедским чумам, возили от одного русского двора к другому и, провезши пять или шесть верст, брали обыкновенно за пятнадцать. Наконец мне удалось добыть возчика-самоеда. Он провез меня, по уверению всех самоедов, двадцать верст, а требовал, чтоб я заплатил за тридцать. После нескольких легких возражений с моей стороны он объявил, что будет доволен всем, что я ни дам. Смягченный его уступчивостью, я решил заплатить ему то, что он потребовал вначале, и уже отсчитывал деньги, как к саням моим подошел оборванный русский. Белые зубы его щерились на меня сквозь черную бороду, глаза сверкали хитростью и злостью. Он страшно похож был на дикого зверя, готового броситься на свою добычу. «Ты не хочешь платить прогон, — закричал он вдруг неистово, — погоди, проучим же мы тебя, отложим оленей и оставим тебя на тундре. Пойдешь, собачий сын, пешком!». И в этом роде продолжал он еще кричать несколько времени. «Что он, сумасшедший, что ли?» — спросил я ближайшего ко мне самоеда. «Нет, — отвечал самоед, — он в полном уме, но уж от природы беспокойного нраву». Тут я в свою очередь рассердился и прикрикнул так, что негодяй замолчал тотчас же. Я записал его имя и поехал далее. Через час мы приехали к одинокому чуму. Вышед из саней, я увидел на тундре несколько санок, запряженных каждые четырьмя оленями, которые направлялись также к чуму. Не обратив на них большого внимания, я вошел в чум. Вскоре вошло в него множество самоедов, приехавших из только оставленного мною становья. Они ехали жаловаться на того самого русского, который мне грозил и ругался. Они обвиняли в воровстве и насилиях всякого рода не только его, но и многих других русских, кочующих по тундрам. Эти незваные гости до такой степени вывели из себя кротких самоедов, что даже из Канинской тундры собирались послать депутацию к Государю Императору со всеподданнейшей просьбой об удалении русских хоть от берегов моря. Эту просьбу они думали основать главным образом на том, что русские держат огромные стада оленей и в короткое время потравят весь мох по берегам моря, вследствие чего самоедам неминуемо придется оставить или рыбный промысел (главный источник их пропитания), или оленеводство. В уставе предусмотрены и эти обстоятельства: для предотвращения их он постановляет, что каждому издавна на тундре живущему поселенцу отмеривается 60 десятин, на которых уже никому, кроме его, не позволяется пасти оленей. Когда самоеды сообщили мне свое намерение подать просьбу, я посоветовал им прежде разузнать о данных им огромных правах и потом просить губернское начальство о приведении в исполнение всемилостивейших постановлений.
В продолжение этих совещаний наступил вечер, и об отъезде нечего было уже и думать, потому что мне предстоял переезд в 60 верст, а на дворе бушевала страшная непогода. К тому же мне не хотелось так скоро расстаться с моими добрыми хозяевами. Я был у тиманских самоедов, а эти, несмотря на бедность, самые честные. Чтоб дать верное понятие об их характере, необходимо прежде всего сказать несколько слов о характере, общем всем самоедам. Самоеды имеют как в этом, так и во многих других отношениях много общего с финнами. Они крайне осторожны, кротки и скрытны, недоверчивы, упрямы и настойчивы, решаются не скоро, но, раз решивши, страшно упорны в исполнении предпринятого. Подобно лапландцам, они своенравны и так лживы, что на них никак нельзя положиться. Последнее качество относится, впрочем, по преимуществу к канским самоедам и потому не составляет общей характеристической черты самоедов. Общая черта всем им — это мрачный взгляд на жизнь и жизненные отношения. Как внешний, так точно и внутренний мир самоедов тёмен, как ночь; бушуй в них страсти — они вполне соответствовали бы своему наружному виду, были бы одним из самых диких народов мира. Но благое Провидение устроило так, что на большую часть жизненных отношений они смотрят с полнейшим равнодушием. Естественно, что хороший обед — один из важнейших жизненных вопросов самоеда, но и к нему он изумительно равнодушен. От удовольствия поесть он часто отказывается для еще большего удовольствия попьянствовать, из лени готов переносить и голод, и жажду, и всевозможные лишения. Но погрози только жизни этого сына Ледовитого моря, оскорби его словом или делом, пробуди только подозрение, что хочешь обмануть его, и тотчас же увидишь, что в нраве его, омраченном и охлажденном полярным небом, есть все-таки пыл, зародившийся, весьма вероятно, под солнцем более знойным. Этот мрачный, дикий и по-своему страстный нрав обнаруживается по преимуществу у канинских самоедов. Он поддерживается здесь их материальным благосостоянием, развивающейся отсюда гордостью и приверженностью к язычеству. Совсем другое дело на Тиманской тундре. Здесь в 1831-м и в 1833 годах свирепствовал скотский падеж, истребивший до 20000 оленей и повергший все население в страшную нищету. Погибло много и самих самоедов, потому что они ели мясо павших оленей. После этого страшного испытания тиманские самоеды упали духом, большая часть обратилась в христианство. Правда, мрачное воззрение на жизнь все-таки осталось и у них, но дикий пыл утратился совершенно; вообще, питая грусть в глубине души, они мягкосердечны и кротки. Говоря об общих качествах самоедов, я должен упомянуть еще об их готовности помогать бедным. Эта добродетель примирила меня со многими дурными сторонами самоедской натуры. Как ни извинить то, что народ дикий, борющийся с нищетой, плохо различающий правое от неправого, добро от зла, старается силой, хитростью или обманом завладеть собственностью своих врагов, когда он в то же время готов разделить последние крохи со своими друзьями! Самоеды так же, как и лопари, берут к себе своих бедных родственников и заботятся о них. Так и в чуме, в котором мне пришлось ночевать, была такая призренная девушка. «Это дочь твоя?» — спросил я хозяйку. «Нет! — отвечала она мне. — Бог не дал мне детей, она сирота, и ей пришлось бы умереть с голоду или замерзнуть, если бы мы ее не приняли, не одевали, не кормили; она нам дальняя родня, и мы взяли ее из сострадания». Девушка потупила глаза и принялась мешать ложкой в котле. Мне показалось, что она смутилась от слов хозяйки, разгоряченной водкой. «Но если ты призрела ее беззащитную юность, так зато она помогает твоей старости», — сказал я, желая ободрить девушку. «Да, нечего сказать, — подхватила хозяйка, — бедная трудится и работает много, и тяжело мне будет, когда она выйдет замуж и заведет свое хозяйство». При этих словах брат хозяина нежно взглянул на девушку, и она опять потупила глаза и снова принялась мешать в котле. Вскоре затем жених отправился стеречь оленей, а мы под овчинные одеяла. Но когда огонь в очаге погас, я слышал, как девушка тихо отворила дверь и вышла, чтоб провести страшно непогодливую ночь вместе со своим любезным.
Рано поутру хозяин разбудил меня радостной вестью, что метель улеглась и что мы безопасно можем ехать далее, прибавив, однако ж, к этому, что если среди тундры нас застанет новая непогода, так это уж воля Божья, и делать тут нечего. Мы поспешили собраться. Хозяин и его брат сами вызвались провожать меня, говоря, что дорога очень сбивчива, а время года самое ненадежное. Как я уже выше заметил, путь мой лежал вдоль Чесской губы, и приходилось ехать то по Ледовитому морю, то по суше. Конечно, в отношении к Пустозерску, последней цели моего путешествия, это был порядочный крюк, но прямая дорога через Чайцынские горы была не только опасна, но и совершенно бесполезна для моей ученой цели, потому что на ней самоеды не живут. Не успели мы проехать несколько верст, как уже показались предвестники близкой непогоды. Возчики мои остановились и начали советоваться друг с другом. Они долго говорили, покачивали в раздумье головами и потом поехали далее. После я узнал, что речь была о том, не воротиться ли, но что не посмели предложить мне это. Вскоре в самом деле началась метель, все усиливавшаяся так, что к полудню не видно было даже и запряженных в сани оленей. Сильный порыв ветра сорвал, наконец, и род кибитки, приделанный к моим саням и несколько защищавший меня от непогоды. Встревоженный, я спросил: «Сколько мы проехали?». И мне отвечали: «Мы не знаем, где мы, и ничего не видим». Они повторяли это всякий раз, как принимались сгребать с меня массы снега, наносимого метелью. При этом они сделали печальное открытие, что
малица моя промокла, и один из них был так великодушен, что предложил мне свой
савик[47] — нечто вроде лопарского
пески, носимый сверх малицы. К несчастью, мои линейные размеры несколько превосходили обыкновенную длину человеческого тела, и это не раз становило уже меня в весьма затруднительное положение в отношении к санкам и к одежде; так и теперь по милости этого обстоятельства я должен был отказаться от радушного предложения самоеда и покориться необходимости промокнуть мало-помалу до костей. Мы тащились шагом, направляясь то туда, то сюда, искали хребет Чайцын и не находили, хотя, наверное, не раз были у подошвы его. Один из возчиков ехал на своих легких санях несколько впереди и отыскивал удобнейший проезд для моих тяжелых саней. Наконец мы добрались до реки, знакомой одному из возчиков. Передовой спустился прямо с обрыва на лед, чтоб поискать удобнейший для нас спуск, и пропал. Другой возчик отправился отыскивать его, и в продолжение нескольких часов я сидел на тундре один-одинешенек, не понимая, куда девались возчики, потому что все, что я теперь рассказываю, я узнал уже по прибытии в ближайший чум. Сначала я не подозревал, что они исчезли; когда же сделал это совсем не отрадное открытие, подумал, что они бежали со страху. Не стану описывать, что происходило внутри меня, ограничусь только внешним. Вся моя одежда промокла еще днем, и усилившийся к ночи холод поверг меня в страшную лихорадочную дрожь. Я думал, что пробил уже мой последний час, и готовился к путешествию на тот свет. Между тем возчики возвратились. Мы благополучно перебрались через реку, снова заблудились и, как после рассказывали мне возчики, пять раз приезжали назад к той же самой реке. В шестой раз, когда уже мы порядочно поотдалились от нее, олени начали сами собой свертывать назад, несмотря на все усилия возчиков направить их на восток. Наконец надобно было уступить их непреодолимому упрямству, и они вскоре привезли нас к селению, состоящему из семи чумов. Лай собак вызвал самоедов наружу еще прежде, чем мы подъехали. Старший из моих возчиков подошел тотчас же к моим саням, стал на колени и выразил свою радость благодарственной молитвой высочайшему Духу, потому что «Не я, а он спас тебя в эту ночь», — сказал он в заключение.
Почти всю остальную часть ночи толковали в чуме о наших приключениях, из которых я сообщил только главное. Они возбудили такое участие, что никто не хотел идти стеречь оленей, вследствие этого поутру оказалось, что волки порядочно напроказили. Я хотел передневать в чуме, но бывшие тут же виноторговцы так хлопотали о моем отъезде, что я отправился поутру почти что против моей воли. Погода несколько прояснилась, и нетрудно было отыскать дорогу, которой мне следовало ехать. Я находился при устье реки Индиги, в нескольких верстах к югу от Святого Носа. Отсюда мне надобно было ехать вверх по ее течению верст сорок или пятьдесят до русской избы, в которой хотел остановиться на некоторое время, а потому захватил с собой и нанятого в последнем чуме учителя самоедского языка. Но и в этот день, как накануне, поднялась метель, усилившаяся к вечеру до того, что против ветра нельзя было ни глядеть, ни дышать. В ушах беспрерывно раздавался оглушительный вой и свист. Днем промочил меня влажный снег, а к ночи стало сильно морозить. Было уже заполночь, когда мы добрались до русской избы. Дорога до того истощила меня, что я едва держался на ногах, почти что утратил сознание, а зрение мое до того пострадало от ветра, что я несколько раз стукался головой о стену. Целые сутки затем раздавался еще в ушах моих свист ветра, но, кроме этого, дальнейших дурных последствий не было.
После десятидневного пребывания в Индиге я отправился далее. Жители семи самоедских чумов прислали мне 20 оленей, трех возчиков и маленькую палатку на случай, если на длинном, восьмидесятиверстном, переезде до деревни Сулы нас застанет непогода. Было прекрасное февральское утро, когда я выехал. Солнце взошло и озарило снежную пустыню грустным бледно-розовым блеском. Я сидел в передних санках, и возчик подробно объяснял мне свойства страны. Между прочим, я узнал от него, что Тиманская тундра необыкновенно богата реками и озерами, что реки вытекают из гор Чайцын
[48] и затем, протекая по совершенно плоской земле и не встречая никаких препятствий, не образуют больших потоков, а впадают каждая прямо в море. Из озер, по его рассказам, замечательно только одно — Уриер, названное так в честь одного прославленного древнейшими самоедскими сагами тадибея, который с одной из высоких уральских вершин взъехал со своими оленями прямо на небо. Полагают, что и сам Урал назван по нем. Разговаривая таким образом с моим возчиком, я увидел целое общество самоедов, ехавшее нам навстречу. Один из них особенно привлек мое внимание своим странным видом и необыкновенным нарядом. На нем была малица, покрытая светло-коричневым сукном и окаймленная собачьим мехом. Пестрые сапоги его были подвязаны выше икр красивыми подвязками, концы которых спускались до половины голени. На голове у него была острая оленья шапка, надетая несколько набекрень. Говоря с моим ямщиком, самоед держался немного перегнувшись назад, левая рука висела неподвижно, а правая была вытянута, и указательный палец ее делал как бы запятые и тире. Зажмурив один глаз, тем пристальнее смотрел он другим. Его губы были очень тонки и почти не двигались во время разговора. Лицо было не так широко, как обыкновенно у самоедов, лоб низок, а макушка остра. Это был самоедский аристократ. Ты смеешься, читатель; поверь, однако ж, что и у самоедов богач считает себя лучше других людей, думает о себе больше, чем любой маленький князек, и обращается со своими бедными собратьями даже презрительнее, чем многие из сильных земли. Занимает он, сверх того, какую-нибудь ничтожную должность — высокомерие его не знает уже никаких пределов. Но самоед, о котором идет речь, избранный в помощники старшины Канинской тундры, отличался от других самоедских аристократов тем, что держал себя вполне согласно сознанию своего значения по богатству и по важности занимаемой им должности. Со мною он обращался совсем не так, как с возчиком, но все-таки с чувством собственного достоинства. Когда мы приехали к его чуму, он великодушно предложил мне взять сколько угодно оленей, не просил водки и не стал торговаться о прогонах. Переменив оленей, мы отправились далее, оставив здесь одного из проводников и нашу палатку, полагая, что она уже не понадобится, потому что самоедский аристократ указал нам дорогу к другому стану, находившемуся верстах в двадцати от его чума. Мы и приехали благополучно к указанному месту, но не нашли здесь ни одного чума, ни даже оленьих следов. Между тем поднялась вьюга, настала ночь, а до деревни Сула оставалось еще верст тридцать. Делать было нечего, пришлось ехать далее, несмотря ни на ночь, ни на вьюгу. Проехав около часа, мы наткнулись вовсе неожиданно на стан большеземельских самоедов, из которых ни один не понимал по-русски. Я разговаривал с этими добрыми людьми почти до утра, употребляя и переводчика, и все свои небольшие сведения в самоедском языке. Несколько раз заводил я речь, что пора бы и ехать, но самоеды неотступно просили меня остаться и еще поговорить с ними. Хозяйка подарила мне рыбу и приставала, чтоб я одарил ее золотым кольцом, которое блестело у меня на пальце. Я заплатил за рыбу больше, чем она стоила, но самоедка не удовлетворилась и всю ночь просидела со слезами на глазах в углу чума. На рассвете я отправился далее и скоро приехал в деревню Сулу. Отсюда на другой же день добрался я уже на паре лошадей и до Пустозерска — без сомнения, одного из самых пустынных мест на целом земном шаре.
VII
В Пустозерской волости считается всего на все 18 больших и малых селений, из которых некоторые разбросаны по нижнему течению самой Печоры, другие же — по впадающим в нее речкам и по ближним озерам. Самое большое из этих селений — Пустозерск, прозванный так по находящемуся поблизости его Пустому озеру. В простонародье Пустозерск называется и Городком, потому что, как рассказывают, здесь была прежде крепость для защиты от частых нападений самоедов. И Пустозерск, и многие из ближайших деревень окружены страшно пустынной и бедной природой. Здесь нет и следа лесов, нет даже ни скал, ни камней; зимой всюду виднеется одна только необозримая снежная равнина, по которой свободно играют вьюги и метели. Они играют здесь почти беспрерывно и иногда с такой силой, что жители не могут выйти ни за водой, ни за топливом. Ветер срывает нередко крыши с изб и почти всегда заносит последние снегом до самого верха; чтоб не быть совершенно погребенным под снегом, жители прокапывают себе только узенькие ходы вокруг избы, потому что разметать эти громадные массы крепко слегшегося снега чересчур трудно.
В этой-то грустной, пустынной местности остановился я на несколько месяцев с целью продолжать изучение языка, нравов и религии самоедов. Последнему весьма благоприятствовало положение пустозерских деревень в средине страны самоедов, вследствие чего не только большеземельские, но и канинские, и тиманские самоеды приезжают в них почти ежедневно. Наиболее же съезжаются они в Пустозерск, где сбывают свои товары и запасаются мукой и другими необходимыми предметами, кроме того, их привлекает сюда и водка. Приезжают некоторые, хоть и редко, чтоб побывать в церкви. Так, я слышал, что одна старая самоедка говорила священнику, что она нарочно для этого приехала и вот по какому поводу. С полгода тому назад, находясь на тундре, она потеряла олененка, которого сильно любила, потому что был белый и очень статен; чтоб отыскать его, она прибегла к тадибеям и принесла богатые жертвы хахе, но без всякой пользы. С горя и тоски она обратилась, наконец, к русскому Богу и посулила ему рубль ассигнациями, если он возвратит ей пропавшего, и только что она сделала это — глядь, а олененок-то и бежит ей навстречу. Вот она, чтоб исполнить свое обещание, и приехала почти из-за 200 верст. Я полагаю, что это обещание относилось к Николаю Чудотворцу, или Миколе, как называют его самоеды, потому что даже и не обращенные еще почитают этого Святителя мощным богом.
Из приезжавших в Пустозерск самоедов я не встретил ни одного настолько трезвого, чтоб можно было нанять его в услужение, но мне принесло уже много пользы и то, что я ежедневно мог разговаривать о жизни и обычаях на тундре с людьми, наезжавшими с разных сторон. Для изучения языка я обращался по большей части к нищим самоедам,
Пребывание в Пустозерске и путешествие... в Ижемск и Колву 185 которые разбили свои чумы близ пустозерских селений. Часто прибегал я также за советом как в этом, так и во многих других отношениях к одному самоедскому поселенцу, почитавшемуся светилом и далеко известному по своим похождениям. Еще ребенком он был продан своей матерью за пуд муки одному русскому и затем переходил, как товар, из рук в руки, пока восьми лет не попал в услужение к одному русскому, кочевавшему по Большеземельской тундре. Этот новый господин был жесток и скуп и заставлял его, полунагого и полуголодного, стеречь оленей и день, и ночь. Как-то случайно жалкий вид и плохая одежда ребенка обратили на него внимание исправника, объезжавшего тундры. Узнав о его горьком положении, исправник взял его под свое покровительство и воспитывал наравне со своими детьми. К несчастью, исправник был вскоре отставлен и уехал, и мальчик снова остался без приюта. Когда он подвырос, напившись раз пьян, он продался в рекруты, вскоре был, однако ж, отпущен по болезни и неспособности к военной службе. Затем он скитался несколько времени по тундрам, нанимаясь в услужение, и наконец поселился в маленькой деревеньке близ Пустозерска, где срубил себе избу и женился на русской, но, несмотря на то (что довольно редко), сохранил любовь к своим соотчичам.
Он служил мне несколько недель по найму и был весьма полезен как посредник между мною и приезжавшими с тундр самоедами, которые, естественно, дичились и чуждались меня, как иноземца и чиновника. Иногда в сопровождении моего ментора я ездил в ближайшие самоедские чумы, но этим в высшей степени поучительным для меня поездкам мешали, к несчастью, беспрестанные метели. Зима в этом году была так неприязненна, что даже самоеды жаловались на нее и благодарили уже Бога, как только непогода позволяла различать хоть только оленей перед санями. А что это на тундрах не всегда возможно — я это и сам испытал на пути в Пустозерск. Я даже долго думал, что жесточее испытанной мною в этот раз непогоды и быть не может, но жители Пустозерска предсказывали еще сильнейшие. И предсказания их сбылись. Раз утром вошел ко мне хозяин моей квартиры и советовал отложить на этот день мою обыкновенную прогулку, потому что вьюга необыкновенно сильна. Но этим предостережением он подстрекнул только мое любопытство. Я осторожно начал спускаться с лестницы и благополучно добрался до последней ступеньки, потому что до сих пор строение защищало меня от ветра, но за нею я тотчас же почувствовал, что мне не переспорить бури, и ухватился обеими руками за перила. Тут предстояла тяжелая борьба с невидимыми воздушными демонами. Нужно было сделать только один шаг, но чтоб сделать его, требовалось напрячь все силы. После нескольких отчаянных попыток мне удалось, наконец, пересилить бурю, но когда я вошел в горницу, я был так утомлен, что не мог дойти даже до кровати и почти без чувств упал на пол.
Я оставался в Пустозерске все время, пока приезжали с тундр самоеды, как же скоро наезды их прекратились, и я оставил это местечко и отправился в Усть-Цыльму — русское селение в 250 верстах к югу от Пустозерска, где, как мне сказывали, еще оставались тундрские самоеды. Путь мой лежал вверх по Печоре — по стране, до того пустынной, что о ней говорят, будто она создана не Богом, а образовалась уже после потопа. Здесь нет не только постоянно живущих, но и никаких животных. Это почти непрерывные низменные болотистые пространства. Ледяной холод внутри их уничтожает всякую растительность, по крайней мере настоящих деревьев здесь нет совершенно, только изредка по берегам рек виднеются полосы ивняка, а потому жители Пустозерска и отапливают свои жилища одним плавучим лесом. Как я уже заметил выше, даже и камней нет на глинистых берегах Печоры. Необыкновенно низкие на всем нижнем течении ее, далее к верховьям они постепенно поднимаются и в иных местах доходят до значительной высоты. По мере возвышения берегов увеличивается и растительность, и в окрестностях Усть-Цыльмы, как уверял меня мой ямщик, есть уже всякого рода деревья, а именно: сосна, ель, береза, ива, рябина, ольха, черемуха и презренная осина, на которой, как говорил мой ямщик, повесился Иуда.
Из животных, которые водятся во множестве по низовьям Печоры, следует упомянуть о белых куропатках. Между Пустозерском и Усть-Цыльмой нет еще оседлых жителей, потому что каждый, кто только вздумает поискать счастья в этих ледяных странах, направляет свою утлую ладью к Пустозерску, где, конечно, более средств существовать рыболовством и охотой на оленей, разумеется, ручных стад самоедов. Чтобы хоть несколько облегчить сообщение между Пустозерском и Усть-Цыльмой, по берегам Печоры сложено несколько маленьких курных изб, в которых путешествующий может сварить для себя рыбу и переночевать в случае сильной непогоды. В этих избах находят приют и многочисленные русские охотники, занимающиеся ловлей куропаток сетями. Хотя белая куропатка и не слишком ценится здесь, и промысел за нею нисколько не почитается завидным, охотник всегда, однако ж, достаточно вознаграждается, несмотря на то, что приходится проехать несколько сот верст. Нередко в один день в его сети попадается до сотни куропаток, тогда как он большую часть дня спит себе в избе, а если не спит, распевает с товарищами песни или забавляется сказками.
Я тащился в обществе этих охотников почти целую неделю на паре тощих кляч и наконец в начале апреля приехал в Усть-Цыльму. Селение это основано еще во времена царя Иоанна Грозного и населено раскольниками, грубейшими и упорнейшими из всех, доселе мною виденных. Раскольник всегда готов проклинать других, почитая себя лучше всех, а усть-цыльмские проклинают даже и подобных себе раскольников, если только они не совсем с ними сходятся. Поэтому не удивительно, что они смотрели на меня, протестанта, очень косо и недоброжелательно. Они расславили, что я колдун, поджигатель, отравитель рек и колодцев, что я знаюсь со злыми духами и что при помощи их делал в Усть-Цыльме страшные вещи. Так, между прочим, что, раскапывая снег, я произвел подземный вой, который сопровождался громом и молнией и продолжался несколько дней; что затем земля разверзлась, и из недр ее вышло чудовище с рогами. Многие уверяли, что видели своими глазами, как оно поднялось до облаков, потом снова опустилось и со страшным шумом погрузилось в Печору.
Все эти страшные толки пересказывал мне каждый день грузинский князь, живший в Усть-Цыльме и занимавший должность лесничего. Прежде он служил несколько лет солдатом в Финляндии и очень полюбил мою родину. Помня радушие к нему моих земляков, он принял во мне большое участие, навещал меня ежедневно и делал все, чтоб только как-нибудь облегчить мое пребывание в этом неприятном месте. Однажды в шесть часов утра он вошел ко мне весьма встревоженный. Причина этого раннего визита была следующая: ему дали знать, что ночью 25 раскольников держали совет, что бы со мною сделать. Кажется, он знал и решение их, но не хотел сказать мне. Он только дружески посоветовал запереться в моей горнице, а вздумаю прогуляться, так не иначе, как верхом и в сопровождении двух человек, которых он даст мне. Несмотря на это предостережение, в обыкновенное свое время я вышел на улицу один и пешком, никак не предполагая, чтобы среди бела дня я мог подвергнуться какой-нибудь опасности. Не успел я сделать и нескольких шагов, как целая толпа пьяных выскочила из кабака и с дикими криками окружила меня в то же самое мгновенье. Их было человек 25 и в том числе несколько женщин. Они схватили меня за руки и за малицу и начали теребить в разные стороны. Высвободив не без труда правую руку, я замахнулся ею, крикнув довольно грозно, и вся толпа, как испуганное стадо баранов, бросилась от меня и попряталась в соседние избы. За сим они не беспокоили меня целый день, но к ночи начали похаживать около моей квартиры. Это возбудило мое опасение, что они задумали вломиться ночью в мою комнату. Через несколько времени я услышал, что наружная дверь отворилась и кто-то тихо подходил к крыльцу. Я подкрался к окну и увидел под ним трех человек: двое были с ружьями, третий, мой хозяин, без всякого оружия. Боясь, чтоб он не ввел ко мне вооруженных, я стал подле двери, решившись дорого продать жизнь свою, но вскоре услышал, что хозяин возвратился в избу, оставив вооруженных на улице. Потом я узнал, что они и не думали вламываться ко мне в комнату, а только хотели посмотреть, выйду ли я ночью из избы. И это вот для чего: прошел слух, что я по ночам отравляю колодцы, порчу поля и обмазываю избы составом, который от лучей летнего солнца воспламеняется, а потому они и решили, прежде чем приступать к чему-нибудь решительному, сперва убедиться в справедливости этого слуха. В следующее утро за этой тревожной, проведенной без сна, ночью, желая
Пребывание в Пустозерске и путешествие... в Ижемск и Колну 189 освежиться, я гулял долее обыкновенного по берегам Печоры. Возвращаясь с прогулки, я увидел, что вход в деревню был совершенно прегражден толпой, наверное, в несколько сот человек. Идти прямо на эту толпу казалось мне опасным, но опасно было также и повернуть назад, потому что всякое обнаружение боязни ободрило бы еще более моих противников. Сообразив это, я смело пошел прямо, готовый на все, что бы ни случилось. По счастью, в нескольких уже шагах от толпы я увидел узенькую боковую дорожку, которая вела прямо к моей избе; я быстро свернул на нее и прежде, чем толпа успела одуматься, был уже дома. За сим мужество толпы проявилось только громким, яростным криком.
Возвратясь домой, я тотчас же потребовал лошадей и через час был уже на дороге в Ижемск. Это большое селение при реке Ижме в расстоянии 100 верст к югу от Усть-Цыльмы, заселенное зырянами. Мне восхваляли это селение за его гостеприимство, но как же был я удивлен, когда по приезде охотою никто не хотел впустить меня в избу, и я должен был прибегнуть к жившему здесь чиновнику. По прочтении моих бумаг он силой отвел мне квартиру у одного из жителей. Эта неприязненность добродушных зырян тотчас же навела меня на мысль, что слух о моих зловредных качествах дошел и до Ижемска; так оно и было. В тот же день вышеупомянутый чиновник (по счастью, человек вовсе без предрассудков) пригласил меня посмотреть, как нечистый проказничает в избе одного бедного зырянина. Я с удовольствием пошел с ним не столько для забавы, сколько в надежде как-нибудь разубедить суеверную толпу на мой счет. Перед избой мы нашли кучу народа и в середине священника в облачении и с крестом в руке. Священник подошел к нам и в ужасе начал рассказывать о том, что ночью происходило в избе этой. Малица и оленья шкура слетели сами собой с печи, невидимая рука бросила ножницы с такой силой, что они воткнулись в стену, ведро с водой качалось и т.д. Зыряне полагали, что все это мои проделки, в чем убедило их еще более уверение одного из жителей, что ему удалось видеть мои руки и ноги, и что они у меня кованные из железа. Чтоб разубедить толпу, я вошел вместе с чиновником в избу и принялся разведывать самомалейшие подробности ночного происшествия. После многих расспросов мы открыли, что большая часть чудес произведена была сумасшедшим; он спал на печке, прикрывшись малицей и оленьей шкурой, которые и пошвырял, когда ему стало слишком жарко. Весьма вероятно, что им же были брошены и как-нибудь помешавшие ему ножницы, которые хозяйка, по ее собственному признанию, забыла на печи накануне вечером. Ведро же стояло на отставшей половице, приходившей в движение, как только кто-нибудь ступал на нее.
И такие-то безделицы взволновали большую часть населения Ижемска, заставили священника целую ночь читать в избе молитвы об избавлении от проделок нечистого. Как ни было удовлетворительно наше объяснение всего случившегося, оно не рассеяло, однако ж, предубеждения против меня. Как ни отстаивали меня чиновник, его жена и некоторые из значительных жителей селения, большинство все-таки смотрело на меня, как на колдуна и богоотступника. Несмотря на то, все время долгой беспутицы я мог спокойно продолжать в Ижемске свои занятия. Здесь я изучал ижемское наречие самоедского языка и зырянский язык. Кроме того, мне хотелось составить себе понятие о национальных особенностях зырян, но для этого здесь было слишком мало данных, потому что ижемские зыряне приняли уже почти вполне религию и нравы, и образ жизни русского населения. Во всяком, однако ж, случае основные черты зырянского национального характера обнаруживают несомненное сродство с характером финнов и целого финского племени, к которому принадлежат и зыряне. Из хороших качеств зырянам приписываются по преимуществу рассудительность, прямота, степенность, добродушие, честность и верность; из дурных — хитрость, подозрительность и зависть. Не совсем похвальная еще черта, зависящая, впрочем, не столько от национального характера, сколько от весьма низкой степени цивилизации, — это то, что мужчина взваливает на женщину, что следовало бы делать самому, что даже на собственную жену он смотрит, как на рабу. Как мало уважает зырянин женщину, видно уже из отношений жениха к невесте в день брака. Она должна в присутствии всех гостей пропеть песню, которой со слезами и
поклонами умоляет жениха смиловаться над ее беззащитным положением и сделать ее своей законной женой. Нет никакого сомнения, что этим намекается невесте, что она не должна слишком гордиться тем, что жених ищет руки ее, что она все-таки должна быть покорной рабой его. То же значение имеет и обычай, по которому после венчания молодая должна раздевать своего мужа. Кроме того, при зырянской свадьбе много еще других обычаев и обрядов, свидетельствующих о рабстве и глубоком унижении женщин; вместо них я приведу здесь две свадебные песни, которые поются невестой и ее подругами.
1
«Отняли у меня мою волюшку, отняли ретивое сердечушко, повязали молодую головушку, подобрали кудри золотистые, повели за концы пальчиков. Ты, вскормивший меня батюшка, вынянчившая матушка, ясный сокол братец мой, сестра милая, добрый дядюшка, добрая тетушка, захотели, порешили вы, чтобы я покинула сторонушку родимую.
К златому столу подходила я, брала стакан —наливала, подносила вино всем гостям, из-под золотых бровей на всех посматривала, не видала братца милого. Улетел ты, сокол мой, сидишь на тундре черной ты, у залива моря темного, на скалах Урала высокиих. Ты спеши, спеши сюда, дорогой мой брат, аль не ведаешь — отсылают меня из златой родины. Приди ж, приди, брат возлюбленный, той же утробой выношенный, погляди на мое расставанье скорое. Шесть оленей в целом стаде что ни лучших, что ни быстрых выбери, запряги их в санки крепкие, запряги ремнями толстыми и спеши на родину. Преградят ли путь-дороженьку сто двадцать рек-потоков вешниих, поднимись ты, полети белым лебедем, легкой утицей.
Добрый батюшка, милая матушка, аль не была я вам предана, как сын, не воспитана? За что ж верную свою прислужницу теперь гоните к родителям неведомым, к братьям, сестрам незнаемым? Чтоб найти мне радость там, надо долго жить, много кланяться. Не найду на новой родине я радости, буду жить воспоминанием, как была я счастлива в дому родительском».
2
«Жизнь моя, добрый батюшка, собирай ты корни двойственные
[49], готовь пир им к вечеру светлый, радостный, выставляй на стол что ни лучшее! Ты, вскормившая меня матушка, накрывай лучший стол — стол из дерева кедрового, ставь яства сладкие, питья что ни вкусные. Жизнь моя, батюшка и матушка, возрастили вы меня как сына, жила я, как хотелося, пришел последний день, последний час моей волюшки, недолго мне любовью своей властвовать, сидеть чтимой девушкой. С этим днем все исчезнет для бедняжечки, все останется в дому родительском, прости ж, молодость веселая. Еще распуколькой должна покинуть я родину — место, где беззаботно всласть кормилася, наряжалася, покоилась. Матушка моя родимая, чем же надоела тебе верная твоя прислужница? Али много ела, много платий изнашивала, что ты так рано отдаешь ее? Не мешай же, родимая, не мешай ты мне, бедняжечке, горючими слезами заливатися — все ведь, все мои радости оставляю я в дому родительском. Не сердитесь на меня и вы, мои подруженьки моей юности, веселых игр на лугах зеленыих, видите ль, все-все покинуть мне приходится в первые дни весенние, когда все ручьи шумно разыгрываются, высокие деревья валятся, крепкие камни трескаются, когда начинает петь жалобная кукушечка, весенняя кукушечка. Рано запевает жалобная кукушечка, но еще ранее запою я, бедная, на новой своей родине. Прощайте ж, родимые батюшка и матушка! Прощайте ж и вы, подруженьки!».
В Ижемске и в других деревнях, принадлежащих к той же волости, я оставался до второй
половины июня; только в это время снова стало возможно продолжать мое путешествие по самоедским землям. Ближайшей моей целью была деревушка Колва, в 400 верстах от Ижемска в Большеземельской тундре. Поездку эту я совершил в 15 дней в рыбачьей лодке, отправлявшейся из Ижемска к реке Усе. Сперва мы плыли вниз по реке Ижме, потом вверх по реке Печоре и по ее притоку Усе до впадения в последний речки Колвы. Большая часть нашего плавания была по Печоре. Самоеды называют эту реку морем (ям), и весьма справедливо.
Принимая в себя все реки, вытекающие с западной стороны Северного Урала, в нижнем течении своем она расширяется версты на три, а в некоторых местах и более. Подобно Двине, она течет по ровной поверхности, есть, конечно, кое-где и быстрины, но на всем проеханном мною протяжении я не встретил ни одной. По рассказам, Печора богата рыбой, берега среднего ее течения довольно роскошны и если все-таки по суровости климата не способны для хлебопашества, так зато весьма хороши для скотоводства, но и эта отрасль сельского хозяйства до сих пор здесь в совершенном пренебрежении. Жители всей этой страны — зыряне — питаются преимущественно охотой и рыболовством, они не кочуют, однако ж, а живут в маленьких деревушках, причисленных к Ижемской волости.
В конце июня плавание по среднему течению Печоры представляет много интересного. Величие самой реки, прекрасные лесистые берега, зеленеющие луга и острова, совершеннейшая пустынность, печальный темный цвет, которым на дальнем севере отличаются и луга, и леса, и даже воды, и рядом яркий ослепительный блеск снега, уцелевшего в какой-нибудь глубокой лощине, защищенной возвышенностями от знойных лучей солнца, — все это, конечно, прекрасно, но ненадолго. Вскоре мириады комаров и мошек, кусающих ежеминутно, лишают вас всякой возможности восхищаться. Только и думаешь, как бы защититься от этого зла, которое справедливо можно причислить к семи египетским казням. Наденешь ли сетку из конских волос, забьешься ли в парусинную палатку — тут уже не до красот природы, в которых видишь уже главную причину этой напасти. Даже само солнце, летом невыносимо здесь знойное, расслабляет все чувства и уменьшает их восприимчивость ко многому. Я же, кроме того, не мог обращать особенного внимания на внешнюю природу отчасти от того, что на половине дороги к Колве на меня упала мачта и сильно ушибла голову. Счастье еще, что именно в это самое мгновение ко мне подходил один из гребцов, чтоб взять подаренную им для праздника бутылку с водкой, и отклонил несколько удар, который без того мог прекратить дни мои преждевременно. Еще больной от этого ушиба, приехал я в начале июля в деревню Колву, находящуюся в нескольких верстах от впадения речки того же имени. В этой деревне есть недавно выстроенная для большеземельских самоедов церковь, особенные дома для двух священников и дьякона и, кроме того, девять жалких избушек, в которых живут бедные самоеды, принявшие и язык, и обычаи зырян. Я остался в этой деревне до конца лета, мне отвели для житья одну из самых жалких лачуг, в которой не знал решительно покоя от духоты, сырости, детского крика, комаров и других насекомых. Как ни привык я работать везде и несмотря ни на что, здесь же не мог никак и потому часто должен был удаляться вроде погреба, находившегося под избой. В этом подземелье, хотя и тут мешали крысы и мыши, составил я мою зырянскую грамматику. Изучение же самоедов — главный предмет моих занятий во время пребывания в Колве — я вынужден был производить наверху, потому что мои учителя страшились подземного мира и неохотно в него спускались. Затем я ежедневно бродил по лесам и полям, стрелял уток, собирал морошку, одним словом, старался как-нибудь улучшить жалкую трапезу самоедов.
VIII
Огромное пространство, называемое Большеземельской
[50] тундрой, разделено между самоедами волостей Пустозерской, Устьцыльмской и Ижемской: северо-западная ее половина отведена пустозерским и устьцыльмским, а юго-восточная — ижемским. Само собою разумеется, что самоеды, как народ кочевой, нисколько не сдерживаются в определенных пределах и переходят, куда заведет их нужда или куда им захочется. Кажется, что высшее правительство никогда и не узаконило этого разделения тундры. Говорят, что оно сделано мезенским земским судом по проискам зырян, которые, правдою и неправдою завладев оленями ижемским самоедов, старались завладеть и пастбищами для них. Они просили от имени ижемских самоедов и как бы для их пользы, но так как у ижемских самоедов нет уже почти вовсе оленей, а другим, по определению земского суда, воспрещается переступать за выше означенную границу, то на деле всею южной частью тундры пользуются одни только зыряне. Эта часть — лесистая страна по Усе и ее притокам. В зимнее время она превосходна для оленей, потому что леса защищают от страшных вьюг и метелей, которые на тундрах опасны не только для людей, но даже и для оленей. Летом же она слишком знойна для них, а потому с приближением его зыряне перегоняют стада свои на прохладные безлесные тундры, с которых возвращаются домой только осенью. В это время зажиточные зыряне, владельцы оленьих стад, из Ижемска и других принадлежащих к этой волости деревень отправляются вверх по Печоре и Усе встречать стада свои и распоряжаться своим богатством. Осень — всюду время жатвы, сбора. На тундрах она приносит оленье мясо, оленьи шкуры, лисьи и песцовые меха, перо, пух и проч. Но ижемские крестьяне не довольствуются тем немногим, что доставляют им с тундры наемные работники их или приказчики, они сами разъезжают осенью от чума к чуму и приобретают всевозможными способами все добытое самоедами. С наступлением зимы некоторые пробираются даже в самую Сибирь и скупают меха у тамошних остяков
[51] и самоедов, муку — у русских поселенцев и проч.
В Ижемске я уговорился с одним из последних ехать вместе из Колвы, в которую эти странствующие зыряне всегда заезжают, до Обдорска. По этому уговору я начал мое азиатское путешествие 16 (4) сентября в большом крытом судне, которое русские называют
каюком, широком спереди, узком сзади и только с одной мачтой. Хотя каюк, в котором мы отправились, и почитался самым лучшим во всем околотке, я был, однако ж, не очень-то доволен им. Более всего мучила меня отвратительная вонь из открытых кадок с испортившимися рыбой и мясом — провиантом нашего экипажа. Затем палуба сквозила, как решето; поэтому в защиту от осенних дождей некоторые из значительнейших пассажиров запаслись небольшими палатками. Таких палаток было под палубой четыре. Одна была, разумеется, моя; в другой помещался хозяин каюка, в третьей — его племянник с женою; но кому же принадлежала четвертая, из розовой материи? Вероятно, какой-нибудь краснощекой красавице, но она не показывается: вероятно, из девичьей скромности, из боязни грубых корабельщиков. Позже мы познакомимся с нею.
Выше я сказал, что в Колве есть церковь во имя Николая Чудотворца. С тех пор, как она выстроена, вошло в обычай, проезжая Колву, служить в ней молебен о попутном ветре. Молитвы на этот раз были услышаны; только что мы сели в каюк, подул благоприятный ветер, и до самого вечера мы плыли как нельзя лучше. На другой день пошел снег с дождем, и ветер переменил направление. Мы должны были стать на якорь. Мои спутники играли в дурачки, я грелся у огня, разложенного на передней части каюка. 18 сентября мы добрались до устья Сыни — небольшой речки, впадающей в Усу с восточной стороны, верстах в 40 от Колвы и около 60 от Печоры. В этом месте Уса изгибается к северу, попутный ветер с юга наполнил паруса, и тяжелое судно наше пошло легко и быстро по шумящим волнам. Благодаря этому ветру мы проплыли довольно скоро 90 верст от Сыни к устью Хыр-мора, или Аджвы
[52], — другого значительнейшего притока, при впадении которого Уса снова поворачивает на восток. До этого места природа почти та же самая, что и по Печоре: по прибрежьям много лесу и лугов, дальше, в глубь страны, топкие болота и песчаные пустыри. Берега вообще низки, но кое-где попадаются и возвышения, которые зыряне называют
челъя (Tschelja)
[53]. Преобладающая здесь почва — глина, но далее к верховьям Усы она становится реже. Горно-каменные породы до устья Хыр-мора чрезвычайно редки, но далее отсюда они начинают обнаруживаться местами в берегах. В нескольких верстах от устья этой реки виднеется даже огромная скала или гора, называемая
Адак. Отсюда изменяется вид страны и во всем остальном. Лес постепенно становится все реже, деревья малорослые: береза преобразуется в кустарник, сосна утрачивает сучья и силится прикрыть наготу свою мхами. Наиболее распространена ива, образующая по берегам непроницаемый кустарник. Одним словом, вся страна обнаруживает явную наклонность к переходу в тундру.
Что значительное развитие возделывания здесь земли невозможно — это очевидно, но насколько не способна к возделыванию страна по нижнему течению Усы и по верхнему течению Печоры — это вопрос еще. Общее мнение как ученых, так и простолюдинов, что успешное земледелие здесь решительно невозможно, и по самой уже общности своей должно иметь некоторое основание, но оно нисколько не подтверждено опытом, потому что тамошние жители не умеют обрабатывать и не обрабатывают земли нисколько. В самом Ижемске, который славится своим хлебопашеством, поля находятся подле огромного болота, никогда не осушаются канавами и даже вспахиваются как будто бы только для виду. Но допустим, что земледелие в этих местах действительно невозможно — берега Усы и Печоры представляют все-таки и другие средства существования на них не только для кочевников, но и для оседлого общества. Они богаты прекрасными лугами, реки — рыбой, леса — всевозможной дичью. И несмотря на все эти дары природы, страна пустынна и безлюдна. По берегам Печоры, как мы уже сказали, разбросано несколько весьма малолюдных деревушек, а по речной системе Усы, за исключением Колвы, — ни одной. Естественно, что при таких обстоятельствах природа обнаруживает здесь характер решительной дикости. Плывя по Усе в сентябре месяце, вы видите большие луговые пространства, мертвенносерые от густой травы, засохшей на них без всякой пользы. Всюду встречаются засохшие, сгнившие деревья, то стоящие еще, то свалившиеся уже. Вместо людей по берегам бегают лисицы, песцы, медведи и другие дикие животные. Вместо человеческих жилищ вы натыкаетесь только на покинутые логовища зверей. Над головами вашими ежедневно проносятся бесчисленные стаи диких уток и гусей, возвращающихся в страны более теплые, оглашая воздух радостными криками. Как хорошо было бы полететь за ними следом! Но так как открытие Дедала не доведено еще до совершенства, то удовольствуемся уже и тем, что благодаря другому, несколько близкому к этому, открытию проносимся довольно быстро мимо стран, порождающих самые грустные впечатления.
От впадения Хыр-мора проплыли мы при попутном ветре около 40 верст до устья Косьи, значительнейшего из всех притоков Усы, а отсюда еще 50 верст до впадения реки Хузмор, или Роговой
[54]. Здесь ветер стих, и мы бросили якорь близ берега. Но к вечеру, между тем как все были заняты под палубой ужином, поднялась вдруг страшная буря, дождь лил ливмя, ветер завывал в снастях и грозил разбить наш каюк о скалистый берег. После неимоверных усилий нам удалось, однако ж, отвести каюк на середину реки и утвердить его здесь на якоре. За сим весь экипаж предался успокоению. Буря между тем не переставала свирепствовать, дождь лил, как из ведра, и от него не защищала уже ни палуба, ни палатка. Я лежал довольно долго совершенно покойно и недвижимо, рассуждая о том, пожертвовать ли уж вполне одним полупромокшим боком или, чтоб не обидеть его, подвергнуть тому же и другой, как вдруг к немалому удовольствию услышал треск огня на передней части каюка. Я приподнял полу палатки и был поражен престранным зрелищем. Подле огня двигалось что-то такое, что смутило бы и самого смелого, чуждого всяких предрассудков человека. Это что-то было закутано в мохнатую оленью шкуру, по которой в самом фантастическом беспорядке болтались суконные полосы всех цветов радуги. Голову, плечи и часть лица покрывало нечто вроде сплошного колпака из шкуры росомахи, украшенного блестящими медными кружками, бренчавшими на спине. Из-под этой косматой головной покрышки виднелись только два черных сверкающих глаза, пара толстых губ и широкие ноздри. Ростом это что-то было едва двух аршин, зато его оленья шуба широко растопыривалась во все стороны. Оно тихо ходит вокруг очага, на котором разведен огонь, останавливается на минуту на каждой из четырех сторон его и кланяется на все четыре стороны света; причем обнаруживается, что одна нога у него значительно короче другой. Вследствие этого, когда оно поворачивает лицо к востоку, вероятно, с целью поклониться в эту сторону, туловище само собою перегибается на север, и поклон отдается сему последнему; повернет лицо к западу — поклон приходится югу: нога решительно не дает воли голове кланяться куда ей хочется. Конечно, в результате цель все-таки достигается, потому что, наконец, все стороны света получают по поклону; но нельзя было не заметить этой страшной игры природы, поссорившей одну часть тела с другой. Откланявшись таким образом каждой стороне света, странное существо это село перед огнем, скрестив ноги, издало восклицание: «У-у-у!» и принялось тихонько постукивать по очагу. Тут я догадался, что это самоедское заклинание ветров, но все еще не мог понять, откуда взялось само заклинающее существо: прилетело ли по воздуху, вылезло ли из воды, как вдруг случайно глаза мои встретились с красной, озаренной пламенем палаткой. Подстрекаемый бесом смеха, я выполз потихоньку на палубу, прокрался на переднюю часть и одним скачком очутился подле огня. Самоедка вскрикнула, но тотчас же успокоилась и совершенно хладнокровно сказала: «Сядь к огню и обогрейся; ветер холодный, а платье твое, кажется, намокло». Слова эти были произнесены таким голосом, который ясно показывал, что старуха хотела задобрить меня, вероятно, для того, чтобы я не рассказал нашим спутникам о ее ночных проделках.
Разумеется, я принялся выпытывать у самоедки тайны ее чародейства. Вообще от самоедов трудно добиться какого-нибудь объяснения; они почти всегда отделываются коротким «екар» (не знаю), но на этот раз мне посчастливилось без всякого труда узнать все, что знала старуха. Так как, однако ж, большая часть того, что она сообщила мне, изложено уже мною выше, то я и ограничусь только передачей ее повествования об Уриере, самоедском шамане, про которого все говорят, что он живой взъехал на небо. Передаю, насколько можно, ее словами:
«Жил в старину на земле тадибей по прозванию Уриер, и был он тадибей над тадибеями, мудрец над мудрецами, врач над врачами, вещун над вещунами: такой знахарь, каких теперь уже и не бывает. Нужно ль отыскать пропавшего оленя, добыть украденное, возвратить здоровье, уготовать себе счастье и богатство и другое такое, и не ходи за советом ни к какому тадибею, ступай прямо к Уриеру. У него было множество оленьих стад, он много объездил стран, видел много народа, но наконец труды и напасти земной жизни наскучили ему. «Здесь, — сказал он, — оленеводство делается все хуже, мох с каждым годом уменьшается, зверь становится все реже, а воровство, обманы и всякая неправда, напротив, умножаются; не хочу жить долее на этой жалкой земле, поищу лучшей отчины на небе». И сказав это, он велел обеим женам своим приготовить для него и для себя новые одежды, для оленей же новую сбрую, наказав при этом настрого, чтобы как в одеждах, так и в сбруе ничего не было старого, уже потреблявшегося. Когда все было готово, он запряг в сани четырех сильных оленей-самцов и поехал по воздуху. Жены последовали за ним, каждая в своих санках. И вот, когда проехали уже почти половину пути, олени Уриера начали пошатываться, опускаться вниз. Уриер, догадывавшийся, в чем дело, спросил жен, сделали ль они, как он сказал: все ли в одеждах и сбруях стачено из нового? Тогда вторая жена призналась, что в ее одежде есть одна маленькая тесемочка, уже ношеная, и вместе с тем начала просить слезно, чтоб он позволил ей возвратиться назад на землю, где у нее осталось два сына, уверяя, что ей приятнее делить с детьми земные напасти, чем наслаждаться без них небесным блаженством. Уриер тронулся ее мольбами и отпустил ее назад, а сам с первою женою поехал на небо и там нашел все, что только может пожелать человек: сильных оленей, отличный мох, много зверей в лесах и на полях, и т.д.
[55].
Чрезвычайно замечательно, что самоеды верят в постоянные переселения на небо. Пропал без вести какой-нибудь дурной человек или преступник — все уверены, что его сожрал где-нибудь в тундре медведь; случись то же с хорошим человеком — все убеждены, что он, подобно Уриеру, уехал в небесные жилища. Один русский миссионер сообщил мне, что, не знавши еще о таком веровании, он думал однажды склонить самоедов-язычников к христианству, между прочим, и рассказом о взятии на небо пророка Ильи. Самоеды слушали рассказ его весьма равнодушно, и, когда он кончил, один из них сказал: «Да и мой брат несколько месяцев тому назад уехал так же на небо».
Бессмертие составляет, впрочем, исключительную принадлежность тадибеев, потому что вообще между самоедами распространено безотрадное верование, что со смертью все кончается для человека. Хотя они и полагают, как кажется, что покойник продолжает еще несколько времени жить в могиле, и, вероятно, потому складывают подле него очаг, кладут ножик, топор, копье, деньги и другие жизненные потребности и по временам режут даже на могиле его оленя; но как скоро труп сгнил, все убеждены уже, что для него все кончено. Одни тадибеи одарены бессмертием, по смерти они превращаются в так называемых итармов
[56], которые, судя по всему, что мне удалось о них узнать, совершенно тождественны с тадебциями Канинской тундры. Про них рассказывают, что они то отдыхают в могилах своих, то скитаются по земле, особенно по ночам, и, смотря по тому, каковы они были при жизни, делают добро или зло. Вообще же итармов боятся, и самоед не любит много разговаривать о них».
Рассказы старухи самоедки заняли меня так, что я преспокойно выносил дождливую и бурную ночь под открытым осенним небом, между тем моя Мельпомена не раз вынимала из-за пазухи зеленую сткляницу и подкрепляла себя живительною влагою. Результатом этих повторительных подкреплений было то, что она заснула, наконец, у огня, а я возвратился в свою палатку, завернулся в олений мех и улегся на постель из кирпичей и оселков. В следующее утро
(22 сентября) подул опять попутный ветер. Он дул из густой тучи, которая в то же время обливала нас сильным ливнем. Погода была пасмурная, туман покрывал землю. Сквозь него виднелись огромные болота, и по ним кое-где склонившаяся сосна, пожелтевшая береза, медведь, поднятый криком корабельщика, хищный орел, стороживший добычу. Грустное впечатление, производимое таковой картиной, уменьшалось несколько только тем, что, благодаря попутному ветру, мы плыли довольно быстро. К вечеру показались вдали огоньки, разложенные на берегу ижемскими крестьянами, которые отправлялись на встречу к оленьим стадам своим и расположились тут на ночлег. Мы пристали к ним и вздумали устроить небольшую пирушку на пустынной Усе. Пригласив ижемцев на наш просторный каюк, мы уселись вокруг опрокинутой кадки, которая заменяла нам стол. Пока пили чай, зыряне сидели с важными, угрюмыми лицами, но как только пошла вкруговую бутылка коньяку, флегматические физиономии их понемногу начали оживляться, и я тотчас же воспользовался этим случаем, чтобы завести речь о житье самоедов и об их отношениях к инородным поселенцам тундр. Вопрос чрезвычайно щекотливый, потому что самоеды обвиняют инородцев, особенно зырян, в разных неправдах, и убеждены, что в настоящее жалкое положение повергли их бессовестные притеснения именно этих поселенцев. Зыряне же почитают себя, напротив, благодетелями самоедов и всячески стараются оправдать свои действия. Я приведу здесь некоторые из этих оправданий и постараюсь с возможною точностью передать слышанное мною в беседе подле опрокинутой кадки. Вот что говорил старший из всего общества, ученый церковный староста:
«Я уповаю на Бога и верю, что ничто на свете не делается без Его воли. Если, как известно, большая часть самоедских оленей перешла к зырянам, то и это, без всякого сомнения, произошло по воле Божьей. Конечно, и тут, как везде, было не без вмешательства лукавого; но и его делам попускает Бог и будет попускать всегда ради премудрых своих целей. Так как ты
[57], чужеземец, татарской веры и не знаешь истинного света, то я и объясняю тебе примером, как с самого начала света Господь обращает на добро все злые дела дьявола. В Писании сказано, что Бог сотворил в первые шесть дней небо и землю, солнце, месяц и все звезды, человека, травы, животных и прочее. Дьяволу тотчас и захотелось как-нибудь поворотить создания Господа; он испортил человека, отравил многие травы, породил змей и других вредных животных, а из рыб — щуку и налима. Как только Ангелы заметили этих рыб, они поймали их, принесли к Богу и спросили: что с ними делать? Бог посмотрел на рыб, увидал в их голове крест и благословил их так, что теперь они чисты и живут на пользу человека. Таким образом, что Бог благословит, того нечего хулить человеку, хотя бы лукавый и замешался тут. Божье благословение очевидно над нашими оленьими стадами, потому что они умножаются и улучшаются с каждым годом и составляют главное наше достояние. А если ты спросишь, ради чего же даровал нам Господь самоедских оленей, — мы и это растолкуем тебе. До прибытия поселенцев на тундры все самоедское племя жило в языческом мраке и нечестии. Они приносили жертвы простым древесным пням, и солнце благодати было еще скрыто от них непроницаемым туманом. О делах божественных они знали не больше собак и песцов, почти так же несведущи были они и в делах житейских. Не знали огнестрельного оружия, у них не было сетей, никаких порядочных рыбачьих снарядов, не умели оберегать своих оленей, не имели никакого понятия о порядочном хозяйстве. Вот поэтому-то Бог и послал на тундры русских и зырян учить самоедов и божеским, и житейским делам. Он отдал вместе со стадами и самих самоедов к нам в ученье. Теперь они наши слуги; когда же кончат ученье, сделаются настоящими православными христианами, Господь, наверное, взыщет и их своею благостью, потому что взыскивает всякого, кто уповает на Него».
Другой собеседник говорил следующее: «Есть пословица, что люди бывают всякие, и это как между христианами, так и между язычниками. Так, есть много добрых и порядочных людей между самоедами, много плутов и мошенников и между зырянами, в особенности между бродящими по тундрам. Они предпочитают места пустынные, потому что там безнаказаннее могут злобствовать. Но вопрос еще, кому они верят более: самоедам или самим зырянам. Жаловаться самоеды могут разве на прежние притеснения, теперь же у них взять нечего, и кому вздумается попользоваться чужим добром, идет, разумеется, не к ним, а к нам. Так, у каждого из сидящих здесь пропадает ежегодно немало оленей, их крадут иногда и самоеды, но чаще свои же, зыряне. Мы нисколько не защищаем их, напротив, были бы очень рады, если бы их переловили и поступили с ними по закону. Очистят от них тундры — теперешние раздоры зырян с самоедами прекратятся сами собою. Тогда самоеды сознаются, что мы приносим им не вред, а пользу».
«И то самое, что стада самоедов, — говорил третий, — перешли в наши руки, — польза всей страны. У самоедов олени всегда были совершенно бесплодным имуществом, потому что самоеды живут как-то навыворот. Богатый лежит себе лежмя в своем чуме, собирает к себе бедную родню свою, кормит ее, пока наконец не обнищает сам и не пойдет так же кормиться на счет другого
[58]. У них нет, таким образом, никакой возможности что-нибудь заработать. Мы же доставляем нашими стадами и работу, и хлеб сотням зырян и самоедов. Мы заставляем их выделывать шкуры, шить платье для нашего собственного потребления и для продажи, пасти наши стада, ловить рыбу и зверя. На оленях мы вывозим из Сибири муку, рыбу и другие потребности. Мы ездим на рынки, продаем выделанные кожи, оленьи шкуры и волос, меховую одежду и проч, и возвращаемся в нашу бедную сторону с деньгами. Одним словом, мы умеем потреблять оленей на общую пользу и только ими и можем существовать в этой дикой стране».
Других, новых мнений об этом предмете не было: приводили, разбирали только вышеприведенные и в конечном результате все решили единогласно: 1) что зыряне и русские поселенцы вообще много содействовали и содействуют образованию и облагорожению самоедов; 2) что в настоящее время самоеды не терпят от поселенцев никаких важных обид, напротив, зарабатывают у них деньги, и 3) что зыряне без оленьих стад решительно не могут существовать в этих бесплодных местах. Спросите об этом самих самоедов, и они скажут, что, конечно, между поселенцами есть честные люди, помогающие им как в божеских, так и в житейских делах, но что вообще они ненавидят этих чуждых им пришельцев, потому что они воровством и обманом присвоили себе их стада, отвели даже детей и сродственников их в некоего рода вавилонский плен, потому что они затрудняют их существование на тундрах, потравляя своими многочисленными стадами весь олений мох, подрывают звериные ловы, надувают их в торговле, крадут у них оленей и проч. Поэтому все самоеды, у которых еще есть какие-нибудь оленьи стада, ничего так не желают, как или совершенного удаления поселенцев с тундр, или, по крайней мере, точного ограничения их каким-нибудь пределом, чтоб они не могли господствовать по всей самоедской стране.
Но оставим политику самоедов и поедем далее. В следующую за этой беседой ночь ветер совсем утих, пришлось тащить каюк бечевой вдоль берега. Таким образом мы добрались до места, где впадает в Усу большой приток ее Лемва — в 90 верстах от Роговой. Тут снова подул попутный ветер, но только что распустили парус — переломилась мачта от того, что не укрепили порядком канатов. Постановка новой мачты задержала нас здесь целый день, но со старою мачтою как будто бы переломило и наше счастье. Следующие трое суток постоянно дул противный ветер, кроме того, Уса становилась все быстрее и в некоторых местах оказывалась так мелкой, что каюк наш, тащимый опять бечевой, нередко касался дна. После немалых усилий мы добрались-таки 27 сентября до первой цели нашего путешествия — маленькой, никем не обитаемой хижины на берегу Усы в 40 верстах от Урала.
В этой тесной хижине, или юрте, остановилось пятнадцать человек с тем, чтобы, как выпадет снег, всем ехать в Сибирь. Опасаясь слишком долгого ожидания зимы в грязной, сырой, темной и дымной избушке, я вздумал было отправиться тотчас же в Обдорск пешком, но зыряне почитали такое путешествие столь трудным и опасным, что никак не соглашались дать мне проводника, не желая взять на свою совесть и ответственность весьма возможное несчастье. Таким образом, мне поневоле пришлось остаться, и тут главною моею заботою сделалось, как бы убить время. О каких-либо занятиях нечего было и думать, потому что от духоты, дыму и чаду и сами зыряне не могли оставаться весь день в юрте; но и под открытым небом было не лучше: при постоянно западном ветре дождь не переставал ни на минуту. Несмотря на то, я бродил неутомимо по пустынным окрестностям и иногда заходил так далеко, что с трудом отыскивал нашу юрту. Вся эта местность была сплошная тундра. Тундрой, как я уже заметил выше, называется вообще страна безлесная — голая, обнаженная почва. На тундре бывают возвышения и долины, болота, трясины, озера, реки и т.д., но почти без всякой растительности. Очень может быть, что микроскопическое исследование открыло бы и на ней целый мир живых существ, но простому глазу она не представляет ничего, кроме низкого ивняка, серого оленьего моха, весьма немногих злаков и множества тайнобрачных растений. Из животных, кроме оленей, здесь встречаются только волки, лисицы, песцы, вороны, совы и несметное множество крыс и мышей. Поэтому человека, видевшего печальную пустынность тундр, и не удивит нисколько странное верование самоедов, что Бог смерти царит над землею, Елисейские же поля находятся под нею, в ее недрах. Поэтому они обыкновенно и не зарывают в землю своих покойников, а хоронят их поверх земли, над которой во тьме ночной летают мрачные духи тадибеев. Глубоко же в недрах ее живет, по их понятиям, добрый и счастливый народ, называемый ими сиртеями (Siirtjei)
[59], богатый мамонтами, которые служат ему вместо оленей, бобрами, соболями, золотом и серебром.
В одну из моих прогулок по тундре внезапно поднявшаяся непогода заставила меня искать убежища под одиноким деревом на берегу реки. И как же был я изумлен, увидав неподалеку от него четырехугольный ящик аршина в три длиною и в аршин шириною. Ящик этот, сколоченный из грубых, необтесанных бревешек, стоял на нескольких врытых в землю отрубках и был покрыт двумя рядами бревешек. Свалив с него часть последних, я увидал в нем гниющий человеческий труп.
Что же касается до моего пребывания в тесной зырянской юрте, оно с каждым днем становилось невыносимее. От ежедневного обращения, присутствие чиновного иноземца перестало воздерживать моих спутников, и они начали предаваться необузданному пьянству. Конечно, забавно иногда трезвому смотреть на смешные проделки пьяных, но постоянное зрелище их противно. Драма, разыгрываемая в кабаке, в сущности, нисколько не отличается от представляемой сумасшедшим домом. Опьянение — решительно преходящий приступ помешательства.
Наконец в конце октября наступила зима. Олени зырян прибыли; приступили к сборам в дорогу. Составился караван из 150 саней; он разделился на 15 так называемых аржишей (Arjishe)
[60] — меньших связных караванов саней в десять. В каждые сани впрягается обыкновенно по два оленя, которых привязывают ремнем к едущим впереди, и таким образом заставляют следовать за ними. Впереди всегда едет один человек в легких санях, запряженных тремя или четырьмя оленями. Эти сани так коротки, что управляющий ими сидит обыкновенно поперек их, спиною направо, свесив ноги наружу. Неловкость и утомительность такого путешествия заставила меня предпочесть им обыкновенные обозные, в которых мог по крайней мере принять полулежачее положение и смотреть направо и налево. Но в первый день и смотреть-то было нечего, потому что выехали поздно вечером и вскоре должны были остановиться и разбить две бывшие с нами палатки
[61]. Это делается так: сперва вбиваются в землю две большие жерди, верхние концы которых соединяют петлей; в эту петлю всовывают другие жерди и, разводя их книзу, насколько требует величина палатки, втыкают в землю. За сим обтягивают этот остов двумя рядами сшитых оленьих шкур, которые обвязывают накрепко веревками, а на случай непогоды привязывают и всю палатку или к близ стоящему дереву, или к тяжело нагруженным саням, потому что без этой предосторожности вся эта постройка легко может быть снесена ветром. Внутри палатки, разделенной на четыре отделения, устилают землю досками, хворостом, рогожами или оленьими шкурами. Очаг состоит из железной решетки и двух прикрепленных над нею к стенам палатки жердей, к которым прицепляют котлы. Но варево на тундре не главное еще, потому что не только самоеды, но даже и русские, и зыряне привыкли есть сырую рыбу и сырое мясо. Я встречал даже и образованных людей, которые ели такую пищу, и именно мерзлую рыбу, которая почитается превосходнейшим предохранительным средством против скорбута. Как бы там ни было, на тундре необходимость приучит и к употреблению сырой пищи. Случается нередко, что в продолжение нескольких дней или не найдешь никакого топлива, или за непогодою нет никакой возможности разбить палатку; даже и при благоприятных обстоятельствах нечасто удается устроить настоящий обед. Поэтому каждый запасается обыкновенно куском сырого мяса или, еще чаще, любимым оленьим горлом и ест, когда вздумается. Впрочем, когда можно, каждое утро и каждый вечер разводят огонь и ставят на него котел. Разбита палатка, и есть надежда на ужин. Путники пробираются в нее один за другим и усаживаются подле очага, весело поглядывая на котелки, из которых подымается приятный пар. В нашем пестром кружку наслаждение жизнью проявляется, однако ж, чрезвычайно разнообразно. Русский распевает веселые песни, шутит, подсмеивает, дурачится; зырянин читает молитвы, рассказывает жития святых и преподает нравственные наставления; самоед сидит тихо и внимательно слушает, что говорят люди умнейшие. Только один из последних иногда подает голос. Зыряне называют его дураком, но вся его глупость в том, что он всему смеется и отделывается шуткой от всякой насмешки, всякого оскорбления, даже от брани. А что он нисколько не был глуп — в этом я убедился в первый же наш ночлег, и вот по какому случаю. По окончании ужина хотели было отдать оставшееся этому самоеду, но так как на нем не было креста, то и обнаружили опасение, что он опоганит посуду и заразит своей языческой греховностью. Вслушавшись в рассуждения зырян о таковом обстоятельстве, самоед схватил тотчас же лежавший подле него кусок льда и, придав лицу плачевнейшее выражение, принялся тереть и скоблить им невинный язык свой. Хотя и эта выходка была принята за сумасшествие, хитрый самоед достиг, однако ж, своей цели — получил все оставшееся от ужина. За сим все улеглись спать. Утро следующего дня было великолепное. По-моему, далекий Север не представляет ничего лучше ясного звездного осеннего утра, когда земля покрылась уже снегом, лес чернеет, а лед блестит еще, когда воздух чист и легок, как тончайший эфир, когда ни ветерок, ни птица, ни один звук не нарушают глубокого безмолвия природы.
Что касается до нашего путешествия, то мы ехали страшно медленно. В первые четыре дни (25—28 октября) мы сделали около 40 верст, но до Урала все-таки не добрались, потому что для удобнейшего переезда через горы необходимо было сделать значительный объезд. Потом наступила оттепель, продержавшая нас целых два дни на одном месте. Октября 31 мы снова пустились в дорогу и днем переехали Кочпель, один из многочисленных притоков Усы. Здесь я видел последние сосны на западной стороне Урала, ночью пошел дождь и лил два дня, мешая ехать далее. 3 ноября мы снова были обрадованы ясным утром, и тут я увидал впервые Урал во всем его великолепии. Из среды высоких волнообразных гор гордо поднимал «Князь Урала»
[62] белое чело свое, над которым сверкали тысячи звезд. Мерцание их придавало какую-то жизненность недвижным его очеркам. «Видишь, Князь нынче кроток, но он не всегда таков», — сказал незаметно подкравшийся ко мне вышеупомянутый самоед. За сим он принялся рассказывать мне о страшных бурях, свирепствующих на Урале, низвергающих камни и целые скалы, и как многие из его братьев при переезде через Урал погибли от них. Самоеды так боятся «Уральского Князя», что никогда не переезжают через хребет, не давши верблюдам
[63] нескольких дней отдыха у подошвы его. На свежих верблюдах переезд совершается в один день. Местами переезда служат разные горные проходы, или так называемые «ворота», коими часто хребет пересекается. Проход состоит из более или менее длинных горных возвышенностей
[64], и довольно значительных, хотя издали они и походят на долины. Мы ехали по горной цепи, которую думают прорезать каналом для соединения двух рек, вытекающих из этого хребта, и из которых одна —
Елец — впадает в Усу, а другая — в один из притоков Оби, именно в Падягу, или Собь
[65]. Таким образом, чрез соединение Оби с Печорою северные продукты могли бы идти за границу через Пустозерск. Если этот план когда-нибудь приведется в исполнение, то он неминуемо окажет величайшее влияние на культуру страны и на цивилизацию диких ее обитателей.
Мы скоро и благополучно добрались до вершины прохода
[66], но только что стали спускаться на другую сторону, как вдруг с запада поднялась такая страшная буря, что и на восточной, закрытой от ветра, стороне хребта немало стоило нам труда разбить палатки. Ночью ветер приутих, и в следующий день (4 ноября) мы снова пустились в дорогу. Мы ехали в юго-восточном направлении вдоль левого берега реки Соби по весьма неровной и густо заросшей соснами и лиственницей местности. Через три дни медленного и трудного пути лесом мы оставили Собь вправе и вскоре очутились на огромной тундре, ехали по ней полтора дни и затем поднялись на возвышенность, с которой увидали наконец Обь со всеми ее бесчисленными рукавами, островами и притоками. Так как река не стала еще, то мы и расположились на этой возвышенности, послав нескольких человек отыскать остяцкие юрты и лодку, на которой бы я мог переправиться на другую сторону реки. К вечеру посланные возвратились с вестью, что хотя и нашли несколько юрт, но что остяки отказываются перевезти меня, отзываясь неимением лодки. Опасаясь, чтобы ночью они не разбежались, я велел запречь четырех оленей и отправился в одну из юрт собственной особой. Здесь меня встретил пожилой остяк предложением убираться назад тою ж дорогой, которой приехал. Я прикрикнул, и остяки так перепугались,что тотчас же бросились мне в ноги, но перевезть меня через реку все-таки не соглашались. Причиной этого упорства было, очевидно, опасение, что небольшие льдины, проносившиеся уже по реке, легко могут повредить и даже разбить лодку. Угрозы и еще более обещание заплатить чего стоит лодка довели их, наконец, до признания, что у них есть старая, негодная рыбачья лодка. Посадивши одного остяка к себе в сани, я поехал осматривать ее. Дорогой остяк признался, что у него есть другая лодка, потом вспомнил, что есть еще третья, четвертая, пятая, наконец, шестая, не считая малых лодок.
В следующий день (9 ноября) я благополучно переправился через Обь и затем добрался до Обдорска после почти двухмесячного странствования, сопровождавшегося такими трудностями, каких не испытывал ни в одном из моих путешествий ни прежде, ни после.
IX
Хотя последнее долгое и трудное странствование истощило мои силы, порасстроило здоровье и послабило мое мужество, тем не менее по приезде в Обдорск я был весел и счастлив мыслью, что нахожусь, наконец, на священной почве матери Азии, дышу воздухом, вздувшим некогда первую жизненную искру в груди наших праотцев и доселе еще поддерживающим существование многих жалких потомков их. Судьба загнала их частью к холодным вершинам Урала, частью к еще холоднейшим берегам Ледовитого моря и оковала их дух цепями, почти столь же твердыми, как лед, оковывающий природу теперешней их родины. Эти цепи — грубость, невежество и дикость. Конечно, и эта грубость соединяется с многими прекрасными качествами; иногда мне приходило даже в голову, что светлый инстинкт, невинная простота, добродушие этих так называемых детей природы могли бы во многих отношениях пристыдить европейскую мудрость; но вообще в продолжение моих странствований по пустыням, к крайнему сожалению, я замечал рядом с хорошими чертами характера столько отвратительного, грубо животного, что я не столько любил, сколько жалел их. Это нисколько не уменьшило, однако ж, моей радости, когда я увидел себя в стране моих мечтаний, посреди племен, производимых более или менее прямо от матери Калевы
[67]. Именно с целью познакомиться с этими племенами я и отправился в Обдорск, самое северное поселение Западной Сибири, невдалеке от впадения Оби в Ледовитое море. В настоящее время Обдорск не имеет особенного значения, но прежде имя его было славно и потому внесено даже в царский титул. Слово Обдорск — полузырянское и значит «Обское устье» (от
Обь и
дор — крайнейшее). Очень может быть, что зыряне и основали этот малый поселок, исторически достоверно по крайней мере то, что они издавна предпринимали торговые поездки в Обдорск. Гораздо позднее начали посещать это место и русские из Тобольска и Березова; они строили себе лачуги и амбары, но жили здесь только временно. Затруднительность поездок сюда заставила их вскоре основываться в этой пустынной стране и навсегда. Русские начали здесь селиться, впрочем, никак не более ста лет тому назад; большая же их часть живет здесь не более тридцати лет по паспортам, ежегодно возобновляемым. Кроме того, немногочисленное здешнее население увеличивается еще небольшим числом ссыльных. Между ними один выдавал себя за поляка, другой за калмыка, третий за киргиза. Кроме того, я нашел здесь довольно много торговцев из татар и зырян. Природные же жители этой страны — остяки и самоеды. Многие остяцкие семейства имели вокруг селения постоянные юрты, ожидали еще прибытия в скором времени и других кочевых остяков с значительным числом самоедов.
Поэтому понятно, что я выбрал Обдорск местом своей деятельности. Это был мой Лондон, Париж, Берлин, а между тем в нем не было ни одной книги, кроме Сибирского уложения, ни одной газеты, кроме вечерних дамских бесед, ни одного музея древностей или естественных произведений, хотя все окружавшее меня заняло бы почетное место в любом из них. Хуже всего было то, что сначала я не мог найти ни одного христианина, который интересовался бы хоть чем-нибудь, кроме барышей и процентов. Да и чего же было ждать от людей, отказавшихся от всех радостей и наслаждений цивилизованной жизни для того, чтобы хитростью и обманом отнимать у простодушных, легковерных туземцев достояние их, добытое трудом и потом. Успех в этом развратил большую часть этих искателей счастья и поверг их в животную грубость, далеко отвратительнейшую грубости дикарей. Отыскивая по приезде в Обдорск квартиру, я зашел в дом мещанина, переселившегося сюда из Тобольска, и застал все семейство сидящим на полу и пожиравшим сырую рыбу. Вскоре затем я познакомился с одним из образованнейших людей города, занимавшим незначительное казенное
место, и он хвастался мне, что в продолжение полугода не ел ничего, кроме сырой рыбы. Вышеупомянутый поляк, бывший прежде поваром и, по его словам, игравший блестящую роль в петербургских кухнях, жаловался мне, что его искусство мало приносит ему выгод в Обдорске, потому что люди живут здесь ä la Samoiede. У них есть дома, у некоторых даже двухэтажные, но все они выстроены из старого барочного леса и зимою плохо защищают от холода и ветра. Обыкновенная одежда жителей почти такая же, как у самоедов и остяков. Многие из них походят на самоедов и тем, что содержат более или менее значительные оленьи стада. Коровы и овцы также не редки, но лошадей нет совершенно, их заменяют здесь олени, а иногда и собаки. Впрочем, чтобы быть справедливым к Обдорску, я должен прибавить, что в домах некоторых здешних купцов и мещан веет все-таки тобольским духом или, по крайней мере, чем-то подобным. В них я видал и хорошие кафтаны, и прекрасные шали, и большие зеркала, и мускатное вино, и приятное обращение, и суворовский табак № 1. К замечательностям Обдорска принадлежит, между прочим, фамилия X..., весьма, кажется, распространенная в Березовском уезде. По рассказам, их предок во время войны Петра Великого с шведами изменил своему государю и по окончании войны ушел в этот отдаленный край, избегая опасности быть выданным. Как бы то ни было, несмотря на то, что меня почитали шведом, и это нисколько не расположило ко мне ни одного из членов этого семейства. Завидев меня даже издали на улице, они спешили скрыться. Точно так же неприязненно чуждались меня и другие жители, видевшие во мне какого-то соглядатая, чрезвычайно опасного для их торговых дел. Эта подозрительность была тем естественнее, что я беспрестанно возился с туземцами, выпытывал от них не одни филологические и этнографические, но и статистические сведения всякого рода.
Сначала мои занятия шли довольно плохо, потому что в обдорских юртах жило лишь несколько бедных полуобрусевших остяцких семей, большая же часть туземцев бродила еще по своим пустынным тундрам. Вскоре, однако ж, начали прибывать и остяки, и самоеды на Обдорскую ярмарку, продолжающуюся от начала зимы до февраля. На это время они располагаются с своими стадами и чумами вокруг городка. Жизнь его приняла за сим совершенно новый, странный и пестрый вид. Каждый день приходили многочисленные толпы сынов и дщерей тундр, закутанные в меха, расхаживали тихо по улицам и глазели на высокие дома. Трудно было поверить, чтоб они являлись сюда для покупок и продажи; они казались праздными посетителями рынка, потому что не приносили на него никакого товару. Но мне говорили, что под оттопырившимися шубами их скрывались черные и бурые лисицы и кое-что еще. Товар этот показывался, однако ж, не каждому, продавец пробирался тайком к какому-нибудь приятелю и тут после надлежащего угощения показывал ему свои богатства. Дикарь знает очень хорошо, что при такой скрытной торговле он много теряет, а все-таки по врожденной робости боится открытого торгу; к тому же и не в его воле продавать товар всякому больше дающему. Из тысячей туземцев, приезжающих каждый год на Обдорскую ярмарку, весьма мало таких, которые не были бы должны здешним купцам, мещанам и казакам гораздо больше, чем могут привезти. Поэтому осмелься кто из них обратиться с привезенным товаром к кому-нибудь помимо заимодавцев, последние не позадумаются не только отобрать все достояние дикаря, но и закабалить его самого в батраки свои. Если же и выищется такой смельчак, что решится уступить хоть часть своего товара постороннему, то и это делается, разумеется, с величайшею осторожностью, усиливающей таинственность, которая более всего поражает посетителей Обдорской ярмарки. Но в настоящем году эта тоскливая таинственность была усилена еще более слухом, что торговля начнется тогда только, когда казна соберет всю подать и со всех племен. Слух этот не мог не подействовать на туземцев весьма неблагоприятно, потому что многим из них по неимению других средств к прокормлению себя пришлось бы перерезать немногих оленей, без которых кочующая жизнь их решительно невозможна. Как обыкновенно, они приехали в Обдорск в надежде тотчас же променять свои товары на хлеб, муку и другие жизненные припасы; вследствие же отсрочения мены до окончания сборов податей им пришлось бы голодать почти целый месяц, потому что наиболее отдаленные самоеды могли прибыть в Обдорск только в феврале. Вскоре и в самом деле прибыл чиновник из Тобольска, запечатал амбары купцов и запретил всякую торговлю. Это возбудило страшный ропот: туземцы громко жаловались на несправедливость в отношении к главному их интересу — интересу желудка; купцы на то, что не поспеют вовремя в Ирбит и потому потерпят большие убытки. Общая выгода соединила обе партии, и они решили во что бы ни стало убедить тобольского чиновника снять запрещение; но депутация за депутацией возвращалась от него без всякого успеха. Вдруг начал ходить слух, что туземцы замышляют разломать амбары, сжечь и разграбить весь город. Горожане верили ему, тем более что несколько лет был открыт точно такой же заговор, и зачинщики были суждены и наказаны. И в самом деле на улицах было уже несколько больших смут. Я видел в том не больше, как военную хитрость, но чиновник, опасаясь ответственности за возможное возмущение, решил снять запрещение, обеспечив взнос податей поручительством купцов. За таковым примирением, к общему удовольствию выгод казны, купцов и туземцев, торговля началась по-прежнему тихо и таинственно.
Амбары наполнялись мало-помалу пушным товаром (мехами лисиц, волков, белых медведей и других зверей), сшитыми платьями из оленьей шкуры, перьями, оленьим мясом, мороженой осетриной, мамонтовой костью и т.д. В обмен за все это туземцы брали муку, печеный хлеб, табак, котлы, чугуны, стеклянную посуду, ножи, иглы, медные пуговицы и кольца, стеклянные бусы и множество других мелочей. Публичная продажа хлебного вина в Обдорске не дозволена, но привоз его не запрещен, безусловно, по вниманию к той пользе, которую оно может оказывать в медицинском отношении, употребляемое с умеренностью по предписанию врача. Лица же и походка туземцев показывали ясно, что во время пребывания в Обдорске они не упускают случая пользоваться этим лекарством и ревностно пекутся о своем здоровье. В большом ходу также на Обдорской ярмарке другое лекарственное средство — сассапариль, известная в Сибири под именем «дорогой травы» и употребляемая туземцами против всех болезней. Так как употребление этого лекарства требует осторожности, которой туземцы не могут соблюдать в своих жалких юртах при кочевом образе жизни, то иногда больные переселяются на время лечения в Обдорск и поручают уход за собою какому-нибудь местному жителю. У моего хозяина был также пациент, он помещался в уголке комнаты, соседней с моею. Родом он был остяк и несколько уже лет страдал болями в суставах и костях. Предполагая, что он страждет так называемой дурной болезнью, я вздумал однажды разведать у него о прежнем его житье и спросил: давно ли он женат? «Года-то не помню, а уж очень давно», — отвечал остяк. «Не припомнишь ли, по крайней мере, сколько тебе было лет, когда взял жену?» — «Да жены я не брал, по шестому году отец купил мне девочку, с тех пор я и живу с нею».
Несмотря на общие жалобы купцов, что Обдорская ярмарка падает с каждым годом по причине постепенного обеднения туземцев, на нее съехалось все-таки много всяких торговцев: купцов, мещан, крестьян и казаков. Большая часть приезжих были березовцы, из Березова же был и старый отставной казак, с которым я очень сблизился по той причине, что он занимал другой угол комнаты, в которой лежал больной остяк на своей оленьей шкуре. Этот человек интересовал меня более других по тому благоговению, которое он питал к памяти Меншикова, жившего в Березове в ссылке; я должен сказать, что это чувство разделяют с ним и все березовцы. Старик не мог говорить без одушевления об опальном вельможе, каждое слово его он помнил, как святыню. Он знал однообразную жизнь Меншикова в ссылке лучше всех легенд, которые твердил с утра до вечера. По его словам, Меншиков, прибыв в Березов, начал серьезно помышлять о своей душе, причем пришел к сознанию, что во всю предшествовавшую жизнь не имел других целей, кроме собственного возвышения. Дома и всенародно признавал он себя виновным перед своим государем и вполне достойным тяжкой казни, постигшей его. Он видел в ней не казнь, но небесное благодеяние, отверзавшее ему путь ко вратам искупления. Чтобы загладить грехи свои, он решился провести остаток дней в подвигах покаяния, сооружая в Березове церковь, работал при этом и сам. Когда церковь была готова, он занял при ней должность пономаря, которую и отправлял с величайшей точностью. Ежедневно входил он первый в храм и последний выходил из него, и часто по окончании божественного служения обращался к собравшемуся народу с духовным поучением. В памяти казака хранился неистощимый запас этих поучений, говоренных в разных обстоятельствах Меншиковым, не предполагавшим, что его слова сохранятся в памяти благодарных березовцев и более чем через сто лет будут повторяться с благословениями. О двух других любимцах великого императора, также сосланных в Березов — о Долгорукове и Остермане, — добрый казак не мог ничего рассказать мне. Из рассказов же его о Меншикове упомяну еще о том, что земные останки последнего были вырыты в 1821 году, спустя 92 года по погребении, и найдены нисколько не испортившимися.
Говоря о моем знакомце из Березова, я не могу не рассказать и о другом моем знакомом — чиновнике из Тобольска. Г. Шершеневич, родом поляк, состоит на службе в двенадцатом классе, но если судить о людях по степени образования и познаний, то, вероятно, во всей Тобольской губернии не найдется человека, равного ему. Он получил воспитание в Одессе, учился с большим успехом в Восточном институте и после того еще долго занимался по собственной охоте. Он намеревался посвятить себя исключительно ученым трудам, но, встретив неудачи на этом поприще, решился искать счастье в Сибири. Вскоре по прибытии в Тобольск определился он к гражданскому губернатору, и ему было поручено составить проект управления остяков и самоедов, живущих в Тобольской губернии. Для добросовестного выполнения этого поручения он нашел необходимым познакомиться с обычным правом этих племен, для этого, собственно, он и приехал в Обдорск. Но, кроме того, ему были даны еще другие поручения; между прочим, генерал-губернатор Западной Сибири приказал ему собрать этнографические, исторические и статистические сведения всякого рода касательно дикарей, живущих по берегам Ледовитого моря. Так как я сам занимался некоторое время тем же предметом, то мне было очень приятно сообщить ему все сведения, которыми я мог быть ему полезен. Он со своей стороны оказал мне еще больше услуг не столько своим прекрасным столом, сколько приятным обществом и еще более тем, что по своему служебному положению мог вызывать людей, нужных и для него, и для меня в том или другом отношении. Результаты моих исследований, сделанных при таких пособиях, будут обстоятельно изложены мною в сочинении более обширном, здесь же поговорю только о племени обдорских остяков, о котором не сказал еще ни слова. На этот раз я вовсе не оставляю в стороне вопрос об их происхождении, об их несомненной родственной связи с финнами и магиарами
[68], равно как и о других исторических отношениях, и скажу только в кратких словах об их управлении, религии, нравах и образе жизни.
Остяки, подобно самоедам, распадаются на множество небольших родов, из которых каждый образует маленькое государство или, по крайней мере, большую семью
[69]. У остяков, принявших христианство, такое разделение уже исчезло, ибо ими управляют русские чиновники по русским законам. Только обдорские остяки сохраняют еще патриархальное учреждение, поддерживающее мир и согласие, охраняющее нравственность и предотвращающее разные преступления. Сила, побуждающая таковое целое к добродетели, есть любовь ко всему роду. Каждый род состоит из нескольких семей, имеющих общее происхождение и состоящих в дальнем или близком родстве между собою. У остяков и еще чаще у самоедов встречаются роды, состоящие в дальнем или близком родстве между собою. У остяков и еще чаще у самоедов встречаются роды, состоящие из сотен и даже тысяч лиц, не могущих уже определить степеней родства между собою, но тем не менее они считают себя родственниками, не заключают между собой браков
[70] и почитают обязанностью помогать друг другу. Семьи, принадлежащие к одному роду, не расходятся обыкновенно и во время кочевания, и богатый делится своим имуществом с бедными того же рода. Остяки вообще бедны и живут большей частью тем, что даст день, а потому и помощь, оказываемая ближнему, состоит обыкновенно в уделении ему денной добычи. Особенно замечательно, что никто между ними не просит милостыни, но каждый почитает себя в полном праве без церемонии пользоваться имуществом своего соседа. Понятно, что где все мыслят подобным образом, там размолвки должны быть чрезвычайно редки. Между тем каждый род имеет старшину, которого обязанность — сохранение порядка и согласия в роде. Когда два родича поссорятся и не покончат дела полюбовно, оно обсуждается старшиной, который тут же, без всяких юридических формальностей, произносит решение. Обе стороны обыкновенно бывают довольны его решением, в противном же случае они жалуются высшей инстанции — князю. Многие роды, живущие поблизости друг от друга, признают с незапамятных времен общего главу, которого называют князем
[71]; этот титул утвержден формальным постановлением Екатерины Второй за остяцкими князьями Обдорска и Куновата в Березовском уезде. Каждый князь решает в своем округе все процессы, за исключением тех, которые по старым русским законам кончаются смертной казнью. Главная же обязанность князя состоит в сохранении согласия между родами и улаживании споров за луга, рыболовные и звероловные угодья и проч. Ему подчинены все старшины, сам же он зависит только от государственных властей и преимущественно от губернского правления и земского суда. Сан князя, равно как и старшины, наследствен и переходит от отца к сыну. Если сын несовершеннолетний, то община назначает к нему опекуном дядю или какого-нибудь другого близкого родственника. Если же сына нет, то место умершего занимает ближайший родственник его. Ни князь, ни старшины не получают никакого жалованья, пользуются только добровольными подарками подчиненных.
Кроме родства, лица одного рода связываются еще общим идолослужением. Каждый род имеет издревле своих собственных кумиров, которые часто хранятся и чествуются всем родом жертвами и другими обрядами в особенной юрте. Эти «юрты-кумирни» состоят обыкновенно в заведывании духовного лица; это лицо в одно и то же время и прорицатель, и жрец, и врач, и пользуется величайшим уважением. Так как вся остяцкая религия, в сущности, только магия, то и жрецы по преимуществу прорицатели или шаманы. Как весь род, так и частные лица обращаются к ним с вопросами в сомнительных обстоятельствах, но шаман никогда не дает ответа прямо от себя, во всяком случае он сперва вопрошает богов и потом уже возвещает решение их.
Он не может, однако ж, вопрошать высшего, небесного бога, называемого остяками Турм (Турум)
[72], ибо Турм говорит с людьми только гневным голосом грома и вихря. Полагая, что Турм всюду следит за человеком, что от него не скрывается ни добро, ни зло и что он непрестанно воздает каждому по его заслугам, его все-таки почитают существом недоступным для смертного и необыкновенно страшным. Молитвы не доходят до него, он управляет судьбами мира и людей по неизменным законам справедливости. Его нельзя умилостивить никакими жертвами, ибо он смотрит только на внутренние достоинства людей и по ним распределяет свои дары, не обращая внимания на молитвы и жертвы. Поэтому, если в каких-нибудь обстоятельствах остяк имеет нужду в верховной помощи, то он долей обращаться к другим, подчиненным божествам. Последние изображаются различно, и изображения их частью составляют собственность целого рода, частью принадлежат отдельным семействам и лицам. И те и другие иногда вовсе не отличаются друг от друга, по крайней мере они большей частью деревянные, имеют человеческий вид и представляют то мужские, то женские существа. Общественные кумиры отличаются от частных только большим украшением
[73]. Некоторые одеты в красные одежды с ожерельями на шее и другими украшениями. Лица у многих обложены листовым железом; мужские кумиры облечены нередко в панцирь и с мечом при бедре
[74]. Общественные кумиры хранятся, как я уже сказал, в особенной юрте, за неимением же последней — в шалаше или под открытым небом на отдаленном лесном холме. Дело в том, что остяки не любят показывать своих кумиров чужим людям и потому устраивают кумирни в отдаленных, никем не посещаемых местах — предосторожность необходима уже и потому, что в кумирнях хранятся значительные приношения деньгами и мехами, похищение которых чуждые идолопоклонства соседи нисколько не почитают святотатством. Не знаю, много ли у остяков таких кумирней, но, ехавши в Обдорск, раз я попал совершенно неожиданно в общество остяцких богов, стоявших под густой сенью лиственниц. Все они были голы и ничем не отличались от самоедских «сядеев». Остяки называли их йильян (Jiljan)
[75], в отличие от всех других кумиров, называемых общим именем «лонг» и соответствующих самоедским «хаге» (Hahe). Вышеупомянутые йильяны были весьма различной величины: самые большие не превышали и полтора локтя, а самые малые едва ли имели и половину этой вышины. Я видел тут же множество оленьих шкур и рогов, развешанных по окружающим деревьям, и притом так, что все они находились перед глазами кумиров. Невдалеке был стан бедного остяцкого рода, для которого эта роща была общественным святилищем. Что касается до частных и семейных кумиров остяков, о них можно сказать то же самое, что было выше сказано о самоедских. Это или необделанные камни и другие предметы необыкновенных, страшных форм, или (наичаще) небольшие деревянные кумирчики с человеческим лицом и заостренной головой. У каждой семьи и даже у отдельных лиц есть по одному или по нескольку таких кумирчиков, которых почитают хранителями и возят с собою во всех странствованиях. Как и у самоедов, они хранятся в особенных санях и одеваются в богатый остяцкий костюм, убранный красными тесьмами и другими украшениями. Часто каждому из этих божков приписывается своя особенная сила. Одни охраняют оленьи стада, другие дают хороший лов, третьи пекутся о здоровье, о супружеском счастье и т.д. Когда потребуется, их ставят в шалаш, на оленьи пастбища, на места звериной или рыбной ловли. И тут по временам приносят им жертвы, состоящие в помазывании их губ рыбьим жиром или кровью и в становлении подле них посудин с рыбой или мясом. Таковые частные жертвоприношения может совершать каждый сам, но когда требуется общая жертва богам, когда нужен совет их целому роду или даже и одному лицу, тогда необходим уже жрец или шаман, потому что только он может открывать сердца богов и говорить с ними. Шаману же в свою очередь необходим волшебный барабан. Обыкновенная речь не достигает слуха богов, он должен беседовать с ними пением и барабанным боем. Кумир, стоящий перед шаманом, также иногда начинает говорить, но, разумеется, его слова слышит только шаман. Чтобы убедить легковерную толпу в том, что из уст кумира действительно выходят слова, шаман вешает перед ним тесьму, навязанную на конец прямо воткнутой палки, и когда случайно или хитростью шамана тесьма приходит в движение, тогда каждый убеждается, что в самом деле из уст кумира выходят слышные шаману звуки. Само собою разумеется, что при этом никогда не обходится без жертвоприношений: обыкновенно одного или нескольких оленей. По заклании их шаманом шкура и рога развешиваются в честь богам на священные деревья, мясо же кладется перед кумиром и затем вскоре съедается собравшейся толпой, причем шаман всегда получает свою часть.
Богослужение остяков состоит почти только в призывании богов и умилостивлении их жертвами. Впрочем, иные роды справляют еще и некоторые общественные празднества в честь богов. Из этих празднеств значительнее всех справляемое осенью, когда кочевые остяки возвращаются с тундр с богатой добычей к своим братьям, занимающимся рыболовством в Оби
[76]. Оно справляется каждый год разными родами, и в нем участвуют не одни только члены празднующего рода, но и остяки других родов, которые привозят с собою для празднования и некоторых из своих старейших божков. Последние ставятся в той же юрте, в которой хранятся кумиры рода; если же таковой не имеется, то их помещают в особом, нарочно для этого устраиваемом шалаше. Торжество совершается всегда в ночное время, и вот как описывает его один из очевидцев
[77]: «Оно началось около 8 часов вечера и продолжалось до 2 часов пополуночи. Прежде всего начали бегать по юртам дети, приглашая остяков к богослужению непонятными дикими звуками с выражением как бы испуга. Мало-помалу народ стал собираться в юрту, предназначенную для празднования. Войдя в нее, каждый остяк троекратно повертывался перед кумиром, садился потом в правой части юрты наземь и принимался разговаривать с соседом о чем вздумается. Западная часть была отделена занавесью, за которую некоторые уходили, также повертевшись перед кумиром. Когда все собрались, шаман застучал саблями и обитыми железом копьями, заранее принесенными в юрту и положенными на жерди перед кумиром, раздал каждому из присутствующих, за исключением женщин, скрывавшихся за другой занавесью, по сабле и копью, а сам взял в каждую руку по сабле и повернулся спиной к идолу. Остяки же стали рядами на средине и вдоль стен юрты и, держа прямо перед собой саблю, разом повернулись все троекратно. Шаман ударил саблей о саблю, и по данному им знаку все принялись вскрикивать на разные голоса: «Гай», покачиваясь при этом всем телом с боку на бок. Это вскрикивание повторялось то с большими расстановками, то часто и быстро, и при каждом повторении его, покачиваясь налево и направо, они то опускали сабли и копья к земле, то поднимали их кверху. Эти крики и покачивание, продолжавшиеся около часу, приводили остяков в какое-то исступление, которое возрастало под конец до того, что я не мог смотреть без содрогания на их лица, как они ни казались мне сначала интересными. Утомившись криками, они вдруг замолчали, перестали качаться, повернулись снова перед идолом, отдали сабли и копья шаману, который сложил их на прежнее место, и сели наземь в разных частях юрты. Тут распахнулась занавесь, скрывавшая женщин, заиграли
домбру[78], и мужчины и женщины пустились плясать. Пляска — дикая, смешная и часто непристойная — продолжалась очень долго. Затем выступило несколько фокусников или комедиантов в различных потешных нарядах. Их шутки походили во многом на проделки предшествовавшей пляски. За сим шаман снова раздал остякам сабли и копья. Они опять покачались и покричали несколько времени «Гай», повернулись три раза, ткнули столько же раз копьями в землю, после чего отдали оружие шаману и разошлись по юртам». По этому описанию выходит, что празднество совершается перед одним кумиром и притом одним только родом; кроме того, оно отличается еще и по другим частностям от собранных мною сведений. Так, я слышал, что торжество это продолжается десять ночей сряду, что сейчас описанная пляска с оружием в руках выполняется перед идолами в первую ночь одним только шаманом, во вторую — двумя остяками, в третью —тремя и т.д. в той же прогрессии до последней ночи, в которую в ней участвуют все, даже и женщины. Кроме того, мне сообщили, что это празднество сопровождается и жертвоприношениями. Возвращающиеся с тундр остяки угощают богов отчизны своей роскошными обедами. Закалывают оленей, и шаман подносит к каждому божку особенное блюдо с сырым мясом, мажет губы и лицо кумира кровью, дает ему напиться воды, угощает его всячески. Когда, по мнению шамана, божества наелись достаточно, кушанье принимается и съедается остяками. Все же остающееся от жертвенного пира предоставляется шаману. Подобные общественные жертвоприношения делаются и по многим другим поводам: перед началом какого-нибудь общественного предприятия, перед отправлением в долгое и далекое странствование, и т.п. Рассказывали мне, между прочим, что в случае неудачного рыболовства в Оби обдорские остяки навязывают иногда камень на шею оленя и бросают его в реку как жертву.
В этих жертвах и празднествах нельзя, конечно, не признать зачатков религиозного культа, но культа, стоящего весьма еще на низкой степени. Здесь почитают богов не вследствие глубокой религиозной потребности, но по чувству своекорыстия. Им приносят жертвы не для них самих, не из благоговения к их величию и могуществу, но в надежде получить таким образом исполнение своих желаний и удовлетворение своим потребностям. За все, что им дают, требуют и от них даров. Жертва или задаток, которым обязывают бога, или же награда за оказанную уже им услугу. Нередко сами боги вперед назначают цену. Само собою разумеется, что как во всех других, так и в этом случае толмачом богов бывает шаман. Запрашивает бог слишком много — шаман заставляет его укорами и угрозами сбавить цену, и он обыкновенно сбавляет. Из этого ясно, что остяки поклоняются своим идолам не как верховным силам, а как услужливым духам. Только
Турм, или небесный бог, пользуется большим уважением, хотя и не имеет своего особенного культа. Гораздо меньше значение лесного бога
Меанг[79] и водяного
Кули[80], последний почитается по преимуществу злым и гибельным. Что-то вроде божеского значения имеет у остяков, как и у всех сродственных им народов, медведь, одаренный сверхъестественной силой. У обдорских остяков я видел даже маленькие изображения этого зверя, вылитые из меди и чествуемые как кумиры. По преданию, эти изображения перешли сюда очень давно от пермяков и зырян, которые также поклонялись медведю. Кроме того, остяки чтут еще некоторые деревья и священные места
[81]. Растет кедр посреди соснового леса — и кедр, и вся местность вокруг его почитаются священными. Такое же значение имеют и те места, где семь лиственниц растут друг подле друга. Тут обыкновенно найдешь один или несколько кумиров, а перед ними на деревянных вершинах — принесенные им в жертву оленьи шкуры, рога и т.д.
Говоря о религии остяков, я не могу не упомянуть об обычае, который они разделяют с самоедами и многими другими народами, именно: об обычае чтить память покойников жертвами и другими обрядами. Это чествование основывается на весьма распространенном мнении, будто люди и по смерти и надлежащем погребении сохраняют потребности и продолжают занятия прежней жизни. Потому-то и становят подле могилы сани, кладут подле или в самую могилу копье, таган, котел, нож, топор, огниво и другие предметы, с помощью которых покойник добывал и готовил себе пищу. Как во время похорон, так и затем в продолжение нескольких лет родственники его приносят над могилой в жертву оленей. Умирает человек старейший, пользующийся большим почетом, ближайшие родственники делают тотчас же его изображение, которое хранят в юрте покойного, и оказывают ему такой же почет, каким он пользовался при жизни. При каждом обеде ставят кушанье и этому изображению, вечером раздевают и кладут его в постель, поутру одевают и снова ставят на место, которое обыкновенно занимал покойник. Это продолжается три года, по истечении которых изображение зарывается в могилу покойного в предположении, что тело уже сгнило, а вместе с тем кончилось и бессмертие.
Подобно самоедам, остяки придают клятве великое религиозное значение. Если преступление совершено тайно и потерпевший остяк подозревает кого-нибудь, он может заставить его поклясться. Клятва медведем и у остяков почитается сильнейшей. Как у самоедов, обвиненный разрезает нос медведя ножом и говорит: «Пусть сожрет меня медведь, если я клянусь ложно». Клянутся остяки также и богами своими и с теми же обрядами, как самоеды. Такая клятва почитается также священной, и почти каждый остяк убежден, что ложная ни в каком случае не остается безнаказанной. А потому если обвиняемый сознает себя преступным, то не соглашается на клятву и признается в вине. Поэтому человек, произнесший очистительную клятву, почитается навсегда чистым и безукоризненным. Заеден кто-нибудь медведем, утонул, сгорел или погиб каким-нибудь другим образом, возникает нередко предположение, что он поклялся когда-нибудь ложно. Кроме выше упомянутых клятв, остяки не знают никакой другой. Свидетели не присягают, им верят на слово; всякий человек, за исключением безумных, принимается в свидетели. Дети могут свидетельствовать против родителей, братья — против сестер, супруги — друг против друга. Все это обнаруживает в них чувство острой справедливости и взаимное доверие.
В связи с очерком религии кстати будет сказать несколько слов о браке, который имеет у остяков более социальное, чем религиозное значение. Как у самоедов и других близких к ним племен, брак решается отцом или ближайшими родственниками невесты, сама же она в этом, как и во многих других случаях, касающихся чувствительнейших струн ее сердца, не имеет никакого голоса. Женщина здесь рабыня в самом тесном смысле этого слова. Но этого мало: она считается нечистым существом и живет в самом глубоком унижении
[82]. Временами ее почти совершенно отделяют от прочих членов семьи, за всяким ее движением наблюдают с мучительной тщательностью, окуривают каждое место, на котором она посидит. Чувствуя свое глубокое унижение, она никогда не осмеливается выражать своих желаний и покоряется всем прихотям мужа. Также беспомощна она и в то время, когда отец, брат или какой-нибудь другой родственник продает ее более дающему. Ее собственные желания, если она осмелится иметь их, не имеют при этом никакого значения, с ней поступают, как со всяким другим товаром. Ее не выводят на рынок, но тем не менее судьбу ее решает аукцион. Цена молодой девушки различна по местностям. В Обдорске дочь богатого человека стоит от 50 до 100 оленей, бедный человек продает свое дитя за 20 и за 25 голов. Причина большей цены дочери богатого, кроме богатейшего приданого, — надежда жениха на пособие со стороны тестя в будущем. Дорогая жена рассматривается здесь как дорогой товар, приносящий со временем гораздо более прибыли, чем дешевый. Взнос за невесту принимается, впрочем, отцом не как пособие, которое со временем должно возвратить, но как действительная плата за получаемый товар. По понятию остяков, нет ничего справедливее такого вознаграждения отца или воспитателя девушки: ведь он выдает ее в таком возрасте, когда она уже совершенно свободна к работе. Кто ж может требовать, чтобы в семье, ему чуждой, даром вспаивалась, вскармливалась для него жена, которая на всю жизнь делается его рабой и работницей? Отец мог бы оставить дочь свою при себе, и работой своей она вознаградила бы вполне все, что он издержал на ее воспитание. Если же он добровольно отдает свою законную собственность чужому человеку, то справедливость требует, чтобы последний вознаградил его за все труды и издержки, употребляемые им на его будущую жену. Одним словом, взносимый за жену выкуп есть вознаграждение отцу за содержание и воспитание дочери. По предварительному соглашению выкуп может быть внесен до свадьбы или после нее. Если он внесен до нее и жених или невеста умрет до совершения брака, то выкуп возвращается. В случае смерти невесты жених за внесенный выкуп может требовать ее сестру, если только она есть.
У остяков допущено многоженство, но теперь оно очень редко по причине значительности выкупов. В бытность мою в Обдорске я слышал только об одном троеженце, немногим больше было и двоеженцев. Замечательно, что при этом допускается и женитьба на нескольких сестрах, но к таким бракам приступают всегда с опасением, ибо опытом дознано, что родные сестры за одним мужем не уживаются. Два же брата не могут жениться на двух сестрах, хотя бы последние происходили от разных матерей. Младший брат обязан жениться на вдове старшего. В случае смерти одного из супругов остающийся в живых может вступать в новый брак не прежде, как спустя год по кончине первого. В случае смерти одного из родителей дети не могут вступать в брак ранее двух лет по его кончине
[83].
Низкое положение женщины между остяками и другими сибирскими дикарями обнаруживается, между прочим, и тем, что она никогда не наследует. Ни муж не наследует через жену, ни жена по смерти мужа. Все имущество умершего разделяется поровну между его сыновьями, которые обязаны содержать мать, сестер и других женских членов семьи. Сыновья, оставшиеся несовершеннолетними по смерти отца, поступают вместе со всеми женщинами его семейства в опеку к ближайшим родственникам, которые за это участвуют в наследстве наравне с сыновьями. Если покойник не оставил последних, то имение его делится между его близкими или дальними родственниками по взаимному их соглашению, причем они обязуются заботиться о содержании вдовы и дочерей.
По образу жизни обдорские остяки распадаются на два рода: на рыбаков и оленеводов. Первые держатся по рекам, преимущественно по Оби и Нарыму
[84], последние кочуют, по крайней мере некоторую часть года, по тундрам и находятся тут в постоянных сношениях с самоедами. Число остяков, занимающихся оленеводством, сравнительно весьма невелико и уменьшается ежегодно вследствие смешения с многочисленным самоедским племенем. Влияние последнего так сильно, что остяки-оленеводы не только усвоили уже себе религию, нравы и образ жизни своих соседей, но даже и на языке их говорят свободнее, чем на родном. Поэтому желающий изучить особенности остяцкого быта должен обратиться к остякам-рыболовам. Но и эти живут не одинаким образом: одни занимаются только рыболовством, другие — и рыболовством, и оленеводством. Последние должны, по крайней мере летом, разделяться по этим двум хозяйствам: одни остаются близ рек, другие же следуют за оленями в их странствованиях. Инстинкт северного оленя влечет его в теплое время года к морским берегам, потому что по густой своей шерсти он нуждается в прохладнейшей атмосфере, да сверх того и менее здесь страждет от комаров, убийственных для него во время линяния. Кочуя с своими оленями по берегу Ледовитого моря, остяк, подобно русским и самоедам, ловит рыбу, бьет тюленей, моржей, белых медведей и т.д. Но до самого моря из остяков доходят весьма немногие. Большая часть их останавливается летом на самых северных тундрах, и как только воздух сделается попрохладнее и комары пропадут, они отправляются на ловлю лисиц в лесные местности, на восток от Урала. С первыми предвестниками зимы и кочующие по морским берегам остяки, и самоеды переходят также в леса и преимущественно для защищения себя и своих стад от ужасных бурь. Эти переходы совершаются очень спокойно, в день уходят очень немного, днюют по суткам и даже по двое и прилежно занимаются звероловством. Каждый род идет, не расходясь слишком, предводительствуемый князем или старшиной. К концу декабря все эти кочующие толпы являются на Обдорскую ярмарку. Князья и старшины должны необходимо присутствовать на ярмарке, ибо они обязаны наблюдать за исправным вносом податей. Подать состоит главным образом в двух бурых лисицах с каждого лица мужского пола; но, кроме лисиц, требуется еще с каждого рода положенное число других мехов, недостает мехов какого-нибудь из означенных зверей — дело князей заменить недостающее количество другими шкурами. С ярмарки туземцы уходят опять в леса и продолжают заниматься звероловством всю зиму. Самоеды и остяки, занимающиеся исключительно одним только оленеводством, отправляются к морским берегам ранней весной; те же, которые оставляют часть своего семейства на берегах рек, не спешат, потому что не доходят до отдаленных морских берегов. Во время пребывания в лесах они живут в постоянных жилищах, так называемых юртах, которых у самоедов и постоянно кочующих остяков не бывает.
Понятно, что остяки, живущие ежегодно подолгу на одних и тех же местах, не могут держать больших оленьих стад, ибо последние требуют обширных пастбищ и перемены мест. Впрочем, как ни малы эти стада, они почитаются большим богатством, ибо северный олень не только доставляет остяку пищу и одежду, но и необходим для звероловчееких и других разъездов. Остяки, не имеющие оленей, ездят на собаках, которые, не доставляя хозяину пищи, обходятся ему дороже оленя и к тому же невыгодны для перевоза тяжестей. Для этих остяков рыболовство почти единственное средство существования. Почти повсеместный в полярных странах факт, что племена, занимающиеся исключительно рыболовством, не достигают благосостояния, но живут обыкновенно в большой бедности, нередко соединяющейся с леностью, пьянством и нравственной порчей
[85]. Причины этого большей частью случайные: частью неуменье пользоваться, как следует, богатыми средствами, представляемыми здешней природой, частью пристрастие к спиртным напиткам. Это главные причины бедности, господствующей между остяками-рыболовами. Много содействует, впрочем, также и хитрая, своекорыстная торговля русских поселенцев. Они ввели пагубную систему кредита и сумели навязать остякам множество предметов роскоши, которым назначали произвольную цену, почти без ведома покупателей. Вследствие этого остяки мало-помалу вошли в долги, которых в настоящее время никак не могут уже уплатить. Долги их возрастают, напротив, с каждым годом, потому что без всякого усиления труда и осторожности число потребностей беспрестанно увеличивается. Существеннейшую потребность, без которой, по крайней мере в настоящее время, остяк не может уже обойтись, составляет хлеб, привозимый купцами. Не имея возможности заплатить за покупаемое тут же, потому что и без того уже должен купцу, он обязывается не продавать в следующий год своей рыбы никому, кроме него. Таким образом, он становится в полнейшую зависимость от заимодавца, который назначает какую ему вздумается цену не только своему, но и его товару. Эту торговлю, положительно пагубную как для остяков, так и для других народцев Сибири, правительство старалось ограничить разными постановлениями и, между прочим, учреждением казенных хлебных магазинов, но зло, к несчастью, пустило уже такие глубокие корни, что его не искоренишь разом. Вся рыба, продаваемая остяками вышеописанным образом купцам, ловится летом, и барышники из Обдорска, Березова и Тобольска разъезжают целое лето на своих ладьях по Оби, скупают у остяков все пойманное ими, солят и сберегают до времени в нарочно для этого на берегах реки устроенных амбарах. В начале осени, сбыв привезенную муку, они загружают лодки рыбой, сохранявшейся в амбарах, и отправляются домой. Остяки же продолжают еще ловить рыбу. Часть этой они бросают в небольшие озера или пруды, откуда к концу осени снова вытаскивают ее сетями и замораживают. В начале зимы являются опять русские и зыряне и скупают мороженую рыбу, часть ее привозится и самими остяками в Обдорск на ярмарку. Рыболовство не прекращается и зимой, но рыба, ловимая в это время года, невыгодна для торговли, да и сами уловы ее так незначительны, что редко удовлетворяют дневной потребности. В Оби водятся следующие рыбы: щука, окунь, ерш, плотва — эти ловятся и летом и зимой; осетр, сельдь, налим и разные виды лососей, называемые русскими муксун, нельма, зырок
[86], пыжьян, — породы, идущие в начале июня, тотчас по проходе льда вверх по реке и затем в течение зимы постепенно возвращающиеся опять в море. Ценны в особенности осетр и разные виды лососей, остальные же породы идут на пищу остяку и его собакам. Летом туземец ловит рыбу большей частью сетями вблизи удобных для этого песчаных берегов. Другой летний рыболовный снаряд — верши, прикрепляемые к кольям или жердям, которыми перегораживают небольшие рукава реки
[87]. Ловят и на крючья
[88], а когда начнутся темные ночи, бьют угрей острогой. Употребляется еще мешковидная сеть; положив в нее камень и прикрепив длинной веревкой к лодке, рыболов опускает ее на дно и едет потихоньку вниз по течению. Приподнимая ее временами, он тотчас же узнает, попалось ли что, а благодаря обилию рыбы в Оби, она попадается и в такой снаряд. Зимой самый простой и наиболее употребительный способ ловли состоит в том, что поперек малого речного рукава кладут бревно и прикрепляют к нему множество вершей, сделанных из прутьев. Кроме того, ловят также и сетями, и крючками, и т.п.
За исключением обычая женщин носить покрывала, обычая, заимствованного у соседних татарок, одежда обдорских остяков ничем не отличается от самоедской. Что касается до образа их жизни, то кочевые остяки устраивают себе такие же чумы, как и самоеды; юрты
[89] же остяков-рыболовов маленькие, очень низкие, однокомнатные лачуги с открытым глиняным очагом (чувал) в углу и с дырой в стене или крыше; эта дыра заменяет окно и зимой закрывается ледяной пластинкой. В лучших юртах пол подле одной или двух стен устлан рогожами, на которых семья проводит день, спит ночью. Иногда ко входу в юрту пристраиваются маленькие сени, в которых сберегается платье и разная домашняя рухлядь. Кроме таких зимних юрт, у многих семейств бывают еще и летние, без пола и очага. Огонь раскладывается в них на середине, а дым выходит в отверстие, сделанное в крове. Нищенствующие остяцкие семьи живут и в землянках
[90].
Внешность и характер остяков описаны Палласом (Reise durch die verschiedenen Provinzen des Russischen Reichs, III, § 39) следующим образом: «Роста они большею частию средняго и даже малаго, слабосильны, сухопары и тонконоги. Лица почти у всех
неприятныя, бледныя и плоския, без особенно характеристическаго выражения. Еще более безобразят их рыжеватые или беловатые волосы, которые у мущин висят вокруг головы в безпорядке. Между взрослыми и преимущественно зрелыми женщинами приятныя лица весьма редки. Вообще остяки робки, суеверны и простоваты, но довольно добродушны; когда заставляет необходимость, работящи, но за тем склонны к праздности, особенно мущины; в домашнем быту страшно грязны и неопрятны». К этому описанию я должен прибавить, во-первых, относительно внешности, что белолицых и белокурых остяков я встречал, конечно, много, но еще больше смуглых и черноволосых, подобно самоедам; это, между прочим, наводит меня на мысль, что белокурые остяки, может быть, потомки зырян, ушедших в Сибирь во время обращения Перми в христианскую веру святым Стефаном
[91]. Впрочем, остяки вовсе не принадлежат к безобразнейшим сибирским племенам; между ними не встретишь таких плоских носов, узких глаз и уродливо-широких скул, как у монголов и тунгусов, они гораздо ближе к племенам финскому, самоедскому и тюркскому. Впрочем, нужно сказать, что их тип не выработался, вероятно, вследствие смеси с инородными племенами. Робость, суеверие, простоватость и добродушие — качества, общие всем сибирским дикарям. Но Паллас умалчивает о двух весьма хороших качествах остяков: об их услужливости и честности. Остяк не покидает своего друга в нужде, не запирает двери для стучащегося в нее, охотно делится тем, что у него есть, если богат, считает обязанностью помогать бедному. Воровство почти неизвестно, дома никогда не запираются, имущество оставляется часто посреди тундры. Остяки вполне доверяют друг другу и живут, как братья. Неопрятство, в котором обвиняет их Паллас, — свойство всех рыболовных народов, оно не меньшее и на норвежских берегах. Многие занятия рыболова нечистоплотны сами по себе: на промыслах он живет во временном тесном жилище, в котором негде даже поместить и всех изорванных, полусопревших одежд, без которых не может обойтись в своем многотрудном занятии. Дым увеличивает еще более нечистоту внутри, а снаружи скопляются внутренности выпотрошенных рыб, не только отвратительные на взгляд, но и заражающие воздух своим гниением. Рыбак часто работает без отдыха дни и ночи, где ж тут время заботиться и о чистоте своего тела, не только что о чистоте жилища, и неопрятность мало-помалу переходит в привычку. Но врожденною назвать ее нельзя, ибо ею отличаются только рыбаки, но не кочевые оленеводы. К преимуществам кочевой жизни в полярных странах принадлежит и то, что она не сопряжена ни с каким неопрятным занятием. Беспрестанные переходы с одного места на другое имеют, между прочим, ту выгоду, что не дают завестись большой грязи ни внутри, ни вне жилья. Сажа, пристающая к платью от очага и котла, сдувается ветром тундры, к тому же она и не очень заметна на одежде, сшитой из грубой оленьей кожи.
Указатель наиболее значительных имен, встречающихся в тексте
Бергстади И. — студент-лингвист, спутник М. А. Кастрена по сибирскому путешествию.
Кеппен П. И. — академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, этнограф и лингвист, создатель этнографической карты России.
Клапрот Г. Ю. — академик, выдающийся немецкий ориенталист, работал во Франции. Автор капитального труда «Azia Poliglotta» («Многоязычная Азия»).
Лёнрот Э. (1801 — 1884) — финский ученый, доктор медицины (диссертация на тему «О магической медицине финнов»). В течение многих лет целенаправленно собирал фольклор финнов и карелов. Собрание карело-финских мифов «Калевала» было опубликовано на финском языке в 1835 г. в стихотворной обработке Лёнрота. Позднее выпустил сборники финских песен, загадок, заклинаний («Кантеле», «Кантелетар» и др.). Совместно с М. А. Кастреном участвовал в конце 1841 — начале 1842 гг. в поездке в Лапландию.
Миддендорф А. Ф. (1815—1899 гг.) — академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, выдающийся путешественник, этнограф и лингвист, исследователь Восточной и Южной Сибири и Северо-Востока России.
Раббе Ф. Й. (1804—1879 гг.) — врач, ученый, видный финский общественный деятель, один из основателей и председатель (1853—1854 гг.) Финского литературного общества.
Раск Р. — выдающийся датский лингвист конца XVIII—начала XIX веков, один из основоположников финно-угорской лингвистики.
Регули А. (1918—1858 гг.) — видный венгерский лингвист и этнограф, специалист по финно-угорским языкам, один из основоположников угроведения. Провел экспедицию по Сибири и Поволжью в 1843—1845 гг.
Степанов А. — с 1823 по 1831 гг. красноярский губернатор, любитель-этнограф, автор двухтомного труда «Енисейская губерния».
Шёгрен А. Й. (1794—1855) — крупный ученый, один из основоположников финно-угроведения, земляк М. А. Кастрена. Специалист в области лингвистики и этнографии, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Автор крупных исследований «О финском языке и его словесности», «Осетинская грамматика» и др. Шёгрен явился организатором и научным руководителем путешествий М. А. Кастрена по северу России и Сибири.
Шнелльман (Снельман) И. В. (1806—1881 гг.) — финский ученый и общественный деятель. Профессор этики и ректор Александровского университета в Гельсингфорсе (Хельсинки). Один из лидеров движения за независимость Финляндии, издатель газет «Друг земледельца» и «Saima».
Шифнер А. (1817—1879 гг.) — адъюнкт Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по языку и литературе Тибета. После смерти Кастрена подготовил к печати неопубликованные материалы из его архива (12-томное «Nordische Reisen und Forschungen», 1852—1858 гг.).
Шотт В. — известный немецкий ориенталист, специалист по лингвистике Алтая, автор труда «Об алтайском или финно-татарском языковом роде» (1847 г.).
В поисках колыбели финского народа
Среди ученых, занимавшихся изучением языков и происхождения народов так называемой уральской языковой семьи, М. А. Кастрен занимает особое положение. Будучи разносторонним исследователем (лингвист, мифолог, этнограф и в некоторой степени археолог), он имел немало предшественников, труды которых явились для него «научным трамплином». Тем не менее его по праву следует считать пионером сравнительно-исторического языкознания. Добрым гением, сыгравшим ключевую роль в судьбе ученого, стал известный финнолог Андерс Иоганн Шёгрен, приметивший молодого способного лингвиста Кастрена и ставший для него научным руководителем. Знаменитые научные путешествия по Европейскому Северо-Востоку и Сибири, прославившие Матиаса Алексантери, состоялись только благодаря Шёгрену. Духовная нить между ними не прерывалась ни во время многотрудных путешествий (обмен письмами), ни в последующие годы.
Лингвистические труды Кастрена по существу стали азбукой для последующих поколений ученых, занимавшихся изучением финно-угорских и самодийских народов. Дело не только в богатейших научных материалах, собранных им в экспедициях, но и в том, что благодаря Кастрену дальнейшие исследования проводились на основе апробированного им сравнительно-исторического метода, с учетом кастреновской схемы лингво- и этногенеза аборигенов Севера.
То, что за короткую жизнь успел Кастрен, кажется и сегодня непосильным одному человеку: записи карело-финского эпоса, замечательный стихотворный перевод «Калевалы» на шведский язык, труды по грамматике финно-угорских народов, неопубликованные при жизни материалы по тунгусским, бурятским наречиям и многое другое.
Столь глобальные по масштабам и результатам сибирские путешествия Кастрена сравнимы разве что с академическими экспедициями XVIII века во главе с Д.Г. Мессершмидтом, Г.Ф. Миллером и П.С. Палласом. Но с точки зрения лингвистики, достижения М. А. Кастрена, героя-одиночки, — настоящий научный подвиг.
Чего стоит только беглый перечень народов, среди которых работал Кастрен! Лопари (саамы), зыряне, самоеды (ненцы, энцы, нганасаны, селькупы), хакасы, буряты, тунгусы (эвенки), «последние из могикан» — койбалы, камассинцы, котты, сойоты, карагасы, маторы, кеты...
Поражает и география мест, где побывал Матиас Алексантери: Канинская тундра, Тиманский кряж, Приполярный Урал, Иртыш, Обь, Саяны, Минусинская котловина, Енисей...
И каждый раз на новом месте Кастрен настолько вживался в местную среду, что, несмотря на все тяготы путешествий и постоянную тоску по родине и друзьям, позволял себе в письмах к друзьям, Колану и Раббе, делать шутливоиронические подписи: «бестолковый брат и странник из Бьярмландии», «твой измерзший брат», «затундринский брат», «твой тюркский брат», «твой китайский брат», «забайкальский друг», «поклонник Будды».
Не раз ученый «вынужден был под дождем и на солнце, в жару и мороз, в бурю и непогоду оставаться под мокрой крышей неба или в полотняном балагане» (из письма Кастрена).
Тем не менее любовь к суровой Северной Азии и ее «диким детям» настолько овладела ученым, что он признавался другу: «Не будь у меня тоски по родине... я был бы готов провести весь свой век на Востоке».
Стоит только восхищаться упорством, несгибаемым характером и работоспособностью одинокого больного ученого, в течение многих лет общавшегося с иноплеменниками, зачастую враждебно настроенными, для которых он всегда был чужаком, человеком из другого мира. Что же двигало Кастреном, что заставляло его преодолевать все тяготы путешествий, собственные недуги?
У Матиаса Алексантери была Цель, достижению которой он посвятил все свои силы. Он с юности мечтал найти прародину финнов, разыскать родственные им народы, вышедшие из общей «колыбели». Вместе с ближайшими друзьями и единомышленниками, среди которых были знаменитые впоследствии финские ученые, общественные деятели и литераторы (достаточно назвать поэта Рунеберга автора текста финского гимна, Снельмана — родоначальника финского национального движения, Лёнрота — собирателя карело-финского эпоса), Кастрен входил в Восточноботническое землячество. На одном из заседаний «субботнего кружка» землячества около 30 студентов, в том числе и М. А. Кастрен, подписали обязательство изучать финский язык и посвятить свои жизни духовному возрождению финского народа. Молодому Кастрену навсегда запомнились слова известного датского лингвиста Расмуса Раска о том, что «финский язык — один из наиболее самобытных, правильных, отделанных и благозвучных говоров на земле... сохранит на века свое значение для мыслителя, свою незаменимость для языковеда, служа ключом к пониманию говоров неславянских племен России и в Северной Азии...». Стоит напомнить, что во времена Кастрена финский язык считался на его родине языком «низким», простонародным. Официальным «высоким» языком считался шведский. Научные и литературные труды даже в начале XX века финны писали на шведском и немецком языках. Национальное самосознание в «эпоху Кастрена» только начало пробуждаться.
Юношескую клятву Кастрен сдержал. Он изучил языки ближайших родственников финнов — зырян, марийцев, саамов, остяков (ханты) и более отдаленных самодийских народов. Не ограничившись сбором фактического материала, Кастрен попытался создать стройную, научно обоснованную схему языкового родства этих народов, высказывал догадки, строил гипотезы о древнейшем состоянии языкового единства; его критический анализ схемы немецкого лингвиста Клапрота производился не в кабинетной тиши, а в непосредственном общении с носителями языков — аборигенами Сибири и Европейского Северо-Востока. Ему удалось распутать основные узлы сложнейшей проблемы происхождения финно-угорских и самодийских народов.
Гипотеза Кастрена о саяно-алтайской прародине финно-угров и самодийцев спустя десятилетия уступила место гипотезе об уральской прародине, но для своего времени она была значительным шагом вперед, своеобразным прорывом в тихом «болоте» умозрительного пережевывания учеными мужами лингвистических материалов сомнительного качества. Достаточно сказать, что до Кастрена его ученые соплеменники усиленно пытались разыскать свою прародину на земле Эллады. Позднее венгерский ученый Сома безуспешно искал прародину финно-угров в Тибете.
Кроме того, Кастрен мечтал найти в языковых материалах связующее звено между «монгольской и кавказской расами», т.е. между монголоидами и европеоидами. Современные антропологи определяют финно-угров и самодийцев как представителей оригинального, т.н. уральского, расового типа, характеризующегося своеобразным сочетанием монголоидных и европеоидных черт. Правда, до сих пор идут споры о том, является уральский тип самостоятельно сформировавшимся, или он возник в результате смешения двух основных расовых типов Евразии в пограничной зоне.
В то же время сам Кастрен и его научный руководитель Шегрен убедительно доказали самостоятельный характер, оригинальный строй финно-угорских и самодийских языков, отличающийся коренным образом от грамматической структуры индоевропейских языков. Стремясь увидеть в монгольских и тюркских языках ближайших родственников финно-угорских и самодийских, Кастрен, как стало ясно позднее, заблуждался. Думается, что если бы он успел изучить и эти языки, то ему пришлось бы отказаться от этой идеи. Бесспорно, прав финский лингвист К. Тиандер, сказавший, что в Кастрене «скрывался и мифолог, и археолог» и «если б не смерть, мир стал бы для него тесен»
(Тиандре К. Матиас Кастрен — основатель финнологии // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Часть CCCLIII. 5. Отд. 2. С. 67).
Примечания
1
Лапландский язык — язык лопарей (саамов), народа, обитающего на севере Скандинавии и Кольского полуострова, составляет особую подгруппу финно-угорской группы уральской языковой семьи. Лопарский язык распадается на ряд сильно различающихся диалектов. Основная часть саамов (более 50 тыс. чел.) обитает в Финляндии, Швеции и Норвегии. В России их насчитывается около двух тысяч человек.
(обратно)
2
Лапландия — устаревшее название территории, включающей в себя северную часть Скандинавского и западную часть Кольского полуостровов. Означает «Страна лаппов» (лопарей или саамов). Лапландский язык — язык саамов, народа финно-угорской группы.
(обратно)
3
Почти всегда в этой комнате есть окна и большая печь с трубой, но случается, что это просто дымная конура, т.е. без окон и без трубы.
(обратно)
4
Традиционная зимняя мужская одежда лопарей (пэск или мудд). Изготавливается из оленьих шкур мехом наружу, имеет глухой покрой и надевается через голову. Снабжен стоячим воротничком, стягивающимся ремешками.
(обратно)
5
Пойола (Похъела) — в карельской и финской мифологии северная страна, где обитают злые существа и куда попадают умершие люди. Правит ею злая колдунья Лоухи. Положительные фольклорные герои в мифах совершают походы к Похъелу, побеждая Лоухи.
(обратно)
6
Вайнемойнен (Вяйнямёйнен) — один из важнейших персонажей карело-финской мифологии, начальный обитатель первичного мирового океана, создатель мира и могучий чародей. Он даровал людям целый ряд культурных достижений — огонь, лодки, музыкальные инструменты, отвоевал у злой колдуньи Лоухи похищенные ею солнце и месяц.
(обратно)
7
Сейты (сейды) — идолы, почитавшиеся саамами. Представляли собой антропоморфные деревянные изображения или крупные камни, отличавшиеся от прочих особой формой (особенно — похожие на людей или животных). По мнению саамов, сейды являются обиталищем и символом духов, которые могут помогать людям в различных ситуациях. С целью заручиться их содействием, организовывались жертвоприношения. Типологически сейды, очевидно, сопоставимы с ненецкими сядэями.
(обратно)
8
Обычай наказания или уничтожения идола, изображения духа-покровителя за его нерадивость известен в этнографии обских угров. В таких случаях вместо старого идола изготавливался новый.
(обратно)
9
Карелы (самоназвание — карьялани) — народ в России прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской языковой семьи. Относятся к беломоро-балтийской расе большой европеоидной расы, в некоторых группах прослеживается слабая монголоидная примесь. Карелы сформировались на основе аборигенных племен Южной Карелии и Юго-Восточной Финляндии. В XI веке карелы стали продвигаться на север и заняли свою современную территорию, поглотив часть саамов. Первое упоминание названия «карелы» в русских летописях относится к 1143 году. В настоящее время их насчитывается около 140 тысяч человек, имеют собственную автономию.
(обратно)
10
«Калевала» — карело-финский эпос, состоящий из отдельных самостоятельных рун (мифологических преданий). Руны были собраны главным образом в Карелии Элиасом Лёнротом, который придал им единую сюжетную канву, провел поэтическую обработку, создав цельное произведение — «Калевала». Она была впервые опубликована в Финляндии в 1835 г., а впоследствии была переведена практически на все европейские языки. В 1841 г. вышел в свет сделанный М. А. Кастреном перевод «Калевалы» на шведский язык, который считается самостоятельным стихотворным произведением, не уступающим оригиналу. В первое издание вошло 32 руны из 12078 стихов. Второе издание (1849 г.) включало 50 рун из 22795 стихов. Руны «Калевалы» повествуют о сотворении мира, подвигах мифических великанов, предков-богатырей. Название происходит от имени богатыря Калевы.
(обратно)
11
Сайво — мифическая страна изобилия у саамов, счастливый потусторонний мир, своеобразный языческий аналог рая. В данном случае, видимо, речь идет о духах — хозяевах озер. Озера, вода — стихия, связанная с потусторонним миром.
(обратно)
12
Kennst du das Land, wo die Citronen bliihen
(нем.) — «Ты хочешь в страну, где цветут лимоны?»
(Гете).
(обратно)
13
Имеется в виду монголоидная большая раса (по антропологической классификации). По современным данным, лопари (саамы) относятся к особому лапоноидному типу большой европеоидной расы. Этот тип характеризуется небольшой примесью монголоидных черт: несколько ослаблен рост бороды, сильнее выступают скулы, чуть темнее цвет кожи и понижено переносье. Такие внешние признаки позволили М. А. Кастрену считать их монголоидами.
(обратно)
14
quasi duo cornua
(лат.) — как бы два фланга, angustioribus
(лат.) — узкие проходы.
(обратно)
15
angustioribus
(лат.) — узкие проходы.
(обратно)
16
in angustissimo
(лат.) — в самом узком проходе.
(обратно)
17
ad angustiora и angustissima
(лат.) — к наиболее узким местам прохода,
(обратно)
18
in praecipitium
(лат.) — в пропасть, под обрыв.
(обратно)
19
in suo carcere
(лат.) — в свою тюрьму.
(обратно)
20
Айа Икко (Айеке, Акко) — бог грома в саамской мифологии. Он преследует злых духов, убивая их стрелами-молниями; шагая по тучам, он производит гром. Радуга считается его луком. Деревянные идолы Айеке изображали человека с молотом в руках. Туона (Туони) — одно из обозначений загробного мира в саамской мифологии, а также богини, считающейся хозяйкой этого мира. Загробный мир помещался саамами на севере (где земля сходится с небом) и одновременно под землей. От мира людей его отделяет река мертвых, текущая по глубокому ущелью.
(обратно)
21
Пенаты — в древнеримской мифологии божества — хранители дома, семейного очага, почитавшиеся членами одной патронимии.
(обратно)
22
Остроботнические наречия — восточно-балтийские (от названия Ботнического залива; Ост-Ботния — Восточная Ботния). Речь идет о прибалтийско-финских языках.
(обратно)
23
Теперь эти руны напечатаны в 3-й части «Kanteletar».
(обратно)
24
По другому варианту, смертный приговор произнесен был над Вайнемойненом за то, что он совокупился с своею матерью.
(обратно)
25
Заседание под кровлей в шалаше (Zelt-Thing) в противоположность обыкновенным собраниям судилища (Things), которые всегда бывали под открытым небом.
(обратно)
26
Кериса (керёжа) — саамская оленья нарта, состоящая из одного полоза и деревянных бортиков. Керёжа считается одним из древнейших типов оленьих нарт, восходящим к лодке-долбленке. Традиционно в нее запрягался один олень. В XIX в. керёжи были вытеснены копильными нартами ненецкого типа.
(обратно)
27
Оленеводство лопарей (саамов) имеет оригинальную черту — доение важенок, совершенно отсутствующую в ненецком оленеводстве. В связи с этим саамы употребляют в пищу молочные продукты — сыр, кислое и свежее оленье молоко.
(обратно)
28
Имеется в виду дерн, широко использовавшийся саамами для утепления постоянных и временных жилых построек.
(обратно)
29
res capitalis
(лат.) — тяжкое уголовное преступление.
(обратно)
30
Скорбут от нем. skorbut (цинга) — болезнь, вызываемая недостатком в организме человека витамина С.
(обратно)
31
Самоеды — общее устаревшее название народов самодийской языковой группы: ненцев, энцев, селькупов, нганасан, употреблявшееся до 30-х годов нашего столетия. Впервые термин «самоеды, самоядь» появился в начале XI века в «Повести временных лет» и широко использовался в последующих работах. В XVII—XIX вв. это название было конкретизировано в соответствии с накопленными знаниями: самоедами или самоедами-юраками стали именовать ненцев, тавгийскими самоедами — нганасан, остяко-самоедами — селькупов, туруханскими, или хантайскими, самоедами — энцев, казымскими самоедами — лесных ненцев. Народная этимология утверждает, что слово «самоед» произошло от «сам себя едящий», то есть говорит о якобы имевшем место у этих народов каннибализме, что не соответствует действительности. Более реальным является предположение о происхождении этого названия от
саам йедна — «земля саамов». Это обозначение саамских территорий было известно русским еще до знакомства с ненцами. Позже это название было распространено и на ненцев, поскольку они обладали сходной с саамами культурой.
(обратно)
32
Чудь — изначально этноним, название одного из «вымерших» западнофинских племен. Упоминается в «Повести временных лет» как северный сосед восточнославянских племен. Исчезает с исторической арены в начале II тысячелетия. Очевидно, чудь была ассимилирована словенами. Район обитания этого племени реконструируется по топонимам, в частности, по названию Чудского озера. Позднее — общее название, применявшееся русскими в отношении финноязычного населения Европейского Севера. Впоследствии не только русские, но и сами потомки чудских народов стали применять это название для обозначения древнего населения этих территорий.
Предания о чуди сохранились в северорусских землях (Новгород, Архангельск, Устюг), у коми-зырян, коми-пермяков и европейских ненцев. В них чудь — языческий народ, убегавший от христиан или погребавший себя в землянках. В коми-языке «чудь, чуйд» означает «пугливый, боязливый». У коми-зырян чудь иногда ассоциируется с собственными предками-язычниками.
(обратно)
33
Смотри Suomi, Tidskrift i fosterlandska amnen. 1843, Heft. 4.
(обратно)
34
Большую часть этих преданий я поместил в моем рассуждении о заволочской чуди. См. Повременное издание Suomi, 1844.
(обратно)
35
В отношении к приведенным здесь названиям не мешает заметить, что некоторые из них не русские и не самоедские, вероятно, из языка древней чуди или теперешних финнов. Так, напр., слово тундра чуждо и русскому, и самоедскому языку, но в финском языке существует под формой т у н т р ы. Из других названий: русское Большая земля и самоедское Аарка-я, очевидно, прямой перевод финского isomaa (Большая земля). Подробнее об этом в моем «Рассуждении о заволочской чуди».
(обратно)
36
Тадибей (тадибя) — шаман на языках самодийских народов.
(обратно)
37
Тадебцио (тадебця) — личные духи — помощники шамана в верованиях ненцев. С их помощью шаман проникал в потусторонний мир, предсказывал будущее и лечил людей.
(обратно)
38
Magus non fit, sed nascitur
(лат.) — Волшебником не становятся, а рождаются.
(обратно)
39
В данном случае и ниже присутствует не совсем корректный перевод. В действительности имеется в виду шаманский бубен.
(обратно)
40
Нум — верховное небесное божество у ненцев, глава всех остальных духов, творец земли и людей.
(обратно)
41
Хахе (хэхэ) — семейные и личные идолы у ненцев, хранящиеся на специальных священных нартах (см. прим. № 61).
(обратно)
42
Иславин говорит, что на острове Вайгач находится 20 истуканов, что, кроме того, был еще один деревянный, сожженный в 1827 году миссионерами.
(обратно)
43
Сядеи — антропоморфные изображения духов (как правило, из дерева), устанавливаемые ненцами на родовых или коллективных священных местах. Могут иметь высоту до 2 метров. Перед сядеями регулярно, несколько раз в год, совершали жертвоприношения с закланием оленя.
(обратно)
44
Кастрен говорит тут и выше о Рождестве и Новом годе протестантов, которые празднуют их по новому стилю.
(обратно)
45
Малица — мужская зимняя одежда глухого покроя у ненцев. Имеет капюшон и пришитые к манжетам рукавицы. Шьется из оленьих шкур мехом внутрь, подпоясывается кожаным поясом. Для предохранения малицы от влаги поверх нее обычно надевали маличную рубаху из сукна (навершницу). Широко используется многими народами Севера до настоящего времени.
(обратно)
46
Зыряне — т.н. «внешний» этноним коми (коми-зырян), происходящий от финского «сюрьяйнен» — «крайний, дальний», т.е. окраинный народ, «украинцы». Язык коми, наряду с коми-пермяцким и удмуртским, относится к пермской ветви финно-угорской языковой семьи. Коми — автохтонное население Европейского Северо-Востока (бассейнов Вычегды и Печоры с их притоками). По одной из версий, происхождение этнонима «коми» связано со словом «кум» (хум) — человек. Антропологический состав коми неоднородный: наряду с преобладающими беломорским и восточно-балтийским европеоидными типами представлены сублапоноидный вятско-камский и лапоноидный уральский. Известны 10 диалектов коми языка и несколько этнографических групп: ижемцы — северные (печорские) коми, удорцы (реки Мезень и Вакша), вымичи (бассейн р. Выми), сысоличи (бассейн р. Сысолы) и др.
Предки коми начали осваивать Нижнее Приобье с конца XII—XIII веков. Благодаря прекрасному знанию «чрезкаменных» путей в Сибирь коми неоднократно принимали участие в походах русских военных отрядов за Урал в качестве переводчиков и проводников.
С конца XVI века отдельные группы коми начали переселяться за Урал. Массовому переселению ижемцев, северных коми-оленеводов, в Нижнее Приобье предшествовали регулярные торговые и охотничьи экспедиции за Урал. Зыряне (преимущественно ижемцы) славились своим трудолюбием, предприимчивостью, знанием языков ненцев, ханты и манси. С одной из групп ижемцев-торговцев перебрался в Сибирь и Кастрен.
(обратно)
47
Савик (совик, совак) — мужская зимняя одежда у ненцев, надеваемая в сильные холода поверх малицы. По крою сходна с последней,, но шьется мехом наружу и больших размеров. О древности термина свидетельствует фонетическое сходство названий у финно-угорских и самодийских народов: совик, савик, савуй, сак.
(обратно)
48
Имеется в виду, очевидно, одна из возвышенностей Тиманского кряжа, проходящего параллельно Уралу, к западу от него. С кряжа берут свое начало многие реки Европейского Севера России — Ижма, Цильма, Мезень и др.
(обратно)
49
Родных жениха и невесты.
(обратно)
50
Большеземельская тундра — географическое название, обозначающее восточную часть тундровой зоны европейской части России. Охватывает территорию от Уральского хребта до бассейна Нижней Печоры. К западу от нее располагались также занятые ненцами меньшие по размерам Тиманская и Канинская тундры. Последняя являлась самой западной и простиралась до р. Мезень. В Большеземельскую тундру входили кочевья пустозерской, усть-цилемской и ижемской групп ненцев.
(обратно)
51
Остяк — название ханты и некоторых других народов Западной Сибири, утвердившееся в XVI в. и просуществовавшее до 30-х гг. нашего столетия. Происхождение его связывают обычно с татарским
иштек, уштяк — «дикий, непокорный» или с хантыйским
ас-ях — «обские люди». Термин «остяк» использовался в качестве названия для ханты, северных манси, селькупов, кетов, барабинских татар, северных башкир. Очевидно, этимология слова «остяк» восходит не к приведенным выше народным вариантам, а к этническому названию древнейшего населения Западной Сибири, предшествовавшего уграм и тюркам. В научной и краеведческой литературе XVIII—XIX вв. остяками стали именовать только ханты, енисейскими остяками — кетов, остяко-самоедами — селькупов.
(обратно)
52
Правильно: Адзьва — правый приток р.Усы. В переводе с коми языка означает «луговая, пойменная река». Ненецкое название реки — Хырмор. По берегам этой реки расположены обширные пастбища для оленей. Возможно, ненецкое название ее означает «Оленье болото (тундра)», где «хыр» (хор) — олень-бык, а «мор» (мур) — болото, низина (саамское).
(обратно)
53
Правильно: щелья. В коми языке означает «высокий берег, холм, обрыв».
(обратно)
54
Большая и Малая Роговая — правые притоки р.Усы. Название произошло от слова «рог», так в старину называли бивни мамонта, которые часто встречаются по берегам Роговой. Один из притоков Усы называется Мамонью — «Мамонтовая река». В XVI-XVII веках на берегу Усы стоял Роговой городок — русская торговая фактория.
(обратно)
55
По другому рассказу, Уриер взял с собой на небо обеих жен и с детьми. Через несколько времени один из сыновей воротился на землю и рассказал самоедам о блаженстве небесном, о множестве оленьих стад, о прекрасных пастбищах и т.д.
(обратно)
56
В данном случае итарма
(иттарма, итырма) употребляется автором в значении «дух умершего шамана», что не совсем точно.
Иттарма обозначает в ненецком языке изображение умершего человека. Оно изготавливалось после смерти пожилых, уважаемых людей, в том числе шаманов.
Иттарма представляла собой комплект миниатюрной одежды, аналогичной обычной одежде с капюшоном. Внешне это напоминало фигурку человека. Изображение могло состоять из одной одежды, либо внутри нее могла находиться деревянная основа из веток, металлическая литая фигурка человека 5—15 см в высоту или даже пучок волос, срезанных у родственников умершего в знак траура. Считалось, что в
иттарме обитает душа умершего до того момента, когда она возродится в новорожденном потомке (обычно — внук или внучка). Поэтому за
иттармой ухаживали, как за живым человеком, — кормили, поили, укладывали спать. После возрождения души
иттарма становилась ненужной, и ее клали в могилу умершего, выносили в лес или сжигали.
Иттармы шаманов нередко оставляли в качестве семейных идолов и хранили в священной нарте, особенно если шаман был сильным и люди надеялись на его помощь и в дальнейшем. Данные обычаи характерны для ненцев и северных ханты.
(обратно)
57
Он говорил это мне.
(обратно)
58
Приведенная здесь оценка быта ненцев со стороны коми-зырян основывается на существенных различиях в культуре этих народов и непонимании особенностей образа жизни ненцев. Коми-зыряне к описываемому времени перешагнули в своем развитии ступень родового общества и полностью включились в товарно-денежные отношения. Оленеводство у них носило ярко выраженный товарный характер, продукция поступала на рынок, большое внимание уделялось торговле. Хозяйство ненцев, напротив, носило натуральный характер. Основой его являлось удовлетворение собственных потребностей, ориентация на торговлю практически отсутствовала. Большое значение продолжали играть у ненцев родовые отношения, которые предписывали помогать родне даже в ущерб себе. Такое отношение к хозяйству и имуществу было чуждо коми-зырянам и осуждалось ими. Таким образом, в данном случае «жить навыворот» означает жить не так, как коми-зыряне.
(обратно)
59
Сиртеи (сихиртя, сиртя, сирте) представляют собой легендарный народ, часто упоминаемый в ненецком фольклоре. Они выступают в ненецких сказках как предшественники ненцев в тундрах Европейского Севера и Сибири, занимавшиеся охотой на морского зверя и рыбалкой, оленеводства не знали. После прихода ненцев они якобы ушли под землю и живут там до сих пор. Фольклорные данные в последние десятилетия подтверждаются археологическими материалами. На п-ове Ямал обнаружено несколько древних поселений, принадлежавших досамодийскому населению, занимавшемуся морской охотой и обитавшему в землянках (отсюда, видимо, сюжет об уходе их под землю). Очевидно, сихиртя были ассимилированы предками ненцев. Современные исследователи склонны считать, что от сихиртя происходят некоторые ненецкие роды: Вануйта, Яптик, Ядне, Салиндер. В последнее время утверждается также точка зрения, что сихиртя состояли в отдаленном родстве с ненцами, являясь представителями саамского этнического круга.
(обратно)
60
Аржиш — неверная огласовка, возможно, при переводе. Правильно аргиш, что у многих народов Сибири, в том числе у ненцев и ханты, означает караван из оленьих нарт.
(обратно)
61
Речь идет о чумах — традиционных временных переносных жилищах северных оленеводов.
(обратно)
62
Самоеды называют Урал
Пае, т.е. камнем, а самую высокую вершину в каждом из его хребтов
Пае иepy — «Князем» или «Господином Урала». Речь идет о самой высокой горе (1742 м над уровнем моря) на Полярном Урале, которая называется Пай-Ер, что в переводе с ненецкого означает «Хозяин Камня» («пэ» — камень, «ерв» — хозяин, владыка, дух-хранитель) или «Владыка Урала».
(обратно)
63
Появление верблюдов в русском тексте — результат неверного перевода с немецкого. Речь, конечно же, идет об оленях.
(обратно)
64
Неточный перевод. Следует читать «пологих горных возвышенностей» .
(обратно)
65
Река Собь — левый приток Оби. По мнению А. К. Матвеева, известного специалиста по топонимике, название реки следует связывать с русским диалектным словом «собь» — пожитки («собенька» — котомка). Оно появилось в результате перевода ненецкого названия Пад яха «Котомочная река». Такое название вполне объяснимо: по Соби проходила одна из древнейших и наиболее популярных водных «дорог» в Сибирь.
(обратно)
66
«Вершина прохода» — перевал через Собский горный массив.
(обратно)
67
Калева — в карельской, финской и эстонской мифологиях прародитель богатырей, героев-великанов.
(обратно)
68
Неверная транскрипция при переводе или опечатка. Правильно — мадьяры: название венгров, принятое во многих странах и базирующееся на их самоназвании.
(обратно)
69
Здесь речь идет, очевидно, о патронимии, под которой понимается группа родственных семей, ведущих свое происхождение по мужской линии от одного предка. Патронимии у ханты являлись подразделением рода и могли быть достаточно крупными — более 100 человек. Родовая организация начала распадаться у обских угров еще до прихода русских, а после присоединения к России, во многом благодаря деятельности царской администрации, родовая структура исчезла почти полностью, и патронимия стала основной единицей социальной организации этих народов.
(обратно)
70
Это явление носит название экзогамии — запрет браков внутри какой-либо группы родственников, обычно рода или фратрии. У ненцев, сохранивших родовую организацию, существовала родовая экзогамия. У ханты и манси, утративших родовую структуру к XVI—XVII в., правило экзогамии стало применяться к патронимии (см. предыдущий комментарий). Поскольку члены одного рода у ненцев и одной патронимии у ханты носили одинаковую фамилию, правило экзогамии перешло в XVIII—XIX вв. на однофамильцев, даже если степень родства между ними уже не прослеживалась. Экзогамия имеет очень древнее происхождение и восходит еще к раннему первобытному обществу, выполняя функцию предохранения от кровосмесительных браков.
(обратно)
71
Обско-угорские княжества — территориальные военно-политические объединения, сложившиеся не позднее XII—XIV веков. «Князь югорский» впервые упоминался в древнерусских летописях в связи с походом новгородцев на Обь в 1193 году. В конце XV века в Нижнем Приобье существовало несколько княжеств, в том числе и Обдорское. Обдорский князь Тайша был крещен при Петре Великом под именем Алексея. Екатерина II в знак признания заслуг княжеского рода Тайшиных перед Российским государством присвоила Матвею Тайшину дворянское звание.
(обратно)
72
Турум (Торум, Нуми-Торум) — верховное божество в религии ханты и манси, творец земли, животных, растений и человека. Обитает на небе в золотом доме, в земных делах участия не принимает, поручив это своим детям и подчиненным духам. Слово
торум означает не только «божество», но и «небо, погода». Очевидно, превоначально обожествлялось само небо, а представления о небесном духе появились позже. Верования, связанные с Торумом, до настоящего времени играют большую роль в мировоззрении ханты и манси.
(обратно)
73
М. А. Кастрен здесь верно подметил наличие различных категорий духов: общественные (точнее родовые или общинные) и частные (то есть личные и семейные). Родовые духи у ханты считались детьми или внуками Торума и наделялись большими возможностями. Через них люди могли обращаться к самому Торуму, просить удачи в промыслах, здоровья и долголетия. Личные и семейные духи считались помощниками своих хозяев во всех делах, но уровень их возможностей был значительно ниже. Изображались и те, и другие в виде деревянных идолов (у Кастрена — кумиров), имеющих человекоподобный облик. Родовые идолы хранились в свайных амбарах (лабазах) на специальных священных местах, где несколько раз в году проводились коллективные жертвоприношения, часто с закланием жертвенного животного. Семейных и личных идолов держали дома, в особых ящиках или кожаных сумках, подношения им совершались в виде пищи и мелких подарков (лоскуты ткани, табак, украшения) по желанию хозяев, без четкой периодичности. В таких обрядах участвовали только члены семьи. К родовым идолам относились как к большой святыне независимо от обстоятельств, поскольку они считались потомками Торума. Отношение к семейным и личным идолам было гораздо проще — если они плохо помогали хозяевам, их можно было в наказание лишить подарков, выпороть или даже выбросить и заменить новыми.
(обратно)
74
«Общественные кумиры» — деревянные идолы, изображения духов-покровителей, предков-богатырей, поэтому их непременные атрибуты — воинские доспехи, кольчуги, сабли, шлемы.
(href=#r74>обратно)
75
В буквальном переводе с хантыйского
йилянь, елянь (у Кастрена —
йилъян) означает «священный». Этот эпитет применялся ханты для обозначения духов высокого ранга (в данном случае — родовых духов) и идолов, их изображающих. У ненцев такие духи и идолы назывались
сядэй. Более мелкие духи у ханты обозначались словом
лунг// лонг//лонх//тонх, у ненцев —
хэхэ (в тексте приводится «хаге», что является неверной транскрипцией при переводе). Разница заключалась в том, что ханты термином
лунг обозначали любых мелких духов — лесных и водных, личных и семейных, добрых и злых. То есть данный термин можно перевести как «дух вообще». Ненцы же называли
хэхэ только духов, помогающих людям, — личных и семейных. (См. также предыдущий комментарий).
(обратно)
76
В обрядности ханты наибольшее значение всегда имели периодические коллективные жертвоприношения весной и осенью, которые посвящались родовым духам-покровителям. Здесь и ниже описывается один из таких обрядов, проводившийся ханты Нижней Оби с наступлением осени. Он был посвящен духу по имени Елянь или Ортик, который считался богом войны и одним из главных покровителей всех нижнеобских ханты. Поэтому в обряде участвовали представители разных хантыйских фамилий (у Кастрена — родов), обитающих на данной территории, и большое значение придавалось оружию — саблям, стрелам, копьям. В других районах обитания ханты данный обряд неизвестен.
(обратно)
77
Здесь Кастрен приводит отрывок из труда академика П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (СПб., 1788). Это описание остяцкого праздника сделано учеником Палласа Василием Зуевым.
(обратно)
78
М. А. Кастрен, как и другие авторы того времени, называет домброй традиционный хантыйский музыкальный инструмент
нарс-юх (в переводе — «играющее дерево»). По принципу изготовления и использования он несколько напоминает домбру, чем и объясняется использование этого названия.
Нарс-юх состоял из корпуса удлиненной формы, выдолбленного из ели или кедра. Полость корпуса закрывалась декой с резонаторным отверстием в форме креста. Сверху натягивались струны из оленьих жил. Играли на инструменте исключительно мужчины, положив его на колени и перебирая струны пальцами..
(обратно)
79
Меанг (точнее —
менг или
менке) — в представлениях ханты это лесной великан, покрытый шерстью. Он опасен для людей, поскольку является людоедом. В хантыйских сказках часто говорится, что он может иметь несколько голов. Люди избегали посещать места, которые считались его логовом. Не совсем верно определение его как лесного бога. Он является лесным только в том смысле, что живет в лесу. Хозяином же леса, животных и растений считается обычно другой дух —
Вонт-
лунг (Лесной дух). Искажение объясняется, очевидно, тем, что
менке фигурировал в рассказах ханты как самое большое и опасное лесное существо.
(обратно)
80
Кули (в ед. числе следует читать — куль). Так северные ханты могли называть любых духов, но чаще это название применялось только к злым духам. Название
куль употреблялось параллельно с
лунг (см. также комментарий 63).
(обратно)
81
Деревья занимали важное место в верованиях ханты, однако священными они считались не сами по себе, а благодаря их связи с духами. Так, береза почиталась деревом Торума и других небесных духов. Подарки, которые подносили этим духам при жертвоприношениях, вешали на березу. У самых северных групп ханты (как и у ненцев) те же функции выполняла лиственница — единственное дерево, растущее далеко в тундрах. Деревом духа нижнего (подземного) мира, главы всех злых существ считалась сосна. Важное место в религии играл кедр, однако оценивался он по-разному. В некоторых группах ханты он считался деревом Торума, в других — деревом злых духов. В целом ко всем деревьям ханты относились, как к живым существам, имеющим душу. Поэтому старались без нужды не рубить их, на дрова использовали сухостой.
Священные места действительно являются главным атрибутом верований ханты. Они достаточно многочисленны до настоящего времени. Различается два вида священных мест. Первый вид подразумевает наличие священного амбарчика на сваях, где хранится идол. Такие места на лесных возвышенностях или болотных островах устраивали для родовых и значительных небесных духов. Это «рукотворные» священные места, которые теряли святость при переносе идола. Другой вид священных мест носит постоянный характер. Эти места представляют собой чем-либо выдающиеся участки местности — сопки, горы, поляны в лесу и т.п. Они обычно связываются с какими-то прошлыми событиями из жизни духов или предков (битва, остановка на отдых, празднование и пр.), на чем и основывается их почитание. На всех священных местах запрещалось охотиться, собирать ягоды, рубить деревья, поскольку все здесь считалось собственностью духов. Чтобы заручиться их поддержкой, на священных местах проводились жертвоприношения, закалывали жертвенное животное, на деревья вешали ткани и шкуры, бросали монеты.
(обратно)
82
Представления о женской нечистоте имеют очень древние религиозные корни и встречаются у многих народов, в том числе у ханты. Это связано с особенностями женской физиологии и представлениями о «мертвой» крови, источником которой является женщина в определенные периоды. Магическим образом мертвая кровь может якобы умертвить и все, к чему она прикоснется. В связи с этими верованиями на женщину возлагался ряд запретов и правил поведения — не перешагивать через мужские вещи, не забираться на чердак или лестницу, уходить во время родов и месячных в специально построенный для этого домик. Однако эти правила нельзя называть унижением, как считал Кастрен и другие авторы, так как в их соблюдении были заинтересованы и сами женщины: сохранится чистота снастей — они будут удачливы в промысле, и вся семья, в том числе и женщина, будет сыта. Кроме того, если женщина соблюдает свои запреты, мужчина точно так же соблюдает свои. Общество ханты строится на четком разделении функций между полами, исходя из максимальной целесообразности. Таким разделением труда объясняется еще один феномен, который вызывал у путешественников впечатление угнетенного положения женщин. Это то, что мужчина практически никогда не помогал жене в домашних работах, а проводил дома большую часть времени отдыхая. Объяснение такой «несправедливости» крайне рационально: мужчина работает с предельным напряжением сил во время охоты и рыбалки, особенно в зимнее время, когда холода весьма суровы, поэтому организм требует периода восстановления, который мужчина и проводит дома, набираясь сил для очередного промысла.
(обратно)
83
В действительности срок траура составляет один год. Два года, названные Кастрену, представляют собой ритуальные годы, которые у северных ханты равны половине обычного (отдельным годом считается зима, отдельным — лето). Все сроки, связанные с религиозными обрядами, считаются именно ритуальными годами.
(обратно)
84
Здесь опечатка: следует читать «Надыму».
(обратно)
85
В данном случае нельзя согласиться с выводом М. А. Кастрена. Исторический опыт и исследования последних лет доказывают, что народы, практикующие оседлое рыболовство, достигают в первобытном обществе наибольших успехов в экономическом и социальном развитии. Так, именно у обских ханты раньше других народов началось разложение родовых отношений и формирование протогосударственных образований — княжеств. Ситуация же, зафиксированная автором, вызвана тем, что обские ханты-рыболовы раньше других и в наибольших масштабах испытали на себе влияние русской колонизации — отторжение угодий, неравная торговля, насильственное крещение, спаивание. Таким образом, негативные явления, отмеченные Кастреном, есть не закономерность развития рыболовческих народов, а историческая трагедия обских ханты.
(обратно)
86
Следует читать: сырок (пыжьян).
(обратно)
87
Имеется в виду рыболовный запор — древнейшее и наиболее эффективное рыболовное приспособление народов Обского Севера. При сооружении запора перегораживали небольшую реку жердями, вбитыми в дно. Среди жердей оставляли проем, в который устанавливали гимгу (вершу). Рыба, не находя иного пути, устремлялась в ловушку. Добычливость такого приспособления очень велика, сезон запорного лова обеспечивает запас рыбы на всю зиму.
(обратно)
88
Судя по всему, речь идет о перемете — приспособлении для ловли крупной рыбы. Перемет представляет собой веревку, к которой на равном расстоянии привязаны железные крюки длиной 10—15 см. Над крюками крепятся кусочки бересты, служащие приманкой. Снасть натягивается через всю реку и неглубоко погружается в воду.
(обратно)
89
Здесь имеются в виду наземные бревенчатые избы остяков, за которыми почему-то в литературе XVII—XIX веков закрепилось название степного переносного жилища тюрков — «юрта».
(обратно)
90
Землянки — углубленные бревенчатые срубные или каркасные жилые сооружения, обкладывавшиеся сверху дерном. Один из древнейших таежных типов жилищ. В течение XVIII-XIX веков постепенно вытеснялись наземными избами.
(обратно)
91
О переселении отдельных групп коми-зырян в Нижнее Приобье говорится в Вымско-Вычегодской летописи, «Слове о житии и учении Святого Стефана, бывшего в Перми епископа», написанного в 1396—1397 годах Епифанием Премудрым. Эти сведения дополняются преданиями вычегодских коми и нижнеобских остяков, данными лингвистики и топонимики. В 1979—1984 годах при раскопках двух средневековых городищ в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа у пос. Перегребное и Шеркалы были получены материальные свидетельства о проживании древних коми-переселенцев на Оби в конце XII—XIII веках.
(обратно)
Оглавление
Кастрен Матиас Алексантери. Лапландия. Карелия. Россия
Предисловие
Путешествие в Лапландию в 1838 году
I. Путешествие от Торнео в Кирёки, в Энарском округе пограничной Лапонии
II. Путешествие от Кирёби до Утсъйоки
III. Возвратный путь из Утсъйоки в Кеми
Поездка в Русскую Карелию летом 1839 года
Путешествие в Лапландию, Северную Россию и Сибирь с ноября 1841 до марта 1844 года
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Указатель наиболее значительных имен, встречающихся в тексте
В поисках колыбели финского народа
*** Примечания ***