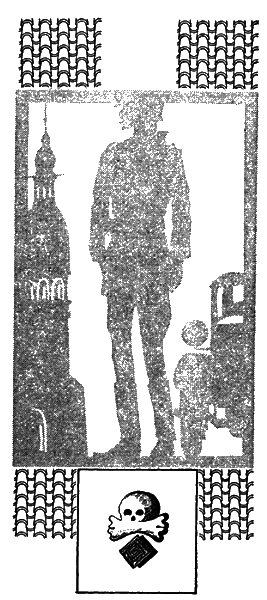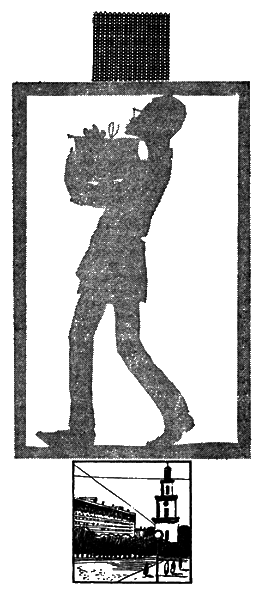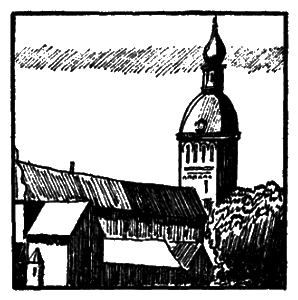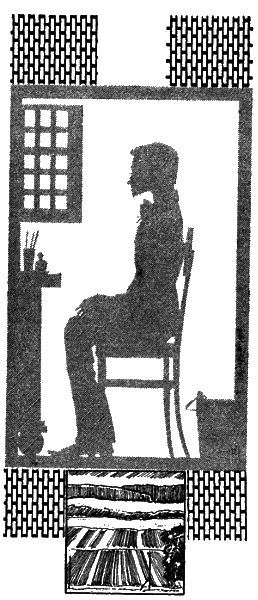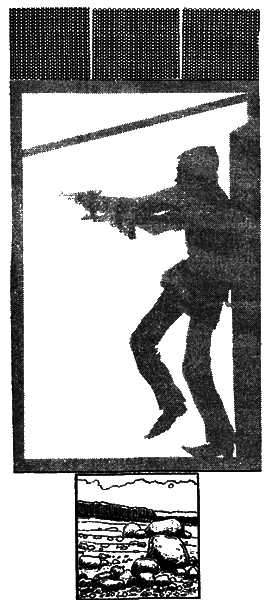АЛБЕРТ БЭЛ
Голос зовущего
РОМАНЫ

*
Перевод с латышского С. ЦЕБАКОВСКОГО
Художник Вл. МЕДВЕДЕВ
М., Издательство «Известия», 1979
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Никто из названных здесь лиц в действительности не существует.
Автор.
А по-моему, вас разыграли.
Следователь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вор приставил лестницу к балкону, выбил дверное стекло и залез в мастерскую. Глянув поверх балюстрады, Следователь увидел на снегу оставшиеся от лестницы ямки, путаницу следов и вмятины в тех местах, куда на веревке были спущены скульптуры. С какой только стати было так церемониться с украденным, если вор намеревался все это разбить и покорежить? У Следователя промелькнула догадка, что вор побоялся шуметь — мерзлая земля была лишь слегка припущена снегом, и большие скульптуры, весившие, по крайней мере, восемьдесят, а то и сто килограммов, сброшенные со второго этажа, шум произвели бы немалый. Мастерскую от спальни отделяли две тонкие двери и коридор, так что скульптор или жена его непременно бы проснулись. Впрочем, Следователь тут же подумал, что, лежа в постели с этой дьявольски красивой женщиной, муж навряд ли прислушивается к шорохам в саду. Протоптанная в снегу дорожка тянулась к забору. Пройдя по ней, вор сбросил свою добычу — шесть каменных скульптур, четыре бронзовых бюста — в воронку от снаряда, оставшуюся еще от военных лет, метрах в ста от дома по направлению к морю. Скульптуры из камня были расколоты; бронзовые покорежены до неузнаваемости тупым металлическим предметом, видимо, обухом топора. «Кто мог такое сделать? А главное — зачем? До сих пор в моей практике не встречалось ничего подобного», — признался себе Следователь.
— Я вернулся в мастерскую в половине шестого вечера, — начал скульптор.
Был он среднего роста, сухощавый, крепкий. Продолговатое худое лицо, светлые, коротко остриженные волосы. Глаза серые с синим отливом, взгляд пристальный, но не резкий. Ладони широкие, пальцы длинные, сильные— настоящие руки ваятеля. Весь его вид говорил о внутренней собранности и душевном равновесии. При ходьбе он прихрамывал на левую ногу.
«Крепкий парень, — подумал про себя Следователь. — Сразу не раскусишь».
— Расскажите, чем вы занимались сегодня? Рассказывайте подробно и по порядку. Начните с того, что делали утром.
«Какое это имеет значение, что я делал утром? — подумал скульптор. — И все же постараюсь припомнить. Конечно, я не в состоянии все рассказать, но повторить самому себе — это можно. И времени много не займет».
ГЛАВА ВТОРАЯ
Не помню утра, которое было бы в точности похоже на предыдущее, хотя, раскрывая глаза, всегда вижу один и тот же бордюр на стене.
Сладкая дрема смежила веки, и мне стоило огромных усилий поднять их. Но вот включилась воля, ее приказы разлетелись к координирующим центрам, и сразу пришло облегчение. Я залежался на спине и теперь ощутил под лопатками тупую боль. Захотелось потянуться, сжимая и разжимая пальцы ног, напрягая икры, мышцы бедер, пока приятное тепло не разольется по телу. Потом бы я принялся пружинить мышцы, начиная от ягодиц и до самых плеч, а под конец крепко сжал бы брюшную мышцу и рывком расслабил весь механизм.
Пока это было возможно проделать лишь мысленно, потому что проснулся я раньше времени и мог разбудить Еву. Она лежала справа от меня, и я чувствовал, как поднимаются ее груди при вдохе. А мои онемевшие мускулы все больше и больше ныли. Вечная история: когда нельзя чего-то сделать, хочется сделать именно это. Становилось совсем невтерпеж, казалось, не шевельнись я сию же минуту, сломаюсь, как высохшее дерево. Осторожно вытянул левую ногу, так что хрустнули щиколотки. С удовольствием повертел ступней, раз-другой напряг и расслабил брюшные, бедренные мышцы. В последнее время мускулатура мне представлялась ненужной роскошью, и я не раз уж решал отказаться от упражнений с гантелями и двухпудовой гирей, но, вопреки всем решениям, каждое новое утро настоятельно требовало от меня зарядки. Я превращался в раба своих мышц.
Лежа на спине, растянулся во весь рост, осязая льняную простыню под собой и теплую шерсть одеяла сверху. Осторожно повернул голову. Ева спала на левом боку, волосы спадали на лицо, губы были полуоткрыты, дыхание легкое, ровное. Так же осторожно отвернулся. По опыту знал, что с онемевшими мышцами смогу пролежать не более пяти — десяти минут, да и то в том случае, если в голову придет хорошая мысль. Просыпаться всегда приятно, но еще приятней проснуться с хорошей мыслью. Уже четыре года или, по крайней мере, около четырех, отправляясь вечером на боковую, я мечтаю проснуться утром с хорошей мыслью. Так повелось с тех пор, как мне исполнилось двадцать пять, может, немного позже, точно не припомню, во всяком случае, с большим опозданием. Пожалуй, слишком большим. Как жаль, что меня с трехлетнего возраста не приучили каждое утро ожидать хорошей мысли. Сначала землю следует вспахать. Для того и нужна черновая работа. У меня, конечно, есть записная книжка, куда я заношу свои мысли, но ко мне еще ни разу не приходила мысль настолько хорошая, что ее можно было бы удержать и без записи. Как, например, Эйнштейну его мысль о теории относительности. Правда, Эйнштейн занимался физикой, я же скульптор, но принципы для всех профессий одинаковы. Как и движущие силы — ум, талант, интуиция, искренность. По вечерам к тому времени, когда Ева засыпает, я еще с полчаса бодрствую. Высчитываю коэффициент полезного действия прошедшего дня. Оглядываюсь, вижу. столько-то часов потрачено явно нецелесообразно, столько-то не вполне целесообразно. Несчастье, на мой взгляд, заключается в том, что я работаю неравномерно. Однако, поразмыслив, прихожу к выводу, что, помимо физического коэффициента полезного действия, существует еще и некий духовный коэффициент. Лентяй всегда отыщет отговорку! Если я, к примеру, всю неделю тружусь, как проклятый, перемешивая горы глины, и пот с меня льется ручьями, а вечерами валюсь в постель и засыпаю как убитый, не поцеловав даже Еву, где уж тут высчитывать коэффициент полезного действия. Потом вдруг придет неделя, и я бью баклуши, слоняюсь вдоль моря, любуюсь узорами на песке, ворошу морские водоросли, пока не посчастливится отыскать в них крохотный кусочек янтаря, затем стараюсь убедить себя, что день прошел великолепно. Не важно, чего стоит находка, важно другое — ты что-то нашел.
Ева перевернулась на спину, задышала глубже и размеренней. Иногда я просыпаюсь ночью — сколько ни слушаю, ничего не слышу. Ева дышит почти беззвучно. Я весь обращаюсь в слух, задерживаю дыхание, сажусь, склоняюсь над Евой. Я пригибаюсь так близко, что чувствую тепло ее тела. Но только припав ухом к Евиной груди, улавливаю очередность вдохов и выдохов, слышу глухие удары сердца. Ночью сердце Евы бьется на редкость медленно, на два моих удара — у нее один. А в глубоком сне на пять моих приходится только два ее. Сейчас она проснется. Последний глоток дремы. Возможно, Еве снится сон, ей хочется досмотреть его до конца. Но теперь-то я могу потянуться, расправить лопатки, сжать брюшные мышцы, вытолкнуть из легких застоявшийся воздух. Я согласен с йогами: дыхание — наиважнейший жизненный процесс, и тот, кто дышит правильно, тот и мыслит правильно. Я вытягиваюсь. Закладываю руки за голову, сжимаю пальцы в кулак, все тело сжимаю в кулак. Внезапно расслабляюсь. Кровь убыстряет бег.
Лежу, весь в струнку вытянулся, левой рукой снимаю с себя одеяло. Перегибаю его пополам, укрываю Еву. Теперь она спит под двойным покровом, она любит тепло. Ева мурлычет во сне. Котенок! Сейчас, сейчас она проснется.
Я поднимаю ноги, развожу их наподобие ножниц. Сгибаю в коленях. Некоторое время лежу не шелохнувшись. Интересно, что будет дальше. Сразу ли встанет или захочет понежиться, пересказать виденные сны?
— Проснись.
— Мурр.
— Что тебе снится?
— Африка.
— А точнее?
— Кейптаун. И в красках. С черными-пречерными неграми, с красными автомобилями, зелеными пальмами, фиолетовым асфальтом. Дождь только-только прошел, по улицам хлещут потоки, до того грязные, что кажутся фиолетовыми.
— А я тоже в Кейптауне?
— Нет.
— Но я все-таки твой муж?
— Ты мой муж.
— Тогда просыпайся.
— Просыпаюсь.
Ева смотрит на меня вполглаза, потом ее веки опять закрываются. Она спит. Она шлепает босыми ногами по лужам Кейптауна. Но это ненадолго. Сон отлетел. Лишь во сне земной шар такой маленький, портативный, а проснулся— и моря заполнились до краев, горы сделались неприступными, лесные чащи непроходимыми, и ты опять становишься самим собой. В мгновение ока все преобразилось. И ты уже не Аладдин.
Я спускаю ноги с кровати. Ступнями нащупываю ковровый ворс. Встаю, иду открыть окно. Ковер постелен посреди комнаты, до стены не доходит, и метр-другой я шлепаю по холодному полу. Половицы синевато-серые, и оттого тем холодней они кажутся. Я забыл надеть шлепанцы, они, ухмыляясь, глядят из-под кровати. Я ступаю на пятки, высоко задрав носки, неестественно выпрямившись, чтобы сохранить равновесие. В окне двойные рамы, первая открылась охотно, вторая примерзла. Дернул— и пахнуло свежестью. Воздух чистый, будто только что из прачечной и все еще пахнет стиральным порошком.
Небо мутное, в серой паутине. Я видел утра, когда небо светлое, точно отбеленный холст, и утра, когда облака, сгрудившись на востоке, укрывают солнце, и утра, когда в тумане, как в жемчужине, преломлялись лучи, а на макушке ольхи сверкали росинки. Я видел утра, когда синие журавли уносили на крыльях солнце, а скалы грелись на берегу, точно синие медвежата, а из-за холмов выползала синяя змея. Тропинка. Сегодня мне что-то не нравится небо. Очень не нравится.
Беру гантели, крепко сжимаю их, ладони ощущают шероховатость металла и его земное притяжение. Стою по стойке смирно, руки на бедрах, несколько глубоких вдохов, и я приступаю к зарядке. Мускулы напрягаются, расслабляются, хрустят хрящи, суставы.
Утро наступило. Такое обычное, такое похожее на другие утра. Как всегда, лежит Ева, скосив на меня сонные глаза. Как всегда, окно открыто настежь, и промозглый зимний воздух крадет у комнаты ее уют. А сколько раз мы, проснувшись, подолгу валялись в постели, и Ева опаздывала на работу, и мы нежились, любя, лаская друг друга!
Но рано или поздно наступал момент, и объявлялась мобилизация.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В детстве я был удивительно беспомощным и хилым созданием.
Мои школьные товарищи, мальчишки-первоклашки, к тому времени успели набраться кое-какого житейского опыта. Учителя уважали бойких ребят, не терявшихся у доски и толково отвечавших урок. Ребята уважали забияк и драчунов. Так зарождалось понятие: толковый и бестолковый. Учиться можно было на «тройку», драться полагалось на «пять» с плюсом.
Был я худым и щуплым, но одевали меня прямо-таки франтом. В восемь лет я, словно барич, расхаживал в коротких штанишках, тщательно отглаженных, в белоснежной, накрахмаленной сорочке, в черном пиджачке. Добавьте к этому галстук, завязанный бантом.
Улица встречала меня грохотом, лошадиным ржанием, клаксонами, клубами пыли. Я всегда боялся улицы, боялся лет до шестнадцати, а то и семнадцати. Но не думайте, что меня пугали клаксоны, лошадиное ржание, нет, я с удовольствием вдыхал в себя терпкий запах пота, которым несло от упряжек извозчиков. Меня пугали люди. Я не мог понять, куда они так спешат или, напротив, едва-едва плетутся, почему не глядят на меня, почему у них такие огромные ноги, почему их лица так серьезны? Я шел прямо, только прямо, по улице-стреле. В конце стрелы была моя школа. Я открывал дверь и попадал в вестибюль. В нем гудел, жужжал, бурлил и пенился неугомонный мальчишечий базар. Носились сломя голову, толкали, пинали, — современный хоккей в сравнении с этим ничто, — сбивали с ног. И я, стараясь не привлекать к себе внимания, пробирался, прижимаясь к стене. Мне хотелось поскорей проскочить в гардероб, снять пальто и бант, чтобы быть готовым к любой неожиданности. Когда я возвращался домой, первым делом придирчиво осматривали мой бант, потому-то я так берег его. Иногда мне удавалось приготовиться к бою, иногда нет. Каждое утро один чумазый сорванец то ли из третьего, то ли из четвертого класса норовил сорвать с меня бант. Я был раза в два меньше и, по крайней мере, в шесть раз опрятней, чем он. Сорванец являлся в школу пораньше, чтобы поупражняться в вольной борьбе, и к тому времени, когда приходил я, он успевал поваляться на полу и обтереть все стены. В ежедневную программу сорванца входило, во-первых, дернуть меня за бант! Во-вторых, сбить с ног! В-третьих, своей грязной лапой пройтись по моему лицу! Когда меня сбивали с ног или дергали за бант, страдала только одежда. Но руки у того сорванца были влажные и липкие, как слизняки, и я в дикой ярости набрасывался на него с кулаками, потому что большего оскорбления себе не представлял. Вокруг нас сразу же собиралась орава ребят, они кричали, гоготали, подбадривали:
— Держись, малыш!
— Дай ему, дай!
— Кинь двойного нельсона!
Через некоторое время появлялся кто-нибудь из учителей.
Ребята разбегались врассыпную. А я, грязный, помятый, с расквашенным носом, стремглав несся в класс. Там повязывал бант, если перед боем успевал его снять, и сидел тише воды, ниже травы. Как я ненавидел эти потасовки!
Зато ребята со мною считались. Даже побаивались. И все же я был хилым. Руки тонкие, без мускулов, плечи узкие, без мускулов, шея длинная, без мускулов, ноги худые, без мускулов.
Когда я перешел в четвертый, у нас в школе появился новый учитель физкультуры, бывший летчик. На первом же уроке он показал нам пожелтевшую газетную вырезку со своей фотографией. Я боготворил учителя до тех пор, пока он всех, кто не смог подтянуться на турнике, не стал подтягивать кверху за уши. Четыре раза он поднимал меня таким образом, а я, как мог, помогал ему своими немощными мускулами. Мне казалось, голова моя вот-вот расколется. Ребята ржали от удовольствия.
И после этого в классе подметили, что уши у меня красные, к тому же большего, чем следует, размера. Небольшой как будто анатомический недостаток, а сколько насмешек пришлось претерпеть. Я занялся физкультурой. Мне захотелось стать сильным и отомстить учителю. Каждое утро я размахивал гантелями, переходя все к большим тяжестям, пока мои мышцы не налились металлом. Учитель из школы ушел, следы его, как сказали бы индейцы, затерялись, а я продолжал заниматься физкультурой. В семнадцать лет я был таким же сильным, как теперь, хотя и менее плечистым и закаленным, но все-таки сильным. Я собирал сведения об учителе. Он переменил профессию, работал где-то в деревне ветеринаром. Я уже собрался было съездить в те края, дать взбучку доблестному соколу, но какое-то событие, теперь не помню какое, расстроило мои планы. Вскоре учитель вылетел у меня из головы. Но несколько лет спустя я неожиданно встретил его в Риге. Шел я по улице, а он стоял у витрины магазина «Динамо», разглядывая боксерские перчатки, теннисные ракетки, велосипедные шины. Я остановился, заглянул ему в лицо. Учитель казался печальным, постаревшим. А я был мускулистый и сильный. Я был в боевой готовности. Когда-то он за уши подтягивал меня к перекладине турника для того, чтобы я осознал, как важно быть сильным. Свою миссию он выполнил. Учитель посмотрел на меня, но не узнал. И ушел, по-медвежьи косолапя. Куда делась его прежняя выправка. И мне стало жаль его, а ведь я собирался поколотить его, на худой конец, надрать уши.
У Земли есть свое прошлое, свои геологические пласты. У человека тоже. И, видно, где-то очень глубоко во мне гнездятся сорняки, от которых трудно избавиться. Столько лет я носил в себе ненависть, полагая, что это ненависть. Я, видите ли, должен был отомстить за свои уши! Но кому нужна подобная месть! Учитель стольких драл за уши, что и в лицо всех не запомнил. И все же, откуда во мне такая мягкотелость, сердобольность? Может, это и есть досточтимая человечность? Или просто холодный расчет — время работает на меня.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Который час?
— Семь.
— Как не хочется вставать.
— Это оттого, что темно.
— И все-таки встану!
— Молодчина. Но ты не торопись.
— Еда в холодильнике. А может, меня подождешь?
— Нет, Су мне поможет.
— А вдруг заупрямится? Он ведь упрямый субъект.
— Не беспокойся, я его заставлю! Напомню о семейном равноправии, о супружеских обязанностях и тому подобных вещах. А если все-таки заартачится, наподдам разок-другой по мягкому месту.
— Ты очень мил.
— С утра все милы.
— Нет, не все. Только ты.
— И ты.
— Мы оба милы.
Я отправился в ванную, наскоро умылся, ополоснув водою шею, плечи, спину, потом растерся полотенцем, оделся. Зашел на кухню, зажег газ, отвернул кран и, пока струя, шипя и пенясь, текла в чайник, я, не отрываясь, смотрел на серую стену.
Я выпятил губы с этаким самодовольным подобострастием, к тому же раздул щеки, не очень, конечно, — ровно настолько, чтобы выражение лица было в достаточной мере благопристойным и глупым. Комбинация не из легких! Но больше всего хлопот доставили глаза. Я вперил их в стену, стараясь выжать взгляд покладистого ослика. Тем временем чайник наполнился до краев. Я расправил плечи и, одеревенело вскидывая ноги, пошел к плите.
— Эй, Паул! — крикнул я небрежно-фамильярно и все же довольно строго, чтобы преисполниться уважения к своей персоне. — Слышишь, Паул! Давай-ка скорей бутерброды с миногами!
Паул — мой секрет. Старый, проверенный кадр. Он помогает мне, где только можно помочь. Странный тип, не правда ли? Могу поспорить, у него нет собственных мыслей, а во всем остальном — неплохой человек. Итак, за работу! В мгновение ока я превратился в Паула. Превращение прошло без осложнений. Все необходимое уже было на моем лице, оставалось отобрать самое характерное. Раздувая щеки от усердия, Паул взялся за дело. Хлеб был совсем свежий. Паул резал его большим ножом, намазывал маслом, а сверху клал кусочки миног. На каждый ломтик хлеба приходилась половинка миноги.
— Эй, Су! — крикнул Паул. — Бутерброды готовы!
Паул обожал покрикивать. Как и всякий непоседливый товарищ, он терпеть не мог спокойной, размеренной речи. Я тут же преобразился в Су. Глядя ласково, искательно, расправив плечи и одеревенело вскидывая ноги, Су понес бутерброды в столовую.
Вернувшись на кухню, Су отрезал еще несколько ломтиков.
— Паул, — сказал Су, — как называется этот хлеб?
— Французская булка.
— До чего ж ты умен!
Хлеб был такой аппетитный, мягкий, податливый, и у меня с лица как-то сразу улетучилось все постороннее, я забыл о том, что я Паул и Су, забыл, что должен накрывать на стол. Я смял хлебный мякиш. Я снова был скульптором. Одна интересная мысль давно не давала мне покоя, и я решил проверить ее на деле. Вылепленная фигурка мне не понравилась, и я тут же съел свое творение. Взглянув на часы, обнаружил, что на это занятие ушло восемь минут. Про себя еще подумал: «Будь я достаточно терпелив, поработай минут двенадцать, возможно, мне не пришлось бы съесть фигурку. Так еще, чего доброго, поддавшись вдохновению, растолстеешь или вовсе аппетита лишишься».
Я осторожно постучал в дверь спальной.
Ева сидела за туалетным столиком из светлого клена. Обернулась, на лоб упала темная прядка, карие глаза сверкнули озорством. Покатые плечи прикрывали белые кружева. В правой руке она держала синюю фарфоровую баночку. Перед зеркалом — шпильки, гребенки, пудра с пуховкой из страусовых перьев, алый стерженек губной помады. Легким прикосновением кончиков пальцев Ева растирала крем по лицу.
— Сударыня, кушать подано, — сказал я с поклоном.
— Ступайте, сейчас приду.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Так я забавлялся по утрам, когда не работал.
Но бывают утра, когда, еще не проснувшись, я думаю о работе. Сплю и чувствую откровение, словно соль на губах. Чувствую, что день будет страдным, а глина послушной. У меня тонкий слух, я улавливаю малейшее дуновение ветра. «Ветер, — говорю я, — какой ты?» — «Я теплый», — отвечает ветер. Чтобы хорошо работалось, ветер должен быть теплым. Иначе не распахнешь окно. Окно же распахнуть необходимо, не могу работать в тишине, я должен слышать мирские шумы. Во дворе кричат дети, их голоса, словно тонкие прочные нити, соединяют меня с жизнью. Я слышу гудки автомобилей, это уже канаты, но они так резко обрываются. Моторы капризны! Иной раз день выдается тихим, я чувствую, как мышь пробегает по двору, и я улыбаюсь, потому что я со-участник того таинства, имя которому жизнь. А в те утра, когда дует холодный ветер, мне тяжело просыпаться, и я долго ворочаюсь с боку на бок, прежде чем встать. Случается, я вижу сны, иногда они о работе, иногда фантастичны, без видимой связи с жизнью, по крайней мере, в том смысле, в каком эту самую жизнь понимает большинство людей.
Этой ночью мне почудилось, что я проснулся, и чей-то голос сказал: «Ну вот, теперь ты бог!»
Я стоял на гребне облака и в то же время глядел на себя откуда-то со стороны. Да, это был я, Юрис Ригер. Я прекрасно понимал, что сплю, что вижу сон, мне даже казалось, я уже не раз по ночам взбирался на это облако, но всякий раз мне что-нибудь мешало досмотреть до конца свой сон. Вокруг простиралась бесконечность. Не всякому дано увидеть подобные вещи. А между тем события шли своим чередом.
Я стоял на круче облаков, мимо проносились ангелы. Впереди каждого летела коза, ангел держал ее за хвост, на спине у козы были крылья, скорость полета достигала ста километров в час. Одежды ангелов развевались на ветру. «Еретический сон, — подумал я, — тот еще сон, хорошо, что я неверующий!» Проносясь со свистом, ангелы салютовали мне левым крылом.
— Куда они так торопятся? — удивился я.
— Они одержимы бесом, — ответил голос. — Да ты не расстраивайся, вот сотворим свой мир, чертей спровадим в ад, и тогда ангелочки вздохнут с облегчением.
— Кто, кто сотворит мир? — спросил я.
Мне хотелось разглядеть говорившего, но как я ни старался, ничего не увидел. Ну, погоди, сейчас ты мне откроешься, старче! У меня, видимо, был на уме какой-то ловкий трюк, с помощью которого я собирался распознать своего собеседника, но, как часто бывает во сне, я никак не мог вспомнить, что это за трюк.
— Ты сотворишь мир! — произнес торжественно голос.
Передо мною выстроилось множество людей. Правда, они только до пояса походили на людей, а нижней своей частью напоминали ванек-встанек. У меня появилось желание перестроить человечков на свой собственный лад, потому что у меня, как личности творческой, имелись свои планы переустройства мира. Я добивался того, чтоб крикуны не кричали в уши тихоням, чтоб бесстыдники не совращали целомудренных, чтоб ненормальные не отравляли жизнь нормальным, но люди вдруг всполошились, стали колотиться друг о дружку и кричать на разные голоса:
— Мы сами! Все сделаем сами!
— Кто они? — спросил я.
— Не нашедшие себя люди, и ты должен вместо них сотворить мир. Не могу же я этих тупиц допустить к созданию цивилизации!
— А разве цивилизация до сих пор не существует?!
— Постой, — сказал мне голос, — взгляни, как из яиц вылупливаются мои верблюды.
Облака превратились в яйца. Из них вылуплялись верблюды так, что треск стоял. Одногорбые, двугорбые, серые, черные, коричневые верблюды. Еще совсем маленькие, с влажной слежавшейся шерсткой, они неуверенно вставали на длинные тонкие, как былинки, ножки, беспомощно покачивались и жалобно мычали. Верблюдов было так много, что вскоре подо мною образовалась живая гора.
— Я сотворил верблюдов! Аминь! — сказал голос.
Тут я проснулся, потому что верблюды тронулись в путь, а я был низвергнут в бездонность, в бесконечность. Забавный, хотя и утомительный сон, в нем все время приходилось быть начеку, к тому же еще наблюдать за собой со стороны.
Не нравятся мне сны, которые не разрешают поставленной задачи. Не нравятся мне сны, которые разрешают задачу неправильно. И уж тем более не нравятся сны, которые разрешают задачу лишь формально правильно, уводя меня в сторону и уподобляя мою философию Пизанской башне. Я проштудировал — от древних греков до наших дней — все, что касается скульптуры. И каждый вечер я даю себе наказ искать то великое неизвестное. Машина работает даже во сне. Утром я должен разобраться в полученной информации. Моя философская система основана на том, что жить имеет смысл уплотненной жизнью. Я уверен, большинство людей безбожно обкрадывает себя, прожив, в сущности, одну шестую часть того времени, когда открыты глаза и действует рассудок. Конечно, емкое восприятие мира требует и большого расхода энергии, на первый взгляд может показаться, что человек, на все смотрящий сквозь увеличительное стекло, непременно должен свихнуться, попасть в желтый дом. Но это неверно. Как неверно и то, что нельзя купаться зимой в проруби. Смерть, воспаление легких! Ничего подобного. Морж закален, ледяная вода ласкает кожу. Главное — тренировка.

В свое время мне нравился бокс. Я был чемпионом спортивного общества. На ринге все кончалось быстро, девять-десять минут, не считая отдыха между раундами. Необходимость вынуждала мобилизовать силы, внимание, волю на короткое время. Победа или поражение. Я любил бокс еще и потому, что в нем (как сказали бы индейцы) ты видишь скальп противника. Бывали и поражения, однако нокаутов — ни разу. Меня бьют, но я могу дать сдачи, взять реванш завтра или послезавтра.
Теперь раунд идет без передышки. Противник невидим, в конце поединка человек падает, сраженный недозволенным приемом — его просто скосили косой. «Где судья? Судью на мыло!» И длится этот раунд примерно шестьдесят, ну семьдесят лет, завершаясь неизбежным нокаутом. Проиграв бой на ринге, можешь спокойно отдышаться в раздевалке, а тут секунданты положат тебя в гроб и отнесут куда подальше, чтобы самим без промедлений занять твое место за канатами. И матч продолжается. Конечно, такое упорство похвально. Однако в подобном суждении кроется ошибка, я-то ее обнаружил, но вам ни за что не скажу.
Однажды я видел необычную мозаику. Художник испестрил доску гвоздями. С медными, железными, бронзовыми головками. Цвет. Форма. И еще без ведома автора в эту доску была вбита такая мысль: что делать, раз судьба определила быть тебе гвоздиком?
Нужен ринг. Твердый пол, в который можно упереться ногами. Затем нужно отыскать противника. Нельзя драться с абстрактной Смертью, противника нужно отыскать среди смертных людей. «Неужели же всем заниматься боксом?» — скажете вы. Боже упаси, у меня и в мыслях такого не было. Бокс, в сущности, нездоровый вид спорта, и не всякий череп его выдержит. Займитесь яхтами! Свежий ветер, солнце, голубое небо! Только не уподобляйтесь тому мальчишке, который со второго этажа любовался лужей посреди двора. Отличная лужа! Самые отпетые сорванцы не решались бродить по ней. Подул ветер, лужа подернулась рябью, и малыш воскликнул: «Какие волны!»
Большего моря для него не существовало.
Вот сейчас я поем и примусь за работу. Никакой господь бог не сможет за меня сотворить мой мир. Только я сам. Чтобы пробить брешь в стене, ее следует беспрерывно бомбить. Хотя бы мыслями.
— А знаешь, что я придумала? — сказала Ева.
— Нет, — ответил я.
Начинается. Циклотрон включен; чтобы застопорить его, необходимо время, но Ева не дает пи минуты, она без стука врывается в мои мысли и как раз в тот момент, когда в бесформенных пластах, изгибах, массах я начинаю угадывать конкретный образ. Я злюсь, а это со мною случается нередко. В семейной жизни, помимо преимуществ, есть немало недостатков. Пока мне удавалось себя сдерживать, но когда-нибудь я не стерплю, накричу на Еву. И теперь мне вдруг захотелось дать ей оплеуху. Какая дерзость, о всемогущий султан! Слова простого смертного осквернили твой драгоценный слух. Да, порой ты бываешь несносен.
— Так что ты придумала?
— Я сошью тебе брюки!
— Брюки?
— Да. Серые в полоску, к ним купим пуловер, кожаную куртку. Ты станешь самым элегантным мужчиной!
Всего год назад подобные разговоры кончались примерно так: Я: «Поступай как знаешь, мне все равно!» Ева: «Тебе все равно, что носить?» Я: «Не совсем. Но об этом потолкуем по дороге к портному». Ева: «Уж и поговорить со мной не можешь по-человечески!» Скандал! Но теперь-то я стал осмотрительней. И крепко держусь в седле, нелегко меня завербовать в великую армию тряпичников. Если дан толчок, мысли несутся, как застоявшиеся кони. Через полчаса Ева уедет на работу, я останусь один, пойду в мастерскую, — точнее, в свою малую мастерскую, а еще точнее, в филиал мастерской, потому что настоящая мастерская находится в Риге, — и там займусь глиной. Пока Ева дома, она ни на шаг от себя не отпустит. Это и есть пресловутый женский эгоизм! Что скажешь, султан?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Сидит султан в гареме.
На диване пестром.
Сигару курит он,
А на базар идти не хочет.
В самом деле, диван был пестрый. Старый, замызганный, как и пол мастерской. Через косое чердачное окно в помещение свободно вливался свет, равномерно освещая стоявшую на подставке глиняную скульптуру. В ней уже были обозначены очертания женского торса. Мастерская принадлежала женщинам. Здесь были каменные головы, торсы, скульптуры в полный рост. Расставлены они были таким образом, что с дивана я видел их все сразу. И с развешанных по стенам картин смотрели женщины. Потому-то, когда прошлым летом я впервые услыхал от Евы эту нескладную песенку, мне подумалось, что человеку постороннему я действительно мог показаться султаном в гареме.
В самом деле, я курю сигары. На столе всегда стоит ящик с сигарами. Прежде чем взяться за работу, люблю подымить. Сигары кубинские, аромат отличный.
В самом деле, идти на базар у меня не было ни малейшего желания.
Ева стояла в дверях.
— Ну, что, султан?
— Войди.
— Некогда.
— Ну, войди же!
Я потянулся, взял ее за руку.
— Вот это ты, — сказал я, — и это ты, и та — тоже ты. И вон та, и эта тоже будешь ты! Разве это гарем?
— Не гарем, но из песни слова не выкинешь.
— Это верно, — согласился я. — Тем более что все остальное вполне отвечает действительности. Я пойду с тобой.
Летом, особенно ближе к осени, базарная площадь превращается в музей. Ряды длинных, серых столов с грудами груш и слив. Золотистые луковицы, желтые тыквы, синяя брюква, белокочанная капуста, розовый картофель. За каждым столом — три-четыре тетки, у них широченные юбки, пропахшие землей, у них пухлые, розовые, нет, скорее — алые щеки с лиловатыми прожилками. Густые волосы покрыты платками. В коричневых, желтых платках эти крутобедрые деревенские тетки похожи на глиняные кринки. Платков синего цвета я на них почти не встречал. И без того над головами изо дня в день расстелен огромный синий плат небес, а женщины любят разнообразие и потому повязывают головы желтым, коричневым.
— Ну, кому яблочек, кому сливонек?
Слива? Это пустяки! Но сливонька? Волшебно!
— Берите картошку, вкусная, белая, ровно мука. Такую и сырой съесть не грех! Вон мой парнишка грызет, не нарадуется!
Действительно, парнишка грызет сырую картошку. Вышколен.
— А ну, огурчики, последние огурчики! Бери, недорого отдам.
— Кому яблочек?
Толстая торговка кладет яблоки на весы, пальцы у нее красные, как морковь каротель.
Вернувшись домой, беру кусок глины, леплю бабу-толстуху. Ноги у нее — столбы, туловище — столб и руки— столбы. Столбовая баба? На базаре скучать не приходилось, за работой тоже скучать не приходилось, но базар вносил в душу какой-то разлад, мне хотелось вылепить Еву с ногами-столбами, руками-столбами. Потом я целый час лепил фигурки с головами-тыквами, пытаясь найти сходство между овощем и человеком. И в этом моя ошибка. Разве главное не в том, чтобы найти сходство между человеком и человеком?
Сидит султан в гареме.
На диване пестром.
Сигару курит он,
А на базар идти не хочет.
Это неправда. Мне хотелось идти на базар. Но я не любил вопросы. Я никому не прощал, когда меня отрывали от работы. Я понимал, что Ева ревнует. Ревнует меня к моей работе!
Не знаю, только ли каприз это, мне кажется, корень гораздо глубже, но мне необходимо помещение, где бы я мог оставаться наедине со своей работой. Одно время для этого служила мастерская в моем доме, но теснота не позволяет выполнять здесь большие работы. Мастерская в Риге просторна, но, работая там, я не могу отделаться от мысли, что за мной кто-то подглядывает… Я отнюдь не суеверен во всем, что не относится к работе. Я не верю колдуньям, ясновидцам, пророкам, не верю черным кошкам, тяжелым понедельникам, трубочистам. Но стоит кому-то поглазеть на мою незаконченную вещь, как мне начинает казаться, что у меня ничего не выйдет, — и так оно чаще всего и бывает. Работа получается вымученной, мертвой, или, как сказали бы индейцы, без кровинки. В большой мастерской я от своих коллег, таких же скульпторов, отделен перегородкой из древесностружечных плит, и человек повыше ростом, привстав на цыпочки, может все обстоятельно разглядеть, кроме того, любопытные вольны обойти мастерские и посмотреть, кто над чем трудится. Больше всего на свете не терплю в искусстве любопытствующих. А разница между словами «любопытный» и «любознательный» для меня куда более значительная, чем это отмечено в толковых словарях. Полагаю, и мои коллеги в душе пришли к такому же выводу, но коли дверь незаперта, то и дверь любопытства не так-то легко закрыть. Я, разумеется, не верю в дурной глаз, но я верю, что любопытствующие дурно влияют на мою работу. И потому я охотней работаю дома, в своей малой мастерской.
Ева ревнива, но не любопытна. Она бывает ревнива даже в тех случаях, когда сама становится моей моделью. Недавно мы были на юге. Там Ева не ревновала, потому что объект ее ревности — мастерская — остался далеко. Как только вернулись, все началось сначала. Но она не любопытна. Я ее люблю. Она моя жена. Но сколько раз с наступлением утра я твердил про себя: «Уходи скорее, милая, уходи, хорошая! Оставь меня одного. И вернись, когда я вдохну жизнь в этот глиняный ком. А сейчас я провожу тебя до калитки, и, пожалуйста, ни о чем не спрашивай, помолчи. Разве не видишь, я одержим бесом, не успокоюсь до тех пор, пока не изгоню его в глину».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ева — самый близкий мне человек.
Отец у нее умер, мать, выйдя замуж во второй раз, отдалилась от дочери. Ева признавалась мне, что последние годы, проведенные с матерью, были для нее мученьем. Ей редко удавалось остаться наедине с собой. Подойдет к окну, за ней следит недоверчивый тусклый взгляд. Раскроет книгу, за ней следит недоверчивый тусклый взгляд. Это от праздности? Нет. «Не верь людям, доченька! Кругом мерзавцы! Берегись». — «Не хочу, противно», — отвечает дочь. «Жизнь заставит», — говорит мать. Мать с недоверием смотрит на мир, и с тем же недоверием относится к дочери. Азбучная истина. «Тебя нельзя ни на шаг отпускать, еще клюнешь на удочку какого-нибудь мерзавца! Послушай, дочка, лекцию на тему: «Мораль и ее соответствие нормам поведения, а также о несоответствии морали молодежи и морали взрослых и о полнейшей аморальности молодежи». Если лекция начинается в одиннадцать вечера и затягивается до половины первого ночи, заснуть потом не так-то просто. После второго замужества матери Ева спала на кухне. Жили они в коммунальной квартире, и каждое утро Еве приходилось второпях убирать раскладушку до того, как встанут соседи.
Когда мы с нею познакомились, Ева настолько была издергана, что боялась улицу перейти, и я вел ее за руку. Всякий раз она порывалась высвободить руку, но через мгновенье сама же тянулась ко мне. Она говорила, что страх ее объясняется врожденным недоверием. Я отвечал, что врожденного недоверия нет. Недоверие — не болезнь. В таком случае, уверяла Ева, это мать привила ей недоверие, а это еще хуже. Ева говорила: «У меня такое чувство, будто человек, который держит мою руку, непременно толкнет меня под машину или бросит среди улицы». — «Все это твои фантазии, — убеждал я. — Мне ведь ты веришь?» — «Да, тебе верю». — «Так чего ж боишься?»— «И сама не знаю, едва я отдернула руку, мне стало стыдно». — «Постарайся выбросить из головы такие мысли, — уговаривал я, — скоро лето, будем купаться в море, и ты успокоишься. Море всех успокаивает».
Летом мы купались в море. Ева плавала плохо, а я в воде себя чувствовал моржом, и я сказал ей, чтоб она не боялась. Ева обещала не бояться, но я-то видел, с какой тревогой глядит она на берег, когда мы уплывали за мели. «Ложись мне на спину, — сказал я, — и ты увидишь, как я поплыву с твоими пятьюдесятью шестью килограммами на борту». — «Ты поплывешь, я знаю, — отвечала она. — Только напрасно ты думаешь, что я боюсь». — «И все-таки ты боишься», — сказал я. «Да, я боюсь». — «А ты не должна бояться, ты должна поверить хотя бы одному человеку, и пусть этим человеком буду я». — «Да, этим человеком будешь ты, но я сама не понимаю, чего боюсь». — «Может, ты боишься потому, что плохо плаваешь? Хочешь, научу тебя плавать на спине?» Я не успел выучить Еву плавать на спине. В то лето вода в Балтийском море была холодной, Ева опасалась простуды. А следующим летом мы уехали на юг, и там Ева выучилась плавать почти так же хорошо, как и я. Там она рассталась со своими страхами. «С такими вещами расставаться всегда приятно», — сказал я. «Как беден человек, лишенный страха», — смеялась она. «Глупости, — сказал я. — В общем-то страхи никуда не делись, они по-прежнему с тобой, но теперь ты больше веришь самой себе и больше доверяешь мне». — «Это еще нужно доказать», — ответила Ева.
Как-то утром, придя на пляж, мы увидели, что море бурлит и пенится, волны в ярости бьются о берег. Залив кипел. Скалы стояли насмерть, и каждая волна, словно ковш экскаватора, вышвыривала камни-кругляки, затем море отступало на целый метр. Почти никто из отдыхавших не отваживался побороться со стихией. «А вода теплая, — сказал я, обмочив ноги в пене. — Может, пойдем?»— «Пойдем», — ответила Ева. Мы держались на гребне волны, потом волну вырывало из-под нас, и мы падали вниз, как в быстроходном лифте, а вокруг бурлило, грохотало, ревело. Вдоволь покачавшись на волнах, мы поплыли обратно.
«Что-то мы ни с места», — сказал я. «Хуже того, — ответила Ева, — нас уносит в море». — «Выдержишь?» — спросил я. Мне показалось, она совсем не боится, во всяком случае, скрывает свой страх. Мы изо всех сил работали руками, и я досадовал, что не выучил Еву плавать кролем. Она отставала. Я вернулся, поплыл рядом. Ее голова в синей шапочке держалась над волнами, лицо раскраснелось, по нему струйками стекала вода, на ресницах блестели кристаллики соли. Я поддержал ее, мы отдохнули, но за это время нас отнесло еще дальше в море. «Ну, взялись», — сказал я. И опять мы принялись грести. Я плыл на боку, одной рукой поддерживая Еву. Катившиеся с моря валы схлестывались с отхлынувшими от берега массами воды, и нас кидало в водовороты. Мы подобрались довольно близко к берегу, однако на пляже вряд ли нас видели. Волны швыряли нас в глубокие ямы и, даже выбросив на гребень, плотно укрывали клочьями пены. О близости берега мы догадывались по затылкам подводных камней, грозно выбегавших навстречу. Начиналось самое трудное. Откатываясь, море, бурля, устремлялось в коридоры между скалами. На какой-то миг, признаться, мне показалось, что берега нам больше не видать. Я держался вровень с Евой. «Надо улучить момент, оседлать волну», — закричал я. «Да», — отозвалась она и тут же захлебнулась. Выплюнула воду, вдохнула поглубже. Оглянувшись назад, мы увидели высоченный пенистый вал. Вскочили на него, и он заметно подбросил нас к берегу. Не успели мы опомниться от такого броска, как на головы, обрушился другой, настоящий громила, тот самый, девятый, — подхватил и шваркнул о берег, одним махом сожрав злосчастные восемь метров, что мы тщетно пытались преодолеть. Берег был ровный, в мелкой плоской гальке. Сначала нас подкинуло, перевернуло и только тогда опустило на землю. Воды схлынули, я вцепился в Еву и крепко держал ее. Нас оглушило. Потом, когда мы, растянувшись на подстилке, отдышались немного, мимо прошел какой-то субъект, глянул на нас с укоризной, будто говоря: «Ни один нормальный человек сегодня в море не полезет!» Но мы рассмеялись вместо ответа. «Вот теперь я, кажется, лишилась того, с чем расставаться всегда приятно», — сказала Ева. «Как беден человек, лишенный страхов», — ответил я. «Глупости, — возразила Ева, — а в общем-то мы повторяем наш давний разговор». — «Это еще как сказать, — заметил я. — Но теперь ты веришь мне?» — «Давай не будем об этом», — попросила Ева. «Хорошо, не будем». Мы помолчали, солнце припекало, потом Ева сказала: «Здесь, на юге, все иначе. Тут я никого, кроме тебя, не знаю, и я тебе верю. А в Риге боюсь. Столько наслушалась о бездушии, непроходимой глупости, всяких подлостях».
Когда она это сказала, мне вспомнились библейские слова: «Я, господь бог твой, бог ревнитель, за вину отцов наказующий до третьего и четвертого колена…» В данном случае было бы точней сказать «за вину матери», но не в обычном смысле слова, а в смысле большого человеческого неверия.
— Ты преувеличиваешь, — сказал я. — В народе, как и в семье, не без урода.
— Не в этом
дело, — отрезала Ева. — Здесь я никого не знаю, не знаю, честные они или подлые, а в Латвии чуть ли не все подлецы.
Солнце припекало, мысли были вялые, и обвинения Евы пока коснулись главным образом слуха.
— Неправда, — возразил я. — Возможно, на своем пути ты встретила нескольких подлецов, но нельзя же по ним судить о людях. А твои товарищи по работе из музея? Ты же не станешь утверждать, что они подлецы?
— Нет. Они по большей части люди порядочные. Но есть там и такие, что строчат доносы.
— О чем?
— Обо всем.
— Нужно созвать собрание и осудить этих писак.
— Думаешь, это так просто.
— Может, они маньяки, которые жить не могут без доносов.
— Нет. Они подлецы.
— Ты рассуждаешь на редкость необдуманно, — возмутился я.
Только теперь до моего сознания по-настоящему дошел смысл ее слов: «В Латвии чуть ли не все подлецы». Очень тяжело переключить внимание с личного на общественное, особенно на пляже, когда припекает солнце.
— Как можно говорить такие вещи?! «Не совершил ли я подлость?» — такой вопрос задать себе вправе любой и каждый, но сформулируем его несколько иначе, и получится: «Не потому ли все подлецы, что мне так кажется?» Непростительная субъективность!
— Ты меня не понял, — возразила Ева. — Возьмем другой пример. Пресса — зеркало общественного мнения? Так ведь?
— Так.
— Я комсомолка, — продолжала Ева, — субъективность мне не к лицу. Я читаю газеты, но иногда наши латышские газеты невозможно читать.
— Это почему же?
— Я знаю многих журналистов, но лучше всех я знаю свою мать. Моя мать, как тебе известно, тоже журналистка. Теперь слушай дальше. Я читаю газеты, ты читаешь газеты, все читают газеты.
— Что до меня, я их читаю довольно редко, — вставил я.
— Зато другие читают часто. Ты живешь, как крот в своей норе. Слушай. Идет конференция. Участники произносят речи. Одни хвалят, другие ругают, но цель у всех одна: улучшить работу. На столе у матери стенограммы речей, я читаю и радуюсь. Здравые мысли, острые споры. Вон как достается бюрократам, зазнайкам, бездельникам! На следующий день раскрываю газету — ничего подобного. Обтекаемые фразы, бурные аплодисменты. Если кто-то сказал «а», в газете напишут «б». Если что-то звучало остро, углы все сглажены, и кубик превратили в шарик. «Что ж это такое?» — спрашиваю мать. «Не все, что говорят, можно печатать», — отвечает она. Но зачем переливать из пустого в порожнее? Ведь это демагогия. Не думай, что я ждала откровенности от матери. Не такая уж я наивная, но куда же смотрят остальные? Те, кто печатает и понимает, что печатают? Нет, они не подлецы. Но им на все наплевать. Не моя, дескать, статья, не моя газета! Так чья же это газета?
— Ну, читай центральные газеты, — сказал я. — Читай «Известия», читай «Правду», там теперь не встретишь ни продолжительных аплодисментов, ни бурных оваций.
— Я так и делаю, но ты не ответил на мой вопрос!
— И все-таки ты не права, — сказал я, — ты могла бы сказать, что в некоторых случаях некоторые журналисты поступают подло.
— К матери пришел однажды человек, он весь так и трясся от злости. «Я бы со стыда повесился, если бы сказал то, что вы приписали мне». Мать его с улыбкой успокаивала: «Нашли из-за чего расстраиваться, завтра же все позабудут то, что мы напечатали!» А у молодежи хорошая память.
— Видишь ли, — продолжал я, — если в озеро бросить камень, раздастся всплеск, по воде разойдутся круги. Всплеск ты услышишь тотчас, а круги придут позднее. Так что я хочу сказать: всплеск мы уже слышали, а круги еще не дошли. Но они идут! Когда придут, мы станем честными, объективными.
— Не хочу дожидаться кругов, — ответила Ева, — я хочу быть честной прямо сейчас.
— Все хотят быть честными прямо сейчас, — сказал я, — но не каждому это под силу. Я вот скажу тебе еще одну азбучную истину. Помнишь сказку про бегуна-скорохода? Он к ногам привязывал гири, а когда снимал их, то мчался быстрее ветра. Но человек не скороход из сказки. Не так-то просто ему превозмочь инерцию гирь. Сначала он ступает осторожными шажками, он боится сломать голову или оступиться. Ничто не тормозит так человека, как он сам себя. Это я называю инерцией сознания. Пока дяди, кому сейчас под сорок, пятьдесят и шестьдесят, не преодолеют барьер, до тех пор будет трудно. Честному человеку это по силам, к тому же кое-кто из дядей уже перемахнул через этот барьер, но кое-кому никогда не удастся.
— Понимаю, — сказала Ева, — они б не прочь, да ноги не слушаются.
— И никогда не надо вешать голову и молоть всякий вздор. Конечно, находятся ловкачи, мастера выворачивать шубу наизнанку: «Да, ошибались, но теперь ошибаться не будем и другим не дадим». Главное: другим не дадим ошибаться! И вот от одной крайности шарахаются в другую. Но я могу поспорить, что их жалкая горстка, и они нам не смогут всерьез навредить. На мой взгляд, любой перелом мучителен, но нельзя же поэтому всех подряд называть подлецами.
— Ты оптимист, — сказала Ева.
— Это диалектика.
— И все-таки ты оптимист!
Солнце припекало, и спор прекратился сам собой. В тихую погоду мы бы не стали поднимать подобные вопросы, но тут разбушевался ветер, море бурлило, и грохот волн отдавался эхом в горах. «Тяжеловаты идейные позиции у моей жены, — подумал я. — Личные страхи неотделимы от общественных, как и личное неверие от неверия общественного. Все находится в тесной связи, потому-то Ева переживала гораздо острее, чем остальные».
Возможно, мы бы продолжили спор, но солнце припекало, море ревело, горы откликались эхом. «Дети, спите, спите спокойно». «В самом деле, — подумал я, — кому нужен этот спор в таком прелестном месте?» Идиллия! Султан, ой, султан, не начинаешь ли ты заплывать жирком? Радость моя, твои косички еще не просохли после купания, ты лежишь с закрытыми глазами, кристаллики соли блестят на ресницах. Какие мысли тебя тревожат? Сказать по правде, они и мои мысли, просто я стараюсь казаться бывалым и мудрым. Но ты права, я оптимист, уж в этом мне не откажешь, и можешь быть спокойна, я сохраню свой оптимизм до гробовой доски. Вокруг есть все необходимое, чтобы я его сохранил. Синее море, красивый залив, молодость, множество жизнерадостных загорелых людей. Готов поспорить, они тоже оптимисты. Это как раз то место, где оптимисты растут, как грибы. Вы спросите: «Где это, где такое место?» Ага! Заинтересовались, поверили, что оптимисты растут, как грибы. Так вот, я знаю это место, но каждый должен сам его отыскать. Да будет так.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Запоминайте хорошенько!
У почты повернете на юг, дойдете до пригорка, где желтый особняк. Простите, я забыл сказать, что сначала нужно добраться до Черного моря. Итак, у желтого особняка налево и пыльной покатой улочкой вверх. Вам покажется, будто улица упирается в небо или где-то там в синеве переламывается, как переламывается соломинка от тяжести колоса.
Тротуар будет узким, местами он выложен каменными плитами, и трещины их разукрасили затейливым узором. По правую руку останется водопроводная колонка, а возле нее вы увидите мальчуганов, девчушек с небольшими ведерками. Вода из колонки будет лить через край, а мальчишки тем временем будут озорничать, хватать девчонок за косички и «конские хвостики». Если вы заглядитесь на их забавы, их коричневые, почти бронзовые лица, плечи, ноги, вполне возможно, кто-нибудь из девчушек вам покажет язык, и вы отправитесь дальше, в радостном изумлении от этой детской шалости. Вас обгонит несколько собак, но ни одна не почтит вас лаем, не снизойдет до того, чтобы обнюхать вас: они знают, что вы оптимист и собак не боитесь. Кроме того, народу здесь видимо-невидимо, собак же спокон веку занимали только редкостные предметы.
Подойдя поближе к тому месту, где улочка упирается в небо или переламывается, как соломина, вы обнаружите, что небо перевернуто вверх тормашками и лежит распластанным где-то внизу. Огромно-синей глоткой вам навстречу будет разверзнут залив. При живом воображении в береговых очертаниях этой глотки-залива вы разглядите пасть какого-то чудовища: нижняя челюсть ее вгрызлась в бурную, опаленную солнцем землю, а верхняя расколота надвое горным кряжем.
Вы остановитесь и осмотритесь.
Улица приведет вас к обрыву, до того крутому, что по нему невозможно ни вниз спуститься, ни вверх взобраться. Метров двадцать пониже протянется узкий, серый пляж, кое-где он будет сплошь усеян галькой. Камни, большие и мелкие, будут валяться вдоль всего берега.
Городок останется слева и будет выглядеть с берега так, будто нарисован легкими, белыми линиями на рыжеватой бумаге. Если у вас хорошее зрение, вы заметите, что оконные стекла отливают розоватым светом. Конечно, вы не сможете точно сказать, сколько клеток в оконных рамах — четыре, шесть или все двенадцать, но вы увидите белые линии на рыжеватой бумаге и розоватые блики неопределенной формы. Городок раскинется у подножия обступивших его гор, и со склонов их будут вздыматься потоки горячего воздуха. Этот воздушный ток местами будет таким густым и плотным, что вам покажется, будто небо держится на желтоватых сваях. Людей разглядеть вам не удастся: расстояние до городка оттуда немалое.
Вы свернете вместе с улицей направо и спуститесь вниз. Солнце станет припекать, вы снимете одежду, завяжете ее в узелок или спрячете в сумку, если только у вас будет сумка. Глубоко вдохнете в себя воздух, сдобренный запахами водорослей, известняка, и отправитесь дальше мимо домишек, наскоро сколоченных из досок и бревен. Подойдите к большому каменному зданию, задержитесь перед вывеской над входом: «Отель «Фортуна», и сразу догадаетесь, что там живут студенты. Дорога тут довольно широкая, вы сможете идти, не глядя себе под ноги. Слева увидите навес, на его покатой крыше на самых разнообразных подстилках будут загорать красивые девушки.
За отелем «Фортуна» глубоко в гору врежется высокая постройка из железобетона, чем-то похожая на плотину электростанции. Но это дот. У подножия его, словно ласточкины гнезда, прилепились десятка два каморок, каждая с отдельным входом. Там тоже будут жить туристы. А сам этот громоздкий дот во время войны построили немцы. Если вам будет охота, вы заберетесь наверх и увидите амбразуры, рельсы, уводящие в подвалы, откуда когда-то выкатывали тяжелые орудия. Железобетонные купола будут прикрывать ячейки для зенитчиков, пулеметные щели будут проглядывать весь горизонт. Вы сами убедитесь, насколько это теперь не нужно, нелепо, и все заросло травой, колючим кустарником, все заброшено, и вам станет грустно. Этот дот здесь как бельмо на глазу.
Дальше вы пойдете берегом залива.
Шагая по жесткой, сухой и бурой земле, вы сквозь подошвы кед или теннисных тапочек ощутите солнечное тепло, которое впитала и сохранила тропа. Вначале, возможно, вам покажется, что дорога не так уж безопасна; с одной стороны она будет круто обрываться к морю с высоты четырех или пяти метров и вниз то и дело будут срываться комья спекшейся земли, а с другой стороны будет громоздиться скала, и кое-где тропинка сузится до двух пядей, не более. Но вас успокоят, станут убеждать, что здесь и слепой пройдет, и вы смело двинетесь дальше.
Тропа все чаще станет разветвляться, сбегать к тесным, каменистым пляжам, где волны будут без устали трепать, теребить и прополаскивать желтые, серые водоросли, сплошь покрывающие прибрежные камни. Неподалеку от берега вы увидите склад, где рыбаки хранят свои сети, он вырублен прямо в скале. Большая, потрескавшаяся от старости дверь, висящая на ржавых болтах, будет открыта, и вы сможете заглянуть в мягкий сумрак. Внутри на ящиках будут сидеть чешуйчатые люди, — заплатки на их одеждах вам покажутся чешуей, — они будут сидеть дымить трубками, чинить сети. И ни на миг не оторвутся от работы, разве что покосятся на вас из-под выцветших от соли ресниц да кто-нибудь отпустит шутку по вашему адресу. И тут уж все загогочут. Вы же отправитесь дальше, провожаемый дружным смехом, который вас не рассердит, только чуточку озадачит.
Все время будете идти берегом. Справа вырастут горы. Высоко над заливом поднимутся сизые, бурые склоны, у подножия их вы увидите расщелины, каменные оползни. Тропа поведет вас дальше, поднимаясь по отвесным и покатым склонам, петляя между обломками скал.
Чтобы увидеть горные вершины, вам придется запрокинуть голову, но особенно заглядываться не советую: слишком уж давит эта каменная масса. На горы, как на тигров, львов и всяких хищников, лучше смотреть издали. И когда вы поймете, насколько вы мелки и ничтожны по сравнению с этой громадой, вы потупите глаза и отправитесь дальше. Возможно, в вас взыграет этакая примитивная гордость. «Ну, и стой себе, гора, а я вот дальше пойду!» Море опустится еще ниже, горизонт приподнимется, раздастся вширь. Значит, вы достигли оконечности верхней челюсти того чудовища, о котором речь была раньше. Пройдя еще немного, вы окажетесь на пляже, усеянном гладко обкатанной галькой.
В первый раз вы искупаетесь рано утром, когда море будет освещаться косыми лучами солнца и вода не успеет нагреться. Выйдя на берег, вы хорошенько отряхнетесь и приляжете на гладкую гальку или подстилку, если не забыли ее захватить. И потом вы будете купаться еще не раз. Уже в метрах двадцати от берега будет так глубоко, что вы сможете достать до дна лишь в том случае, если у вас хорошие легкие. Прибрежная полоса будет усеяна подводными и надводными камнями, и, когда море разволнуется, над ними пойдут крутиться воронки, гулять буруны, и тогда вы увидите эти лобастые глыбы. В тихую погоду они бывают скрыты под водой на полметра, а то и меньше. Купальщики могут отдыхать на них, отдалившись от берега.
Отплыв подальше, вы сможете лечь на спину и вдоволь наглядеться на бурые скалы, нависшие над пляжем. Если волны будут большими, то вы, возвращаясь к берегу, возможно, ощутите страх. Вас будет относить в море. Если волны действительно будут большими. Добравшись до берега, вы, словно ребенок, поползете на карачках к суше, цепляясь за ускользающую гальку и пенную кипень.
На обед у вас будет арбуз или дыня, груши или персики, виноград или сливы, смотря что захватите с собой. Когда вам наскучит сидеть на одном месте, вы отправитесь бродить по берегу. И это будет нелегкая прогулка. Придется лазить по скалам. Но большую часть времени вы все-таки будете купаться, лежать на гладкой гальке, швырять камешки в воду, постепенно превращаясь в оптимиста. Вечером длинные тени поползут по заливу, и, усталый, счастливый, вы вернетесь домой. Так незаметно настанет время, когда вы превратитесь в неисправимого оптимиста и придете проститься с пляжем, усеянным гладко обкатанной галькой. Вы будете уходить, оборачиваясь через каждые десять шагов, стараясь получше запомнить эти места. В памяти останутся краски, запахи, свет и тени. Краснолистый, низкий кустарник, бурые скалы-кони, белые птицы на голубых облаках, сухие, шелестящие шары колючек на бурой земле, легкие, воздушные перекати-поле.
Автобус отвезет вас на аэродром, в городе на улицах вы увидите грузовики, доверху нагруженные виноградом. Синий виноград, синие виноградные горы останутся позади. Но еще долго будут вам сниться загорелые оптимисты за рулем машин, доверху нагруженных синим виноградом. Во сне вас будет мучить жажда, пересыхать во рту.
Запоминайте хорошенько, иначе на будущее лето вы не найдете того места. Но лучше всего туда отправиться поближе к осени, погода будет нежаркая, а виноград и другие фрукты к тому времени уже поспеют.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Все это очень интересно, — с явно скучающим видом заметил Следователь. — Когда вы были на юге?
— Прошлой осенью, — ответил скульптор.
— Очень, очень интересно. Однако вы не совсем правильно меня поняли.
— Простите…
— Сейчас все объясню. Вы курите?
— Могу предложить вам сигару.
— Благодарю. Так вот, вам известно такое понятие — красная нить? В свое время в королевском флоте, с тем чтоб не растаскивали казенный канат, в него вплетали красную нить. И вплеталась она до того хитроумно, что ее невозможно было вытянуть, не распустив весь канат. Нить без каната ни на что не годилась, но и канат без нити был ничто. Для чего я это вам говорю? Совсем не для того, чтобы убедить, насколько было невыгодно красть такой канат. Мне бы просто хотелось, чтобы вы не разбрасывались. Не слишком, так сказать, распускали канат. В своих мыслях держитесь красной нити. Для меня очень важно узнать решительно все о тех людях, которых вы подозреваете.
— Я никого не подозреваю. На это у меня нет никаких оснований.
— Я понимаю, несчастье вас ошеломило, и все же постарайтесь взять себя в руки. Если вы будете говорить намеками да глядеть в потолок, я ничем не смогу вам помочь. Итак, вы утверждаете, что Ева ревновала вас к работе.
— Так мне казалось.
— Ее вы не подозреваете?
— Исключено.
— Прошу прощения за такой вопрос. Но он неизбежен. Так вот! Ваши эмоции меня не интересуют. Меня интересуют люди, которые в последнее время посещали ваш дом. Хотя бы вкратце опишите этих людей. Как вы сами понимаете, вломиться в мастерскую мог человек, осведомленный о том, что вы уедете в город. Человек, бывавший в ней и раньше. Начните вспоминать в обратном порядке— так будет легче, — со вчерашнего дня. Или разделите этих лиц на группы: друзья, родственники, товарищи по работе, люди малознакомые, натурщики.
— Натурщики отпадают. В эту мастерскую я не приглашал их.
— Так вот! Лучше начинайте со вчерашнего дня.
— Как сигара?
— Я не очень-то знаю в них толк. Обычно курю сигареты «Шипка» или «Трезор».
— А я только сигары.
— Ничего, — сказал Следователь, — не спешите. Соберитесь с мыслями. Начинайте со вчерашнего дня.
Молодец, отметил про себя скульптор. Информационная служба у него на высоте. Ему как будто уже известно, кто у меня был вчера. Но мне-то все же лучше знать. Придется еще раз открыть шлюзы памяти.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Как сказали бы индейцы, мы сошлись, чтобы выкурить трубку мира. Всей семьей, в полном составе. В качестве громоотвода был приглашен Кризенталь. На повестке дня: примирение с родней и с действительностью. Впервые жена отца, — язык не поворачивается назвать ее мачехой, — была в гостях у своих «сыновей». Мы сидели в мастерской у камина. Еще с утра я заготовил березовые поленья, белые, сухие. Каждое — толщиной с бревнышко. С треском горела и свертывалась припасенная на ростоп-ку береста. Я сложил березовую пирамиду с саркофагом смолистых лучин посредине. Вначале все это горело равномерным желтым пламенем, но вскоре по оконным стеклам с ледяными узорами пошли плясать красные языки. Мы ждали Рудольфа и Фаннию. Они должны были вот-вот появиться. Отец не виделся с Рудольфом, по крайней мере, семнадцать лет. И тот и другой сравнительно часто бывали у меня, но каждый норовил приехать так, чтоб избежать нежелательной встречи. Оба они были людьми принципиальными, Рудольф ненавидел отца потому, что был предельно честен и не терпел малейшего притворства, отец же ненавидел Рудольфа за то, что тот раскусил его, как орех, и вроде бы не нашел в нем ничего, кроме трухи. Однако в последнее время отец неоднократно осведомлялся о здоровье Рудольфа, о его успехах в работе. В сознании отца понятие «работа» всегда было связано с понятием «успех». Я рассказал ему, что у Рудольфа дела идут хорошо, что он в своей лаборатории на заводе изучает не то сопротивление какого-то материала, не то материал какого-то сопротивления — черт его знает — и что он женился, живет с женой Фаннией и сыном Андрисом в новом жилом массиве за Физкультурным институтом.
«И что же, он совсем не желает меня видеть?» — спросил отец. «Не знаю, — ответил я. — Может, и желает». «Столько воды утекло с тех пор, как поссорились». — «И поссорились-то вы из-за пустяка». «Да, сущего пустяка, — сказал отец, — времени действительно прошло немало, и теперь, когда он и сам женат, я думаю, он поймет». «Хорошо, — сказал я. — Возьми с собой жену, кстати, мы ее ни разу не видели, чего ты ее прячешь, и приезжай ко мне тогда-то и во столько-то, а я приглашу в качестве громоотвода твоего приятеля Кризенталя». «Не виделся с ним почти год!» — воскликнул отец. «Ну, вот и чудесно!» «Только не знаю, — сказал отец, — не знаю, согласится ли Валлия». «Почему же не согласится?» — «Она вас стеснялась». — «Неужели за последние пятнадцать лет она все еще не разучилась стесняться? Сколько ж ей теперь?» — «Тридцать три». — «Хмм, хмм, как сказали бы индейцы! Итак, условились?» — «Условились».
И вот они прибыли, отец сидел на диване рядом со своей женой. Сидел он, положив локти на колени, подавшись вперед, в черной визитке, в темных полосатых брюках. Из кармана жилетки тянулась цепочка от часов, тонкая, витая, из серебра. Отсветы пламени играли у него на щеках, глаза впалые, лицо раскраснелось. Отец был похож на бронзовое изваяние божка — с такой отрешенностью он глядел в огонь. Его жена, моя мачеха, — она старше меня всего на четыре года и, когда я родился, наверное, баюкала какую-нибудь куклу по имени Гретыня или Юрит: «Баю-баиньки-баю, не ложись ты на краю», — сидела рядом с отцом на диване и, казалось, нервничала. Она покачивала стройной ножкой, курила сигарету и делала вид, что с интересом разглядывает мои работы. Терпеть не могу, когда в моей мастерской курят что-либо, кроме сигар, но особенно противен мне дым сигарет с привкусом горелой бумаги. Я бы не возражал, если бы эта молодая дама, сиречь — моя мачеха, которая старше меня на четыре года, курила бы трубку, на худой конец — кальян, но я не знал, как намекнуть ей об этом, и уж тем более не смел предложить сигару. Я рассказал ей об одной, о другой работе, о третьей, и тут меня вдруг осенило: «Ты где-то встречал эту женщину». Мне было знакомо это смуглое красивое лицо, но я никак не мог вспомнить… Где, ну где же? На каком-нибудь вечере, на улице, в электричке, у моря или во сие, как это ни глупо звучит. Какая нелепость! Есть люди, при виде которых вам начинает казаться, будто вы с ними где-то встречались. Постой, постой, говорим мы себе, сейчас вспомню, одну секунду, одну-единственную долю секунды. Но все напрасно! Как сказали бы индейцы, тропинки памяти наглухо заросли.

Кризенталь и Ева забавлялись. Сидя у камина, они старались превзойти друг друга в детской шалости: кто ближе поднесет к огню и дольше удержит палец. «Ай!» — вскрикнула Ева, и Кризенталь объявил: «Ваша взяла!» Затем повернулся ко мне.
— А не пойти ли нам покурить?
Кризенталь человек со странностями, и одна из них заключалась в том, что он не курил в помещении. Кроме того, он никогда не спорил, не пускался в пространные рассуждения. Мне доставляло удовольствие изучать его гладко выбритое, безмятежное лицо, такое же гладкое и безмятежное, как его картины. Кризенталю было лет пятьдесят, моему отцу шестьдесят пять, но в этом возрасте подобная разница не существенна. Одно время Кризенталь для моего отца был чем-то вроде наперсника. Все, что ему поверялось, хранилось в строжайшем секрете, за это отец был спокоен. Мы с Кризенталем были соседями, и, может, поэтому отец так часто заезжал ко мне — чтоб заодно сходить на исповедь к Кризенталю. В последнее время у них наметилось охлаждение, но поскольку я не знал громоотвода лучше, чем Кризенталь, пришлось пригласить его. Я с ним встречался сравнительно редко, мы считались не то друзьями, не то знакомыми, а скорей всего чем-то средним между тем и другим. При встречах со мной он больше отмалчивался или цедил слова. Я только начинал свой творческий путь, он прошел добрую половину. О нем писали в центральной прессе, обо мне лишь изредка упоминали местные газеты. В таком-то году Академию художеств окончили такие-то художники. В числе выпускников молодой многообещающий скульптор Юрис Ригер. Его работа Икс значительно лучше, чем Игрек, и это позволяет надеяться, что он создаст совсем хорошую работу Зет, которая так необходима нашему искусству. И все в таком же духе. И вот теперь упомянутый выше многообещающий скульптор терялся в догадках, где он мог видеть жену отца, точнее, мачеху, как вдруг пришла эта странная и все ж не лишенная интереса мысль: «Крнзенталь умен. Хм, так умен, что ум его ясновидящ, спроси, где ты видел жену своего отца, и он тебе напомнит!» Мысль моя, разумеется, осталась невысказанной, да и спроси я его, Кризенталь ни за что б не ответил, просто глянул бы поверх горящей сигареты, глянул бы на меня не то с удивлением, но то с презрением. А может, все-таки он хочет мне что-то сказать? Впрочем, ему известно, что я не выношу запаха горелой! бумаги, а он курит сигареты. Или его уход на балкон носит демонстративный характер? Может, и ему не нравится жена моего отца. Надеюсь, мачеха ничего не заметит, иначе будет нарушен священный закон гостеприимства. Закон этот тем более хорош, когда сам выступаешь в роли гостя. Да будет так, выкурю сигару под открытым небом на балконе. Был теплый зимний вечер, мы курили, дым лениво клубился над нашими головами.
— Ритм, — произнес Кризенталь.
Это могло многое означать, если учесть, что было сказано человеком, столь глубокомысленным, как Крнзенталь, и потому я ответил:
— Да, всеобъемлющий.
— Совершенно верно, — согласился Кризенталь. — Человек тупеет. Превращается в автомат, срывает дни, словно листки календаря, и швыряет их под стол в корзину.
Это мне показалось забавным. Я глянул на собеседника поверх горящей сигары не то с удивлением, не то с презрением. Есть люди, о которых мы ровным счетом ничего не знаем, но мы создали о них легенды, и эти легенды, как кислота, въедаются в наши представления. Кризенталь умен, чертовски умен, он молчалив, чертовски молчалив, и ум его — в его молчаливости. Если бы он вздумал заговорить, он рисковал развеять легенду и стать зависимым от субъективного мнения прочих смертных. Он помолчал, оглядел сигарету, энергичным движением стряхнул с нее пепел.
— Все запланировано — в праздник делаешь то-то, в будни это. На обед получишь то-то, спать ляжешь там-то, тогда-то, сидеть вот тут и здесь. Могу поспорить, что и смертный час запланирован.
«Еще один пессимист, — подумал я. — А такой знаменитый художник! Я-то думал, он знает, в чем заключается смысл жизни, и вдруг нате вам — у него в голове обычные философские пустячки о суете и бренности земного».
— Ну и что? — сказал я. — Планы можно изменить.
— Человек все равно что трамвай на рельсах: ни влево, ни вправо, только прямо, а конечный пункт назначения — Лесное кладбище. И не вздумай постоять на остановке или перекрестке. На остановках подгоняет график, на перекрестках — регулировщик. И зеленые, желтые, красные светофоры. Такие бездушные.
— Что с тобой? — спросил я.
Раньше наши встречи проходили в атмосфере своеобразной непринужденности, которая возникала от совместного молчания.
— Ничего, — отозвался он, — я говорю не о себе. Люди пройдут по вагону, а после них остается грязь.
— Человек не вагон.
— Вот именно — вагон. Прицепной вагон. Если вдруг ему случится сойти с рельсов, понабегут со всех сторон муравьи, поднимут, и, глядишь, опять покатил. А конечный пункт — Лесное кладбище.
— Ну и пусть себе катит! — сказал я.
— Что? — Он глянул на меня поверх сигареты.
— Бесполезный разговор, — заметил я. — Если хочешь получить рецепт, объясни, в чем дело.
— Не о себе я говорю. Ты, конечно, смышлен и все же до конца не понял, что такое жизнь.
— Если ты имеешь в виду брак отца, то напрасно меня успокаиваешь. Я давно успокоился.
— Не надо было ему жениться, — произнес Кризенталь.
— Почему? — спросил я. — Она красивая.
— Да! — ответил он. — Ты ничего не понял. А я замерз. Пошли.
Он, видимо, уже сожалел о своей минутной откровенности. Лицо его приняло обычное безмятежное, глубокомысленное выражение. Это было знаменитое выражение. Иногда в самый разгар спора, когда противники входили в раж, Кризенталь вдруг подавался вперед, и на лице его появлялось то самое выражение. «Вы абсолютные ослы, а то, о чем вы спорите, не стоит выеденного яйца». Тут Кризенталь умолкал, но знаменитое выражение действовало на всех, как красная тряпка на разъяренного быка, и противники, позабыв о своих разногласиях, объединенными силами обрушивались на Кризенталя. Тот, не проронив ни слова, давал им возможность выпустить заряды, отвечая на все доводы своим «выражением». Загасив сигарету, Кризенталь вернулся в мастерскую. Сквозь дверное стекло я видел, как он сел у камина. Потом повернулся, что-то сказал моей прекрасной мачехе. И в этот момент я вспомнил.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ну, конечно! «Клёвая!» И сразу все прояснилось. Место действия — кафе, время действия — два года тому назад. Это было пополудни, ближе к вечеру, если хотите, могу и точнее: в четыре часа. Сотрудники музея, как все интеллигенты-труженики, кончали в пять. Я собирался встретить Еву, но, поскольку в моем распоряжении оставался целый час, завернул в кафе. В углу за столиком сидели двое, третье место было свободно. Спросил разрешения, подсел, подошла официантка, я заказал себе кофе, коньяк. Напротив сидела моя мачеха. Разумеется, она тогда меня не знала, как и я ее. Помнится, я загляделся на красивый овал лица, большой алый рот. Но сейчас я вспомнил ее по одному-единственному словечку «клёвая». Мой коллега, скульптор Карлов, характеризует им всех красивых женщин. «Если бы ты знал, старик, с какой клёвой девочкой я познакомился!» Когда я увидел свою мачеху, мне в голову, подобно петушку на колокольню, впрыгнуло это словечко «клёвая», несмотря на то что я не питаю склонности к жаргонным словечкам. Однако что стало с красной нитью? Я ведь обещал не выпускать ее из рук? Да будет так. Женщина изображала сфинкса, на устах ее играла смутная улыбка. Окажись она одна, я бы постарался завести с ней разговор, хотя бы потому, что она заинтересовала меня как модель. Но третьим за столом сидел мужчина с темным сумрачным взглядом, с широкими плечами и бесстыдными руками. Не могу объяснить, почему его руки мне показались бесстыдными, но именно так я подумал, едва их увидел. Какие бесстыдные руки. Ага, вспомнил! Было в них этакое проворство карманника, хотя уверен, что по чужим карманам они отроду не шарили. Такой мужлан не мог быть воришкой, скорее уж громилой. Он был чем-то рассержен. Я, видимо, прервал их беседу, и лишь немного погодя, когда я принял личину дурня Паула и со скучающим видом принялся глазеть в окно, разговор возобновился.
Не берусь утверждать, что запомнил его слово в слово, но за красную нить ручаюсь. Она уверяла, что все будет как прежде, и опять она станет по утрам навещать его, и будут пить они крепкий черный кофе из свежемолотых зерен.
— Заткнись! — рявкнул мужчина. Она вздрогнула, глянув на меня из-под опущенных ресниц, продолжала:
— Кстати, он говорит, что пить так много черного кофе вредно.
— Не болтай ерунды, — бросил мужчина.
— Вилл! — молвила она с мольбой, положив свою длинную смуглую руку на его ручищу с толстыми пальцами и почти квадратной ладонью.
— Не прикасайся ко мне! — произнес он это шепотом, впрочем, достаточно громким, во всяком случае, я расслышал, но сделал вид, что ничего не вижу. «Наверное, у парня есть резоны быть сердитым, — подумал я. — Но в общем-то женщинам чаще приходится выслушивать упреки незаслуженные. Свои истинные прегрешения они умело скрывают. Хорошо, если мужчина на закате дней разгадает обман». Итак, он кипятился из-за пустяков, которые в ее глазах не стоили ровным счетом ничего. Глупый баран.
Официантка подала кофе.
— Не понимаю, как ты можешь пить кофе! — издевался мужчина. — Это же вредно.
Официантка ушла.
— Пожалуй, ты прав. Я хочу компота, холодного компота! Позови, пожалуйста, официантку.
— Ничего, выпьешь и кофе. А не нравится, сходи сама!
— Нет, дорогой мой, — возразила женщина неожиданно колко. — Это ты привык к самообслуживанию, что касается меня…
Кровь хлынула ему в лицо, квадратная кисть с хрустом сжалась в кулак.
— Дрянь! — процедил он сквозь зубы.
Женщина покраснела и быстро ответила:
— Да, я дрянь, прости меня!
Вернулась официантка.
— Вы меня звали?
— Да, — сказала женщина, — принесите мне компот. Холодный компот.
— Холодная дрянь. — Мужчина все еще никак не мог успокоиться.
Мне стало не по себе от его развязности, и я решил вмешаться. Обычная уловка прервать за столом нежелательный вам разговор — что-то предложить или попросить что-либо подать. Но что? Я оглядел стол.
— Будьте любезны, подайте мне горчицу! — сказал я. И тут же сообразил, что сказал глупость. На что мне горчица к моему коньяку и черному кофе? Но что было делать — только горчица стояла на краю стола.
— Послушайте, вы, — произнес мужчина, и стул под ним угрожающе скрипнул. — Не суйте нос не в свое дело. Что вам нужно?
— Горчица! — повторил я, и стул подо мною тоже скрипнул. На какие только ухищрения иной раз не пускаешься!
Женщина улыбалась. У нее были ровные белые зубы, и они блестели. Мужчина смотрел на меня сумрачно.
— Что с ним связываться, с дураком, — проговорил он, протянув мне горчицу. Я выпил коньяк, зачерпнул ложечкой горчицу и понюхал ее.
— Прошу прощения, — сказал я. — У каждого свои слабости.
Они молчали, пока я расплатился, поднялся и вышел.
Кто мог подумать, что в один прекрасный день пути наши скрестятся? В самом деле, мир не так уж тесен, особенно тот, в котором живем мы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Я стоял в одиночестве на балконе, и холод сквозь тонкую туфлю начинал пощипывать пальцы. «Клинг, клинг», — пропел звоночек над входной дверью. Я бросил в сад недокуренную сигару и вернулся в мастерскую. Проскрипели ступени лестницы под двумя парами ног, и на пороге появились брат и его жена. Как часто бывает в таких случаях, наступила пауза — гости приглядывались друг к другу. Отец во все глаза смотрел на Фаннию. Она и в самом деле была хороша, я, помнится, подумал, что женщины выигрывают при свете живого огня. Камин горел ярким пламенем, поленья трещали, подобно петардам.
— Познакомьтесь, мой отец, — сказал Рудольф.
— Позвольте вас от души поздравить. — Отец обеими руками взял продолговатую ладонь Фаннии и прильнул к ней губами. — Надеюсь, мой сын с достоинством несет нелегкое бремя супружества?
Бестактно, даже очень бестактно, — отметил я про себя. «Нелегкое бремя супружества»! Ни для кого не секрет, что у Рудольфа слабое здоровье. Слабое? Слишком мягко сказано. Добродушная ирония престарелого адвоката. «О, мы отлично понимаем, каково молодой, красивой женщине жить с таким неуравновешенным мужем, который a propos мой сын». Отец говорит совсем не то, что думает, решил я, не может он этого думать. Брат стоял у двери, поджав губы, но глаза его смеялись. Потом подмигнул мне и прошептал: «Театр, ну, прямо театр!» Я понял, никакого примирения не будет. И все-таки надеялся. Но тут отец перешел ко второму действию и тем все окончательно испортил. Чопорный, важный, совсем как Су, он проследовал в дальний угол, взял свой черный адвокатский портфель, — щелкнули замки, блеснула серебряная монограмма А. Р., — и он извлек из него небольшую шкатулку.
— Рудольф, — проговорила Фанния, — по-моему, это преступление, скрывать от нас такого отца!
— Вот именно преступление! — вместо Рудольфа ответил отец. — А это вам от меня небольшой подарок.
— Ай! — воскликнула Фанния.
У нее в руках переливалось ожерелье. Она подбежала с ним к зеркалу.
— Свет, зажгите свет!

Я зажег верхний свет. Ева вместе с моей мачехой щебетали перед зеркалом, поочередно примеряя ожерелье. Как быстро женщины находят общий язык! Тряпки, золото, серебро, и раздоров как не бывало. К черту, подумал я, опять Рудольф воздействует на мое мышление. Стоит ему взглянуть на меня, и я начинаю думать его мыслями: «Женщины не умеют радоваться в одиночку, они делят радость на две, на три, а то и на четыре части. Но удивительней всего то, что разделенная радость не становится меньше, наоборот, она вырастает вдвое, втрое и даже вчетверо». Тонко подмечено.
— Ха, ха, ха, — рассмеялся Рудольф. — Он подарил тебе ожерелье нашей матери! Вот это, я понимаю, практичность!
— Рудольф! — строго сказала Фанния.
Засим официальная часть церемонии была закончена, и, надо сказать, закончена неудачно. Отец с Рудольфом не замечали друг друга. Я познакомил брата с его мачехой, и с помощью Кризенталя гости обменялись несколькими фразами. Ева вышла в столовую накрывать на стол. Узнав, что Фанния изучает архитектуру, отец оседлал своего любимого конька. Влияние архитектуры на человека. Он говорил, что на психику влияют разнообразные факторы, но для жителей городов решающим фактором является архитектура. Гармонию любого сооружения наше сознание схватывает моментально, и полученное таким образом эстетическое удовольствие благоприятно действует на психику. Житель Нью-Йорка потому-то и отличается от жителя Риги, что Нью-Йорк не похож на Ригу. (Какое глубокое замечание!) А житель Лондона потому и похож на рижанина, что в основе архитектурных принципов двух городов имеется много общего. Парки, аллеи, невысокие дома. Покой.
— Вы бывали в Нью-Йорке и Лондоне? — спросила Фанния.
Да. Он ответил, что бывал. Говоря это, отец поглядывал на Рудольфа, стоявшего у окна. Да. Он побывал во всех европейских столицах, за исключением столиц Балканских государств. И, пожалуй, еще Испании. Уж так получилось, что не собрался в эти страны.
Рудольф повернулся и вышел. Я слышал, как скрипели под ним ступеньки. Хлопнула дверь на кухню.
И что важнее всего! Высота потолков! Если человеку приходится долго жить в квартире с низким потолком, он и сам как бы сжимается. «Вы только понаблюдайте, — с жаром продолжал отец. — Большинство людей ходит ссутулившись, с опущенной головой. Спросите их, где они живут. В новых домах. В квартирах с низкими потолками. И не последнюю роль играет окраска стен. Казенные маляры до того безобразно красят, что люди исподволь, сами того не замечая, набираются дурного вкуса».
Фанния сидела на синем табурете. Стройная, с тонкой талией и маленькой круглой грудью под белой блузкой. На щеках у нее заиграл румянец, но, может, виноват был огонь в камине. Ведь я же говорил ему, что Фанния с Рудольфом живут в так называемой малогабаритной квартире. К черту, подумал я, не такой уж отец скверный, каким пытается прикинуться. Несчастный, в общем-то, человек. Вот до чего доводит ирония. Он иронизирует над всем и вся, но поскольку ирония бессильна против тех, кого нет рядом, отец ее обращает против тех, кто под рукой. Когда никого нет поблизости, он, видимо, иронизирует над самим собой. Плохо дело. Очень плохо. Бледнолицый господин, как сказали бы индейцы, может лишиться кое-чего посущественней, чем скальп. Он может лишиться доверия.
На помощь пришел Кризенталь. Не говоря ни слова, он подался вперед, и на лице его появилось то самое знаменитое выражение. «Я знаю, что ты сейчас скажешь, — поспешил заметить отец, обернувшись к Кризенталю. — Ты скажешь: пусть каждый красит свои стены сам!» И отец пошел доказывать нецелесообразность такого подхода. Фанния улыбнулась моей мачехе, мачеха понимающе кивнула: «Ничего, потерпите немного».
Я осторожно прикрыл за собой дверь и спустился вниз по лестнице.
В столовой вдоль стен выстроились почерневшие от старости дубовые стулья, замысловатая резьба украшала их высокие спинки. Над столом висела позеленевшая бронзовая люстра. Горели только две лампочки, комната куталась в сумрак. У стен, втянув головы в плечи, плотно зажмурив глаза, затаились настороженные, сплюснутые чертенята. Я зажег всю люстру, черти выпрыгнули из тьмы и мигом превратились в спинки стульев. Массивный буфет хранил в себе хрусталь, фарфор, фаянс. Пол был прикрыт старым, вытертым ковром. В углу столик для радио, рядом с невысоким книжным стеллажом — два глубоких кресла. Перед ними в беспорядке валялись журналы, газеты, радиопрограммы, шали, кашне, перчатки и зонтики. Блестящая коричневая трость а-ля Чемберлен с любопытством уткнулась в страницы журнала «L’archilecture d’aujourd’hui». Изящный венгерский зонтик лежал по соседству с коробкой спичек «Fire Queen». На видном месте висели картины, в самом темном углу, у входа в отцовский кабинет, — небольшой рисунок углем. Здесь, внизу, все было как прежде. А второй этаж я перестроил на собственный лад. Пришлось выломать перегородки, изменить планировку комнат. Налево находилась мастерская, справа жилая комната, рядом ванная и спальня. И только на первом этаже я все оставил по-старому. Как прежде.
В кухне Рудольф разговаривал с Евой. Стрекотал холодильник.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Я знаю, нехорошо подслушивать, но мне не хотелось сразу входить. Мы с братом редко говорили об отце как человеке, если вообще говорили. На сей счет я держался несколько отличного, чем у Рудольфа, мнения. Если бы мы не прощали людям слабостей, жизнь потеряла бы всякий смысл. Слабость без конца и без края? Гуманизм, вот высший принцип. Мы вас овчинкой, вы нас безменом! Гуманизм, вот самый что ни на есть высший принцип. Будь добр с дурным и с хорошим. «Чуры-муры ушкам слышать далеко-далеко, чуры-муры ножкам бегать быстро-быстро». Ну, и так далее. Прекрасные воспоминания детства. Только я ни черта не помню. Не помню того, что помнит Рудольф. Гуманизм, вот высший принцип. Пока тебя не сотрут в порошок. А еще было «чуры-муры глазкам видеть зорко-зорко». Да будет так, немного подслушаем.
— Он постоянно упрекал себя за то, что женился на матери, — рассказывал Рудольф. — У нее не было ни денег, ни положения в обществе, ничего у нее не было. Доброта, ум, красота? Красота еще куда ни шло, а на что годилось все остальное? Я давно обратил внимание, что дети видят гораздо больше, чем принято думать. И позднее, когда я с ним разговаривал,
когда убегал из дому при его появлении, он все-таки аккуратно приезжал каждый месяц, привозя нам с братом деньги. Ведь старая Талме была не в силах нас прокормить. Но если бы ты видела, до чего неприятен и до чего бездушен бывал Он в эти минуты! Из меня-то ничего путного не вышло, а вот Юрис научился обтесывать камни, и старик ждет не дождется, когда сможет урвать себе хотя бы листик от лавров сына. Иначе ноги бы его здесь не было.
— Но он приезжал к нам и просто так, без денег, — произнес я, открывая дверь.
— Подслушивал! — воскликнула Ева.
— Нехорошо подслушивать, малыш, — заметил Рудольф.
— Уж очень хотелось узнать.
— Что?
— За что ты так взъелся на старика?
— Не стоит.
— Нет, стоит. Ты старше меня, ты рассудительней! Ты помнишь то, чего не помню я. Конечно, старик спровадил на фронт Харалда, но это, как говорится, судьба. Тебя отец не пускал на войну, так ты сам ушел, я-то думал, вы из-за этого тогда с ним разругались. А то, что он любит из себя разыгрывать всемирного путешественника, хотя дальше пригородов Риги не выбирался, за это я его не осуждаю. У каждого свои слабости. К тому же ему хотелось позлить тебя, он знает, ты не терпишь таких разговоров. Но это еще не значит, что он бездарь и ничтожество и что с ним можно не видеться по пятнадцать или сколько там лет. Да кто же из нас без изъяна? Ну, выскажись наконец, что ты знаешь о нем?
— Правда, скажи, — вставила Ева.
— О людях мы судим по тому, как они относятся к нам. К вам он относится хорошо.
— И все-таки, — не уступал я.
— Это ничего не объяснит. Это даже не причина. Ты не поймешь. Хоть ты и художник, но в таких вещах ты чурбан.
— Любой чурбан можно обтесать. Говори.
Рудольф рассказал, что отец часто не являлся домой ночевать, не объясняя матери причину своего отсутствия.
«Как будто его объяснения могли что-то изменить», — подумал я и сказал:
— Не помню такого.
— Конечно, не помнишь, ты был еще маленький.
— Ну, а дальше?
Рудольф с перепугу прятался за стул — так грозен бывал в эти минуты отцовский взгляд, устремленный на мать. Старик слыл отменным актером, в студенческие годы он выступал на подмостках не хуже иного профессионала. Любил шекспировские пьесы. В совершенстве владел мимикой. Умел придать лицу грозное выражение. Ничтожество! Ну, что я сделала, в чем провинилась, спрашивала мать. Отец не отвечал, лицо его становилось все мрачнее. Мать было нетрудно довести до слез. И тут отец вскакивал, уходил в кабинет и запирался. Плакала мать, плакал Рудольф. Не просто так, за компанию, а потому, что ему было страшно. Даже теперь при одном воспоминании у него по спине мурашки бегают. Еще ребенком он решил, что этого никогда не простит отцу.
— А Харалд? — спросил я.
— Что Харалд! Харалд был слишком взрослым, чтоб замечать такие пустяки.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Старый наболевший вопрос.
Рудольф помогал Еве накрывать на стол, а я отворил дверь отцовского кабинета.
Меня в ту пору еще и не было. Рудольф что-то путает, не может быть, чтобы отец вел себя так и после моего появления на свет. Он был очень добрый. «Чуры-муры ножкам!» А может, все было именно так, просто был я тогда несмышленым. «Бегать быстро-быстро!» К тому времени, когда начал помнить себя, все вошло в колею. Отлично отлаженную колею лицемерия. Потом эта смерть, отец женится на другой, переезжает в Ригу. С Рудольфом он был в большой ссоре, причины мне известны, и я полагал, они единственные. Нет, оказывается. корень глубже. «До чего же приятно бывать у тебя», — говаривал старик. «Все как прежде!» В кабинете ничего не изменилось. Уступив его молчаливому желанию, я не стал ничего менять и в столовой. «Есть люди, которые живут лишь в прошлом», — частенько повторял отец. «Man ist, wie man ipt»
[1]. Если душа питается тенью, и сам человек превращается в тень. На кладбище он не ходил, но, однажды побывав там, иронизировал: «Форменное издевательство над покойниками. У входа повесили объявление: «Привоз на автокатафалке — 4 рубля. Привоз на автокатафалке, покрытом кумачом, — 7 руб. 50 коп.». Но все это только цветочки по сравнению с объявлением, напечатанным жирными буквами: «Могилы, занятые самовольно, считаются недействительными».
Отец никогда не брал с собой жену. Мы никогда не говорили о ней. Как никогда не говорили с ним о покойной матери. Но я-то был уверен, что отец, как истый адвокат старорежимной закваски, говорит одно, а думает другое. Что в душе он хранит тень воспоминаний, никого не допуская к ней, и что афоризм Фейербаха своим острием нацелен прямо в него, хоть сам отец этого не сознает.
В кабинете стоял кожаный диван и два кресла, тоже обитые коричневой кожей. Здесь все было в коже — дверь, даже углы письменного стола оторочены коричневой кожей и прошиты гвоздиками с медными шляпками. Возле стены громоздились четыре книжных шкафа. «Библиотека пусть останется у тебя, когда что-нибудь понадобится, приеду посмотреть». Можно подумать, я в мастерской кожевника. Все книги переплетены в одинаковые переплеты, корешки отделаны черной кожей, коричневой кожей, красной кожей, зеленой кожей. Между шкафами висела фотография. Прекрасное печальное лицо матери уже, казалось, не чаяло вырваться из пут омертвелой кожи. И рамка фотографии была обтянута коричневой кожей! Снимок пожелтел, но ржавчина коснулась пока только фона — окна с тюлевой занавеской. Волосы, зачесанные на одну сторону, спадали на плечо. Голова слегка повернута вправо, и оттого хорошо видна округлая щека. Безупречная пропорция лба, носа, подбородка. Удивительное впечатление производило это лицо, такое живое на поблекшем фоне. Время как будто не решалось прикоснуться к самому изображению. Но разгадка была проста. Кожа, которой обтянули рамку, впитывала влагу из воздуха, а влага, проникая под стекло, растекалась к центру, и фотография понемногу приходила в негодность. Еще через несколько лет сырость доберется до волос, потом размоет глаза, губы, и мать угаснет.
Если бы отца возможно было поставить в мастерской на станок и поливать водой до тех пор, пока фактура не станет податливой, мягкой, — я бы перекроил его на собственный лад. Я б оставил его шрамы, чтоб они напоминали об ошибках, в которых он не раскаялся. Ведь мы прощаем только те ошибки, в которых человек раскаялся И эти шрамы бередили б его чванливое самомнение, будто жизнь им прожита как надо — там смолчал, тут сбросил одну кожу, напялил другую. Требует время зеленой кожи, наденем зеленую, требует время коричневой кожи, наденем коричневую, и тому подобное. Да будет так! Заострим свои томагавки! Нелегко избежать искушения превратиться в змею, если твой родитель изо дня в день твердит о том, что в этом заключается мудрость жизни. «Нет в мире убеждений, есть только кожи!» Хоть я отнюдь не убежден, что сам он верит в свою систему кож. Может, слова его были блеснами, отвлекавшими внимание от крючка? Словоблудие и резонерство кое для кого превращаются в самоцель, — нашелся бы терпеливый слушатель. В данном случае — родной сын. Я знаю, выступая в суде, отец взвешивал каждое слово, там за столом сидел судья. Не удивительно, что, покидая зал заседаний, отец забывал судью в массивном кресле. Об этом я как-то прежде не подумал. Мне казалось, что молодой, подающий надежды скульптор не способен пасть так низко. Как низко? Чтоб судить о словах и поступках отца? Но разве это монополия одних торговок? «Принимай людей такими, какие они есть, не пытайся их исправлять». Но как быть, если они скользкие, гладкие, их и в руках-то не удержишь. Как быть, если совесть, равно как и язык, просыпается и приходит в движение лишь тогда, когда обещан гонорар?
Куда девалась после смерти душа молодой женщины? Вопрос глупейший, всем известно, что души не существует. Ах вот оно что! Тогда скажите, куда девалась жизнь молодой женщины? В общем-то она была немолода, мать троих сыновей. Ах вот оно что! Однако о ней позже. Поговорим о сыновьях.
Старая истина: мать для сына нередко представляется идеалом женщины вообще. Для него они неделимы. Он несет их в душе нераздельно. Это Рудольф. А у меня такое чувство, будто меня обокрали. Во мне идеал этот смутен. Я где-то его растерял. И сам не знаю где? Зато у меня есть глиняный ком. Я бы вылепил его нагим и немощным, без черной визитки, без темных брюк в серую полоску. Смотрите, воскликнул бы я не без гордости, смотрите, какой у меня отец! И на серебряной витой цепочке у него висел бы на шее флюгер. И пусть дуют ветры! Дуют с севера, дуют с юга, дуют с востока! Полюбуйтесь, как крутится двуногая карусель. Дуйте западные ветры! Пол-оборота направо, оборот налево, полный круг по оси. «Покрутись повертись, только на пол не свались!» Все очень просто, главное не упустить момента, главное все время быть начеку. «Раз-два, прыг-скок, покрутись еще, дружок!» Напрасно вы ждете, чтобы ожил этот ком человечьей глины. Дудки! Никому не вдохнуть в него дыхание. Зеленое дыхание? Коричневое дыхание? Сын, отойди в сторонку, от тебя несет красным дыханием. Поговорим о розах, пора их укрыть на зиму! Но послушай, отец, ведь не только мое дыхание, но и ветер мой тоже красный! Все равно, мне теперь все равно.
Ой, тяжко. Глина затвердела, малейшее неосторожное движение, и отец превратится в груду черепков. Каким-то седьмым чувством я люблю этот незавершенный портрет. Потому-то я б его безжалостно переделал. Но, сдается мне, поздно пришел я к такому выводу. Слишком поздно.
Открылась дверь, вошла Ева.
Она прижалась щекой к моему лицу, и так мы стояли, потом она сказала:
— Пойдем! Все уже за столом, ждем тебя.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Стол получился на славу.
Свиной холодец, холодец из телятины, миноги, сельдь, сыры: латвийский, российский, голландский, рокфор. Черная икра. Фаршированная щука, крабы, майонез, масло, хрен, салаты, разукрашенные зеленью. Фарфор, серебро, хрусталь и чешское стекло.
Ни дать ни взять, стол-миротворец, если позволено так выразиться. А кто были люди? Два враждующих клана? Куклы? По одну сторону — Рудольф с Фаннией, по другую — отец с мачехой. Отец пытался завербовать Фаннию, но выбрал неверную тактику, и попытка его провалилась. Подчеркнуто нейтральным оставался Кризенталь. А я? Не поколеблен ли давным-давно мой нейтралитет? Я взвешиваю Кризенталя, взвешиваю его слова: «Не надо ему было жениться». Кризенталь, сказал это мне, но никогда не говорил и не скажет отцу. Во-первых, потому, что Кризенталь считает, будто на свободный выбор человека ничто не должно влиять, и уж тем более потому, что отец мог бы прислушаться и к его совету. Есть же люди, испытывающие радость при виде разбитого корыта. Зачем отец так много пьет? Четыре рюмки за десять минут. Имею ли я право судить о мачехе по тому мимолетному эпизоду в кафе? В ту пору я носил бороду, теперь гладко выбрит, она не узнала меня. Но если и узнала, уверена, что не выдам. Может, память мне изменила, и это была не она, мало ли на свете похожих людей. Может, мне захотелось что-нибудь припомнить именно в таком роде, чтоб очернить молодую жену? А вспомнить всегда что-то можно. Полунамеки, полуупреки Кризенталя спустили рычаги, и память в захламленных закромах пришла в движение. Но даже если это была она? Разве свободные команчи, как сказали бы индейцы, не вольны выбирать тропу и место для охоты? Что бы я сказал, если бы даже и хотел что-то сказать? Ну, какие у меня козыри? Всего-навсего нелепые догадки, всего-навсего фиолетовый ветер, превращающий человека в трамвайный вагон. Доказательств никаких, да и кому они нужны? Примирение не состоялось. Что делать, раз уж люди не такие, какими хотелось бы их видеть? Что делать, раз люди склонны ошибаться? Ева считает, что за это мы должны наречь их подлецами, а по-моему, не всякий виноват в своей подлости. Праведная жизнь, неправедная жизнь. Где эталон? Что такое мораль? Должным образом расставить слова, получится предложение: «Не обманывай мужа своего! Обманывай не своего мужа!» Люди строятся парами, им окольцовывают пальцы, они вьют себе гнезда. В семье родятся дети. Переставьте два слова, и вот уже другая формула. Примените формулу в жизни, и другой займет твое место. Типография работает вовсю, в запасе у нее миллионы букв.

Отец довольно увлекательно пересказал хронику какого-то преступления. Потом потолковали о вещах вовсе незначительных. У меня все время чесался язык, хотелось обратиться к мачехе: «Будьте любезны, подайте горчицу!» Но мне вдруг стало все безразлично. К черту, какое мое дело! Первыми простились и уехали Рудольф с Фаннией. «Будь здоров, малыш, — сказал Рудольф, — опрокину еще рюмку, и, пожалуй, тронемся!» «Нет, нет, это мне не повредит», — усмехнулся он, когда Фанния пыталась перехватить его рюмку. «Посидели бы еще немного», — сказал я. «Нельзя, Андрис дома ждет!» Я был уверен, что старая Талме в этот вечер присматривает за Андрисом и что Андрис был только предлогом, но пусть будет так. «До свиданья!» Отец основательно захмелел.
«Жизнь моя, ты так изменчива», — потихоньку пел он, пока мачеха влезала в шубу. Кризенталь ушел позже всех, и мы наконец остались одни с грязной посудой. Я отвернул на кухне оба крана, вода с шумом хлестала в раковину. Ева повязала передник и принялась за работу. Судомойки, как правило, работают по вечерам, а то и ночами. С длинным полотенцем в руках я стоял рядом
с нею, вытирая перемытые тарелки, ложки, вилки и бокалы. Мы молчали, мы слишком устали, чтобы разговаривать, но мысли шли своим чередом.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Как-то очень давно в осенний день меня вывели в парк погулять. Харалд сел на скамейку, раскрыл книгу и сказал: «Далеко не отходи, малыш!» Читал он много и запоем. Далеко я не ушел — метрах в двадцати на соседней скамейке сидел какой-то странный господин. Впалые щеки, синий нос, лицо потертое, как сиденье кресла в отцовском кабинете. Пиджак на локтях в рваных заплатах. Белки глаз — в красной паутинке, зрачки черные, маленькие. Я подошел ближе и увидел себя в зрачках его глаз. Маленький человечек в комбинезоне с лопаткой в руке, это, конечно, был я. Какой престранный господин. Интересно, чем он разукрасил свой нос — чернилами или синькой? А может, он волшебник? Иначе, как я мог очутиться в его глазах? Решил разузнать.
— Юрит!
Но я, не обратив внимания на окрик, тянулся к господину, пытаясь ухватить его за тупой и желтый палец, которым он постукивал о край скамьи. «Оказывается, к волшебникам тоже приходит осень, — подумал я, — и пальцы у них желтеют, совсем как листья». Волшебник посмотрел на меня и улыбнулся.
— Олэ, кхе, мики! — сказал он.
Что сие означало, для меня было неясно. Я раскрыл рот, чтобы спросить, но в этот миг какая-то сила схватила меня за шиворот и поволокла по воздуху.
— Сиди здесь, играй здесь, копай здесь!
— А тот господин волшебник?
— Не подходи к нему.
— К нему пришла осень?
— Отстань от меня, он бродяга.
— А я видел, как он у Кризенталя пилил дрова!
— Чего ж тогда спрашиваешь!
— Только нос у него не был синим!
— Он пьет спирт. Не подходи к нему, не видишь, какой он грязный, противный. Кто знает, где он ночует.
А мне этот господин не казался противным. Грязен он был, это верно, но и красив! Мне не нравилось, что сам я был таким чистым, умытым. Мне хотелось выяснить, отчего у волшебника синий нос и отчего на шее у него болячка.
— Харалд, — не унимался я, — почему на шее у него болячка?
— Потому что он не моется, — сердито отозвался Харалд, — и еще потому, что у него неправильный обмен веществ.
— Да, — глубокомысленно молвил я. — Он весь пожелтел!
Через неделю я позабыл о господине с синим носом. Но спустя много времени, лет через двадцать, прогуливаясь в парке, я увидел на скамейке очень похожего человека. Его обноски выглядели довольно прилично, да и нос был не таким уж синим, но белки глаз по-прежнему в красной паутине. Зрачки маленькие, черные! Я остановился перед ним и увидел себя в его зрачках, таким же маленьким, как прежде. Синий нос среди тысячи белых носов — капля чернил в стакане воды! Да будет так, подхожу, сажусь рядом.
— Ну, как живется, дед?
— Да что, сынок, напраслину возводить. Хорошо живется!
Он как-то сразу сник, порывался подняться, уйти, но я удержал его, стал расспрашивать, и он рассказал мне, что обитает в доме для престарелых, что жизнь там ужасно тоскливая, и потому он взял и сбежал на неделю. Я покосился на его одежду и недоверчиво покачал головой.
— Вы не думайте, — сказал он, перехватив мой взгляд, — одежонку мы получаем исправную, только я ее обменял. Выпить захотелось. И потом так удобней.
— Отчего же тоскливо там?
— В доме-то? Есть у нас телевизор, радио, кино бывает, и книжки, и газеты, а все равно чего-то не хватает. Тоска берет. Пожить хочется!
— Да, — говорю, — выдавали бы в субботу всем бывшим бродягам и дровосекам по четвертинке, тогда бы ты, дед, навряд ли убежал.
— Н-дэ! — говорит. — Это дело! Социальное обеспечение у нас имеется, завести б еще душевное обеспечение.
— Послушай, — говорю, — а тебе никогда не приходилось пилить дрова у Кризенталя?
— Я, — говорит, — в свое время у стольких пилил, что сейчас и не вспомню.
Потом дед стал у меня допытываться, кто таков, чем занимаюсь. Я рассказал. «Н-дэ! Выходит, ты художник!» И пошел дед сокрушаться, что у него была не жизнь, а сплошное невезенье и никаких возможностей, никакого просвета.
— А на что теперь крылья дряхлому орлу! — воскликнул он. — Великое дело в свое время родиться!
— Послушай, — сказал я, — Ведь ты, наверное, Библию читал?
Старик глянул на меня с хитринкой и ответил вопросом:
— А ты-то сам тоже небось почитывал?
— Полистал от нечего делать. Но скажи мне, ты веришь, что можно родиться в свое время?
— Н-дэ! Хочешь верь, хочешь нет, а так оно есть. Не родись слишком рано, не родись слишком поздно. Родись в свое время! Так там сказано, а?
— Ну, примерно.
— А как же ты, советский художник, и вдруг Библию читаешь? — лукаво спросил старикан.
— А как же ты, старорежимный дровосек, бродяга, живешь в советском доме для престарелых инвалидов?
— Н-дэ!
— Ты не увиливай! Скажи, почему ты не родился в свое время. С солнечным детством и прочая? И был бы ты молодым орлом с молодыми крыльями! Ну, ответь, почему не родился?
Старик помолчал, потом сердито буркнул:
— Чего спрашиваешь! Будто сам не знаешь!
Под конец нашей беседы старик сказал:
— До того наговорились, во рту пересохло! Пивка бы в самый раз хлебнуть!
И мы с ним у киоска выпили по кружке светлого пива. Да, душевное обеспечение нам необходимо. Вернувшись домой, я взял уголь и набросал старика. Из каждого глаза его вопросительным знаком глядел на меня человечек.
Родись в свое время! Удобная, черт возьми, теория! Ею можно все оправдать. Любой бюрократический выпад, как-то: «Этот товарищ создает скульптуры, которые положено создавать лишь через двадцать лет. Товарища следует раскритиковать, ему неизвестна единственно верная истина — родись в свое время». Или: «Это хороший рассказ, однако написан он лет на десять раньше, чем следует. А ну всыплем автору по первое число, чтобы знал свое время!»
Не родись слишком рано, не родись слишком поздно! Согласно этой теории Харалд родился слишком поздно. Родись он в тысяча девятисотом, он бы непременно был с революцией. За это я ручаюсь, у нас в жилах кровь де-да-бунтаря. Говорят, что пращуры возрождаются во внуках, и доля правды в этом есть. Жаль, что отец у нас вышел таким — ни рыба ни мясо. А в наших жилах мятежная кровь. Недаром дед в семнадцатом году во главе роты красных латышских стрелков отправился в Петербург— делать революцию! Родись в свое время! Где ты был тогда, старик из парка? Деду моему исполнилось тридцать шесть. Он прошел фронты гражданской, а в тысяча девятьсот тридцать седьмом его расстреляли. Мы ничего не знали про деда. Отец и не думал нам рассказывать о его революционном пути, он стыдился, что его родитель коммунист, и, чтобы как-то смягчить ужасное слово, отец говорил: «Большой был охотник до приключений, так и пропал где-то без вести». Да будет так! Возьмем в руки карандаш и на листке бумаги набросаем родословное дерево. Пишите! Дед Кристап Ригер, родился в 1881 году. Отец Артур Ригер, родился в 1903 году. Внуки, они же сыновья, — Харалд, родился в 1924 году; Рудольф, родился в 1928 году; Юрис, родился в 1936 году. Дед — латышский стрелок, революционер, позднее командир Красной Армии. Отец — сын революционера, впоследствии отказавшийся от родителя, позднее адвокат без души и совести. Внуки, они же сыновья, — Харалд, студент, впоследствии легионер
[2]; Рудольф, школьник, впоследствии солдат-доброволец Красной Армии, позднее студент, затем начальник заводской лаборатории; Юрис — школьник, студент, скульптор. Как видите, самым гладким оказался мой путь, потому что только я родился в свое время! Ненавижу Библию за эти дурацкие побасенки. Родись в свое время! Если люди не научатся переделывать время, они ничему не научатся. Где точка опоры, где рычаг, перевернувший мир? До известного предела человека делает время, потом люди начинают делать время. Справедливости ради отметим: не всегда это им удается.
Я еще маленький, я многого еще не понимаю. Сижу у приемника. Торжественно и скорбно звучат фанфары. Густая черная кайма легла на белую бумагу. Рыдают фанфары, оплакивая гибель армии под Сталинградом. Гренадеры Паулюса в плену. Харалд мечется по комнате. «Ну погодите! — хрипит он. — Латышские парни придут вам на помощь!» Харалд герой, он едет на войну. Мои представления о героизме в ту пору были расплывчаты. Герой это тот, кто воюет. Все равно, за что. Все равно, на чьей стороне. В моих глазах героем был всякий— и красноармеец, и солдат вермахта. У героя был автомат. Он из него стрелял. Те, которые стояли в стороне, не были героями. Героизм в моих глазах был понятием физическим, я еще не сознавал героизм как идею.
Дома остается Рудольф, тайный друг Джема Банковича
[3]. Рудольф сочинил песенку, в ней были такие слова: «И разобьют пруссаков в пух и прах!» Мы ее пели в ритме марша. А разгадка проста, теперь-то я понял. В сорок первом, в год Советской Латвии, Харалд был уже достаточно взрослым. Он как раз достиг того возраста, когда мальчишки с бычьим упрямством защищают свои взгляды на жизнь, не вдаваясь в сущность этих взглядов. Харалда сделало время и корпорации
[4], сам он не пытался воздействовать на время. А Рудольф? Его тоже делало время, но совсем иначе. В первый год Советской Латвии он был в наиболее восприимчивом возрасте, и в основу его мировоззрения легли красные кирпичи. Отец не пытался влиять на нас. В политике отец был инертен. Он только старался вовремя сменить кожу. Родись в свое время! И время становится инертным, если инертен человек.
У нас в семье все большого роста, и отец, и мать, и оба старших брата, только я, последыш, не поднялся выше среднего. А высокий рост пригодился Рудольфу. Когда он подделывался под человека. Что значит «подделывался под человека»? Все очень просто. Рудольф лицом был похож на Харалда, и осенью тысяча девятьсот сорок четвертого он с метрикой Харалда явился на призывной пункт, чтобы вступить добровольцем в Красную Армию. Стоило изменить два слова, и формула обретала иной смысл. Харалд, сын Артура, Ригер, доброволец! Узнав об этом, отец метал громы и молнии, они оба так раскричались, что в столовой звенела посуда. Я стоял под окном в саду и все слышал.
— Ты безмозглый дурак, — кричал отец. — Не желаю в этой идиотской войне потерять всех сыновей!
— Я уже не маленький, знаю, что делаю, — отвечал Рудольф.
— Ты надругался над памятью брата! — кричал отец.
— Ты сам над ней надругался! — Рудольф тоже повысил голос.
— Ты подделал чужие документы! — почти в истерике вопил отец. — Так и знай, сообщу куда следует.
— Черта с два ты сообщишь. — отозвался Рудольф.
— Молокосос, чтоб духу твоего не было! — орал отец.
— И не будет! Счастливо оставаться!
— Скатертью дорога! — прокричал отец.
Рудольф помчался садом с рюкзаком за плечами, я гнался за ним, что было мочи.
— До свиданья, братишка! До свиданья! Я напишу тебе, жди письма!
Я могу рассказать лишь о своих одноклассниках, о ребятах, собравшихся в школе, едва отгремели пушки, о тех, кто шел на первые уроки по неостывшим еще колеям от гусениц танков, а на больших переменах лазил по обломкам самолета, упавшего в школьном саду. Если бы вы знали, какое это чудо — сбитый самолет. Конечно, все самое ценное забрали саперы, но вы только послушайте. Покореженные, продырявленные пулями крылья, хвостовое оперение, сорванное с фюзеляжа, отброшенное метров на пять. Темные пятна на полу кабины. Глядя на них, становилось как-то не по себе — ведь кровь человеческая. Мы завывали, сидя в кабине, стреляли из пушек, пулеметов. В большую переменку я забывал обо всем на свете, и утреннюю взбучку в вестибюле, и запачканный костюм. Одно на уме. Бой. Мы были советские летчики, мы оживили грозный бомбовоз и снова ринулись в бой. Йуууу! Йуу! Огромное колесо, отброшенное в сторону, зарывшееся в землю, было вражеским истребителем, неуловимым воздушным пиратом. Никто не хотел садиться в истребитель, потому что бомбовоз неизменно выходил победителем. Четыре урока подряд мы уламывали Калныня, наконец он согласился, и на большой переменке мы мчимся к самолету. Нейманне и я — мы советские летчики, мы летим на Берлин. Калнынь примостился на колесе, он неуловимый воздушный пират, он пытается уничтожить нас, но мы, обрушив на него всю мощь огневых средств, сбиваем его. С Калныня довольно, он переходит в кабину бомбовоза, теперь он будет пилотом, я штурманом. Нейманне с Ивановым главные бомбардиры, курс на Мюнхен, бомбы ложатся в цель. Никто не хочет быть неуловимым воздушным пиратом. Мы хотим сражаться по другую сторону фронта. На самом деле, война окончена, уже дважды праздновали День Победы, дважды весной мы ходили убирать братские могилы, и вот наступает день, когда увозят наш самолет.
Теперь я расскажу еще кой о чем и заранее слышу вопрос: «Об этом-то зачем сейчас вспоминать?» Я отвечу. Надо! Потому что мы были друзьями, мы были пионерами, мы летали в одном бомбовозе, мы сражались против общего врага, и мало-помалу в нас созревало осознание героизма как идеи. Потом наступило утро. Ротберг, Нейманис, Иванов не явились в школу. Учительница белее полотна. Ни одного вопроса. Наш экипаж лишился троих товарищей. «Грехи отцов отзовутся в детях до четвертого колена. И в детях их детей!» Тогда я ничего не понял, значительно позже, в парке наступило прозрение: «Родись в свое время!» Хитроумное оправдание, однако экипаж наш заметно скис, а героизм как идея основательно поблек.
Учитель физкультуры тянул меня за уши к перекладине турника, чтобы я усвоил, как важно стать сильным. Время шло, я занимался спортом, весь класс занимался спортом. Мы были послушными. Мы смирно сидели за партами, схватывая все, чему нас учили. Мы зазубрили несколько истин, зазубрили так, что кое-кто из товарищей по сей день не может выбросить их из головы. Одна из этих истин звучала так: «Не думай то, что думается, а думай то, что должен!» В праздники, собравшись в актовом зале, мы пели песни-молитвы, но это были не церковные песни. Человек, на которого мы молились, смотрел на нас с портрета. Да, портрет был личностью, и личностью незаурядной, теперь, все взвесив, я могу смело в этом признаться. Портрет был слишком сильной личностью, она не подчинялась времени, она сама подчиняла время. Человек и время, время и человек — у подобного соотношения должны быть разумные пропорции, которые нельзя нарушать. Появилось четвертое измерение, непредвиденное измерение, и портрет обезобразил сам себя. Если бы портрет мог оправдаться, он сказал бы: я дал людям то, чего они требовали! Отсюда мораль: больше требуйте от самих себя, меньше требуйте от других. Наступила весна, портрет украсили каймой из траурного крепа. Учителя плакали навзрыд, они были достаточно взрослыми, чтобы знать, зачем надо плакать, мы были еще маленькие, мы не плакали. В день похорон земля замедлила бег, грохотали пушки, а мы на взморье гоняли по дюнам на лыжах. Спешили насладиться последним снегом! «Хорошо, что Он протянул ноги, — сказал малютка Дишинь, воровато оглядываясь, не услышал бы кто. — Хоть лишний денек погуляем!» Какой цинизм! Ведь мы тогда еще ничего не знали. Для нас он был гений.
Время шло, мы закончили школу. Возвратился Иванов. Я его встретил в электричке. У него были вставные зубы и какое-то увядшее, испитое лицо. Старичок в двадцать лет. «Кругом дерьмо, — сказал он, — и, как всегда, плывет поверху!» — «Но ведь тебя освободили». — «Ну да, освободили. Теперь я несправедливо осужденный, верней, довесок к несправедливо осужденному. Несправедливо осудили отца. Меня просто сунули на поселение. Проклятая цинга!» Он показал свои десны. «А Нейманис, Ротберг?» — спросил я. Иванов большим пальцем ткнул в землю, больше я не расспрашивал. «Теперь все иначе», — сказал я. «Да, — ответил Иванов. — Покуда воздух чист!» — «Вот видишь!» — «Но говорю ж тебе, дерьмо плывет поверху!» — «Ты просто пессимист». — «Пожил бы там годик, стал бы таким же!»
Я учусь в академии, у нас чертовски хороший преподаватель, с ним многие неясности становятся ясными. В мире творятся немыслимые вещи. Как-то открываю газету и вижу удивительно знакомое лицо. Мой пропавший без вести дед. Кристап Ригер! Читаю, глазам не верю. Но я обязан верить. По дороге домой опять встречаю Иванова, он приоделся, но в стельку пьян. «Отмечаю, — говорит, — отмечаю годовщину Разума!» Я показал Иванову снимок деда, он меня обнял, расплакался. «Ненавижу, ненавижу тех, кто избивал, ох, ненавижу!» — «Разве тебя били?» — спрашиваю. В сравнении с Ивановым я наивный ребенок, я многого не знаю, я полагаю, что били только в гестапо. «Меня-то нет, — отвечает Иванов, — меня не били, а вот отца моего. Но разве это не одно и то же!» Мой школьный товарищ, товарищ по экипажу в стельку пьян, он целует снимок деда, целует меня и плачет. «Твой дед мой друг, и ты мой друг, потому что ты не свинья, нет, ты человек!»
Дед далеко, горжусь своим дедом. А Иванов рядом, об Иванове болит душа. Его слезы обжигают. Но что такое слезы? Для многих детство стало трагедией, трагедия увидела сцену. Слезы очищают. И трагедии ставят на сцене — чтобы зритель уходил из театра очищенным от вины. Но я не верю, что от вины можно очиститься без слез. Иванов плачет громко? Я плачу громко? Ты плачешь громко? Он плачет громко? Что-то я не слышал, чтобы в театре крышу срывало от громкого плача. Еще невероятней было бы услышать, что крыши лишилось все государство. И я надеюсь, постановщик не скажет: «Их несчастье заключалось в том, что родились они не совсем в свое время». Это было бы пустой отговоркой, я бы ей не поверил. Такое мог бы сказать лишь старик со скамейки в парке.
Я хочу понять, что за силы отняли у меня Харалда, я хочу понять, что за силы заставили Рудольфа уйти добровольцем на фронт, я хочу понять, что за силы заставили меня сомневаться, я хочу понять, что за силы заставляют меня верить. Время прошло, как ледник, все унося за собой, все под себя подминая.
Гуляя в поле, я натыкаюсь на отдельные камни, они разбросаны как попало, от некоторых остались только осколки. Я должен собрать их воедино. Я должен объявить мобилизацию. Я доброволец. Это не просто игра, я на линии огня, я обязан позаботиться, чтоб тылы мои были чисты. Чтоб меня не расхолаживали сомнения, чтоб мне не грозило предательство. Я собираю воедино важнейшие части, может быть, среди них попадутся и менее важные. Когда машина в работе, трудно отделить главное от второстепенного. Но я должен анализировать, взвешивать, принимать, отвергать. Чтобы понять своих близких, я должен понять самого себя. Потому что с момента рождения я подвержен воздействию тех же сил, что и они. Я подчиняюсь времени, время подчиняется мне. Я подчиняюсь обществу, общество подчиняется мне. Как рождается мировоззрение? На этот вопрос еще предстоит ответить. Я должен разобраться в самом себе, а уж потом примусь за других.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
— Если вы не слишком устали, мы можем — продолжить, — сказал Следователь.
— Нет, не устал, — ответил скульптор.
— Хорошо, очень хорошо, просто замечательно.
Следователь забарабанил пальцами по спинке стула.
— Из ваших вчерашних гостей кто-нибудь знал, что вы сегодня поедете в город?
— Я и сам не знал.
— А этот Иванов, он ваш друг?
— Да, Иванов мой друг.
— Говорят, вы с ним повздорили в электричке. Будто он во всеуслышание обругал вас. Это правда?
— Нет.
— Где работает Иванов?
— Иванов работает грузчиком. Таскает ящики с бутылками из машины в магазин и обратно. Он говорит, что это временное занятие, но оно что-то затянулось. Он работает в магазине вот уже десять лет.
— Была у него мечта?
— Да, он хотел стать летчиком. Как и все мальчишки.
— Слушайте. Иванов, напившись, приходит к вам в гости и никого не застает, но ему кажется, что вы прячетесь от него, и вот он приставил к балкону лестницу, а что было дальше, нам известно. Как вы на это смотрите?
— Я понимаю, что вы хотите сказать. Есть люди, которым жизнь натерла на душе мозоль, и, когда такой встретит другого без мозоли, он рассуждает примерно так: «У меня есть, у тебя нет. Где же справедливость? Ну, погоди, голубчик, и тебе натрем!» И он из кожи лезет, только бы сбылись его слова. Вы это имели в виду?
— Да, я имел в виду именно это.
— Я отвечу вам. Ни в коем случае. Я знаю Иванова. Он человек порядочный. Иванов не способен на это.
— Вы за него ручаетесь?
— Да. У Иванова есть совесть, а человек с совестью на это не пойдет.
— Охотно вам верю, — сказал Следователь. Он встал, подошел к окну и долго смотрел в темноту. — Вот и вечер, — проговорил он.
— Я сварю кофе.
Скульптор открыл дверь, спустился по скрипучей лестнице. — «Интересно, не завелись ли под нею мыши?»— подумал он, входя в кухню. Там он отыскал кофейник, налил воды, поставил его на плиту и чиркнул спичкой. Потом вернулся в мастерскую.
— Если не секрет, почему вы прихрамываете? — спросил Следователь.
— А! Это я однажды свалился с лесов. Работал над одним чертовски высоким памятником.
Когда скульптор сел, Следователь продолжал:
— Я хотел бы получить ответы на такие вопросы. Во-первых, кто знал о том, где хранится лестница. Дальше. Эта лестница находится в плачевном состоянии, кто-то совсем недавно пытался ее починить, прибив новые перекладины. Известно ли вам, кто это сделал? В-третьих, хотелось бы побольше узнать о Рудольфе. В-четвертых, сегодня утром вас навестил еще один человек, вы хорошо его знаете, и мне необходимо знать ваше мнение о нем. Очередность ответов можете выбрать по желанию, я не стану вас торопить.
«Дело в том, что у меня на сей счет нет никакого желания», — подумал скульптор.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Отдыхавшие съехали с дач, опустели дома отдыха, санатории. Заколотили щитами, закрыли ставнями киоски. Вдоль дорожек заброшенно стояли скамейки, на скамейках никто не сидел, по дорожкам никто не гулял. На проезжей части работали асфальтировщики. В черных котлах кипел вар. Мерно попыхивая, катился тяжелый каток, приминая щебень. Свеженастланный асфальт слегка дымился. Я шел со станции и ощутил его тепло на щеке. Когда покрытие затвердело, ветер погнал по нему листья кленов, берез и лип, потом помчались по нему коричневые, желтые, зеленые, черные, серые машины. На дюнах шел дождь. Ветер быстро сушил песок, но дождь все лил и лил. Волны выбегали на пляж к самому подножью песчаной гряды. Ветер подстегивал волны, гнал их дальше, но они не решались подниматься выше. По вечерам маяк в устье Лиелупе размеренно мигал, и море глухо ворчало на огонь. Море бушевало ночи напролет, берег день ото дня становился пустынней, потом выпал снег, море отливало сталью. Но первый снег вскоре стаял. Вода по утрам в ванной была так холодна, что зуб на зуб не попадал.
Пришло время укрыть на зиму розы, приехал отец. Мы отыскали в дровяном сарае пять широких, длинных, невысоких ящиков, перетащили их на южную сторону, где был розарий. Осторожно пригибали кустики к земле, сверху клали ящик, но строптивые ветки лезли наружу, и отец терпеливо засовывал их обратно. Шипы были острые, и каждую ветку со всей предосторожностью приходилось брать кончиками пальцев, другой рукой приподнимая ящик. Засыпали ящики листьями и сухим репейником. Листья были заранее собраны в кучи. Железными граблями я выгребал их из мокрой пожелтевшей травы, сметал метелкой с дорожек и вилами укладывал в кучи. Теперь, нагрузив тачку листьями, я покатил ее к розам. Тачка была старая, большое ржавое колесо оставляло на дорожках глубокие вмятины. Если бы вы знали, до чего тяжелы отсыревшие листья. Укрыв четыре ящика, мы обнаружили, что для последнего листьев не хватит, и отец предложил взять их с крыши дровяного сарая, прочистив водосточные желоба, которые тянулись вдоль самой кромки метров по пяти с обеих сторон. Отец сказал, что в каждом водостоке будет не меньше тачки лежалых листьев. Я приволок лестницу, она оказалась вконец расшатанной, отдельные перекладины совсем сгнили. Лестницей давно никто не пользовался, и мне пришлось прибить новые планки, иначе бы на крышу не залезть. Я успел уже собрать изрядный ворох листьев, водосток и в самом деле оказался ими битком забит, отец говорил, что его не чистили целую вечность, в последний раз он выгребал оттуда перед войной, лет двадцать с лишним назад. Пустил в ход багор, листья так слежались, что приходилось отдирать их силой. Не спеша я продвигался краем кровли, дранка заросла гладким зеленым мхом, настроение у меня было отличное. Тут багор за что-то зацепился. Я дернул его, из вороха листьев выглянуло дуло пистолета, влажно блеснули пластмассовые пластины рукоятки. Я зацепил пистолет за скобу, прикрывавшую спусковой крючок, еще раз дернул на себя и увидел покрытые ржавчиной ствол и затвор.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Редкий год проходил без напоминаний. Две зимы тому назад в дровяном сарае за грудой старого шифера обнаружили желтую сандалию Харалда. Когда она затерялась, а это было в 1941 году, подозрения пали на Муссо, — был у нас такой песик, — хотя явных улик против него не имелось. Я оглядел сандалию, предварительно выколотив ее о косяк, и насчитал на высохшей коже сорок восемь совершенно четких отметин от собачьих зубов. В прошлом году на чердаке я наткнулся на стопку школьных тетрадей Харалда и долго сидел у слухового окна, листая страницы, исписанные математическими задачами. Волны гасят следы на песке, время гасит следы в памяти. Случается, море выбросит на берег обломок потонувшего корабля, какую-нибудь планку с палубных надстроек или что-то в этом роде, и нам начинает казаться: мы тоже там были, всё видели.
И в тот момент, когда мы видим выброшенный на берег обломок, мы гибнем вместе с кораблем. Быть может, это не корабль, а человек, быть может, это не обломок, а пистолет, стрелявший дробью. Быть может, мы не гибнем вместе с кораблем, но отчетливо, совершенно отчетливо запоминаем то мгновение, когда зазвенел телефон или когда принесли письмо с вестью о гибели корабля.
Мы были в саду. К старой корявой яблоне Рудольф прикрепил бумажную мишень и сажал в нее дробинку за дробинкой.
— Я тоже хочу!
— Тебе нельзя, — ответил Рудольф, — ты маленький.
— Нет, я не маленький.
— А я говорю, маленький!
— Только разочек!
— Еще глаз себе выбьешь.
— Ну, Рудне!
— Ты не попадешь.
— Один-единственный разочек!
Рудольф зарядил пистолет и протянул его мне. Я взял обеими руками — так он был тяжел. Брат присел рядом со мной на корточки, чтобы помочь.
— Нет, я сам!
— Стреляй!
Конечно, я промахнулся. В саду опьяняюще пахли красные и белые флоксы, цвели кирпично-бурые ноготки, цвел фиолетовый львиный зев. На ветвях яблонь уже завязались плоды. Пущенная мною дробинка сбила крохотное яблочко. Дробинка угодила в тонкий черенок и перебила его. Простая случайность, и только.
— Есть! — воскликнул я с гордостью, бросаясь за своим трофеем.
— Отойди-ка в сторонку, — приказал Рудольф.
Что ему яблочко? Он продолжал с пятидесяти шагов сажать дробинки в мишень.
Я поджарил яблоко на воображаемом костре. Это был фазан, подстреленный в девственных лесах Америки. А сам я был знаменитым охотником, и не только мелкая дичь интересовала меня, но еще и скальпы.
— Рудис!
— Ну?
— А человека можно убить дробинкой?
— Нет, дробинкой не убьешь.
— А пулей можно?
— Пулей можно.
— И он сразу умрет?
— Если в сердце попасть или в голову, то сразу.
Сердце я представил себе черенком. Перебил черенок, и нет человека. Я как раз собирался освежевать свой трофей, потому что есть его с кожурой было невозможно: чертовски кислый попался фазан. Стукнула калитка, я обернулся. Шел отец, как-то странно подпрыгивая. Было видно, что он взволнован, мне даже показалось, что он нас вначале не заметил. Взгляд его блуждал где-то поверху, потом спустился книзу, и лицо исказилось страшной гримасой.
— Это еще что такое? — спросил он.
— Сам нарисовал! — ответил Рудольф, не переставая целиться.
— А! — произнес отец, и в его голосе послышалась угроза. — Ну-ка, дай сюда! — Рука потянулась за пистолетом.
С тех пор мы не видели пистолета, хотя неделю спустя Рудольф обшарил все тайники отцовского кабинета. Меня еще и на свете не было, когда отец подарил пистолет Харалду. «А в поход пойдешь, оставь плуг свой пахарю». Странный был у нас плуг. С длинным, отливающим синевой стволом, с инкрустированной рукояткой. С вид)' это оружие ничуть не уступало прославленному парабеллуму или вальтеру. «А в поход пойдешь, оставь плуг свой братьям!» У каждого
плуга свой кузнец, по-настоящему я это понял только теперь, много лет спустя, выудив пистолет из-под вороха лежалых листьев.
— Что там такое?
Мне не хотелось напоминать ему, но было уже поздно. Отец увидел, как у меня в руке блеснуло оружие.
— А, — произнес он.
— Поржавел.
— Дай-ка сюда.
На мгновенье мне показалось, что сталь еще хранит следы пальцев Харалда. Но это было просто пятно ржавчины. По скату крыши я дошел до лестницы, дранка была скользкая и влажная, спустился ступеньки на две, на три и протянул пистолет отцу. Он повертел его в руках. Иной раз мы смотрим один и тот же фильм, но одни и те же кадры воспринимаем по-разному. Мы оба смотрели один и тот же фильм. Мы оба видели извещение на сером листке бумаги, мы оба видели плачущую мать, мы видели время, видели беспомощность свою перед ним. Я молчал. Я должен был понять смысл этих кадров. Отец не молчал. То ли он пытался что-то утаить, то ли во время фильма закрыл глаза, только он сказал:
— Пистолет основательно заржавел, но не так безнадежно, как кажется.
Отец попробовал открыть затвор. Пружина не поддавалась. Пружина все-таки безнадежно заржавела. Однако отец был упрям. Он стукнул стволом по колену, ствол слегка приоткрылся.
— Отличная сталь, — сказал отец. — Немецкой марки! Денек-другой подержать в масле, и сможешь стрелять воробьев. Теперь такого в магазине не купишь.
И отец поплелся к дому, волоча ноги по гравиевой дорожке. Практичный человек, настоящий латыш! Он уехал в город, а пистолет остался на столе в столовой. Чтобы не испачкать ржавчиной скатерть, отец подстелил газету. Поздно вечером я дошел до Лиелупе и с размаху швырнул пистолет в темный поток. В этом месте река была глубокая, не думаю, чтобы кто-нибудь еще раз нашел эту ржавую штуковину. Пистолет, описав дугу, упал в воду. Я даже не расслышал всплеска.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Первым ударом откололо Харалда. Если бы отец не оставил пистолет на столе, мне бы не пришлось заново пережить второй удар, которым откололо мать. Разумеется, стол отцу ни о чем не говорил. Стол есть стол. Стол в столовой — это огромный поднос, и только. Ржавое оружие на столе? Конечно, это был не ТОГ стол, и тем не менее кнопки нажаты, по линии связи смерть посылала свои телеграммы, и я был обязан принимать их все без исключения. Кроме того, меня заставляли расписаться в получении, и не было ни малейшей возможности уклониться от этого. Харалд таил в себе связь
с пистолетом, пистолет таил связь со столом, стол таил в себе связь с матерью.
Давным-давно, когда я был совсем маленьким, если угодно, могу и точнее: мне было тогда семь или почти семь лет — добавлю это специально для людей с повышенным интересом к точности, не дай бог при них назвать неверную цифру. Однако сейчас важна суть дела. Рудольфу в ту пору, когда я был «совсем маленьким», шел шестнадцатый год. Осознав себя взрослым, он уж ни за что не хотел играть со мной, но время от времени в нем просыпалась жалость, и он, снисходя с высоты своих лет, придумывал увлекательные игры, такие, как «Фантомас и сыщики», «Страшный разбойник Лип Ту-лиан», «Краупен с большой дороги», «Пантера Багира и мальчик Маугли» и другие, которых теперь и не вспомнить.
Как-то, вернувшись из школы, Рудольф сказал, что он придумал новую игру. «Вообразим, что стол — распластанный шар земной. Я буду богом, ты будешь чертом. Давай сотворим мир!» Он в то время увлекался географией, мифологией. Впоследствии, став школьником, я тоже пристрастился кромсать перочинным ножом парты, но в ту пору, когда я был «совсем маленьким», подобная ересь мне показалась равноценной открытию Индии. Бог, орудуя ножом, прорывал глубокие реки с покатыми берегами, притоки ответвлялись, как на всамделишней карте, а в водоразделах рек бог пасы-пал землю, принесенную из сада. Это чтобы деревья, трава и люди могли расти. «Деревья, как люди, не любят одиночества», — говорил бог, и я внимал ему, затаив дыхание. Бог рассадил деревца, травинки, пустил гулять человечков. Черт (а это был я, если помните) изрыл равнины оврагами, усыпал их камнями, покрыл пустынями. Песку во дворе было сколько угодно, стоило выбежать из дому. А бог тем временем в поте лица трудился на другом конце земли. Он вырыл Тихий океан, Атлантический океан, он вырыл Каспийское море, сбегал на кухню, принес из-под крана воды и разлил ее по морям и океанам, по ходу действия выговаривая черту, то есть мне, если помните, что Сахара лежит отнюдь не у подножья Гималаев и что крупнейший водопад в Америке— Ниагара. Бог был огромен, рядом с ним моря, океаны казались просто лужицами, такими мелкими, что бог ногтем доставал до дна, не замочив самого пальца испачканной руки, и при желании он мог вызволить из пучины затонувшую Атлантиду со всей ее великой цивилизацией.
Наконец мир сотворен. «А теперь давай воевать», — сказал Рудольф. «Зачем же воевать?» — «Люди всегда так делают!» Мы разыскали спичечные коробки, отличный танк получался из такого коробка, вместо пушки втыкалась спичка, прямо с головкой, когда танку нужно было стрелять, поджигали головку, пламя пыхало, как из настоящей пушки. Мы навоевались вдоволь, сожгли все спички, и Рудольф открыл мне секрет: «Я проберусь через линию фронта к красноармейцам».
Я сказал, что он будет предателем, я тогда не очень-то разбирался в политике, и Рудольф взялся меня просвещать, а потом мы разрушили сотворенный нами мир и заключили перемирие. Мы смахнули со стола песок, подумать — несколько взмахов, и сгинули горы, исчезли равнины. Но реки, водоемы остались; скажем прямо: стол выглядел ужасно. Когда мать вернулась с работы, белая скатерть прикрывала причудливость географических контуров, как грим прикрывает морщины на лице старухи. Мать всегда возвращалась домой первой, она работала в суде секретаршей. Отец приходил с работы позднее. В ожидании ужина он сидел за столом, руки расслабленно покоились на скатерти, и нам казалось, что его длинные, чувствительные пальцы осязают малейшую неровность стола. Но мысли отца витали где-то далеко. Поздно вечером, когда мы отправились спать, наши проделки обнаружила мать.
— Мальчики, а ну-ка идите сюда!
Путаясь в длинной сорочке, я соскочил с кровати. Рудольф, как подобает взрослому, спал в пижаме, и я ожидал, что он двинется первым, ему нечего было бояться запутаться в подоле, но брат с такой неспешностью вылезал из своих пеленок, что я не выдержал, опять забрался под одеяло и лишь немного погодя вторично спустил ноги с кровати. Не подумайте, будто мы спали в пеленках, нет, просто в ходу у нас было такое выражение: «вылезать из своих пеленок». Я в тот вечер не торопился, и брату волей-неволей пришлось первому войти в столовую. Мать, застыв у стола, «диву давалась». И в ней самой было что-то «дивное». По утрам она обычно говорила: «Как? Вы еще спите? Диву даюсь!» Потом она принималась щекотать мне пятки, приговаривая: «А ну, быстренько вылезай из своих пеленок!» Тут Рудольф выставлял свои пятки, причитая сонным голосом: «И мне пощекочи, и мне». Он обожал, когда щекотали его здоровенные ступнищи. И вот Рудольф — вылитый грешник, босой — стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу. Вся ладная фигура матери, ее клетчатая юбка, ее густые, уложенные сзади в узел волосы, отчего голова казалась цветком на длинной, стройной шее, и все, все, решительно все существо ее излучало красоту, доброту. До сих пор вспоминаю те вечера, когда отец работал в своем кабинете, а я прокрадывался в родительскую спальню и забирался под одеяло к матери. Я любил, приникнув к ее шее, где-то там, за ухом, ощутить, как трепетно в жилках бьется жизнь. «Тук-тук, — говорила мать, — слышишь, у нас с тобой одно сердце!» Я в ту пору ничего не знал о мире взрослых, не знал, что ожидает человека, когда он выйдет за порог на улицу. Не знал, какие неприятности мать приносила с работы, не знал, какие неприятности ей доставлял отец, не знал, какие неприятности ей доставляли мы с братом. Тогда моя жизнь покоилась на незнании. Разве резать стол нельзя? Разве это доставляет неприятность? Мать не ругала нас, только взглянула строго, печально и сказала:
— Как вы только додумались? Рудольф, ведь ты взрослый мальчик, неужели тебе не стыдно!
Моря, озера, ущелья и равнины с укором смотрели на нас. Я думал о том, каким непутевым богом был Рудольф, каким непутевым вышел у нас мир, и было ужасно досадно, что я, будучи чертом, оказался и того хуже. Мы получили каждый свою долю нагоняя, побожились, что больше никогда не будем, и уже собирались отправиться к себе, как у матери начался сильный приступ кашля, из кабинета выбежал отец, и я впервые услыхал страшное слово «туберкулез». Позднее, много лет спустя, я читал какой-то рассказ. В нем упоминались туберозы, в моем воображении они были сродни смерти и кладбищу, хотя рассказ был светлый, солнечный. Матери день ото дня становилось хуже. Летом сорок четвертого отец уехал в деревню, присмотреть, как он сказал, уголок, где были бы сосны и сухой свежий воздух. Морской воздух для матери был вреден. Отец задерживался. Позднее, пытаясь объяснить причину задержки, он говорил: «Такое тогда было время». Да, такое тогда было время! Не хочу вспоминать последние минуты, не хочу, не хочу, не хочу, а в общем-то я ничего не помню, но когда пытаюсь вспоминать, — как это было — сознание застилает лиловый цвет, не знаю, не оттого ли, что лампу на тумбочке у кровати прикрыли лиловой косынкой? Вскоре пришлось спуститься в подвал. Когда грозит опасность, люди ищут защиты у земли, и, поскольку подвал в нашем доме был большой и прочный, соседи собрались у нас.
Гроб стоял посредине, на столе. Конечно, это был не ТОТ стол, на котором отец двадцать лет спустя оставил найденный в ворохе листьев пистолет. Стол, на котором лежала мать, до того служил для нас с братом пространством, где мы творили свой мир. Чтобы отбить неприятный запах, разбрызгали флакон одеколона. В изголовье гроба горели две свечи. Мать была желтовато-бледная, пальцы сплелись, как корни яблони. Просто удивительно, как она исхудала за последние две недели. На груди молитвенник, голова повязана белым платком.
Вдоль стен, по возможности дальше от гроба, сидели соседи. Долговязый Симанис, прозванный «Деревянной Ногой» — такое прозвище ему дали местные индейцы, иначе говоря — мальчишки. Рядом с Деревянной Ногой — его жена Ария с дочерью Жанной. Кризентали — мать и дочь. Художник был тогда мобилизован «на рытье окопов». Тут же сидел старый Рукинек со своей старухой, он был истопником в доме адвоката Юкеселя, а жена садовницей у того же адвоката. Сам Юкесель с семьей бежал в Германию. Старая Талме сидела на табурете в стороне от всех, легонько покачиваясь. Сколько я помню ее, она всегда была старой и всегда покачивалась. Для нас Талме была чем-то средним между няней, подругой матери и нашим ангелом-хранителем. И после смерти матери она осталась с нами, одевала меня, прибирала в доме, стряпала, пока я не вырос. Сидящих вдоль стен соседей по пояс укрывали узлы, мешки, чемоданы, были видны лишь их головы, плечи и грудь. Они мне казались полулюдьми.
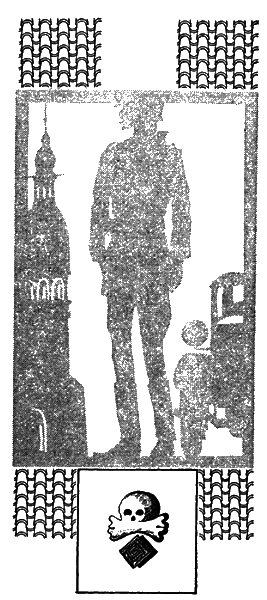
Красная Армия приближалась к Риге, немцы отступали. Во дворе рычали моторы, за низким оконцем подвала мелькали сапоги. Несколько раз мимо окна проносили канистры из-под бензина, носильщикам они доходили до щиколоток. На том месте, где канистры прикасались к ногам, сапоги были вытерты добела. «Немцы то и дело отступают, шоферам приходится таскать много канистр с бензином для своих отступающих моторов, — подумал я, — пока доберутся до Германии, протрут сапоги до дыр». Все это я придумал позднее, спустя много лет. Тогда же я видел только сапоги и канистры. Хлопнула дверь погреба, двое солдат спустились по лестнице. Один из них посвечивал фонариком. Пока они спускались, Талме поднялась, взяла молитвенник, раскрыла его.
У нее дрожали руки, и она уронила молитвенник, он упал на глиняный пол, я увидел, что молитвы отпечатаны золотыми буквами. Немцы оглядывали подвал. Может, зашли они из чистого любопытства? Может, искали людей на рытье окопов? Может, никого не искали, но, увидев дверь, ведущую в подвал, решили посмотреть, нельзя ли тут чем разжиться? Все зависело от того, какой они получили приказ. Я был еще маленьким, но уже знал, что приказ для немецких солдат царь и бог. Без приказа они покладисты, угощают ребятишек шоколадом, но стоит прозвучать знакомой формуле, и немец перестает слышать, видеть, чувствовать, понимать. Он исполняет приказ. Стреляет в цель. Заданная цель СЗ-2. Заданная цель — силуэт живого человека. Он исполняет приказ. Ищет людей на рытье окопов. Ничего не ищет. Ищет погреб, где можно чем-нибудь разжиться.
Фонарик поочередно осветил углы подвала и погас.
Немец наклонился, поднял молитвенник, протянул его Талме. Что-то сказал спутнику.
— Что, что он сказал? — зашептал я Рудольфу.
— Он сказал, что здесь похороны, пойдем отсюда.
Напоследок немец еще раз зажег фонарик, луч света уткнулся в лицо Рудольфу, и я заметил, что на скулах у брата начинает расти борода. Не какой-нибудь там мальчишеский пушок, а настоящая щетина бороды. Впоследствии один знакомый мне говорил: «С бородой приходят беды!» Еще некоторое время луч задержался на лице брата, потом скользнул по туловищу, немец опять что-то сказал своему спутнику, и они поднялись по лестнице, дверь захлопнулась. От сквозняка заплясало пламя свечей. «Что, что он сказал?» — «Он сказал, что парень, пожалуй, достиг призывного возраста». Пламя свечей трепыхалось, на стенах плясали тени. Мой брат достиг призывного возраста! Мать похоронили на следующее утро. Немцы отступили. Стол раскололи на дрова. Рудольф с остервенением размахивал топором, щепки летели во все стороны, и с каждым взмахом исчезала река, раскалывался континент, рушились горные массивы. Рудольф уничтожал океаны, моря, пустыни, плодородные равнины своего детства. Мой брат был взрослый человек. Мой брат достиг призывного возраста.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Не знаю, как выглядит смерть, по представить себе могу. В качестве материала необходимо взять какой-нибудь темный камень, скорее всего, черный мрамор. Будем откалывать кусок за куском, откалывать непрерывно, беспощадно, пока каменная глыба не проникнется одиночеством. Здесь незачем искать пропорций или стремиться к соответствию с реальным, незачем гнаться за какой-то конкретной фигурой или образом, как раз наоборот: от конкретной фигуры или образа надо отколоть друзей и близких. Отколоть мать, отколоть отца, отколоть сестер и братьев, и всю боль по отколотым сохранить на каменном лице. Но чтобы смерть была вполне законченной, придется отколоть и друзей. Может случиться, что к тому времени в каменной глыбе будут высечены руки, и они мертвой хваткой вцепятся в то последнее, что осталось. Но смерть должна быть беспощадной, об этом ни на миг нельзя забывать, и если человек упорствует, цепляется за друзей, придется отколоть их прямо с пальцами. Только тогда изваяние останется в полном одиночестве, а если будет у него лицо, пусть в нем запечатлится боль по ушедшим годам, потерянной жизни. Не важно, каким будет это лицо. Возможно, вы не отыщете в нем ничего человеческого, однако задача достигнута. Так выглядит смерть. Черный мрамор, пожалуй, самый подходящий материал. Возможно, смерть будет даже прекрасной.
Я бы никогда не взялся за такую скульптуру. Мне это не нужно. Это никому не нужно. Нужна жизнь. Но я должен знать не только друзей, я должен знать своих недругов. Первым ударом откололи Харалда. Ребенку не так тяжело. А насколько тяжело? Нет, нет, не бойтесь, я не собираюсь выражать эту тяжесть в числах, в килограммах, я согласен, взрослые воспринимают все болезненней. Вторым ударом откололи мать. А может, я ошибся, ребенку тоже тяжело? Всего ведь не расскажешь. Если кто-то утверждает, что он «все» рассказал, одно из двух: или он лжет, или не отдает отчета своим словам, что почти одно и то же. Руки от работы крепнут, на ладонях остаются только мозоли, так и память порой оставляет только мозоли, быть может, словечко «только» здесь не совсем на месте, быть может, и мозоли памяти со временем стираются, но, по-моему, жизнь еще так тяжела, что одни мозоли заживают, а другие натираются. «Честный простой человек с мозолистыми руками». Честные простые люди, не прячьте свои мозоли. Я не смогу рассказать всего, я только могу попытаться. Дважды резец скользнул мимо жизни Рудольфа. Первый раз в сорок пятом, второй — в шестьдесят третьем. Сильный яд убивает мгновенно, яд войны отравляет медленно. Рудольф говорил, что товарищи по работе подтрунивали над ним. «Поглядеть на тебя — здоров как бык, в троллейбус не пролезешь, налег плечом— дверь высадил!» Когда летом шестьдесят третьего брат вышел из больницы, мы с ним много говорили. Мы никогда не поминали ЕЕ, и все же у меня о ней сложилось определенное представление. «Я ни на миг не допускал такой мысли, — рассказывал брат. — ЭТОГО никто не допускает. Но лишиться сознания — вещь неприятная. Теряешь над собой контроль».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ОНА могла прийти в тот момент, когда Рудольф лежал без сознания. Сначала уплыли вещи, стены вдруг отступили, все это происходило под затухающий жалобный звук. Вернее, звуков не было, но стены отступали так стремительно, что Рудольфу казалось, будто он слышит затухающий жалобный звук, трудно было представить, чтобы громоздкие стены двигались бесшумно, как туман в полях. Вслед за тем нарушилась координация движений. Рудольф не смог сжать руки в кулаки. Человек себя чувствует уверенней, когда руки сжаты в кулаки. Быть может, пальцы двигались, сжимались, но обратная связь отключилась, ответных импульсов не поступало. Вместе со стенами уплывали секунды, минуты, часы исчезли еще раньше. Время вылилось, как вода из разбитого кувшина. Все прекратило свое существование, исчезла мебель, исчезли стены, потолок, пол, исчезли краски, звуки и запахи. И, наконец, исчезло тело. Рудольф напрасно искал свои руки, ноги, искал бедра, грудную клетку, плечи, шею и голову. Последней точкой соприкосновения с жизнью был воздух. Тонкая струйка воздуха стекала вниз через то место, где когда-то было горло, и расширялась там, где находились легкие, затем отправлялась обратно той же дорогой. Рудольф не чувствовал ударов сердца, не чувствовал тока крови, лишь тоненькая струйка воздуха поддерживала жизнь, словно пушинку на лету. Пока он контролировал эту струйку, ОНА не могла прийти, отрезать последнюю дорогу жизни. Потом все померкло, и трудно сказать, как долго он оставался без сознания. Возвращение началось с какого-то странного шума. То ли дежурившая у постели сестра подвинула стул и он со скрипом проехался по полу, то ли по коридору прошлепал больной, тапки без каблуков издавали звук, похожий на вздох прохудившихся кузнечных мехов, то ли Рудольф расслышал, как кровь клокочет в жилах, как сердце колотится о ребра. Если сердце яростно колотилось, угрожая разорвать грудную клетку, значит, дела его плохи, значит, ему впрыснули что-то стимулирующее. Всякий раз после такого возвращения Рудольфу приходилось мучительно напрягать свой мозг, чтобы понять, что же произошло. Сначала казалось, что время совершило колоссальный прыжок назад, вот-вот начнутся страшные боли. Рудольф осторожно тянул свою правую руку вверх по бедру, пока локоть не коснулся края кровати, а ладонь не нащупала широкую рану поперек реберных дуг. Рана хорошо заросла, превратилась в длинный узкий глубокий овраг. Ощупывая рану, Рудольф почувствовал на локте пальцы сестры. Она подняла соскользнувшую руку, прикрыла ее одеялом и тихо вздохнула. Она освободила его от кислородной маски, склонившись над кроватью, заглянула в глаза. «Ну, как наши дела? Дела идут на поправку!» Она сама спросила и сама же ответила. Сестра дежурила постоянно. Всякий раз, когда Рудольф открывал глаза, он видел или белый подол халата, или книжку в руке, или вязальные спицы, и Рудольфу казалось, что сестра так же вечна, как мир. Только теперь ему пришло в голову, что сестры менялись. Вечной была забота.
Рудольф старался не терять связи с внешним миром. Пока к нему никого не пускали. Он настороженно ловил малейший шум, залетавший в палату. Прошло три тягостных дня и три ночи, изредка всплывавшее сознание сменялось беспамятством, потом случилось чудо, он крепко уснул. Сон был глубокий и здоровый, но какие-то центры ни на миг не отключались. Рудольф слышал дальние голоса. Говорили где-то вне палаты, в коридоре, маленький Андрис беспрестанно расспрашивал об отце. Рудольф слышал ответы Фаннии, более того, он слышал не только вопросы Андриса и ответы Фаннии, ему казалось, он слышит их мысли. Вернее, мыслей он не слышал, но точно так же, как водный поток в своем течении пролагает русло реки, так все услышанное, проносясь сквозь сознание Рудольфа, будоражило воображение— так ливень будоражит водную гладь.
АНДРИС И ФАННИЯ
— Это была большая битва?
— Какая битва?
— Та, в которой папу ранили.
— Большая.
— Мам!
— Ну?
— А как папу ранили?
— Тяжело.
— Сам знаю, что тяжело. А как?
— Он лежал за развалинами.
— А впереди было поле?
— Впереди поле.
— И на поле немцы?
— На поле немцы.
— Папин взвод шел в наступление?
— Шел в наступление.
— И папа не мог двинуться с места?
— Не мог.
— Его ранили в грудь?
— В грудь.
— Разрывной пулей?
— Разрывной.
АНДРИС
Давно-давно самая большая битва произошла на Бородинском поле. Противники так разозлились друг на друга, что наступали густыми рядами и совсем не думали прятаться. А в эту войну самая большая битва была под Сталинградом. Тогда папа еще не воевал, он пошел воевать позже и сразу получил ранение. Ранение и ордена получают. Один дяденька спросил как-то папу, где он получал ранение.
— Это была большая битва?
В большой битве сражается много народу. Противник ведет ураганный огонь, и солдаты продвигаются ползком, во весь рост не пойдешь, пули так и свищут.
— Та, в которой папу ранили.
Когда воюют в чистом поле, солдаты прячутся в канаве, а если нет канавы, то в траншее. Случается, что нет и траншеи, тогда укрываются за развалинами. Поблизости всегда найдется какой-нибудь разбитый снарядами дом.
— Мам!
Пока человек лежит, в него попасть трудно.
— А как ранили папу?
Можно ранить так, что человек умрет. Смертельная рана! Если ранен тяжело, человек мучается, но не умирает.
— Сам знаю, что тяжело. А как?
Папа мне рассказывал, уж не помню, сколько раз. И всегда слушать было интересно. Папа говорил, что дом этот сгорел, а ветви яблонь ломились от яблок. Но никто не решался сорвать хотя бы одно яблочко, надо было тихо лежать за развалинами. По-моему, этот дом не сгорел дотла, его просто разбомбили. Когда идет война, на дома сбрасывают бомбы. Если бы там оказались ребята, они бы не оставили яблоки на деревьях. Посильней бы открыли огонь, яблоки б сконтузило, и они бы сами посыпались на землю! Ползай по саду и ешь сколько хочешь!
— А впереди было поле?
Не то там были картофельные грядки, не то пшеница. В одном фильме про войну я видел, как в поле сжигали снопы пшеницы. Но теперь наступали наши, хлеб и самим мог пригодиться, и раз в поле были копны, стрелять приходилось метко, потому что пули, вылетая из ствола, накаляются, а пшеница могла загореться, и все поле сгореть.
— И на поле немцы?
Летом нашим было трудней воевать, потому что у немцев формы зеленые, как крапива, и красноармейцам нелегко их заметить. Но тогда была осень, поле стало желтым, как старая газета, и папа сказал, что противник представлял собой удобную мишень.
— Папин взвод шел в наступление?
Взвод — это когда много бойцов, примерно тридцать или сто.
— И папа не мог сдвинуться с места?
Папа и все остальные бойцы злились на немцев. Они поднялись, побежали вперед. Это называется идти в контратаку. Но папе не повезло. На войне много зависит от удачи.
— Его ранили в грудь?
Папа дал мне в бок тумака и сказал: «Дело было так. Я плюхнулся на землю и отбил себе зад». В общем, он упал на спину, такой сильный был удар. Кулак у папы огромный, но пуля была еще больше. Я сказал, наверное, это был снаряд, но папа ответил, что снаряд бы его разорвал на куски.
— Разрывной пулей?
Если бы я был министром, я бы запретил стрелять в людей разрывными пулями. Разрывными пулями я бы разрешал стрелять только крокодилов, потому что крокодилы толстокожие, простая пуля не возьмет. Крокодил такой же сильный, как танк. Я спросил папу, почему он не пошел в танкисты, тогда б никакие пули ему были не страшны. Но папа рассмеялся и сказал, давай-ка поговорим про автомобили. Автомобиль — это танк мирного времени. Правда, папа так не сказал, хотя папа сказал, что это случилось весной, но, по-моему, осенью воевать приятней. Потому что сухо.
ФАННИЯ
Он седел прямо на глазах. Сначала посветлели виски, потом затылок и наконец засеребрилась вся голова. Если человек седеет внешне, разве может он не поседеть в душе? Видимо, приступы возвращались, по ночам Рудольф кричал и метался, но проснуться не мог, и в ту первую страшную ночь я не знала, что делать, я крепко обняла его, пыталась уложить силой и кричала: «Рудис, Рудис!», а он по-прежнему метался, оттолкнул меня и только тогда проснулся. Потом я догадалась, как поступать в таких случаях, и едва он вскрикивал, я целовала его и шептала: «Проснись, милый, проснись, хороший», — и он просыпался, и крик затухал у него в груди. Я просила его показаться врачу, но из Ленинграда как раз прислали новую аппаратуру, и у него совершенно не было времени.
— Какая битва?
Припадок был острый и, как всегда, внезапный. Нужно было действовать, принимать решения, я не имела права давать волю чувствам. Был поздний вечер, но никто не догадался выключить радио, диктор читал: «Марионетки Южного Вьетнама…» Мне кажется, в подобных случаях человек способен отключить все ненужные линии передач, сохранить в себе лишь голый рассудок и точность движений. К телефону. Звонить. Чтоб приезжали поскорей. Чтоб не мешкали. Назад к нему. Подушку под голову. Вода в стакане кипяченая? Андрис, быстро в кроватку! Только не давать волю чувствам.
Его увезла «скорая помощь», и крыло машины, песчаного цвета, почему-то напомнило о кладбище. Две колеи с рубчатым следом автомобильной покрышки раскинули во дворе петлю и скрылись в черной тьме подворотни. И тьма казалась беспросветной оттого, что там не было снега. А двор белел. И петля была наброшена, оставалось затянуть ее, и машина мчалась по улицам, волоча за собой колеи, словно веревки, и я все гадала, поспеют ли вовремя в больницу. Поехать с ним я не могла. Андрис.
— Ну?
Я стояла у окна, смотрела во двор, петли-колеи, превратившись в пару изогнутых скальпелей, остриями вонзились в тьму подворотни, и я ощутила боль. Вначале я даже не знала, что делать. Действовать, принимать решения? Но ведь ОНА стояла рядом. Отключить линии передач можно на короткий промежуток, теперь ток ринулся по нервным проводам, и меня всю передернуло. Подворотня, подворотня, почему нет снега в подворотне? Почему я задаю дурацкие вопросы? К телефону идти слишком рано, еще не добрались до больницы.
— Тяжело.
Я стараюсь себе представить, по каким они едут улицам, под асфальтом ли эти улицы или там булыжник, и не слишком ли заносит машину на поворотах. Хорошо бы снег успели счистить. На снегу колеса скользят. И я тихо про себя шептала: «Дайте зеленый свет. Да* вайте им только зеленый! Зеленый свет! Зеленый!»
— Он лежал за развалинами.
С утра пришла Талме, осталась с Андрисом. Я пошла в больницу. Меня к нему не пустили. К тяжелобольным, к тем, которым дают кислород, к таким больным никого не пускают.
— Впереди поле.
Не пускают даже жену.
— На поле немцы.
Потом я сообразила, не пускают потому, что верят, он будет жить. Если бы не верили, пустили — проститься. Я сидела в коридоре. Я попросила, чтоб ему передали, я никуда не уйду, буду ждать, пока ему не станет лучше. Я принесла апельсины. Оранжевые апельсины. Какие еще могут быть апельсины? Солнечные? Ну, конечно, солнечные. Круглые, солнечные, оранжевые, солнечные апельсины.
— Шел в наступление.
Пришли Юрис и Ева, и мы разделили горе на три части, и стало легче, я отважилась уйти домой. Ночью я дремала у телефона. Мне казалось, в любую минуту прозвенит этот черный звонок. Смерть и страхи приходят в полночь. Поутру, когда взлетели первые голуби, я посмотрела в зеркало и расплакалась. От радости, что ужасная ночь миновала. Он жив.
— Не мог.
Теперь я сижу в больнице, Андрис пристает ко мне с вопросами, вот идет врач, на нем белый халат, и коридор за ним бел, и врач улыбается, улыбается, улыбается. И сердце бьется быстро-быстро, и впервые за эти три дня я наконец ощутила, что у меня есть сердце.
— В грудь.
Я расцеловала врача.
— Разрывной.
И бегу в палату.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Свою жизнь Рудольф продумал и заново пережил в первые больничные недели. О работе он не думал или думал мало, работа представлялась далекой, нереальной. Его навещали, приносили цветы. Всех людей, с которыми он когда-либо встречался и которых мог припомнить, Рудольф связал в длинную цепь и этой цепью измерял свою жизнь. Не количество прожитых дней определяет длину жизни, ее определяют люди, которых ты встречал и знал. Если в цепи попадались ржавые звенья, Рудольф вырывал их, выбрасывал. Я спорил с братом, говорил, что людей нужно принимать такими, какие они есть. Разрывая цепь, он сам себя обкрадывает. Рудольф возражал: раз от них не узнаешь ничего нового, зачем тратить время, встречаться с ними. Но всерьез мы из-за этого не спорили, споров я старался избегать.
Когда ты болен, рассказывал Рудольф, мысли у тебя примитивные. И это хорошо. Я должен чувствовать, говорил он себе, я должен чувствовать все, что вокруг меня. И суровую простыню, и теплую шерсть одеяла. Я должен сам ощутить холодное железо кровати. Должен почувствовать свой метр девяносто. Почувствовать, как пружины матраса оседают под моими восемьюдесятью килограммами. Человек имеет вес — это что-то да значит. Я должен чувствовать сердце в груди, зубы во рту. Чувствовать глаза, мышцы ног и рук, вернее, то, что от них осталось. Я здорово сдал за последнее время. Жизнь медленно съедает мой вес. Но покуда я ощущаю себя, до тех пор буду жить.
Когда приходил сои, Рудольф засыпал, не обращая внимания, был ли это день или ночь. Проснувшись, принимал пищу — точно так же, как бак автомобиля принимает бензин, как глотка дизеля заглатывает нефть. Это «точно так же» хорошо передает его полнейшее безразличие к еде. Чтобы продолжить путь, нужно было набраться калорий. Рудольф послушно проглатывал все. Пища в его представлении связывалась с лангетом, бифштексом, окороком, яйцами, сыром, маслом, бутылкой пива. Но то, что он получал в больнице, не было пищей. Жидкая кашица без вкуса и запаха. Бензин. Нефть. Калории. Нужно было двигаться дальше. Только в этой формуле теперь заключался смысл.
Вены были исколоты, да и бедра, ягодицы тоже все в красных отметинах. Сестра отыскивала в вене нетронутое место и безбольно, ловко всаживала шприц, и живительный допинг растекался по жилам. Все мысли Рудольфа вращались вокруг него самого. Он не был эгоистом, нет, просто он был серьезно болен, он не имел права думать ни о чем другом. Врачи говорили, что это невероятно — думать только о себе. Но Рудольфу хотелось мобилизовать себя с головы до ног. Я проваляюсь здесь еще месяц, говорил он, потом выпишусь, и потому я должен есть все подряд, делать уколы, пить отвратные лекарства, отвратные не потому, что они гадки на вкус, отвратные потому, что это лекарство. Я должен отдать себя на милость врачам, чтоб они влили в меня новые соки, а воля моя пусть сожмется в комок, чтоб я и сам вырабатывал эти жизненно важные соки. Я должен возродить себя, а это чертовски трудно.
— Я, конечно, понимаю твое любопытство, — говорил Рудольф. — Но одного я все-таки не понимаю.
— Чего именно?
— Зачем тебе это? Будь ты, скажем, писателем, тогда другое дело. Тогда б ты все это мог описать. Но ведь камень всегда останется камнем, слов из него не вырубишь. А кроме того, нет у меня желания увековечиться. Сам подумай, я только из больницы, позировать мне некогда, да и неохота. Оставил бы ты меня в покое.
Был солнечный летний день, мы сидели в саду на скамейке, березы стелили густые зеленые тени. За соснами шумело море, где-то на пляже загорали Ева, Фанния и Андрис, за оградой по улице шлепали босоногие курортники.
— А впрочем, что рассказывать, ты и сам знаешь, — продолжал Рудольф. — Все прошло у тебя на глазах. Война, госпиталь, институт, завод, лаборатория. Неужели для тебя так важно, что я думаю? По-моему, куда важней поступки. Я не умею отвечать на такие вопросы. До этого нужно дойти самому. Ну, правда, что тебе ответить? Кому не покажется диким, что его когда-нибудь не станет? И все же люди исчезают. Остаются плоды их труда — так принято говорить. Менять профессию теперь уже поздно. Скверно, конечно, что не лежит у меня душа к этой работе. Вечно я занят по горло, ибо мне говорят: «Этот Ригер жить не может без своей лаборатории». Но тебе-то откроюсь: я много работаю только потому, что ничего другого не умею делать. Даже отдыхать и то не умею. Одна отрада — Фанния и Андрис. Не сказать, что нам живется легко, зато дружно.
— Да, это я знаю. Знаю, что Фанния ушла из десятого класса, что потеряла пять лет, прежде чем смогла продолжить учебу. Все знаю. Ты рано женился!
— По-моему, — Рудольф поднялся, прошелся немного и пересел на траву. — По-моему, это у нас в крови.
— Что именно?
— Нравятся нам молодые, красивые — вот что. Я женился на Фаннии, когда ей было семнадцать. Ты на Еве, когда ей было девятнадцать.
— Еве было двадцать. А ты, брат, считаешь, что двадцать лет это мало?
— Нет, не считаю. Рано жениться — вот что у нас в крови.
— Выходит, ты женился на Фаннин потому, что в твоем генетическом паспорте обнаружили такой-то и такой-то ген, а?
— Ну не совсем так, а впрочем, ты недалек от истины. В женитьбе я следовал какому-то инстинкту. Влюбился уже позднее. Мне посчастливилось. Женись я на девушке, которую не смог бы полюбить, пришлось бы разводиться.
— Значит, Фаннию ты полюбил совершенно случайно?
— Нет. Случайно я женился. Как сейчас, помню свои мысли в первую ночь. «Ну вот, в твоих руках сердце красивой женщины, — говорил я себе. — Ты счастлив? Не знаю, скорее всего — доволен». И это не был цинизм, циник сказал бы, что счастье — вздор. А я считаю, что красивая женщина сама по себе предвестница счастья. Крепко сказано, правда? Я становлюсь круглым идиотом, когда начинаю рассуждать о таких вещах. И все-таки счастье — это что-то другое. Но что? Человек ищет его, не находит, и, видимо, счастье — это поиск. Уже позднее, когда мне дали лабораторию, когда родился малыш, когда он подрос, стал ходить, говорить и думать, только тогда я понял, что влюбился. Не понимаю, ты-то чего тянешь? Почему не заведешь себе такого же малыша?
— У нас все было иначе, — сказал я. — Совсем иначе. Когда я увидел Еву, я был сражен. А малышом не обзавелся потому, что слишком нянчусь со своим каменным потомством. Своего рода эгоизм, не так ли? Наверное, мы оба эгоисты. Мы с Евой.
Моя память всемогуща. Я поворачиваю стрелки как хочу. Единственно, в чем бессилен — дать точность рисунка. Отдельные линии намечены предельно четко, но в целом рисунок расплывчат, наверное, прошедший отрезок времени слишком мал, а кроме того, я чувствую усталость. Я бы с удовольствием выпил горячего кофе. Чтобы не утратить красной нити, я теперь не стану отклоняться в сторону. Кому это нужно? Утром глина лежит бесформенной массой, к вечеру окажется, ты вылепил не то, что задумал. Если бы кто-то мне утром сказал, что я всю ночь буду думать о смерти, я бы рассмеялся ему в лицо. Может, было у меня предчувствие? Когда я открыл окно, и посмотрел на небо, и подумал про себя: не нравится мне это небо. Не нравится. Может, только теперь мне кажется, что еще тогда у меня было предчувствие? Нет, не было никакого предчувствия. Я проснулся первым, потом проснулась Ева, я приготовил завтрак, мы пили чай. О чем мы говорили? Обо всем и ни о чем.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
— Ну и погодка.
— Да, — говорю, — может, еще разгуляется.
— Если будут деньги, летом уедем далеко-далеко.
— Да.
Я зависим от договора. Будет договор, будут деньги, будет лето далеко-далеко. Скульптура требует больших затрат. Камень. Транспортировка. Высекание. Цветные металлы. Отливка. Так иногда уходят все деньги, и лето получается близко-близко.
— Поедем в Закарпатье.
— Да.
— А может, в Сибирь?
Сибирь — давнишняя мечта Евы.
— Поедем в Сибирь!
— А что это ты так легко со всем соглашаешься? Предложи я поехать тебе на луну, ты б и тут согласился, глазом не моргнув!
Я согласился и с тем, что легко со всем соглашаюсь. Я уверен — до начала лета Ева придумает еще много поездок, и мне не хочется ее заранее расстраивать отказом. Через несколько дней она придумает что-то еще, например, Карелию или Печоры, и опять мне придется сказать «да», чтоб не ссориться.
— Хмм, — говорю, — чертовски вкусное яйцо!
Я ем яйцо всмятку, беру соли, беру перца, немножко масла, все это кладу в яйцо, перемешиваю. Удивительно вкусно, язык проглотишь!
— Я знаю, никуда тебе не хочется ехать, — говорит Ева. — Тебе хочется остаться дома и киснуть!
— Нет, я хочу уехать. Мне хотелось бы съездить в то самое место, где были прошлой осенью. Правда, есть примета: не возвращайся туда, где было хорошо.
— Действительно, там было хорошо.
— До сих пор эти скалы во сне вижу. Очень хотелось бы еще раз туда съездить.
— Да. Но почему ты со всем так легко соглашаешься?
— Как легко?
— Так легко.
— Потому что люблю тебя.
— Ты очень милый, это правда.
— А что же неправда?
— Что ты любишь меня!
— Почему неправда?
— Ты так редко говоришь мне об этом!
— Как редко?
— Не паясничай.
— Я об этом говорю так редко потому, что люблю тебя. Это правда. Я люблю тебя. Люблю я тебя! Это скрыто где-то в глубине. Но я же не магнитофон.
— И все-таки можно раз в год сказать, что любишь.
— Отныне каждое утро вместо «доброго утра» буду говорить «я люблю тебя!». Согласна?
— Согласна!
Я выглянул в окно.
— Вот идет Гулцевиц, — сказал я.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Тут важно выбрать правильный материал. Гулцевиц не смотрелся бы ни в бронзе, ни в граните, ни в мраморе, ни в пластмассе. Если б это было допустимо, я бы отыскал старый мешок, такой грубый, чтоб на нем отчетливо выделялась каждая нить — подобно бесчисленным прожилкам на щеках и на носу Гулцевица. Я бы отыскал мешок темно-коричневый, потому что у Гулцевица лицо смуглое. Потом бы я набил его ватой, и это было бы туловищем. На том месте, где положено быть шее, я перевязал бы его бечевкой, оставшуюся часть набил бы старыми, шуршащими бумагами, газетами, квитанциями, архивными справками, философской литературой, международными обзорами, экономическими бюллетенями и страничками юмора. Мешок бы я зашил паклей и волосы б из пакли как следует разлохматил. Трудно придумать что-либо более похожее. Еще напялить на голову дорогую велюровую шляпу, облачить туловище в драповое пальто, под него подсунуть ботинки с галошами. И Гулцевиц готов. Но с одним условием. Мешок должен быть абсолютно чистым, стираным-перестирапым, начиная с щелочной воды и кончая раствором нежно-синего стирального порошка. Гулцевиц, несмотря на свои анатомические и физиономические погрешности, невероятно чистоплотен. Разумеется, старый мешок в качестве материала не приемлем ни для меня, ни для искусства. Долго ломал голову, наконец остановил свой выбор на цементе. Голова получилась великолепной, по сей день уверен, что портрет прокурора в отставке — моя лучшая работа. Зато от критиков досталось основательно. И это называется портрет советского человека?! Какой-то старый прожженный циник. Прокурор в отставке?! Больше всех возмущались прокуроры. Разве так надлежит выглядеть советскому прокурору в отставке! Автор изобразил гротескную фигуру. В неэстетичном материале. Выразительно, ничего не скажешь, но кому нужна такая выразительность? Нашим врагам — вот кому. Скульптуру купила Москва, и большая часть критиков прикусила язык.
Не сказать, чтоб я очень интересовался своими соседями, да и с Гулцевицем навряд ли бы познакомился, если бы он сам не пришел ко мне. Он жил неподалеку, в бывшем доме адвоката Юкеселя. Гулцевиц рассказал мне свою биографию. В тридцать седьмом году снят с прокурорской должности, отправлен в отдаленный район Сибири, где оставался до пятьдесят четвертого, затем вернулся в Москву, продолжал работать прокурором. В шестидесятом году он вышел на пенсию и перебрался на Рижское взморье, климат для него тут подходящий. Ко мне же его привела прибитая снаружи дощечка с фамилией Ригера.
— Я был знаком с твоим дедом, — сказал он, предварительно выяснив мою родословную. — Красные стрелки, однополчане, вместе уехали в Питер!
Меня поразило и пленило лицо Гулцевица. Никогда не приходилось встречать в одном человеке столько ума, иронии, столько внутренней собранности и столько внешней несоразмерности. А сколько? Не ставьте вопрос таким образом. Ум, иронию, внутреннюю собранность и внешнюю несоразмерность на весах не взвесишь, их можно почувствовать, но коли вы так дотошны, поезжайте к Гулцевицу, вам всякий укажет дорогу, и вы сами в этом убедитесь. Он рассказал мне свою жизнь, и я понял, что отставной прокурор для меня находка. Я уговорил его прийти еще раз — позировать. Уговорить его было нетрудно. Гулцевиц жил один, и, конечно, одиночество старому человеку плохой товарищ. Мы многое успели обсудить, пока вместе работали. Да, да, мы работали вместе. Редко удается найти модель, лицо которой живет, выражение меняется так же часто, как
освещение в облачный и ветреный день. Иногда в самый разгар работы Гулцевиц неожиданно поднимался.
— Уж ты извини меня, поработай один, а я приду завтра. Надо съездить в город. Такая нелепость: старые латышские стрелки, которые боролись за революцию, охраняли Ленина, не могут создать своего общества.
— Почему не могут?
— Один крупный товарищ против.
— Что за товарищ?

Гулцевиц назвал товарища. В самом деле, очень крупный товарищ. Гулцевиц поехал уговаривать этого товарища. На следующий день отставной прокурор пришел позировать, и я спросил:
— Ну как?
— Ничего не вышло, — с досадой ответил Гулцевиц.
— Что говорят стрелки?
— Стрелки говорят, общество будет.
— А товарищ говорит, не будет?
— Он говорит, не будет.
— И последнее слово за ним?
— Не думаю, чтоб последнее слово было за ним.
Гулцевиц видел Ленина, слышал Ленина, охранял Ленина, и рассуждать о том, как в тех или иных обстоятельствах поступил бы Ильич, было излюбленным занятием отставного прокурора.
— Владимир Ильич был человеком гениальным, он думал сам и других заставлял думать. Если б он увидел, до чего беспомощны наши философы-теоретики, как бессвязно и робко, главное — робко, делаются выводы, Владимир Ильич бы им сказал: «Не будьте детьми, побольше мыслей, побольше своих мыслей, больше самостоятельности».
— Откуда ты знаешь, что сказал бы Ленин?
— Знаю! — весомо ответил Гулцевиц. — Прошло столько времени, почти полстолетья, мы ушли далеко вперед, кибернетика, ученье о наследственности, освоение космоса, квантовая механика, а в наши дни находятся горе-философы, похожие на строителя, разбирающего фундамент дома, чтоб из выломанных кирпичей закончить кладку стены. Неужто нам не хватает кирпичей!
— Ты хочешь сказать — мозгов?
— Кирпичей, мозгов! Так или иначе, а все кирпичи будут красными, тут у нас всесоюзный стандарт. А ломать фундамент незачем. И теоретики, не понимающие этого, попросту дураки.
— С чего ты взял, что они дураки?
— Вечно спорят.
— Разве спорят только дураки?
— Нет. Умные тоже спорят, но те после спора делают определенные выводы. Дураки же всегда начинают спор с того самого места, что в прошлый раз, пытаясь доказать, что белое есть черное. Топчутся на месте, друг другу нервы портят!
Я был плохим собеседником, я чаще задавал вопросы, чем сам рассуждал. Я работал, я старался схватить, запечатлеть одно особенно полюбившееся мне выражение лица. Иногда Гулцевиц приносил с собой экономические бюллетени и, сидя в кресле, листал их, называя отдельные цифры и тут же с ходу комментируя — что было намечено, что сделано. Одна статья, помню, его ужасно рассердила.
— Этот человек пишет так, будто коммунизм уже построен. Демагогия! Не хочу тебе зачитывать эту галиматью. Об экономике капитализма автор рассуждает примерно так: мой сосед хром, потому что не ходит ко мне в гости. А сам перед тем же капитализмом готов раздеться до исподнего, доказывая, что белье у нас чистое.
Гулцевиц долго ворчал, раззадоренный и возмущенный.
— Надо съездить в город, я тут написал одну статейку, — проговорил он и опять замолчал, заглядевшись в окно. Потом сказал: — Ни один противник не сможет причинить столько зла идее коммунизма, сколько зла причиняет плохой коммунист. Но что такое плохой коммунист? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Можно ведь сказать: Гулцевиц плохой коммунист, сидел бы и помалкивал, а то ворчит, ко всему придирается. Старый брюзга! Но у Гулцевица многое вот здесь наболело. Потому-то Гулцевиц ворчит. Пока не поздно, мы должны расстаться с иллюзиями. Почему я должен ворчать? Почему? Жил бы себе, в ус не дул. Есть люди, которые свою биографию используют, как лисица хвост. А мне моя биография, как крокодил, вцепилась в ногу!
Когда портрет был закончен, мы распили четвертинку, и Гулцевиц долго разглядывал своего цементного двойника.
— Ты меня приукрасил! Когда гляжу в зеркало, я вижу там совсем другое. Но теперь я, пожалуй, и сам начну себе нравиться.
— Значит, все в порядке, — ответил я.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Я открыл дверь, впустил старика.
— Какой промозглый противный туман, — сказал он, выбравшись из своего драпового пальто и сжимая мою руку своей короткой, толстой ладонью.
— Прямо как на море, — отозвался я.
— Ну, нет, — возразил он, — на море туман густой, а здесь он просвечивает, будто изношенная юбка.
Сказав это, он засипел, закашлял. Его и без того морщинистое лицо еще больше сморщилось. Грудь, словно кузнечные мехи, исторгала хрипящие звуки.
— Прикончит-таки меня астма, — произнес он, отдышавшись.
— Садитесь с нами чай пить, — пригласила Ева.
— Спасибо, — сказал он, — прошу извинить, что спозаранку. Увижу огонек и лечу на него, как летучая мышь. Хотел зайти вчера вечером, да у вас были гости, постеснялся. А у меня вчера было что-то вроде праздника. В одиночестве, так сказать, спрыснул. Старику Гулцевицу исполнилось семьдесят четыре года! — произнес он торжественно, затем извлек из кармана четвертинку водки и водрузил на стол.
— Так вот оно что! — воскликнул я. По правде сказать, меня разбирала досада. Не то чтобы очень, самую малость, на самого себя. Какой же я растяпа — не узнать, когда день рождения старика. — Так вот оно что! И старик Гулцевиц ни словом не обмолвился другу. Вон какой он жадный, вон как боится, что кто-нибудь нагрянет к нему в гости и поможет распить бутылку вина!
Гулцевиц улыбался.
— Ну, ну! Полегче на поворотах! Отпразднуем, когда стукнет семьдесят пять! А водку я приберег. Вчера пил минеральную воду.
— Отлично! — сказал я. — У меня есть коньяк и вино. Так что сегодня вряд ли у нас дело дойдет до работы.
— Над чем сейчас трудимся?
— Грандиозный замысел! — ответил я. — Как раз сегодня собирался взяться за глину. На бумаге все готово, надо сделать несколько макетов. Но больше пока ничего не скажу. Посмотрим, что выйдет.
— Ремесло есть ремесло, секрет есть секрет. Никто от тебя и не требует, чтобы ты разглашал свои секреты. А коньяк с вином я не пью. Ни то, ни другое. Опорожним вот эту четвертинку, и ты сможешь приняться за глину. Старик Гулцевиц мешать тебе не станет. А сейчас подай-ка ему рюмки.
— Мне пора, — сказала Ева.
Она надела пальто, натянула сапожки, я тоже надел ботинки, накинул на плечи пальто.
— Куда это скульптор собрался? — спросил Гулцевиц. Он был в приподнятом настроении.
— Проведать почтовый ящик. Сейчас вернусь. Заодно исполню супружеский долг, провожу жену до калитки.
— Завяжи шнурки, — сказала Ева.
В самом деле, я становился рассеянным. Нагнулся, завязал шнурки.
Чертовски хорошо сказано, не правда ли? «Мне моя биография, как крокодил, вцепилась в ногу!» Вы согласны? Биография человека и лицо человека — две разные вещи. Отдыхая на юге, я встречал множество людей— лиц. Одни широколобые, другие узколобые. Эти длинноносые, а те коротконосые. Кто-то улыбался, кто-то не улыбался. У большинства глаза были темные, но попадались с голубыми, зелеными, серыми. Были там молодые свежие лица, этих я обходил. Были старые свежие лица, этих я тоже обходил. Были интересные, были скучные лица. То, что кроется за этими лицами, мне предстояло разгадать. Лишь у человека глупого или очень умного душа оставляет на челе отпечаток. Так называемый средний человек скрывает ее то ли за морщинами, то ли за чрезмерной свежестью лица. Не знаю почему, у меня для этого в общем-то нет никаких оснований, но мне хочется верить, что все люди в своей сущности глубоко порядочны. Я придумывал незнакомым лицам биографии. Я приписывал лицам высокие моральные качества. И это мне удавалось на славу. Я ровным счетом ничего не знал, я каждому мог приписать все, что угодно, а поскольку я никому не поверял своих домыслов, никто не старался мне доказать, что я в чем-то ошибся. Лица плыли мимо меня в аэропорту, на улице, на пляже, в ресторане, у кассы кинотеатра. У меня цепкая зрительная память, и наиболее интересные лица я прочно удерживал в памяти. Вернувшись домой, я пытался их изобразить, но не хватало какой-то существенной детали. Не хватало настоящей, живой биографии. Без биографии я мог быть только фотографом. Дать интересный ракурс, позу, поворот. Потрясающее внешнее сходство. И все-таки я не был бы творцом, я был бы всего-навсего зеркалом, не кривым, не мутным, очень хорошим зеркалом, но искусство не терпит зеркального отражения. Чтоб создать произведение искусства, необходимы, по крайней мере, две биографии. Биография самого художника должна быть двигателем ракеты, а биография модели… Но об этом лучше умолчу. «Мне моя биография, как крокодил, вцепилась в ногу!» Без этого шагу не ступишь. Как шагу не ступишь без совести.
— Пошли, — сказала Ева.
В свое время я много раздумывал: своим ли делом я занялся? Порой мне кажется, я ошибся в своем призвании, лучше бы стать мне тренером по боксу. Бейте, говорил бы я своим питомцам, бейте всякого лицемера, бейте всякого лгуна! Выбейте из них самодовольство, лупите по ребрам жестоких, пока они на собственной шкуре не почувствуют, что такое жестокость. Дайте по скуле тем, кто вел допросы с пристрастием, пусть и они войдут в положение своих невинных жертв. Тащите на ринг их, тащите этих хитрых лис, а если попробуют уклониться от честной борьбы, волоките за хвост. Выволакивайте на свет божий бюрократов, демагогов, тряханите как следует, чтоб из них повылетали гремящие лозунги, прогоните взашей лжеученых, лжеэкономистов, если и такие вам попадутся под руку.
— О чем скульптор задумался? — спросил Гулцевиц.
— Обо всем и ни о чем, — ответил я, — сейчас вернусь.
Я провожаю Еву до калитки. Открываю почтовый ящик. Пуст. Почтальон запаздывает.
— Иди обратно, — говорит Ева, — еще простудишься без шапки.
Простудиться без шапки совсем неостроумно, и я, простившись, бегу обратно. Ева поворачивает к автобусной остановке — шагов двадцать от нашей калитки. Через несколько минут подойдет автобус. Я закрываю дверь, снимаю пальто.
— Вот только принесу бутерброды с миногами, — говорю.
Гулцевиц наполнил рюмку водкой, морщится, глядя на прозрачную влагу.
Я направляюсь на кухню за бутербродами, и тут над дверью звенит колокольчик: «Клинг, клинг!»
На осыпанном снегом крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоит почтальон. «Скрип, скрип», — говорят его башмаки, а почтальон знай себе переминается. С одной ноги на другую.
— Вам телеграмма.
— Проходите в комнату.
— Вот здесь, пожалуйста, распишитесь!
Я расписался, положил телеграмму на стол, достал из буфета еще одну рюмку, налил водки и протянул почтальону.
— Выпьем, — сказал Гулцевиц.
— Это юбиляр, — сказал я почтальону, — семидссятичетырехлетний юбиляр и мой друг.
— За здоровье юбиляра, — сказал почтальон.
Мы закусили бутербродами.
— Теперь я, пожалуй, пойду. — Почтальон потянулся за сумкой.
Я проводил его до двери. «Клинг, клинг», — пропел колокольчик. «Скрип, скрип», — прошел почтальон по садовой дорожке, и только тут я сообразил, что скрипят не башмаки, а снег под ними. Я подумал, что было бы неплохо уговорить Гулцевица выйти на улицу, растормошить облака, пускай они навалят много-много мягкого, пушистого снега. Можно будет вылепить снеговиков. Много-много снеговиков! Я бы создал из них почетный караул, а капитану их надел на голову ведро, чтобы знали, что он не простой снеговик, а командир. Я бы выстроил почетный караул в линейку, снеговики поздравили б Гулцевица с днем рождения. Винтовок я бы им не дал, метелок тоже. Они не солдаты и не дворники. Просто снеговики.
Я вернулся в комнату. Телеграмма лежала на столе. Гулцевиц глядел на нее, словно тетерев, прищурив один глаз и склонив голову набок.
Снова пропел колокольчик, и в комнату вошла Ева.
— Что-то нет автобуса, — проговорила сна, — а почтальон сказал, вам телеграмма. Я тоже хочу знать, что в ней.
— Автобус ушел, когда я подходил, — заметил Гулцевиц. — Я-то думал, вы собрались на электричку. Следующий автобус только через полчаса.
— Опять опоздаю, — сказала Ева, — ну, ничего!
Она замерзла, ресницы обметало инеем. Она принесла с собой в комнату большой клубок холода. Прогревшийся комнатный воздух пошел в наступление, Ева распахнула пальто, и холодный клубок, окутавший ее, весь перемешался, слился с комнатным. Запахло хвоей и ветром. Морозный воздух всегда пахнет хвоей и ветром. Мне очень хотелось чмокнуть Еву в щеку, мне казалось, что щека на морозе стала круглее. Я не вытерпел, чмокнул. Гулцевиц крякнул. Щека была прохладна и душиста, и я подумал, что зима наливает женские щеки, совсем как осень наливает яблоки.
— Ну и погодка, — сказала Ева.
— Погодка та еще, — вставил Гулцевиц.
— Давай вскроем телеграмму!
— Бумага прямо как ледышка!
— Брр, — сказала Ева, — бедный почтальон.
— Мне так хочется поцеловать вас в другую щеку! — жалобно произнес Гулцевиц.
— Вы сегодня юбиляр, вам можно. — Ева склонилась к нему, и Гулцевиц сочно чмокнул ее.
Мы вскрыли телеграмму.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
— А вот и кофе, — сказал скульптор. Следователь отпил большой глоток.
— В какой-то книжке мне попалась фраза: «Кофе был таким горячим, что обжигал губы». Не совсем точно сказано.
— А как надо сказать? — спросил скульптор.
— Надо сказать: кофе был таким горячим, что обжигал язык. Губы выносливы. Обычно кофе обжигает язык.
— Да, — согласился скульптор, отхлебнув такой же большой и горячий глоток. — Так будет правильней. Я тоже обжег язык.
Следователь молча наблюдал за скульптором, барабаня пальцами по спинке стула.
— Ну, теперь кое-что прояснилось? — спросил скульптор.
— Да, — ответил Следователь. — Многое прояснилось.
И напротив, многое запуталось. Вам никогда не приходилось качаться?
— Приходилось.
— Я имею в виду не люльку, конечно, а качели. Такие качели часто встречаются на детских площадках.
— Мне приходилось качаться и на таких.
— Так вот! Вы обратили внимание, что как только один конец доски опускается вниз, другой поднимается вверх? Точно так обстоит дело с ясностью и путаницей. Один конец — вниз, другой вверх. И все же я надеюсь, нам удастся удержать доску в равновесии. Знаете, что нужно для этого?
— Нет, не знаю, — ответил скульптор.
— Чтоб доску удержать в равновесии, необходимо на оба конца положить одинаковый вес. Все очень просто, не правда ли?
— Конечно, просто.
— Так вот! Сейчас я вам задам несколько вопросов.
— Слушаю вас.
— Что говорилось в той телеграмме?
— Телеграмма извещала о смерти Рудольфа.
Наступила тишина, над чашкой с кофе витиевато клубился пар.
— Дует, — спустя некоторое время произнес Следователь, — здесь здорово дует.
— Зима. Да и стекло в балконной двери выбито.
Следователь поднялся, подошел к двери, ведущей на балкон. В раме еще торчало несколько осколков. Следователь оглядел их, провел пальцем по одному из них, самому крупному.
— Запылились!
— Да, запылились.
— Разрешите мне осмотреть ваш пиджак, — сказал Следователь. Он придирчиво оглядел пиджак скульптора, особенно рукава.
— Что вы там обнаружили? — спросил скульптор.
— Ничего, — ответил Следователь, — ничего существенного. Но я бы хотел вас кое о чем спросить. Вы говорили о предчувствии. Вы предвидели, что ваша мастерская будет разграблена. Я правильно понял ваше предчувствие?
— Нет. Никаких предчувствий ни в той, ни в другой связи у меня не было. Но, прочитав телеграмму, я вспомнил, что брат уезжал от меня вчера такой… понурый, что ли. А тут еще это серое утро, оно мне сразу не понравилось, и вот одно, другое, третье… И мне стало казаться, что у меня были какие-то предчувствия.
— И, получив телеграмму, вы тотчас поехали в город?
— Да, мы тотчас поехали в город.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
На прощанье Гулцевиц приподнял шляпу, на станции протяжно и глухо пробасила электричка. Я втянул голову в воротник.
— Пошли пешком, — сказала Ева.
Я взглянул на часы. До следующей электрички оставалось много времени.
— Да, — ответил я, — пойдем пешком.
Как странно… Вместо того чтоб говорить о смерти, мы обменивались пустыми фразами.
— Скользко, — сказал я, взяв Еву под руку.
— Да, скользко, — ответила она.
«Сколько раз хожено этой аллеей», — думал я. Шумели на ветру листья, снег опускался белой пеленой, в лучах утреннего солнца искрился иней, набухали липкие коричневые почки — никогда аллея не бывала в точности такой же, как накануне, всегда являла собой жизнь, всегда утверждала, что жизнь — обновление. Никогда в этой аллее я не раздумывал о смерти. Ведь стоит мне только не поверить, и Рудольф останется жить. Предположим, сообщи телеграмма, что брат мой уехал в Африку, или Индию, или Антарктиду, что он будет очень занят, у него не найдется там ни минуты свободной, чтобы писать письма или как-то иначе напомнить о своем существовании, к тому же навряд ли он вообще оттуда вернется, — в сущности, ничего бы не изменилось. Я бы его больше никогда не увидел. Вчера я провел с ним несколько часов, перед этим мы не виделись долгие месяцы. Я не писал, не получал от него писем, не звонил по телефону, бывали дни, я забывал, что у меня есть брат. Но разве он умирал в эти дни? Достаточно было снять телефонную трубку, набрать магическое сочетание цифр, и брат оживал. Я мог взять лист бумаги, вложить его в конверт, предварительно заполнив буквами, и брат оживал. Иногда я садился в электричку, сам ехал к нему. И он в любую минуту мог написать мне, и он мог позвонить, приехать. Отправляя письма, я наклеивал дорогие марки. Рудольф как-то признался, что обожает красивые марки. Конечно, он не собирал их, на это нс хватало времени, но он радовался красивой марке в тот короткий миг, пока раскрывал конверт. «Чертовски красивая марка!» — говорил он в таких случаях. Рудольф вел обширную переписку с инженерами из Москвы, Ленинграда и других городов. Сейчас, возможно, где-то в небо взмывают самолеты с мешками авиапочты на борту, и среди прочих писем есть адресованные брату. Мчится где-то поезд, и почтовый вагон везет письма, адресованные брату. День сегодняшний, день вчерашний! Сегодня кто-то получит письмо, отосланное вчера, но отправитель ответа уже не получит. Адресата больше нет. Есть только день сегодняшний и день вчерашний.
День вчерашний бесконечно долог, по правде сказать, у него и начала-то нет, потому что тот миг, когда пробуждается разум и человек, не обжигая пальцев, начинает щупать желтый одуванчик солнца, этот миг неуловим, его невозможно определить. День вчерашний — это все. День вчерашний — это рюкзак, нагруженный вещами дельными и безделками. Мудростью. Глупостью. То, что именуется жизненным опытом. В рюкзаке дорогие тебе люди. Радужные мгновенья. А в самом-самом низу, заваленный всякой всячиной — крохотный человечек. Он лежит на зеленой траве, лучи солнца, проникая свободно сквозь грудь его, вливаются в землю, и человечек слышит, как прорастают, как тянутся в вышину травинки. Лучи солнца, словно пуговку, пришили человечка к просторному, зеленому плащу земли. Человечек пришит накрепко, пришит дважды — нитями-лучами и нитями-травинками. Этот крохотный человечек есть детство.
День сегодняшний короток. С лязгом повернулся рычаг, и в мгновение ока рюкзак опустел, ветер развеял по полю шелуху, и приходится все начинать сначала. День сегодняшний короток. Вспышка прожектора, длинный язык света слижет прошлое, и нам откроются труды наши — тусклым блеском крыла пиратского самолета в ночных облаках. Не умолкая грохочут зенитки, мысли сыплются, сыплются, совсем как осколки по крышам. Когда самолет попадает в сноп света, его сбивают, и приходится строить новый. День сегодняшний короток. Пес, вцепившийся в ногу (или крокодил старика Гулцевица), он рвет и мечет, он раздирает одежду, холодный дождь хлещет по обнаженным плечам. День сегодняшний короток. День сегодняшний — сон. На мягкой перине натянул на голову одеяло, чтобы день не мозолил глаза, выключил радио, чтоб ничто не тревожило слуха. Лежишь в сладкой дреме, варишься в собственном соку, в сновидениях, но вот выкипел котелок и пахнуло горелым. День сегодняшний короток. С математической точностью рассчитаны углы приходов и расходов, человек берет циркуль, вычерчивает себя, словно круг. До чего я гармоничен! Без сучка, без задоринки! День сегодняшний короток. Тяжелый состав на гудящих рельсах, дрожат шпалы под его сумасшедшим бегом, машинист у него один, но в ответе мы все. День сегодняшний короток. Радость. Огромное, голое поле, его только вспахали, теперь вручную ведь не сеют. Хлопотливо, нерентабельно. Но человек шагает босиком по теплой, тучной землей сеет из севалки радость. Горсть налево, горсть направо, третью — перед собой. Горсть налево, горсть направо, третью — перед собой. По городам и весям шагает и сеет радость. Больше, чем хлеб, нужна людям радость.
День завтрашний, как Млечный Путь, бесконечен. День завтрашний начинается там, где кончается ночь. День завтрашний — гладкая белая лента. Склонись над ней, дотронься подбородком, чтоб глаза твои были вровень с ее алебастровой твердью — и тогда загляни вперед. Рассвет, полдень и вечер. Но откуда нам знать? Что нас ожидает? Лента домчится до горизонта и там превратится в стрелу, на ее наконечнике повиснет алое солнце. Когда наступает утро, мы отправляемся в путь.
Выпавший за ночь снежок похрустывал под ногами. Там, где просвечивал лед, я не упускал случая прокатиться. Какое легкомыслие! Скорее всего, не легкомыслие, просто мальчишество. Стоило заметить узкую раскатанную полоску, как я отпускал Евин локоть и, с разбегу оттолкнувшись, скользил по льду. Живые могут скользить, мертвые скованы холодом. У них только день вчерашний да день сегодняшний. Письма вскрывают, читают сегодня. Мертвым не стоять с рюкзаком за плечами на белой ленте из алебастра. Только во мне мой брат еще может скользить. Только во мне он может скользить быстрее, чем остальные. Меня охватила жалость.
Глупый мальчик, сказал я себе, не вздумай расплакаться. Скользи, катайся! Достань платок, утри нос, еще разок, вот так! Будь мужчиной, стисни зубы, чтобы деснам стало больно, чтобы дрогнули корни, чтобы боль кольнула внутри, под эмалью. Скользи, скользи! Только не хнычь. Не можешь иначе, прикуси губу. И не моргай глазами, они сейчас словно полные чаши, запрокинь-ка голову, смотри в облака, если опустишь, чаши прольются. Не к лицу мужчине. На улице мороз, еще заледенеет, кто-то поскользнется. Достань платок. Скользи, скользи!
Ледяная полоска оборвалась, а я, разогнавшись, чуть не упал. К черту эмоции! Но я был бессилен. Это подступило неудержимо и внезапно. Впрочем, тут же прошло. Я снова взял себя в руки.
— Ну, ну! — Ева поспешила поддержать меня.
— Ничего.
Станция была близко. Мы проходили мимо кирпичного дома, в раскрытом настежь окне на втором этаже монотонно звучал детский голосок: «Та, та, та! Та, та, та!» Я остановился. Почему «та, та»? Это мне показалось настолько нелепым и в то же время забавным, что я рассмеялся.
— Ребенок может простудиться, — сказал я.
— Наверное, он не один. И как будто не маленький.
— Судя по голосу, лет пяти.
— Не знаю, во всяком случае, ходить умеет.
В этом доме мы никого не знали. Мы стояли и смотрели на раскрытое окно. Я хлопнул в ладоши и свистнул. Мгновенно все смолкло, потом «плак, плак» прошлепали тапки, и маленький, розовый носик, этакая кошачья мордочка, приподнялся над подоконником.
— Закрой окно, — крикнула Ева, — простудишься!
Кошачья мордочка, помолчав, отозвалась:
— А вот и не простужусь! У нас центральное отопление!
Мы пошли дальше.
Подъехал поезд, заскрипели тормоза, из-под колес снопами вырывались искры. Тихо раздвинулись двери. Из головного вагона высунулся машинист. В вагоне было пусто. Мы сели по ходу поезда. Приземистое здание станции осторожно сдвинулось с места, потом как-то вильнуло назад, и под колесами загромыхал железный мост.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Выбравшись из подземных тоннелей вокзала, мы вышли на площадь, напоминавшую потревоженный муравейник. Добрались до трамвайной остановки, через несколько минут подкатил шестой номер, мы сели. Еще в электричке я ни о чем другом не думал, лишь об одном: «Надо успокоить Фаннию, успокоить надо Фаннию, Фаннию надо успокоить». Собственно, с того момента, когда, скользя по ледяной дорожке, я вдруг со всей очевидностью осознал, что мой брат действительно умер, с того момента я ни о чем другом не думал. Взгляд бесцельно уткнулся в окно, в уме, точно колеса, вращалось все то же: «Надо успокоить Фаннию, Фаннию надо успокоить, успокоить надо Фаннию»
Дверь открыла старая Талме. Фаиния лежала на диване с мокрым полотенцем на лбу, поверх полотенца кусочек льда, завернутый в целлофан.
— Как-то скверно болит голова, — сказала она.
Никогда не слышал столько равнодушия в голосе. Равнодушия к собственной боли. И никогда не слышал, чтоб «голова болела скверно». Очень, сильно, ужасно, страшно и так далее, но «скверно» — никогда. «Надо успокоить Фаннию, Фаннию надо успокоить, успокоить надо Фаннию!» Три слова вертелись, как три колеса, но далеко ли уедешь на трех? Потом блеснули спицы четвертого. «Больше, чем хлеб, нужна людям радость». Чего стою? Зачем приехал? И я вдруг почувствовал себя лишним, ненужным, я не знал, как мне повернуться, куда ступить, куда девать руки, ноги, и я потупился, чтобы только не видеть Фанииных глаз. Потому что я не мог из себя выдавить ни слова утешения. Жалкий эгоист, ругал я себя, чего встал истуканом, подойди к ней, скажи что-нибудь! Но я ведь и для себя не нашел утешений!
Ева подсела к Фаннии, склонилась над ней, запричитала: «Как ужасно! Милая ты моя! Просто не верится! Как это могло случиться?»
Фаиния всхлипнула и принялась рассказывать. «Уже на вокзале ему сделалось плохо, а сели в такси, начался приступ. Мы и до дому не успели доехать, с полпути повернули в больницу. Всю ночь просидела там, прождала, только под утро пустили к нему. Он не смог ничего сказать, открыл глаза, посмотрел на меня, и потом, и потом, и потом умер».
Я вспомнил: «Женщины не умеют радоваться в одиночку, они делят радость на две, на три, а то и на четыре части. Но что самое удивительное: разделенная радость не становится меньше, как раз наоборот, она вырастает вдвое, втрое, вчетверо». Я об этом где-то прочитал или это сказал Рудольф?
— Дай ты им выплакаться. — Талме взяла меня за локоть, увела на кухню. — Ребенок у соседей, — продолжала она. — Поесть хочешь?
— Нет, — ответил я.
— Надо!
— Только не сейчас.
— Ну, тогда слушай.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Старая няня, нянечка. Вечно в трудах, вечно в движении. Не хлопочет на кухне, так за швейной машиной сидит, не сидит за швейной машиной, так стирает белье, не стирает белье, так чистит кастрюли, сковородки, натирает полы, моет окна, драит дверные ручки, все, что только нужно чистить, мыть, натирать. Когда я женился, Рудольф позвал Талме к себе в Ригу, и она переехала. В Риге случилось чудо. Моя нянечка стала писать картины! Купила краски, полотно, смастерила мольберт и написала свою первую картину. Потом появились другие, сделанные с той же подкупающей наивностью в светлых, чистых тонах. Они чем-то напоминали полотна французского таможенника и дилетанта Анри Руссо. Талме писала синие покрывала, старинные резные кресла, чугунные утюги, пестрые вороха лоскутиков в плетеных корзинках и самое себя за сверкающей швейной машиной.
Свои седые волосы она собирала в пучок. Одевалась во все дымчатое, ей шли старомодные долгополые платья, и прохожие на улице частенько оборачивались, чтоб получше разглядеть благообразную, подвижную старушку. Пока человек еще молод, лицо у него гладко, жизнь не успела наложить отпечаток. Но годы делают свое дело. Встретив иного человека, мы говорим — какая славная старушка, или — до чего противный старик, или — ну и карга, или — какой симпатичный старикан! Время всем воздает по заслугам. Талме прожила чистую жизнь, каждая черточка на ее лице подтверждала это. Лоб источен морщинками, их больше всего вокруг глаз, меньше на щеках, к углам губ опять сгущались, оставляя гладким лишь кончик подбородка. В свои картины она вписывала седенькое солнышко — где-нибудь в уголке. Солнышко с круглым, морщинистым, улыбчивым лицом.
— Нянечка, с чего это вдруг ты стала художничать?
— А вот захотелось хоть какую-нибудь память по себе оставить, — отвечала она. — Я об этом давно помышляла, да только теперь нашлось место и время.
— Нянечка, нянечка, а в моем, выходит, доме не нашлось ни времени, ни места?
— Нашлось бы, детка, нашлось. Только думала: чего я, старуха, у тебя на виду баловством заниматься стану? Стеснялась тебя. Где уж мне с тобой равняться.
Талме я изобразил в шамоте. Пористый, сравнительно легкий материал с этакой старческой фактурой. Множество мелких морщинок сгладилось, лицо получилось молодым и красивым.
— Боже ты мой! Ужели я такая? Такая форсистая!
— Как это — форсистая?
— Ну, красивая, что ли.
— Ты, нянечка, в самом деле такая.
Талме верила в бога. Каждый вечер читала Библию. Она была тиха в своей вере, тиха и неотступна, но никогда не пыталась обратить в свою веру нас, неверующих, и за то ей большое спасибо. Я даже в себе не могу разобраться, куда уж там в такой высокой персоне, как бог!
— Почему ты, нянечка, святых отцов не рисуешь?
— Что от них толку, от святых-то отцов, — отвечала она. — У меня сердце к одному Иисусу Христу лежит.
Еще когда был маленький, у меня как-то вырвалась непочтительная фраза по отношению к церкви, и Талме мне сделала замечание:
— Детка, Юрит, не толкуй о вещах, в которых ничего не смыслишь. Коли церковь грешит, то не значит, что вера грешна. Вера всегда чиста и непорочна.
В церковь Талме не ходила. Даже на рождество.
Как вы нас, так и мы вас. Больше мы не ссорились.
Муж Талме ветеран первой мировой войны. Умер еще до того, как я появился на свет. Детей у нянечки не было, и всю свою жизнь она посвятила нам. Теперь она стояла передо мной на кухне, руки у нее слегка дрожали. Один-единственный раз я видел, как у нянечки дрожали руки. В подвале. Больше никогда.
— Позвони на работу, не знаю, известили их или нет. А тут в узелочке белье и чистая сорочка, в морг отвезешь. Выходной-то костюм вчера надел, будто предчувствовал. Там тебе скажут, когда можно будет в гроб положить.
На столе лежала желтая дощечка, на ней резали хлеб, от ножа остались бороздки, углубления.
Когда можно будет в гроб положить? Мне казалось, речь идет обо мне. О моих похоронах.
— Поезжай к отцу. Хоть между ними согласия не было, а хоронить все равно должен прийти.
Когда отец вернулся после смерти матери, старая Талме сказала: «Чего тебе тут надо! Ступай к своим девкам. Глаза б тебя не видели, старый шакал!» Я это подслушал за дверью столовой и долго потом повторял про себя: «Старый шакал, ступай к своим девкам!» Мне ведь было все давным-давно известно. Так зачем же я искал все новые и новые подтверждения?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Повторив про себя все поручения, я простился и вышел на улицу. Ева осталась с Фаннией. Первым делом я отыскал телефонную будку. Позвонил в музей, сказал, что Ева на работу не выйдет. Потом позвонил на завод. К телефону позвали кого-то из месткома. Не знаю, почему из месткома, я просил позвать кого-нибудь из друзей Рудольфа. Но мне сказали: «Сейчас с вами будет говорить товарищ из месткома».
— Нам уже известно. Да. Сообщили из больницы. Какое несчастье. И кто бы мог подумать, у него ведь легкие, а тут вдруг сердце, и говорят, ничего нельзя было сделать. Да. В таких случаях медицина бессильна. Да. Похороны организуем. Выражаем глубокое соболезнование.
«Он, наверное, у них штатный говорун, выразитель соболезнований», — подумал я, повесив трубку. Я не знал никого из друзей Рудольфа. Выразитель соболезнований никак не мог быть другом брата.
Потом я набрал другой номер.
— Нельзя ли позвать Артура Ригера?
— Адвоката нет дома, — отозвался женский голос.
Я стоял на тротуаре и ждал. Такси. Я поднял руку. Лишь позднее сообразил, почему сел в машину. Еще вчера в такси ехал мой брат.
— Вчера вы работали? — спросил я.
— Нет, — ответил шофер, — а что такое?
— Просто так.
Я назвал адрес, шофер больше ни о чем не спрашивал.
Я отдал узелок с бельем. Меня спросили, кто я такой, сказал, что брат. «А, это брат покойного!» Мне дали подписать какие-то бумаги, потом спросили, не хочу ли посмотреть, я ответил, что не хочу. Все будет в порядке, заверил меня какой-то деловитый человек, назвал день и час, и я был свободен. Не знаю, случилось ли это намеренно, но я заблудился, точнее говоря, перепутал дверь, и вдруг я оказался в полутемном коридоре. Я заблудился, я не знал, куда идти, и потому открыл дверь наугад. Из просторного помещения с низким потолком пахнуло странным приторным запахом. На длинных цинковых столах лежало несколько трупов, какой-то мужчина хлестал по ним из шланга горячей водой.
Я захлопнул дверь.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Я шел. Куда? Не помню, просто шел, разглядывал людей. Кто эти люди? Твои современники. Ага, а что ты знаешь о них? Все и ничего. Найдется такой человек, про которого ты знаешь все? Да, про себя самого. А про других? Что тебе известно о других? Почему, например, Талме верит в бога? Чтобы лучше понять нянечку, я прочитал Библию. На мое закоренелое безверье идеи божьи не произвели никакого впечатления, я верю лишь в идеи человечьи. Чтобы лучше понять нянечку, я сходил в церковь. Нянечка не ходила в церковь, она писала холсты. Что я увидел у алтаря? Восемь-девять старушек слушали проповедь пастора.
«В современном городе все спешат, все мечутся», — утверждал пастор. «Совершенно верно», — согласился я. «Кругом суета и томление духа. Люди торопятся как сумасшедшие». Неудачное сравнение, сумасшедшие никуда не торопятся, сумасшедшие сидят в сумасшедшем доме. Но не будем мешать пастору, пускай он выскажется. «Куда же спешат эти люди? К погибели, к погибели своей спешат!»
Восемь или девять старушек утвердительно закивали, вот-вот, к погибели. К погибели своей, не иначе! А пастор тем временем втолковывал, что мир спасет любовь. Против этого как будто нечего возразить, если б только пастор не исходил из предпосылки, что церковь существовала задолго до любви. Но старушки не вникали в содержание, они слушали слова. Бог, любовь, вечное блаженство! Пастор был волен молоть всякий вздор, лишь изредка поминая бога и любовь. В одних местах проповеди меня разбирал смех, в других я злился, но Талме я все-таки понял. Человек, в семьдесят три года впервые взявший в руки кисть, ни за что не согласится, что мир и люди спешат «к погибели, к погибели своей, не иначе». Человек в это не верит. Как и не верит в вечное блаженство на небесах, раз хочет «хоть какую-нибудь память по себе оставить» на земле. Таким образом, я пришел к парадоксу. Талме верит в божественную идею и не верит в божественное учение. Христианская вера сама себя опорочила оторванностью теории от практики. Пролитой воды теперь не соберешь.
Что может быть проще — идти вот так по улице и рассуждать. Что такое современный человек? Каков он из себя? Есть люди, которые вечно куда-то торопятся. Поутру, едва продрав глаза, такой человек бежит в ванную, потом на кухню вскипятить себе чаю, не переставая носиться по комнате, он завтракает. И, конечно же, второпях проглоченная пища со страшной скоростью низвергается по пищеводу. Он бежит на трамвай, бежит в контору, там бежит вверх по лестнице, бежит вниз по лестнице. Если его встретит друг, тот должен бежать с ним по улице, чтобы обменяться несколькими фразами. Человек вбегает в магазин, вбегает в аптеку, вбегает домой, мечась по комнате, переодевается, потому что надо еще сбегать в театр. Вбегает в театр, с разбегу плюхается в кресло, и так как по меньшей мере два часа ему нельзя никуда убежать, он устраивает бег на месте, беспрестанно дрыгая и шаркая ногами, пока не зашикают соседи. После спектакля он бегом заявляется домой и с ходу прыгает в постель. И во сне он бегает по горам, по долам, а проснувшись, замечает, что заследил в своей комнате не только пол, но и стены, потолок. Вот какой неисправимый бегун, но такая у него судьба, тут уж ничего не поделаешь. Он и жизнь свою пробегает насквозь, как тигр проскакивает в цирке сквозь бумажный круг. Даже умирает он на бегу.
Есть люди, которые все время говорят. Этот тип — одна из самых страшных разновидностей современного человека. Вместо утренней зарядки он предпочитает размять язык. Он говорит за завтраком, пирожки лежат нетронутыми, и потом весь день у него урчит в животе, оставленном натощак. Однако с годами говорун до того навострится чесать языком, что, и болтая без умолку, он уплетает за обе щеки — не страдать же здоровью. Он говорит с кондуктором в троллейбусе, говорит с продавцами в магазине, с попутчиками в трамвае — они-то не знают, с кем имеют дело, не то что товарищи по работе, которые, завидев его, бросаются врассыпную. Собрание для него настоящий праздник. Он просит слова и говорит, говорит, говорит и тогда, когда все заснут, говорит, когда все, проснувшись, разойдутся по домам. Он говорит, когда весел, говорит, когда грустен. Он не просто смеется, он смеется речитативом, он способен проговорить все на свете и на старости лет подчас до того заговаривается, что остается без волос на голове. Уж такая у него судьба. Предел его желаний — сказать речь на собственных похоронах.
Есть люди, которые без конца прислуживают. Прислуживать такой человек привыкает еще сызмальства. Будучи ребенком, он подносит взрослым шлепанцы, ботинки, катушку с нитками. В классе он спешит подать учителю мел или мокрую тряпку, даже не в свое дежурство, и, наконец, он подает первую записочку с ябедой на товарищей. С этого момента он становится дипломированным прислужником, отныне он прислуживает только вверх. Он, так сказать, прислужник-верхогляд. Ему некогда посмотреть вниз, прислушаться к голосу народа. Народом он называет всех, кто стоит ниже. Он сам не народ. Он прислуживает. Случается, к сожалению, нередко, подобный прислужник забирается так высоко, что под ним оказываются многие, а над ним немногие. И тогда ему некому больше прислуживать. Прислуживать вниз он не может — там народ, а с верхушкой он поравнялся. Не прислуживать же равному. Это настоящая трагедия, и прислужник двенадцать дней и двенадцать ночей грызет ногти, после чего его лакейская душонка берет верх, и он принимает единственно верное решение, которое помогает ему сохранить в чистоте и непорочности святое призвание прислужника. Он начинает прислуживать самому себе. Он прилипает к своей карьере, словно муха к липучке. Предел его желаний — самому себе назначить пожизненную пенсию.
Есть люди, которых постоянно толкают. Такого человека с утра из постели выталкивает жена. Возле дома его ненароком толкнет дворник. Стоит ему на полсекунды замешкаться, поднимаясь в троллейбус, как ему наподдадут в спину. На улице он озирается, словно лунатик, и прохожие оттирают его к витринам. А то вдруг у входа в магазин уставится себе под ноги, задерживая людской поток, пока кто-нибудь больно не ударит его по коленке углом чемодана. Но ему все нипочем. Уж такая судьба. Его мысли витают далеко. У него на уме какое-то открытие или подвиг.
— Смотреть надо, — слышу вдруг сердитый окрик.
Резко затормозил автомобиль, лизнув меня, словно пес, желтым языком подфарника.
Дворники соскребывали снег с асфальта, лопаты галдели, как галки. На перекрестке я перед самым носом красного трамвая перебежал через линию.
Так что же такое современный человек? Какой он? Мы обычно видим только его оболочку, внутри он куда сложнее, его не объяснить при помощи софистики. Можно спросить себя, можно спросить других. Но лишь своим рассудком, своими силами дано постигнуть, что такое жизнь и что такое смерть. Что такое радость? Больше, чем хлеб, нужна людям радость. Я такой же, как они — мои модели, мои современники. Почему мне нравятся пожилые люди? Не потому ли, что они больше съели соли? Талме, Гулцевиц, старик Кундар? Лидия? Впрочем, Лидию не назовешь пожилой, ей лет сорок. Зайду сегодня к Лидии. Но сначала загляну к старику Кундару, он всегда сидит в своей будке — и зимой и летом. Днем и ночью! Больше, чем хлеб, нужна людям радость. Я знаю, старик Кундар обрадуется, увидав меня. «Молодец, не забываешь друзей», — скажет он.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
— Привет, — сказали.
— Привет, — ответил он и притворил дверь будки, чтоб не впускать холода. Я сел в высокое кресло. — Как дела?
— Неплохо, — ответил я.
— А мои как дела?
— И твои дела недурны, скоро опять поедешь на выставку.
— За компанию с прокурором в отставке?
— Да, за компанию с прокурором.
— Ты передай ему, чтоб наведался. Хочу потолковать с ним. А он и вправду такой же некрасивый и такой же умный, каким ты изобразил его.
— Не знаю, как насчет красоты, а ума у него не отнимешь. Хорошо, я передам, что ты хочешь его повидать! Холодно сейчас, вот он и не едет в город.
— А та парикмахерша тоже будет на выставке?
— И парикмахерша будет.
— Ну, тогда нам скучать не придется, хоть один ба-бец в компании.
— Не беспокойся, подберут для вас еще какую-нибудь даму.
— А прокурору ты передай привет.
— Передам.
— Молодец, не забываешь старого Кундара. Только ты сегодня какой-то
странный, а? Не захворал?
— Брат умер. Утром.
— Старший?
— Да. Рудольф.
— Сколько лет?
— Тридцать пять.
— Молодой.
— Да, молодой.
— Жена, дети остались?
— Остались.
В почерневших руках Кундара замелькали щетки, но сначала он тряпочкой счистил снег с ботинок, затем круглой щеточкой смазал их ваксой, теперь наводил глянец.
— Так, — произнес он, — ставь второй.
Кундара ранили под Ладогой. Руки у него поднимаются только до плеч. Перед войной Кундар работал в парикмахерской, говорит, чертовски хорошо брил бороды. После ранения об этом не могло быть речи, и вот уже который год сидит он в своей будке, чистит ботинки. «Я должен быть на людях, — говорит он, — я должен работать». У него приятное, загорелое лицо, на щеках залегли суровые складки. Когда я высек его из гранита, он сказал: «Гранит — это вещь, не то что мрамор. Гранит — совсем другое дело!»
Засветив звездочку на ботинке, он отложил бархатку в сторону.
— Порядок! Но ты немного посиди. На улице холодно.
— Тебя ждут клиенты.
— Ничего, подождут.
Я посидел немного, потом сказал:
— Теперь пойду.
— Привет жене.
— Спасибо, передам.
Я прошел несколько кварталов. Парикмахерская помешалась на пятом этаже. Пока взбирался лифт, пощелкивая на каждом этаже, я разглядывал ливрейного лифтера, был он чрезвычайно почтенной наружности — совсем седая голова с безукоризненным пробором, выражение лица бесстрастно-величавое. Мне казалось, этот человек до тех пор смотрелся в зеркало, пока не вызубрил это выражение, и теперь напускал его с таким же проворством, с каким расчесывал свой пробор. Движения ливрейного лифтера были размеренны, полны достоинства. Мне подумалось, что за малейшее движение он привык получать деньги. Рядом с парикмахерской на пятом этаже помещался ресторан, и лифтер одновременно был и швейцаром. Взмах руки его стоил, по крайней мере, двадцать копеек, поворот головы обходился в тридцать, а уж если он к тому же улыбался, тут выкладывай полтинник. Лифт остановился. Лифтер неспешно и чинно открыл дверь, я прошел налево, где была парикмахерская. Пришлось немного подождать, пока освободилось кресло.
— На кого вы похожи?! — воскликнула Лидия.
Да, я здорово зарос. Обычно ношу короткую прическу.
— Сделайте меня человеком, — сказал я. — А то хожу дикобразом.
— Это дело поправимое, — ответила Лидия. Укрыла меня белой простыней, приспустила кресло, видимо, я оказался слишком длинным.
— Кресло космонавта!
— Вы как маленький, любите в нем покататься, — усмехнулась Лидия.
— Как поживает сын?
— Ничего. Пишет письма, не жалуется. Говорит, первый год службы самый тяжелый, недавно прислал фотографию, уже волосы отрастают.
— Так у него, должно быть, наимоднейшая прическа.
— Да.
— А вы отлично выглядите, — сказал я.
— Что вы, я так устала.
— И все-таки вы очень хорошо выглядите!
— Не может быть, — сказала она, с улыбкой глянув в зеркало. — Давно не слышала комплиментов.
— А как давно?
— Даже не помню.
— Неважные у вас клиенты, — заметил я, — таким и уши не грех отрезать.
Некоторое время молчим. Пощелкивают ножницы. Сосредоточенное лицо Лидии мелькает то с той, то с другой стороны. Одно удовольствие видеть ее за работой. Во всей Риге немного найдется таких мастеров. Сколько лет стригусь у Лидии? Пять, семь? Когда я высказал желание сделать ее портрет, Лидия согласилась. «Из какого же материала собираетесь высечь меня?» — спросила она. «Из пластмассы», — ответил я. «Вот это да! Я и в самом деле стану бессмертной!» — «Уж будьте покойны! Правда, бессмертие вполне современное». — «Но разве из пластмассы можно что-то сделать?» — «Скоро сами убедитесь», — ответил я. Мне было приятно, что она так быстро согласилась и что это ей даже польстило. Да здравствует цех парикмахеров!
Видимо, я все-таки был неправ — тогда в лифте. Пока что людям нужен и ритуал, и ливрейный швейцар. Какое я имею право иронизировать над ним, если люди сделали швейцара двадцатикопеечным автоматом? Но со швейцара мне не хочется делать скульптурный портрет. Он и без того готовая скульптура — каменный и твердый, ни высекать, ни шлифовать не надо.
— Вы знаете того седого мужчину, который работает в лифте? — обратился я к Лидии.
— Что вы сказали? — Она о чем-то задумалась и не расслышала. Мне не хотелось повторять вопроса.
— Интересно, — произнес я, — сколько погонных метров волос вы срезаете за день?
— Уйму.
— За год с тысячу километров наберется.
— Если не больше. А сколько волос мы проглатываем, — продолжала она. — У парикмахера легкие полным-полны иголочек, как спина у ежика.
Вниз я спустился по лестнице, не дожидаясь лифта. Решил во второй раз отцу не звонить, а зайти самому. Жизнь шла своим чередом. Все дежурные были на местах. За рулями машин сидели шоферы, трамвайные кондукторы отрывали билетики, гудели заводы, гремели станки; ничего не изменилось. Кундар сидел в своей будке. Лидия щелкала ножницами, ливрейный лифтер нажимал кнопки, жизнь продолжалась. В жизни не было пустоты. Пустота была во мне. Если тебе нечем крыть, остается одно — успокоиться. Кундар знает, тут крыть нечем, Кундар принимает смерть как должное. Ну, а я чем могу покрыть пустоту? Гранитом, мрамором, на худой конец, глиной, мягкой, податливой глиной. Но разве этим приведешь качели в равновесие? На другом конце доски живой человек. Жизнь одного человека ничего не значит. Ничего не значит в мировом масштабе. Все дежурные остаются на местах. Может, это и есть искомый противовес? Нет пустоты, вот что главное. Нет, к черту эмоции! Пускай мой брат умрет один раз. Бесчеловечно заставлять человека умирать по нескольку раз.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дверь открыла опа.
— Скажите, Артур Ригер дома?
Мне показалось неприличным просить эту женщину позвать отца. Тем самым я как бы признал ее своей мачехой, а мне не хотелось этого.
— Присядьте вот здесь, — сказала она. — Сейчас позову Артура.
Я присел. Давая понять, что я попал в немилость, меня, заставили долго ждать. За тонкой перегородкой находилась кухня, и мне пришлось выслушать бесконечно нудный разговор.
— Брюква?
— Говорят, в ней витаминов побольше, чем в моркови.
— А Фредиса опять пригласили на кофе к министру.
— Ну, что ты суешь мне этот журнал, ведь он прошлогодний.
— Откуда я знаю, что тебе нужно.
— Там где-то должен быть рецепт пудинга из брюквы.
— Терпеть не могу пудинга из брюквы.
— Я тоже. Но Фредис просил разыскать. Ему нравится.
— Что вечером?
— Вечером?
— Чем думаешь заняться вечером?
— Не знаю.
— А я — спать.
— Надо бы кран починить.
— Ну его к черту, этот кран.
— Фредис говорит, вода капает так громко, он не может заснуть. Вода каплет ему прямо в уши!
— Пускай сам починит.
— Ну, будь добренький.
— А что я буду с этого иметь?
— Знаешь, в «Женскую обувь» привезли новые туфли. Как раз мой размер.
— А что я буду с этого иметь?
— Я даже примерила.
— Но куда запропастился наш гаечный ключ?
— И стоят всего-навсего тридцать пять рублей.
— Я, пожалуй, привинчу этот кран. А то у Фреда, чего доброго, нервы окончательно развинтятся.
— Может, до завтра пара заваляется. У меня там знакомая продавщица.
— Ив старых походишь. А потом ведь туфель у тебя хоть отбавляй. Или лучше вызвать слесаря? Что будет на ужин?
— Пудинг из брюквы.
— Терпеть не могу брюкву.
— Я тоже, но Фредис обожает брюкву.
— А чего это Фредис так рано сегодня?
— Это не Фредис! К тебе пришел твой сын. Тот, который скульптор.
— А!
— Ждет в гостиной.
— Кхм.
Хлопнула дверь, отец пошел в обход по коридору, хотя удобней всего было б говорить со мной из кухни, через стену. На мгновенье он остановился перед дверью гостиной, и я отчетливо расслышал его негромкое дыхание, шипение горелки на кухне, еще какие-то звуки. «Плак, плак», — покапывал невидимый кран.
— Здравствуй, — сказал отец, переступив порог.
На плечи у него была наброшена серая домашняя куртка, лицо гладко выбрито. «Должно произойти чудо, чтобы Ригер-старший хотя бы день остался небритым». У меня в ушах зазвучал его голос. Напрасно я пытался припомнить, когда и по какому поводу были сказаны эти слова.
— Что случилось? — спросил отец. Я у него еще ни разу не был, действительно, случай чрезвычайный! И тут же он задал предельно бессмысленный, преглупый и все же типичный для него вопрос.
— Неужели розы померзли? — спросил он.
— Да, — ответил я, — снега выпало мало, розы померзли. Впрочем, наверняка узнаем только весной.
— Да. — Отец пододвинул поближе стул и сел на него. — Снега выпало мало. Снял бы все-таки пальто.
— Ничего, — ответил я. — Я на минутку. Знаешь, Рудольфа посылают в Египет!
Не понимаю, как у меня вырвалось, я и не думал этого говорить. Но шипение горелок за стеной прекратилось, и мне показалось, я вижу точеное женское ухо, приникшее к стене.
— Как же так? — произнес отец. — Ведь брат его служил в эсэсовском легионе!
— А сам он служил в Красной Армии!
— Но с его-то здоровьем. Он же дышит одним легким!
— Говорят, в Египте воздух сухой и чистый.
— С каких это пор безвестных инженеров стали посылать за границу?
— Значит, он не такой уж безвестный, как ты полагал! Значит, сочли его достойным, раз посылают.
«Плак, плак», — капал невидимый кран.
— Эта поездка его доконает, — сказал отец. — Перемена климата! Начальство сознательно посылает его на гибель. Он должен беречь себя.
— Он будет беречь себя.
— А Фанния, Андрис, они тоже едут?
— Нет, Фанния, Андрис останутся здесь.
— Ах, вот оно что. Видимо, парня посылают ненадолго.
— Да, — сказал я, — совсем ненадолго.
Равнодушный чурбан, неужели ты ничего не понял? Где твоя адвокатская проницательность? Неужели ничего не прочел у меня на лице?
— Принимай витамины, — сказал отец. — Иначе весь пожелтеешь. Так ты говоришь, розы померзли? Выходит, весной мне незачем к тебе ездить.
— Как знаешь, — ответил я. — Хочешь — приезжай, не хочешь — не приезжай.
— Там будет видно.
— А кто твой Фредис? — спросил я, поднимаясь.
— Жилец наш.
— Второе имя его, случайно, не Вилл?
— Как это — Вилл?
— Ну, Вилис.
— Не знаю. Едва ли. С какой стати у него должно быть второе имя?
— Вообще-то да. С какой стати. Ну, я пошел. Всего хорошего.
Очутившись на лестничной клетке, я прижался лбом к сырой стене и от души себя выругал. Все поручения были исполнены. Я мог отправляться домой. Пешком отшагал до вокзала. Электричка была переполнена. Люди возвращались с работы. Близился вечер. Я отыскал свободное место в углу, у окна и всю дорогу смотрел на проплывавшие домики в полях, в лесу, иногда мелькали и люди. Я удивлялся, как мог наговорить таких глупостей. Решил, что, вернувшись домой, напишу отцу письма и отправлю его рано утром.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Однажды я поехал в деревню разыскивать камень. Трудное дело найти подходящий камень, по был у меня знакомый старик в Видзсме, бывший истопник адвоката Юкеселя, тот знал много камней. Как-то получил от него весть, камень, мол, найден, как раз такой, какой нужно, приезжай посмотреть. Старик Рукинек в колхозе уже не работал, сидел на пороге амбара — голова в тени, ноги на солнце, — вил веревки. Не пройдет двух дней, кто-нибудь наведается к нему за веревками, своим уменьем старик славился по всей округе.
Поговорили о том, о сем, и я сказал, что, собираясь к нему, ожидал увидеть немощного дряхлого деда, всеми заброшенного.
— Теперь-то я людей вижу больше, чем в те времена, когда в поле работал, — ответил Рукинек.
— У тебя славное пиво. Люди приходят пить твое пиво.
— Да. Пиво тоже приходят пить. Еще они приходят в баню. По субботам у меня банька топится. Банька что надо! Но они приходят и тогда, когда пет ни пива, ни бани.
— Значит, за веревками приходят. Без веревок в хозяйстве не обойтись.
— Но они приходят, и когда им не нужны веревки, — возразил Рукинек. — У меня, скажу тебе, работа спорится, если кто-нибудь рядом сидит. А когда я один, не работается. Не нравится, и все тут.
Деревянный крюк мелькал в его старых руках. Кожа на ладонях высохла, как береста.
Просто ему живется, подумал я, наблюдая за работой старика. Он живет не для того, чтобы вить веревки, а для того, чтобы ими связывать себя с людьми. «Когда я один, не работается. Не нравится, и все тут». Возможно, «не нравится» не совсем то слово, но суть верна. Человек не может вить веревки в одиночестве.
Сколько таких, от кого непосредственно зависит моя жизнь? Один, восемь, двадцать, сто восемьдесят? Есть люди, которых я сам выбираю. Но есть и такие, с которыми встречаюсь помимо желания. Очень важно, чтобы эти люди были чисты. Они все равно что стекло, сквозь которое я вижу мир. Если стекло попадается мутное, кривое, если на нем обнаружатся пятна, мы разбиваем такое стекло. Болезненная операция! Жизнь не что иное, как взаимодействие людей.
Я должен говорить с товарищем Икс, потому что он начальник отливочного цеха. Потом мне нужно говорить с товарищем Игрек, потому что он журналист и в своей статье собирается упомянуть мои работы. Я уступаю необходимости, я уделяю час своего времени. Что такое — шестьдесят минут?
Золоченая секундная стрелка с красным наконечником обегает круг за кругом. По артериям пульсирует кровь. Пружину часов можно завести, если сломается — обменять, но кровеносные часы пригодны лишь на один завод. В каждом часе шестьдесят минут, шестьдесят, шестьдесят минут, в минуте шестьдесят секунд, шестьдесят, шестьдесят лет, лет, лет. Первая секунда, вторая секунда, третья секунда, четвертая секунда — ничего определенного, время вне пространства, пространство вне времени. Какой блестящий ангелочек на макушке рождественской елки. «Тихая ночь, святая ночь!»
Пятая секунда, шестая секунда — фотографии в журнале «Лайкметс»
[5], марши по радио. «Идет великая война!» Седьмая секунда — Харалд уезжает на фронт, мой брат гренадер, я учусь стрелять из пистолета. С ветки падает яблоко.
Восьмая секунда, девятая секунда — падает яблоня, возвращается Красная Армия, и брат с восторгом следует за ней, мой брат красноармеец. Я хожу в школу. Десятая секунда, одиннадцатая секунда, двенадцатая секунда — в воздушном бою сбит самолет, экипаж погиб, я учусь, я октябренок, я пионер. Тринадцатая секунда, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая. Неужели во мне ничего не осталось, кроме калейдоскопа лиц, бессвязных обрывков, в которых география перемешалась с алгеброй и английским языком. Еще остались пионерские слеты, веселые игры, песни. Еще остался косяк самолетов в небе над Тушином, косяк самолетов с газетным лозунгом. Это лето пятьдесят второго? СЛАВА? Что было дальше, всем известно.
Семнадцатая секунда, восемнадцатая секунда, девятнадцатая, двадцатая. От семнадцатой секунды у меня остался шифр СЛАВА — СМЕРТЬ. Затем приходит из безвестности мой дед, возвращается Иванов. Рудольф уже закончил институт, работает, перебирается в город. Мы остаемся одни со старой Талме. Двадцатая секунда, и одиннадцать школьных лет позади.
Двадцать первая секунда плюс пять секунд — Художественная академия. Чтобы увидеть, отдалитесь. Чтобы понять, размышляйте по ночам. Чтобы не терять, не присваивайте. Чтобы не терзаться, поднимитесь выше. Будьте искренни, к друзьям приходите, закончив работу, не носите с собою пустых кувшинов, чувствуйте вращение голубой планеты, и пусть глаза ваши будут всегда обращены к солнцу. Но помните: и луна хороша, хотя светится отраженным светом. Дерзайте, будьте! Двадцать шестая секунда, закрылась дверь Академии. Мы мечи, которые кует великий Мастер. Раскалили нас докрасна, на каждый удар молота отзываемся снопом искр и приглушенным стоном. Что нас ждет впереди? Борьба. Жизнь как огонь, как алая кровь. Отливающий холодом клинок меча — рассудок. Да помним: нас держит теплая и твердая рука человечья. Рассудок — меч, сердце — рука. Двадцать седьмая, двадцать восьмая, двадцать девятая секунда. Всего-навсего три самостоятельных секунды? И только? Мало, как мало. Что больше всего сближает людей? Любознательность. Чем обусловлена вторая натура человека? Добрая она или злая? И почему? Есть великая любознательность, и есть мелочное любопытство. Человек проникает в глубь голубой планеты, в облака, в лунный луч, в любовь, в бутон цветка — это и есть великая любознательность, та, на которой зиждется мир. Мелочное любопытство все делит на части, не обращая внимания на единство, целостность. Мелкое любопытство унижает и разрушает, оно бесцельно, оно самоцель. Жизнь человека — тот же бутон и цветок, и ароматы, и затем пожелтевшие листья. Счастье. Оно в том, что самому человеку дано растить, лелеять этот цветок по своей доброй воле. Несчастье в том, если нет этой воли. Роза или репейник? Любопытные, не сжигайте роз. Пепел от роз горек на вкус.

В течение многих лет я не знал, что такое воскресенье. Мастерская заперта на ключ, спецовка сброшена, с рук смыта глина. Но, отмыв руки, художник не отмоет сердца. Оно бьется, оно стучит, сжимается — расширяется, сжимается — расширяется, красными пальцами месит глину, лепит фигурки по своему подобию и в соответствии со своим темпераментом. В такие моменты художник все равно что лунатик, он отвечает невпопад, а то и вовсе не слышит вопросов. Его сердце не дремлет, утром пальцы тщатся вылепить в глине те дуги и линии, что отстучало за ночь сердце. Редко такое удается, но уж если удастся, у художника праздник. Что такое праздник — это он знает.
Как коротка жизнь человека? Шестьдесят минут, шестьдесят секунд, шестьдесят лет, лет, лет, лет. Я слышу о газовых камерах Освенцима, я слышу об атомной камере Хиросимы. Я все представляю. Я понимаю, как это бесчеловечно, я это понимаю. Но люди, эти люди еще живы во мне, уничтожены лишь какие-то строчки с газетных полос, какой-то абстрактный набор из четырех букв «люди». И вдруг наступает момент — я вижу аллею в белом снегу и черные ветви деревьев и слышу детский голосок; «Та, та, та», — и в одно мгновение, в одно неуловимое мгновение меня обдает газом всех камер Освенцима, и гибнут люди, и с огненным шаром взлетает на воздух Хиросима и плавится, словно свеча, попавшая в котел центрального отопления. И я сознаю, что означает смерть. Смерть для других. Обширны людские владения, и редко выдастся день, когда смерть не вторгнется в пределы жизни. Не бывает такого дня.
Если бы я не был столь наивным! Если бы я сразу разгадал, что интерес отца к Рудольфу вызван не любовью, просто мелочным любопытством. Если б я не пригласил к себе брата в тот хмурый зимний вечер. Я не могу, никак не могу отделаться от мысли, что несколько рюмок вина стали причиной его смерти. Скопившиеся в организме яды далекой войны вдруг выпустили жала.
Разве люди виноваты в смерти брата? Разве семья — микромир? Почти половину, и уж, наверное, треть своей жизни мы проводим дома. Микромир сильно влияет на нас, и влияние это потому значительно, что мы воспринимаем его безотчетно. Я рано потерял мать. Я не успел удержать ничего или почти ничего. Я рано потерял старшего брата. Теперь я потерял самого близкого брата. Что я мог удержать? Растет маленький Андрис, дерево не осталось без почек. Я остался один. Человек, как и общество, развивается по спирали. Дуги сливаются, как сливаются бесконечности, и никогда не укажешь точку, откуда начинается новая дуга. Моя первая дуга сломана, я не успел по-настоящему опереться на нее.
Я притащил лестницу из дровяного сарая. Я приставил лестницу к балкону. Я выбил дверное стекло. И вдруг почувствовал себя таким уставшим, каким только может почувствовать себя человек в двадцать девять лет. Начинало смеркаться. Я закурил сигару. Из разбитой двери тянуло сквозняком. Дым затейливо клубился. Кто-то бесшумно вошел в мастерскую и сел напротив. Человек этот был удивительно похож на меня. Сумерки скрывали черты его лица, все заметнее стирали их — будто мягким серым ластиком.
— Я Следователь.
— Я есть я.
— Отвечайте на мои вопросы.
— Спрашивайте.
— Зачем вы это сделали?
— Чтобы понять, какую ценность представляют мои работы.
— Разве для этого их нужно уничтожить?
— Возможно.
— Так какую же ценность представляют ваши работы?
— Что от них толку, если смерть неизбежна.
— Физической смерти никому не избежать. Но существует еще один вид смерти.
— Знаю. Духовная смерть.
— Едва человек перестал сомневаться, он болен. Едва перестал мыслить, он умирает.
— Мне хотелось бы куда-нибудь уехать.
— Бесполезно. От этого не убежишь. Конечно, ты бы мог укрыться в горах, превратиться в горного оптимиста. Но, по-моему, в тебе и сейчас достаточно оптимизма. Если работы твои уничтожены, ты перестал существовать. И все-таки Рудольф, наверное, покривил душой, сказав тебе, что ничего другого не умеет делать, только работать. Говорят, человек чувствует, как долго ему суждено прожить. И каждый старается оставить после себя по возможности больше. Если твои работы уничтожены, ты перестал существовать. Не рассчитывай убежать от самого себя. Можно избежать темноты, облетая шар земной на скоростном самолете, можно избежать потомства, своевременно прервав половой акт, можно избежать преждевременной смерти, если твой организм здоров и обмен веществ нормален, но никогда не удавалось человеку избежать самого себя. Такой беглец похож на собаку, которая вертится, пытаясь поймать свой хвост.
— Значит, куда бы мы ни стремились, мы возвращаемся в самих себя?
— Да. В себя через других. Итак, вы сами разбили свои скульптуры?
— Да, сам. Но только МЫСЛЕННО.
Если кто-то пытается уничтожить во мне художника, он уничтожит мою мастерскую. Я спрашиваю совесть, способны ли на это близкие мне и далекие люди. И отвечаю— НИКОГДА, НИКОГДА, — если только я сам этого не сделаю.
В доме было тихо. Близилась ночь. Я слышал, как в замочную скважину вставили ключ, повернули его. «Клинг, клинг», — пропел звоночек. Вернулась Ева. Заскрипели ступени от ее шагов, хлопнула дверь. Потом Ева крикнула:
— Где ты?
Она вбежала в мастерскую и бросилась мне на шею.
— Как ужасно! И послезавтра уже похороны!
Больше она не сказала ни слова, только целовала меня.
— Как хорошо, как хорошо, что ты есть у меня! Постой, а как ты попал сюда? Ты забыл ключи в моей сумке!
— Я забрался через балкон. Я приставил к балкону лестницу.
Я никогда не оставался один. Всегда кто-то был рядом. Но мне кажется, нужен кто-то еще, он бы встречал меня дома, если вдруг потеряю ключи. Чтоб не пришлось возвращаться домой, как вору. Мои каменные дети мне дороги, но они всего-навсего каменные дети. Я буду высекать все новых каменных детей. Я пойду разыскивать людей. Людей чистых, чтобы высекать их в камне вместе с веком. Хорошо бы взять с собой в дорогу товарища. Конечно, он будет маленьким, совсем крошечным, но это только вначале. Иногда сыновья вырастают большими.
КЛЕТКА

I
Сентябрьским утром, в среду, еще не проснувшись как следует, Валдис Струга ощутил в тазобедренном суставе стойкую нудную боль. В правом боку покалывало, будто кто-то водил по нему и постукивал тупым долотом. Фаланга большого пальца правой стопы горела. Боль разбудила Стругу в шесть. Обычно он вставал в половине седьмого.
Жена и сынишка посапывали в своих кроватях.
В последнее время Струга перенес несколько приступов подагры, однако ни врачам, ни друзьям, ни жене не стал жаловаться. Раздобыв соответствующие книги, он прочитал все о подагре и понял, что никакой врач ему не поможет, главное в лечении — режим и диета.
Раз уж в таком возрасте стала допекать подагра, за объяснениями далеко идти не приходится. Обильная пуриновыми основаниями пища, чрезмерное курение с восемнадцати лет.
Тотчас и без колебаний Струга бросил курить. И только пестрые табачные коробки с диковинными этикетками напоминали о недавней страсти. У капитана дальнего плавания пропала единственная, горячо любимая дочь. Струга разыскал ее за два дня, и капитан в знак благодарности из каждого порта присылал ему в подарок редкие сорта табака.
А сколько денег Струга оставил когда-то в комиссионных магазинах, покупая трубки! Пятьдесят трубок — из яблони, корня вереска, из черного дерева, фарфора и пенки теперь прозябали на особой подставке. Лишь иногда, углубившись в чтение или следя за матчем по телевизору, Струга нет-нет да и сунет в рот какую-нибудь ароматную трубку, чаще всего свою любимую «Черную Марию», и покусывает черенок, и посасывает без огня, без дыма, без истинной радости. Что делать, приходилось и этим довольствоваться.
Любил он хорошо прожаренную телятину с картошкой, гоголь-моголь, вишневый сок, яблоки, землянику. С тех пор как прицепилась подагра, Струга не пил коньяка, хотя и был к нему неравнодушен, но, страшась пуринов, все же ел телятину. Борьба с подагрой довольно ощутимо укрепила семейный бюджет.
Струга знал три языка — латышский, русский, английский. Читал работы по криминалистике, статьи о психических заболеваниях и всяких аномалиях, а также исторические книги и мемуары. На художественную литературу почти не оставалось времени, хотя дома имелась небольшая, неплохо подобранная библиотека. Любимым писателем был Хемингуэй. Лучшим из художников — Брейгель. Струга восхищался умением Брейгеля выписать любой пустяк, малейшую деталь, восхищался точностью и лаконичностью его портретных характеристик.
Уже шесть лет, как Струга был женат. Сыну четыре года, мальчика одевали картинкой: жена работала в Доме моделей, оттого и муж предпочитал ходить в штатском— костюмы на нем сидели отлично.
В свободное время Струга играл в настольный теннис, выжимал двадцатичетырехкилограммовую гирю. Лихо отплясывал шейк и другие спортивного типа танцы. Летом ездил купаться на взморье, играл на пляже в волейбол, как все прочие граждане.
Еще любил бродить в одиночестве по лесу, не обижая муравьев, не ломая веток, не пугая криком зверей. Струга умел подкрасться к птицам и животным. Наблюдать лесную жизнь. В таких случаях он брал с собой фотокамеру с телевиком.
Жил он в двухкомнатной квартире в Межапарке. По правде сказать, квартира была коммунальная, лишь добротно сделанная перегородка делила ее на два самостоятельных отсека. На работу ездил одиннадцатым трамваем, в экстренных случаях за ним присылали машину.
Рост Струги — метр восемьдесят, вес — семьдесят три килограмма, цвет волос — белесый, глаза — серые, фигура — стройная, мускулистая. Недавно ему исполнилось тридцать два года. Родился в Риге, в семье служащих, учился в одиннадцатой средней школе, служил в армии, окончил юридический факультет, теперь работал в отделе розыска пропавших лиц при рижской городской милиции.
Служебный мир Струги был строго регламентирован. Задача его заключалась в поддержании общественного порядка. Выполнение поставленной задачи обеспечивал широкий людской контингент. Необходимость этого мира объяснялась подспудными причинами социального порядка, своими корнями уходившими в глубь веков. Причины эти не всегда удавалось своевременно устранять.
Может, причины были извечны, как извечен и род человеческий? Но, может, они все же устранимы, как уверяли некоторые. Понять причины было нелегко. Возможно, они гнездились в генах? Или прозябали в подвальных каморках? Или укрывались за глухими стенами особняков? Струга взялся для себя это выяснить, чего бы это ему ни стоило.
Служебный мир Струги придавал его жизни ощутимую ценность, ибо жизнь нередко подвергалась опасности и риску.
В шесть часов пять минут, выпив на кухне полбутылки минеральной воды «Славяновская» и облачившись в тренировочный костюм, Струга вышел на улицу.
На асфальте лежала роса. Вдали прогромыхал трамвай. В оловянном небе голубели прогалины. Воздух был сырой и промозглый. Тренировочный костюм приятно облегал тело, кеды мягко стискивали ступни. До парка было несколько сот метров. Струга начал пробежку.
С тех пор как к нему привязалась подагра, Струга каждое утро делал пробежку. Петлял вверх и вниз по пригоркам Межапарка. Подражая спуску горнолыжников, огибал деревья, пни и камни.
В семь часов пять минут Струга вышел из парка, достал из кармана восемнадцать копеек, положил их на прилавок киоска.
Продавщица пододвинула приготовленную пачку газет. Они пахли типографией и новостями. Никаких слов, вопросов, просто вежливый кивок — это у него вошло в привычку. Уже два года каждое утро Струга сам покупал газеты и успевал прочитать их на час раньше, чем если бы их приносил почтальон. И только несколько журналов приходило по почте, да еще газетка «Киноэкраны Риги» — для жены.
Струга отворил дверь на кухню, пахнуло ароматом кофе. Жена всегда варила крепкий душистый кофе. Из кастрюльки Струга налил в чашку кипяченого молока. Подагра лишила его удовольствия пить кофе. Добавил в молоко две ложки меда, пил маленькими глотками, закусывал черным хлебом. Потом — сыр, густо намазанный маслом. Еще два яйца вареных «в мешочек».
Накануне он поссорился с женой. Семейная жизнь Струги протекала ровно и согласно, и причина ссоры, по правде сказать, была пустяковая. Он собирался взять отпуск в конце февраля. Все было давным-давно оговорено. Федоров, его коллега, не возражал, хотя с сентября до февраля еще многое могло измениться — например, затянется какое-нибудь дело, подвернется срочная командировка, понадобится подменить заболевшего сослуживца. Федоров нередко болел гриппом именно в феврале. Струга уже пять зим подряд на слаломных лыжах обкатывал горы Латвии. Этой зимой собирался на Кавказ— хотелось помериться силами с тамошними склонами, испытать себя и свое горнолыжное мастерство.
Жена сердилась, что муж не попросился в отпуск одновременно с нею в августе.
Ссора была, так сказать, задним числом. Отпуск жены позади, все решено. На этот счет объяснились еще тогда, в августе.
Уж так получилось — в августе выпало много работы. Разгар лета — раздолье для преступников и нарушителей. Подозрительные типы, словно тараканы, выползают изо всех щелей, живут на природе в свое удовольствие. Закон тут должен глаза и уши держать открытыми, не время прохлаждаться в отпуске. Работы невпроворот. Наряду с серьезными, трагическими исчезновениями случались и происшествия романтического характера.
Чаще всего бывало так: некая девица уезжает с неким парнем, а родители девицы не знают ни парня, ни куда он ее увез.
В своей работе Струга имел дело с людскими недостатками, слабостями, он изучал эти недостатки и слабости. Вдыхая аромат кофе и попивая сладкое молоко, он вспоминал вчерашние несправедливые попреки жены, и вдруг ему самому захотелось затеряться в укромных владениях зеленого лета с каким-нибудь отзывчивым, обаятельным созданием, с этакой образцовой женщиной, умной, красивой, темпераментной, которая разрешила бы ему читать за завтраком газеты. И Струга даже хмыкнул, откусывая хлеб. Хмыкнул про себя. Он знал, что никогда не решится на подобное приключение, для этого не хватало азарта, по натуре он был медлительным аналитиком. Он обнаруживал смелость при исполнении служебных обязанностей, но тут с грустью припомнил несколько упущенных отличнейших возможностей завязать роман с красивой женщиной. Причин такого воздержания было четыре: во-первых, он любил жену и пользовался взаимностью, во-вторых, он был добропорядочен, в-третьих, боялся дурных болезней, в-четвертых, по складу характера был идеалист и моногам.
Поев, чмокнул в щеку жену, сказал спасибо.
Почтовый ящик по-прежнему был пуст. Почтальон приходил примерно в половине девятого. Очутившись на улице, Струга, вопреки ожиданиям, не проникся достаточно хорошим настроением. Помахивая портфелем, он зашагал к трамвайной остановке.
Навстречу, узким тротуаром, где только двоим разойтись, шли трое рослых, плечистых верзил, уже с утра на взводе, и все, как говорится, мужчины в соку, о чем-то спорят, лица раскраснелись, глаза блестят. Ни дать ни взять, хозяева жизни и уж, конечно, — тротуара.
Идущие впереди женщины посторонились, сошли с тротуара, пропуская лихую тройку. Громоголосый крик верзил разносился по тихой улице. Струга вдохнул поглубже и двинулся прямо на них. Он шел по краю тротуара. Верзилы при желании могли пропустить Стругу, но где им замечать человека в штатском, для них он пустое место, привыкли, что все им уступают дорогу, а тут, подумаешь, какой-то одинокий прохожий.
Струга уперся ногой в тротуар и саданул с разгона крайнего в грудь плечом. Верзила отшатнулся, сошел с тротуара, пропуская его.
Струга не оглянулся, даже глазом не повел на задиристых прохожих. Словно их и не было. Прошел как ни в чем не бывало. Кто-то там по неосторожности натолкнулся на его плечо.
И сразу отлегло на душе.
Верзилы позади остановились, погалдели, однако ничего непристойного сказано не было. А жаль. Струга только и ждал, чтобы обернуться. Конечно, уважающему себя сотруднику уголовного розыска не пристало делать внушение уличным бузотерам, учить их ходить по тротуару, но у Струги внутри все закипало, когда он видел подобных хамов, словно танки, прущих напролом по улице, не уступая дороги ни женщинам, ни детям, ни старикам.
С нарушителями закона мы справимся, подумал Струга. А как быть с этими? Статью закона к ним не применишь. Ничего, в следующий раз нахал остережется крепкого плеча, пожалуй, уступит дорогу прохожему посильнее. А женщине?
В трамвае Струга сел на последнее сиденье, достал из портфеля газеты. Пробежал глазами международные новости, задержался на спортивных колонках.
В коридоре управления Струга встретил сослуживца, и тот, к великому удивлению, вернул ему долг. Долг был старый, годичной давности. Струга уж махнул на него рукой. У сослуживца четверо детей, с этим приходилось считаться. Спрятав полученные деньги, Струга, в приподнятом настроении, вошел в кабинет, про себя отметив, что получать деньги куда приятнее, чем отдавать.
Часы показывали без пяти минут девять.
В комнате стоял едва уловимый запах табака. Того самого табака, который Струге присылал благодарный капитан и который Струга дарил товарищу по работе. На столе лежала записка:
«Повез фотографии гражданина Н. на телестудию. Вечером передадим. Фантомас».
Записка была написана по-латышски. Значит, Федоров, его коллега и сосед по комнате, явился раньше. Федорову было сорок лет, родился он в Витебской области, после войны переехал в Латвию, обосновался в Риге. При первом знакомстве Струга и Федоров объяснялись по-русски, потом Федоров попросил разговаривать с ним по-латышски и за два года свободно выучился и писать, и говорить. Знать два языка в Прибалтике вошло в обычай еще столетие назад. Грамматика у Федорова слегка хромала, в сложных предложениях случались ошибки.
Струга позвонил в проходную:
— Ко мне кто-нибудь есть?
— Да, женщина.
— Я жду, — сказал Струга.
Он распахнул окно и, помахивая газетой, постарался прогнать из комнаты табачный дух. Заслышав в коридоре шаги, подсел к столу. Да, вот так проходили его дни. Здесь, в подколотых на скоросшивателях актах, хранились его победы и поражения. По ту сторону стола садились и закоренелые преступники, и жертвы их, люди подчас достойные, уважаемые.
Жизнь тут была особая. Здесь, словно в лаборатории, исследовались составные части общего потока — примеси, чистые молекулы, наносы и грязь. За окном по тротуару плыл этот поток, на первый взгляд однообразный, вольный и подвижный, деятельный и полезный, целенаправленный, — и вдруг, казалось бы на ровном месте, открывались омуты, провалы и в них исчезали люди. И тогда начиналась его работа.
В свое время он говорил о призвании следователя красивыми, высокими словами. Теперь знал: работа эта трудная, тяжелая, грязная, без крупицы романтики. Работа — и только. Она служит обществу, как любая другая работа. Но работа криминалиста значительно грязнее, потому что нередко приходится иметь дело с отбросами и подонками общества. Неудивительно, что большинство криминалистов на склоне жизни становятся неисправимыми скептиками, циниками или нудными моралистами.
Струга не был ни скептиком, ни моралистом. Цинизм ему был чужд. Уже в двадцать лет он выработал философию жизни.
Главное — оставаться верным самому себе, думать своей головой, видеть своими глазами. Не сожалеть о происшедшем, а делать из него выводы. Избегать эмоциональных заключений, прислушиваться к разуму. Работе отдаваться всей душой. Не слишком мечтать о будущем, но и в прошлом не погрязать. Жить полнокровной жизнью. Это должно относиться и к удовольствиям. Удовольствие от работы — одно из сильнейших. Искать истину. Находить правду. Когда-то он думал, что работа следователя заключается в разгадывании тайн, теперь он знал: работа следователя — бесконечное нанизывание фактов, мелких, нудных в своей пестроте, обобщение этих фактов, оценка, проверка их, и лишь конечный результат, возможно, прозвучит торжественным аккордом, принесет долгожданное удовлетворение. Следователь, как хирург, трудится на благо общества. Точно так же как хирург, он имеет дело с людьми. Ему известны людские горести и слабости, его долг помогать страждущим.
Войдя в кабинет, Струга как-то сразу проникся служебной атмосферой, знакомой, умиротворяющей, немного скучной. Но эта скука таила в себе неожиданности.
Об этом всегда следовало помнить.
Постучав, в кабинет вошла женщина. Ей могло быть лет тридцать. Лицо загорелое. Светло-серые волосы подстрижены коротко — под мальчика. Глаза большие и первое впечатление такое, будто они совсем не умеют мигать. Хорошо одета.
Быстрым взглядом женщина окинула комнату, словно желая убедиться, что Струга один. В руках она держала мужской зонтик. Когда повернулась, чтобы повесить его на вешалку, Струга сквозь прозрачный капрон разглядел у нее на ногах голубоватые прожилки. Ноги были крепкие, и Струга про себя решил, что когда-то женщина занималась спортом.
Он предложил ей сесть. Люди приходили сюда с единственной просьбой, и он уже знал, с какой.
Пропал кто-то из родственников, — муж, брат, сын, отец, мать или кто-то другой. Струга знал и слова, которые будут сказаны. Многие точно так же сидели перед ним. Он ждал, но женщина молчала.
— Прошу вас, я слушаю, — напомнил он, пододвинув к себе анкетные бланки.
Едва она заговорила, Струга протяжно вздохнул. Начало розыска всегда было делом скучным, приходилось соблюдать массу формальностей. Составление анкет, подробное выяснение обстоятельств, осмотр фотографий, если таковые не забывали захватить при первом посещении. Звонки в травматологическую клинику, в морг, просмотр списков задержанных лиц и так далее; с кем дружил, с кем знался — расспросы и снова расспросы, и только потом, если случай оказывался действительно серьезным, если тревога была ненапрасной, лишь тогда в пестроте фактов и обстоятельств начинали проступать контуры и линии. Теперь вот предстояло заняться этим ребусом, однако до разгадки было еще далеко, и Струга, превозмогая знакомую служебную скуку, убыстрял начальную кажущуюся неспешность незаметными для постороннего глаза мелочами. Такими мелочами могли быть — по-брейгелевски выписанная деталь, вроде бы незначительная, нечаянно проскользнувшая оговорка, забытый предмет, письмо, адрес, знакомство, на первый взгляд мимолетное, а в общем-то сыгравшее роковую роль.
II
Архитектор Эдмунд Берз в пятницу вечером на своей машине выехал в деревню навестить родителей, пообещав вернуться в ночь с воскресенья на понедельник. И не вернулся.
Чего только не передумала Эдите Берза, стараясь объяснить причину задержки. Родители мужа были в добром здравии и помирать отнюдь не собирались. И срочных сельских работ в эту пору не предвиделось. С середины сентября в деревне начинают не спеша, не торопясь убирать картошку.
Не выспавшись как следует, Эдите с утра позвонила в архитектурную мастерскую, где работал Эдмунд, ио мужа на работе не было. Никто о нем ничего не знал. Может, с ним что-то случилось в дороге? В ночь с воскресенья на понедельник выпал туман. Но тогда бы ей позвонили. Нет, катастрофу Эдите решительно отвергала. Машину купили всего год назад, и мотор и тормоза исправны, у Эдмунда отличная реакция. Водитель он осторожный. Эдите еще раз повторила для себя: катастрофа исключается.
Мог бы телеграмму прислать или доехать до сельсовета, позвонить оттуда в Ригу, хоть как-то подать о себе весть, чтобы жена не волновалась.
За восемь лет супружества они расставались, да и то на короткое время, всего дважды. В первый раз, когда Эдмунд находился в заграничной туристической поездке, во второй раз в такую поездку отправилась она, причем Эдите ежедневно писала письма, а от Эдмунда пришло всего две открытки с непонятными каракулями, Эдите их разбирала чуть ли не неделю.
В шесть часов вечера Эдите вернулась домой — она тоже работала архитектором, только в другой мастерской. Мужа все не было. Тогда Эдите охватило предчувствие: случилось что-то серьезное. Она позвонила сослуживцу мужа Ритманису.
— Добрый вечер, говорит Эдите. Эдмунд вас предупредил, что в ближайшую пятницу мы ждем вас в гости?
— Эдмунд должен был сегодня встретиться с англичанином, — ответил на это Ритманис, — но твой досточтимый супруг не соизволил даже нас предупредить, что не явится! —
Ритманис недовольно бурчал в трубку — так и казалось, что над самым ухом у нее кипит и булькает черный котелок и что булькать он не перестанет, пока весь не выкипит. — Нам самим пришлось выкручиваться. Ты ведь знаешь, на всю мастерскую один Эдмунд хоть сколько-нибудь говорит по-английски. Передай-ка ему трубку, я расскажу, как было дело.
— Эдмунд еще не вернулся, — сказала Эдите. — Так вы придете в пятницу вечером?
Пятница была предлогом. Эдите не хотелось, чтобы Ритманис узнал, что она не имеет ни малейшего представления, где находится Эдмунд.
Ничего, попозже заявится, успокаивала себя Эдите.
— В пятницу вечером? Сейчас, — отозвался Ритманис, — сейчас я посоветуюсь с женой, узнаю, свободны ли мы в пятницу вечером.
Некоторое время трубка хранила молчание, в глубине черного котелка Ритманис шептался с женой о пятнице.
— Да, — сказал он, даже не поинтересовавшись, слушает ли Эдите, — в пятницу вечером мы свободны.
— Значит, ждем вас к семи, — сказала Эдите и добавила — Как только Эдмунд вернется, он позвонит. Задержался в деревне у родителей. Всего хорошего.
Она повесила трубку, и Ритманис ни о чем не успел расспросить.
Теперь уж Эдите не сомневалась: в деревне случилось что-то серьезное. Во-первых, сегодня в Ригу приехал известный английский архитектор, и Эдмунд, как коллега и гид, должен был сопровождать его по городу.
Во-вторых, племяннице Эдмунда нынче исполняется три года. Малышку полагалось навестить, поздравить, отнести подарки, цветы.
С нелегким сердцем Эдите собралась в гости одна.
Катрина выбежала ей навстречу и, протягивая пухленькую ручонку, спросила:
— А почему дядя Эдмунд не приехал?
Девчушка совершенно отчетливо произносила все звуки, в том числе и трудную букву «р». Племянница, совсем как мальчишка, увлекалась техникой. Эдмунд мог часами ползать с ней по полу, запуская электропоезда, устраивая гонки заводных автомобилей, исправляя автоматический трактор, лунный вездеход, многоколесную амфибию — этакое страшилище с мигающими фарами.
В свое время отец Катрины Йонат настолько уверовал в рождение сына, что накупил для мальчика уйму игрушек, еще до того, как жена разрешилась от бремени. Так что Катрина была надолго обеспечена мальчишескими игрушками, по крайней мере до рождения долгожданного братика.
Эдмунд с Катриной были большие друзья. Их дружба покоилась на обоюдном пристрастии к игрушкам и сказкам. Когда Эдмунд вслух читал сказку, Катрина слушала затаив дыхание, хотя взрослые считали, она только притворяется — что такая крошка смыслит в сказках?
— Дядя Эдмунд придет попозже, — ответила ей Эдите.
Хотя в душе все больше нарастало предчувствие беды, она надеялась, что Эдмунд вот-вот остановит машину под окнами квартиры Йоната, взбежит по лестнице и поцелуем развеет ее мрачные мысли. И жизнь опять пойдет привычным размеренным ходом.
— А где же Эдмунд? — здороваясь, осведомился отец Катрины.
Мать Катрины спросила о том же. С тем же вопросом навстречу поднялись Петерсоны. Из соседней комнаты вышли супруги Эглиты, и опять — где Эдмунд? И всем она отвечала, что Эдмунд задержался в деревне у родителей.
Йонат был мастером цеха на дизельном заводе, жена на том же предприятии работала техническим контролером. Жена Йоната доводилась Эдите двоюродной сестрой.
— Может, у него в дороге колесо отскочило? — пошутил Эглит.
— Для очистки совести позвоню-ка в автоинспекцию, — сказал Йонат не столько потому, что сам поверил в несчастный случай, сколько для того, чтобы успокоить Эдите.
Позвонил. Сначала там не хотели отвечать, но потом сообщили, что на дороге Н. в ночь с воскресенья на понедельник дорожных происшествий не отмечено и вообще ни в воскресенье, ни в понедельник никаких происшествий на дорогах не зарегистрировано. Будьте здоровы.
Эдите вернулась к гостям.
Катрина завела мартышку, мартышка потешно прыгала по полу, била в полосатый синий барабан. Гости сидели полукругом в мягких креслах с коктейлями в руках. Говорили о том, о сем. Перебирали городские сплетни. Кто-то там развелся, кто-то женился, кто-то родился, кто-то умер. Кто-то спьяну начудил.
Следя за оживленным разговором, Эдите немного успокоилась.
Уж если бы и в самом деле с Эдмундом что-то случилось, эти люди не вели бы себя так беспечно и шумно. Недоброе предчувствие легло бы и на них. Чтобы не испортить светлого настроения именин, Эдите старалась выглядеть веселой. И все-таки ее не покидало чувство, что в жизни произошел какой-то перелом, что впредь она уж не сможет быть такой веселой и беспечной, какой была до сих пор.
Домой вернулась на такси. Квартира показалась пустой, неуютной, чужой и холодной. Спалось ей плохо, всю ночь терзали кошмары. Проснулась рано.
Решение было принято. Едва дождавшись семи часов, она позвонила своему начальнику.
Юлий Новадниек еще спал, и к телефону подошла жена.
— Доброе утро. Говорит Эдите Берза. Попросите, пожалуйста, товарища Новадниека.
— Хорошо, одну минутку, — сказала жена.
— Кто там звонит чуть свет? — проворчал Новадниек. — Ах, Эдите Берза! И чего ей приспичило в такую рань? Никогда от них нет покоя.
И он пошел в ванную прополоскать рот, ибо полагал, что неприлично разговаривать с людьми по телефону, не прополоскав рот.
— Да, слушаю, — сказал он немного погодя, проглотив остатки воды.
— Товарищ Новадниек, — проговорила Эдите, — я бы хотела получить свободный день.
— А я-то думал, хотите проверить, во сколько я встаю! Вопрос настолько срочен? Ради этого звоните ни свет ни заря? Не могли потерпеть до девяти? Когда вам нужен свободный день?
— Сегодня.
— Сегодня? О чем вы думали раньше? Что за причуды, что за капризы! Вы же знаете, работы невпроворот. Что там у вас стряслось?
— Это я объясню потом. Свободный день совершенно необходим.
— Хорошо. Но только один день. Чтобы больше это не повторялось. И постарайтесь не звонить мне до работы. Служебными делами я занимаюсь в служебное время. Всего хорошего. Привет мужу.
В половине девятого Эдите купила на Рижском вокзале билет, села в поезд. Через два часа она сошла на маленькой станции.
Дорога слегка пылила. Желтели сжатые поля. Эдите споро шагала, и вместе с тусклым осенним светом в душу закрадывались грусть и беспокойство.
Отец или мать Эдмунда?
Кого-то из них не стало. Прожита жизнь, желтеет нива. Смерть осенью. Скорее всего — отец. Вечно жаловался на сердце, ломоту в костях, спазмы в желудке. Мать держалась да еще над отцом посмеивалась:
— Это у тебя от нервов. Нервы у тебя совсем никудышные.
А может, мать? Крепкие, они-то и уходят нежданно-негаданно.
И случилось это осенью, подумала она, сворачивая на проселок. Осенью, когда время как бы приостанавливается, когда тепло и холод соразмеренны, когда дни и ночи одинаково тихи, когда дозревают плоды, когда в природе наступает равновесие — осенью смерть не кажется столь бессмысленной, тогда смерть все равно что сон, сон природы, впадающей в зимнюю спячку.
Итак, отец. Скорее всего он. Вечный труженик, несмотря на преклонный возраст, продолжал работать в колхозе и дом содержал в порядке. На дворе всегда чистота, любо поглядеть. На всех постройках исправные крыши. Дрова на зиму напилены, наколоты. Скотине добрые корма заготовлены. Да, дров на зиму припас, а сам отойдет в вечный холод. Теперь бы и пожить в свое удовольствие. Пришли в себя, оправились после войны и тяжелых лет, дом обставили. Сына вырастили…
С такими, несколько сентиментальными мыслями Эдите вошла во двор хутора «Плены». Ей навстречу с лаем выбежал пегий пес. Признав ее, на радостях заскулил.
На крыльце, сложив руки под передником, появилась мать.
— Ты, дочка! — от удивления хлопнула в ладоши, и облачком взметнулась мучная пыль.
Значит, отец. Все-таки отец. Бедная мать! Ставит тесто. Пироги к поминкам. А с виду и не скажешь, что горем убита, и слез на лице не видать, только удивление сквозит во взгляде.
Вслед за матерью вышел и отец. Своей обычной, слегка припадающей, прихрамывающей походкой.
Эдмунд! — в тот же миг промелькнуло в голове у Эдите. Где же в таком случае Эдмунд? Где машина? Уехал. Но когда. Почему задержался? В голове полная сумятица. Она рада видеть стариков. И тот и другой живы-здоровы. Что же с Эдмундом? Ну, ошиблась. Ах, как неловко. Старикам об этом говорить не стоит, еще на смех поднимут. Ишь ты, хоронить их вздумала. А Эдмунд, наверное, уже в Риге. Сгоряча приехала.
— Заходи, дочка, заходи, — добродушно говорила мать, — я только-только тесто завела, прямо как знала, что на блины пожалуешь.
Немного погодя, когда на раскаленной сковородке в кухне зашипел брошенный матерью желтый ком масла, Эдите узнала, что Эдмунд выехал от них в ночь с воскресенья на понедельник. Примерно в половине одиннадцатого.
Но в отличие от Эдите старики по поводу исчезновения Эдмунда не проявили особого беспокойства. Им казалось вполне естественным, что сын на денек где-то задержался. Мало ли у мальчика забот? Машина-то новая, может, решил прокатиться, приятеля навестить. Мать слегка даже посмеивалась над невесткой, вот, мол, паникерша. И чего себе в голову вбила? Охота по таким-то пустякам шум поднимать? Надо же, из города прикатила. Да разве нынче мужья пропадают? Вот раньше — по неделям в корчмах загуливали, даже песня была такая: «Быка хозяин продал, все деньги с горя пропил». Жена и знать не знала, где искать, а все равно не волновалась. Никуда не денется, придет домой как миленький. Нет, сейчас не слыхать, чтобы кто-нибудь взял вот так да пропал. Оно, конечно, — Эдмунд непьющий. Только могут же быть у него свои дела… Мать сыпала скороговоркой, пекла блины, угощала невестку, подкладывала на белую тарелку варенье из черной смородины.
Отец, сидя у плиты на чурбаке, попыхивал трубочкой, поворачиваясь к огню то спиной, то боком.
Эдите показалось, что родителям известно что-то такое, чего ей не хотят говорить. Может, они знают, где Эдмунд, да помалкивают. Свекровь никогда не питала к Эдите особых симпатий.
— Юла, сущая, а не женщина, — так она отзывалась о ней не раз. — И на лыжах с гор сломя голову носится, да не просто как люди, а все петлей норовит… Разве пристало такое жене-то порядочной!
А свекор? Он всегда был добр, предупредителен, а тут отмалчивался. Не нашелся, чем ее успокоить, только сказал:
Не горюй, дочка, вернешься домой, а уж он тебя небось дожидается. Мало ли что в дороге случается, не стоит тарарам поднимать.
Пополудни она вернулась в Ригу, так ничего и не выяснив. Но тревога отчасти улеглась. Ей казалось, что старики неспроста все приняли так спокойно. Должно быть, Эдмунд уже дома и названивает во все стороны, разыскивая ее. Ничего, пускай позвонит. Проходя мимо соседнего двора, Эдите разглядела за зелеными насаждениями молодую женщину. Та внимательно посмотрела на нее. Эдите запомнились белая шея, загорелое лицо и темные, волной спадавшие волосы.
Она всегда завидовала таким волосам.
От одной мысли о сопернице, другой женщине у нее захватило дух и в сердце опять закралась тревога.
Эдмунд и Эдите учились на одном курсе. Их любовь росла и крепла с годами. Эдите знала, что до нее у Эдмунда было одно серьезное увлечение, но с ним покончено раз и навсегда.
Хотя весной ей передали, что Эдмунд с той женщиной как-то обедал в кафе «Лира». Всегда найдется всевидящий глаз, словоохотливый язык, какая-нибудь доброжелательница, которая тебе возвестит: «А знаешь, твой обедал вместе с той… ну, сама знаешь, о ком я говорю. Я-то думала, между ними все давным-давно кончено. Уж от твоего никак такого не ожидала!»
Она и в мыслях не допускала, что Эдмунд ей способен изменить. Но тут росточек сомнений проклюнулся и, питаемый соками неизвестности, разрастался пышным цветом. А разве в себе она абсолютно уверена? Не помышляла ли порой об Ирбе? Сумей Ирбе увлечь ее по-настоящему, устояла бы она перед искушением? Правда, Ирбе был робок, нерешителен, может, потому между ними ничего до сих пор и не было. Что ни говори, а пока она не знала более достойного человека в супружестве, чем ее Эдис. Их совместная жизнь держалась на привычке, на дружбе, излюбленных ласках. Но была ли она абсолютно уверена в самой себе?
Кто эта женщина с соседнего двора? Что означали частые отлучки Эдмунда в деревню? Он объяснял их тем, что помогает старикам отделывать чердачный этаж. Когда чердак был отделан, муж сказал, что собирается наладить центральное отопление. Вечно у него в деревне находились заботы. Но кому же не известно, что он терпеть не мог эти самые хозяйственные заботы. Сомнения грызли, терзали сердце. Что она знала о муже за восемь супружеских лет?
Эдите жалела, что не родила от Эдмунда ребенка. Ребенка они постоянно откладывали на будущее. Сначала хотелось обзавестись всем необходимым, получше устроить свою жизнь. Они полагали, что, когда ребенок подрастет, он, чего доброго, начнет их попрекать — мол, произвели на свет, а материально не обеспечили. Потому и старались обзавестись добром, обставиться как можно лучше.
Пылесос, телевизор, холодильник, магнитофон, квартира, одежда, мебель, машина, моторная лодка, дача — все это им хотелось иметь. Дачи, правда, пока не было. Но родительский хутор стоял в прекрасном месте, у реки, и служил отличной дачей. Если бы не скрытое недоброжелательство свекрови, Эдите проводила бы там каждое воскресенье. Теперь же по воскресеньям она чаще оставалась в городе, убирала квартиру, стирала белье, шила.
Ребенок был у них запланирован на осень. Эдите хотелось, чтобы ребенок родился в июле. Она надеялась на сына и собиралась воспитать из него выдающегося человека. И вот теперь, когда бы и зачать ребенка, Эдмунд взял и скрылся, не сказав ни слова. Может, сбежал 0 любимой женщиной, и теперь они милуются где-то? Может, потопил машину в озере, а сам махнул на Дальний Восток? От Эдмунда жди чего угодно, никогда не знаешь, что он сделает через минуту, подчас его поступкам не хватало логики. Очень уж капризен. И вообще какой-то взбалмошный. Но, может, она в запальчивости к нему несправедлива? В самом деле, она зла на него. И пока ехала в поезде, злости еще прибавилось. Наверняка Эдмунд дома! Она-то, дурочка, с ног сбилась, а во всем виноват он один.
Потом уж, поостыв, Эдите стала рассуждать спокойней.
В свободные дни Эдмунд любил поваляться в постели. Обожал бездельничать. Смотрел подряд все футбольные матчи по телевизору, независимо от того, интересна игра или нет. Смотрел подряд все фильмы о войне, независимо от того, правдивы они или нет.
Но работу свою выполнял безупречно, не давая поблажек ни себе, ни своим подчиненным. Когда речь заходила о работе, его ум становился гибким и цепким. Умел найти выход из любого тупика. Умел так поставить дело, что длинная цепь служебных инстанций работала на него. Умел добиться для мастерской различных уступок и облегчений. Неожиданных преимуществ. Для своих строек умудрялся раздобыть дефицитные материалы. Умел очаровывать людей, от которых зависел. Вызывать симпатии.
Как только речь заходила о работе, Эдмунд преображался. Не узнать было сони и лодыря, который воскресными днями пролеживал диван, не желая пальцем шевельнуть, чтобы починить неисправный подвесной мотор, в то время как Эдите куда-то мчалась, звонила, клянчила, уламывала мастера, доставала запасные части. Все свободное время без остатка носилась она как угорелая, приводя в порядок то дом, то лодочный мотор, и лишь когда все было готово, этого лодыря удавалось посадить за руль, чтобы покатал ее по озеру.
Достижением было уже и то, что он получил водительские права. Нипочем не хотел связываться с автомобилем, считал его излишеством, и только под напором, по настоянию Эдите муж поступил на шоферские курсы и с помощью всяческих знакомств благополучно преодолел экзаменационные барьеры.
Эдите знала, что охотней всего он бы жил так:
В комнатушке с ковром, на широком диване, в тепле, у телевизора, приемника, магнитофона, рядом с полкой книг, пластинок, магнитофонных записей, кинолент, им самим отснятых. И чтоб не нужно было мыться, бриться, ходить в парикмахерскую, менять носки, чтобы не нужно было стричь ногти, чистить одежду, а изо дня в день носить одни и те же джинсы с заклепками да жеваную грязную рубашку. И чтоб не надо было ходить в кино, в театр, в гости, ходить только на работу, а все остальное время валяться на диване.
С некоторых пор коньяка он не пил, сигарет не курил. Отказался от сытных обедов. Жевал себе черный хлеб, запивал кефиром. У него, видите ли, благородный недуг— подагра. Иногда он играл в теннис, зимой катался на лыжах. Человек довольно странный, а во всем остальном — прекрасный муж и мужчина, если бы только не эта инертность, когда речь заходила о чем-нибудь ином, кроме работы.
В житейских вопросах Эдмунд чувствовал себя совершенно беспомощным. Эдите была уверена, он дня не проживет без нее. Это она, Эдите, следила за тем, чтобы муж не утратил человеческого облика, она гладила его одежду, относила белье и сорочки в прачечную, мелкие вещи стирала сама, это она делала закупки, распоряжалась семейным бюджетом, она мыла, лелеяла и холила тело мужа, заботилась о его весе, диете, напоминала этому увальню, когда время вставать, есть, пить, спать, любить.
По воскресеньям он часами мог валяться на диване в полусне, в полудреме, не почистив зубы, не умывшись — ну, прямо хорек. Если ей случалось к нему обратиться, он отвечал, что думает.
Может, он и вправду обдумывал очередной проект, а может, просто витал в облаках, угадать ход его мыслей было невозможно.
Точен он бывал единственно в том, что касалось работы. В остальном на него нельзя было положиться. Вечно он все забывал, отнекивался, отказывался сделать хоть что-то для дома. Мелкие дела и ремонты ложились на плечи Эдите. Эдмунд разработал уникальный метод, чтобы отмахнуться от своих обязанностей. Он неизменно со всем соглашался, клялся, что принесет, привезет, достанет пойдет, устроит, но обещаний не выполнял.
Само собой разумеется, у него имелась и вполне мотивированная теория о том, что в условиях двадцатого века человек, занятый творческой работой, отдается ей целиком и полностью, как раб хозяину, а жизнь и без того коротка, чтобы размениваться на пустяки, чего-то стоящего можно добиться лишь в одной отрасли, постоянно углубляясь, а не растекаясь вширь. На все прочее ему попросту наплевать.
Иногда он замыкался в себе, делался угрюмым, неразговорчивым, часами сидел, не проронив ни слова, а если она обращалась к нему, бурчал в ответ:
— Оставь меня в покое, я занят.
Иногда лишь из-за того, что не вовремя его потревожила вопросом, он свирепел и мог два дня подряд не разговаривать, а потом, когда Эдите сама начинала сердиться, вдруг разыгрывал удивление.
— Ты чего это, женка, дуешься?
Короткая у него была память в таких случаях.
Иногда он сидел за столом, с увлечением читая что-нибудь о проблемах дизайна, и вдруг ни с того ни с сего вскакивал, хватал ее в охапку, принимался тискать, теребить, нашептывая:
— Ах ты, пчелка моя сладкая!
Валил Эдите на диван, боролся с нею, держал ее крепко, отчего она злилась еще больше, ибо в тот момент была совсем не расположена. Даже стукнула его однажды туфлей по голове, отражая чересчур страстные домогательства. После он долго сидел пригорюнившись, обхватив руками голову, а на следующий день припрятал ту пару туфель. Вернул только через неделю, после настоятельных просьб Эдите.
Он ей не раз говорил:
— В супружеской жизни бывают двоякого рода ссоры. Частые, но мелкие. Или редкие, но крупные. Так что выбирай!
— Я не хочу никаких ссор, — отвечала Эдите.
— Это невозможно, — возражал он. — Рассуди сама: если ты выберешь частые, но мелкие ссоры, а я выберу редкие, но крупные, покоя нам вообще не видать. Давай уж сразу условимся. А совсем без ссор не обойтись.
Иногда на имя Эдите приходили странные открытки за подписью «Мумий». Помнится, на одной был нарисован умывающийся мишка, а внизу стояло:
«Мойся, мишка, ждет тебя пышкя!»
К этому от руки добавлено:
«Дорогая, напоминаю, что на восьмой год нашей счастливой супружеской жизни я сам умываюсь каждое утро. Мумий».
Иногда, вернувшись с работы, он с пресерьезным видом начинал рассказывать совершенно дикие вещи. Например, будто он только что видел, как офицер-араб верхом на верблюде въехал в ворота военного комиссариата, или что в Старой Риге градом убило двух кошек и дворника в ушанке из кошачьего меха.
У него было редкое свойство раньше времени не обнаруживать своих чувств и мыслей. С умным видом он умел поддакивать очевидным глупостям, потакать всяким розыгрышам. Если кто-то нес вздор и околесицу, сам при этом оставаясь в заблуждении, Эдмунд прикидывался этаким простачком. Он любил вышучивать людей. Делал вид, будто соглашается с заведомо вздорными взглядами, только кое-чего не понимает и посему просит разъяснить поподробней, в главных-де чертах ему все ясно, но вот однажды подобный же взгляд он пытался отстаивать в узком кругу и не смог привести достаточно убедительных доказательств.
И с выражением сочувствия Эдмунд начинал задавать вопросы. Защитник нелепых взглядов при виде такой заинтересованности пускался в подробности, однако простенькие с виду вопросы Эдмунда на самом деле были столь же безжалостны, как удары клинка, и очень скоро незадачливый собеседник обнаруживал себя распотрошенным в пух и прах. И тогда Эдмунд благодушно хлопал его по плечу со словами:
— Ну, вот видишь, а я-то думал, мы с тобой правы.
В студенческие годы он занимался в драмкружке, играя характерные роли. Он умел вжиться во всякую роль, изобразить любую страсть — стяжательство, безумную любовь, роковое заблуждение или иную маниакальную идею.
В трамвае, если вдруг становилось скучно, он мог нежданно-негаданно завопить, будто ему отдавили ногу, после чего скакал по вагону, дрыгая якобы отдавленной ногой, вопрошая окружающих:
— Это вы наступили? Нет, правда, не вы? Да кто же в конце концов виноват? Черт знает что!
Эдмунд мог без удержу дурачиться, паясничать, когда они оставались вдвоем.
Работая над чертежом, он имел обыкновение мерзким тонюсеньким голоском гномика причитать:
— Хорошая работка, очень хорошая, спорится наша работка, вот закончим, заплатят нам денежку, много-много хороших денежек!
Он повторял на все лады такие и тому подобные фразы и при этом гадко сипел придушенным горлом, выговаривая в нос слова. И вдруг ни с того ни с сего вскакивал с места и, точно крыльями, замахав руками, восклицал:
— Полетели, полетели!
И подтягивал живот чуть ли не к позвоночнику, с силой выдыхая воздух. Потом, набрав полные легкие, распирал брюхо наподобие барабана. А заканчивал стойкой на голове.
И опять садился за подрамник. Такое случалось вечерами, когда он работал дома, облачившись в замусоленную, мятую рубаху, в брезентовые джинсы с заклепками.

Любил он расхаживать босиком по квартире, немалого труда стоило заставить его надеть башмаки, когда приходили гости. И на работу не раз порывался уйти в каких-нибудь опорках, которые разве в насмешку можно было назвать ботинками, но ему, видите ли, в них удобно.
Когда Эдите вышла с вокзала, на бетонные плиты площади упали первые капли дождя.
Потом она стояла на трамвайной остановке, и дождь стекал за воротник. Еще с вокзала она позвонила домой, но к телефону никто не подошел. Исчезни Эдмунд в субботу или воскресенье, Эдите нисколько бы не волновалась, но она знала, что за семь лет муж ни разу не опоздал на работу. Будучи страстным лыжником, он без особых сожалений покидал горные трассы Терскола, чтобы вовремя вернуться в свою мастерскую, даже не помышляя продлить отпуск.
В трамвае кто-то уступил ей место. Такое случилось впервые. Взглянув в оконное стекло, она разглядела свое отражение и про себя отметила, что выглядит бледной, красивой, большеглазой, рот такой сочный, кожа матовая. А она-то думала, что на ней лица нет.
Был вечер вторника.
Придя домой, Эдите переоделась во все сухое и долго сидела у телефона, раздумывая, кому бы позвонить. Она охотно поговорила бы с отцом, но отец уехал в Таллин на какой-то симпозиум, обещал вернуться в конце недели. Матери звонить не хотелось — с ней пришлось бы долго объясняться.
И уж тем более не хотелось говорить ни с кем из подруг.
Когда приглушенно зазвонил телефон, она даже решила сначала не снимать трубку. А вдруг Эдмунд вздумал подать о себе весть? Но это звонил Йонат. Осведомившись об Эдмунде, наказал ей завтра же заявить в милицию. Расстраиваться не стоит, однако, может, в самом деле с Эдмундом что-то случилось. Будем надеяться на лучшее. Ну, конечно, что еще он мог сказать?
Эдите и Эдмунд поженились на последнем курсе, ей тогда исполнилось двадцать два года, Эдмунд был на пять лет старше. Восемь совместных лет жизни провели они в непрерывной борьбе с бытом, в борьбе за свое благополучие, и вот теперь, когда, казалось бы, можно пожить без забот и в свое удовольствие, когда достигли того, о чем мечтали, когда настало время родить сына, Эдмунд взял и куда-то исчез.
Эдите не верила, что Эдмунд с другой женщиной. Тогда бы он явился на работу. В свое время они оговорили такую возможность. Уж, конечно, он, верный данному слову, обо всем бы рассказал без утайки, чтобы избавить ее от лишних волнений и тревог.
Ночью ей не спалось. Едва уснув, проснулась от того, что провалилась в какую-то яму, а задремав, увидела во сне больничный коридор.
Серые прямоугольники света ложились на бетонный пол коридора, где шлепанцы больных за долгие годы протоптали неровные борозды, колеи, щербины. Совсем как слаломная трасса на склоне горы, когда глядишь на нее с самолета. По коридору гулял сладковатый запах пропитавшихся йодом халатов и ватных одеял. Пахло потом, мочой, карболкой. И еще — влажным гипсом.
Шуршали накрахмаленные халаты сестер, санитаров, кативших тележку с больным. Резиновые шины мягко пружинили на неровностях пола. Эдите не успела разглядеть, кого провезли на тележке. Но везли из операционной. Эдите проснулась.
К чему бы это? Ей хотелось объяснить увиденный сон, хотя Эдите по натуре была далеко не суеверна.
Она опять закрыла глаза и увидела гору, сверкавший на солнце снег, ощутила головокружительную скорость и отрезвляющую крутизну склона, увидела и других лыжников, разноцветной вереницей несущихся вниз, услышала, как высвистывают лыжи на поворотах. Она только-только начинала спуск, в местах пологих выписывая безупречные дуги, ровные, красивые, на кругах же частила «гирляндой». Ноги принимали на себя толчки, когда лыжи, слетая с укатанных бугорков, плюхались в снег.
Гора производила неизгладимое впечатление — заснеженной вершиной подпирала облака, зубчатыми скатами срывалась в долину.
Эдите удивлялась, куда девался Эдмунд, при спусках он всегда шел впереди.
Ах да, Эдмунд разговаривает с хозяйкой, у которой они снимали койки Хозяйка рассказывала своим приятным мягким голосом:
— Что ни сезон — на горе три трупа. Должна предупредить, в этом сезоне два уже были, дело за третьим. Имейте это в виду. Не летите очертя голову. Обычно бывает так: двое съезжают с двух разных сторон, наперерез друг другу, ну и сшибаются, и тот, у кого скорость больше, убивает того, у кого скорость меньше. И что ни сезон — двадцать девять винтообразных переломов. Очень трудно заживают. В этом сезоне двадцать семь переломов уже было, еще два на очереди, имейте это в виду. И каждый день по два вывиха. По субботам, воскресеньям, когда народу собирается побольше, тогда вывихов три, а то и все четыре. А вообще-то, разве ж это много для такой горы, для сотен лыжников.
Эдмунд со всей серьезностью отвечал хозяйке:
— Антонина Петровна, в будущем сезоне народу прибудет. Все надежды по части жилья возлагаем на частный сектор. Было бы неплохо устроить койки в два этажа. Хотите? Я спроектирую! Поставим подпорки, сколотим нары, и полтора рубля в сутки с человека обеспечено, ведь у вас помимо всего прочего имеется еще и ватерклозет.
— Да, — не без гордости отозвалась хозяйка, — у меня ватерклозет. И очень удобный, на крюке всегда тряпочка, в случае чего крышку можно вытереть. Тряпочку меняю каждый день. Оправились — спустили воду. Бумагу в толчок попрошу не бросать. Рядом корзинка, ежедневно опорожняется. Может случиться, спустите воду, что-нибудь да останется, так за ванной спрятан горшок, подставьте под кран, потом плесните — и опять чистота и порядок.
Эдите рассмеялась во сне. В двух комнатах хозяйка умудрялась разместить девять человек, а сама с детьми и мужем в разгар сезона ютилась на кухне. Эдмунд был самым отзывчивым ее собеседником, и хозяйка, проникшись к нему доверием, сообщила под большим секретом:
— В ванну можно напустить и теплой воды. Правда, сначала придется отключить на кухне электричество, иначе током убьет, потом заверните маленький краник, а большой откройте. Когда внутри забулькает, опустите книзу эту ручку, и вода пойдет.
— За это я вам буду платить рубль пятьдесят пять копеек в сутки! — весело заметил Эдмунд.
Нет-нет, ничего с ним не случится, в полудреме подумала Эдите. Слишком хорошо он разбирается в людях, в решающий момент сумеет ввернуть нужное словцо. А уж там заговорит любого злодея. Ему всегда везет. Везет на горе, повезет и теперь, твердила она как заклинание. Даже ослик его слушался.
В поселке из-под снега обнажались кучы мусора, весна снимала с земли белое покрывало. Ослы лизали разбросанные повсюду консервные банки, а один, самый упрямый, мог часами стоять посреди дороги, задерживая автомобили. Эдмунд раздобыл масляную краску и написал на ослином боку: «ГАИ».
Но даже в ГАИ не смогли сказать ничего определенного, подумала она, поднимаясь вверх на подъемнике. Сняла темные очки, посмотрела на блиставший под солнцем снег. Будто раскаленным оловом заливало глаза. И сквозь опущенные веки она чувствовала слепящий свет.
Может, Эдмунд ничего не видит? Ослеп?
Проснувшись, она подошла к окну. Внизу, на перекрестке, у трамвайных путей работали сварщики. Вспышки света долетали до третьего этажа. Эдите задернула шторы, опять легла.
Утром, в восемь, с больной головой и сумятицей в мыслях она позвонила своему начальнику.
— Кто это? — спросил Юлий Новадниек, надкусив бутерброд с колбасой.
— Эдите Берза. Влюбилась в тебя, не иначе. Второе утро подряд трезвонит. — И жена протянула Новадниеку трубку.
— Да, слушаю, — немного погодя заговорил Новадниек, прожевав колбасу.
— Я сегодня утром не смогу быть на работе, — сообщила Эдите.
— Как это — не сможете! Эдите, я вас не узнаю! Пожалейте меня, старика! Сохраните хотя бы иллюзию вашей былой пунктуальности. Что там у вас стряслось?
— Пропал муж. Пойду заявлю в милицию. Уехал на машине и не вернулся.
— Что вы говорите? Пропал! Давно ли?
— Третьего дня.
— Только-то! Может, он у родственников?
— Нет.
— Будем надеяться на лучшее. А не решил ли он проветриться, пошалить немного, а? Но в милицию сходите, обязательно сходите. Можете весь день быть свободны, раз такое дело. И обзвоните всех друзей в Таллине, Вильнюсе, Москве. Я и сам однажды сбежал на неделю. С женой поругался. Впрочем, вы-то как будто не ссоритесь?
— Нет.
— И как только все уладите, заходите ко мне, расскажете поподробнее. А я позвоню полковнику Силиню, это мой приятель, попрошу принять все возможные меры.
— Спасибо, — сказала Эдите. Такой предупредительности от старика она не ожидала.
— И не отчаивайтесь, Эдите, — добавил Новадниек, заканчивая разговор.
Аппетит пропал, он отодвинул чашку с кофе, бутерброд с помидором, бутерброд с сыром. Жена сгорала от любопытства.
— Что она тебе сказала? Что там у нее?
— Просто немыслимо, — проговорил Новадниек, — что подобные вещи случаются в наше время. Пропал человек! Да возможно ли такое?
Новадниек был из той породы начальников, которые пальцем не двинут, чтобы помочь своим подчиненным уладить те или иные бытовые неурядицы. Ему было безразлично, сыты ли его подопечные, одеты, обуты — лишь бы работа не страдала.
Новадниек был абсолютно равнодушен к житейским нуждам сотрудников, семейному бюджету, устройству детей в детский сад. По отношению к подчиненным Новадниек был тверд как кремень, и, зная характер начальника, позвонить ему в такую рань было чуть ли не геройством. Его боялись и в то же время уважали, а это было как раз то, чего он сам желал и ждал от подчиненных.
Но стоило кому-то из сотрудников обратиться к Новадниеку за помощью по части сугубо личных, более того, интимных дел, тут в Новадниеке разгоралось любопытство и желание помочь, причем нередко его помощь оказывалась действенной. И теперь, предполагая в исчезновении Берза интимные причины, он тотчас позвонил полковнику Силиню.
— Тут или убийство с целью ограбления, — сказал Новадниек, — и тогда горю не поможешь, хоть это и больше в твоей компетенции. Или он сбежал с какой-нибудь красоткой, что вероятней. В таком случае постарайся поскорей разыскать его, потому как моя лучшая сотрудница потеряла покой, отчего страдает дело.
Тем временем Эдите Берза из таксофона на почтамте обзвонила все упомянутые Новадниеком города, где у Эдмунда были друзья. И все впустую: Эдмунда нигде не оказалось.
В девять часов пять минут Эдите уже сидела напротив Валдиса Струги, разглядывая его маловыразительное лицо, серые глаза, слушая, как он бесстрастно диктует в телефонную трубку:
— Зеленого цвета легковой автомобиль, «Москвич-412», последней модели, номер? — И Струга повернулся к Эдите.
Она назвала номер, Струга повторил его в трубку.
Тут зазвонил второй телефон, и Струга прижал трубку к свободному уху.
— Да, товарищ полковник! — сказал он во вторую трубку.
— Она сейчас у меня. Доложу вам, как только приду к определенным выводам. В данный момент составляется анкета.
Струга повесил трубку, его лицо обрело выразительность, но то была чисто официальная выразительность. Его подгоняли, это ему не нравилось, его раздражали всякие понукания, протежирования и тому подобное. Но с этим приходилось мириться.
— Номер шасси, номер мотора, — проговорил он. — Впрочем, этого вы не знаете?
— Не знаю.
— Выясним в автоинспекции.
Уже были получены справки из морга, травматологической поликлиники. Просмотрен список задержанных лиц. И никаких следов Эдмунда Берза.
Анкета составлялась долго и утомительно.
— Рост?
— Метр восемьдесят.
— Вес?
— Семьдесят три килограмма.
— Цвет волос?
— Белесые.
— Глаза?
— Серые.
— Брови?
— Прямые, скорее светлые.
— Нос?
— Прямой, слегка вздернутый, немного скошен вправо, щеки впалые, рот — средней величины. Губы — полные, уши — обычные, средней величины.
Заурядный тип, про себя подумал Струга, продолжая делать отметки. Такой же заурядный, как я. И вес и рост совпадают. А вслух сказал:
— Прошу вас ответить как можно точнее, это особенно важно при опознании.
— Как вы сказали? — Эдите встревожило слово «опознание».
— Не думаю, что дойдет до этого, — словно извиняясь, поспешил добавить Струга. Словечко выскочило помимо воли. — Но как раз эти мелочи для нас много значат. Какие у него зубы? Есть ли вставные?
Теперь Струга убедился, что сидевшая перед ним женщина чувствительна по натуре. В разговоре с ней придется выбирать слова, а то, чего доброго, ударится в слезы. Струга избегал говорить «был». Более обнадеживающе звучали глагольные формы настоящего времени. Для нее он по-прежнему «есть», а не «был».
— Зубы? Две золотые коронки с правой стороны. Два передних зуба с пломбой.
— Где золотые коронки? Нельзя ли уточнить?
Господи, да когда же этому придет конец, подумала Эдите. Вместо того, чтобы сразу приняться за розыск, он изводит кипы бумаги. Но, должно быть, так нужно. Она напрягла память и сказала:
— Золотая коронка на малом коренном зубе с правой стороны, дальше — искусственный зуб, затем — опять коронка. И еще один вставной. Все с правой стороны. Но о расположении двух последних сказать не берусь.
— Шрамы? Есть у него какие-нибудь шрамы?
— На правой руке, у самого предплечья есть один шрам.
— Так, особые приметы, — как бы про себя обронил Струга.
— А как велик этот шрам?
— В ширину ладони. Потом еще на правой стороне живота, внизу — одним словом, там, где остаются шрамы после операции аппендицита.
Струга с известной долей симпатии посмотрел на женщину.
Она отвечала толково, сразу схватывая то, что от нее требовалось. А такое случалось не так уж часто.
— Операция была давно?
— Девять лет назад.
— Пальцы все целы?
— Пальцы у него все целы. Только во всю длину мизинца левой руки зубчатый шрам.
— Ну, так! Теперь скажите, какими болезнями он болел? Страдал ли от каких-либо хронических недомоганий?
Эдите задумалась. Она колебалась, представит ли интерес подобный пустяк для милиции.
— У моего мужа подагра, — наконец сказала она.
— Как — подагра? — встрепенулся Струга.
Болезни имели громадное значение. Иной раз труп находили изуродованным до неузнаваемости, но следы, оставленные болезнью, по-прежнему были на нем.
Струга в свое время разыскивал сердечников, разыскивал он неврастеников и психопатов, разыскивал ревматиков с отложением солей в суставах, разыскивал людей с язвой в желудке, с камнями в печени, разыскивал страдающих геморроем и диабетом, гнался по пятам за морфинистами и венериками, отыскивал пораженных экземой и раком. У каждого рано или поздно заводится своя болезнь, и человек носит ее при себе усерднее, чем паспорт. Подагрики попадались реже, а Струга в последнее время был особенно чуток к подагрикам, их он разыскивал истово, с жаром душевным, точно родных или близких. Он знал по себе боль и муки подагры. Что ни говори, а болезнь сближает, уж это точно, и в розыски подагриков Струга вкладывал гораздо больше рвения, чем требовала служба.
— Да, подагра, — повторила Эдите. — Это, знаете, болевые ощущения и деформация большого пальца на ноге. У него в том месте кость стала узловатой. Оттого он выбирал свободную обувь.
Струга ощутил в большом пальце правой ноги знакомую тупую, потягивающую боль и чуть ли даже неприятный зуд. У него-то кость пока не деформировалась. Только-только начинала. Оно и понятно — Берз на три года старше.
— Он курит? — спросил Струга.
— Нет, бросил.
— Бегать ему надо, — посоветовал Струга. — Очень помогает при подагре. Побольше движений.
— Он играет в теннис. Зимой — горные лыжи.
— А на лыжах хорошо катается? — спросил Струга исключительно из любопытства. Просто захотелось узнать.
— Зимой мы были на Кавказе, — уклончиво ответила Эдите.
— Где именно?
— В Терсколе.
— И как там горы?
— Посмотришь — дух захватывает. Местами отвесные, как стены. — Эдите впервые в это утро улыбнулась. — С нашими горами не сравнить.
Отклонившись от анкеты, разговор стал более непринужденным.
— Да, Терскол! — со вздохом мечтательно молвил Струга и глянул в окно. Золотые кроны лип на бульваре дымились в лучах солнца. — Ну, а теперь вернемся к нашим делам. Скажите, как он одет?
— Черные брюки в полоску, — Эдите говорила медленно, стараясь поточнее припомнить костюм мужа. — Темносерый пиджак, темно-серая шерстяная рубашка. Плетеный кожаный ремешок. Носки черные. Да, пожалуй, надел черные, хотя могу и ошибиться. Ботинки тоже черные, тупоносые.
При этих словах Струга опять вздохнул, но уже не мечтательно.
— Белье?
— Белье он не любил. Ни трикотажные рубашки, ни майки, а уж тем более теплое белье. Трусы и только. Больше на нем ничего не было.
— Плащ?
— Да, плащ серый, югославский, на клетчатой подкладке. Подкладка в черно-красную клетку — как шотландский плед. На молнии.
— А что в карманах?
— Ничего особенного. Автомобильные документы. В бумажнике — паспорт. Членская книжка Союза архитекторов. Рублей сорок денег. Еще самописка, перочинный ножик, носовой платок, клетчатый. Наверное, пол-дюжины карандашей, записная книжка, пара фломастеров. Возможно, он все это держал в малом багажничке. Возможно, по карманам были еще кое-какие мелочи. Не знаю.
— Военный билет?
— Нет, военный билет при себе не носил, по-моему, он и сейчас лежит в ящике стола, хотя не проверяла. Это важно? Приду домой, посмотрю и позвоню вам.
Струга пробежал глазами отмеченные данные. Теперь Эдмунд Берз, словно живой, стоял у пего перед глазами. Но пока прояснилась только внешность. Характер, привычки, наклонности, взгляды на жизнь — это еще оставалось скрытым.
— Каков его месячный оклад? — осведомился Струга.
— Сто восемьдесят рублей, — ответила Эдите.
«У меня почти такой же», — подумал Струга.
Архитектор Берз занимал довольно видное положение. Навряд ли бы он решился на легкомысленное приключение. Тут причина поважней. Чутье подсказывало Струге, что дело серьезное. Однако какие на то основания? Да никаких. Всего-навсего необъяснимое чутье криминалиста.
Итак, Берз пропал в ночь с воскресенья на понедельник?
Как жаль, что она сразу не заявила в милицию. Ну, конечно, решила, что муж просто задерживается. Таким образом, преступники имели в своем распоряжении два дня, нынче пошел третий.
А впрочем, не опережает ли он события, усматривая здесь преступление? Быть может, копнешь поглубже, а дело-то окажется пустяковым.
Надо все хорошенько проверить. Однако придется запустить громоздкую машину розыска. Струга почувствовал, как в нем просыпается привычная энергия и жажда действия. Утреннего дурного настроения как не бывало. Вчерашняя ссора с женой канула в вечность. Он поднялся проводить Эдите Берз до двери. Похоже, и подагра до поры до времени отступилась.
III
Посоветовавшись с капитаном Пернавом, Струга решил ночью проделать весь путь от хутора «Плены»
до рижской квартиры Берза.
Машину Струга водил достаточно хорошо, чтобы обойтись без шофера. Ему хотелось проехаться одному. Струга отправился на служебной машине.
На хуторе «Плены» старики в огороде копали картошку. Сивая кобылка щипала траву на меже. Плуг стоял в начале невскопанной борозды. В серебристо-темной земле белели клубни.
Струга разулся и босяком пошел к старикам. Земля была рыхлая, теплая, ноги по щиколотку утопали в ней.
— Добрый день! — бодро начал Струга. — Не найдется ли у вас лишней корзинки помощнику?
Отец копал картошку, опустившись на колени, подложив под себя мешок. Спину ломит, больно сгибаться, а ползти на мешке — так оно полегче. Позади него оставался широкий след, но искать после него картошку было бесполезно, старик выбирал подчистую, даже мелочь. Жена была проворнее, двигалась полусидя, полустоя.
— Больно ты торопкая, — сердился муж, — вон сколько картошки пропускаешь.
В самом деле, поворошив землю, он нашел два клубенька.
— Вы поглубже поддевайте, — наставлял старик Стругу, — она в глубине сидит, лемех-то мелкий, не достает.
Струга допоздна проработал на хуторе, беседуя с родителями Берза. Руки и ноги от земли стали черными, корзинки одна за другой наполнялись. В воздухе пахло осенью, журавлиными кликами. Струга многое разузнал о детстве Эдмунда Берза, о его привычках, наклонностях, увлечениях, и теперь имел более полное представление о пропавшем.
По соседству с «Пленами» было еще четыре хутора. Разумеется, тут все знали Эдмунда Берза, гордились тем, что он пошел в гору, стал известным архитектором в столице республики.
Вечером, умывшись, пообещав вернуться к ужину, Струга отправился на хутор «Ажкаи». Стариков оставил не на шутку встревоженными. Раз уж в дело вмешалась милиция, значит, с их Эдинем и вправду стряслась беда. Но о теперешней жизни сына родители мало что могли рассказать.
В «Ажкаях» жили две сестры да еще муж старшей. Все трое пенсионного возраста. Женщины ходили по грибы и по ягоды, пололи огороды, возились со скотиной, а хозяин числился в колхозе кровельщиком.
Струга подсел к широкому кухонному столу. Скобленая скамейка пошатывалась на неровном земляном полу. Топилась плита. В котле булькало варево для свиней. Потолок прокоптился дочерна.
Я ведь такой человек, за словом в карман не полезу. Так и знайте: коли правда, по мне трава не расти, все начистоту выложу, — говорила старшая сестра. — Так и знайте: в соседний дом ходить незачем, поезжайте прямо в «Спрунги». К Маре. Она у нас садовницей в колхозе. Она вам, может статься, кое-что и порасскажет.
— И чего ты, Лайма, на людей напраслину возводишь, — спокойно возразила младшая сестра. — Какое Маре дело до Берза. Она сама к зиме свадьбу сладит.
— Есть ей до Берза дело или нет, — многозначительно молвила старшая, — только они вместе на речке купались. Сама видела. Я ведь такой человек — все вижу, глаза держу открытыми.
Муж ее сидел напротив Струги, держа папиросу в просмоленных пальцах. В разговор не вмешивался, по слушал с явным удовольствием.
— Да где ж им еще купаться, тут на всю округу одна купальня, — сказала младшая сестра.
— Одна иль не одна, а ты лучше скажи, куда делся Марин жених? Две недели носа не кажет! Мне-то что, только они рядышком на одной подстилочке полеживали, уж это точно. Я ведь такой человек — иду мимо, одним глазом глянула — лежат рядышком на подстилочке, Эдмунд и Мара. Садовницей она у нас в колхозе…
Струге показалось, что Мара сообщит ему нечто важное. Интуиция. Непростительно, однако, полагаться лишь на интуицию. Криминалист обязан руководствоваться фактами, на одной интуиции далеко не уедешь. Даже если интуиция обостренная, как нюх у ищейки.
Полы в доме Мары блестели лаком. Просторный стеллаж, тесно заставленный книгами. Накрахмаленная скатерть. Темно-фиолетовые астры в глиняной вазе. Пестрый ковер. Дорожки. Потолок отливал синеватой белизной.
Мара сидела в плетеном кресле, сложив руки на коленях. Лет двадцать пять, больше не дашь. Непринужденная поза. Расслабилась, как разомлевший зверек. Что-то в ней проглядывало дикое, порывистое. И какая-то пронзительная ясность во взгляде. Может, простодушие?
Рассказ ее лился свободно.
Окончила техникум садоводства в Булдури. В колхозе есть где применить полученные знания. Живет одна. Да, у нее жених. Свадьба назначена на зиму. Эдмунд Берз? С архитектором она познакомилась у купальни.
Должно быть, хорошо плавает, подумал Струга. Когда Мара поднялась притворить окно, он отметил, что у нее почти нет талии. Тело округлое, обтекаемое, как торпеда, бедра одной ширины с плечами. Скользит в воде, не встречая сопротивления.
— Эдмунд очень интересно рассказывал об архитектуре, — сказала Мара, упирая на слово «очень». — И сам он очень забавный. Никак не поймешь, когда говорит всерьез, когда в шутку. Он учил меня рисовать.
— Вы часто встречались?
— Почти каждую субботу и воскресенье, когда он приезжал.
— А ваш жених? Он встречался с Берзом?
На щеках у Мары выступил румянец.
— Нет. Мой жених ни разу не встречался с Берзом. Мой жених человек очень занятый. Такая у него работа.
На этот раз она сделала упор на слово «такая».
— Но он знал о ваших встречах с Берзом?
— Если это вас интересует, — ответила Мара, отчеканивая каждый слог, — могу сказать. Я поссорилась со своим женихом, и вот уже две недели он не появляется.
Струга задал следующий вопрос:
— Из-за чего вы поссорились?
— Он ревновал меня. Не хотел, чтобы я купалась с Эдмундом. А сам плавать не умеет. И не желает учиться. Он не хотел, чтобы мы с Берзом говорили об архитектуре.
Возможно, это наводчик. Струге показалось, что развязка близка.
— Попрошу вас назвать имя и фамилию вашего жениха. Где живет, чем занимается.
— Моего жениха зовут Карлис Динцан. Живет в Риге, работает в Комитете госбезопасности.
Карлис Диндан. Комитет госбезопасности. Струга был преисполнен уважения к этому учреждению. Работнику уголовного розыска не подобает учинять допросы невесте сотрудника Комитета госбезопасности. И с любезной улыбкой Струга поспешил откланяться.
На двух других соседних хуторах не удалось разузнать ничего примечательного.
В половине одиннадцатого, плотно поужинав, по возможности утешив обеспокоенных стариков, Струга выехал с хутора «Плены». Собака лаем проводила его со двора.
Машина с проселка свернула на большак. Вдоль дороги тянулся мрачный еловый бор. Струга ехал медленно, включив дальний свет. Скорость не превышала шестидесяти километров.
Струга рассудил, что по такой дороге можно было бы ехать и со скоростью в восемьдесят километров: дорога гладкая, укатанная, сухая. Однако той ночью был туман— с воскресенья на понедельник. Это отмечено метеослужбой. Так что Берз навряд ли ехал быстрее.
Лес расступился. Впереди показался железнодорожный переезд.
Шлагбаумы с обеих сторон были опущены. Струга знал: переезд незакрытый. Проезжая в первый раз, он убедился в этом.
Остановил машину. Поднял шлагбаумы. Взглянул на часы. Без пяти одиннадцать.
Светила полная лупа. Невдалеке одинокий хутор тонул среди посеребренных кленов. Мир, казалось бы, затих, затаился в ожидании. Где-то затарахтел мотоцикл. Может, здесь, у переезда Берз кого-то взялся подвезти, и кончилось это трагично.
Струга перебрался через полотно. Опять опустил шлагбаумы.
Через километр дорога круто повернула, затем начался подъем. Тем временем машина миновала еще два хутора. Что может быть проще — встать у дороги, проголосовать, и вот уж Берз везет убийцу. Так представил себе Струга ночное происшествие. Надо будет разузнать, кто живет на этих хуторах, подумал он.
Петляя среди разросшегося кустарника, дорога поднялась на взгорье, затем столь же круто стала спускаться. Струга сбросил газ. Он уже проезжал по этой дороге, но запомнить все повороты, перевалы, удержать в голове подъемы и спуски — для одного раза трудновато. Притом ночью все казалось таким странным, лунный свет скрадывал расстояние.
Струга ехал с ближним светом, пытаясь себе представить, как дорога выглядела в тумане. Теперь средняя скорость не превышала тридцати километров в час, иногда падая до двадцати — на поворотах, где к обочине подступали кусты и деревья. Возможно, Берз, отлично зная дорогу, в такую ночь ехал бы быстрее, но в тумане он никак не мог ехать быстрее.
Временами приходилось сбавлять скорость до пятнадцати километров в час — разве это скорость? В одном месте у Струги даже дух захватило, он притормозил перед крутым спуском. Перейдя на вторую скорость, Струга пустил машину самокатом. Глухо ворча, всеми четырьмя колесами зарываясь в песок, машина покатила вниз.
Проезжая здесь днем, Струга не раз делал остановки, разглядывал отпечатки шин на дороге. Но за трое суток тут столько было езжено, — и колесными тракторами, и даже один гусеничный прошлепал, — что отыскать следы «Москвича» Берза было немыслимо.
Вот наконец и последний трудный участок. Дальше должна пойти ровная дорога. К обочине на спуске подступал густой кустарник. Над дорогой нависали ветви дуплистых деревьев. Лунный свет сквозь них едва пробивался. Жутковатое место, только хороший водитель, к тому же знающий дорогу, мог ехать без боязни.
И здесь могли остановить машину Берза.
Внезапно чья-то фигура отделилась от гущи кустарника. Встав на проезжей части, подняла руку.
Безобидный с виду старикашка с корзинкой грибов.
Но, может, еще двое верзил притаились в кустах? Вот так был остановлен и Берз, подумал Струга, выключив и ближний свет, оставив лишь габаритные огни — так лучше вглядываться в темноту. Надо последить, не крадется ли кто с обочин. Струга затормозил, выжал сцепление, перевел рычаг в нейтральное положение, до отказа натянул ручной тормоз. Все это проделал быстро, точно, машинально…
Успел достать пистолет, положил на колено и, прикрыв ладонью, снял с предохранителя. Патрон задвинул в ствол еще раньше.
Человек подошел к машине. Все двери были на запоре, приспущено боковое стекло.
К окошку приникло морщинистое стариковское лицо.
В мутном свете щитка приборов глянцевато отсвечивали лозины плетеной корзинки на локте.
— Большая к вам просьба, не подкинете до большой дороги, — зачастил старик, должно быть опасаясь, как бы машина не уехала раньше, чем он успеет изложить свою просьбу. — А то пешком тут махать и махать.
Струга сунул пистолет в карман, передвинул предохранитель и спросил:
— Ты один, дедушка?
— Один, один. У меня на хуторе «Кикаукас» сестрина живет, вот и задержался, муж у нее девятый год как помер, одна, бедная, мыкается. Помог теленка зарезать, завтра на базар повезет. Сам дорогой на грибное место напал, дотемна собирал, не заметил, как и ночь свалилась.
Грибы — крепенькие боровички, подосиновики, подберезовики, свинушки, лисички и другие, менее благородные, — доверху наполняли корзинку.
Старикашка, стоя у машины, переминался с ноги на ногу. Струга отворил дверцу. Хриплое стариковское дыхание и угрюмый шелест леса. Что будет дальше? Струга настороженно вслушивался. Тонким, неприятным посвистом кричала во тьме одинокая птица.
Трогая с места, Струга подумал: живет же на свете такой старикашка. До большой дороги километров десять с гаком. Ночь на носу, а он, видите ли, грибы собирает. Теленка зарезал, хотя и самому впору ноги протянуть. Грибы собирает.
«А ты что же? — спросил себя Струга, прислушиваясь к певучей скороговорке старика — тот рассказывал о нынешнем богатом урожае. — Сам-то ты что же? На ночь глядя разъезжаешь неведомо где. Рабочее время кончилось. Кто тебя гонит?» И Струга с удовольствием подумал о кружке горячего молока, которая ждет его дома. Ну, а что касается ссоры с женой, такая маленькая встряска семейной жизни не помеха. После нее милей друг другу покажутся.
Однако вот и большая дорога.
Среди друзей и знакомых Берза нашлось пять человек, знавших о том, что архитектор в пятницу вечером отправится в деревню к родителям, а в ночь с воскресенья на понедельник вернется домой. Почти все они в свое время гостили у Берза в деревне. Парились в баньке. Пили деревенское молоко. Купались на речке.
Этих людей Струга допросил в первую очередь. Розыск проводился целеустремленно, но без спешки, добротно и основательно. Струга не верил, что Берз жив.
Версия: убийство с целью ограбления. Побочный мотив, возможно, связан с местью.
На каком основании он делал вывод, что убийство с целью ограбления отчасти может быть мотивировано личной местью?
Из рассказов Эдите у него сложилось впечатление. что Берз в своих шутках не всегда держался в рамках приличия. Возможно, иной раз, сам того не замечая, своими насмешками он больно задевал легкоранимого человека, за что и поплатился жизнью.
В задачу Струги входило разыскать виновных, установить, как было совершено преступление, найти труп, пропавшую машину.
Прежде всего предстояло нащупать ту цепь, которая связывала преступника с внешним миром. Первым звеном в той цепи должен быть наводчик. Как правило, у каждой банды имелись наводчики, они и давали знать, где спрятаны ценности, когда хозяев не будет дома, когда со сберкнижки снималась крупная сумма денег, скажем для покупки автомашины, они указывали местонахождение гаража, секреты замков, извещали о времени прогулок или предстоящем маршруте предполагаемых жертв. Все это входило в компетенцию наводчика, и, надо полагать, он-то и дал знать, когда и куда поедет Берз и что он будет один.
Наводчик мог руководствоваться разнообразными мотивами: личные обиды, озлобление, родство с преступником, проценты с ограбления, зависть, ревность, недоброжелательство и тому подобное.
Нужно было отыскать наводчика.
Разумеется, наводчик мог находиться в одном из четырех соседних домов, окружавших хутор «Плены», а беглое обследование, проведенное Стругой, лишь отчасти исключало такую вероятность. К тому же еще предстояло проверить и версию Мары-садовницы. Однако Струга привык вести розыск от центра. Жертва являлась как бы центральной точкой в этой системе, и Струга начал ощупывать пядь за пядью, отдаляясь все дальше от центра и возвращаясь к нему лишь тогда, когда появлялись новые доказательства.
Хотя он и считал, что навряд ли следует искать преступника среди близких, друзей и знакомых Берза, но допускал, что наводчик вполне мог обретаться в их кругу.
Следовало основательно позондировать этих людей, не оскорбив подозрениями ту или иную чувствительную душу, выяснить их нравственные, этические взгляды, с тем чтобы исключить из игры непричастных и продолжить поиск в более тесном русле.
Разыскивать труп в поросшей лесом, холмистой, богатой озерами местности было бы делом напрасным. Труп могли зарыть в землю, тогда его обнаружить легче всего, но с таким же успехом его могли зашить в мешок с камнями и потопить в болоте или заросшем озере. Труп могли облить бензином и сжечь со старыми покрышками. Искать сейчас труп — все равно что иголку искать в стоге сена.
Струга хорошо себе представлял тот круг, к которому принадлежал Берз. Эти люди занимали сравнительно хорошее положение, все в равной мере стремились к личному благополучию, считая, что эти их устремления способствуют процветанию общества в целом.
В семейном бюджете учитывалась также и заработная плата жен. Двое работающих, каждый в среднем получает по сто пятьдесят рублей, итого триста.
У всех более или менее благоустроенные квартиры, в каждой семье — по ребенку, иногда и два, но это реже.
Они были честолюбивы. Прекрасно справлялись с работой. Свои материальные запросы и желания стремились осуществить в дозволенных законом рамках. Для преступления эта общественная прослойка была чересчур уж стерильной. В их кругу была налажена своя внутренняя система взаимопомощи. В моменты различных перебоев в торговле они устраивали друг другу такие дефицитные вещи, как импортный трикотаж, импортную обувь и одежду, запасные части для машин, редкие напитки, черную икру, охотничьи лицензии, а доступ ко всему этому получали с помощью так называемого блата. Все товары первой необходимости свободно лежали на прилавках магазинов, но разного рода деликатесы и редкости— как раз то, что придавало жизни очарование и блеск, — это зачастую можно было достать лишь по знакомству. Кое-кто из них был даже рад, что определенные товары не появляются на прилавках. У товара, приобретенного по знакомству, был больший удельный вес, человек мог похвалиться чем-то невиданным.
Семейный бюджет в триста пятьдесят рублей в месяц был потолком для такого рода семей. К ним принадлежал и Эдмунд Берз с женой. Пока у них, правда, не было ребенка, но Струга с уверенностью мог заключить, что ребенок был запланирован на ближайшее время, поскольку последняя крупная покупка — автомобиль — сделана в прошлом году. Разумеется, не без помощи родителей.
Если задаться целью нарисовать родословное древо таких семейств, то основой их будут родители жены и родители мужа, следующая ступень — собственно муж и жена, и наконец — единственный ребенок, что, разумеется, с точки зрения роста народонаселения, являло собой довольно безрадостную перспективу. Зато эти люди наслаждались жизнью.
Родители жены и мужа помогали обзаводиться мебелью, делать ремонт, приобретать автомашины, если они приобретались, иной раз родители давали деньги на заграничные туры. Особенно в тех случаях, когда молодые были единственными отпрысками.
Такие семьи обычно жили дружно, согласно, поскольку любовь была спаяна совместно нажитым добром, а грешки жены или мужа, если таковые имелись, тщательно скрывались от посторонних.
Эти люди, как правило, жили больше для себя, чем для общества, не желая утруждать себя воспитанием нескольких детей. По средним стандартам жили они неплохо — в двухкомнатных, трехкомнатных квартирах, но стоило им заглянуть в будущее и в тех же квартирах представить еще троих взрослых детей на выданье или в пору женитьбы, как у них пропадала всякая охота увеличивать семью.
Досуг свой они тоже проводили одинаково. Зимой катались на горных лыжах, летом на байдарках спускались по рекам. Они объездили весь Союз, знали, где самые лучшие горы, где самые порожистые реки, бурные течения. Они были адвокатами, преподавателями, врачами, инженерами, учеными, литераторами, музыкантами. Они принадлежали к средней прослойке интеллигенции, к ней принадлежал и Струга, и нередко, собирая сведения о Берзе, ему приходила в голову мысль, что он разыскивает сам себя.
Они смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги, слушали одну и ту же музыку, сходно рассуждали о прогрессе, экономике, пересказывали одни и те же анекдоты, по нескольку раз выезжали за границу в туристические поездки, обладали схожим чувством юмора, даже подверженность болезням была у них примерно одинакова. Чаще всего страдали от гипертонии и запоров, нервных болезней и подагры, их изводили головные боли, они были восприимчивы к простуде и, несмотря на все это, обладали завидным здоровьем, жаждой жизни и связями в обществе.
Связи решали все.
Берз даже после своего исчезновения продолжал использовать свои связи.
Струге неоднократно звонили ответственные товарищи с просьбой ускорить розыск. Они расспрашивали о судьбе Берза, советовали прибегнуть к радикальным средствам, как бы подстегивая тем Стругу. Сам Берз, хотя и косвенно, призывал его к более энергичным действиям, призывал посредством своих знакомств.
Порой приходилось только руками разводить. Зная язвительный нрав Берза, трудно было поверить, что все эти товарищи, занимавшие видное положение, звонят Струге и поторапливают его от чистого сердца, кое-кому из них Берз в свое время основательно досадил, кое-кто из-за него лишился орденов и премий, однако теперь, в трудную для Берза минуту, все они проявляли удивительную сплоченность.
Быть может, норовистый характер Берза в их среде служил своеобразным катализатором, стимулятором процессов совести, побудителем дремлющей энергии, детектором скрытых возможностей? Быть может, та непреклонность, которую Берз в своей работе обращал и на них, явилась причиной подобной отзывчивости?
Струга встретился с непосредственным начальником Берза товарищем Антлавом.
«Вы должны попять: Берз для меня был особенно близок. Хотя разница лет между нами немалая. Ко мне в кабинет он мог заходить без доклада, когда хотел. Его везде хорошо принимали.
Человек он был со странностями. Ему, как и мне, частенько приходилось сталкиваться с бюрократическими препонами, сами понимаете, кое-где они у нас еще сохранились. Вы думаете, Берза это огорчало? Напротив— он радовался этому, говоря, что только в борьбе с бюрократизмом личность утверждает себя. Дескать, тогда-то и выявляется, в коей мере человек обладает характером, волей, энергией. Препоны, дескать, может одолеть человек сильный, а только сильные люди по-настоящему нужны и полезны обществу. Тихони же и рохли пусть плюют в свой собственный колодец, самим пить придется. Уж он-то этого делать не станет. В таком молодом государстве, как наше, иначе и быть не может, делопроизводство де у нас во младенческом возрасте. Но он не собирается вешать головы. Надо делать свое дело, а все эти трудности его лишь подстегивают и распаляют, как коня на рысистых бегах. Когда же придет пора подвести итоги, будет видно, кто сколько сумел. Ибо то, что каждый мог сделать, но не сделал по причине различных помех, при подведении итогов в расчет принято не будет. Главное — не добрые твои намерения, а сделанная работа.
Может, это было позерством, бравадой, краснобайством? Может, такое фразерство было его слабостью? Но, думается, Берз все это говорил, сознавая свои силы, говорил, так сказать, из лучших побуждений. Не раз от него приходилось слышать, что ему, конечно, тоже их не миновать, однако раньше времени он не собирается выходить из игры, потому и руки у него свободны и рассудок не тронут неверием.
Я расскажу вам один случай из моего собственного опыта общения с Берзом.
Иной раз он становился ужасным. Просто ужасным! Другого слова не нахожу. Никак не могу назвать это упорством. Разве что упорство с каким-нибудь особенным маниакальным оттенком. Больше я никого не знаю, кто бы мог вести себя подобным образом.
Однажды я отказался его поддержать по одному важному вопросу. Он считал, что мои доводы малоубедительны и посему не могут быть приняты в расчет.
Он старался меня переубедить.
Когда же я объяснил ему, что разрешению вопроса препятствует не малоубедительность моих доводов, а обстоятельства иного, административного, от меня не зависящего порядка, тогда он стал взывать к моей партийной совести.
Утверждал, что обстоятельства эти ничем не мотивированы, требовал, чтобы я отбросил их, отмел, не принимал в расчет и тому подобное. И чего он только не наговорил тогда! Что я-де передовой советский человек и посему обязан сделать все, что в моих силах, ибо положительное решение вопроса отвечает народнохозяйственным интересам.
По части высоких слов он был мастер. Иной раз подпускал и демагогии, и, надо отдать ему должное, довольно умело. Как я ни старался держать себя в руках, но в конце концов он вывел меня из себя, и я прекратил спор, решительно отклонив его просьбу. Сказал, что продолжать разговор в таком тоне не намерен.

И тут-то началось. Здесь во всем блеске проявились его неуемная строптивость, его немыслимое упрямство и ослиная твердолобость. Берз не уходил из моего кабинета, зудел одно и то же, одно и то же, что он-де прав, что я это прекрасно знаю.
Черт побери, хотелось ответить — оттого, что я прекрасно это знаю, мне ничуть не легче.
Не скажу, что его домогательства носили агрессивный характер, но и просительного тона в них не было. Просто назойливый зуд. Рабочий день уже кончился. Я сказал, что должен уходить. Он заявил, что никуда я не уйду, так как вопрос надлежит разрешить немедленно. Два часа мы бесплодно проспорили. Я закрыл сейф. Сказал, что велю вахтеру выставить его за дверь, и ушел.
Наутро прихожу на работу, Берз уже стоит у моего кабинета и умудрился проскользнуть следом за мной. Я-то думал, он пришел извиниться за свою вчерашнюю бестактность. Забыл предупредить секретаря, чтобы его не пускали, он, как я уже вам сказал, пользовался особыми привилегиями.
— Смотри! — сказал мне Берз. Мы были с ним на «ты». — Вот телефон. Вот трубка. Тебе остается ее снять, набрать помер и уладить дело. Во имя истины звони и поскорей, я не отстану от тебя до тех пор, покуда не позвонишь.
Что оставалось делать?
Сиял трубку, набрал номер и сказал, что ни в коей мере не поддерживаю предложения Берза, и тем самым вопрос был решен.
Берз прямо-таки позеленел и вышел из кабинета, не попрощавшись. Обычно он соблюдал приличия. Я тоже не успел пи слова сказать. Возмутительная его настырность меня огорчила, но я человек принципиальный и не намерен менять своих решений, даже когда я неправ».
Это, разумеется, было шуткой. Струга усмехнулся, а товарищ Антлав продолжал рассказ.
«Однако и на том дело не кончилось. Возвращаюсь вечером домой, там сидит Берз. Зашел вроде бы в гости, преподнес жене цветы, сидит в моем кресле, пьет минеральную воду — в последнее время он пристрастился к минеральной — и чинно беседует с моей благоверной, с детьми.
Обе дочери, — они у меня близнецы, — натуры возвышенные, чистых идеалов, те его слушают, рты разинув. Жена тоже безупречно честная, принципиальная, порядочная женщина. Так вот этим трем чувствительным дамам Берз описал нашу стычку, изобразив меня, разумеется, злостным рутинером.
Девочки, завидев меня, в один голос закричали:
— Папа, как ты мог?!
А тут еще жена им вторит:
— Истина, принципиальность, народные интересы!
Еще ни разу мне не приходилось переживать что-либо подобное. Ведь это, сами понимаете, не заседание партбюро, где приводятся доводы, выслушиваются возражения. Да какие там, говорю, народные интересы, коль они идут вразрез с интересами моего ведомства. Так попробовал я отшутиться, но вижу, ничего не выходит.
Не терплю игры на эмоциях, я практик, реалист, строить воздушные замки — это не по мне. Если хотите, я прагматик и народные интересы ставлю превыше всего. Но тут — скандал в доме! А Берз, этот интриган и склочник, давно уже смылся. Сами понимаете, не в очень-то радужном настроении, потому как со мной отношения вконец расстроены.
Но своего он добился.
Жена и дочери так меня обработали, что назавтра утром я отменил свое решение и скрепя сердце утвердил предложение Берза. Потом у меня из-за этого, разумеется, возникли осложнения. Вопрос был недостаточно согласован. Хотя по существу прав был Берз.
Молод он, горяч. И уж совсем никуда не годится в такие дела впутывать детей и женщин. На мой взгляд, жены и дети вообще не должны знать, как их мужья и отцы решают важные вопросы.
И вот что я вам скажу: держите свою жену подальше от Берза. Представься у него возможность поговорить с ней полчаса, вы бы, разыскивая Берза, весь свет вверх дном перевернули.
Постарайтесь выяснить его связи с женщинами. Иной донжуан исчезает на неделю, а потом, вернувшись, всем пускает пыль в глаза, хотя прекрасно провел время со своей возлюбленной».
А что, если так оно и есть? Тогда изымается состав преступления, тогда розыск следует прекратить. Если Берз убежал с женщиной, это его личное дело. Закон тут ни при чем, дело переходит в область эмоций.
Струга подумал: смог бы он сам убежать от семьи, работы, своих коллег, от всех видимых и невидимых уз, что связывают человека с обществом?
Нет, ни за что бы не смог. Всякое, конечно, бывало, иногда хотелось быть как можно дальше от родных, от службы, товарищей по работе, всех проблем вообще и людей в частности. Но он знал, это минутная слабость, и никогда он не захочет разорвать эти узы, лишиться почвы под ногами.
Словно на чертовом колесе, Струга поднимался все выше над жизнью Берза, и взору открывались новые черты этого человека. Невзначай оброненная фраза, случайно выскочившее слово, подобно лучу, пробившемуся сквозь толщу туч, высвечивали затененные прежде места и, напротив, затмевали иную, чересчур ярко освещенную деталь в характере Берза.
Но была ли верна картина, нарисованная столькими людьми? Не исказился ли в ней облик Берза? Ведь в комнате смеха каждое зеркало показывает свое.
Берз очаровывал женщин? С полуслова находил с ними общий язык? Но был ли он донжуаном?
А тот обед в кафе «Лира»! Неужели в исчезновении Берза замешана женщина? С полуслова находил общий язык? Значит, умел направить разговор в эмоциональное русло. Интересно рассказывал об архитектуре? Его не поймешь, когда говорит в шутку, а когда всерьез?
Струга разыскал женщину, с которой Берз обедал в кафе. Это нисколько не продвинуло дело, однако Струге открылось нечто новое в характере Берза.
После длительного перерыва Берз и актриса Ириса Яунлока случайно встретились на улице. Она сказала, что по-прежнему работает в том же театре, будет рада, если он позвонит, приятно было бы вспомнить давние дни, и телефон все тот же. Номер телефона, хотя прошло столько лет, Берз помнил наизусть.
Прошло два дня, — это было весной, в конце марта, — и Берз позвонил ей. Через полчаса они встретились.
Она предупредила, что времени немного, ей нужно быть в Доме культуры, где она ведет драмкружок, занятия начинаются в пять, в театре вечером она не занята. А часы уже показывали четверть третьего.
Он пригласил ее пообедать в кафе «Лира».
Еще на улице, по дороге в кафе, они приглядывались друг к другу.
Ириса подумала, что Эдмунд почти совсем не изменился, разве что одеваться стал со вкусом, но в этом, как она знала из досужих разговоров, необходимо было учесть и заслуги жены.
Когда-то Берз ходил в мятых брюках, старомодных нечищеных ботинках, костюмы носил невыразительной расцветки, к тому же нередко сочетая свитер и пиджак. Свитер поношенный, грубой вязки, весь в каких-то лохмах.
Теперь же на нем преотлично сидел серый костюм. Модные черные туфли. Со вкусом подобранный галстук и в тон ему платочек в нагрудном кармане.
Ириса сделала вывод, что в материальном отношении он несомненно преуспел. И глаза, прежде круглые, большие, смотревшие на мир по-птичьи зорко, теперь были с прищуром, взгляд их сделался если не совсем язвительным, то испытующим и, пожалуй, пронзительным. Вообще манера держать себя изобличала в нем человека, нашедшего место в жизни, знающего себе цену. А впрочем, глаза могли показаться такими оттого, что в лицо им светило солнце и невольно приходилось щуриться.
Потом Ириса перестала разглядывать Берза. В самом деле, чего загляделась? Будто у самой нет мужа. Более того, в первую брачную ночь гости ухитрились сунуть им под кровать топор, и старое поверье вполне себя оправдало: в урочное время у Ирисы родился сын. Она немного гордилась своим материнством. У Берзов, насколько ей известно, детей не было. Oita понятия не имела, почему, но склонна была думать, что семейная жизнь Эдмунда не совсем удалась.
Вот так они и сидели в полупустом кафе. Молодой официант обслуживал расторопно и чинно.
Ирисе было приятно сидеть рядом с Берзом и думать о том, что он в свое время был от нее без ума.
Каких слов он ей тогда не говорил! Она же по молодости, по неопытности понятия не имела, что может сделать с мужчиной страсть. Слова были неприличны и дерзки, слова казались обидными, оскорбительными, она не раз отклоняла его домогательства, но Эдмунд с поразительным упорством продолжал добиваться взаимности. Он попросту был назойлив, и это назойливое упорство, хотя и приятное, льстившее самолюбию, Ирису тогда оттолкнуло — что-то отчаянное чувствовалось в нем.
Теперь-то она понимала: такое же упорство он проявил и в других областях, оно помогло ему пробиться в жизни, достичь положения в обществе, составить себе имя, и было отрадно сознавать, что этот человек горячо любил ее, и она себя тешила мыслью, что Эдмунд до сих пор испытывает к ней то же самое чувство.
Ириса ждала, когда он заговорит, и старалась отгадать, какими будут первые слова, что он ей скажет. И еще ей подумалось, что лучше бы вообще ему не касаться ушедших дней, в ее памяти они сохранились прекрасными, как сон, сохранились прозрачной дымкой в розоватых отсветах, и она боялась к ним прикоснуться.
— Через неделю я уезжаю в горы, — сказал он.
Через неделю? В горы? Ириса была благодарна. Как мило, как тактично с его стороны начать разговор с отвлеченностей. Она была благодарна ему за угаданное без слов желание не говорить о том, что было.
— В горы? — переспросила она. — Кататься на слаломных лыжах?
— Да, — ответил он, наливая в бокалы вино. Они пили алиготе.
— И у нас все дома помешались на горных лыжах, — сказала она. — Брат, сестра, муж… Даже меня раз-другой в Сигулду вытаскивали.
И тут у Эдмунда загорелись глаза. Напрасно я помянула мужа, промелькнуло у нее в голове. Эдмунд, должно быть, по-прежнему меня любит, ему неприятно всякое упоминание о муже. О своем более удачливом сопернике.
— Вот как? — удивился Эдмунд. — Ты тоже? Так, может, у тебя дома найдется пара лишних маркеров? У меня нет маркеров, а без них кататься с больших гор опасно.
Ириса смутилась. Ему и вправду нужны эти маркеры, или маркеры только предлог возобновить прежнее знакомство? Пообещай она раздобыть маркеры, у него появится повод еще раз позвонить и даже еще раз встретиться? Дело не так просто. Она ведь замужем, у нее семья, ребенок. А вот если маркеры… Ловко он придумал — с этими маркерами.
— Право, не знаю, — колебалась Ириса. — Может, и найдутся. Я спрошу у знакомых. Если тебе действительно нужны маркеры…
— Маркеры мне нужны. Спроси. И по возможности скорее. Я позвоню тебе дня через два.
— Наверное не обещаю, — ответила она, и сердце у нее забилось, — но постараюсь.
— Уж постарайся, — полушутя, полусерьезно заметил он.
Ириса внимательно поглядела на Эдмунда, однако в его лице не нашла ничего, кроме интереса к маркерам, голого интереса к лыжной оснастке. И вдруг ей показалось, что поданное вино недостаточно охлажденное, белому алиготе полагалось быть холодным, а весь холод перешел в смотревшие на нее иронически-невозмутимые глаза.
А может, ей показалось? Она глянула в окно, увидела двор, грузовик, помойку, какие-то бумажные тюки на грязной мощенной булыжником земле с нашлепками подтаявшего, ноздреватого снега, и ей подумалось, что ведь всего этого не видно с фасада, и вдруг стало так грустно, казалось, что тот прекрасный сон развеян и рассеялась прозрачная розоватая дымка.
Ириса постаралась отогнать от себя досадные мысли и уставилась на Эдмунда большими, влажными глазами. Нет, ей только показалось. На самом деле все осталось, как прежде. Сейчас, вот сейчас Эдмунд что-то скажет. Вернет былое очарование! Вернет!
— Официант, подайте счет! — сказал он.
Эдмунд расплатился, и Ириса заметила, что бумажник его набит новенькими пятерками. Должно быть, в тот день получил зарплату. Официанту дал полтинник на чай. Внимательно проверил счет, убедился, что подсчитано правильно.
— Будем надеяться, ты раздобудешь мне маркеры, — с улыбкой сказал он Ирисе, — не то получится, что я опять понапрасну истратился. Ты только вспомни, какую уйму денег я на тебя извел и, если разобраться, — впустую!
А ведь действительно — впустую! Поначалу она засмеялась. Неловко и странно было такое слышать, но денег он действительно истратил уйму. В пору своего ухаживания — кафе, цветы, всякие подношения. Истратил впустую, ухаживая за Ирисой. Это похоже на шутку, ибо, что ни говори, потраченные деньги не принесли желанных плодов. Но разве такие плоды вообще покупаются за деньги?
Ириса с грустью заключила, что это было сказано всерьез. На сей раз за шуткой стояла правда. Берз только что открылся ей с совершенно новой стороны. Он сильно переменился. Его действительно интересовали только маркеры, ни о чем другом он и не думал, он стал таким практичным и черствым. Но, может, так оно и лучше, подумала Ириса, расставаясь.
Двумя днями позже, когда Эдмунд позвонил ей на работу, она попросила приятельницу сказать, что Ирисы Яунлоки нет и скорей всего не будет, поскольку вечером она не занята в спектакле, так что навряд ли удастся ее застать.
Берз уехал в горы, а по приезде ни разу не звонил Ирисе. Маркеры он одолжил у кого-то из знакомых.
Но почему в свое время у них разладился роман? Об этом Ириса Струге, правда, не рассказывала, но сама-то помнила прекрасно.
Как-то Берз пригласил ее в гости — он тогда снимал комнату. В тот вечер их любовная игра зашла далеко, однако в критический момент Ириса внезапно распростилась и ушла. Почему? Она помнила совершенно отчетливо, будто все случилось вчера, хотя минуло чуть ли не девять лет.
У Ирисы было прекрасное французское белье, но в тот день, не собираясь в гости к Берзу, она надела поношенное, самое обычное, местного производства. Хотя и выстиранное, тщательно выглаженное, но все-таки — поношенное.
Бюстгальтер в двух местах был заштопан, и подвязка притянута нитками.
Она себя убедила, что Эдмунд ни в коем случае не должен видеть ее в поношенном белье. Настолько-то разума хватило после его поцелуев. По правде сказать, она и поцелуями не могла как следует насладиться, внутренний голос все время нашептывал, что на ней старое белье, чтобы была начеку, не теряла голову, не заходила слишком далеко! Лишь на миг утратила бдительность.
Опомнилась, когда рука Эдмунда легла на грудь. Ах, это старое белье, и что он подумает? Говорят, мужчины на сей счет очень щепетильны, ей об этом было известно, по рассказам, — уж тут, казалось бы, можно положиться на подруг.
Вот и живи после этого чужим умом. До сих пор себя корит за тогдашнюю опрометчивость.
Лишь поэтому она так резко отклонила его ласки и ушла. Эдмунд ужасно оскорбился, не встречался с нею целых два месяца. Потом ему вырезали аппендикс. Она, правда, выбралась навестить его, но из-за эпидемии гриппа в больнице был карантин, ее не пустили в палату. А позже у нее появился новый поклонник. И вот выходит, в их разладе виновато белье. Если б не тот досадный случай, она бы стала женой Эдмунда. Сейчас, по крайней мере, она так считала.
В городе ходило много толков о таинственном исчезновении Эдмунда Берза. Для одних это была сенсация, для других — обыденное происшествие. Одни сетовали на беспомощность милиции, другие были уверены, что соответствующим органам удастся внести в это дело ясность в течение двух недель.
Назывались различные причины, предсказывались различные исходы. Передавались слухи и даже рассказы очевидцев. Уверяли, будто Берз откуда-то переслал письмо, утверждали также, что преступники запросили выкуп, называлась и сумма — пять тысяч. Однако никто по-настоящему не знал, что произошло и какова судьба Берза.
В тех пересудах нередко всплывал немаловажный вопрос: много ли потеряло общество, лишившись Берза, или же потерял только Берз, лишившись общества? Обсуждалось и разбиралось значение его работ в развитии архитектуры. В одной из газет лежал прочувственный некролог о новаторе, поборнике новых идей. Публикация некролога задерживалась лишь из-за отсутствия официального подтверждения смерти.
Струга собирался встретиться с родителями Эдите Берз.
Отец Эдите по-прежнему заседал на симпозиуме в Таллине, а мать Эдите сообщила, что всю неделю была страшно загружена и посему не могла заняться розысками зятя, не то бы он давным-давно был дома. Да все равно найдется, тут никаких сомнений! Убежал с возлюбленной, не иначе! Его приятель, писатель Нупат, уже сочиняет роман. Наживается на чужом несчастье. Вот они какие, эти писатели.
Эдите в семье росла единственным ребенком. Отец Эдите — крупный врач-педиатр, мать — учительница. Дочь ни в чем не знала отказа, конечно в пределах разумного. Отец Эдите, человек деловой, разносторонний, отнюдь не скованный рамками своей профессии, стремился привить дочери осмысленный, широкий взгляд на мир.
Влияние матери на дочь, как ни странно, оказалось ничтожным. Слишком много времени у матери отнимала школа, обязанности классного руководителя, преподавание латышского языка и литературы.
И теперь, после таинственного исчезновения зятя, у нее совершенно не нашлось времени утешить дочь. На матери лежали непомерные хлопоты по устройству литературного вечера для старшеклассников, посвященного началу нового учебного года.
На вечере согласился выступить известный писатель Нупат. Он был из тех, кого не так-то просто заполучить на литературные вечера, писатель знал себе цену, не привык являться по первому зову и выступать где попало. Но он был знаком с Эдмундом Берзом, знал и мать Эдите, а потому не сомневался, что преподавание литературы в ее классах ведется на должном уровне.
И мать Эдите знала писателя, потому так легко отыскала уязвимое место в неприступной твердыне.
— Мы ведь редко устраиваем подобные вечера, — завлекла она писателя. — Народу будет немного, сотня-другая, не больше, и столько у нас, знаете, хорошеньких девочек. Поклонницы литературы, ваши почитательницы. Мы приглашаем только выдающихся писателей, в прошлый раз у нас в гостях был поэт… — И, пригнувшись к самому уху писателя, она назвала имя поэта — настолько тот был знаменит. — Это будет своего рода литературным фестивалем школы. Дети целый год ждали встречи с вамп, я еще весной им обещала. Девчушки просто без ума от вас. Ведь вы не откажете?
Улещенный таким образом, писатель, разумеется, не отказался, хотя долго ворчал, что в принципе он против всяких выступлений, что он-де не то, что другие, но под конец согласился приехать на вечер точно так же, как и другие.
Вечер прошел очень мило. Писатель читал свои произведения. Дети хлопали в ладоши. Девочки задавали вопросы. Писатель на них отвечал. Все остались довольны.
В конце вечера, когда писатель массировал натруженную автографами руку, мать Эдите спросила у него:
— Вы уже слышали? Эдмунд Берз, мой зять, исчез!
— Что вы говорите! — удивился Нупат. — Кто бы мог подумать! Мы ведь с ним были дружны.
— Да, представьте себе. Уехал из дома на машине и не вернулся Машина новенькая, и года не проездили. На мой взгляд, сбежал с какой-нибудь дамочкой. Вот они какие, эти архитекторы!
Дружба Нупата с Берзом в действительности была поверхностной и случайной. Зимой они раза два катались с одной горы.
Из совместных катаний Нупат вынес впечатление, что Берз человек бесстрашный. Техникой владел средне, но упорно лез на самые крутые склоны.
Писатель побывал и в гостях у Берза. Они, помнится, говорили о проблеме шума в городах, о кактусах, о слиянии интерьера с природой, о моторах, о техническом прогрессе страны на ближайшее десятилетие. Берз поделился впечатлениями о своих зарубежных поездках.
Теперь же, все взвесив, писатель пришел к выводу, что в общем-то о Берзе он не знает ничего. Этот человек для него был и остался загадкой.
Берз спроектировал и построил несколько примечательных зданий. Берз реставрировал несколько примечательных архитектурных памятников. Берз собирался спроектировать и построить несколько примечательных зданий. А равным образом Берз собирался реставрировать несколько примечательных архитектурных памятников. От такого однообразного перечисления голова могла пойти кругом.
И семейная жизнь Берза для него была загадкой.
Однажды поздним вечером Нупат повстречал Берза на улице. В самом начале знакомства. Берз попросил писателя проводить его домой, он-де неожиданно задержался, жена будет злиться, а присутствие постороннего человека не даст злобе прорваться наружу. Словом, Нупату предлагалось послужить своеобразным громоотводом.
Гонимый профессиональным любопытством, отчасти из расположения к Берзу, писатель согласился.
В ту пору Берз еще не получил квартиры и обретался с женой в тесной комнатке на квартире родителей Эдите.
Своего ключа у Берза не было. Он позвонил. Дверь отворила Эдите, злая, как фурия, с горящими глазами. Берз слова не успел вымолвить, как Эдите закатила ему хлесткую оплеуху и рывком втянула в квартиру. Дверь захлопнулась.
Писатель, смущенный таким оборотом дела, подождал немного. Дверь отворилась. С улыбкой на устах на пороге стояла Эдите.
— У нас мама заболела и слегла с простудой, — сказала она. — Сейчас Эдмунд пойдет в аптеку за лекарством. Заходите в другой раз. Я читала ваши романы, рада с вами познакомиться.
Как по книге хорошего тона.
Когда писатель спускался по лестнице, его нагнал Берз.
И еще одна черта в характере Берза изумила Нупата. На лице у Берза не было и тени смущения, растерянности или досады оттого, что писатель стал свидетелем той сцены. С поразительным хладнокровием Берз перечислил, какие лекарства он должен купить для тещи. Больше ни о чем не говорили. И у писателя прошло чувство неловкости. Не очень-то приятно видеть, как здоровенному мужчине дают оплеуху, а затем любимая жена заволакивает супруга в квартиру, точно куль с мякиной.
Другой бы на его месте мог оскорбиться. Но раз сам Берз не чувствовал себя задетым, значит, все в порядке.
Писателю нравилось в Берзе его своеобразное чувство юмора. Берз обладал ценным качеством — он никогда не смеялся собственным шуткам, а выдавал их невозмутимо, с каменным выражением лица, в то время как слушатели могли покатываться со смеху.
Писатель попытался вспомнить его облик. На лице у Берза всегда залегала какая-то горестная складка. Похоже, он был постоянно чем-то опечален. Берз не был красавцем, но было в нем обаяние, которое позволяет заметить и отличить человека в толпе. На нем лежал отпечаток собственного «я».
Черты липа, взятые сами по себе, — чуть вздернутый нос, смеющиеся, как у клоуна, уголки губ, горестная складка на лбу, впалые щеки, — создавали впечатление несоразмерности, разнородности, но стоило на том же лице проглянуть улыбке, как все соединялось в нечто стройное, неповторимое по своей привлекательности.
Писатель расспросил всех, кто что-нибудь слышал или знал об исчезновении Берза. Взвесив и подытожив разноречивые факты, он пришел к заключению, что Берза нет в живых: убийство с целью ограбления.
У Берза водились деньги. Он был бережлив.
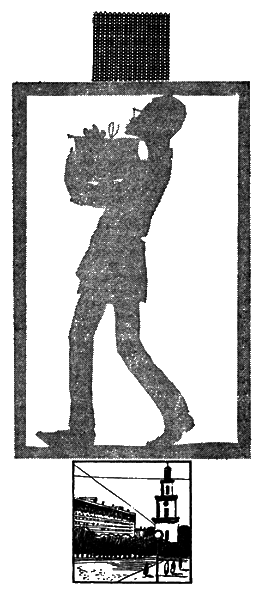
Писатель вернулся домой, подсел к столу, взял чистый лист бумаги и принялся набрасывать план нового романа.
— Жена, — крикнул он в соседнюю комнату, — ты слышала, Берз пропал! Это ж черт знает что, я об этом собираюсь написать роман. Прекрасная тема для детектива. Только помоги придумать имена героям.
— Что ты говоришь! — воскликнула жена, вбегая к мужу в кабинет, забыв при этом на столе в соседней комнате горячий утюг на платье, которое гладила. — Берз пропал? Быть не может.
— Говорю тебе — пропал! Вместе с машиной.
— Бедная Эдите, — со вздохом молвила жена писателя и, опустившись на тахту, сложила руки на коленях. — Как она это вынесет?
— Вот-вот, — сказал писатель, — об том-то я и собираюсь написать. Но что это запахло паленым?
Так исчезновение Берза неожиданно ударило по семейному бюджету писателя, — платье было дорогое, всякая починка исключалась.
Но писатель тут же позабыл о неприятности, на него снизошло вдохновение, он обдумывал композицию романа. Нупат был отменным ценителем классической музыки и потому решил создать роман по принципу симфонии. Он продумал темы, их значение и развитие. Финалу полагалось быть трагическим, но с оптимистическим звучанием. Можно было также написать роман на манер концерта для рояля с оркестром. В трех частях.
Нупат поставил пластинку концерта для рояля с оркестром Рахманинова и принялся за работу.
Струга встретился и с писателем, но ничего дельного из разговора не вынес. Нупат был увлечен своим замыслом и не желал поступиться ни единой мыслью, ни единым словом. Отговорился тем, что ничего существенного рассказать не сможет, потому что с Берзом был знаком поверхностно, зато сам старался как можно подробнее выпытать у Струги о методах работы следователя, о том, как продвигается розыск, о новых обстоятельствах и фактах— одним словом, пытался только брать, ничего не давая взамен.
После недели усиленных поисков Струга заключил, что Берз действительно исчез, и к точно такому же выводу пришло и начальство Берза.
На внутриведомственном совещании слово предоставили товарищу Мазгадигу.
Товарищ Мазгадиг сделал краткое, но содержательное заявление. Он сказал, что, по его мнению и убеждению, вместо товарища Берза, пропавшей мастерской начальника (тут в речь товарища Мазгадига вкралась небольшая неточность, ибо пропал начальник, а не мастерская), что вместо него необходимо назначить товарища Ритманиса.
Товарищ Мазгадиг перечислил положительные и общественно полезные качества товарища Ритманиса, которые неизменно и неуклонно будут и впредь способствовать выполнению заказов на должном уровне, как того требует доброе имя архитектурной мастерской.
Поскольку этот вопрос вышестоящими инстанциями уже был рассмотрен, решен и одобрен, то и обсуждение вылилось в пустую формальность.
Все единодушно согласились с предложением товарища Мазгадига, и товарищ Ритманис был утвержден в повой должности. К его собственному удивлению — всего-навсего исполняющим обязанности.
Выходит, в вышестоящих инстанциях все еще верили, что Берз пропал не окончательно? Или же не верили в способности Ритманиса? Как бы то ни было на следующий день Ритманис принял бразды правления и круглую печать.
Разумеется, иного поворота в мастерской никто и не ждал. По знанию дела, расторопности, умению администрировать товарищ Ритманис прочно удерживал второе место и буквально шел по пятам за Берзом, надеясь когда-нибудь обойти своего начальника, и наконец момент этот настал.
Ритманис терпеливо ждал своего часа, будучи на целых два месяца моложе, и вот дождался. Человек по натуре замкнутый, Ритманис был не из тех, кто открыто проявляет свои чувства. Ночь с воскресенья на понедельник он провел в постели бок о бок с женой, так что имел надежное алиби.
Ритманис был чист как стеклышко, весь насквозь прозрачный, и никаких подозрений на него, разумеется, не падало.
Для верности, правда, Струга проверил, где находился Ритманис в ночь с воскресенья на понедельник. При первой же встрече Ритманис чем-то не понравился Струге. Потому и проверил.
Уж слишком тот был угодлив. На лету подхватывал чужие слова. Открывал и закрывал за Стругой дверь. Желая испытать свое впечатление, Струга обронил в разговоре старую-престарую остроту, уже лет сто известную всей Риге. Ритманис чуть со смеху не помер — он, видите ли, впервые такое слышит, отличная шутка, надо взять на вооружение.
Струге было также известно, что с другими, особенно с сотрудниками архитектурной мастерской, Ритманис сдержан в обращении. Улыбка? Уж одно то событие, если Ритманис улыбнулся. Неожиданное заискивание перед сотрудником уголовного розыска показалось странным и необъяснимым.
Ритманис не высказал публично сожаления по поводу исчезновения своего шефа. Одно из двух: или он в глубине души был тому рад и не желал притворяться, или ему в самом деле была безразлична судьба Берза и он был озабочен лишь своей собственной судьбой.
Ритманис вступил в должность, точный, исполнительный, словно хронометр. Мастерская продолжала выполнять поступавшие заказы обычным порядком и в срок, так что для заказчиков смена руководства прошла незаметно.
Судя по разговорам, Ритманис никогда не ладил с Берзом. Между ними постоянно возникали трения, шла подспудная борьба, о чем знали все сотрудники. Кто-то не преминул об этом известить и Стругу. Очень странным всем показалось молчание Ритмаииса, он даже не удосужился выразить сочувствие Эдите. Не выбрал времени приехать к ней на званый вечер в пятницу. Убитая горем Эдите просто позабыла отменить приглашения, тем не менее Ритманис не должен был пренебречь визитом, таково было всеобщее мнение.
Поведение Ритманиса показалось подозрительным не только сотрудникам мастерской. «Быть может, я чересчур во власти эмоций, — раздумывал Струга. — Криминалистика была и остается наукой, я же обязан руководствоваться фактами, а не догадками, не досужими домыслами».
Материальное положение Ритманиса было вполне стабильно. Семейный бюджет составлял что-то около двухсот восьмидесяти рублей в месяц, считая и зарплату жены, она работала технологом на кондитерской фабрике. В семье один ребенок, девочка шести лет.
И все-таки Ритманис относился к тем людям, которым вечно чего-то не хватает, всегда они чем-то недовольны, всегда ищут возможность улучшить свое материальное благосостояние и в общем-то такие возможности находят.
Быть может, это и явилось одной из причин, почему его назначили лишь исполняющим обязанности, а не начальником?
Одним словом, Ритманис был деловит, но вся деловитость его давала себя знать и проявлялась в одном направлении — личного благополучия. Общественное благополучие он поддерживал ровно настолько, насколько оно поддерживало его личное благополучие. Он был человек себялюбивый.
Но кто ж из нас не себялюбив, раздумывал Струга. Разве я в своей работе не преследую личный и только потом общественный интерес? Прежде всего в работе я черпаю радость для себя.
Однако превратить работу только в источник дохода? Это представлялось не совсем этичным. Но, по сути дела, ничего дурного в том не было. Работа, сугубо как источник дохода, требовала прекрасного знания специальности, полной отдачи сил. Мастерски выполненная работа сама по себе становилась вкладом в развитие общества, если даже исполнителем ее руководили исключительно корыстные интересы. Построить добротное здание, заработать деньги, вложить эти деньги в процветание семьи — таков был логический ход устремлений Ритманиса, и это отвечало интересам общества, количественно и качественно, а потому Ритманис как знаток своего дела и как личность, несмотря ни на что, оценивался со знаком плюс.
Пустое философствование, с досадой подумал Струга. Пусть этим занимаются те, кому положено заниматься подобными вещами. Философствованием. С меня довольно. Баста. Ритманис чересчур щепетилен, правилен, запрограммирован, чтобы стать соучастником преступления.
Из разговора с Ритманисом Струга не узнал ничего нового о Берзе. Ритманис твердо уверовал в то, что Берз на том свете. Свято он уверовал и в то, что о покойниках следует говорить хорошее, только хорошее, все самое лучшее. Что-то в этом духе он и продекламировал о Берзе.
Ритманис по натуре был добр и отзывчив, но однажды, еще в пору его юности, злые люди воспользовались этой добротой и отзывчивостью, а потому Ритманис выработал в себе жесткую и строгую манеру держаться, манеру, лишенную всяких чувств и сантиментов по отношению к подчиненным. Ритманис был полностью согласен с общеизвестной пословицей: «Дай черту палец, он и руку отхватит». Вежливость была этим пальцем, и Ритманис не желал протягивать его сослуживцам. Отношения между ним и Берзом в самом деле состояли из нескончаемых трений и подспудной борьбы, но Ритманис умышленно фрондировал, чтобы никто не подумал, будто он заискивает перед начальником. В то же время Струге, человеку постороннему, он готов был с избытком выказать сердечность, добродушие, услужливость и отзывчивость. Но поскольку о душевном его разладе никто, кроме него, не знал, у других о Ритманисе сложилось превратное впечатление.
Неделю спустя после исчезновения Берза Эдите встретилась со Стругой в сквере неподалеку от памятника Блауману. Был обеденный перерыв.
Теплый осенний день. С деревьев бесшумно слетали желтые листья. К подошве черного ботинка Струги пристал кленовый лист. Был виден лишь его зубчатый краешек с сетью прожилок.
Эдите Берз и Струга сидели на длинной, пустой скамье. Эдите смотрела на зубчатый краешек кленового листа, и в душе у нее теплилась столь же крохотная надежда.
Эдите не запомнила разговора слово в слово. Струга был с виду печален. Успокаивал Эдите, убеждал не отчаиваться, говорил, что милиция делает все возможное, что розыск продолжается, что рано или поздно это даст свои результаты, впрочем, Струга не слишком ее обнадеживал — возможен и худший исход.
Худший? На зеленой скамейке белел птичий помет. Подумать только! Эдмунд невесть где, а птичий помет рядом, на скамейке. Это как-то не укладывалось в голове. Уму непостижимо.
— Во всяком случае мы вас будем держать в курсе дела.
Эдите в тот день проработала допоздна, сверх положенного. Вернулась домой, когда стемнело. У парадного их дома стояло такси. Эдите прошла мимо. Хлопнула дверца. Такси отъехало. Пахнуло бензином. Эдите почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась.
Ирбе, ее молчаливый поклонник.

Ирбе, график и художник, в былые времена к тому же и отличный горнолыжник. Теперь-то несколько опустился, не то что раньше. Он был идеалистом, влюбился единственный раз, и любовь чуть не доконала его. Безответная эта страсть. Он влюбился в Эдите задолго до того, как она повстречалась с Берзом и стала его женой. Но и после Ирбе не переставал на что-то надеяться. Однако Эдите была равнодушна к Ирбе, равнодушна как к мужчине. А во всем остальном он вызывал в ней симпатии.
Симпатии Ирбе вызывал главным образом своим тихим, робким, ненавязчивым обожанием. Ежегодно в день ее именин рано утром, перед тем как Эдите уходила на службу, к дому подъезжало такси.
Ирбе оставался в машине. Он сам никогда не решался подняться с цветами. Боялся оскорбить или как-то иначе задеть Эдмунда.
С Эдмундом он был лишь отдаленно знаком. А для Эдмунда этакий Ирбе что был, что не был. Эдмунда ничуть не смущали его тихие обожания. И все-таки цветы наверх приносил шофер такси. Так хотел Ирбе.
Сам он редко показывался Эдите на глаза. До нее стороной доходили слухи о его холостяцком житье-бытье, о чрезмерном в последнее время пристрастии к спиртному.
Ирбе был строен, хорошо сложен, разве что немного легковат для горнолыжника, но с юных лет он бредил крутизною склонов. Даже и теперь, давно уйдя из большого спорта, Ирбе сохранил свою филигранную технику, точнее — отблеск ее, и лишь иногда в воскресные дни на склонах Сигулды блистал былым мастерством.
В черные дни семейной жизни Эдите с грустью вспоминала Ирбе. Нередко ей начинало казаться, что на самом деле Ирбе ей далеко не так уж безразличен. Будь у него побольше упорства, кто знает, как бы сложились их отношения.
— Ах, этот твой рохля-пьянчужка! — как-то презрительно отозвался о нем Эдмунд.
Но Эдите, сама того не сознавая, жалела рохлю и пьянчужку. Как во всякой женщине, в ней таилось желание спасать заблудших и пропащих, а Ирбе можно было спасти. Но всякий раз, когда предоставлялась такая возможность, Эдите расхолаживали его нерешительность и какая-то собачья пришибленность во взгляде.
А в остальном Ирбе был человек изысканный. Одевался со вкусом, некрикливо. Ходил слегка ссутулившись и прихрамывая — походкой бывшего горнолыжника с не единожды переломанными ногами.
Женщинам он нравился. В последние годы у него было несколько связей, причем все непродолжительны — не более полутора лет. Эдите знала об этих связях, она сожалела, что Ирбе разменивает себя, сходясь с легкомысленными женщинами. О том, что легкомысленные женщины разменивают себя с рохлей Ирбе, об этом Эдите как-то не задумывалась, а если и задумывалась, то гнала прочь подобные мысли.
Теперь Ирбе стоял на сером тротуаре перед домом. На нем было серое пальто. Сгущались сумерки. Силуэт Ирбе расплывался в сумерках. Ревел проезжавший мимо грузовик. Лязгали буфера прицепа. На проезжей части клубилась пыль.
— Эдите, — сказал Ирбе, — я уже неделю как не пью.
Эдите молчала.
Продолговатое лицо Ирбе с тонкими чертами казалось серым. Волосы будто пылью припорошены.
— С того самого дня… — Ирбе подошел поближе, — Можешь мне верить. Я совсем брошу пить.
Ирбе был сентиментален. И это в свое время не понравилось Эдите. Сентиментальные сумерки, сентиментальная серость, сентиментальный голос, сентиментальные робкие пальцы затронули какую-то душевную струну, и слезы сами собой покатились по щекам Эдите.
Она плакала, а сентиментальный Ирбе переминался с ноги на ногу в полушаге от нее, не решаясь утешить плачущую женщину. Куда там, у самого вот-вот слезы брызнут. Момент решил все. Из двух может плакать только один. Еще неизвестно, чем бы закончился вечер, если б Ирбе обнял Эдите, вытер ей глаза своим белоснежным платком, а затем проводил жену Берза вверх по лестнице до квартиры.
Однако нерешительность и на сей раз подвела.
Эдите достала из сумки платок, высморкалась, вытерла слезы, а больше размазала их по лицу. Она так и не ответила Ирбе. Только теперь Эдите по-настоящему осознала, чего она лишилась. Эдмунд был прост и непосредствен в проявлении чувств. Эдмунд — вот идеальный муж. Другого такого ей не найти. Другого ей и не нужно. Об этом, правда, Эдите в тот момент не подумала, но долгие часы бессонницы как бы вписали свой шифр в подсознание, исключив все иные мысли.
— А я, — сказала она Ирбе, повернув к нему заплаканное лицо, — сейчас пойду и напьюсь!
— Эдите, — опять проговорил Ирбе.
Иных слов у него не было. Нет, этот человек определенно не годился для ответственной миссии. Напрасно надеялась Эдите на его поддержку. Он ей ничего не мог дать. Ни совета, ни помощи. Ни утешения. Ни опоры. Ничего, кроме «Эдите!». Об этом ей говорить не нужно. И без того свое имя знает. Но, может, она несправедлива в своем обострившемся от горя эгоизме? Не имеет значения. Чего он тут топчется, этот Ирбе?
— Ладно, чего там, Ирбе, — сказала она.
Эдите всегда называла его по фамилии, тем самым как бы подчеркивая, что между ними никогда не было близости. Не было и быть не может.
— Спасибо, что вспомнил, — добавила Эдите, — а теперь иди. Я хочу побыть одна.
Она вошла в парадное. На стенах лестничной клетки шелушилась, отслаивалась кусками краска, образуя причудливую карту. Карту неведомых земель, в одной из которых теперь ее Эдмунд.
Эдите обернулась.
Серым силуэтом за дверным стеклом маячил Ирбе. Такси уехало. Цветы обычно приносил шофер. Прежде Ирбе никогда не отпускал такси. А теперь отпустил. На что он рассчитывал сегодня? Уж не решил ли, что ему выпал счастливый билет? Не надеялся ли подняться к ней в квартиру? Чем в ее жизни был Ирбе? Доказательством, что она еще может нравиться — нравиться и пленять? И только? Даже Струге она не рассказала про Ирбе, настолько он незначителен. Ирбе — нуль. Его бы хватил удар, вздумай они его допросить. И тогда некому было бы дарить ей цветы на именины. Чем для нее были эти цветы? Радостью? Отчасти. Но с другой стороны — и укор Эдмунду: вот, полюбуйся, и будь со мной повнимательней. Ирбе? Чувствительный Ирбе до конца своих дней не простил бы Эдите обиду, заподозри она его в убийстве Эдмунда. Да его никто и не заподозрит. Может, все-таки следовало рассказать Струге? Нет, Эдите была убеждена, что Ирбе совершенно непричастен к прискорбному происшествию с мужем.
Войдя в квартиру, она раскрыла встроенный в стеллаж бар, достала бутылку с коньяком, налила основательную порцию в бокал для коктейлей.
Выпила залпом. Даже не взглянула, что за коньяк. Наверно, армянский. В груди потеплело. Эдите повалилась на кровать. Не поев. Не раздевшись. Уснула.
Среди ночи проснулась от жажды. Долго пила на кухне воду из-под крана. Прекрасную воду из озера Балтэзер. Всякий рижанин знает, как она вкусна, эта вода. Вода с бульканьем наполняла стакан. Утоляла жажду, охлаждала нёбо. Хрустальным комом ложилась в нутро. Как бы ей хотелось, чтобы там сейчас шевельнулся ребенок. Да поздно!
В тишине квартиры с металлическим звоном тикали часы. Словно жуткий метроном, меряющий последние секунды перед тем, как на шею осужденного падет нож гильотины. Неужто в самом деле теперь всю жизнь придется провести в одиночестве? А ей всего-навсего тридцать лет.
На оперативном заседании сообщение сделал Валдис Струга.
— Архитектор Эдмунд Берз исчез при загадочных обстоятельствах. Версия: убийство с целью ограбления. Осмотр местности и другие меры никаких результатов не дали. Расспросы близких, друзей, знакомых, показания сослуживцев не содержат ничего важного, на что стоило бы обратить внимание. Ровным счетом ничего. Ни одного факта, который направил бы розыск в нужное русло.
Не обнаружены ни труп, ни машина. Ни частей машины, ни одежды, ни документов — ничего.
Я объявил всесоюзный розыск.
Однако у меня предчувствие, что он, этот розыск, ни к чему не приведет. Разумеется, я не так наивен, чтобы надеяться на скорые результаты, и уж тем более не отрицаю результат вообще. Но, повторяю, у меня предчувствие, что всесоюзный розыск ничего не даст. Искать необходимо здесь, на территории нашей республики, и тут я надеюсь на помощь капитана Пернава.
— Может, он убежал за границу? — подал голос старший лейтенант Губенис.
— Коллега, вам бы следовало знать, что это нереально. К тому же моральный облик Берза, его идейные убеждения, политические взгляды исключают такую возможность.
— Возможность, которую возможно исключить, перестает быть возможностью, — упорствовал Губенис.
Однако его возражения всерьез приняты не были по причине их очевидной нелепости.
— Ни один пост ГАИ не отметил выезд за пределы республики зеленого «Москвича» с указанным номером, — подал голос Федоров. — Похоже, что машина давно разобрана на части. Необходимо усилить наблюдение за черным рынком — не объявятся ли там детали от «Москвича» и какие именно детали.
— Я полагаю, на территории нашей республики машину искать бесполезно, — забасил капитан Пернав. Он уже с полгода гонялся за шайкой ловкачей, угонявших чужие машины, но пока без особых успехов. Автоворы уводили машины со стоянок, из гаражей, просто с улицы перед театрами, и все эти машины пропадали бесследно.
В уголовном розыске ходили слухи, будто капитан Пернав уже висит на хвосте у преступников. Давно бы пора: общественность крайне обеспокоена, начальство торопит, да и самому капитану не терпелось поскорее с этим покончить.
— Вы, что же, ясновидец? — обращаясь к Пернаву, язвительно осведомился старший лейтенант Губенис.
— Выезд машины не отмечен ни одним дорожным постом ГАИ, и тем не менее искать ее на территории нашей республики бесполезно, — со строптивой ноткой в голосе повторил капитан Пернав.
— Так, может, она улетела по воздуху? — никак не мог угомониться Губенис.
Для уточнения некоторых обстоятельств капитан Пернав попросил предоставить ему два дня.
Через сутки на берегу Ладожского озера возле домика смотрителя маяка остановилась серебристо-серая «Волга» с государственным номером.
Смотритель указал, где затонула лодка. Двое аквалангистов, приехавших с капитаном Пернавом, приготовились к спуску.
— Видать, у них мотор забарахлил, — рассказывал смотритель. — Катер, правда, тут же вышел на помощь, да не поспел. Их прямо на камни вынесло. А оба трупа вон там выбросило.
— Мы их вчера осмотрели, — сказал капитан Пернав. — Ну, ребята, скорее под воду!
Вместительная моторка лежала с поломанным днищем на глубине восемнадцати метров. На борту обнаружили большое количество запасных частей для машины. Два мотора.
Из Ленинграда подошло спасательное судно, груз подняли. На одном из моторов оказался номер принадлежавшего Берзу автомобиля. Так вот каким путем уходили краденые машины!
К сожалению, оба пассажира утонули. Утерянные звенья цепи придется искать на берегу. Но теперь сотрудники уголовного розыска надеялись распутать клубок. Капитан Пернав не ошибся в своем предположении.
Исчезновение Берза таким образом объяснилось. Трагическая судьба его не вызывала сомнений. Оставалось выяснить, кто и при каких обстоятельствах совершил преступление. Оставалось схватить преступников, предать их суду.
И разыскать останки Берза.
IV
Струга внимательно следил за работой оперативной группы капитана Пернава. Клубок разматывался. В уголовном розыске собиралось все больше фактов о шайке похитителей машин. Подчас от отдельных лиц узнавали всего-навсего одну деталь, но точно так же, как муравьи, перетаскивая по одной хвоинке, выстраивают высокий муравейник, так из мелких деталей наконец составилась полная и убедительная картина деятельности преступников.
Удалось обнаружить их базу.
На заброшенный хутор у реки в просторный сарай пригонялись автомобили. Там их разбирали. Неходовой товар топили в реке.
В сарае размещалась хорошо оборудованная слесарная мастерская. Нашли краску, которой перекрашивали краденые машины. Отыскали также ящик с номерами. Значит, часть машин все-таки угонялась за пределы республики по дорогам.
В особом тайнике обнаружили все необходимое для фабрикации подложных документов. Дело было поставлено на широкую ногу.
Были арестованы перекупщики ворованных деталей. Один из них и указал местонахождение сарая. Но главные преступники успели скрыться, сработала какая-то секретная система оповещения. Считали, что шайка состоит из нескольких человек, в их числе механики высокой квалификации. Двое, возможно, погибли во время шторма на озере. А остальные?
В деле фигурировала фотография главаря банды.
Удалось установить его личность.
Когда Валдис Струга, по своему обыкновению ничего не оставлявший без проверки, проверил показания Мары, оказалось, что в Комитете госбезопасности Карлис Диндан никогда не работал.
Потрясенная Мара подтвердила, что человек с фотографии и есть Карлис Диндан, ее пропавший жених.
Возле хутора «Спрунги», где жила Мара, была устроена засада.
Карлис Диндан? Да, есть такой, прописан в Риге. Тридцать два года, закончил среднюю школу, отслужил три года в армии, затем два года проработал в таксомоторном парке, три — на автобазе. В таксомоторном парке — шофером, на базе — автомехаником.
Родители Диндана жили в Риге, оба в прошлом учителя, сейчас на пенсии, жили в достатке, пользовались уважением. Карлис у них единственный сын. Родители немного смогли рассказать о нем. Домой заявлялся редко. По большей части обретался где-то в деревне, у какой-то девицы. Вообще женщины — его слабость. Вот уж несколько месяцев не появлялся. Может, женился, где-то осел? С ними он не очень-то делился. Вроде бы в Вентспилсе.
Теперь уже Струга не сомневался в своей версии.
Двое или трое остановили на дороге машину, попросили подвезти до города. Назвались запоздавшими грибниками или рыбаками. Берз взял их в машину. А может, Диндан действовал в одиночку?
Они убили Берза и в глухом месте отделались от трупа. Зашили в мешок с камнями и потопили в болоте. Подобным же образом они поступали с неходовым товаром.
Пернав тоже был убежден, что в смерти Берза повинен Диндан. Таким образом на его совести было еще и убийство. Это позволяло при задержании преступника в случае необходимости применить оружие.
Диндана выследили в маленьком городке.
Он как раз читал в публичной библиотеке «Оливера Твиста», когда за ним явилась милиция. Диндан выскочил в окно. Выстрелом его ранили в руку. Все же ему удалось скрыться.
Месяц с небольшим после исчезновения Берза, когда земля замерзла, но снег еще не выпал, пришло известие, что Диндан обнаружен на заброшенном лесном хуторе.
Туда сразу же выехал капитан Пернав во главе усиленной группы. И Струга был с ними. Дом окружили. Милиционеры все — с автоматами. В тишине было слышно, как под ногами рассыпались затвердевшие комья земли. Дом был уже близко.
В безоблачном небе над седыми елями с криком кружили вороны. Кровля старой риги зияла дырами. Внутри гулял ветер, в углу — развороченная овинная печь. Бурьян в рост человека окружал заброшенный дом. Бревна потрескались, труба развалилась.
Струга замер за стволом старой липы на краю двора. В одном из окон мелькнуло чье-то лицо.
Диндан был один.
Он только что растопил печь, жарил к обеду кусок окорока. Печь топил сухими дровами, дыма почти не было.
Девять лет назад таким же ясным осенним днем он, едва вернувшись с армейской службы, приступил к работе в таксомоторном парке.
Новая работа Диндану поначалу нравилась. Но позже, когда стал входить во все ее тонкости, его неприятно поразила черта, которую он в себе обнаружил.
Страх перед пассажирами.
Разумеется, для страха имелись причины. Известны были случаи, в которых пострадали товарищи по работе, водители такси — ударом с заднего сиденья их сначала оглушали, затем грабили, забирая те небольшие деньги, что удавалось выручить за день разъездов.
Когда приходилось работать в поздние часы и пассажир садился на заднее сиденье, Диндана охватывал страх. Сперва казалось, это даже не страх, а просто чувство неловкости, какое-то смутное беспокойство. Так и хотелось повернуть голову, посмотреть на пассажира, не выпускать его из виду. Диндан старался так установить зеркало, чтобы хоть сколько-нибудь видеть пассажира, а если тот жался в угол, сидел нахохлившись, вне поля зрения, Диндану делалось не по себе.
Лишь со временем до него дошло, что это чувство неловкости, смутное беспокойство, зуд и трепет не что иное, как страх.
Чем отдаленней был маршрут, тем больший страх испытывал Диндан. Неохотно он брался везти на окраины, например в Пурвциемс, Ильгуциемс, в Межапарк или Кенгарагс.
Как-то к Диндану сели двое подвыпивших мужчин и попросили отвезти их в Вецмилгравис. Туда он приехал, весь взмокнув от страха.
Страх нарастал с каждым километром, страх накатывал, растекался по жилам с каждым оборотом мотора.
Тревожно постукивал счетчик, переводя расстояние в рубли и копейки, и точно так же беспокойно стучало у Диндана сердце, переводя расстояние в страх.
Машина неслась по шоссе со скоростью девяносто километров, но еще быстрее разносился по телу страх.
Стекла в машине были опущены, волосы трепыхались на ветру, но еще сильнее трепыхалась от страха душа Диндана.
Ветер гулял по кабине, обдавая Диндана сивушным дыханием пассажиров, обдавая страхом от присутствия пассажиров. Диндан дышал этим страхом, он проникал во все поры, грузный, мутный, угарный страх спирал дыхание, сжимал сердце, холодил нутро.
Диндан, словно невзначай, опустил руку на лежавший рядом гаечный ключ — «ночной тариф», как на водительском жаргоне называли это орудие защиты.
Но Диндан не был уверен, сумеет ли он опередить, когда те вздумают нанести ему удар.
Оба седока вели себя совсем не так, как обычно ведут себя пьяные. Не болтали о женщинах, не матерились, не пели, не рассказывали анекдоты, не икали, не курили, не блевали. Мрачно хранили молчание.
Хотя стекла были опущены, тяжкий, въедливый запах алкоголя наполнял кабину, и чем дальше, тем больше Диндан чувствовал себя букашкой, посаженной в банку с хлороформом, чтобы, как только она задохнется, наколоть ее на булавку и присоединить к остальной коллекции.
Остановить машину, потребовать, чтобы вышли?
Нет оснований. С какой стати? Боюсь, что вы меня убьете и ограбите? Чепуха! Или же: вы пьяны, я вас отказываюсь дальше везти. Тоже ерунда. Они вовсе не вели себя, как пьяные, эти парни умели держать себя в руках.
У одного из них, того, что сидел позади, был обернутый в газету четырехугольный продолговатый сверток. Как-то товарищу по работе Диндана пробили голову таким вот «свертком». Кирпичом, обернутым в газету «Спорт».
Названная улица находилась на самой окраине.
Сворачивая на нее, Диндан почувствовал, как что-то кольнуло в сердце. Уж не инфаркт ли? Нет. Предчувствие. Вот сейчас здесь все произойдет…
Диндан развернулся боком, руль держал одной рукой. Второй, опущенной на сиденье, крепко сжимал гаечный ключ. Он был прикрыт сверху тряпкой.
Парни чуть ли не в один голос сказали: «Стоп».
Диндан остановил машину, выжал сцепление, тормоз, не переводя рычаг в нейтральное положение, иначе ему пришлось бы снять руку с «ночного тарифа». В случае необходимости он не сумел бы сразу тронуться с места, рычаг остался на третьей скорости. Улочка была песчаная.
Не переставая внутренне дрожать, Диндан ждал денег или удара.
Один из пассажиров достал кошелек, протянул трехрублевку. Нужно было дать сдачи. Значит, придется отпустить гаечный ключ. И тут Диндан разозлился и на себя и на свой страх, свою трусость. И в то же время он почувствовал жгучую ненависть к тем двоим, которые внушили ему этот страх. А, будь что будет. Пусть убивают. Стоит ли жить, когда ты такой трус. И Диндан, покрепче сжав ключ, сердито сказал:
— Поищите деньги помельче! У меня нет сдачи!
— Ничего, ничего, — пробормотал один из пассажиров, — пусть вам останется!
И в тот момент Диндану подумалось, что, может, и парни испугались его свирепого вида, лежавшей на тряпке руки? Рука, лежавшая на тряпке, нагнала на них страх? Ха-ха! Мужчины вылезли из машины, вошли во двор, хлопнула калитка.
Ветер ласково обдувал кабину, смывал остатки страха. Из сада тянуло запахом перегноя, опавшей листвы. На штакетнике забора зеленел мох. Мир казался надежным и безопасным.
Диндан перевел рычаг на вторую скорость, машина тронулась с места.
Если я чувствую страх, подумал Диндан, значит, и другие должны его испытывать. Возможно, они лучше справляются со своими страхами или больше надеются на собственные силы? Я же не умею держать себя в рамках. Страх мешает мне здраво мыслить. Вот в чем беда. Паниковать и здраво мыслить — вещи несовместимые. А мыслить надо всегда. Человек умный и ловкий мог бы использовать чужие страхи, извлекать из них выгоду. Использовать чужие страхи? О своих страхах люди говорят неохотно. Многие ли водители испытывают страх, перевозя подозрительных типов? Этого Диндан не знал, но считал, что люди, по существу, мало чем отличаются друг от друга.
Диндан не смог побороть своих страхов и потому расстался с работой в таксомоторном парке. Он был и отличным механиком, знал машину до последнего винтика. Но и это его мало радовало.
У каждого в жизни свой потолок, рассуждал Диндан, выше него не прыгнешь. Диндан все больше убеждался, что потолок этот нужно поддерживать постоянной и кропотливой работой, а отдых приходит лишь с пенсией. Такая перспектива Диндана не устраивала. Ему хотелось поскорее преуспеть в жизни, еще в молодости изведать все ее удовольствия. Деньги и страх? Вот что следует использовать. Он не видел вокруг себя опоры, которая помогала бы ему найти силы для честной трудовой жизни. В христианские заповеди Диндан не верил. Коммунистическое общество ему было чуждо. Как раз частная собственность в его глазах была основной движущей силой прогресса. И он решил, что пробил его час. Одни люди выступают в роли овечек, а другие в роли тех, кто этих овечек стрижет. Ему хотелось быть с теми, кто стрижет. Оставалось обзавестись ножницами.
Что там общество, убеждал себя Диндан, оно из меня, как из лимона, все соки выжмет и под конец выбросит на кладбище. Общество о том только и думает, как бы получше меня использовать, взять от меня все, что можно, а напоследок собирается откупиться пенсией.
Неужто я стану помогать им добивать себя? Нет, не дождутся! Я хочу жить не хуже любого и каждого, но у меня достаточно ума, чтобы не гнуть спину, как любой и каждый. Пить все самое лучшее, есть все самое лучшее— это мне необходимо, и вообще — жить на широкую ногу. Молоды бываем один раз, а на старости лет зачем мне все накопленное добро. Диндан, сказало бы мне общество, вздумай я ему открыться, ты, наверно, хлебнул лишнего, не то говоришь, иди-ка постой у станка, полезай в яму под автомобиль, вкалывай почем зря, и у тебя будет все, чего ни захочешь. Поверь нам: труд — вот самое главное в жизни. Нет, дудки, ныне не те времена! Теперь надо хватать и рвать, где только можно. Эти дурьи головы, человеколюбы, для того и существуют, чтобы их доить. У тебя машина? Я тоже хочу машину. Отдай мне свою машину! Ты бережливый, работящий, заработаешь еще на одну, а эту я перепродам кому-нибудь, кто тоже бережлив и работящ. Теперь деньги, слава богу, есть у всех. Все хотят иметь машину. И получат ее. Что кому-то досталось с трудом, легко пройдет через мои руки. Вот моя философия.
Диндан обзавелся ножницами, выработал систему. Наметил путь и подобрал попутчиков. Он любил деньги и красивые вещи. Любил красивых женщин. Утехи любовные, утехи денежные. Нравилось ему быть богатым и свободным от всяких обязательств. Для достижения поставленной цели он сил не жалел.
Диндан не мог не понимать, что успеха в жизни он не добился по причине своего слабоволия. Эта мысль точила его — ему хотелось считать себя волевым человеком. Он искал всяческие отговорки. Искал причин вне себя. И причин находилось более чем достаточно, причины множились, как черви в гнилом грибе, причины все заслоняли, и Диндан приходил к выводу, что у него железная воля, и волю эту он направил на организацию преступлений. Но для долгой игры не хватило упорства, уменья, изворотливости, и вот: дал промаху с Берзом. И не будь даже Берза, он продержался бы на неделю дольше. Может, на месяц. Что, впрочем, маловероятно. Промах же дал потому, что не мог его не дать. Промах был заложен в мировоззрении, промах был закономерностью.
К тому же он нарушил и собственную заповедь: не трогать людей, только машины.
Не хочу трястись от страха, так рассуждал он когда-то, становясь на путь преступлений, лучше заставить от страха трястись других. Но для этого нужно знать людей досконально, до последнего винтика. Диндан разбирался только в автомобилях. И он решил ограничиться автомобилями.
Правда, по случаю как-то ограбил колхозную кассу. В кругу друзей он тогда похвалялся:
— Пусть они там попляшут! Думаете, меня поймают? Охота им была за мной гоняться! Другое дело, если б я засунул лапу в государственный карман, тогда бы мигом разыскали. А частные машины и какая-то там колхозная касса? Государству урон невелик. Вот я и говорю вам, в нашем распоряжении мелкие частники, их мы и будем доить. Но без рукоприкладства. Чтоб никаких мокрых дел, понятно?
Диндан полагал, что большая часть преступных дел вершится неумело, непродуманно, неуклюже, бессистемно, без плана, без искры божьей, необходимого размаха, а также, что совсем немаловажно, без азарта, иначе говоря — без везения.
Свой бизнес он собирался построить на прочной основе. Он был убежден, что при соблюдении техники безопасности и необходимых мер предосторожности можно действовать безнаказанно. Потому он тщательно подбирал себе помощников. Они должны держаться тех же взглядов, что и он. Двоих, всего двоих, но таких, чтоб можно было вполне положиться.
Через третье лицо Диндан поддерживал связь с черным рынком. Человеку этому было известно и местонахождение базы — Диндан был совершенно уверен в нем, — но вот его выследили, и он признался во всем.
У Диндана нашлись покупатели на юге страны, транспортировка, правда, отнимала много сил и времени, хотя и окупалась с лихвой.
Непреложно соблюдался закон: в своей республике деньгами не сорить. Деньги по возможности обращать в ценные металлы — серебро, золото, платину. Самим жить поскромнее. Те двое числились на постоянных работах. Только он, Диндан, не работал.
И хотя Диндан чуть ли не целый год выходил сухим из воды, расставленные вокруг него сети затягивались все туже. Когда он заметил их, было уже поздно.
У Диндана водились деньги, в ресторане соседней республики он мог за вечер оставить сумму в размере месячного оклада бухгалтера. У него был прекрасный мотоцикл с коляской, любовницы в разных уголках республики, но Диндану частенько становилось не по себе. Ему хотелось уверенно смотреть людям в глаза, а уверенность эта растрачивалась на борьбу с собственным комплексом неполноценности. Единоборство с самим собой подчас начисто скрадывало радость жизни. У него были деньги, хотелось их тратить, а он чувствовал себя законсервированной золотой рыбкой — на что ей золотые чешуйки, все равно их никто не видит. То, что его деятельность
протекала втайне от всех, понемногу изводило Диндана, ему хотелось всеобщего признания, а как раз этого избранный род занятий не мог ему дать, отсюда новый душевный разлад.
В таком вот невеселом настроении на одном из деревенских балов он познакомился с Марой. Для нее он сочинил прекрасную легенду о себе, о своей в высшей степени опасной работе по искоренению всякого рода преступников, рассказывал о своих приключениях, бессонных ночах, проводимых на страже общественного спокойствия. Он сказал Маре, что работает в Комитете госбезопасности.
И Мара, невинное создание, познакомившись со столь необычным человеком, сразу влюбилась. Диндан даже удивился. Наружность он имел заурядную. До сих пор благосклонности у женщин добивался главным образом подарками, не считаясь с тратами, а тут его впервые полюбили во имя возвышенных, хотя и вымышленных, качеств.
В жизни Диндана наступили перемены.
Он не отказался от преступной деятельности. Он просто взял себе отпуск. Неделями пропадал у Мары. Ему нравилась Мара, и он пообещал на ней жениться. Свадьбу условились сыграть зимой.
Но с начала лета повадился наезжать к родителям Берз. Во время его первого приезда Диндан выполнял «очередное задание». Когда вернулся, Мара по простоте душевной рассказала ему, какой чудесный человек архитектор Берз, живет по соседству, они вместе купались и так душевно побеседовали. Душевно побеседовали? О женщинах Диндан имел вполне сложившиеся представления, и это «душевно побеседовали» он истолковал по-своему. Женщина — улица с односторонним движением, говорил обычно Диндан. Душевно побеседовали? Диндана будто ножом полоснули. Но смолчал. Слишком уж он привязался к Маре. Не устраивать же сцену из-за какого-то архитектора. Однако он стал присматривать за Берзом. Любовно оглядывал его новенький «Москвич». Наш клиент, с усмешкой думал про себя Диндан. А сам кипел от ревности.
Однажды — это было в первых числах сентября — ему попался на глаза беспомощный рисунок Мары, слегка подправленный Берзом. Вот как далеко у них зашло! Диндан в клочья разорвал рисунок и уехал, даже не простившись. Мара долго стояла посреди двора вся в слезах.
У Диндана созрело решение.
До сих пор Диндан распоряжался чужим имуществом, теперь же вздумал распорядиться чужой жизнью. У него созрел дерзкий план: не замарав руки кровью, отделаться от Берза. К нему он испытывал дикую злобу. Этот человек, в общем-то ничем не отличаясь от Диндана, — как и он, ходил на двух ногах, имел на плечах одну голову, — пользовался всеобщим признанием, славой. Распорядиться чужой жизнью? Диндан решил, что ему нужен волевой поступок, чтобы уравновесить смятение и растерянность.
Все шло гладко.
И правда, в первые дни после совершенного преступления он ощущал необыкновенный душевный подъем, чувствовал себя повелителем, грозным судьей, занесшим карающий меч над головами беззаботных простачков.
Двое других подручных были при нем лишь послушными исполнителями его воли. Для них остались скрытыми побудительные мотивы Диндана. Они бы их не поняли, если б и сумели заглянуть в тайники души Диндана.
Тайники души? Побудительные мотивы? Чепуха, штампы, шаблоны! Вздор! Все просто и ясно. Угрызений совести Диндан не чувствовал, какие тут к черту тайники души, побудительные причины?
Эгоизм Диндана был тем островом, на котором он стоял среди моря людских суждений.
Как его все-таки злили восторженные речи Мары! Эдмунд Берз человек известный, с большим будущим, с блестящей перспективой… Ненависть и ничего кроме ненависти Диндан не чувствовал к Берзу, этому баловню судьбы, ему все само собой падало в руки лишь потому, что он сумел осилить математические формулы и разглядеть гармонию линий.
Но желания прикончить Берза у Диндана не было. Хотелось только дать понять этому счастливчику, насколько неприглядна и мрачна обратная сторона зеркала, дать понять, как непрочно и преходяще его кажущееся столь устойчивым существование. И это Диндану как будто удалось.
В городишке Н. Диндан улизнул от верного ареста. Раненую руку перевязал человек не вполне надежный. Рана оказалась неопасной, но боль была сильная. Диндан почел за лучшее смыться.
О его розыске было объявлено по телевидению. Это он знал. Перекупщик, связанный с базой, арестован, мастерская раскрыта. К родным и знакомым не явишься. Двое его подручных, взяв на работе отпуск, на рыбачьей лодке отправились в долгое путешествие по водам, на юг, теперь уж, наверно, достигли низовьев Волги, у них с собой достаточно товара, придется им самим о себе позаботиться.
О катастрофе на Ладожском озере Диндан не знал.
Аэропорты, железнодорожные станции, дороги наверняка под наблюдением. Вырваться из республики, к тому же с раненой рукой, казалось делом немыслимым.
Диндан решил использовать давно облюбованный тайник, брошенный дом в чаще леса. В свое время, разъезжая на мотоцикле в поисках надежного места для устройства базы, он натыкался на десятки таких домов. Теперь и решил там отсидеться, пока схлынет первая горячка розыска.
Просторный дом на опушке. Кругом густые, в буреломе боры. Болота среди редких пригорков. Не каждый сумеет там отыскать тропу. Мрачное место, даже грибники сюда не заглядывали. На лесных дорогах вывешены знаки: въезд запрещен. Над проезжей частью нависли наполовину вырванные бурей деревья. Диндан был доволен. Благополучно пробрался под буреломом, преодолел все рытвины и ухабы. С тихим урчанием мотоцикл въехал на пустынный двор.
Старуха хозяйка, коротавшая здесь в одиночестве последние годы, умерла несколько лет назад, ее родичей раскидала война, рассеяли по миру беспокойные ветры. Дом стоял покинутый. Все мало-мальски ценное растащили. Только на чердаке валялось кое-какое тряпье да груда опорок.
Окна, как ни странно, остались целы. Обычно в заброшенных домах прежде всего выбивают стекла.
Спрятав мотоцикл в полуразвалившейся риге под ворохом слежавшейся соломы, Диндан стал устраиваться в доме. Он прихватил с собой недели на две продуктов. Мясо опустил в колодец. От прогнившего сруба в колодец насыпалось трухи, каких-то червячков, букашек, вода для питья была непригодна. Но поблизости протекал ручей. Окрестности он знал. Были тут и лесные луга. Лесхоз косил там сено. Но сено давно убрано, свезено, охота здесь запрещена, так что можно не бояться появления людей. Разве кто случайно забредет.
Посреди дома громоздилась печь. Вокруг нее располагались комнаты, кухня, чулан. Было прохладно, приходилось топить. Диндан расколол все двери, пустил их на топливо. Рука побаливала, колол он здоровой рукой, горячо и со злостью.
Пустил в расход и шаткие столы, скамейки, оставив только стул. Постепенно принялся за стенные перегородки. Сухое дерево давало много тепла, горело почти без дыма.
По ночам он лежал на печи, радуясь, что может обозревать теперь сразу все пять окон. Ни дверей, ни перегородок. Единственное окно, невидимое с печки, — его укрывал дымоход, — Диндан заколотил толстыми досками. Доски он притащил с чердака.
На печке он чувствовал себя, как в крепости. К тому же тепло. Чтобы спать по ночам спокойно, он еще раньше предусмотрительно накупил звоночков, из тех, что рыбаки привязывают к удочкам. Устроил сигнализацию, перекрыв подступы к окнам тонкими нитками. Стоило задеть нитку, начинал позванивать звоночек. Звон этот Диндан, сам когда-то страстный рыболов, слышал даже сквозь сон. Сигнализация внушала чувство безопасности.
Первые ночи Диндан спал спокойно, будучи уверен, что обвел преследователей вокруг пальца. Похрапывал во сне. Живот до отказа набит окороком, сыром вперемешку со сладким вином. Диндан питал слабость к густым сладким винам. От них голова не болела и наутро никакого похмелья. Пистолет лежал под рукой.
Прошло несколько дней. Рана заживала.
Диндан почувствовал первые признаки беспокойства. Томило безделье. Это его раздражало. Диндан раньше охотно предавался безделью, например во время наездов к Маре. Там за ним все убирали, готовили ему обеды, В его безделье с ним всегда был человек, который им восхищался, обожал его, рядом с ним была и любовница и друг — все в одном лице.
Теперь ему было тяжко без женщин. Добрую и лучшую часть своей жизни он провел рядом с ними. Женщины его холили, одевали, жалели, кормили, любили, Но в нынешний век техники ввели в моду мерзкую привычку показывать по телевизору фотографии разыскиваемых лиц, так что было бы рискованно у кого-то появиться. Все знакомые ему женщины аккуратно смотрели телевизор.
Мара жила слишком близко от дома Берза, уж, конечно, ее успели допросить, и она все рассказала про Диндана. То, что он не имеет никакого отношения к Комитету госбезопасности, — это проверить проще простого. Теперь уж и Мара знает.
Обшарив чердак, Диндан не нашел там ничего, кроме старых календарей. От скуки почитывал календари. Потом попалась книжонка о страшных проделках некогда знаменитого разбойника Каупена. Ее-то читать не следовало. Каупена повесили. У Диндана пропал сон. Пугала возможность провала. Раньше он никогда не давал воли подобным сомнениям. Его предприятие, возведенное, казалось бы, на прочной основе, рухнуло. Добротная пища и праздная жизнь подогревали воображение, и Диндан порой чувствовал себя затравленным зверем.
Как-то он проснулся среди ночи. По телу струился холодный пот. Привиделся жуткий сон. Диндан не мог вспомнить, в чем было дело, но сон был жуткий.
Может, он был навеян каким-то привидением, жившим в заброшенном доме, каким-то жестоким насилием, немым свидетелем которого остались стены, а может, сон этот всплыл из глубин подсознания самого Диндана, где исподволь зарождалось отчаяние.
Он не умел жить без людей. Он не терпел одиночества. Нет, его не мучили угрызения совести, у него не было сожалений, просто он не был приспособлен к одиночеству. Никогда не оставался подолгу один. Оставаться наедине с самим собой для него было равносильно наказанию. С какой бы охотой он сейчас побродил среди чужих людей в чужом городе.
Временами приходили мысли о тюрьме. Оказаться в тюрьме?
Среди своих?
Разве теперешнее его положение не хуже, чем тюрьма? И все же нет! Он был свободен, мог располагать своим временем, как ему заблагорассудится, мог спать, вставать, когда захочет. А в тюрьме? Разве в тюрьме настоящие люди? Какие они к черту свои? Жалкие неудачники— вот кто отсиживался в тюрьмах, безголовые тупицы, у которых не хватило мозгов, чтобы обойти расставленные законом силки. Нет, с этими недоумками у него не может быть ничего общего. Ему необходимо общество свободных людей.
Однако сам себя свободным он уже не чувствовал. Его свобода была под угрозой. Его опять преследовал страх. Он не желал быть пойманным. Да, себе-то можно признаться: сколько раз, как и в те поздние часы, когда отвозил на окраину пассажиров, его сердце снова сжималось от страха.
Страх всю жизнь преследовал Диндана.
Сначала, мучимый страхом за свою жизнь, он распростился с таксомоторным парком.
Позднее его донимал страх (впрочем, он это называл раздумьями), что не успеет насладиться жизнью, сорвать сладкие плоды молодости.
Преступная деятельность дала ему средства, чтобы насладиться жизнью, однако теперь он боялся, что не успеет истратить деньги, потому что его свобода находилась в опасности.
Так ловко устранив соперника, он вдруг осознал, что круг замкнулся, что он вернулся к тому, с чего начал, — вернулся к страхам за свою жизнь.
Станут они со мной цацкаться, раздумывал Диндан. Придут, пиф-пиф, долой с копыт, и все дела.
Диндан боялся такого оборота. Боялся, что при аресте не будет соблюдена законность. Тут вдруг он сделался поборником закона, он знал, что имеет право на арест, на расследование, право на судебное разбирательство, и только тогда — приговор.
Но выстрелы, поцарапавшие предплечье, когда он выпрыгивал из окна библиотеки, навели его на горькие размышления.
Единственным средством от страха, известным Диндану, была сила.
Сила — кирпич, обернутый в газету, сила — «ночной тариф», прикрытый промасленной тряпкой, сила — распоряжаться чужим добром, сила — черное отверстие дула, сила — неотразимость денежных ассигнаций, сила— мужская мощь на ложе любви. Все это служило Диндану оружием от страха, но здесь оно оказалось непригодным.
Потому что Диндан был один.
Он не мог оглушить страх «ночным тарифом», не мог сбыть свой страх, как запчасти автомобиля, не мог пристрелить его, как неугодного человека, не мог купить страх, как покупают потаскуху, не мог переспать со страхом при всей своей мужской силе.
Страх сжился с ним, был от него неотделим, им и держался. Диндан от него не мог отделаться с помощью доводов рассудка, ведь рассудок каждому дается по его заслугам.
В его мироздании произошла какая-то поломка. На полном ходу отказало рулевое управление, и машина полетела в кювет. Теперь ничего не поправить. Он не достиг намеченной цели. Он был связан по рукам и ногам и не мог жить так, как ему хочется.
Ему хотелось общества, а он был вынужден хорониться от людей.
У него были деньги, но не было возможности их тратить.
Ему хотелось любить женщин, а вместо этого он, лежа на печи, был вынужден заниматься онанизмом.
Подобная жизнь представлялась ему омерзительной. Но он был чересчур горд и заносчив, чтобы признать поражение. В расчеты вкралась ошибка, он вовремя ее не заметил, только и всего. Впредь таких ошибок не повторится.
Я вполне доволен жизнью, убеждал он себя. Немного терпения, вот что сейчас необходимо. Вскоре я покину Латвию с чистыми документами, с мешком денег впридачу. Свет клином не сошелся, Союз велик, где-нибудь да найдется подходящее дело для ловкого парня. Облюбую место. Построю себе дом. Куплю машину. Обзаведусь женой. Подыщу спокойную работенку. Будет у меня магнитофон, телевизор, холодильник и все прочее. Не придется вытаскивать окорок из вонючего колодца. Раскрыл белую дверку — и бери, что хочешь. Я достаточно заработал, чтобы пожить в свое удовольствие. Надоело обмирать от страха. Впрочем, дом строить не буду. Найду девчонку прямо с домом. А почему бы и нет!
Но это было бахвальство. Он сам чувствовал. Сердце томилось по Маре, тосковало по ее горячим ласкам. В кругу приятелей Диндан нередко говорил непотребные вещи о любви и женщинах, а тут вдруг понял, что эта любовь его — единственная и настоящая. По ночам он просыпался на печи от того, что чувствовал, как в спину вонзаются острые когти Мары. Предаваясь с Марой ласкам, Диндан всегда надевал рубашку поплотнее, иначе Мара в забытьи могла, как кошка, расцарапать спину.
Ветер шумел за окном в вековых липах. Сладкое дыхание Мары теперь не для него. Не видать ему теперь Мары. А может, он сам так захотел? Он толком не знал, хотелось ли ему иметь Мару подругой жизни или только для своих утех. Она чересчур простовата, раздумывал Диндан. У него перебывало много женщин, а он тосковал по Маре. Садовнице Маре. Большой был соблазн сесть на мотоцикл, поехать, повидать ее.
Ну нет! Тут никаких сомнений: Мару уже допросили, она знает правду о нем. Теперь многие знают, что воровал, что разделался с Берзом. И он не мог избавиться от чувства, что его не только догола раздели, но еще и вывернули наизнанку. По-настоящему жить можно лишь при условии, что ты скрыт мраком неизвестности. Много ли нашлось бы таких, кто остался бы невозмутим, рассейся этот мрак, обнажи он их укромные делишки? Если б все о них знали все? Как сейчас о Диндане?
Маре будет больно? Переживет ли? Да уж, наверно, переживет. Легкомысленная, ветреная? Пожалуй, нет. Она тоже что-то искала. Мара нравилась Диндану своей душевной ясностью, чистотою. И как он мог вообразить такую гадость о Маре и Берзе? По себе судил. Так славно они с Марой мечтали о будущем, лежа на сеновале. Будет жизнь, будут дети.
— Родится мальчик, назовем его Петером, если девочка — Аннушкой.
— Нет, — со смехом возражал Диндан, — будет мальчик, назовем его Адольфом-Густавом де Эверальдом!
— Да ты что! Кто выговорит такое имя! — Она и вправду поверила и не на шутку встревожилась.
Простушка. А ведь он ее ни разу не обманывал. Диндан разработал теорию, по которой выходило, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не лжет.
Да, действительно, той ночью, на сеновале, он обещал жениться на Маре, даже срок свадьбы назначил. Но той ночью он и в самом деле был настроен на женитьбу. В тот миг, давая обещание, он верил, что выполнит его. Вот и получается: он не лгал, хотя и знал, что завтра будет думать иначе. Говорят же, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку, а поток сознания еще более своенравен. Сам он тоже менялся, убеждал он себя, и потому меняются его мысли. Но лгать он никогда не лжет.
Так рассуждал он во всех случаях жизни.
Да, Мара! По ночам, лежа на теплой печи, он во всех подробностях вспоминал, как они любили друг друга, и те воспоминания немного разгоняли страх.
Чем дальше он жил в одиночестве, наедаясь до отвала, тем чаще во сне его донимали кошмары, и засыпал он только на рассвете.
Иной раз, прочистив пистолет и загоняя в рукоятку обойму, он думал: ну что, может, приставить к виску, спустить курок? И все дела. Никаких забот, сомнений, головоломок. Не придется беспокоиться о документах, о зиме, о том, что делать дальше. Никаких страхов. Провалиться в бездонную пропасть. Наверно, все происходит мгновенно, не успеешь и боль ощутить. Он в себе чувствовал неодолимое желание приставить дуло к виску, нажать на спуск.
Он понимал: нервы шалят. Когда к нему подступали подобные мысли, он хватал топор и начинал кромсать стенные перегородки. Ему нужны были сухие дрова. Рука была в порядке. Рана зажила. В ближайшее время он собирался смываться.
Но куда? В пустоту? К родным явиться не мог. Уж он прекрасно знал и своих родителей и родичей, те бы отвернулись от него с омерзением. Все связи с людьми, которые установились за тридцать два года жизни, были утрачены, растеряны, порваны. Один как перст, один.
Терзаемый подобными мыслями, он беспокойно расхаживал по развороченному дому. Загнали в ловушку? Они добились своего! Под словом «они» Диндан имел в виду всех вне ловушки. Ну нет, он вырвется.
Диндан привык только брать, ничего не давая взамен. Краденые автомобили, спекуляция запчастями, ограбление колхозной кассы и наконец — эта дурацкая затея с Берзом.
О Берзе он особенно не ломал голову. Если Берз погиб, Диндан не виноват. Руки у него чистые. Так он себя утешал. Страх за свою собственную жизнь не давал покоя Диндану. Страх и сумятица в мыслях.
В последние дни пропал аппетит. Еда застревала в горле. Сплошная сухомятка. Окорок, черствый хлеб. Масло. Сыр. Вино. Вино было допито. Продукты на исходе. Уже несколько раз он пытался покинуть тайник. Но страх удерживал.
Свою ловушку он повсюду носил с собой. От ловушки его могла избавить только смерть. Или чистосердечное раскаяние. Умирать Диндан не хотел. Раскаиваться не умел. Оставалось выжидать. Выжидать момент, когда можно будет вернуться к жизни, ее радостям.
Он подбросил в печку дров. Выпрямился. Глянул в окно. У него перехватило дыхание. К дому приближались люди с автоматами.
Девятизарядный пистолет «Беретта» лежал всегда под рукой. Диндан спустил предохранитель. Посмотрел в противоположное окно — тоже люди. Милиция. Уже в саду! Поблескивали вороненые стволы автоматов. Влип!
Вот оно! Развязка? А, будь что будет! Страха как не бывало. Да и был ли он? Диндан давно изжил свой страх, вместе с потом на печи его выпарил, утопил в гнилом колодце, из ручья его вычерпал, растерял в бору, собирая грибы, в кошмарных снах своих высмотрел, переборол даже будущие страхи.
И пришло облегчение, но вместе с тем и злость.
Он не помнил, как когда-то сам поступал с людьми, он возмущался тем, как с ним собираются поступить. Сволочи легавые, ругался про себя Диндан, скользя от окна к окну, выжидая, когда осаждавшие подойдут поближе, чтобы стрелять наверняка. Выследили, гады! Сами ишачат в поте лица, хотят и других заставить! Так просто меня не возьмете. Ишь, с автоматами притащились.

Дулом выбил оконное стекло, и еще не успели осколки коснуться земли, как он выстрелил по надвигавшимся фигурам.
Выстрелил дважды.
После выстрелов Диндан отскочил от окна, плюхнулся на пол. И вовремя. В окно посыпались пули. Цик, цок, цик, цок — щелкали они, впиваясь в стены. Зазвенели рыболовные колокольчики. Значит, Берза все-таки нет в живых. Об этом можно было догадаться еще тогда в библиотеке, иначе бы не стреляли. Сумеет ли он оправдаться? Навряд ли, чудес не бывает. Бежать. Защищаться!
Пригнувшись, Диндан пробежал по дому. Пробежал, стреляя в окна. Забился в запечье, перезарядил пистолет, вдыхая запах жарившегося окорока, который ему не придется отведать. Во дворе гремели выстрелы, пули решетили стены.
Капитан Пернав, возглавлявший оперативную группу, не знал, сколько бандитов засело в доме. Ему не хотелось понапрасну рисковать людьми. Один из милиционеров, подкравшись поближе, швырнул в окно дымовую шашку. Конечно, можно было весь дом прошить автоматными очередями, но было желательно взять Диндана живьем.
Струга стоял шагах в двадцати от дома, за стволом вековой липы. Он видел, как из окон повалили клубы белого дыма, и, затаив дыхание, ждал, в какое окно выпрыгнет убийца.
До сих пор Диндан только радовался, что стенные перегородки в доме разрушены. Лежа в запечье, он держал на прицеле все окна, но тут на полу, извергая удушливый дым, зашипела какая-то штуковина.
Ну, теперь мне крышка, промелькнуло в голове Диндана. Так глупо влипнуть! И почему-то он вспомнил Мару и своих родителей. Ему стало жаль себя, ужасно захотелось свежего воздуха. Задыхаясь, давясь от кашля, он прокричал в окно, что сдается.
Это была уловка. Диндан надеялся, что быстрота и натиск вынесут его из беды. Впервые в минуту опасности он рассуждал и действовал здраво. Из библиотеки он убегал, скорее подчиняясь инстинкту. Неуловимый Диндан — вот о какой славе мечтал он.
Милиционеры поднялись из укрытия, подошли поближе.
Диндан не заметил, что один вороненый ствол, затаившийся в кустах черной смородины, по-прежнему держал его на мушке.
— Выходи! — крикнул милиционер с офицерскими погонами.
— Я ранен! — отозвался Диндан, — Сдаюсь! Помогите!
Звучало это вполне правдоподобно.
Милиционеры двинулись к дому, слегка опустив автоматы. С другой стороны уже взламывали заколоченное досками окно. Кто-то пролез через другое окно и, едва различимый в дыму, пошел на Диндана.
Диндан решился. Сейчас или все пропало.
Словно в беге с препятствием, взял старт у окна, на ходу паля из своего увесистого пистолета. Второпях ни в кого не попал. Понятное дело, в стрельбе давно не упражнялся. А милиционеры не стреляли, боялись задеть своего. На полном скаку Диндан миновал застигнутое врасплох оцепление. Милиционеры попадали на землю, хоронясь где можно. Диндан перелетел через кусты акаций, вот уж старая липа, за нею — лесистый овраг. Диндан ликовал. Опять он вышел победителем.
Земной шар неожиданно накренился и с размаху шибанул его по скуле.
Вот как это происходит, еще успело промелькнуть в сознании. Выстрелов он не расслышал. Смерть? Отныне и вовеки веков? И даже не больно! Нет, не хочу, нет, кричал он, но звук не срывался с губ. Глаза широко открыты. Он видел землю так близко, как никогда ее не видел. Комочки красноватой глины, высохший репейник. Странная тяжесть наползала снизу, с ног, и в эту тяжесть он погружался, словно в воду. Когда-то он любил рассказывать анекдот про человека, по которому проехался асфальтовый каток. Теперь он сам был этим человеком. Но пока еще не больно. Только тяжесть наползала. Гудела земля. Он знал: бегут. Бегут в тяжелых сапожищах, бегут в легких ботиночках. На чердаке осталась целая груда опорок. Диндан шевельнул левой рукой. Двигалась. В правой ощутил тяжесть пистолета. Асфальтовый каток подбирался уже к пояснице, боль раздирала крестец, можно подумать, его посадили на кол, и по тому колу асфальтовый каток катится вверх, расплющивая тело.
Диндан направил пистолет в ту сторону, откуда доносился топот. На бежавших. Из последних сил собрался нажать спусковой крючок, но не успел. Пистолет выбили из рук, Диндан потерял сознание.
Как только Диндан оказался вблизи липы, Струга бросился ему наперерез. За толстым стволом Стругу было не видно, и милиционер, засевший в кустах смородины, дал короткую очередь, рассудив, что преступник вот-вот скроется в овраге. Диндану прострелили ноги.
Струга даже не вытащил из кобуры пистолет. Убийцу нужно взять живым! Неужели застрелили? Струга был зол на милиционера, неосмотрительно давшего очередь. Хорошо, не попал в него. Несколько пуль просвистело рядом. Диндан с разбегу плюхнулся в репейник, земля у его ног почернела.
— Берегись! — раздался окрик Пернава.
Последний прыжок, и Струга ударом ноги с наскока вышиб из рук Диндана пистолет.
Там же в саду Диндана перевязали. Он потерял много крови. Его положили на пальто и понесли через сад, гнилые яблоки хлюпали под ногами. Богатый урожай погиб на заброшенном хуторе. Над седыми елями кружили потревоженные выстрелами вороны.
После осмотра в сельской больнице, куда доставили Диндана, врач сказал, что спасти его может только немедленное переливание крови.
Временами, когда к Диндану возвращалось сознание, он чувствовал в себе неодолимую жажду жизни.
Уже в том, что он попал в больницу, он усматривал нечто необыкновенное. Диндан всегда и во всем почитал себя человеком необыкновенным. Вот и теперь необыкновенным образом он попал в больницу. Но отнесутся ли к нему здесь столь же внимательно, как к обыкновенному больному? Может, вздумали его умертвить? Без суда и следствия? В слабеющий рассудок Диндана назойливо стучалась фраза:
«Ноги уже в темноте, ноги уже в темноте».
И еще такая:
«Не станут они со мной цацкаться».
Бесстрастная деловитость и профессиональная сноровка врача, которые проявлялись в жестах, взгляде, отрывистых приказаниях сестрам, — все это не смогло успокоить Диндана.
Диндану казалось, что приготовления к операции протекают медленнее, чем обычно. Ему казалось, что это делается умышленно. Когда ему впрыснули небольшую дозу морфия, он испугался, что его хотят усыпить, а потом лишить самого драгоценного — жизни.
— Помогите, — лепетал он. — Маре передайте. Я не хочу умирать.
Некоторое время он бредил. Слова тяжело, но связно сходили с языка.
«У вольных птиц век короче, чем у живущих в неволе», — Диндан несколько раз повторил эту фразу. Потом в его взгляде появилась осмысленность, и он сказал врачу:
— Доктор, я уже наполовину пуст. Снимите тяжесть с ног, а в груди легко, я сейчас полечу. Держите меня под руки, когда станете оперировать. Не убивайте меня, спасите.
И потом прошептал так тихо, что врач едва расслышал:
— Им я не верю. Они хотят меня прикончить. Спасите.
Была установлена его группа крови. Вызваны два донора.
Диндан лежал на столе в операционной. Яркий свет вливался в комнату сквозь большие окна. Постукивали башмаки на деревянной подошве. Пахло йодом. Старшая сестра приготовила аппарат для переливания крови. Донорам захотелось узнать, кому они отдадут свою кровь.
Доноры — особый народ. Братья по группе крови. Теперь, когда за сданную кровь платят не деньгами, а общественным признанием, доноры стали гуманистами, у них свои идеалы, они верят в кровное братство людей.
Первый донор оказался учителем и пионервожатым. Он был гуманным педагогом. Дети его любили. Он отдавал свою кровь, и в поселке все об этом знали. В таком поселке, как этот, друг о друге все знали всё. Он был чуток к товарищам. Вежлив с соседями. Во всех отношениях был человеком достойным, всегда держал слово, был точен, обладал достаточным воображением, отличался удивительным уменьем проникнуть в душу ребенка. С детьми учитель был чист и прозрачен, словно родник. Он учил, что цель жизни — бороться за правду, что высшие добродетели — честность и отвага. Он воспитывал детей в духе патриотизма, готовил их к высокой миссии — стать гражданами.
Узнав, что кровь предназначается преступнику, учитель смутился.
Он свято верил в обязанности общества по отношению к личности, но столь же свято верил и в обязанности личности по отношению к обществу. Гармония этих двух предпосылок была для учителя залогом осуществления грядущих идеалов.
А тут его просили отдать кровь человеку, который восстал против всего того, за что учитель боролся, чему учил своих учеников. Отдать кровь человеку, который разрушал и подтачивал основы общества? Отдать кровь человеку, который надругался над общественным правопорядком, который пренебрег мнением и взглядами своих сограждан? Отдать кровь человеку, который ни во что не ставил труд других людей? Отдать кровь человеку, который все ценности мерил на деньги, добытые бесчестным путем?
Он крал? Да, он крал.
Он грабил? Да, он грабил.
Тогда учитель задал наиглавнейший вопрос:
— Он — убийца?
Капитан Пернав был вынужден признать, что на совести Диндана (если она у него есть) лежит ответственность за судьбу Эдмунда Берза.
— Архитектора Берза?
Учитель знал архитектора по его статьям в газете, видел здания, построенные им.
— Значит, я должен отдать свою кровь убийце?
И он отказался отдать свою кровь Диндану. Это шло вразрез с его принципами. Как после этого он станет смотреть в глаза детям? Так рассуждал он, к такому пришел решению, и его решение было окончательным.
Второй донор был человек попроще, работал кассиром в промкооперации. Здоровяк без особых претензий и высоких помыслов. Кровь сдавал отчасти из гуманных соображений, но больше для здоровья, временами чувствуя в себе излишек крови.
Кассир был на редкость крепким человеком, сидячий же образ жизни действовал на него губительно. А сдаст кровь — сразу станет легче. Кассир не возражал отдать кровь Диндану, хотя Диндан в свое время ограбил кассу его коллеги в соседнем районе.
Но когда кассир увидел, что учитель — а тот в его глазах был эталоном порядочности — отказывается дать кровь, то и кассир заколебался.
Он знал, в поселке станет известно, что он отдал кровь убийце. Пойдут разговоры, что убийца ему брат по крови. Как знать, распустят слухи, что и он убийце брат по крови. Отдать кровь нарушителю закона? Человеку, в свое время обокравшему его товарища по работе? «Ага, вон кого, оказывается, пригревает своей кровью наш кассир, может, он тогда и кассу помог ему ограбить? А что? Ничего удивительного! Не поискать ли нам другого кассира?» И кассиру померещилось, что он слышит голос начальника. «У шурина воры в Риге среди бела дня близ зоопарка угнали новенький «Москвич». Пока тот в саду зверей разглядывал, машины и след простыл. И кто бы мог подумать, что наш кассир такому зверюге отдаст свою кровь!»
Кассир, потея от смущения, тоже отказался дать кровь.
Жизнь Диндана висела на волоске. У него была редкая группа крови. Пока Струга пытался уговорить принципиальных доноров, вошел один из милиционеров, сказал, что у него та же самая группа, что он согласен дать свою кровь.
Лишь на следующий день врачи разрешили Струге задать Диндану несколько вопросов.
Струга показал фотографию Берза.
— Твоя работа?
Ну, дела! Ему хотят пришить мокрое дело! Ничего не выйдет! Он, Днндан, не убивал этого человека.
— Нет, — сказал Диндан, часто моргая.
— Где труп? — спросил Струга.
Позже Диндан и сам не мог понять, почему сознался. Каток действительно расплющил его волю? Почувствовал раскаяние?
Нет, Диндан оставался верен себе. Признание объяснялось тем, что Диндан только что изведал сладость покоя, свободы от донимавших его страхов.
Как это прекрасно — свобода, покой! Первую искру он ощутил уже тогда, когда решил не сдаваться, бороться, когда, отстреливаясь, убегал.
Асфальтовый каток все приглушил.
А теперь он знал, что все это можно вернуть. Говорить то, что думаешь, говорить открыто, не таясь, не лгать ни себе, ни людям, — и тогда придет чудесный покой, чувство безмятежности. Страх же исчезнет.
Теперь он знал, что ему следовало сказать своим тогдашним пассажирам: «А знаете, меня ужасно беспокоит ваш сверток, так и кажется, что вы собираетесь огреть меня завернутым в газету кирпичом!»
Одно из двух: или в свертке действительно оказался бы кирпич или же все кончилось бы смехом.
И, возможно, жизнь сложилась бы иначе. Но он без проверки поверил в кирпич. Варился в собственных страхах, пока не сварился. Пока по нему не проехался каток, как проехался по человеку в том анекдоте. Теперь его, плоского и расплющенного, подсунут в щель под дверью зала суда.
Впрочем, одним страхом всего не объяснить. Диндан не собирался менять свои взгляды на взаимоотношения между обществом и такими индивидами, как он. Нет, он останется при своих убеждениях. Кто докажет ему обратное? Если человек не хочет сам себя убедить, то и другие навряд ли сумеют.
Но теперь-то он знал, как избавиться от страхов.
Рассказать обо всем, ничего не скрывая, — вот верное средство.
Последний тяжкий камень — Берз — еще давил Диндану грудь, и он швырнул этот камень в невозмутимого Стругу.
Пусть узнает, пусть убедится! Диндан не посягал на жизнь Берза. Труп сам превратился в труп.
— В клетке! — насилу выдавил Диндан.
Над ним нависали глаза Струги, камень погружался все глубже, лицо оживилось, всколыхнулась подернутая рябью невозмутимость.
— В клетке? В какой клетке?
Но Диндан больше не мог говорить. Главное было сказано, на мелочи не хватило сил. В груди так легко. Не вчерашняя птичья легкость на операционном столе, когда он собирался упорхнуть в небытие, нет, теперь была легкость души человеческой, ее покой. Казалось, сердце вот-вот остановится от обретенного покоя.
Кровь в голове шумела, совсем как шумит лес, а может, это в лесу шумела кровь? И возможно, в тот миг облегчения, когда сердце почти остановилось, Диндан осознал впервые, что он сделал Берзу — как человеку. И этот первый проблеск, первая ласточка совести не яви-лпсь ли причиной внезапного обморока? Как знать? Одна ласточка не делает весны. Может, всего-навсего минутная слабость?
Подоспела сестра со шприцем.
Струга так и не дождался ответа. Доктор сказал, что жизнь Диндана вне опасности, что завтра можно будет опять с ним поговорить.
Исчезновение Берза, таким образом, было подтверждено. Осталось разыскать труп.
Установить обстоятельства гибели Берза. Предать суду Диндана и сообщников. И после сдать дело в архив.
Берз?
Каким он был в действительности — узнаю ли, раздумывал Струга. Как вел себя в последние минуты? Был ли похож на меня? Все мы дети одного поколения, как орехи с одного куста. В иных забирается червь, выедает сердцевину, остается труха. Других сорвет ветер еще до того, как успеют вызреть, третьих растащат белки, склюют птицы, и лишь немногие, попав в плодородную почву, дадут новый побег. На первый взгляд все мы одинаковы, но по сути своей очень даже разные. Быть может, подобные рассуждения в мои годы непростительны и наивны? Ребячество? Сентиментальность? Ну так что же? В моем возрасте и в моей работе не обойтись без щепотки морали. Как повару не обойтись без соли, так и следователь обязан приправлять суп жизни щепоткой морали. Иначе он превратится в обычного пропольщика сорняков. А сорняки и машиной можно уничтожить. Или с помощью химикатов.
Однако дело не закончено.
Клетка?
Почему клетка?
Где эта клетка?
Шел сороковой день с момента исчезновения Берза. Падал первый снег.
Нежный, неотразимый, как забытье.
V
Видимость была скверная.
Желтыми снопами света буравя ночной туман, машина ползла вверх по косогору.
Сероватый ствол дерева с подмятой кроной лежал поперек дороги.
Эдмунд Берз снял ногу с педали газа, притормозил, выжал сцепление, до отказа натянул ручной тормоз. Переключил рычаг в нейтральное положение.
Берз вышел на дорогу. Ноги увязли в песке, и в тот же миг его стукнули по голове чем-то мягким и тяжелым. Земля надвинулась чугунной гирей, и Берз ощутил во рту мерзостный вкус желудочного сока.
Пришел в себя уже в машине.
Он сидел на заднем сиденье, с обеих сторон стиснутый какими-то людьми. Берз не имел представления, долго ли они ехали и где находятся. Должно быть, неизвестные в машине вели разговор, случайная фраза зацепилась в сознании Берза и жужжала там назойливой мухой.
«У вольных птиц век короче, чем у живущих в неволе».
Автомобиль остановился.
Не говоря ни слова, действуя ловко и согласованно, незнакомцы вытащили Берза из машины. Он сопротивлялся, но голоса не подавал. Страха не чувствовал. Только злость и удивление. Затылок от боли прямо-таки раскалывался.
Быстро усмирив Берза, они понесли его через густые, колкие кусты, поволокли куда-то вверх, скатили вниз, не раз перетаскивали через поваленные, ветвистые стволы, пока наконец не достигли более или менее ровного места.
На дне оврага Берз увидел клетку.
Он больно ударился о цементный пол, но тут же вскочил, бросился к выходу.
Массивный запор защелкнулся у него перед носом. Трое незнакомцев скрылись в гуще кустарника. Берз не успел и не смог разглядеть их лица. В темноте шелестели ветви. Потом все перекрыл однообразный вой ветра.
Так вот как они орудуют! То была первая явившаяся мысль. Раньше были конокрады, теперь объявились автокрады. Бандиты — вот кто они! И все же в глубине души некий рассудочный голос сказал: «Могло быть и хуже. Твоя жизнь висела на волоске».
Берз попробовал открыть запор, но тот был устроен так, что изнутри невозможно было дотянуться до задвижки. Стальной круглый щит, загнутый по краям, укрывал запор.
Тогда Берз произвел осмотр клетки.
Клетка эта, примерно шесть на восемь да два с половиной метра в вышину, была сварена из стальных брусьев. В промежуток между ними можно свободно просунуть руку, и только. Клетка стояла на бетонном основании, брусья пропущены глубоко в бетон.
Пядь за пядью Берз осмотрел бетонное основание. Ощупал каждый брус, проверил, не расшаталось ли крепление, нельзя ли где-нибудь выбраться наружу. Берз вскарабкался наверх, чтобы испытать стыковку брусьев потолочного перекрытия.
Все напрасно! Клетка была добротна, основательна, сработана руками умелого мастера, клетка надежная, прочная, клетка что надо.
По прошествии часа безуспешных попыток Берз пришел к выводу, что ночью выбраться из клетки своими силами не удастся.
Когда-то в клетке держали лошадей. В углу остались кучи навоза, прелой листвы, гнилой соломы. Там же проросли дюжины две мухоморов и каких-то поганок. На ветру мерно покачивались ржаные колоски.
Под ногами что-то звякнуло. Берз нагнулся, поднял кусок проволоки длиною метра в полтора. Отшвырнул его в сторону. Наподдал ногой пустую консервную банку. Компот производства Булгарплодэкспорта. В углу же стояло еще крепкое деревянное корыто, наполовину заполненное дождевой, уже прогнившей водой. Больше ничего в клетке не было.
Из-за облаков выплыла луна. Помигивали звезды. Туман рассеялся. Но рассмотреть как следует местность мешали высокие, заросшие склоны оврага. Клетку со всех сторон обступали кусты и деревья. Странно, откуда в лесу взялась эта клетка? И кто ее с таким старанием выстроил? Берз так и не пришел ни к каким определенным выводам, хотя передумал всякое.
Ужасная была ночь.
Берз прилег, собрав в кучу листья посуше. От холодного жесткого бетона ломило кости, пробирала дрожь. В правой ноге заныла, потянула подагра. Казалось, кто-то тюкал и тюкал тазобедренный сустав туповатым тесаком. Большой палец болел так, будто слон на него наступил. Адские боли!
Об остальном он особенно не тужил. Решил, что при свете дня, присмотревшись к засову, сумеет выбраться из клетки. А если не сумеет, его найдут, в этом он не сомневался. Не завтра, так послезавтра, ну, через день-другой. Побыть немного в одиночестве после суеты и тревог цивилизации — представлялось даже заманчивым.
Ни за что бы раньше он не поверил, что осенью, во второй половине сентября, так лютуют комары! Несметные полчища их вылетали из чащи и с назойливым писком набрасывались на него.
Сняв с себя плащ, стал им размахивать, отгоняя настырных созданий, и все же дюжина-другая добралась до лица, застряла в волосах, впилась в щеки и шею, заползла в уши. Он размазывал их прямо по щекам, стряхивал с себя на бетонный пол.
Кошмар! Слиться с природой, насладиться одиночеством? Окунуться в первозданность, проникнуться философским настроением? Куда там! С ума сойдешь, отбиваясь от мелкой нечисти, а тем временем воры гонят твою машину неведомо куда!
Да! Что же будет с машиной?
В клетке придется отсидеть день-другой, — он всегда настраивал себя на худшее, сколь бы благополучным ни рисовался исход, — так вот, в клетке придется отсидеть день-другой, пока он сам не выберется или пока его не найдут, а машину тем временем угонят черт-те куда, ее могут продать, потом еще раз угнать и снова продать.
Ничего, машину рано или поздно он получит обратно. А вот с комарами не было никакого сладу. Со злобным писком наседали со всех сторон, лютые, как звери. Берз совсем уже отчаялся — дотянет ли до утра.
Под утро похолодало. Берз попробовал согреться, прыгая и хлопая себя по плечам.
Взошло солнце, осветив верхушки деревьев. Берз прикинул, что деревья даже днем будут застить солнце и только под вечер в клетку проникнут прямые лучи.
Теперь можно было осмотреть окрестность.
Клетка стояла на дне глубокого оврага.
Деревья, кустарник буйно разрослись — по дну оврага и по его склонам. Прошлогодняя буря не миновала и этих мест. В северной части оврага образовался настоящий завал. В голубое небо упирались поверженные, разломанные, расщепленные стволы.
Похоже, сюда лет двадцать не ступала нога человека.
Поодаль на дне оврага протекал ручеек. Его не было видно, но мелодичное журчание доносилось отчетливо.
За ручьем овраг совсем тонул в чащобе, вдоль и
поперек заваленной опрокинутыми елями. Во все стороны топорщились сухие, колючие ветки, снизу посеребренные, на концах темные. Страшный, как в сказке, повергнутый бурей лес.
Клетка стояла на сравнительно ровном месте. В южной стороне, подступив к самым брусьям, разрастался орешник, увешанный спелыми гроздьями.
Берз рвал орехи и грыз с удовольствием.
Орешник взбирался вверх по скату оврага, и зеленая стена кустарника терялась за седыми стволами величавых елей, красноватыми свечками сосен, желтыми кронами берез и редкими пирамидами осин.
К северу от клетки почва была увлажненная, здесь прижился ивняк, ольшаник и еще какие-то неизвестные Берзу кусты, а дальше, там, где журчал ручеек, колкими прутьями щетинился бурелом.
Западная сторона казалась наиболее ровной, но она до того густо заросла, что далее пяти метров невозможно было ничего разглядеть.
Прошло несколько часов, и Берз, по-всякому испробовав свои силы, чтобы выбраться из клетки, принялся кричать.
— A-у! А-у-у! — кричал он. Никакого ответа. Никто не пришел.
Примерно в полдень, когда над ним просвистели голубиные крылья, он по-настоящему осознал серьезность своего положения.
Никогда бы не поверил, что такое может случиться с ним! Еще вчера был свободен как птица, и вдруг эта клетка.
Мучила жажда.
В недостижимой близости своим мелодичным журчанием искушал ручеек. Берз с отвращением поглядывал на осклизлое корыто. Сдержался, не стал пить. От голода сводило желудок, а вместе с вечером, бросая длинные, уродливые тени, подкралась тревога.
Болел затылок, давило грудь. Тошнота подступала к горлу. Губы потрескались. Нёбо пересохло. Язык одеревенел.
Временами Берз вскрикивал слабеющим голосом.
Лес не мог быть бесконечным. Однако на сколько километров мог простираться такой лес, этого Берз, конечно, не знал. И все же где-то должно быть жилье, должны быть люди. По осени куда только не забираются грибники. На мшистом склоне оврага он кое-где приметил коричневые шляпки боровиков. Нет, зря он беспокоится за свою судьбу. Главное, не отчаиваться, его непременно найдут. Не завтра, так послезавтра. Не послезавтра, через три дня. Через неделю. Одно сейчас важно — выжить.
Безнадежно закружилась голова. Сам того не сознавая, Берз склонился над корытом, принялся жадно глотать гнилую воду. Грудь сдавили спазмы. Когда его стало тошнить, он старался не запачкать корыто. И снова пил, пока вода не осела в желудке.
С заходом солнца забылся в тяжелом, мучительном сне.
Что-то прохладное коснулось лица. Берз рывком поднялся.
Тряся лохматой дождевой бородой, над лесом плыло темное облако. Ветер легко и печально шумел в вершинах сосен, с натужной хрипотцой ему подтягивали ели.
Дождь мягко затухал в сосновой и еловой хвое, но звучный перестук капели доносился из лиственной чащи— от берез, ольхи, ивы, орешника. Вода струилась по веткам, стволам. Веселее запел ручеек.
Как ток по проводам, по брусьям клетки бежала вода. Гибкие, юркие ручейки стекали вниз, увлекая за собой кусочки ржавчины, струпья сурика.
Припав лицом к бруску, Берз лизал языком дождевую воду.
Дождь пришелся кстати, он привел его в чувство.
Мысли стали являться стройные и связные. Один среди дремучего леса, в клетке. Главное, рассуждал он, не поддаваться панике. Собрать воедино всю волю, все силы. Не может быть, чтобы не пришло спасение, а то и сам придумает, как выбраться. Не может быть, чтобы сюда не забрели грибники и ягодники. Когда, в какое время вероятней всего их появление? Надо быть готовым подать им сигнал. Может, звуковой — ударяя по брусьям клетки? Но прежде всего надлежало разрешить проблему номер один. Вода и пища.
У него был плащ на подкладке. К счастью, с собой оказался и нож, и он помянул добром мать, та всегда говорила, что мужчина без ножа в кармане никакой не мужчина. У него были ботинки, часы, одежда и деньги в маленьком карманчике брюк. Остальное отобрали, пока был без сознания. Только деньги в маленьком карманчике не нашли. Он улыбнулся. Деньги? Что в клетке делать с деньгами, в клетке деньги ничто, нельзя же на них купить ключ. Или пилу-ножовку, чтобы распилить брусья? Или пищу? Воды? В клетке деньги теряли ценность. Деньги годились единственно на растопку. Спичечный коробок гремел в кармане плаща. Хотя он сам не курил, но спички носил при себе. Впрочем, деньги решил приберечь. Вот выберется из клетки, тогда и пригодятся. А то и на растопку пойдут, после дождя все отсырело, развести огонь не так-то просто.
Наступивший день выдался сухим, солнечным, лес и клетка с самого утра дымились, словно огромная парилка.
Сквозь гущу листвы, в роящихся пылинках, пробивались снопы солнечного света. Млела прозрачная дымка, клубясь вокруг черных, бурых и серых стволов.
С утра, закусив орехами, Берз принялся за рытье колодца.
В северной стороне за клеткой земля была влажная, и он надеялся, что там удастся выкопать колодец. Он рыл всю первую половину дня, употребляя нож, как лопату, и ладонь, как ковш экскаватора. Чем глубже он проникал, тем более увлажнялась земля, и когда в полдень над клеткой просвистели голубиные крылья, дело было сделано— колодец вступил в строй. Может, это были всего-навсего остатки дождевой воды, а может, здесь в низине били мелкие роднички. Ему очень хотелось, чтобы вода оказалась родниковой, капиллярного происхождения, в этом случае вопрос с питьем можно было считать решенным.
Теперь он склонялся к тому, что в клетке придется провести неделю, а то и две. Пока его не найдут. Он приготовился прожить это время, не впадая в отчаяние.
Берз срезал все ветки ивняка, до которых мог дотянуться. Из тех, что покрупнее, соорудил сводчатый, полу-цилиндрический остов. Спроектировал практичную предельно малогабаритную квартиру. Остов оплел гибкими прутьями, с торца загородил его ветками, застелил листвой. Точно так же и верх обложил листвой, а затем накрыл плащом. Пристежную клетчатую подкладку с плаща решил использовать вместо одеяла.
Ночью опять пошел дождь, и Берз убедился, что его палатка водонепроницаема. Правда, в ней можно было лежать, и только, но и это неплохо.
Бетонный пол застелил дерном. Дерн вырезал ножом на южных подступах к клетке. Там грунт был травянистый, сухой.
Из полутораметрового куска проволоки Берз смастерил крючок, насадил его на палку.
Теперь он мог, зацепив крючком дальние орешины, подтягивать их к себе. С тех ветвей, до которых невозможно было достать, он старался сбить орехи на землю, а затем подтащить их к клетке.
Берз собрал довольно много орехов и уже подумывал о том, как бы удлинить шест, когда появилась белка. Белка вела себя так, будто тут ее охотничьи угодья. Нагло скакала с ветки на ветку, перебиралась с куста на куст, щелкала скорлупки. Берз пытался прогнать ее криком. Поначалу белка испугалась и, недовольно цокая, взметнулась на сосну, но очень скоро воротилась, осознав несерьезность угрозы. Человек в клетке для нее был не опасен.
Впоследствии она привыкла к Берзу и уже без зазрения совести собирала урожай.
Берз подобрал все прутики, ветки и палки, оказавшиеся в пределах досягаемости. Сначала он намеревался разжечь большой костер и подать дымом сигнал, на сухое топливо навалив сырых листьев. Но поверху, над оврагом, не переставая дул ветер, и Берз рассудил, что дым рассеется и все равно его никто не заметит.
Под кустами, в заячьей капусте он подобрал довольно много палок. Заодно поел заячьей капусты. Ножом на лучинки расщепил палки и веточки, и у него набралась небольшая поленница сухих дров. Скорее для моральной поддержки, чем для практической пользы.
Из консервной банки был изготовлен котелок. Берз вырезал две плитки дерна и между ними соорудил очаг.
В палатке можно было устроиться с известным комфортом. Голову прикрыть полой плаща. Комары попискивали где-то снаружи. Слушать такой писк было даже приятно. Если отдельным комарам удавалось прорваться внутрь, он их тут же давил, выждав, чтобы сели на лицо или руку. Берзу нечего было есть, но и себя он есть не позволял.
Ночью удалось заснуть на несколько часов. В таких условиях это было достижением. Лишь раз-другой он просыпался и, широко раскрыв глаза, глядел в темноту. За брусьями клетки шумел черный ветер.
Ближе к утру, когда стало светать, он заснул совсем крепко. Проспал до восьми. Встал свежий и бодрый.
Жить, полагаясь только на себя?
Да, тут все зависело от его сметливости, изобретательности. Сколько раз, бывало, он придумывал что-то хорошее, но стоило поделиться с другими, как у хорошей мысли появлялись не менее хорошие советчики, и что ни советчик, то свой совет, и если к каждому прислушиваться, то получалось…
Ничего не получалось.
Берз подсчитал собранные орехи — всего триста восемьдесят два ореха. Завтраками я на время себя обеспечил, рассудил он. Вначале он постоянно испытывал голод, но припасы расходовались бережно. Он подсчитал, что если на завтрак будет съедать по десяти орехов, их хватит на тридцать восемь дней. Навряд ли, конечно, придется пробыть в клетке столько, но он всегда себя настраивал на худшее.
Долго приглядывался он к грибной плантации, разросшейся на компосте из лошадиного навоза, прошлогодней листвы и прелой соломы. На осенней выставке грибов ему случалось видеть шампиньоны, но он не доверял своей памяти. Его память прочно удерживала фасады домов, ритмы линий, соотношение плоскостей, соразмеренность масс, но гриб как архитектоническая форма в прежней жизни не привлекал его внимания.
Он знал, шампиньоны — грибы осенние. Но полной уверенности не было, уж слишком те смахивали на обычные поганки. Шляпки здоровенные, широкие, иную и ладонью не прикроешь. Одни отсвечивали зеленью, другие— коричневатым. Сверху чешуйки. На ножке нечто вроде кольца. С бахромой.
Берз принюхивался к грибам, но те были без малейшего запаха. Наконец один из них он срезал со всеми предосторожностями, чтобы не повредить грибницу, мицелий — на тот случай, если гриб окажется съедобным.
Грибная плоть на срезе зарумянилась. Берз знал, что шампиньоны можно есть сырыми. А вдруг поганка? Съесть маленький кусочек — неужели умрешь? Сначала, наверно, станет плохо, будет тошнить. Если ж это шампиньон, ничего подобного не произойдет. Да и кусочек поганки не повредит. Ладно, там будет видно.
Он поднес кусочек к языку. На вкус приятный. Глотая слюни, Берз выжидал. Дурно не делалось. Может, сначала подсунуть гриб белке? Но белка не притронется к грибу, от которого пахнет человеком. Белка наведывалась в клетку не за грибами, у белки грибов полон лес. Боровики! Так что придется самому снять пробу.
И он съел еще кусочек. Ничего не случилось. Подождал минут десять. Самочувствие по-прежнему прекрасное. Съел гриб целиком. Со спокойным сердцем улегся спать. Если и помрет, то хотя бы не на голодный желудок.
Две дюжины поганок на поверку оказались шампиньонами. Это было неожиданной удачей, он торжествовал.
В тени ольшаника густым ковром росла заячья капуста. Ее можно было рвать на расстоянии вытянутой руки. Ежедневно он собирал пригоршню заячьей капусты. Рассчитал, что при такой норме потребления капусты хватит всего недели на две, однако он не мог себя больше ограничить и уменьшить порцию.
Берз опасался упадка сил и апатии.
К великой радости, на южной стороне клетки, рядом с бетонным основанием он обнаружил два проросших гриба-дождевика. До них можно было дотянуться. Он знал, что молодые дождевики съедобны. Он варил их и ел. Каждый день по дождевику вместо обеда. Запасы топлива сразу же катастрофически сократились. Он решил кипятить воду раз в неделю.
В вырытом колодце держалось с полведра не очень прозрачной воды с лягушачьим, илистым привкусом.
Ежедневно за полдень над ним раздавался свист голубиных крыльев. Птицы прилетали к ручью на водопой.
Когда Берз сидел неподвижно, лесные голуби опускались посидеть на верхние брусья клетки.
Не раз пытался он поймать голубя. Распустив носок, сплел из синтетического волокна силки. Расставил на крыше.
В первый день прождал напрасно — голуби пролетели мимо. На следующий повезло, прилетели четыре голубя, двое сели в петлю.
Берз прикинул, что это голубиная семья. Самка чуть поменьше самца, да еще двое птенцов, у тех ало-голубые шейки, серо-синие плечи и сизые грудки не так ярки, как у родителей. Папаша голубь вперил желтоватый глаз в недвижно сидящего человека, склонив к нему свой клюв с красноватым комлем. Когтями крепко вцепился в брус клетки.
Берз рывком затянул петлю, и один из стариков — самка задергалась, забилась о брусья.
Остальные голуби в ужасе захлопали крыльями, и немного погодя хлопанье перешло в знакомый свист. Мелькнули их белые грудки.
Берз немало раздумывал о возможности послать с голубем записку. Пока Берз был без сознания, воры очистили его карманы, не оставив ни записной книжки, ни документов, ни автоматического карандаша, ни фломастеров. Не было у него и бума! и, за исключением десятирублевок в карманчике брюк.
Он надеялся, что сможет угольком написать просьбу о спасении на десятирублевке и, привязав голубю к ноге, отпустить с ней птицу.
Даже попробовал писать, но стоило денежной бумажке немного помяться, согнуться, как угольные письмена сами собой осыпались. Посылка письма отпадала.
Вчера он возился с десятирублевкой и угольками. Сегодня пытался просунуть голубя между брусьями. Задача не из легких: голубь оказался крупной птицей. Когда он забился над верхним перекрытием, можно было подумать, что размах его крыльев не менее полуметра. С горем пополам Берзу удалось протащить голубя между брусьев.
В почтальоны голубь не годился, и Берз его зарезал, ощипал, разделал. Не сказать, что занятие из приятных, да он бы никогда и не подумал, что способен зарезать голубя, ощипать его, разделать, но голод явился прекрасным наставником.
Берз вспорол зоб, вытряхнул из него множество сосновых и еловых семечек.
Промыл тушку, сварил ее на ужин в консервной банке. Банку прополоскал, прочистил и выскреб. Пользовался ею и как питьевым сосудом, и как кастрюлей.
Бульон получился на славу, мясо, правда, постное, не варево взбодрило, подняло настроение. Берз уже загорелся расставить силки на зайцев, только не знал, как подманить их к клетке.
Дня через три голуби снова опустились на брусья. На сей раз двое молодых. Самец куда-то исчез. Берзу не удалось изловить ни одного, голуби улетели, даже не заметив западни. Но через день они вернулись втроем, и Берз поймал одного.
Берз на глазах худел, терял силы. Зато ночью спал хорошо. Пищу варил только тогда, когда попадался голубь. Запасы дров подходили к концу. Правда, он ухитрялся вскипятить банку воды при ничтожных затратах хворостинок.
У него было тринадцать спичек, каждую он расщепил ножом на четыре части. Должно было выйти сорок две спички, но многие крошились, ломались, получилось всего двадцать восемь, но и это было неожиданным резервом.
Погода держалась ровная, теплая.
Белочка частенько наведывалась к орешнику, добирая недоступные Берзу орехи. Рыжеватая шубка ее мелькала то там, то здесь. Иногда белка оказывалась совсем рядом с клеткой, становилась на задние лапы — передними держала орех — и с тоской во взгляде смотрела на Берза.
Белка не боялась человека.
Он подумал о том, что было бы неплохо белку приручить, поймать и съесть. Не совсем это, правда, этично — съесть прирученную белку, но жажда жизни была сильнее, и он был уверен, что у него б не дрогнула рука разделаться с белкой.
Однако белка была себе на уме, не приручалась.
Иногда Берз чуть ли не полдня подманивал белку шляпкой шампиньона, держа гриб на кончике проволоки над тем местом, где предварительно расставил силки. Если б белка сунулась за грибом, петли ей не миновать. Но грибов повсюду полным-полно, боровики во мхах раскрыли большие, бурые зонты и уж начали заваливаться на бок от старости, но белка на них не глядела, куда уж там обращать внимание на шампиньоны.
Берз сердился, всячески поносил зверька, но поносил ласково, чтобы интонация голоса не выдала того, что он говорит. Все еще надеялся подманить белку.
Ореховый червь, гнусный долгоносик, испортил из его запасов несколько орехов. Горькая труха осыпалась на скорлупки, когда он разгрызал червивый орех. Пришлось урезать утренний рацион.
Порой Берзу казалось, что ему придется долго прожить в клетке.
В таких случаях он с тревогой думал о зиме, о морозах, метелях, и подобные мысли отнюдь не казались смешными. Смешной казалась мысль о смерти. Он не имел понятия, как справиться с морозом, теплой одежды не было, да и вопрос с питанием представлялся совершенно беспросветным.
Берз выловил всю четверку голубей — вот уже несколько дней, как пойман последний. Глупые, откормившиеся к осени птицы помогали ему поддерживать силы. Теперь он всех выловил.
Голубиные ножки Берз оставил про запас, высушил, вывялил и по вечерам посасывал одну из них, замаривая голод.
Он здорово сбавил в весе, по его подсчетам, килограммов на десять, но при всем при этом чувствовал себя бодро. Он постоянно пил воду, поутру съедал девять орехов, кляня в душе червя-долгоносика. На обед — пригоршня заячьей капусты и шампиньон. Вечером пил воду и посасывал голубиную ножку.
Разумеется, и дня не проходило без того, чтоб он не делал попыток выбраться на волю. Мастерил из проволоки крюки различной формы. Засунув крюк за щит, старался отодвинуть засов. Конструировал замысловатые орудия с разной длины коленами, прогибами, поворотами, чтобы подобраться к упрятанному за полушарием щита засову. Все впустую! Чертов конструктор того чертового запора предусмотрительно исключил подобные возможности, засов был недосягаем. Порой Берзу хотелось взвыть от досады — настолько проста была задача и настолько неразрешимой она оказалась на деле.
Берз разломал деревянное корыто, смастерил из досок систему рычагов. Для крепления использовал ржавые гвозди и ветки ивняка.
Он пытался прогнуть один из брусьев. Поначалу казалось, что брус поддается, но это было заблуждением. В самый ответственный момент система рычагов разлеталась на куски, и Берзу иной раз доставались увесистые удары по спине или ногам.
Он пытался пилить брус ножом, но лезвие оказалось чересчур мягким. Пробовал долбить бетонное основание, но для этого не нашлось пригодных инструментов.
Он много раздумывал о сигнале. Чтобы спасители еще издали заметили клетку, он водрузил на нее шест с носовым платком. Ну вот, теперь у клетки есть свой флаг, с грустью подумал он.
Вечерами, когда опускалось солнце, он вспоминал свою прошлую жизнь.
Как ни странно, здоровье, несмотря на вынужденное голодание, улучшилось. По ночам он крепко спал, без кошмаров. Сердцебиения, прежде донимавшие его, теперь пропали. Подагра отступилась, хотя двигался он сравнительно мало. Стул был нормальный. Испражнения он с помощью доски отбрасывал как можно дальше от клетки.
Затылок больше не давило, и ни разу ему здесь не пришлось во сне проваливаться в черную бездну, как это нередко случалось дома, когда схватывало сердце.
Хотя он спал на холодном бетонном полу, простуды не было и в помине. А дома, даже летом, то и дело простужался. И никакие лекарства не помогали.
Теперь буду знать, как следует жить, раздумывал он. Поутру — вода и девять орехов, на обед — заячья капуста с грибами, на ужин — вяленая голубиная ножка.
При мысли о сочном мясе, фруктах, супе, котлетах, жареной курице все нутро сводило от жестоких судорог. Часа два подряд потом Берз еще мучился, пока не удавалось совсем прогнать воспоминания о пище. Они причиняли боль, в горле от них возникали спазмы, подводило желудок, так что нужно было отделаться от воспоминаний, и порою Берзу казалось, что все несчастья в мире от сравнений.
Родись он в клетке, вырасти на орехах, грибах, заячьей капусте, на голубиной ножке, в шалаше — и он считал бы это нормой, ни о чем бы ином не мечтал.
Но прежде он знал другую жизнь, не мог забыть ее, и только надежда, что вырвется, что люди и общество не оставят его — только эта надежда поддерживала его силы, и вечерами, когда опускалось солнце, он вспоминал свою прежнюю жизнь.
Сначала ему не давала покоя мысль о том, оставленном им мире. Он был озабочен тем, что, оказавшись взаперти, упустит столько знаменательных событий в общественной жизни. Но день шел за днем, и постепенно внимание его переключилось на собственную жизнь внутри клетки.
Для нее не годились обычные логические категории.
Берз старался припомнить все, что читал о голодании. Он пожалел, что прежде с досадой отбрасывал книжки, где речь велась о голодании как методе лечения, никогда не дочитывал и статьи, где говорилось о длительных постах. Теперь бы ему пригодились подобные советы.
Пока что у него еще были продукты (если это позволено назвать продуктами), но скоро они подойдут к концу. На первый взгляд, казалось невероятным, что можно жить на такой диете. И все-таки он жил. Потому что ничего другого ему не оставалось. Сам тому удивляясь, он чувствовал, что ничего другого не остается — только жить.
Сначала Берз расстраивался из-за украденной машины. Они с женой годами копили деньги, экономили на всем, отказывались от развлечений, боролись с соблазнами, и вот тебе на — год отъездили, отладили, обкатали, и тут ни с того ни с сего суют тебя в клетку, а за руль твоей машины садится чужой дядя.
Впрочем, относительно машины он так и не пришел к полной ясности. То ему казалось, что лишить человека машины — чудовищный произвол, а то вдруг дело представлялось сущей безделицей — да пропади она пропадом, эта машина.
Как славно бы я зажил там, раздумывал он, лежа на спине и любуясь загоравшимися звездами, как славно бы я зажил, будь даже и последним бедняком, и до чего же все-таки хороша жизнь.
В том мире подобные рассуждения звучали бы нелепостью.
Со временем вещи стали занимать все меньше места в его мыслях, пока однажды он не пришел к выводу, что потерял к ним всякий интерес. С густым и низким гудом пролетел над клеткой запоздалый шмель. А может, пчела? Мед! Мед был не для него.
Он не обманулся в жизни. Он знал: все дается трудом, его учили в поте лица зарабатывать хлеб насущный.
Он не обольщался, он знал, что не хватать ему с неба каких-то особых звезд, лишь свои знакомые звезды ему достижимы. И никакое особенное счастье ему не привалит, лишь свое привычное счастье работать, счастье видеть, как твои замыслы претворяются в гармонию плоскостей и линий, видеть, как замыслы вырастают в дома.
Работать, надо работать, временами проносилось в сознании. Время бесполезно утекает за брусьями клетки. Корабль стоит на мели. Время утекает, полноводная река времени катится, плещется рядом, а он отделен от реки стальной решеткой.
И тогда он громко выкрикивал:
— Проклятье тем, кто посадил меня сюда!
Берз слушал, как в лесу замирало эхо.
— Лучше бы меня пристрелили!
Это следовало выкрикнуть, не то бы он задохнулся от злости.
Надо же, удивлялся он, я-то думал, что по натуре сдержан.
Берз проанализировал свое поведение и пришел к выводу, что сохранил о себе многие иллюзии. Сдержан? В известной мере — да. Но если злость кипит и льется через край, ее надо излить, пусть даже немому лесу.
А может, лес не был немым, может, Берз не понимал его эха?
Может, кто-то скрывался в лесу, наблюдал за его поведением в клетке? Ждал агонии?
Берзу приходилось туго, потому что здесь он был лишен всех ценностей, принадлежащих ему в том мире. Да они были бы здесь бесполезны.
Единственно, что он умел по-настоящему делать — это его работа. Но и работы он здесь был лишен. Конечно, никто не мог ему запретить строить здания мысленно. но он не имел возможности выработать техническую документацию — не было бумаги, чертежной доски, карандашей, туши, арифмометров, вычислительных машин.
Он пришел к выводу: когда нет иной работы, просто жить — тоже работа. Наиважнейшая, неотложнейшая сейчас работа — выжить. Когда он это осознал, в нем с новой силой вспыхнула уже угасшая было энергия, явились смелость и оптимизм, насколько они возможны в условиях клетки, и он твердо решил держаться до конца.
Не поддаваться клетке. Он знал, никто за ним из леса не подглядывает. Лес глядит слепыми глазами. Только клетка подглядывает. Клетка ждет агонии.
Вот тогда-то и станет ясно, чего я стою, рассуждал он. Тогда и откроется моя истинная ценность. И Берз составил несколько речей, обращенных к клетке.
Первая речь была гневная.
Мерзкая клетка, жестокая дурында!
Стальными кишками ты опутала небо. Гадкими щупальцами оплела мое тело. Ты сковала мою поступь. Что смеешься глумливым смехом?
Сквозь твои зубы-брусья, словно нёбо мироздания, светится голубое небо.
Куда ты низвергла меня?
В пасть времени? В песочные часы?
Неужто мне суждено стать колосом в молотилке природы и мои зерна просыплются в твои закрома?
Тугим узлом связала ты мою душу, зловредная клетка. Погоди, когда-нибудь и я в такой же узел скручу твои брусья!
Ты опутала тело, но брусья твои бессильны перед разумом. В том моя сила и твое бессилие. Вольными птицами парят мои мысли.
Даже если я погибну, ветер развеет мой прах между брусьями, и в первозданности атомов я вновь обрету свободу, тебя же, клетка, источит ржавчина, и ты рассыплешься, ибо нет клетки, что устояла бы перед вечностью. Вечны лишь мы — люди.
Тут Берз, конечно, сгущал краски. Но он надеялся, что до гибели дело не дойдет. Он верил, где-то во тьме на ощупь бредут к нему люди, верил, что медленно, но верно к клетке движутся спасители, верил, что общество не оставит его, верил людям, живущим в построенных им домах, и эта вера придавала ему силы.
Прежде у Берза частенько болели зубы, и он с тревогой ждал момента, когда они опять заболят. К счастью, пока обходилось без этого. Что бы он делал здесь с зубной болью?
Зубная боль страшнее клетки.
А может, наоборот?
Клетка неотступной зубной болью напоминала о никчемности его жизни. Мимолетность жизни? Ив то же время вечность жизни, неповторимость жизни, бесконечность ее, ибо никогда не будет у него другой жизни. Нет и не будет.
Нередко Берз подтрунивал над клеткой. Он был ее узником, ее заключенным, но клетке были неподвластны остальные люди.
Все несчастья происходят от сравнений, снова и снова возвращался он к прежней мысли. Родись он в такой клетке, разве клетка не казалась бы единственно стоящим местом, где полагается жить человеку?
Разве бетонный пол и массивные брусья не казались бы естественной принадлежностью мира? К тому же в клетке здоровая, лишенная всякой тепличности атмосфера, он жил на лоне природы, вдали от пороков цивилизации. Иногда у Берза волосы вставали дыбом при мысли, 16 А. Бэл что он мог бы родиться и вырасти в клетке и что бы с ним стало, в какое безмозглое существо он тогда бы превратился, существо, которому ведомы лишь зов желудка, страх, утехи плоти, муки голода, а все прочее было бы чуждым, все прочее было бы далеким, как радуга над лесом?
В клетке человек не должен себя утешать, клетка остается клеткой, думал Берз. Все равно, родился ты в ней или попал случайно. Клетка от этого не меняется. Клетку нельзя оправдать. Для клетки не придумать смягчающих обстоятельств. В клетке надо просто жить, даже не пытаясь вступать с ней в диалог. Стараться жить как можно дольше. Хотя очевидно, что брусья клетки прочнее человеческой жизни. Долговечней.
Берз передумал свою жизнь в том мире и пришел к выводу, что нередко жил чужим умом, чужими советами. Крутился белкой в колесе. Подчас поступками его руководило стремление подражать, они вовсе не вызывались необходимостью.
Вещи он приобретал потому, что те уже были у его коллег. Не к лицу, казалось бы, отставать. К счастью, вещи все нужные, поскольку коллеги люди практичные. Берз считал, что в том мире он чаще, чем следовало, пользовался готовыми рецептами и шаблонами.
Свою квартиру обставлял, рассуждая примерно так: у Новадниека уже есть, Антлав тоже обзавелся, почему бы и мне не раздобыть такой же гарнитур? Помимо всего прочего, обставляя квартиру, он стремился превзойти подчиненных и сравняться с начальством.
В былые времена он редко навещал своих старичков, но вот вошли в моду деревенские дома, почти у каждого из товарищей по работе было более или менее приличное летнее прибежище, тут и Берз зачастил к родителям. Приспособил чердак под летнее жилье. Собирался даже теннисный корт выстроить, ибо один его знакомый, писатель, высказал мнение, что к такому дому непременно нужен теннисный корт. И так во всем. Недостаточно он жил своим умом, своими мыслями.
А все потому, что со временем стал убеждаться, насколько невыгодно подчас выказывать свой ум, открыто выражать свое мнение, это может вызвать неожиданный резонанс, возвратиться, подобно бумерангу, и ударить по твоему же душевному равновесию.
В общем-то на все вопросы в его жизни имелись готовые ответы, и незачем было выдумывать новые, это могло нарушить устоявшееся с годами равновесие, а от такого нарушения ничего хорошего ждать не приходилось. Стало быть, нужно заниматься лишь узкопрофессиональными вопросами, отдавая им весь жар души и мысли, а в остальных вопросах пользоваться трафаретами, шаблонами, в этом случае успех был обеспечен, неудачи почти исключались. Так жить было легче и проще, не тратились попусту силы, оставалось время для забав и развлечений. При подобном образе жизни ты не наживал себе врагов, а друзья являлись сами собой.
В клетке такая система оказалась непригодной. Здесь на каждый вопрос ответ приходится давать самому, здесь все время нужно выискивать новые решения, здесь что ни день, то новые проблемы.
И все первостепенной важности, связанные с питанием и с тем, как поддерживать на должном уровне бодрость духа.
Других вопросов не существовало, а главный вопрос стоял так: жить или умереть. В том мире вопрос этот показался бы смешным, надуманным, неестественным и неискренним, высосанным из пальца, а в клетке ему подчинялись все остальные.
Временами Берзу ничего не хотелось делать. Осточертели ему такое прозябание и вся его жалкая жизнь.
При мысли «жалкая» он вскочил и заметался по клетке, разговаривая сам с собой.
— Как ты смеешь называть «жалкой» то, что дается тебе лишь однажды и никогда не повторяется? — Голос Берза дрожал в негодовании, лицо раскраснелось, апатии как не бывало. — Нет, шалишь, — продолжал он, — до конца, до самого донышка я проживу тебя всю, без остатка. А потом — жизнь и здесь прекрасна, грех жаловаться!
— Я на время, пока меня не разыщут, должен оставаться в клетке, — говорил он себе. — Если я начну выискивать лишь недостатки клетки, жизнь станет невмоготу.
Берз сладко потянулся.
По-осеннему, не грея, за деревьями светило солнце. Зато ни комарья, ни мух, ни оводов. И можно не бояться солнечного удара, перегрева. Солнце стояло над лесом. Стояло над клеткой.
— Прекрасная клетка, — сказал Берз.
— Хорошо мне в клетке! — повторил он.
Помолчал. Клетка не отзывалась.
— Сегодня мне не надо никуда идти, — опять заговорил Берз. — Могу весь день проваляться в свое удовольствие в клетке. Разве не об этом я мечтал в том мире? И вот теперь у меня никаких забот! Клетка — мой санаторий.
Кто в клетке мне сделает замечание? Кто откажется подписать бумагу? Кто посмеет поучать меня, как строить дома, каким должен быть фасад, какие следует употребить материалы?
Клетка — мой верный, мой преданный друг.
В клетке я единственный архитектор, единственный специалист. Я здесь незаменимый и неоплатный работник, ведь клетка меня никем не заменит и ничего мне не платит.
Я — начальник клетки.
Вне всяких сомнений, избранный единогласно. Мой голос, в самом деле, единственный. В то же время только мне и дано решать судьбу своего подчиненного. Ведь я и подчиненный. Тот идеальный случай, когда интересы начальника совпадают с интересами подчиненного. Жить или умереть? И я выношу единогласное решение: жить! Ничего другого мне не остается. Единодушие полное.
Потом Берз придумал еще одну каверзу против клетки.
— А знаешь, клетка, — вдруг объявил он, — мне так у тебя понравилось, что я решил остаться насовсем. Я раздумал тебя покидать. Да-да, не жди и не надейся. Ничто меня не заставит расстаться с такой очаровательной клеткой.
— Что-о! — взревела клетка.
— А, задело за живое! Так я и знал, что это тебе не понравится, да уж придется проглотить! Ты думала, я хочу выбраться за твои брусья? Да нет же! И в мыслях такого не было. Я остаюсь, а ты при всех своих железных брусьях со мной ничего не поделаешь! Не уйду — и все.
— Как — не уйдешь?! — Клетка была ошарашена. — Да ты и не можешь уйти!
— Это я-то не могу? — переспросил Берз. — Как бы не так! Я все могу. Но хочу досадить тебе и посему остаюсь!
Он злорадствовал в душе, наблюдая замешательство клетки. Клетка не ждала такого оборота. Надо же, все перевернуть вверх ногами? Но потом, придя в себя, и клетка всласть посмеялась. За брусьями, как зев Вселенной, светлел голубой простор.
Но долго ли мог Берз взвинчивать себя таким образом? Похвально, что ему удалось сохранить чувство юмора, не впасть в отчаяние, проклиная клетку, как это было день-другой назад. Только зря себе сон испортил. А клетке что — она бесчувственная.
Для клетки все его проклятия как и не были. Клетка даже неспособна почувствовать вину. К чувствам клетка оставалась глуха. Эмоции ее не задевали. Клетка была некоммуникабельна. С этим нужно было смириться. Возмущаться клеткой было напрасно. Берз мог биться головой о стальные брусья, и только.
Он надеялся, что его отыщут, но с каждым днем все труднее становилось поддерживать в себе надежду.
А если не найдут?
Часом позже, на закате, он сидел, прислонившись к брусьям.
А если те, кто его ищет, потеряли надежду? Если счастье от меня отвернется? И я останусь в клетке на веки вечные? Тогда остается одна надежда — на время. Остается надеяться на снег, на солнце, на ржавчину. Рано или поздно ржавчина источит проклятую клетку.
Время работает на меня, но мне от этого не легче.
Слишком уж различны скорости, с которыми мы движемся к концу.
Черепашьим шагом ползет клетка навстречу смерти. Я же птицей лечу. И недалек тот миг, когда пронесусь над черепашьим панцирем и разыграется моя трагедия.
Трагедия, актеры на котурнах? Неужели забытые слова обрели новый смысл на забранной решеткой сцене клетки? Маски? Игра? Железный хлам! Но хлам этот держит меня в плену, и сколько б я ни изощрял свой ум, мне не открыть двери клетки. Ибо некий изощренный мерзавец придумал столь остроумный запор, что изнутри его невозможно открыть. В моем распоряжении нет инструментов, нет рычага, чтобы раздвинуть брусья. В моем распоряжении лишь моя жизнь, моя воля.
Я — повелитель клетки, в то же время ее подданный. Я — гражданин клетки, в то же время — ее президент.
Смейся, паяц, смеяться тебе дозволено!
Сильный ломает брусья. Слабый над ними подшучивает. Сильный крушит клетку. Слабый создает философию клетки.
Только с нею и возможна жизнь в клетке.
Разве мне нужны законы, если я один? Разве мне нужна мораль, если я один? Разве мне нужна этика? Если я один? И разве мне необходимо мое «я», если я один?
Чего бы я ни отдал за то, чтобы хоть пять минут поболтать с последним дураком на свете! Сам по себе человек ничто, лишь в общении с людьми он становится человеком. Азбучная истина, но только в клетке мне захотелось во весь голос звать человека. В том мире я чаще бегал от него.
Я сам себе раб. Я сам себе собственник. Я сам себе судья и сам себе палач. Могу утешаться, играя словами, я сам топор, сам колода, но без людей не могу обойтись.
Казалось бы, мне только и радоваться. Наконец-то никто не делает замечаний, что утром надо бриться, чистить зубы, умываться. Вечером меня никто не потянет за уши в ванную, не заставит тереть мочалкой ноги.
Теперь не надо экономить деньги на бензин, на новые чехлы для сидений в машине. Не надо оплачивать счета за газ, квартиру, электричество.
Наконец-то я достиг идеала бережливости и жизнь обходится предельно дешево.
Я обладатель прекраснейшего жилья на свете — клетки. Ибо в ней воплотился мой сокровенный замысел — слияние интерьера с природой.
Природа входит в интерьер, становится частью его. Так я говорил когда-то. И я убежден, если и дальше все пойдет своим чередом и меня не отыщут в ближайшее время (приготовимся к худшему), то и сам я превращусь в часть интерьера, сольюсь с природой в гармоничное, нерасторжимое единство. Обрету наконец высшее блаженство, буду избавлен ото всех забот. От забот по поддержанию собственной жизни.
Пока еще приходится дышать, отправлять естественные потребности, впрочем, чего уж там — сущая безделица, но все-таки приходится есть, пить, догрызать орехи, они наперечет. Да, меню, как у гурмана, жаль вот, шампиньоны все вышли.
Оставьте мне мои заботы, больше ни о чем не прошу.
Так-то, досточтимая клетка!
С каким наслаждением я сейчас бы выслушал крик Эдите; «А ну, марш в ванную!»
Или: «Нам нужен новый ковер, старый совсем истерся».
Где ты, мой генерал, почему не спешишь на выручку своему плененному ветерану?
Как хорошо, что я остался сам для себя и время от времени могу с собой поговорить. Еще, чего доброго, возомню, что у меня есть интеллект, раз до сих пор не умер, не сошел с ума?
А может, клетка — изощренная форма сумасшествия?
Берз расхаживал по клетке, стучал палкой по брусьям. Брусья звенели. Брусья были настоящие. Крепкие брусья. Клетка была формой грубой силы.
С каким удовольствием я бы выпил сейчас водки, подумал Берз. Странно, живя на свободе, лечась от подагры, я не пил ни капли. Истязал себя, как инквизитор. Как садист, обращался со своими желаниями! Строгий режим и диета. И вот результат. Какой прок от них в клетке? Без подагры мне скучно. Похоже, что и подагра от меня отступилась.
На воле у него частенько болела голова. Вероятно, от давления. Теперь же никаких головных болей. А может, оттого, что он ничего не читал. В глаза не видел книг, газет, журналов. Очень успокаивает. Выправилось зрение. Он совершенно отчетливо различал отдаленные веточки, листочки, шишки на елях, на воле же приходилось пользоваться очками. Они остались на дороге, в песке после того печально-памятного удара.
Воду, в первые дни показавшуюся болотистой, мутной, с лягушачьим привкусом, теперь он находил отменной, приятной, вода прекрасно утоляла жажду и поддерживала жизнь.
Привыкнуть можно ко всему, только не надо вспоминать то время, когда ты пил из-под крана превосходную воду из озера Балтэзерс. Тогда все будет в порядке. Воспоминания, они что соринки в глазу.
У меня теперь одна заветная, вечно юная надежда, что люди отыщут меня, что я живым освобожусь от стальных объятий клетки.
Созревший плод падает с дерева. Все сущее, достигнув зенита, идет на убыль.
Может, и я достиг зенита в свои тридцать пять лет? Может, я обречен угаснуть в безмолвии клетки, вдали от людских глаз?
Может, мне не дано сказать ничего нового? Может, я исчерпал свои возможности, до дна опустошил свой талант, по щепотке разбазарил его на мелочи? Может, я та же мутная вода в моем колодце, только мне она представляется пригодной для питья, у меня ведь нет другой воды, для других же она пахнет болотом, лягушками?
Кто мне ответит?
Клетка тупо молчит.
Лишь я могу ответить, больше никто. Прежде я в себе не сомневался, не думал о зените, но клетка дала толчок.
Теперь я, кажется, знаю, как нужно работать. Да, теперь знаю. Теперь бы я смог. Энергии и воли мне не занимать. Горячка юных лет прошла, пора за ум браться. Клетке можно сказать спасибо за науку. Да вот неизвестно, сумею ли пожать плоды этой науки.
Выбирать надо трудный путь?
Все это вздор, и мелет его тот, кто никакого пути не выбирал, а просто плыл по течению. Не избери я архитектуру, и она, по сути дела, — наилегчайший мой путь, линия наименьшего сопротивления, ведь мои способности как раз и отвечают предъявляемым ею требованиям, так вот, не избери я архитектуру, разве бы мне удалось достичь чего-то стоящего?
Нет и тысячу раз нет!
Выбирать надо легкий путь?
Нелепо толковать о легком и трудном пути. Выбирать надо единственный путь. Отыскать его нужно, и тогда единственно возможный путь станет самым тяжелым и самым легким.
Найди я средство выбраться из клетки, я был бы счастливейшим человеком. Но мне не найти его. И в том величайшая гнусность клетки.
А сколько людей, что сами похожи на клетку, и бродят с клеткой по миру, и носят свои брусья, орехи, шампиньоны, силки для голубей, гнилую солому, лошадиный навоз, носят с собою наст прошлогодних листьев, старое корыто, и подкрадется вдруг такая клетка, возьмет в полон другого человека и держит его долгие годы.
Бывают роскошные клетки с богатыми одеждами, автомобилями, особняками, узорными коврами и мягкими диванами.
Бывают бедняцкие клетки с заштопанной одеждой, колченогой мебелью, коммунальными квартирами, тесными экранами телевизоров.
Бывают черные клетки ненависти, красные клетки любви, белые клетки горя, лиловые клетки страсти, бесцветные клетки жизни и смерти, бывают клетки зависти, и если ты, человек, обитаешь в клетке, подобные метафоры можно нанизывать до бесконечности.
Единственный наилегчайший и вместе с тем наитруднейший путь — выбраться из клетки. Гремучей змеей на бетонном полу извивается клетка. Освободившись от нее, человек у себя в кабинете в качестве трофея повесит змеиную шкуру, но яд, оставленный клеткой, еще долго будет терзать сердце.
Все же я счастлив, что такая судьба миновала меня в том мире!
Начинались ясные ночи. Небо стало высоким и синим. В звездных клетках, облитые млечным светом, светились иные миры.
В такие минуты ему вспоминалась Эдите.
Я знаю, милая, своей легкой поступью ты идешь ко мне по мерзлой земле, теплыми стопами ступаешь по хрустящему снегу, сладкими стопами своими, и волна ночных голубых волос развевается по ветру, ты идешь ко мне, простирая млечной белизны руки.
Морозной
ночью с ветки срывается лист, падает в млечные руки. Падает целую вечность.
Может, есть листья, что падают полвечности, четверть вечности, восьмушку вечности, и я частенько просыпаюсь, вскакиваю в своем шалаше, гляжу в ночь, жду тебя, глазами надежды пронзая тьму, но вижу только лист, недвижный, уже полвечности слетающий с ветки.
Я жду тебя, как недвижный лист ожидает пришествия второй половины вечности, и надежда моя нетленна, как нетленна вечность листьев в осенней ночи, когда сквозь небесную клетку смутно мерцает Большой млечный путь, и люди думают, что это звезды, люди, не знавшие клетки, а их любимые всегда с ними рядом и теплая рука покоится на груди.
На моей груди покоится рука надежды.
Все же — как выглядит Эдите? Не начинаю ли я забывать?
У нее были крупные руки, тонкие, длинные пальцы. Белая кожа. Родинка у самого плеча, она обнажалась, когда Эдите надевала платья с коротким рукавом, особенно ей шли черные платья, они оттеняли белизну и нежность кожи.
Эдите могла внезапно похудеть так, что у нее выпирали ключицы, плечи становились угловатыми, руки торчали, а потом столь же внезапно могла сделаться, ну, если не полной, то уж во всяком случае преобразиться до неузнаваемости, руки и плечи довести до приятной округлости, и спина становилась ровной, гладкой, а рот, обычно такой огромный при худобе ее лица, — просто ртом, и нос, прямой, классический нос, отнюдь не казался остреньким. Одну неделю она могла выглядеть по-мальчишески поджарой, озорной, с заостренным, осунувшимся личиком, а через неделю — откуда ни возьмись— и дородность, и румянец во всю щеку, и алые губы.
В клетке Эдите являлась ему во всей своей таинственной красе. В воспоминаниях все обретало новое звучание, новую оболочку, без больших и малых ссор. И припомнил он то, о чем давным-давно позабыл. Припомнил начало любви.
Девять лет назад — лето шло на убыль — я провожал Эдите на дачу, где она жила с родителями.
В общем-то я был шустрый, сообразительный парень, но рядом с нею терялся, делался тихим, робким, что-то беспомощно мямлил, как-то сразу линял, сжимался в комочек, и тогда-то до меня дошел истинный смысл слов «по уши влюбился». Во мне просыпался зверь. Я пожирал Эдите глазами, мысли разбегались, лицо деревенело, и теперь, сквозь решетку клетки, оглядываясь на себя, тогдашнего, я кажусь особенно непривлекательным в роли влюбленного.
Разумеется, Эдите не нравились мои примитивные представления о любви, она была женщина, была молода, только-только двадцать один исполнился, ей хотелось нежных слов, умных речей, рассуждений о созвучии душ, так что порой, проводив ее до дома, я прощался с немой и холодной куклой. И в тот вечер она простилась с надутым видом, по сей день не понимаю, чем я мог ее тогда обидеть.
Я остался один. Часы показывали половину одиннадцатого. Я стоял под соснами на опушке леса, глядя, как в окне у Эдите зажегся свет. Зажегся и потом долго горел.
Стоял, пока не продрог. Земля на опушке была мягкая, присыпанный хвоей чернозем, и я стоял, пока ноги по щиколотку не увязли в податливом грунте. Мне почудилось, что так я к утру по пояс уйду в землю, а свет в окне все горел.
Пошел дождь. Поначалу теплый и ласковый, потом все злее, холоднее, хлеще, я почувствовал, как мокрая подкладка пиджака прилипает к сорочке, как влага ползет по спине. Ветки сосен перестали сдерживать дождь. Свет в окне по-прежнему горел, но я решил не уходить, пока он не погаснет.
Я стоял, меня пробирала дрожь, ноги все глубже увязали в мягком черноземе. Чем больше замерзал, чем глубже увязал в черноземе, тем счастливее я себя чувствовал.
По правде сказать, до тех пор я не был уверен, что мои чувства к Эдите можно назвать любовью в полном смысле слова. Я стыдился своей необузданности, но тут дождь и холод прибили во мне зверя. Я стоял, увязая в рыхлой земле, я мок под дождем, а внутренний голос нашептывал, что глупо вот так мокнуть и мерзнуть, хотя свет еще горит в окне. Но я остался, остался потому, что любил Эдите, и от счастья у меня по щекам катились слезы, мешаясь со струйками холодного дождя, и я от души благодарил природу за то, что она помогла опознать мне мою любовь.
Небесные пожарники хлестали вовсю из своих брандспойтов, а свет в окне по-прежнему горел. Я весь до нитки промок, продрог до последней кровинки, когда свет в окне наконец погас.
Тогда я высвободил увязшие в черноземе ноги, снял с себя пиджак, отжал его, тут и дождь перестал, еще по-отжал штанины и в тот момент уже знал: Эдите станет моей женой.
Странно теперь вспоминать об этом. Дождь помог мне понять, что такое любовь.
Клетка помогла понять, что для меня означает жизнь, что для меня означают люди, что для меня означает возможность пройтись по лесной дороге, срывая шишки, слушая щебетанье птиц, клетка помогла понять, что для меня означает работа.
И Берз на бетонном полу клетки рисовал углем удивительные здания, целые города рисовал, а потом стирал, и в тот миг, когда в мыслях рождались дома, фасады, удачные решения, неожиданные комбинации, он и в клетке себя чувствовал счастливым. До тех пор, пока, оторвавшись от своих чертежей, не замечал немой симметрии брусьев.
Клетка убила в нем потребителя, но сохранила творца. Однако клетка держала творца в стальных объятиях, позволяя лишь в мыслях наслаждаться плодами своего труда.
До чего ж он был прихотлив, разборчив, капризен в том мире! Он давно уже делил мир надвое — тот мир и мир клетки. В мире клетки он в своих запросах, желаниях и капризах был до чрезвычайности скромен.
Запросы, капризы, желания?
Куда там! Таких высоких слов у него в помине не было. Он всего-навсего надеялся, смиренно мечтал о том, чтобы в клетку хотя бы раз в месяц пускали Эдите, чтобы у него была мало-мальски сносная одежда, которая смогла бы защитить от холодов. Чтобы время от времени перепадала теплая пища. О большем он не мечтал.
И все же я покривил душой, спохватился он. Ничего мне не надо — только бы вырваться!
Но возможно ли это?
На чудо надежды плохи, похоже, ему придется до конца своих дней пробыть в клетке. Он вспомнил о друзьях и близких и усомнился, испытал ли бы радость, окажись они с ним в клетке, даже будь здесь достаточно пищи и надежная крыша над головой? От подобной мысли у него дух захватило — настолько зримо он это себе представил. И он понял, что одиночество — самая страшная клетка, в которую человек может себя посадить.
Одиночество хорошо лишь тогда, когда ты сам в любой момент можешь его нарушить.
Если в начале осени вокруг клетки порхали, скакали и щебетали птицы, то теперь лишь изредка доносились покрикивания сойки да тихий перестук дятла откуда-то со склонов оврага. Птицы покинули леса, улетели в теплые края. Теплые края. Да существуют ли такие? Стрижи, ласточки, иволги, те, конечно, улетели, других птиц он не знал. Но ему хотелось, чтобы птицы опять были с ним, чтобы в их многоголосом хоре на мгновенье растворился голос одиночества, но все напрасно, время неумолимо, оно не считалось с его желанием. Время шло навстречу зиме.
Одинокая синица пролетела над клеткой.
К кому обратиться со своими просьбами? Природа говорила на другом языке, природа не понимала. Быть может, природа, как и он, бессильна, быть может, она с тихим ужасом наблюдает за агонией человека в стальных щупальцах клетки?
В своем бессилии природа краснела от стыда. Листья на деревьях покрывались багрянцем, влекомые ветром, листья облетали над клеткой, шурша, опускались на брусья багряные птицы. Он вслушивался в шепот листьев и думал: нет, все-таки природа не бросила, не покинула меня.
Порой наступала такая опустошенность, что он ничего не мог вспомнить, ни о чем не мог думать, просто лежал на ворохе листьев, любуясь каруселью листопада. Листья, листья, листья, в голосе беспрерывно стучал телеграф, я сам теперь лист, вот я выбрался из клетки, повис на суку, подул ветер, я срываюсь с ветки, лечу, кружась на ветру, лечу вместе с другими листьями.
У нас, у листьев, своя задача, у нас, у листьев, своя цель. Нам, листьям, надо попасть в клетку, проскользнуть между брусьев, такова наша задача. С тихим шелестом должны упасть мы на бетонный пол, где человек лежит в одиночестве, мы должны укрыть его печальное лицо, должны развеять грусть его. Должны скоротать его одиночество. Мы, легкокрылые осенние листья, а человек тяжеловесен, не может он с ветром лететь над землей, человек не способен пожелтеть сам собой, человек упрям и стоек, но он и грустен, человек. Полетим, раскрутим ветряные мельницы, перемелем грусть человека в осеннюю муку, пусть просыплется золотая мука ему на голову, пусть испечет себе человек из листьев хлеб надежды, горький хлеб надежды пусть испечет. Человек не может без хлеба. И его перемелют в хлеб надежды жернова дней. Так полетим же, раскрутим мельницу дней, проскользнем меж брусьев, меж стальных щупалец проскользнем, пусть человек убедится, что не одинок он, что его провожает спокойная, тихая осень надежды, что золото осенней муки сыплется на него сквозь зубья клетки, Берз никогда не помышлял о долгом одиночестве. Сможет ли вынести его? Иногда он чувствовал себя довольно сносно, ему казалось, одиночество на природе вовсе не страшно, а иногда в душу закрадывался панический страх, что он позабудет человеческую речь, разучится говорить, и тогда, стоя посреди клетки, он выкрикивал то, что взбредало в голову. Его выкрики были бессмысленны, разве что вычислительная машина да Фрейд смогли бы отыскать в них отсветы чего-то глубинного, подсознательного.
По ночам он просыпался и прислушивался, как кто-то бесшумно подкрадывался к клетке.
Лес оживает, говорил он себе.
Таинственно шуршала листва. У самой клетки за темными шатрами кустов промелькнул чей-то силуэт. Лиса.
Берз поглубже зарылся в листья, только голову оставил снаружи. Его потревожил далекий звук. Он никак не мог разгадать, что за зверь его производит. Долго прислушивался к звуку, тот не удалялся, не приближался, и в душе у Берза рождалось смутное беспокойство.
Он устал ожидать спасителей.
Нет, не они, что-то другое. Птица? Зверь? Потом его надоумило: два дерева, плотно прижавшись, трутся друг о дружку и скрипят, и плачут, и постанывают.
Когда светило солнце, он ложился на спину и смотрел в небо. Казалось, мысли сливаются с синевой. Он думал о смерти. Прошел уже месяц, надежд оставалось мало, но и оставшаяся крупица надежды не давала до конца угаснуть его силам и упорству.
Он знал: будет небытие. Уже в сочетании этих слов скрывалось противоречие. Будет небытие? Будет то, чего не бывает? Но он знал, что это будет ни приятно, ни неприятно, просто бесчувствие.
И потому наслаждался теми минутами душевной ясности, которые, перед тем как впасть в небытие, были отпущены ему в клетке.
Он много думал о своем теле, пока не начинал прослушивать весь огромный пульсирующий в артериях и сосудах двигатель сердца. Потом он погружался в полудрему, и ему мерещилось, что он становится сердцем клетки.
В такие минуты он не чувствовал ни обиды, ни злобы на клетку. Он знал, что ни одно существо не может жить без сердца. Клетке тоже необходимо сердце, и клетка постаралась раздобыть себе сердце. Сердце билось, страдало, радовалось, сердце вело себя вполне сердечно. Сердце стучало на бетонном полу стальными брусьями, большое, человеческое сердце клетки.
Клетка думала лишь о себе. Клетка о других не думала.
И опять он разговаривал с клеткой, как с живым существом.
— Ну, зачем ты меня держишь, какой тебе прок? Выпусти меня.
— Кто-то должен находиться в клетке! Или ты думаешь, такая клетка, как я, может простаивать пустой! — ответила клетка.
— Нет, не думаю, — сказал Берз, — но ведь до того, как я попал сюда, стояла же ты пустой.
— Неправда, — возразила клетка. — Я не стояла пустой, во мне жила мысль об узнике.
— Но по какому праву? — возмущался Берз.
На этот вопрос клетка не смогла ответить ничего вразумительного. В самом деле, как клетке доказать свои права? У клетки не было прав, зато были крепкие брусья, и клетка лишь посмеивалась.
А вода в колодце за ночь покрылась ледком.
Теперь уже Берз не тешил себя надеждами, что выберется живым. Он знал, наступают последние дни, и он желал провести их в покое и здравом рассудке.
Об одном он сожалел — что не оставил после себя детей. С этим нельзя было тянуть, откладывать на более поздний срок, потому что более поздний срок так и не пришел.
На людей он не был в обиде. Он знал, его разыскивали, но что-то помешало найти.
Ночью мимо протопало кабанье стадо. Берз подумал: как хорошо, что клетка будет охранять его останки. Не то бы кабаны разодрали его после смерти. Не доверял он кабанам, не верил в их желудево-корневую диету.
Берз передумал всю свою жизнь в том мире и пришел к выводу, что, несмотря ни на что, жил полнокровно. Наслаждался работой. В свободное время превосходно развлекался. Любил и был любим. Имел друзей.
Возможно, были — да уж конечно были! — всякие изъяны, возможно, они с Эдите слишком предавались бестолковой беготне, мало времени уделяли друг другу. Погрязли в собственных заботах? Но сам он? Тоже думал больше о себе, меньше о других, и это казалось правильным. Пусть каждый позаботится о себе, пусть каждый сначала усовершенствует самого себя, а потом уж возьмется за исправление других, тогда и в мире будет больше порядка. Так он стремился жить, полагая, что это правильно. Я в ответе за все, что творится в мире? Чепуха! Будь в ответе прежде всего за себя, за свою работу, за свои отношения с людьми, покуда ты жив, не зарывайся в клетке эгоизма, и будь уверен, мир станет лучше.
Мы — вот верная форма ответственности.
Иной раз мысли сплетались, как пожелтевшие вьюнки на сухой ольхе, и он думал, что было бы хорошо дотянуться до ствола, протащить его в клетку и сжечь.
Дрова кончились. Спички — тоже. Орехи съедены.
По ночам подмораживало.
Он пил воду со льдинками. Вода в колодце на глазах убывала. Роднички перестали действовать.
Днем изредка светило солнце. Брусья клетки нагревались, а к вечеру, когда опускалась тишина и лес коченел на холоде, Берз слышал, как потрескивали остывавшие брусья. Может, атмосферный ревматизм разъедал клетку? Атмосферный ревматизм? Берз негромко рассмеялся. Один из брусьев прозвенел жалобно и нежно. Может, то была таинственная музыка клетки?
В небе появились снежные облака. Берз спокойно взирал на белых посланцев зимы. Какая разница, где умереть — в постели или в клетке, раздумывал он. Смерть в клетке и где бы то ни было одинакова.
Он считал, что все-таки победил клетку. Может, он ошибался, но считал, что победил. Со смертью — дело другое. Со смертью все обстояло просто. Смерть приходила без обмана.
Я сделал все, что мог. Не отчаивался. Не поддавался панике. Не пресмыкался перед брусьями клетки. До конца оставался верен себе. Теперь пришло время уйти. Я ни о чем не жалею. Я не понимаю тех людей, что бросили меня сюда. И не хочу их понимать. Они достойны презрения. Они будут наказаны. Я должен уйти. Клетка меня не держит. Так или иначе пришлось бы уйти. Раньше ли, позже. Я ухожу в здравом уме. Я потеряю только клетку, а клетка потеряет сердце.
Клетка потеряет сердце!
Он снова и снова шептал пророческие слова. Клетка жалобно позванивала остывающими брусьями. Жалобно? Для жалости клетка была чересчур бесчувственна.
Дверь открыта, можешь уйти! Он и раньше думал об этих мудрых словах Сенеки. Да, в любой момент он мог уйти из клетки в указанные Сенекой двери, уйти от клетки и мук, уйти от мороза, уйти от голода, грязи, уйти от страданий. Но именно в те минуты, когда он понимал безнадежность своего положения, какая-то пружина сжималась в нем, твердела воля, он распрямлялся, отметал мысль о самоубийстве. Уйти самому! Ну нет, такого удовольствия он клетке не доставит.
Ни с чем не сравнимая радость первой любви, первое утро, первая ночь, первый ломоть хлеба, первый восторг, первый склон, первое здание, первое признание и первый ушат холодной воды, первая клетка, первый и последний штрих уголька по бетонному полу, клетка последняя — все это были бессвязные слова, смутные образы, невозможно было их собрать воедино, все испарялось в пространстве и времени клетки.
Мои родители меня переживут. Им будет больно меня потерять. Будет больно, как и всякому отцу, всякой матери. Больно будет жене. Мои сверстники меня переживут. Для мира я буду потерян. Но те немногие постройки, что я возвел, останутся. Для людей я не буду потерян.
Будь у меня возможность взглянуть в зеркало, я бы не увидел бетонного пола, покрытых ржавчиной и струпьями сурика стальных брусьев, прошлогодней листвы и ореховых скорлупок, гнилой соломы и осклизлых досок корыта, нет, я бы увидел свое человеческое лицо, потому что, живя в клетке, я не уподобился клетке.
Я остался человеком.
Последние дни он то и дело впадал в беспамятство и лежал в палатке, выставив голову наружу.
На лицо падали снежинки. Нежные, бесплотные, как забытье. Снежинки таяли, ручейками текли по щекам, лотом снег, словно маской, припорошил лицо. Только два темных отверстия — там, где прорывалось дыхание, — говорили о том, что человек еще жив.
Сквозь снежную опушку на бетонном полу проглядывали четкие линии сделанного углем рисунка.
Берз лежал белый, как снеговик. Письмо, последнее прости, промелькнуло в затухавшем сознании. И подпись: Мумий. Под снежной маской, похожей на полотняные покровы, пропитанные бальзамирующим веществом, еще угадывались черты лица. Повалил густой, мягкий снег. Вскоре Берза совсем занесло. Лишь округлая, вытянутая фигура посреди тесной палатки. Мумия в саркофаге.
Прибежала лиса, постояла у клетки, переминаясь с ноги на ногу, и убежала по своим лисьим делам.
Вдоль оврага шли люди.
Под снегом хрустели сучья, люди обходили поваленные деревья, перелезали через них. Провожатый, местный лесник, не переставал удивляться, вот уж никогда бы не подумал, что в позабытом богом месте могла разыграться такая трагедия. Немцы-фашисты в сорок четвертом году проложили дорогу к глухому оврагу и устроили тут не то школу для разведчиков, не то какую-то лабораторию. В одном из деревянных бараков помещался карцер — здоровенная клетка. Барак-то сгорел еще в сорок пятом. Дорога к оврагу заросла, кругом непролазная чаща, редко кто сюда забредет, разве цыган-бродяга. Был еще один пенсионер-романтик, все скитался по лесам, вместе с лошадью жил в лесах, только это давно, года два назад, теперь уж тут никто не бродит.
А запор в клетке так устроен, что открывается только снаружи. И кто бы мог подумать, сокрушался лесник, что стальная ловушка защелкнулась, загубила человека по прошествии стольких лет после войны.
Струга увидел брусья клетки, увидел на шесте задубевший от мороза носовой платок и с грустью подумал, что вот у клетки теперь свой флаг.
Клетка с виду была совсем не страшна — обсыпанная снегом, она затаилась на дне оврага, пушистым, покладистым зверем, охранявшим свое клеточное царство.
ЭПИЛОГ
Прошли две недели с тех пор, как Валдис Струга отворил дверь клетки и, склонившись над засыпанной снегом палаткой, расслышал, как тихо и мерно тикают часы на руке у Берза.
Первый снег успел растаять. В конце октября полил дождь.
Струга, облачившись в белый халат, шел больничным коридором.
Серые прямоугольники света ложились на темный бетонный пол, где мягкие шлепанцы больных за долгие годы протерли неровные борозды, колеи, щербины. Совсем как слаломная трасса на склоне горы, когда глядишь на нее с самолета.
По коридору гулял сладковатый запах пропитавшихся йодом халатов и ватных одеял, пахло потом, мочой, карболкой. И еще — влажным гипсом.
Шуршали накрахмаленные халаты сестер, санитаров, кативших тележку с больным. Резиновые шины мягко пружинили на неровностях пола. Тележку везли из операционной. Струга прошел мимо, вспомнив сон, который ему пересказывала Эдите.
По случаю эпидемии гриппа больницу держали на карантине, посетителям запрещалось навещать больных. Потому-то Струга был не только в белом халате, но и в белом колпаке. Замаскирован под врача, чтобы не волновать понапрасну других больных.

Эдмунд Берз лежал в маленькой двухместной палате с окнами в сад.
Он обморозил ноги и руки, у него открылся ревматизм. В острой форме. Он отощал до крайности. А больше, как ни странно, Берз ни на что не жаловался.
Лечащий врач вошел вместе с посетителем.
Струга обрадовался, увидав, как навстречу ему поднимается исхудавшее лицо и на нем оживает улыбка.
Выжил в невероятных условиях? Питаясь одним свежим воздухом? Ну, а если хоть бы на день опоздали?
Струга хотел что-то сказать Берзу, но не знал, что принято говорить в таких случаях. К тому же он себя чувствовал виноватым, что не нашел Берза раньше. Он склонился над кроватью, чтобы Берз мог лучше расслышать, и спросил:
— Ну, а что с вашей подагрой?
Берз усмехнулся и ответил неожиданно громко:
— Подагра осталась в клетке. А вы что, тоже знакомы с этой штуковиной?
До сих пор Струга никому не признавался. Ни врачам, ни друзьям, ни коллегам. Даже жене не сказал. Но с Берзом у них особые отношения, ему можно довериться.
— Да, — молвил он со вздохом, — и я знаком с этой штуковиной. По-всякому пытался от нее отделаться, да пока ничего не выходит.
Врач оставил их наедине. Живя в клетке, Берз приобрел нового друга, и Струга, разыскивая клетку, тоже обрел друга. Они заговорили чуть ли не шепотом, и только отдельные слова можно было различить.
«Да, да. Терскол. Не знаю, удастся ли выбраться в этом году? А я обязательно поеду. Армянский коньяк? Рюмка, думаю, не повредит. Для здоровья в самый раз. Ну, идет, по одной. И чем же питались? Грибами. Что вы говорите, неужели грибами? Но в грибах же столько пурина, подагрикам грибы противопоказаны! В том-то все и дело! Больше не наливайте. Ну, ваше здоровье. А как насчет маркеров. Да, без маркеров там не обойтись, лучше всего с катапультой, знаете, такой патрон на пятке. Но где же такие достать? Если бы я знал! Надо что-то придумать».
После того как Берза нашли, Ритманис, которого так и не утвердили начальником, подал заявление об уходе. Перешел в другую мастерскую. В той мастерской ответственных заказов, правда, поменьше и возможности поскромнее, но лучше быть крупной рыбой в маленьком пруду, чем мелкой в большом, по крайней мере так рассудил Ритманис, и никто его тут не упрекнул.
Писатель Нупат успел закончить роман-детектив об убийстве Берза и возмущался, что теперь придется переделывать начало и конец, потому как он все-таки реалист и правде жизни смотрит в глаза. Он навестил Берза в больнице, они оба от души посмеялись над страницами, где описывалась смерть Берза. Кошелек был пуст, так что писатель скрепя сердце и, конечно, с любезного разрешения Берза, во имя поддержания семейного бюджета поступился своими принципами. Он не переработал ни начала, ни конца и героя романа отправил на тот свет. На титульном листе, где прежде стояло «Документальный роман», писатель оставил просто «Роман», тем самым и волки остались сыты, и овцы целы.
И Антлав, и Новадниек, и другие ответственные товарищи наведывались к Берзу в больницу, маскируясь белыми халатами и колпаками. У врачей отбоя не было от посетителей. Берз с каждым выпивал по рюмке коньяка и вскоре почувствовал, что подагра опять начала грызть кости.
Берз поправился и продолжал руководить архитектурной мастерской.
Поведение Эдите в отсутствие мужа ставилось всем женщинам в пример.
Диндана судили. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора послужила яркая речь потерпевшего Эдмунда Берза о клетке, которую Диндан якобы носил в самом себе. Диндан, правда, мало что понял из той речи и даже решил, что Берз от долгого сидения малость свихнулся.
Мара, наивная садовница, была потрясена, когда узнала, что ее возлюбленный оказался преступником, и полгода находилась на излечении в психиатрической клинике.
Ирбе, как всегда, на именины подарил Эдите девять алых роз.
Только родители Диндана, учителя-пенсионеры, не вынесли удара и тихо ушли из жизни.
Федоров в феврале заболел гриппом, и Струге не дали отпуска. Так он и не выбрался в Терскол покататься на лыжах.
В разгар зимы, когда земля затвердела и лесные работы шли полным ходом, к клетке подъехал трактор-тягач и опрокинул ржавые брусья.
Вот вкратце и все про клетку.
ГОЛОС ЗОВУЩЕГО[6]
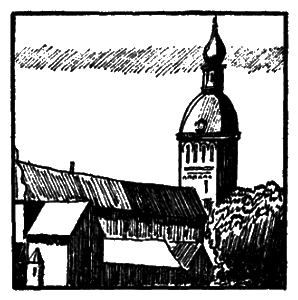
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Промозглым и голым зимним утром по Суворовской улице в Риге, сгорбившись под нелегкою ношей на плече — плоским ящиком со стеклом и всякими стекольными принадлежностями, — брел мастеровой.
Одет он был в поддевку и штаны домотканого сукна, на ногах сапоги. Шерстяной шарф обмотан вокруг шеи, овчинная ушанка, варежки, хотя мороз не ахти какой. Лицо мастерового было старчески румяно, с сизыми прожилками по щекам и носу. Седая благообразная бороденка, тронутые сединой усы.
Старик был в очках с железной оправой. Из-под ушанки на ворот спадали жидкие пряди волос.
Должно быть, стекольщик страдал каким-то недугом, поясницу, что ли, ломило, а может, ноша оказалась чересчур тяжела, только шел он неуверенно, шатко, что называется, едва ноги волочил, и, глядя со стороны, кое-кто мог бы и заключить, что не жилец он на этом свете. Временами старика вдруг начинал душить кашель, и в один из таких приступов ему пришлось отступить к стене дома — проезжал казачий разъезд, всадники лениво поигрывали нагайками.
Дойдя до Романовской, старик свернул к Александровской и вскоре подошел к серому пятиэтажному дому. Борясь с одышкой, открыл парадную дверь, взобрался на второй этаж, крутанул бронзовую ручку звонка.
Дверь отворила молодая, исхудавшая и поблекшая женщина.
— Госпожа Леинь? Стекольщика вызывали? — с трудом выдавил из себя старик. Должно быть, больное горло мешало ему говорить.
— Да, вызывали. На кухне выбита верхняя клетка оконной рамы.
— А мне сказали, всю раму стеклить.
— Нет, только верхняя клетка! Проходите!
Хлоркой и каким-то особым аптечным запахом потянуло из сумрачной прихожей. В нее выходило много дверей. Сразу видно, люди тут жили состоятельные. Кто-то выглянул, осмотрел стекольщика, захлопнул дверь.
Проходя мимо вешалки, стекольщик старался не касаться одежды. Очутившись на кухне, осмотрелся, достал нужное из ящика. Как всякий опытный мастер, он имел при себе разных размеров заготовки, одна из них как раз подошла к третьей клетке оконной рамы, и немного погодя стекольщик уже разминал на дощечке замазку.
Девчушка в розовом платьице светлячком пронеслась по коридору мимо кухонной двери. Послышался голос:
— Хочу к папе!
— К папе нельзя. К папе пришел доктор.
— Папа сам доктор.
— А это папин доктор. Ступай к тете Анне, поиграй у нее.
— А у того доктора тоже есть доктор?
— Да, детка, да!
— Папа — доктор, и у папы доктор, а у папиного доктора еще и свой доктор?
Привычным движением стекольщик накладывал замазку, она ложилась на раму ровной, гладкой бровкой.
Вошла госпожа Леинь.
— Платить вам как — деньгами или натурой? — спросила.
— Годится и то и другое, — отозвался стекольщик, убирая свои принадлежности: деревянный аршин, молоточек, жестянку с гвоздями, дощечку, на которой разминал замазку. Алмаз же, как драгоценность, спрятал в карман.
Хозяйка протянула ему увесистый сверток. В дверях опять мелькнуло чье-то лицо.
— Вот вам немного свинины.
Стекольщик, не глядя, сунул сверток в ящик, сухо простился и двинулся к выходу.
— Послушайте… — Женщина хотела что-то еще сказать, но за ним уже затворилась дверь.
На улице стекольщика нагнал какой-то нищий. Смерив его придирчивым взглядом, нищий проковылял мимо. Стучала подкованная деревянная нога. Нищий торопился к своему рабочему месту на Больших бульварах.
Губы у стекольщика шевелились, но он не проронил ни звука, шел себе как ни в чем не бывало.

Войне конец, ей-богу,
Но где ж возьму я ногу,
Деревянную, протезную?
Зайди в тот дом, болезный!
А дом-то тот казенный был,
Я ногу там себе спросил.
Но мне сказали: чем негож?
И без одной ноги хорош.
Не вздумай только вякать,
А то придется плакать.
Стекольщик прибавил шагу и вскоре был уже на Мариинской улице, там повернул к Александрийскому вокзалу. Через два квартала, миновав здание суда на углу Столбовой и Мариинской, старик вошел в доходный дом мрачно-зеленого цвета.
В обшарпанном парадном старик не встретил ни души. Поднимался медленно, временами останавливался, чтобы отдышаться. А может, просто прислушивался.
Добравшись до второго этажа, снял плотную рукавицу. В руке блеснул ключ. Смазанный замок открылся бесшумно. Старик вошел в квартиру, запер за собой дверь, для верности еще заложил цепочку.
— Наконец-то, — молвила выглянувшая из кухни старушка.
Пахло вареной брюквой, плыл легкий капустный запах.
— Мать поутру твоя заходила. Я не сказала, что ты в Риге. Вся такая расстроенная. Сказала ей, что ты в надежном месте.
— И правильно, тетушка Ригер, — грустно ответил старик. От нежного капустного запаха его голос понемногу терял хрипоту.
Толкнул дверь в глубине коридора.
Небольшая комната с занавешенным окном, золотистыми связками лука у щербатой печи, с пучками сухих ароматных травок в вазе на столе.
На желтой деревянной кровати с резными шишками в изголовье, матово поблескивая замками, красовалась пара кожаных чемоданов.
У стола кресло с аккуратно повешенным на спинку выходным костюмом. На вешалке меховая шуба и шапка.
На улице был ясный день, но старик не раздвинул занавеску, вместо этого засветил керосиновую лампу.
Движения старца становились все более раскованными. Поставил в угол стекольный ящик, сел в кресло. Подвинул продолговатое зеркало, пристроил его перед собой.
Открылась дверь, вошла тетушка Ригер, неся полотенце и таз с горячей водой.
— Я уж думала, вот придешь и столкнетесь с нею. Да ведь все равно бы тебя не признала, — говорила тетушка Ригер.
От воды валил пар, ее только что сняли с плиты прямо в тазике. Тетушка Ригер принесла его голыми руками.
— И как это ты пальцы себе не обожжешь? — удивился старик.
— Не жжет! Я толстокожая! А вот как подумаешь, сразу и обожжет!
— Ага! Дай и мне разок попробовать, — сказал старик, проворно обернувшись. Принял таз из рук тетушки Ригер, бормоча себе под нос: — Ой, холодно, чистый лед, аж мурашки по телу забегали! — И поставил кипяток на стол.
— Я расспросила ее, как отцу живется, братьям. Все живы-здоровы, только вот сама сдавать что-то стала. По тебе убивается. Весточку твою получила, да ей мало этого. Ладно, ладно, ухожу, — вдруг молвила тетушка Ригер и, махнув рукой, вышла, бесшумно притворив за собою дверь.
Старик снял ушанку. Ловко накинул ее на резную шишку кровати, затем накрылся с головой полотенцем и склонился над тазом.
— А! — вырвалось у него, и он выпрямился.
Струйками по лицу стекал грим.
Человек осторожно отлепил седоватые усы. Еще немного попарившись, отодрал бородку. Снял стариковский парик.
Достал из ящика стола баночку, вату, намазал лицо вазелином. Затем чистой ватой старательно стер его.
Выпрямился, развел плечи, размял руками спину, шеей покрутил. Прошелся по комнате, поигрывая мышцами и при этом постанывая. Возвращение в молодость было нелегким, старость въелась в плоть, силой приходилось ее изгонять. Одну за другой сбрасывал с себя стариковские одежки, пока не остался в длинной белой льняной рубахе.
Убрав с постели чемоданы, он завернулся в полосатое одеяло, поудобней устроился на соломенном тюфяке, бормоча про себя:
— Небо голубое!
И двенадцать журавлей!
Двенадцать журавлей в небе тают голубом.
Двенадцать журавлей курлычут грустно.
Двенадцать!
Он видел, как в голубом небе тают двенадцать журавлей: ровно в двенадцать он должен был проснуться, двенадцать журавлей становились все меньше и меньше; верное дело, число откладывалось в сознании, и журавлиный косяк с печальным кличем «курлы-курлы» обратился в едва различимую точку на горизонте, потом и вовсе исчез в синеве.
Во сне он дышал глубоко и ровно. Под занавешенным окном, семью пядями ниже, белела покрытая инеем кровля. Забраться в дом через окно было невозможно, а выпрыгнуть — ничего не стоило. Дальше по крыше можно было пройти до слухового окна, через него попасть на чердак пекарни, оттуда на мучной склад, мимо крысиных и мышиных нор, мучных ларей пробраться до самой пекарни; а в пекарне у горячих печей даже в январские морозы все работали в белых льняных рубахах — белые работяги ангелы в адском пекле в поте лица пекли городу хлеба.
Он проснулся через полчаса, ровно в двенадцать.
Вода в тазу успела остыть. Он зачерпнул сначала в стакан. Вычистил зубы несравненной пастой фирмы «Сарто» — «Ваши зубы станут ослепительно белыми, крепкими, паста приятно освежает полость рта, и даже кратковременное пользование ею предохранит ваши зубы от гниения!». И подумал: а интересно, предохраняет ли она буржуев и от духовного гниения?
Развел мыльную пену, побрился. Протер лицо одеколоном. Причесался. Облачился в выходной костюм.
Взял со стола кожаный бумажник, вынул паспорт, потом, вспомнив что-то, паспорт отложил, достал из стекольного ящика продолговатый сверток, полученный сегодня за работу. Открыл один из чемоданов. Запахло чистым бельем, оружием и порохом. Сверток он положил в чемодан и снова запер его.
Вытащив из-под кровати большой мешок, засунул в него оба чемодана, открыл окно, спустил мешок на заиндевевшую крышу. За окном сияло солнце, поверх крыши голубело небо, и он свистнул, будто желая вернуть журавлей, потом затворил окно, завесил его, так и не увидев, как из слухового окна вылез паренек лет двенадцати и поволок мешок, оставляя на крыше широкий след.
Человек в затемненной комнате еще раз внимательно изучил свой паспорт.
В тот момент его звали Адольфом Карлсоном.
II
«Не будет у тебя личной жизни, не будет любви», — припомнились Карлсону отцовские предсказания. Отец не пытался его отговаривать, вовсе нет, он честно и откровенно, без каких-либо скидок раскрыл всю тяжесть долгого пути. В общем-то отец ничего не знал, не имел права знать, он находился на первой ступени конспирации, а сын его — на самом верху, дальше просто уж некуда. И, только достигнув вершины, придя в себя от стремительного взлета, сын призадумался над отцовскими словами и осознал их горечь.
Нет, нет и нет, заводить семью еще рано, рассуждал он, мне всего-навсего двадцать три, а когда эта цифра, как в зеркале, перевернется, обозначив тридцать два, может, тогда пробьет уже час победы.
Но любовь, страсть неуемная, горячка юности, любовь обошла меня, словно соперник-скакун на ристалище. Сквозь броню конспирации поразила сердце, пламенем кровь обожгла, сладкой пчелой ужалила… Тут невольно впадаешь в высокий штиль.
Однажды ребенком он объелся свежего, только-только выгнанного меда, и медовый жар чуть не сморил его. Любовный мед томил точно так же.
Не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства, и не иметь тебе личной жизни. Не будет у тебя ни дома, ни очага, не будет постели, одеяла тоже не будет. Не будет у тебя стола, за которым можно есть хлеб насущный, зачастую и хлеба не будет. Не видать тебе любви, не видать женщин, гибких и стройных, не для тебя они. Но почему?
Будешь почитать отца и мать, месяцами не видя их, и месяц скроется с неба и снова взойдет, и, живя по соседству, братьев своих не дано тебе будет видеть, и друзья пройдут по улице и не отличат тебя среди прохожих. Не видать тебе материнской ласки, не знать отцовской строгости, не умиляться проказами младших братьев, часто будешь один, как перст один, одинок, ну да ладно, сейчас не время для этого.
Они познакомились на вечере легального общества взаимопомощи. Она не знала, что он один из вожаков организации. Они сдружились за короткий срок знакомства, но не более. События их разлучили, он уехал в Ли-баву, она осталась в Риге, и только по прошествии нескольких лет снова встретились.
И с закрытыми глазами он видел, как приближается к нему ее гибкое тело, видел синеву сатиновой блузки, чувствовал аромат цветущей липы. А раскрыв глаза, увидел перед собой топкую бледную руку с протянутой тарелкой.
Быстро нагнулся и впился зубами в эту руку, чуть выше запястья, обжегся губами о нежные волоски. Рука на мгновенье застыла, запястье дрогнуло, зубы разжались, оставив на розовой коже полукружье белых вмятин, тотчас налившихся жаром.
Все продолжалось секунду или две, никто ничего не заметил.
— А вы зазнались, — сказала Аустра. — Могли бы и почаще заглядывать.
— Да, я зазнался, мог бы и почаще заглядывать, — ответил Карлсон, раскачиваясь на стуле.
— Возьмите салфетку, — сказала она и протянула — белую, накрахмаленную.
— Слово «салфетка» восходит от итальянского salvieta, — сказал он, все еще покачиваясь на стуле. — В переводе означает «предохранительный платок», что-то вроде этого. Французы словечко переиначили в «serviette», и в таком виде оно перешло в немецкий, датский, голландский, латышский и прочие языки. А русские свою «салфетку» позаимствовали непосредственно из итальянского. Англичане называют ее napkin, венгры — tankerkendo, что значит «скатерть для тарелки», португальцы, те именуют ее guarda nаро, иначе сказать: «сторож скатерти», на мой же взгляд, самое благозвучное — «салфетка». Не правда ли?
— Кушайте, а то суп остынет. — И, повернувшись, с достоинством отошла от стола.
Склонившись над тарелкой, Карлсон с наслаждением вдохнул в себя аромат горячего супа. В тарелке плавали сельдерей и зеленый лук.
Карлсон сидел прямо, ел чинно, под стать завсегдатаю шикарного ресторана. Движения были ленивы, размеренны, и даже самую малость он не сгибался навстречу ложке, мерившей путь от тарелки ко рту. Ни капли не пролилось на лежавшую на коленях крахмальную салфетку.
Было на что поглядеть, когда Карлсон садился обедать. Неспроста среди своих он был известен под кличкой «товарищ Господин». В самом деле, у него были прекрасные манеры.
Он ел суп, и в каком-то уголке памяти листал пожелтевшие страницы единственной книги с полки давно уже покойного деда — «Картофельное поле. Книгу сию с благой целью видземских латышей уберечь впредь от голода сочинил один из добропорядочных сограждан. Год издания— 1870». Автор пожелал остаться неизвестным. Цена — один грош.
После картошки в мундире, после кислой капусты, селедки и творога, похлебки и кулеша, простокваши, после кваши и гречневой каши, после всех этих бедняцких разносолов теперь он наконец сподобился отведать ароматного городского супа, которым тринадцатого января тысяча девятьсот шестого года потчевала посетителей своей харчевни очаровательная Аустра.
III
Вначале не было ничего, божий дух витал в одиночестве над водой и сушей, выглядывая, где бы поесть.
Дух опустился в Российской империи, Лифляндской губернии, в городе Риге, на коченевшую от бесснежья Мельничную улицу, к дверям харчевни госпожи Дрейфогель под вывеской «Аустра».
В прихожей дух некоторое время разглядывал висевшие на вешалке пальто, застегнул поплотнее свою барскую шубу и нырнул в харчевню, пропахшую супами, жарким, перчеными подливками, жареными колбасками и тушеной капустой.
В харчевне обедали кустари с близлежащего базара Берга, приехавшие в город крестьяне, рабочие со строек, поденщики, студенты, приказчики и всякая шушера. Латышская речь перемежалась с русской, немецкой, еврейской. Блюда подавались горячие и аппетитные. Скрипели половицы, припорошенные нанесенными на подошвах песчинками.
На кухне в начищенных до блеска медных котлах варились, клокотали, шипели и пенились супы. На прокопченном чугуне плиты доходили подливки из печени и почек. Тушилось мясо в духовке. Время от времени парнишка по имени Юрис, выполнявший обязанности судомойки, гремя фартуком из лошадиной кожи, затаскивал со двора охапку сухих березовых дров.
Повар Озолбауд то и дело вскрикивал:
— А ну подбрось-ка Руце пару полешек! Подкинь-ка Прауле которое потолще!
Так он величал свои плиты.
На одиннадцати и двух конфорках всегда нужно было что-то снять, заменить, помешать, посолить, посахарить, поперчить, попробовать.
Число «тринадцать» суеверный повар не смел произносить, и, словно призрак в облаке пара, склонился он над котлом, стоявшим на одиннадцатой и второй конфорке, добавил соли и опять заметался по-над плитами, совсем как амеба в питательном растворе.
Сама Аустра Дрейфогель разносила блюда, отпускала напитки. В харчевне было душновато, но кое-кто из посетителей, не снимая пальто, в поте лица уминал за обе щеки.
Брякали по тарелкам оловянные ложки, тыкались вилки в мясо. Челюсти двигались, жевали, губы чмокали, посасывали. Голод понемногу утолялся.
При виде этой обильной обеденной трапезы даже наметанный глаз не смог бы заприметить среди посетителей харчевни опасных преступников.
Вместе с табачным дымом по харчевне носились обрывки разговоров.
— Для такого хозяйства нужна пара крепких лошадей, да мужиков пара, да две бабы работящих, да пастуха в придачу. Так вот, в девяностом году я работнику платил восемьдесят пять целковых за год, работнице — тридцать пять, пастуху — за лето пятнадцать, а нынче
тридцать, работнице — шестьдесят пять, работнику — сто двадцать. Где ж мне их взять?
— Ты погоди, я на это вот что скажу, крестьянин о ту пору на одной половине развалюхи-риги ютился, а теперь на том месте дом стоит не хуже пасторских хором! Там, где раньше на телегах тряслись, сейчас в пароконной коляске, развалясь, на сиденьях катят! Там, где раньше меж камней землю сошкой ворошили, нынче шведский плуг пласты ворочает. Там, где прежде на прошлогодней травке по пустырям две-три коровенки до праздника Лиго топтались, сейчас на клеверах по десять и двенадцать коров кормятся!
— Нелишне было бы и о серых баронах помянуть!
— Меньше рот разевай, целей зубы будут!
— Чего им еще надо?
— Люди делятся на два типа, суть проста. У каждого рано или поздно болят зубы. Зубная боль, знаю из личного опыта, пренеприятнейшая штука, ее внезапность ошеломительна, она лишает сна, душевного равновесия, изматывает нервную систему.
— Нищий, с вечера отложивший гривенник, счастливее богача, который, подводя годовой итог, замечает, что остался внакладе на тот же гривенник.
— Но разумные люди при первых же признаках зубной боли обращаются к врачу!
— А если поставить вопрос ребром — вверх ползем или вниз катимся? Я тебе так скажу: с девятисотого года малоземельные хозяйства к разорению катятся. На одном только работницком жалованье разница до стоимости двух лошадей доходит, сто сорок пять рубликов в год. Прибавь сюда дрова, доски, бревна, соль, скобяной товар, да мзду кузнецу и прочим ремесленным людям, да еще налоги. Ничего ведь и нигде с тех пор не подешевело. И, как ни бейся, в конце года или прибыль выйдет в сотню, иль убытков на ту же сотню рублей.
— Богаче не станешь, а уж глупее — это точно.
— А некоторые люди норовят оттянуть время в надежде, что зубная боль пройдет, воспаление прекратится, нерв перестанет беспокоить и у гнилого зуба эмаль сама собой обновится, и день-другой спустя человек, раскрыв рот перед зеркалом, обнаружит во рту здоровые, белые зубы.
— Со льна будет прибыль, если за берковец по пять-десять пять рублей возьмешь. А я сейчас на каждом берковце по двадцать — двадцать пять рублей теряю. Более пяти-шести берковцев я не собираю.
— Первые радикалы, вторые суть консерваторы!
— На одних банковских займах из пяти-шести годовых я пятьдесят целковых золотом теряю! Только на дом две с половиной тысячи ухнул, а уж службы за такие деньги никак не построить!
— Ну да, жди, когда рак свистнет!
— Как те, так и другие могут быть поборниками прогресса!
— Я на льне и зерне прогорел. Решил было на молоко переключиться, но это ж все равно что построение войска менять в самый разгар боя. Опять же где денег взять скотный двор строить, племенным скотом обзаводиться?
— Ну, о чем вы толкуете? Что пользы от человека, у которого болят зубы и все мысли вращаются вокруг воспаленной десны, нет, сударь, нет, я с вами не согласен!
— Центрифугу и бидоны приобрести, пастбища расчистить, клеверных семян закупить, а тут еще неурожайный год свалился, можешь представить, что у меня в мошне и на сердце.
— Вот это, я понимаю, печенка!
— В прошлом году Рижское Латышское Общество безоговорочно поддерживало правительство!
— С кем поведешься, от того и наберешься.
— Домина почем зря, не какая-нибудь там халупа!
— Хоть ты что говори, я при своем останусь: лучше камень в избу вкатить, чем взять к себе бобылку!
— Были времена, когда детишки повзрослей подспорьем для крестьянского хозяйства служили, а нынче они сплошное разорение. Приходская, волостная школа еще куда ни шло, а вздумаешь их дальше учить, так тебе кругом одни расходы.
— Зубной врач Бюргер консультирует по всем вопросам за тридцать копеек.
— Спальня в школе битком набита, в каждой кровати по двое, по трое спят. Вошел как-то — не продохнешь. Хоть сам вешайся, о топоре и говорить нечего!
— Пломбировка зуба от пятидесяти копеек и выше.
— Это еще что! У нас на три тысячи хуторов, три поселка, двенадцать имений и тринадцать мельниц, пивных и монополек, да еще три церкви в придачу, всего две школы и два учителя!
— Искусственные зубы по рублю двадцать пять и выше!
— Аренда, говорите! И это дорожка, по которой хозяин вниз катится.
— Запрещается все, что не дозволяется особым циркуляром!
— Зато всякая шантрапа голову поднимает. То же крепостное право, только наизнанку.
— А кормление почтовых лошадей, а извозная повинность?
— Обирают бедного крестьянина, что горох на обочине— кто не пройдет, стручок да сорвет!
— Рабочая сила уплывает за океан, в Америку, да и в глубь России. Читал я тут в «Епархиальных ведомостях», что паства нашего прихода сильно сокращается!
Опытный наблюдатель, а именно такой и сидел в уголке за недопитой бутылкой пива, мог заметить, как клубятся пары над головами посетителей. Над одними головами пары были погуще, над другими — пожиже, над третьими вообще никаких паров не клубилось. Человек с наметанным глазом знал по опыту, что те посетители, над которыми не клубились винные пары, они-то, вне всякого сомнения, самые опасные. Это чертово отродье, социалисты. Эти не хлестали ни пива, ни водки, просто ели с аппетитом, набираясь сил для каких-то им одним ведомых дел. Только что минула годовщина расстрела на Дворцовой площади в Петербурге.
Внимательный наблюдатель, сотрудник сыскной полиции Спицаусис, взглянул на часы. Как раз сейчас по гулким, бесснежным улицам сюда шагала полурота солдат, чтобы оцепить харчевню. Минут через десять уже не винные пробки тут будут хлопать, а револьверы.
Тысячи таких Спицаусисов по всей России торчали в трактирах, корпели в учреждениях, щелками костяшками счетов в конторах, изнывали от скуки в театральных залах, шатались по бульварам, прозябали в богадельнях, томились в больницах, психиатрических лечебницах, тянули солдатскую лямку в армии и прислушивались, приглядывались, старались все запомнить, записать в донесение, ничего не упустив.
Спицаусис отнюдь не выглядел уродом. Ростом невысокий, тихий, неприметный, опрятно одетый. Среди шпиков был известен по кличке «Божье милосердие», потому что одним своим видом Спицаусис умел разжалобить собеседника, всегда при нем была маска этакого неудачника, пасынка жизни. В трактирах после третьего стаканчика у людей, как правило, развязывались языки, и они выкладывали самые сокровенные мысли. Спицаусис считался специалистом по «вспарыванию наживки», а «наживкой» на своем жаргоне шпики называли болтунов.
В горячую пору Спицаусису перепадали и более ответственные поручения. Но повышение осложнялось массой непредвиденных трудностей.
Этот дошлый народец — горлодеры, болтуны, смутьяны, словоблуды, бунтовщики, правдоискатели, зачинщики, хулители вдруг сделались осторожными. В общественных местах ничего мало-мальски примечательного не надейся услышать. Все только намеками толкуют о хозяйских нуждах, а насчет политики редко-редко словечко проскочит. Вот и попробуй таких прохвостов вывести на чистую воду, прошли времена, когда все, точно белены объевшись, драли глотки на митингах. Черт подери, потерять сноровку вещь опасная, размышлял Спицаусис, потерять сноровку при моем ремесле все равно что руки на себя наложить. Если я с первого взгляда не смогу определить, кто тут есть кто, и не сумею отгадать тайные мысли всех сидящих за столами, значит, я потерял сноровку— это точно.
Надо же, в такое горячее время потерять сноровку! Значит, с каждым разом задания будут даваться все менее важные, с каждым разом будут оттирать все больше, платить меньше, и под конец безрадостная служба в каком-нибудь полицейском архиве у штабелей пыльных папок. Другим, тем, что помоложе, половчее, поудачливей, достанется выгодная работенка, им будут поручаться ответственные задания, им и куши изрядные, и потому гляди, Спицаусис, гляди в оба, подбадривал себя сыщик, вникай во все: как ест человек, — то, как он набивает брюхо, расскажет о нем куда больше, чем почерк; то, как подносит ложку ко рту, откроет многие тайны; то, как он держит вилку, покажет толщину его кошелька, а самый обычный поклон его сообщит о нем больше, чем платный доносчик. Этих молчунов иначе никак не раскусишь. Выражение лица, выражение глаз — об этом они забывают, и тут-то нутро их и выглянет зверем из норки.
В общем-то человек тот же зверь, зверь, научившийся есть с руки, рассуждал сыщик Спицаусис, и разве все мы, коли случай представится, упустим возможность задрать друг друга? Не в школах ли сызмальства научаемся звериным повадкам? И хорошо, и правильно это, потому как зверю только и выжить здесь, только зверю и справиться с темной толпой, почуявшей свою звериную силу, и мы должны еще больше быть зверями, чем они, мысль-то простая: мы должны быть зубастее, когтистее, чтобы удержаться на хороших местах, куда чаще падает брошенный хозяином кусок.
Спицаусису вдруг померещилось, что мохнатые морды с рычанием пригнулись к тарелкам, пантеры с маузерами в карманах бесшумной поступью шастали у него за спиной, хищно блестели клыки, мельтешили перед глазами алые языки, скреблись когтистые лапы по булыжной мостовой, ну, теперь-то уж солдаты прошли улицу Суворовскую, прошли Мариинскую, топают где-то в конце Мельничной, ах Мария, святая мать, и почто тебе было столько страдать, а приказ такой: чтобы и мышь не проскочила оцепление без проверки.
Был час и тридцать две минуты пополудни. Небо синее, безоблачное. Легко дышится на свежем воздухе. Температура минус четыре. Бравые солдатушки пересекли теперь базар Берга и шагают по Елизаветинской, ох, Елизавета, ох и горячо, а ты крапивку брось через плечо, ну вот, солдатушки входят во двор, окружают харчевню со двора, сушеная крапива дурной глаз отводит, а чтоб молния в дом не ударила, под венец сруба скрещенные прутья кладут, для отвода ведьм перед коровником репейник посыпают или глиняный горшок с толченым стеклом ставят, чтобы нежить от дома отвадить, только нет в мире средства против нежити предательства.
За немногих посетителей харчевни мог Спицаусис поручиться, что они вне всяких подозрений. Один из них — молодой барин, сразу видно, из хорошей семьи — недавно с хозяйкой заигрывал, ел всякие тонкие кушанья, белую салфетку на коленях расстелил, вот уж правда, единственный благонадежный среди своры подозрительных субъектов, собравшихся в харчевне «Аустра». Спицаусис готов был голову дать на отсечение, что молодого человека привели сюда стрелы Амура. Спицаусис любил выражаться красиво: любовь — стрелы Амура, смерть — непрошеная гостья, буря — стихия природы, хлеб — воздаяние за труды.
Спицаусис заметил, что у него на тарелке остался кусок колбаски, уже помазанный горчицей, посыпанный перцем, вот-вот начнут жужжать пчелки свинцовые, перченые, ням-ням — ив два приема заглотил колбасу, затем сунул руку в глубокий карман пальто, нащупав привычно притершуюся рукоятку нагана.
Привычно притершейся была рукоятка нагана от многочисленных тренировок в тирах полиции, а также от стрельбы по толпе, а еще один раз Спицаусис стрелял из нагана по казачьей сотне, чтобы был предлог для разгрома демонстрации.
Будучи агентом полиции, он по совместительству подрабатывал и в жандармском управлении в качестве провокатора. Правда, свои действия он расценивал иначе. Социалисты подчас настолько ловко маскировались, что нечего было и думать раскрыть их обычными способами, да и нежелательно было ждать, пока социалист соизволит швырнуть бомбу под карету губернатора или сочинить подстрекательскую листовку. Безбоязненно, со знанием дела такие люди, как Спицаусис, брали на себя опасную, неблагодарную работу, пытаясь склонить подозреваемых лиц к прочтению или еще лучше — к изготовлению запретных писаний, подбить их на выступления против правительства, и вообще они брались за многие подобные, малоизвестные, но (по мнению Спицаусисов) полезные для государя и отечества поручения. Нередко, однако, случалось, что результат оказывался не тот, которого ждали, а прямо противоположный, и жандармы не способны были загасить пожар, ими же и раздутый, но в отчетах вышестоящему начальству подобные случаи не упоминались, и нанесенный интересам государя императора и отечества вред, таким образом, замалчивался.
На лестнице застучали сапоги, с грохотом отлетела дверь, с легким шелестом из передней в харчевню ввалилось холодное облако, вестью недоброй ввалилось с клинками холодных штыков. Винтовки солдаты держали наизготовку, а из-за спин их, с безопасного удаления, с командных высот, резкий и повелительный голос выкрикнул:
— Всем оставаться на местах! Проверка документов!
Начало операции прошло спокойно, не так, как ожидалось.
Ни один социалист не выхватил оружия, не раздалось ни единого выстрела.
На миг харчевня как бы подавилась. Пища застряла в горле, пивная пена прилипла к усам, перец к языку, душа к пяткам, руки к столу, не двигаться с места, пока не прикажут.
Только дым табачный да солдаты двигались.
Солдаты быстро рассредоточились, и вот уж возле каждого окна стояло по двое, возле каждого стола — по одному.
На затоптанный пол словно нехотя упало несколько листков, да поди разберись, кто их выбросил.
Повар Озолбауд как раз на мясном складе разделывал свиную тушу, орудуя широченным и острым топором. Громко сказано — мясной склад, на самом деле тесная каморка с открытым, зарешеченным окошком, и в него задувало обжигающим холодом. Белый передник у повара на пузе кровью испятнан. Озолбауд застыл в дверях склада, застигнутый вторжением.
Один из служивых со слабыми нервами чуть не пальнул в него, решив, что забрызганный кровью богатырь с топором в руках и есть искомый социалист.
Но всему базару Берга (и Спицаусису тоже) было известно, что повар Озолбауд, дальний родственник госпожи Дрейфогель, человек благонадежный.
Работа — вот моя забота, говаривал Озолбауд, а все остальное к чертям собачьим. Покуда земля вертится, я буду стоять у плиты, и все эти демонстрации для меня что они есть, что их нет! Покуда земля вертится, я буду кашеварить. Такое, сякое правительство — по мне одна труба. Бифштекс и карбонат — вот мой щит, мой меч. Всякий бунт есть зло, потому как тощает скотина, а из тощей туши хорошего жаркого не приготовишь. Я за справедливую, прочную власть, такую, которая меня сытно накормит и хорошо оденет.
И вот такого-то благомыслящего консерватора чуть самого в гробу не законсервировали, на тот свет не спровадили.
— Все, что в карманах, — на стол! — рявкнул повелительный голос.
Стали выворачивать карманы. Если что-то и осталось, прошуршало, прозвенело, покатилось по полу. Какие-то крошки, скомканные ассигнации, серебряный целковый, семечки. Больше никто ничего не рискнул утаить, да и то по забывчивости, с перепугу.
Казалось бы, напрасная затея среди мирно сидевших, безропотных, послушных, почти насытившихся подданных искать государевых преступников, но полиция держалась иного взгляда.
Кто ищет, тот найдет. Нервы взыгрались, еще бы не взыграться, когда по ним, как по струнам, водят штыками, тип-топ, что за шум, что за топот в гробовом молчании, тип-топ, ввели двоих мужчин, пытавшихся улизнуть через черный ход.
Стройный, франтоватый служака, до синевы выбрившийся перед ответственной операцией, на подоконнике обнаружил браунинг и остро отточенный финский нож. Лезвие было невелико, но, смерив его на ладони, солдат убедился, что нож тем не менее опасен для жизни, и его посчитали оружием.
— Чей браунинг? — равнодушно и вроде бы даже огорченно спросил молодой офицер.
Никто не признался. Признаются, как же! Это мой браунинг, господин учитель, я носил его при себе, чтобы стрелять по воробьям, моя фамилия Спицаусис, очень сожалею, что так получилось!
— Ну да, конечно, это браунинг святого духа, — с грустной иронией продолжал офицер. — Ну а финка чья? Тоже святого духа? Приготовить паспорта!
Технология была проста. У кого в паспорте отметка полицейской части, а внешность не внушала подозрений, те свободны. Задерживали тех, у кого не было паспорта или в паспорте не стояло отметки полицейской части по местожительству, а равным образом и тех, на кого указывали, но об этом позже.
Те двое, что пытались уйти черным ходом, стояли отдельно, их зорко охраняли четверо солдат. В свою очередь, пятнадцать посетителей харчевни отделили от остальных, у одних не нашлось паспорта, у других — отметки в паспорте, нескольких задержали потому, что внешность показалась подозрительной. Этих пятнадцать охраняли всего два солдата.

В многолюдную группу попал молодой барин, тот высокий, в ладно скроенном дорогом костюме. С виду столь же безвредный, как выпавший из гнезда птенец, лицо скорее овально, чем продолговато, голова круглая, волосы светлые, с рыжинкой, сорочка белая, короткий галстук, все по моде. В руках меховая шапка, на плечи наброшена шуба на рысьем меху. Держался безучастно и спокойно. Глаза лучились синевой, он то и дело поднимал и опускал ресницы, стараясь привлечь к себе внимание молодого офицера (похоже, оба одногодки), ожидая, что недоразумение разъяснится, и его, человека, случайно попавшего в харчевню, отпустят. Молодой человек был коротко подстрижен, выбрит и всем своим видом излучал покой, невозмутимость, и офицер, заметив изысканного сверстника, еще подумал про себя, что чувство покоя и безопасности молодому господину, должно быть, внушает присутствие солдат доблестной армии, и офицер даже проникся сочувствием к этому господину. Кивком головы он подозвал его к себе.
— Ваш паспорт! — приказал офицер с деланной строгостью.
Молодой господин предъявил паспорт. Документ оказался в полном порядке. Адольф Карлсон, торговец, все подписи на месте, печати настоящие, единственно, чего не было в паспорте, так это отметки полицейской части, и офицер спросил:
— Не отмечен?
— Не успел, только вчера приехал, — объяснил молодой господин.
Будто невзначай возле них остановился человек средних лет, должно быть, чин полиции, руководивший облавой. Тоже заглянул в паспорт.
— Занимаетесь коммерцией?
— Да.
— Каким товаром торгуете?
— Продаю и покупаю лен.
— Какие цены сейчас на лен?
— О каком льне изволите спрашивать, о светлосеменном или темносеменном?
Чиновник этот в своем кругу считался отменным психологом и обладал почти энциклопедическими познаниями по части быта, хозяйства и деловых отношений. Цены, квартирная плата, всевозможные сделки, проценты займов, жалованья — все это он знал досконально. Чиновник уверял, что достаточно человеку задать два или три контрольных вопроса, чтобы сразу выяснить, с кем имеешь дело.
— О светлосеменном льне хочу знать, — сказал чиновник сыскной полиции.
— Цены на светлосеменной лен держатся в таких пределах, — ответил коммерсант Карлсон. — Долгунец, или ростун, по сорок девять и пятьдесят рублей за берковец, американский — сорок три и сорок четыре, лен-кудряш идет по тридцать шесть, моченцы по двадцать четыре или двадцать пять, а стланцы — по двадцать рублей.
— Что стоит берковец темносеменного льна?
— Сорок четыре, и никак не больше сорока пяти!
Продолжая внимательно слушать, чиновник отыскал глазами среди посетителей агента Спицаусиса, и шпик, перехватив вопрошающий взгляд, едва приметным, но недвусмысленным движением головы ответил «нет».
Теперь уж чиновник поверил, что задержанный и в самом деле благонамеренный торговец, но, будучи педантом, чиновник имел обыкновение проверять все до мельчайших деталей, даже когда дальнейшая проверка представлялась всего-навсего бюрократической формальностью, не больше. Подозвав солдата, что-то шепнул ему на ухо, и солдат проворно выскочил из харчевни.
— Покажите ваши руки, — сказал полицейский. — Ладонями вверх!
Адольф Карлсон вытянул перед собою спокойные, ничуть не дрожавшие руки, вывернул кверху крепкие ладони с отчетливыми линиями судьбы, очень хорошо на них были прочерчены эти линии, и вообще руки чистые, белые, настоящие руки добропорядочного коммерсанта, однако чиновник лишь мельком взглянул на ладони. Молниеносной, хорошо отработанной хваткой полицейский распахнул пиджак Карлсона, движение было настолько изящно, стремительно, что пуговицы, выскочив из петель, остались целы. Чиновник отступил на шаг, впившись глазами в лицо Карлсона.
— Помилуйте, — проговорил коммерсант Карлсон, — ничего не понимаю!
Чиновнику полиции было известно, что революционеры под пиджаком за поясом носят маузеры — куда еще спрячешь такую пушку? — и тонкий нюх ищейки надоумил чиновника применить этот проверенный прием. Если только Карлсон когда-нибудь носил под пиджаком за поясом маузер, он бы отреагировал иначе. Непроизвольные движения самозащиты были хорошо изучены чиновником.
Но коммерсант в святом недоумении глядел на него вопрошающим взглядом.
— Все в порядке, можете идти! — вместо извинения произнес чиновник. — Вы свободны. Выпустить его!
Коммерсант Адольф Карлсон слегка склонил голову в знак того, что он все понял, спрятал паспорт в бумажник, не спеша повернулся и двинулся к выходу.
И тут в дверях показался посланный ранее солдат, а вслед за ним в харчевню протиснулся другой солдатик, совсем невоенной выправки, с низко съехавшим ремнем и подсумком, с фуражкой, наползавшей на уши, и каким-то затравленным взглядом голубых глаз.
При виде Карлсона странный тот солдатик на миг оцепенел, на лице его проступил неподдельный ужас. Тут и чиновник заметил их встречу.
Чиновник видел затылок Карлсона, спокойно и неспешно направлявшегося к выходу, видел, как конвоиры расступаются, чтобы дать ему дорогу.
Странный солдат взглянул на полицейского.
«Ну же!» — через все помещение беззвучно кричали глаза полицейского.
Была допущена ошибка, сейчас полицейский получит подтверждение, но странный солдатик, скованный страхом, не мог из себя выдавить ни звука. Однако полицейский чиновник был человек достаточно искушенный, чтобы схватить суть положения.
— Задержите! — крикнул он солдатам.
Что не сумел сделать сыщик Спицаусис, сделал переодетый в солдатскую форму предатель Зиедынь.
Коммерсанта Карлсона, несмотря на его протесты, присоединили к меньшей группе из двух человек. Теперь их стало трое, охраняло же их шестеро солдат.
IV
В тот короткий миг, когда Карлсон, в недоумении то поднимая, то опуская свои длинные ресницы, направлялся к меньшей группе из двух человек, его взгляд на долю секунды скрестился с прелестными голубыми глазами предателя Зиедыня.
Темное предчувствие медянкой коснулось Зиедыня, скользкое, неуловимое, пока еще смутное, безболезненное предчувствие коснулось мягко и нежно, словно крыло летучей мыши во тьме, и лишь тремя годами позже Зиедынь на пустынной даче предстанет перед судом и ощутит холод смерти, ощутит и вспомнит те первые минуты, когда смерть еще только кружила над ним, присматриваясь, достаточно ли в Зиедыне мужества или все три долгих года он будет блуждать в потемках страха, и каждый день ему будет казаться вечностью, и каждый час плестись сороконожкой, у которой то одна, то другая нога застревает в месиве ужаса, каждая минута ползти будет ослизлой тропою улитки, все равно впереди неминуема смерть, молчаливая пасть, ибо нет на земле прощения предательству и слабодушию.
Не многое было дано ему, и это последнее отнято, да будет он проклят, да забудется имя его, а если и вспомнится, то лишь затем, —
зачем его помнить нам?
Дружинника Зиедыня вместе с Дунтниеком арестовали в ночь с четверга на пятницу на конспиративной квартире по улице Суворова, 106, и в ту же ночь Зиедынь указал склад оружия, назвал известные ему имена, помянул о харчевне «Аустра» как одном из возможных мест сбора дружинников.
Ничего нельзя было сделать, поправить, задержать, отсрочить, не помогла сушеная крапивка, крест-накрест положенные прутья и коса, ударила молния, и занялся дом Зиедыня, и вот стоял он на обломках карточного домика, своим мерзостным предательским пальцем тыча в каждое более или менее знакомое лицо.
Когда их троих вывели во двор, Карлсон заметил еще одного задержанного. Он стоял в подворотне с конвоирами по бокам. Карлсон узнал в нем девятнадцатилетнего парня, одного из самых отчаянных, бесстрашных дружинников. Межгайлис по кличке Лиса — странное имя, странное совпадение, Карлсон знал, что ему не полагалось быть в харчевне, но система оповещения работала безупречно, значит, прослышал про облаву, прибежал разведать. Без оружия? Или оружие отнято при аресте? За цепочкой солдат толпились любопытные, вещь обычная в таких случаях, любопытных солдаты не трогали, выходит, Межгайлиса выдал все тот же Зиедынь.
Четыре года назад Межгайлис был на стройке мальчишкой на побегушках, а в свободное время развлекался не совсем обычно, особенно зимой, когда от мороза дыхание спирало. Межгайлис ходил по бульвару и оплевывал шубы прилично одетых граждан.
Позднее от своей подружки, служанки б богатом доме, он узнал, что плевки с барских шуб приходится ей счищать, господа же их даже не замечают.
Товарищи вовлекли Межгайлиса в кружок, и в последние годы он усидчиво штудировал социал-демократическую литературу, активно участвуя в жизни организации. С первых дней революции его определили в боевую дружину, и он расхаживал с маузером в кармане. Теперь уж плевки его маузера господа чувствовали на своей шкуре. Грех жаловаться.
— По двое становись! — приказал офицер. — Во время ходьбы не разговаривать, по сторонам не оглядываться. Вперед шагом марш!
В дверях стояли повар, госпожа Дрейфогель, а между ними протиснулся мальчик-судомойка Юрис.
V
В ту пору, когда переселились в Ригу, я был таким, как Юрис. До этого жили в деревне, отец батрачил, семи лет от роду меня отдали в пастухи в имение «Саукас».
Частенько коров приходилось пасти на берегах озера Саукас, и самое яркое мое воспоминание тех лет, как я борюсь со сном, хотя утро зябкое и туман, и роса, и ветер, а сон все равно донимает, так что в глазах зелено. Лучшим средством от него оказывалась удочка.
В ширину озеро было версты четыре, на том берегу в озеро впадала речка Клауце, а с нашей стороны брала начало другая речка, Дуньупе называлась, и в истоках ее водились лещи, щуки, плотва, язи, окуни, много всяких рыбин довелось мне там выудить.
Случалось, в рыболовном азарте я забывал про стадо, и за такую оплошность мне не раз приходилось на собственной шкуре отведать того же удилища.
Суеверие в деревне было ужасающим, а от него и всякие запреты. Не стучи ложкой по миске, не то голод накличешь, не смей в ключ дунуть, опять же беду призовешь. Станешь в огонь плевать, волдыри на языке вскочат.
Слава богу, отец никогда не говорил таких глупостей, отец говорил: не колоти ложкой миску, ты другим мешаешь есть; или: не дуй в ключ, дыхание влажное, ключ поржавеет; или: не плюй в огонь, это некрасиво. В самом деле, некрасиво плевать в огонь, когда тебе вот так разъяснят, сразу все встанет на место.
Я замечал, что батраки, провеивая зерно, насвистывают— ветер призывают, но отец сказал, пустое это, таким ничтожным сотрясением воздуха, как свист, ветра не вызовешь. Другое дело, когда земля за день нагреется, над озером поднимется холодный туман, вот тогда будет ветер, или, если можно было бы огромными мехами привести в движение воздух, вот тогда бы был ветер, а так свисти не свисти — толку никакого, сплошной самообман.
Я замечал, что соседка пропускает вылупившихся цыплят через штанину старых брюк, при этом величая их ястребками, в надежде, что таких заговоренных цыплят ястреб не унесет, и все же летом ястреб изрядно потрепал ее выводок.
Еще старуха говорила, будто нельзя коровам давать клички цветов, не то быстро околеют, но потом, уже пастухом будучи, я убедился, что в помещичьем стаде есть и Ромашки, и Незабудки, и Астры, и все такие упитанные, лоснящиеся, здоровые, и тогда я понял, что суеверия исполняются лишь для тех, кто верит в них, и я решил не верить и оттого стал сильнее.
Примерно в то же время произошло мое знакомство с богом. Отец и мать, как и все в округе, ходили в церковь. Отец, вернувшись как-то с обедни, сказал:
— Ты видел, сын, что церковь у нас просторная, есть в ней орган на хорах, есть амвон, алтарь, и все это сделал резчик и столяр по фамилии Бернхард из Риги, а Вейзенборн из города Митавы смастерил орган. Деринг написал над алтарем картину, а кто платил за все это? Мы, прихожане, заплатили за это, сын!
Мне повезло, что я родился в семье, где ценилась правда. С тех пор как себя помню, отец старался представить вещи в их истинном свете, не боясь нарушить закостенелые обычаи, укоренившиеся суеверия.
«Тебя нам аист принес, мы нашли тебя в капустных грядках» — так обычно у нас говорили маленьким детям, но отец мне объяснил: «Тебя мамочка под сердцем выносила». Потом я познакомился с легендой об Иисусе Христе. Отец объяснил, что это просто сказание, выдумка, кажимость. Возможно, такой человек некогда и жил, по затем из него сотворили легенду, и эту легенду приправили жизненной правдой, поучениями, такими, которые тогда казались нужными, добавили в нее добродетели, сроки постов и всякие обязанности, законы, которые необходимо терпеть и соблюдать. Мать иной раз ворчала: и чего ребенку голову забиваешь, все равно ничего не смыслит. Но отец знал, что делал, и я получил самое блестящее образование из всех возможных в батрацкой семье.
Детство и отрочество ушли на то, что я узнавал и отбрасывал предрассудки.
Речка Дуньупе кишела раками.
Понемногу мир расширялся, я усваивал новые географические понятия — Даудзе, Сунаксте, Внесите, Нерета, Залве, кругом волости, хозяева, работодатели, и с каждым новым батрацким Юрьевым днем я узнавал имена новых усадеб, имений. Отец прирабатывал еще и как стекольщик, во многих домах сверкали вставленные им окна.
Я узнал, что серого волка хоть кроликом назови, он все равно будет драть овец.
А на выгоне нарочно призывал громким голосом:
— Змеи, змеи, ко мне! — И все впустую, змеи боялись человека. Мне было велено не поминать змею, не то будет худо, как бы не так, длинный червь, болотная бечевка, аистова снедь или змея — называй как хочешь.
Был у нас холм шагов в полтораста высотой, а под ним гладь озера, я взобрался на вершину и стал рассуждать о жизни. По берегу росли ивы, с одного накренившегося ствола мы, ребятня, в часы полуденного роздыха ныряли вниз головой, иной раз больно ударяясь животом или грудью о коварную поверхность, и мне подумалось: спрыгнешь с самой макушки дерева, ударишься об воду, как о камень, и расшибешься насмерть, но позднее понял, что трудности, если смотреть на них со стороны, кажутся такой же каменной твердью, совершенно неодолимыми, а подойдешь поближе да бросишься вниз головой, и коварная поверхность расступится — ласково плещет поток, голубое подводное царство, водоросли, обомшелые камни проплывают мимо, проплывают в молчании, только кровь в висках звенит…
Кровь звенела и зимой, когда в прохладном классе мы затаив дыхание следили за таинственным вращением модели мироздания.
Солнце сальной свечой полыхало в центре космоса, и Земля вращалась вокруг света, а вокруг Земли кружилась Луна, в полной тиши в темноте мы следили за великой мистерией, менялись времена года, Луна то поднималась, то уходила за континент, скрывалась по ту сторону планеты, и в Австралии крохотные человечки повисали вниз головой, совсем как летучие мыши в каретном сарае, и лунные затмения приходили на смену солнечным, и стоило хорошенько прислушаться, чтобы расслышать, как на крохотной Земле на еще более крохотную Луну брешут невидимые собаки, величиной не более пылинки.
Мне исполнилось тринадцать, когда родился брат Роберт и мы перебрались в Ригу.
На прощанье я обежал дорогие сердцу места, сказал последнее «прости» холму, озеру, школе, распрощался с конюшнями, коровниками, сказал, что они опостылели мне, что хочу поскорей уехать, увидеть, открыть для себя новую землю — город.
Наше жилье на Артиллерийской улице в подвале двухэтажного деревянного дома после узкой батрацкой показалось просторным. Сырость подвала и влажные стены меня не пугали, молодому парню ревматизм костей не ломит. Отец, мать, я, братья Эрнест, Роберт — все мы начали новую жизнь.
Удивило только то, что и в Риге, совсем как в деревне, держали коров, телят, коз, овец, не говоря уж о свиньях и курах. Наш двор мычал, блеял, хрюкал, кудахтал, крякал ничуть не меньше, чем скотные дворы поместий. Только не было прежнего простора, страшная теснота от курятников, свинарников, закутов. Вдобавок ко всему во дворе располагались конюшни, где жившие в доме извозчики держали лошадей.
Дальше громоздились дома, и улицы тянулись словно борозды, пропаханные великанами в каменистом поле.
В те дни я ждал чуда, и чудо явилось, такое же чудо, как и мальчику-судомойке Юрису. Словно завороженный смотрел я в жаркую пасть печи, я, пастушонок в пекарне, ученик пекаря, смотрел и ждал, когда огонь шепнет мне волшебное слово и оно наконец меня выведет в мир взрослых, свободных людей.
Первый рабочий день показался желанным, как пряник. С благоговением оглядывал я блеклое месиво теста, припорошенные мукой квашни — наша квашня ни густа, ни пуста! Когда хлеб печешь, колобок из оскребышек пастушьим оброком волку отдай — те времена позади! Квашник, поскребушка? А ну подай-ка мне поскребушку! С этого дня они станут моим рабочим инструментом. И куда это месилка задевалась?
Рабочие таскали ушаты с крутым кипятком, подливали его в кадки с мукой.
Клубился мучной туман, мучной туман теперь заменит холодный туман пастушьих рассветов. Устье печки дышало жаром, мне казалось, я очутился вблизи солнца, где для счастливых детишек пекутся сладкие пряники. Тайком отведал кусочек теста, сколько пристало его на копчик пальца. Хозяин мимоходом погладил меня по голове, сказал:
— Приглядывайся, парнишка, что тут и как, сегодня дел у тебя никаких. Хорошенько посмотри, как пекут хлебы, как пекут сдобы, калачи, а уж завтра приступишь. Завтра сам станешь пекарем. Ты ведь хочешь стать пекарем, стать моим работником?
Стать? Это было новое слово, в деревне все говорили «сделаться», мой хозяин был очень ученый и, уж конечно, умный человек, и я сказал на это:
— Вы такой добрый!
До сих пор стыжусь тех слов, как-то вырвались, а хозяин, усмехнувшись странно, спросил, неужто он и в самом деле такой добрый? Ну а какой он все-таки добрый?
— Вы такой же добрый, как мой папа, — ответил я.
Отец уже несколько дней работал на вагонной фабрике «Феникс», кистью размазывая охру по широким стенам вагонов. Чтобы побольше заработать, он нередко оставался без обеда и в таких случаях приносил обратно взятые с собою бутерброды. Ломти пахли скипидаром, и я удивлялся, как можно есть такой хлеб. Отец у меня был добрый. Работящий, приветливый, однако житейские заботы иногда омрачали его, помню, в те давние дни раз-другой мне досталось от него вожжами, помню алые рубцы на плечах. Ну вот, теперь ты флигель-адъютант, при аксельбантах, смеялись мальчишки. Я знаю, куча несделанных дел, вечная спешка портили отцовский характер, но об этом в другой раз.
В тот момент хозяин мне показался белым ангелом, слетевшим с облаков, и весь свой первый день в пекарне я провел, точно в сказке.
Пузатые квашни из липы и дуба, для каждого печева своя. Кадушки для теста из муки грубого помола, дежи для опары и чаны для сладкого теста. Корыта для булок. Ушаты, бадейки, бочки из березы, ступы, растирки, глиняные кувшины, да, все это завтра предстоит мне чистить, скоблить, оттирать, кипятком ошпаривать, высушивать.
Еще придется колоть и таскать дрова. Температура в печи должна быть постоянная, свыше ста шестидесяти градусов по Цельсию. Ну да на это много сил не требуется, дрова с умом надо колоть. Еще на мне забота — качать воду в чан и носить ее ведрами на коромысле, но это уж чистый пустяк.
Пока такую обязанность выполняет ворчливый старик, кряхтя, отдуваясь и беспрестанно ругая хозяина. От старика все шарахаются, только б не слушать его брань. Слова тяжелы и увесисты, и срываются они со стариковских губ, точно валуны с пригорка. И чего неймется хрычу, промеж себя толкуют рабочие, когда брюзги нет поблизости, завтра отправится восвояси на свою родную сторону, ляжет в могилу, отоспится лет за двести, так чего ворчать. Пока старик работал в пекарне, у него в легких шашель завелся, из тех, что хоромы и попрочней, чем такая развалина, стачивает, да, шашель дело нешуточное, телесный древоточец, погубитель легких, поди разберись, что там у него, да уж что-то не так! И опять все набросились на работу — хозяину случилось пройти мимо, и забегали, задвигались, зашевелились работники, лица мукой перепачканы, глаза раскраснелись от пыли, что-то волокли, несли, поднимали, катили.
На полках румянились буханки свежеиспеченного хлеба, запах стоял удивительный, такой аппетитный, бодрящий.
Сказал отцу, что в пекарне мне нравится, и всю неделю отец пребывал в уверенности, что пристроил сына на хорошую работу.
Хозяин умел незаметно подойти и наблюдать, как я отмываю квашни, корыта, кадушки. Стоило рукам моим утомиться, на миг задержаться, как начинались поучения.
— Когда муку на воде замешивают, часть крахмала под действием ферментов переходит в декстрин и сахар, а при добавке дрожжей сахар разлагается на спирт С2Н5ОН и углекислоту СО2, дрожжевые грибки в тесте размножаются с огромной быстротой и в огромном количестве, и если ты, парень, не будешь столь же быстро шевелить свои ленивые руки, то не сумеешь вычистить как следует квашню, оставишь дрожжевые грибки на стенках и тем самым погубишь завтрашнее тесто!
После такого поучения следовал удар ребром ладони, изящный удар, больнее, чем хворостина. Вскоре я двигался так же проворно, как остальные рабочие. Взрослых хозяин бить не смел, а взрослые не смели за меня заступиться, хотя я и ловил на себе их сочувственные взгляды. Надо всеми, точно мучное облако, нависала угроза увольнения.
В субботу в бане отец заметил у меня на спине и плечах синяки, и хозяину пришлось со мной расстаться.
До сих пор отчетливо помню все двадцать три бассейна-отстойника, ибо сразу после неудачного дебюта в пекарне перешел на цементный завод.
Расширялся мой словарный запас, я узнал такие слова, как роман-цемент, портланд-цемент, шлаковый цемент, пуццоланы и цемняки, кремнекислая известь и карбонат кальция.
На заводе работало человек пятьсот.
Я сдружился с Кадикисом, он был примерно моих лет, говорю примерно, потому что Кадикис родился и вырос в городе, знал о городе, его жизни раз в десять больше, чем я. Он меня познакомил с Ригой. Кадикис жил у Александрийских ворот, но когда-то его предки обитали у самой Даугавы, и в тысяча шестьсот шестьдесят третьем году, когда в Риге построили первую водокачку, Кадикисов прапрапрадед (не знаю, сколько раз приставка «пра» должна быть тут повторена) работал погонщиком при той водокачке — гонял по кругу семерку лошадей, взмыленных битюгов меняли через каждые два часа, и так ремесло это переходило из поколения в поколение, пока паровой двигатель не вытеснил лошадей, а в восемьсот двенадцатом году вдобавок ко всем несчастьям у Кадикисов сгорел дом, и разоренной семье пришлось перебраться в предместье, потом они нашли себе пристанище у Александрийских ворот, оттуда до Подра-га им было еще дальше добираться, чем мне. Отец Кади-киса тоже работал на цементном заводе, здесь все знали о славном ремесле его предков, и старика Кадикиса звали Водокачкой, домой он ездил на трамвае, мог себе позволить такую роскошь, сын же его добирался пешедралом, со мною за компанию, вернее, я с ним. Пароходик из Подрага попутно делал остановку у дамбы на острове Кипсала, высаживал нас у Двинского базара, и оттуда, мимо ратуши, мы неслись вниз по улице Калкю, затем рысцой на Александрийский бульвар, а там уж до дома рукой подать.
Иной раз летом, когда дни становились длиннее, мы позволяли себе послоняться по Старой Риге.
Церковь Иакова, церковь Иоанна, Домский собор, церковь Петра, дом Черноголовых, Пороховая башня, ратуша, все они суровыми очами с высоты своих башен взирали на нас, как мы улицей Великих Грешников несемся вниз, на улицу Ваверу и дальше по ней, к дому Трауманиса, что между улицами Калею и Ридзенес. Как раз в то время дом этот ломали, он стоял на засыпанном русле речки Ридзене, или Рижанки. Падали старые балки, разлеталась вековая пыль, на исторической трухе откормленные жучки и личинки становились добычей вездесущих воробьев. Рыли котлован под новую постройку. Явились туда и знатоки древности — ученые мужи из Юрьева, просевали землю ситами, совсем как крестьяне муку. Однажды нам посчастливилось увидеть их добычу— несколько наконечников для стрел. Нам сказали, что наконечникам без малого пятьсот лет. Находили и старинные монеты, броши-сакты, шпоры, кинжалы.
За горкой Бастейкалн начинались бульвары, к ним прилегала Елизаветинская улица с новыми, статными домами. Насмотревшись на них, я другими глазами взглянул на наше подвальное жилье. В подземных норах ютились горемыки, мечтатели, мыши, шаромыжники и прочая шушера.
Мой приятель Кадикис и его отец были приставлены к креслам «Ауфцуг», что вытягивали вагонетки с цементом. Со временем у всех рабочих на заводе от цементной пыли кожа становилась пористой, шершавой, глаза воспалялись. Подъемный механизм до конца не был продуман, кресла двигались неровно, нередко приходилось грудью налегать на механизм, чтобы запустить его, чтобы шестерни завращались. В один из таких моментов перегруженное кресло вдруг сорвалось, вздернув кверху пустое, и моему другу Кадикису проломило голову. Несколько дней я ходил сам не свой, и слово «кладбище» стало вполне ощутимым, особенно по ночам.
Отец уговорил меня уйти оттуда, и я стал учеником слесаря на заводе
Бергмана. В ту пору у меня дома уже собиралось несколько приятелей, такие же деревенские парни, как и я, и мы вместе занимались естествознанием. Нам хотелось постичь тайны природы, пока однажды не попалась в руки книга о тайнах общественного мира, так я узнал новое слово — социализм. Примерно в то же время меня прогнали из механических мастерских Бергмана, к технике безопасности и там относились, мягко говоря, невнимательно, и после перепалки с самим управляющим дали мне от ворот поворот, добавив, что чересчур я задирист и что добром это не кончится.
VI
Арестованных вели по Мариинской, и сотни окон глядели слепыми глазницами, сотни окон цвели ледяными цветами. Снега не было, лед для нужд ресторанов и холодильников вырубали в Даугаве, выше мостов, и оттуда на санках доставляли к берегу, а уж дальше везли на телегах. Крестьяне по истерзанным еще в осеннюю распутицу дорогам не могли пробиться в город со своим товаром, и в первую очередь вздорожали дрова. За сажень сухих березовых дров просили двенадцать рублей, сухой сосновый хворост с подвозом стоил четыре рубля семьдесят пять копеек. Нечего удивляться, что на окнах цвели ледяные цветы.
Отец Карлсона ушел с «Феникса», жалованье на заводе «сбивали» стекавшиеся из деревни в город работники, и оба Карлсона, отец и сын, стали подрабатывать стекольным ремеслом, подряжаясь где только можно. Многие из тех слепых, заледенелых окон довелось застеклить Карлсону, пока наконец он не понял, что город не ран, где всем хорошо живется.
Отец орудовал алмазом, инструмент был на вес золота. В обязанности сына входило довести до нужной вязкости замазку, чтобы мягкая была и к пальцам не липла, а затем при помощи лопатки под углом в сорок пять градусов наложить ровную бровку между стеклом и рамой. По ночам ему снились рельсы из замазки, и стеклянный поезд на тех рельсах, и улыбающиеся лица в стеклянных вагонах.
Было у Адама семь сыновей.
Не пили и не ели,
А дело разумели.
Ей-ей!
В ту пору в латышском обществе держалось мнение, будто ключ к спасению человечества в руках школьных учителей, но учение Маркса уже начало свое триумфальное шествие, обретая все больше сторонников, развеивая старые мифы о сущности капитала. Чтобы во всем разобраться, нужно было получить образование. После школы, самостоятельной учебы Адольф Карлсон поступил в Валмиерскую учительскую семинарию, находившуюся тогда в Риге.
Раз-два, раз-два, вышагивали рекруты во дворах казарм, раз-два, раз-два, считали первоклассники, раз-два, раз-два, встречались, любили, надеялись, женились, раз-два, раз-два, рождались дети, умирали старики, раз-два, раз-два, бежало время, и спустя два года Карлсона вызвали к директору семинарии.
Формальным поводом для вызова послужило сообщение преподавателя Штока о том что слушатель Карлсон уличен в издании нелегального литературного журнала, однако директор давно готовился к этому разговору.
В ящике директорского стола лежал секретный циркуляр министерства народного просвещения, повелевавший выявлять истинные помыслы и устремления слушателей семинарии. Для выявления помыслов и устремлений рекомендовалось прибегнуть к старым, веками отработанным византийским методам. Пользующиеся особым доверием слушатели вызывают на откровенность подлежащих проверке слушателей, завоевывают их благорасположение, затем склоняют к какому-нибудь предосудительному шагу против царя и отечества. Если испытуемый поддастся уговорам, его следует признать неблагонадежным и исключить из семинарии. Такие циркуляры были разосланы всем высшим учебным заведениям Российской империи, а также и гимназиям. Рижскому политехническому институту сам министр внутренних дел Дурново подобную инструкцию составил еще в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Улучшенный вариант ее теперь лежал в столе директора учительской семинарии, и, впервые знакомясь с циркуляром, директор держал его в руках, точно липкого гада. Ему претили такие нечистоплотные расследования, но он был чиновником, человеком подневольным, к тому же долг верноподданного обязывал директора неукоснительно и точно исполнить предписания министерства народного просвещения.
И вот в его кабинете сидел один из тех опрометчивых, не только поддавшийся наущениям провокатора, но сам призывавший слушателей к активным действиям против самодержавия. Активные действия заключались в чтении запрещенных статей и высказывании неблагонамеренных мыслей.
Директор поерзал в своем кресле. Старый и опытный зубр, умевший найтись в любой ситуации, некоторое время изучал неосмотрительного слушателя.
— Я думаю о вашем будущем, — произнес наконец директор. — Ведь вы человек взрослый. Заявление коллеги Штока было последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. Есть вещи, о которых в наши дни не принято говорить. А вы говорили. Но я не хочу вам портить будущее, не хочу писать дурные отзывы о проведенных вами в семинарии годах. Если проявите благоразумие, все устроится.
— Господин директор, я вас не понимаю.
— Да? В самом деле? Рад это слышать, честно сказано. Другого от вас и не ждал. Надеюсь, вы не осудите меня. У нас в семинарии вам запрещается учиться навсегда. Пожалуйста, прочтите!
Через полированный стол директор протянул ему лист бумаги. Там черным по белому стояло, что слушатель такой-то отчислен из семинарии в связи с тем, что его научные интересы пошли по другому руслу.
— Полагая, что в будущем вы исправитесь, я не счел нужным упоминать о том, что вы занимались социал-демократической пропагандой. Желаю вам всего доброго. Оставить вас никак не могу. А поскольку ваше отчисление преследует воспитательные цели, вы лишаетесь возможности проститься с товарищами. Коллега Шток останется при вас, пока вы не покинете помещение семинарии. Будьте благоразумны, постарайтесь не испортить своего будущего.
Директор как в воду глядел. Карлсон не испортил своего будущего. Еще раньше, слушателем семинарии, он вместе со своим другом Зелтынем и Лиелверстисом организовал кружок по изучению социал-демократической литературы. Занимаясь стекольным ремеслом, он приобрел широкие знакомства и теперь сумел их использовать, устроив у своего родственника Умпала в Засулауке явочную квартиру для рабочих льнопрядильни. Установил связь с такими же нелегальными кружками на заводах «Феникс», «Проводник» и на других предприятиях помельче. Даже в родной волости успел посеять скороспелые семена социал-демократии. Когда его исключили из учительской семинарии, он твердо решил не портить своего будущего и в девятнадцать лет стал первым профессиональным активистом Прибалтийской социал-демократической организации рабочих.
Когда в тысяча девятьсот шестом году, тринадцатого января, в пятницу, в два часа восемь минут он был арестован в Риге, по Мельничной, 82, за ним уже числился ряд опасных для самодержавия и неоценимых для народного дела акций,
В девятьсот третьем году участвовал в создании типографии нелегальной газеты «Циня», стараниями Карлсона и его товарищей первый номер газеты в марте девятьсот четвертого года вышел в свет. Карлсон участвовал в объединении рассеянных социал-демократических организаций, групп, и в июне тысяча девятьсот четвертого на первом съезде была создана Латышская социал-демократическая рабочая партия. Летом того же года он прибыл в Либаву в качестве члена Центрального Комитета, чтобы возглавить городскую партийную организацию. Вместе с товарищами готовил и направлял первые забастовки курземских батраков, участвовал во многих собраниях и митингах, произносил речи, планировал, руководил вооруженными налетами на правительственные учреждения и покушениями на чиновников, конфисковывал оружие у баронов, обезоруживал полицейских, договаривался о доставке оружия из-за границы, заботился о подвозе и распространении нелегальной литературы, и еще многие другие царским законом наказуемые проступки могли бы жандармы занести в дело Адольфа Карлсона.
Если бы только знали,
если бы знали
они,
что арестован член Центрального Комитета Латышской социал-демократической рабочей партии, руководитель всех боевых дружин.
В двадцать три года Адольф Карлсон был человеком вполне сложившимся. Он рано в себе обнаружил актерские способности, импровизаторский дар и в целях конспирации частенько пускал их в ход, а кроме того, природа его наделила недюжинной памятью. Мимолетным взглядом окинув прохожего, Карлсон мог описать лицо человека, как он идет, вплоть до мельчайших подробностей — цепочку от часов, форму головного убора, ткань, ее примерную стоимость. Однажды, проходя по улице, они с товарищем разговорились о тренировке памяти. Навстречу им попался заурядный господин, и, едва разминувшись с ним, они принялись разбирать внешность господина. Возникло небольшое разногласие. Не сумев убедить друг друга, приятели повернули обратно, чтобы нагнать господина и проверить, кто прав. Но господин, шагая как-то очень размеренно, все больше отдалялся от них, временами казалось, будто он, словно этакий бестелесный призрак, скользит сквозь толпу. Дело было в воскресенье в Верманском саду. Приятели прибавили шагу. Господин вышел на Елизаветинскую и повернул в сторону Юрьевской, он как раз проходил вдоль сада, будто присматриваясь к чему-то на той стороне улицы. Но Карлсон сообразил: господин разглядывает их отражение в витринах. Так что господин мог оказаться подпольщиком или агентом охранки, в том и другом случае наблюдение следовало прекратить, так и не выяснив, какие цветы в петлице его сюртука. Карлсон настаивал, что колокольчики, а товарищ утверждал, что васильки. Они расстались, и тут грянул гром, полил дождь. Прохожие торопились укрыться кто куда.
Карлсон тоже решил переждать дождь, он толкнул железную калитку и очутился в подворотне. Это был один из новых домов с броским фасадом и, наверно, удобными квартирами, выходившими на солнечную сторону, а за фасадом тянулись два крыла, куда никогда не заглядывало солнце. Верхняя часть подворотни была забрана витражом, с него на Карлсона мечтательно взирала супружеская пара, домовладельцы, не иначе, благонамеренные граждане, запечатленные художником, должно быть, с большой долей сходства. Граждане домовладельцы, капиталовладельцы смотрели на него с немым укором, словно говоря:
«Ну, чего ты, парень, бесишься! Жизнь прекрасна! Полюбуйся, какой домик мы отгрохали, и еще, бог даст, выстроим, и жизнь станет еще прекраснее. Мы на тебя зла не держим, кровь тебе не портим, вот и ты нам жить не мешай!»
В ту пору Рига усиленно застраивалась. Ежегодно возводились десятки больших зданий, сотни домов поменьше. Город, словно спрут, вытягивал щупальца магистралей и улиц к зеленым предместьям. Карлсон не мог подавить в себе мысли, что город — живой организм. Что ж, расти, украшайся, милый, думал он, и пусть поможет тебе благодатный дождь, а вырастешь большим, мы тебя перестроим, да будет так, аминь!
Все, что рождается, растет, развивается, достигает зрелости, затем стареет, распадается, превращается в прах. Для истории это дело обычное, любая держава развивается по тем же законам, что и человек. Вот и царизм после русско-японской войны захромал на одну ногу, теперь ковыляет к закату, в непомерном высокомерии и чванливости напоследок растаптывая многие тысячи человеческих жизней, страшным будет тот миг, когда, корчась в предсмертных судорогах, рухнет поверженный колосс, через континенты— Европу и Азию — рухнет и разлетится в прах.
Прекрасным будет тот миг, когда новое государство восстанет из пепла.
Карлсон детально изучил науку конспирации.
Иногда он часами бродил по аллеям и паркам, где обычно фланируют богачи и бездельники, наблюдая выражения их лиц, походку, жесты, манеру разговаривать, изучал их костюмы, туфли, сорочки, каким узлом завязывают галстук, как приподнимают шляпу в приветствии. Ничуть не хуже записных франтов наловчился он помахивать тросточкой, носить в глазу монокль и стригся тоже по моде. Он проштудировал руководства по хорошему тону, научившись корректно и в меру банально вести себя с дамами. Он знал, как держит себя баронский отпрыск, как одевается начинающий землемер и как на станции с жандармом разговаривает сын богатого заводчика. Внушительным движением пальца умел он подозвать к себе стоящего на посту городового и потребовать каких-нибудь разъяснений. В бессонные ночи Карлсон изучал немецкий и русский языки, пока не заговорил на них свободно. Несколько фраз он мог произнести по-французски: сказанные к месту и вовремя, они производили впечатление, что человек владеет и этим языком. Сам он считал, что ему еще далеко до настоящего революционера, но усвоенные навыки конспирации помогали ему благополучно выходить из довольно рискованных ситуаций, которые в другом случае могли бы обернуться провалом. Он не строил иллюзий в отношении царского режима, он знал, царизм — это коварная, громоздкая, безжалостная машина, перемоловшая не одного восторженного юношу, знал, что, если ему не удастся во всей полноте развить в себе нужные качества, он может ошибиться в выборе товарища или потерять связь с партией, тогда, может статься, машина эта перемелет и его. Пока же он был одним целым с партией, делал общее с нею дело, он был непобедим. Это он сознавал совершенно отчетливо, и тем объяснялись его удивительное хладнокровие, трезвый рассудок, выручавшие Карлсона в решающие моменты.
Жил он по-спартански, был неприхотлив, только питаться старался в урочные часы, отец как-то сказал ему строго и наставительно:
«Сын, что бы там ни было, когда бы ни было и где бы ни было, а есть надо вовремя, не будь нерадив со своим желудком, и печка, если в нужный момент не подбросить дров, остывает».
Спиртного он не пил, не потому, что не нравилось, нет, он боялся утратить остроту восприятия. Однажды в порту от знакомого капитана он должен был получить связку нелегальной литературы, на судно нагрянули жандармы, и капитан сымпровизировал дружескую пирушку. Пришлось пить. Выпив, Карлсон обнаружил, что потерял способность быстро и точно соображать. Он знал, насколько важна революционеру интуиция, и знал, что в первую очередь алкоголь действует как раз на интуицию. Долго колебался, не бросить ли и курение, но в частых поездках ему приходилось принимать барское обличье, а господа, как правило, курили длинные папиросы, курили чуть ли не все, и некурящий среди них, если только тот не был священником, мог показаться белым воробьем. И Карлсон всегда при себе носил папиросы «Рига», по полтиннику за пачку.
Он хорошо стрелял из браунинга и более точного, увесистого маузера. В свое время по многу часов проводил на берегу Либавского озера, упражняясь в стрельбе. Однако оружие за редким исключением при себе не носил, полагаясь на чистые документы. По легенде в настоящее время он был добропорядочным торговцем. Какая нужда коммерсанту в оружии? Полиция и армия взяли делового человека под свое покровительство, и вот по Мариинской улице его препровождают в полицейское управление, какой-то пьянчужка мимоходом пропел заунывно:
Не бросай в пучину камень,
Он там покоя не найдет!
В городе было известно, что некий судейский чиновник не так давно, проходя по улице, задел нечаянно солдата-конвоира. Чиновника немедленно арестовали, выпустили только после строгого внушения в полицейском участке. И теперь прохожие предусмотрительно сторонились, пропуская восьмерых солдат, офицера и четырех арестованных. У солдат из ноздрей струился пар — совсем как у разъяренных быков на детских рисунках.
По городу гулял свежий ветер. Магазины были открыты, шла бойкая торговля. Сладким запахом кренделей, тминных и маковых булочек потянуло из приоткрытой форточки кондитерской. Пароконная упряжка промчала карету «Скорой помощи» с красным крестом на боку. Промелькнули лошадиные морды. Пахнуло теплым духом конюшни, и фургон с аккуратным задним оконцем стал удаляться.
Арестованных повели дальше. Льдистой синевой сверкало небо. От пакгаузов Динабургского вокзала протянулась вереница подвод. Воробьиная стая заметалась над конскими яблоками посреди вокзальной площади.
Канал лежал подо льдом, местами ветер намел снегу, и конькобежцы, вооружившись метлами, расчищали площадку для катания.
Похоже, что город был равнодушен к судьбе четырех арестованных; сразу за каналом громоздился каменный куб, во весь рост поднялось темно-бурое здание полицейского управления, и казалось, ничто и никто не спасет уже арестованных, и нет такой силы, которая смогла бы их освободить после того, как массивная дубовая дверь затворится за последним конвоиром.
На поверхности, как всегда, царило обманчивое спокойствие, но где-то в глубинах города чувствительным сейсмографом, отмечавшим ничтожнейшие сотрясения, малейшие отклонения от привычного ритма, работал ЦК партии.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Структура организации была проста и демократична. Во главе нескольких тысяч товарищей стоял Центральный Комитет. В первом номере газеты «Циня» была дана точная характеристика состава ЦК. «Члены нашего комитета не какие-нибудь там богатыри и командиры, просто это закаленные, в борьбе проверенные люди, потому они и поставлены на самые опасные, ответственные посты». «Комитет не что иное, как исполнитель воли сознательных товарищей, однако он не принимал и не собирается принимать каких-либо решений, не узнав мнения большинства, и всегда намерен поддерживать тесную связь с широкими рядами борцов».
Через Центральный Комитет поддерживалась постоянная связь с другими социал-демократическими организациями России.
Следующую ступень составляли руководители городских участков, их же называли еще и представителями. За ними шли пропагандисты, далее — советы предприятий и кружков.
Представители ведали сбором донесений, распространением листовок и подпольной литературы, партийными взносами. Они же готовили собрания и стачки. Каждый отвечал за свой участок.
Пропагандисты заботились о том, чтобы товарищи в живом общении усваивали социал-демократическое учение. Пропагандистом мог быть всякий, у кого имелось достаточно знаний и способностей.
Советы предприятий состояли из руководителей кружков и сознательных рабочих. Заводские и фабричные советы ведали на своем предприятии агитацией, разбрасывали листовки, объявляли бойкот доносчикам и неугодным мастерам, они же готовили стачки.
Руководители городских участков поддерживали тесные связи с фабричными и заводскими советами, об их решениях и пожеланиях извещали Центральный Комитет.
В целях безопасности были выработаны секретные предписания, и все товарищи должны были безоговорочно их выполнять.
Конспирация обязывала в личной переписке ни словом не упоминать о социал-демократическом движении. Запрещалось хранить у себя фотоснимки товарищей по партии, вплоть до фотографий в медальоне, а равным образом и визитные карточки, книги с дарственными надписями товарищей, будь это книги трижды легальным чтивом. Запрещалось записывать адреса, все полагалось держать в памяти. Членам организации не разрешалось здороваться друг с другом на улице, в театрах и общественных местах, если они были знакомы лишь по организации. Строго-настрого запрещалось высказывать в обществе свои истинные убеждения и т. п.
«Это нужно для того, чтобы мы противостояли притеснителям не как отдельные, разрозненные личности, а как сплоченная, крепкая организация, чтобы наши действия и удары были согласованы во времени, проводились по единому плану, ибо только в этом случае нам удастся одолеть противника», — писала нелегальная газета «Циня».
В ту пору Рига занимала площадь немногим более ста шестидесяти квадратных верст, примерно триста тысяч человек проживало в пяти ее районах: Центральном, Петербургском, Московском, Митавском, а также в Предместье. Город был разбит на двенадцать полицейских участков, на каждые пятьсот жителей приходился один блюститель порядка, во главе полицейского участка стоял пристав. До того как ввели военное положение, Ригой правили восемьдесят членов городского совета, все толстосумы, толстопузые старики с тощими ногами, хозяйственной смекалкой и зыбкой совестью. В Риге имелось несколько больниц и две лечебницы для душевнобольных, всегда переполненных. Канули в вечность рижские цехи бондарей, переплетчиков, мясников, кожевников, поясников, лудильщиков, перчаточников, печников, шляпников, мукомолов, бахромщиков, седельников, портных, трубочистов, каретников, кресельников, столяров, гончаров, часовщиков, медников, колоколыциков, ножевиков, игольников, на смену цехам пришли заводы и фабрики. По законам Российской империи фабрикой считалась всякая мастерская, где работало более шестнадцати человек, о своих правах во всеуслышание заявляли металлисты, ткачи, прядильщики, механики, формовщики, литейщики, промышленность росла и развивалась, а рабочие по-прежнему получали мизерную плату, все остальное в виде прибыли утекало в кошельки работодателей, а Рига славилась в Российской империи своим действенным и образованным рабочим классом, в октябре тысяча девятьсот пятого года на улицы вышло одновременно более ста пятидесяти тысяч демонстрантов, стачками были охвачены все заводы и фабрики, все учреждения. Двадцать пятого ноября того же года на рижских заводах было изготовлено двадцать тысяч единиц колющего и режущего оружия. Партийные воззвания были напечатаны на четырех языках — латышском, русском, немецком, эстонском.
В декабре тысяча девятьсот пятого года революция в Российской империи достигла наивысшего подъема. Девятого декабря в Москве началось вооруженное восстание, на улицах появились баррикады.
Латышские социал-демократы в поддержку московских рабочих двенадцатого декабря объявили всеобщую забастовку. Во время забастовки происходили многолюдные митинги и вооруженные столкновения с полицией.
Революционные выступления в Риге, в Латвии были нераздельной частью первой буржуазно-демократической, народной революции в России. Латышский народ вместе с русским народом боролся за свержение самодержавия.
Начальник жандармского управления Лифляндской губернии писал в своем донесении петербургскому начальству:
«Всей жизнью в Риге несомненно руководит революционный комитет», а министр внутренних дел Дурново во всеподданнейшем докладе Николаю II доносил:
«Вся территория Курляндской губернии, исключая Митаву, Тукумс и Либаву, а возможно, и некоторые другие населенные пункты, занятые отдельными воинскими частями, находится в руках мятежников».
Так оценивал события министр внутренних дел двадцать третьего декабря тысяча девятьсот пятого года, однако накануне Нового года боевым дружинам рабочих пришлось принять неравный бой с противником, войска наводнили Ригу и Прибалтийский край, лучшие дни революции миновали, и с наступлением Нового года, когда на Театральном бульваре, напротив почтамта впервые в Риге зажглись электрические фонари, состоятельным горожанам показалось, что жизнь возвращается в привычную колею.
Хотя в городе по-прежнему ежедневно подбирали неопознанные трупы, хотя стреляли по офицерам в окна освещенных трамваев, хотя полицейские в большом количестве покидали службу, ставя свою жизнь превыше жалованья и служебных выгод, тем не менее армия железной рукой мало-помалу водворяла порядок.
Для бюргеров в общем и целом прошедший год был удачлив.
В Рижском порту шла оживленная торговля, за границу было вывезено сто шестьдесят пудов муравьиных яичек, три тысячи восемьсот сорок пять пудов коровьей шерсти, восемнадцать тысяч пятьсот сорок один пуд сладкой водки и триста двадцать один пуд телячьего рубца.
На бойнях было забито около восьмидесяти тысяч крупного рогатого скота, на территории Латвии расстреляно около тысячи революционеров, жизнь опять могла бы стать прекрасной, хотя Октябрьский манифест, по сути дела, и был упразднен; ваятель надгробий А. Фольц по Николаевской, 31, в тот год был завален заказами. Гранитная и мраморная мастерская расширялась, пришлось нанять новых рабочих, чтобы ни в чем не уступить своему конкуренту А. Шрадеру.
Акционерное общество «Балтик-Сепаратор» с конторой в Риге, по улице Ваверу, 18, предлагало крестьянам сепараторы с простым барабаном и барабаном с тарелками, на Двинском базаре кто-то украл бочку с засоленной требухой, в городе появились фальшивые ассигнации и полтинники чеканки тысяча восемьсот девяносто девятого года, воскресные службы проводились в Домеком соборе, в церквах Иакова, Петра, Иоанна, Гертруды, Иисуса, Мартына, Святой Троицы, в Реформаторской церкви, на новом кладбище, у Ротенберга, а также в приюте для глухонемых по Мариинской, 40, службу для глухонемых правил пастор Преториус, голос у него был малоприятен, уши нормальных прихожан его не выносили.
Многие бывшие социал-демократы в страхе эмигрировали, один из уезжавших пытался пересдать свою квартиру из шести комнат, с каморкой для прислуги, г ванной и центральным отоплением. Художник Янис Розентал, по улице Алберта, 12, давал уроки рисования, живописи, а его жена Элли-Форсель Розентал в той же квартире давала уроки пения. Франция готовилась к президентским выборам, в рижских банях повысили входную плату с восьми копеек до десяти, золото Российской империи неудержимо текло из казны, а выпуск денежных ассигнаций все более возрастал, министру юстиции Акимову был пожалован орден, и было принято решение, что отныне один блюститель порядка будет приходиться на каждые четыреста жителей. Губернатор Лифляндии учредил особую комиссию для расследования ученической стачки, повелев исключить виновных, цена на хлеб в новом году повысилась до трех копеек за фунт, ночью подмораживало, улицы покрывались коркой льда, и несколько почтенных граждан поломали себе ноги, днем же на тротуарах валялись груды мусора, и пьяные шатались по городу, подчас отсыпаясь прямо на тротуарах, лихачам-извозчикам было велено явиться в полицейское управление для смены номерных знаков, и там их пытались завербовать в сотрудники полиции, если не на активную службу, то хотя бы в качестве осведомителей, а в случае отказа грозили не выдать номерной знак.
Лошадей приходилось перековывать чаще, чем обычно, — на голых мостовых шипы быстрее стачивались. Случались и несчастья, один лихач-извозчик налетел на трамвай, был раздавлен, пострадала при этом и лошадь. Ворота и парадные в домах было велено закрывать в пять часов пополудни, в городе продолжались облавы. С первого по двенадцатое января тысяча девятьсот шестого года в Риге было арестовано семьсот шестьдесят девять лиц, все они подозревались в подстрекательстве к забастовкам, политическим выступлениям, хранении оружия, насилии против государства и чинов полиции. Десятого января неизвестными злоумышленниками были разграблены питейные лавки по Большой Московской, 116, 26, 105, по Юрьевской, 39, по улице Сколас, 19, а также на углу Курляндской и Тукумской, подобные происшествия случались ежедневно, неизвестные разбивали бутылки, забирали из кассы деньги, полиция хватала наугад возможных виновников.
Двенадцатого января все гостиницы и постоялые дворы, находившиеся вне Старой Риги, были оцеплены войсками. На всех линиях останавливали трамваи, повсюду искали оружие и запретную литературу. Солдаты перекрыли улицу Авоту, Мариинскую, Тербатес, Елизаветинскую, Александровскую. Проверяли каждого прохожего. На базаре Берга обыскали более двухсот приезжих, было найдено шестьдесят револьверов и арестовано шестнадцать человек. И квартиру Аустры Дрейфогель вверх дном перевернули, обыскали харчевню, и потому-то собрание дружинников тринадцатого января было назначено в уже проверенном армией районе. Дело верное, как заметил дружинник Кезберис, в прошлом сам солдат, снаряд не падает дважды в одну и ту же воронку. И вот пожалуйста — упал. Сомнений быть не могло, за этим скрывалось предательство.
Тринадцатого января солнце встало в восемь часов сорок семь минут, продолжительность дня — семь часов сорок семь минут, заход солнца — в четыре часа тридцать две минуты пополудни, и к тому времени более десятка членов боевой дружины получили приказ явиться на чашку чаю в конспиративную квартиру книгопродавца Августа Ранкиса при его книжной лавке на перекрестке Романовской и Суворовской.
II
В книжной лавке Августа Ранкиса во второй половине дня по пятницам покупателей бывало мало. Заезжие крестьяне спрашивали календари, заглядывали студенты за учебниками. Говорили о студенте Рижского политехнического института Теодоре Индриксоне, будто бы убитом в Казданге. Вошел человек и спросил только что вышедшую книгу «Тело женщины», в которой, по его словам, наглядно представлены все части женского тела. Ранкис вежливо объяснил, что подобных книг он не держит, но что гражданин может обратиться на книготорговый склад Калныня и Дойчмана, и, в свою очередь, предложил гражданину купить книгу А. Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», но гражданин отказался, объяснив, что его интересует лишь «Тело женщины».
Вслед за ним в лавку вошел седовласый, элегантной наружности господин. Даже в походке его сквозила какая-то оригинальность.
Трудно сказать, в чем заключалось это неуловимое своеобразие: то ли в изяществе, с каким он приподнял для приветствия мягкую шляпу, в то время как большинство рижан носило жесткие котелки или меховые шапки; то ли в манере держать подбородок своенравно выпяченным, в то время как большинство людей ходило по улице, втянув головы в воротники; то ли в его шелковистых тюленьих рукавицах и тюленьих же гетрах, в то время как большинство господ носило простые замшевые перчатки и прочнейшие производства фабрики «Проводник» галоши поверх английских полуботинок.
У господина была черного дерева трость с рукояткой из моржовой кости.
Несмотря на все это, господин был рижанином, — видный фотограф и дилетант от искусства Зилбиксис, давнишний клиент Ранкиса. Он покупал географические атласы, монографии по искусству, нотные тетради, руководства по черной магии, фолианты по оккультизму, а также сочинения по экономике и исторические романы.
Зилбиксис открыто поддерживал революционные идеи, был коротко знаком чуть ли не со всей рижской интеллигенцией, и в это тревожное время на квартире у фотографа нередко собирались недовольные интеллигенты, не связанные с революцией, но относившиеся к ней сочувственно.
Ранкис знал, что дилетант Зилбиксис жаждет участвовать в революции. Фотограф не раз говорил, что мог бы спрятать у себя бомбы, появись такая необходимость, и Ранкису предлагал в его книжной лавке устроить тайник взрывчатки, однако Ранкис отказался под тем предлогом, что его интересует лишь прибыль, она, мол, для него и дороже и ближе, чем туманные посулы революционеров о равенстве и братстве. По правде сказать, Ранкису был симпатичен этот старик, но железные законы конспирации запрещали даже словом обмолвиться о своих связях с подпольем, не мог же, в самом деле, Ранкис признаться, что участвует в движении, что лавка его давно уже используется как место собраний боевых дружинников, что Ранкис лично знаком с легендарными людьми города и не однажды укрывал их у себя.
— Добрый день! — сказал Зилбиксис, сдержанно кланяясь. — Опять пошла потеха! Слышали, на Мельничной даже перестрелку затеяли, кто-то арестован. Одного на месте пристрелили. А может, все сплетни. Давно ли мы слышали, что актера Берзиня застрелили. Слава богу, оказалось вздором, всего-навсего арест. Собираюсь пройтись до Мельничной, душа болит об этих молодых людях.
— А мне надоело, — ответил Ранкис. — Каждый день одно и то же. И когда кутерьма эта кончится, кругом сплошные убытки, так можно всех покупателей растерять. У людей пропадает охота сидеть дома, читать книги, им бы только шляться по улицам, делать всякие глупости, устраивать беспорядки.
— Вы безнадежный консерватор, господин Ранкис, — с сожалением молвил Зилбиксис. — А я верю в прогресс!
— Да разве ж это прогресс? — усомнился Ранкис.
— Начало прогресса, — заверил его Зилбиксис.
— Вот где начало моего прогресса! — сказал Ранкис, выдвигая ящик кассы и кивая на аккуратно разложенные по ячейкам стопки ассигнаций. Рядом поблескивал никелированный браунинг, под ним лежало разрешение на хранение оружия. Избитый штамп, но как он действовал! Деньги, оружие, благонамеренный гражданин, стяжатель, у которого только и мысли, что о собственном кармане, и при всем при том человек смелый, разве что немного ограниченный. Сам Зилбиксис в своем ателье сделал фотографию Ранкиса для разрешения на хранение оружия. Разрешения выдавались лишь благонадежным гражданам.
Прогрессивно мыслящий Зилбиксис тяжко вздохнул и, так ничего и не купив, откланялся.
Выйдя из лавки, он не пошел, как собирался, на Мельничную, а повернул вверх по Романовской. Миновав улицы Тербатес и Александровскую, он подошел к серому пятиэтажному дому. Негромко посапывая, отворил парадную дверь, поднялся на второй этаж и покрутил бронзовую ручку звонка.
Ему открыла молодая, исхудавшая, поблекшая женщина.
— Добрый день, госпожа Леинь! Зашел справиться о здоровье доктора, — заговорил участливо Зилбиксис.
— Навряд ли до утра протянет, — глухо ответила госпожа Леинь.
Зилбиксис оглянулся. На лестнице не было ни души. Никто не подслушивал. И все же Зилбиксис наклонился поближе и перешел на шепот.
— Тревожное нынче время. Повальные обыски, аресты. Берут ни за что ни про что. За красивые глаза. Квартал за кварталом обыскивают, дом за домом. Сегодня ночью могут и к вам нагрянуть. Имею такие сведения. Если что-то нужно спрятать, отдайте мне, я укрою в надежном месте. Вам оставлять при себе рискованно, если найдут, не посмотрят, что доктор при смерти.
— У нас ничего нет, — ответила госпожа Леинь, немного смешавшись.
— Со мной можете быть откровенны, я знаю, у господина Леиня хранится литература, быть может, оружие. В такое время нельзя друзей оставлять в беде, если будет обыск, полиция ни на что не посмотрит.
— Я, право, не знаю, — растерянно молвила госпожа Леинь, — в самом деле ничего не знаю, — заколебалась она. — Но если вы что-то еще знаете, может, зайдете и сами у него спросите?
Если вы что-то еще знаете? Что бы это могло означать?
Тяжелый запах дезинфекции, карболки, лекарств висел в коридоре. Наконец решившись, хозяйка уверенно направилась в одну из комнат.
Прямо как был, в пальто, Зилбиксис неспешно проследовал за ней. Чтобы заглушить зловоние отмирающей плоти, в комнате распрыскали духи. Больной лежал на широкой дубовой кровати, до подбородка укрытый одеялом. Ему могло быть слегка за тридцать. Усохшее лицо, дряблая кожа, померкший, оцепенелый, ничего не видящий взгляд, нацеленный в потолок. Мебель в комнате затянута в белые чехлы, люстра в белом саване, и белая пена на бесформенных лиловых губах обреченного.
— Господин Леинь, — заговорил Зилбиксис, — это я. Помните, вы частенько бывали у меня?
Больной не шелохнулся. На противоположной стене под белым чехлом висела картина.
— Идут повальные обыски, — продолжал Зилбиксис, — у Калнмежов нашли листовки. За хранение оружия без разрешения грозит смерть. Я боюсь за вас. У меня есть надежный тайник. Можете отдать мне оружие.
Больной не ответил.
— Со вчерашнего дня слова не сказал, — объяснила за спиной госпожа Леинь.
Глубоко опечаленный фотограф прошел коридором к выходу. Неожиданно остановился, осмотрел вешалку.
— Госпожа Леинь, — сказал он, доставая из кармана объемистый бумажник, — если вы в стесненном положении, я бы мог одолжить вам какую-то сумму. Сколько вам нужно?
— Ну что вы, не беспокойтесь, денег у нас достаточно, у мужа были кое-какие сбережения. — И на бледных щеках женщины выступил легкий румянец.
— Не стесняйтесь, — уговаривал фотограф. — Я вижу, рысья шуба вашего мужа исчезла с вешалки, должно быть, отнесли в ломбард?
— Нет, нет! — быстро ответила госпожа Леинь. — Шуба не в ломбарде, да что это за шуба, простое пальто, подбитое мехом, я его повесила в шкаф, посыпала нафталином, меньше места занимает.
— Что верно, то верно, — согласился фотограф, разглядывая освободившиеся на вешалке крюки.
Учтиво простившись, он вышел.
III
Тем временем в книжную лавку Ранкиса один за другим являлись покупатели, выражая желание взглянуть на книжные каталоги и альбомы репродукций. Некоторые осведомлялись о совсем уж редкостных каталогах, и таких покупателей Ранкис препровождал дальше в глубь магазина, где в одной из комнат квартиры был накрыт стол для чаепития на четырнадцать персон.
За столом сидело одиннадцать мужчин и две женщины. Число «тринадцать» было и здесь под запретом, ибо среди присутствовавших находился суеверный повар Озолбауд. Да, тот самый Озолбауд, которому было наплевать на все, кроме своей работы, — проверенный и бывалый дружинник. Большинство присутствоваших он знал лично, вместе с Чомом, Удалым, Страуме, Землемером, Гришкой, Аусеклисом, Янисом Кулпом участвовал в знаменитом налете на Центральную тюрьму. Остальных четверых Озолбауд видел впервые. Все они — рабочие, крестьяне, интеллигенты — более или менее виртуозно владели маузером, браунингом, наганом. Были самоотверженны и преданы партии, прекрасно ориентировались в запутанных ситуациях, боевой революционный опыт достался им не только в победах, но и ценою горьких утрат.
Все уже были в курсе дела: два члена Центрального Комитета, Господин и Мистер, схвачены полицией, вместе с ними арестованы двое рядовых боевиков — Межгайлис и Грундберг. Господин арестован с документами Карлсона, а Мистер как Розентал; настоящие имена того и другого знали лишь некоторые из присутствовавших. Обсуждались возможные планы спасения, но окончательное решение все еще не было принято, так как главный участник совещания по неизвестным причинам задерживался. Света не зажигали, комната погружалась в полумрак, на мгновение смолкли голоса, стало тихо.
В тени стоявшей в кадке пальмы, совершенно прозрачная после бессонной ночи, сидела сестра Янсона-Брауна Анна, она только что приехала из Либавы. Рядом с нею зябко куталась в серую накидку Аустра Дрейфогель.
Дверная ручка бесшумно опустилась, дверь тихо, словно во сне, открылась, и, беззвучно ступая в галошах производства фирмы «Проводник», вошел в комнату Яков Дубельштейн.
В самом деле, на нем были отличнейшие галоши, в холодную погоду в них не замерзнешь, в оттепель не промокнешь, на скользком месте не поскользнешься, на неровном не споткнешься, в прохладную пору они согревали, в теплую — охлаждали, и на ярко-красной подкладке нестирающейся краской была оттиснута эмблема фирмы — рука с молотом.
Дверь так же тихо затворилась, и собравшиеся, занятые своими мыслями, не заметили вошедшего.
Яков Дубельштейн был высок, жилист, костист и подвижен, как водяная трава, нет, пожалуй, сравнение неверно, он был подвижен, как паровая машина, руки беспрестанно двигались вверх и вниз вдоль тела, костлявые члены в местах соединений, казалось, были скреплены винтами, и стоило Якову двинуть одним плечом, как приходило в движение другое, а когда колени подавались вперед, в лодыжках что-то хрустело, замирал же он только когда стрелял.

Одевался бедно, башмаки худые, потому-то Яков Дубельштейн так ценил галоши фирмы «Проводник». Брюки отутюжены, рубашка синяя, пальто неброское, без мехового воротника, шея обмотана шарфом, без него Яков никак не мог обойтись, и плоская фуражка телеграфиста с лакированным козырьком. Перчаток не носил, и потому руки всегда держал в карманах пальто, подкладка карманов отрезана, пиджак под пальто расстегнут, чтобы обеими руками Яков Дубельштейн мог выхватить из-за пояса пару маузеров. Стрелял метко. Летним днем, при хорошем солнечном освещении, падавшем сзади, с пятидесяти шагов попадал в пятак, при одном условии — чтобы оружие было пристреляно. Ночью мог разнести белое блюдце с расстояния в сто шагов, зорок у него был глаз. По профессии — телеграфист. Тощий он был на редкость — кожа да кости, — оттого что был фанатически предан делу, мало заботился о своей телесной оболочке. Движения у него получались скользящие, гибкие. Иногда в хорошем настроении во время тренировочных стрельб на берегу Либавского озера показывал свой коронный трюк — стрелял в орех, повернувшись к нему спиной и целясь через зеркало. В Ригу приехал после разгрома Либавской организации, до этого работал в Либаве вместе с Господином. Яков Дубельштейн смущался всякий раз, когда речь заходила о его заслугах, в таких случаях обычно отговаривался: «Чего там, я всего-навсего ребенок в сравнении с Господином!»
Это он, Яков Дубельштейн, на либавской телефоннотелеграфной станции наладил тогда перехват телеграмм и подслушивание разговоров, так что дружинники о распоряжениях губернатора узнавали раньше, чем его подчиненные.
Якову было двадцать три года.
Он тихо стоял на пороге, разглядывая сидевших за столом тринадцать человек, и жадно вдыхал аромат чая. Аустра Дрейфогель первая заметила Якова, она не испугалась, не удивилась, что он вошел незаметно и стоит на пороге, такой тощий и грустный, и неожиданно для нее самой у нее вырвалось:
— Да ты хоть что-нибудь ел сегодня?
— Господина еще можно спасти, — убежденно проговорил Яков Дубельштейн.
IV
Обязанности начальника сыскного отделения полиции в те дни исполнял помощник полицмейстера Пятницкий, и, в надежде подняться ступенькой выше в своей карьере, он взялся за расследование и политических преступлений. Жандармское управление и охранка не
справлялись с наплывом поступавших к ним дел. Потому-то в конце 1905 года сыскное отделение стало арестовывать лиц, заподозренных в политических преступлениях.
Операцией на Мельничной Пятницкий остался недоволен. Можно считать, дело провалили, раздумывал он, схватить четверых, когда надеялись взять ядро боевой организации. Совершенно ясно, что Зиедынь ни черта не знает, был у них там пешкой, ничего из него не выжмешь, точные показания дает только о Межгайлисе, отчасти и о человеке с фальшивой фамилией Карлсон, который в действительности будто бы либавский агитатор Брауер, а когда спрашивают его об остальных, мнется, заикается, путает факты, сочиняет небылицы. Чего тянуть, пора приступать к допросам, пусть Грегус, Михеев и Давус займутся упрямцами. Из этих каменных лбов добром ничего не вытянешь, если о них наперед не навести подробнейшие справки, начиная с колыбели. Упрямые, черти. Иной субъект после хорошей обработки чего только не расскажет, но, покуда из такого правду вытянешь, пройдет день, а то и два, тем временем в конспиративных квартирах ветер уже свищет среди голых стен, и поминай как звали, тут каждая минута дорога. Найти бы способ, как заглянуть в душу человеку!
Вся надежда на Грегуса.
Межгайлиса поместили отдельно, остальных троих заперли в антропометрическом кабинете. Все камеры были переполнены, в одиночках сидело по пять человек, в четырехместных — по двадцать, а в двух восьмиместных— до сорока заключенных в каждой. В антропометрическом кабинете уже находился какой-то парень, арестованный за разграбление винной лавки. Присутствие постороннего мешало выработать линию поведения. Время тянулось в смутных ожиданиях.
Поздно вечером всех троих вызвали на допрос. Поставили в ряд, задавали вопросы.
— Кому принадлежит браунинг?
— Ваш паспорт фальшивый. Кто выдал вам документ?
— У нас имеются сведения, что вы все трое знакомы!
— Вам предоставляется последняя возможность добровольно признать свою вину.
— Вам грозит смертная казнь. В лучшем случае — каторга!
— Подумайте! Кому принадлежит браунинг? От кого получили фальшивый паспорт? Увести их!
Их увели обратно. Через десять минут стали вызывать по одному.
Первым вызвали Грундберга. Он вернулся с окровавленным лицом.
— Карлсон! — выкрикнул городовой.
V
Я спокоен, я совершенно спокоен, я нисколько не волнуюсь, волноваться смогу потом, в камере, а сейчас я спокоен, ничем себя не выдам, пульс у меня ровный, размеренный. Надо придумать, чем бы их удивить. Они станут меня разглядывать, ну что ж, я тоже буду их разглядывать. Как одеты, ах да, на старике же отлично скроенный костюм, костюм что надо, как же, конспирация, должен я знать, из какого материала шьют себе господа костюмы, вот-вот, из какого материала такие пожилые полицейские чины шьют себе костюмы. У всех у них скошенные полицейские затылки. Главное — спокойствие, не распускать поводья, не забываться, не витать в облаках, иначе застигнут меня врасплох. Тело мое расслаблено, руки свободно свисают вдоль бедер, надо хорошенько запомнить эту комнату, сохранить в памяти малейший оттенок голоса, каждую интонацию, каждый жест, удержать в памяти каждое лицо, запечатлеть в памяти каждую черточку, каждый поступок. Я, Адольф Карлсон, верноподданный Российской империи, друг самодержавия, и нечего мне волноваться перед лицом полиции.
Все это Карлсон успел передумать, уже переступив порог и в то же время оглядывая не слишком просторное помещение с широким столом и желто-медным надраенным самоваром посредине, и при виде самовара в голове на какую-то долю секунды удержалось это сочетание «желто-медный», и мысли, отклонившись в сторону, словно телеграфный аппарат, отстучали несколько слов все с тем же желто-медным оттенком, и еще он про себя отметил чьи-то золотистые, зоркие глазки, что уставились на него из-за стола, золотистые такие, точно цветом ржи припорошенные, длинными альбиносными ресницами прикрытые, внимательные, ласковые, как у детского врача; то были глаза Михеева, нацеленные на Адольфа Карлсона.
На столе лежала золотая луковка часов.
Больше в комнате не было ничего золотистого, глаза остальных — темно-серые, карие, голубые — были в ладу с темно-серыми половицами, коричневыми портупеями, голубыми кантами шинелей, лица у всех румяные, у одного даже пятнистое, на щеках беловатые разводы величиной с пятак, ну, ясно, — обморозил щеки на каком-нибудь посту. Все здоровяки, крепыши, прямо гренадеры, готовые зубами растерзать бунтовщиков, посягнувших на государя императора, у них любимая присказка: нас пятеро, мы одни, а он — в одиночку целой сворой, и такая каша заварилась, мы ему как двинем в рожу, он врастяжку, а мы под ним, потом поднялся и бежать, сообразив, что с нами ему не справиться, только мы все время бежали впереди, чтоб не вздумал удрать от нас.
На столе стояло несколько до краев заполненных пепельниц, и на полу набросаны окурки, пепел, обстановка для работы в этой прокуренной комнате крайне неподходящая. Тут же и батарея пустых коньячных бутылок, люди собрались крепкие, хмеля не боялись. Пол был сух, но что-то шелестело под подошвами. А, песком посыпано, чтобы кровь к подошвам не липла. Везде, куда бы он сегодня ни пришел, пол песком посыпан, не дурная ли примета — не ждет ли впереди тебя песочный дом?
В углу громоздился красный пожарный ящик, до половины засыпанный песком, а в нем — маленькая детская лопатка.
Сделав несколько шагов, Карлсон остановился.
— Назовите себя!
— Адольф Карлсон.
— Назовите свою настоящую фамилию!
— Адольф Карлсон.
— Распишитесь на этом листе.
Карлсон расписался в верхнем левом углу, так, чтобы поверх фамилии невозможно было ничего вписать.
— Подпись вроде бы настоящая, — проговорил в раздумье Михеев, — а паспорт все-таки фальшивый. Признаете?
— Я бы хотел объяснить, произошло недоразумение, паспорт настоящий.
— Настоящий? Вы утверждаете?
— Да.
Они впятером одни, Карлсон в одиночку с целой сворой, первый ударил по лицу, второй саданул сзади по шее, третий толкнул в спину.
Инстинкт сработал быстрее, чем разум, Карлсон отпрянул к стене, и с таким же проворством один из полицейских приставил ему ко лбу черное до неприличия дуло нагана.
— Молчать, молчать, молчать! — заорал полицейский.
Неужели Карлсон, сам того не желая, застонал от боли?
КАРЛСОН РАЗМЫШЛЯЕТ О ПОДЛОСТИ
А подлец тоже человек? Вполне возможно. Подлец — это человек, унижающий достоинство другого человека. Определение простое. Способы унижения человеческого достоинства столь же многообразны, как сама жизнь. Человеческое достоинство можно унизить, выплачивая до смешного низкое жалованье за шестнадцать часов на фабрике, достоинство можно унизить, вынуждая человека ютиться в подвале вместе с гномами, кротами и крысами, достоинство можно унизить, воспретив человеку образование, высмеивая его национальную принадлежность, достоинство можно унизить, прибегнув к рукоприкладству и прочая, но постоянное унижение человеческого достоинства на физиономию подлеца накладывает неистребимую печать.
Я научился вглядываться в черты лица и, хотя безоговорочно не отношу себя к физиономистам, тем не менее считаю, что каждый человек на лбу носит визитную карточку, нужно только уметь прочитать ее.
Какой самый заурядный вид подлости? Грубо говоря?
Прекрасный семьянин, печется о детях, жене не изменяет, по воскресеньям ходит к обедне, хороший товарищ, отзывчивый коллега и вообще внимательный, добрый, с чувством юмора, предан отечеству, государю императору, венценосному царю и самодержцу, взяток не берет, не отрицает необходимости образования, стоит за равноправие женщин, поддерживает рабочие спортивные общества, а по ночам в полицейском управлении сдирает ногти у революционеров, выбивает глаза, загоняет занозы в тело, прижигает папиросой детородные органы, ломает пальцы, на другой же день как ни в чем не бывало, отмывшись в ванной комнате, играется с сынком, к потолку его подбрасывает — уп-па, уп-па! И ничего к нему не липнет, потому что он знает, Иисус Христос своей смертью искупил его грехи на много лет вперед.
Подлость питают две навозные кучи: уверенность подлеца, что поступки его останутся безнаказанными, и еще большая уверенность, что люди добрые о тех поступках ничего не узнают.
Ибо разоблачение перед всем светом для подлеца горше всякого наказания.
В самом деле, что такое тюрьма по сравнению с людским презрением?
Чувства — это форма материи, все в мире материально, и презрение в атмосфере сгущается грозовым облаком, презрение проникает в каждую пору, презрение пожирает нервные клетки, презрение сжимает сердце подлеца, презрение путами вдруг стягивает ноги в аллее парка, леденящими пальцами мигрени презрение сжимает мозг, выплескивает лужи грязи, тушит блеск в глазах, больше всего на свете подлец боится не наказания — презрения боится.
Презрение лишает его сна.
Гремя скелетами, убиенные жертвы кружатся над палачом и в царстве сна, и нет ему ни минуты покоя.
Что наказание? Наказание дает чувство морального удовлетворения, оно ранит, рождает дух противоречия, а прозрачная колба гласности позволяет подлеца, как какого-нибудь редкостного гада, разглядеть со всех сторон, и сквозь скупые строчки правдивой информации проглянет жирная (или тощая) плоть подлеца, вся мерзость его проделок, злокачественная опухоль его мыслишек, и человечество в ужасе содрогнется: ведь у подлеца две руки, две ноги и пара глаз, и голова одна, и, повстречав его на улице, можно не отличить от прочих смертных.
Через каменный век, седую древность, средневековье— кирпич к кирпичу, мысль к мысли — воздвигало человечество здание разума, и вдруг в какой-то грязной пустоте, лишившись опоры, сразу гибнут несколько жизней, и мы видим, что это дело гнусного подлеца, опозорившего род свой, имя свое на годы и годы.
Его императорское величество Николай II признал подлецов в государстве пользу приносящими, а равно вельможи его и чиновники сверху донизу признали, что подлость достойна поощрения, и посему щедро раздавали подлецам награды, повышения и прочие блага.
Подлость по воздействию сравнима с раком, и она поражает клетки здорового организма, процесс необратим, пораженные клетки не восстанавливаются, рак, вовремя не открытый, приводит к стопроцентному смертельному исходу.
Его императорское величество Николай II почитает рак святыней, рак в правительстве, рак в армии, рак в полиции, рак в торговле, промышленности, рак в человеческих отношениях. На зеленом ковре человечества отмирают гигантские куски.
И сколь бы парадоксально это ни звучало, царизм сокрушает царизм не меньше, чем мы, революционеры.
Прозрачная колба гласности опять упрятана цензурой за семью замками.
Не бросай в пучину камень,
Он там покоя не найдет!
Да здравствует глупость Николая, да здравствуют цензура, зажим информации, да здравствует эксплуатация и притеснения, да здравствует русско-японская война! Не так ли звучит песня человеконенавистника, мизантропа? Это ли нужно людям? Достойна презрения история подлецов, монархия, самодержавие — благодатная почва для подлости, скотный двор царизма, ах, до чего суха теория, шуршат во рту кукурузные початки, которыми в мансардах питаются студенты, студенты из неимущих семей.
В Рижском политехническом вывесили траурные фляги, убит студент Печуркин, я хорошо знал покойника, двух его братьев, снег истоптали башмаки провожавших, речей не было, не слышалось пения, но шепотом оброненные фразы вздымались над городом облаком человеческого дыхания, облако презрения людских тысяч плыло вслед за траурной процессией, и власти никого не посмели тронуть. Облако презрения било в небе мощным голубым барабаном, и фабричные трубы гудели органами, а подлецы от страха позабились в норы, глядели оттуда масленистыми глазками соглядатаев, с нетерпением дожидаясь ночной темноты.
— Я протестую против подобного обращения, — строго сказал Карлсон. — Я буду жаловаться министру юстиции.
— Даже так?!
— Самому министру?
— Ты что же, знаком с ним? Небось чаи вместе распивали?
— А не хочешь ли послушать, как пуля по лбу щелкнет? А? Для меня это раз плюнуть — спустить вот этот крючок, и баста! Ну?
Полицейский выждал, потом приказал]
— Прочь от окна! Подойди к столу!
В самом деле, на расстоянии вытянутой руки чернело забранное ставнями окно. Карлсон подошел к столу. Михеев спрятал свой наган.
— Кто выдал вам паспорт?
— Волостной староста. Можете удостовериться в волостной управе.
— Опять крутишь-вертишь?
— Говори правду! Проживал по улице Авоту, двенадцать?
— Никогда не проживал по улице Авоту, двенадцать.
— Смотри, он, наглец, даже не спрашивает, о каком городе идет речь.
— И никогда не заглядывал в Риге на Ревельскую, пятьдесят девять?
— Может, там и получил свой браунинг, забытый на подоконнике?
— Никогда не бывал на Ревельской, пятьдесят девять.
— Где живете?
— В Риге первый день, еще не снял квартиры.
— Назовите знакомых в Риге.
— В Риге никого не знаю. Не успел познакомиться.
— Знаете Кригера по кличке Медведь?
— Не знаю ни Кригера, ни Медведя.
— Медведь и Кригер одно и то же лицо. Ну?
Карлсон выразительно пожал плечами.
— Не понимаю, чего вы хотите.
— Не валяй дурака! — Один из них подскочил к нему. Белые пятаки на обмороженных щеках зацвели, как нарциссы. — Не понимаешь, чего от тебя хотят? Ничего, ты у нас образумишься. Вот твое дело! — И Пятак ткнул пальцем в папку на столе. — Раз ты попал сюда, не надейся, что сухим из воды выйдешь.
Первый допрос начался в восемь вечера.
Со скрипом двигались шестеренки часовых механизмов, филином ухали минуты, часы тягуче раскручивались и набрякали годичными кольцами на стволах деревьев, а в три часа ночи Карлсона опять вызвали.
У стены возле пожарного ящика с песком стоял кожаный диван. На диване лежал какой-то крупный чин полиции, временами жизнерадостно всхрапывая. У дверей дежурил солдат с винтовкой. Городовой, конвоир Карлсона, остановился у стола, и в надраенном самоваре отразилось его простоватое лицо.
— Подойдите поближе, — вежливо попросил Пятак.
Михеев пружинистой походкой расхаживал по кабинету. Карлсон стоял к нему спиной. Неожиданно Михеев подступил к нему. В руках нагайка.
Чапиги плуга ложатся в ладони землепашца, молоток привыкает к рукам металлиста, ручка срастается с пальцами учителя, нагайка сдружилась с ладонью Михеева.
Прирученной гадюкой извивалась в руках Михеева, то опуская, то вскидывая треугольную свою голову, то выплевывая, то вбирая в себя ядовитое жало.
Ну, малыш, казалось бы, спрашивал Михеев, каково теперь? Может, хватит, а? Галилей отказался от своих теорий, как только ему показали камеру пыток. Мы тоже соблюдаем последовательность. Сначала показываем, даем возможность образумиться. Ну?
Это было неприятно. Дожидаться удара, сознавать свою беспомощность. Момент опасный, размякает воля, возьми же себя в руки, не выказывай ничего, уйди в себя, ругайся, если не можешь иначе. Чтоб ты сдох, ублюдок, дерьмо кабанье, блевал я на тебя вместе с твоею дубинкой, про себя говорил Карлсон. Он даже собрался зевнуть, но потом сообразил, что это будет слишком, надо и меру знать.
— Какие у вас отношения с боевыми организациями? К какой из них принадлежали? — спрашивал Пятак.
— Не знаю никаких организаций. Ни к какой не принадлежал.
— Р-р-р, — разъяренный кабан Михеев зарычал, захрюкал, — уж я задам тебе встряску, пропесочу, промочалю, станешь шелковый! Ах ты гниль, моль, голь перекатная! Сейчас как двину — из тебя польются сопли, вопли, кропли, допли! Ах ты аллигатор, горлатор, болтатор, агитатор проклятый!
— Михеев, успокойся, — официально приказал Пятак. — Вы, Карлсон, слушайте, что вам скажу. Повернитесь! Лицом к двери. Стойте спокойно.
Дверь была полуоткрыта.
В коридоре густела темень, из тьмы в лицо Карлсону впивались тысячи клинков, они сдирали кожу щек, ощупывали череп, пересчитывали волосы на темени, зубы во рту, липкими пальцами шпика копались в его внутренностях, разглядывали, изучали, сравнивали.
Он, он, держи его, держи, наконец-то попался Брауер, мерзкий подстрекатель из Либавы!
Неужели он в самом деле?
Очень похож!
Он или не он?
Зиедынь, мы на вас надеемся, а подведете, получите полсотни горячих.
Ей-ей, это он, Брауер собственной персоной.
Зиедынь, мы ведь тоже не дураки, мы должны знать, глаголет ли твоими устами истина или все та же полсотня горячих?
— Э-э-э, — мямлил Зиедынь, слюни текли по подбородку.
— Вольно, — скомандовал Пятак.
— Господа, — заговорил Карлсон, — насколько я мог заключить со слов уважаемого чиновника с нагайкой, меня обвиняют в агитации. Если это так, прошу мое дело передать в жандармское управление или прокуратуру. Политические дела вне компетенции полиции, ими занимается жандармское управление в установленном законом порядке.
— Р-р-р! — взревел Михеев.
— Мы дадим тебе закон! Вот тебе закон! — Он подсунул к глазам Карлсона согнутую нагайку. — Таких пташек, как ты, редко удается зацапать, зато уж теперь такой тебе будет закон, язык высунешь, пощады испрашивая, гад, зад, смрад!
— Объявлено военное положение, — объяснил Пятак. — Вы, Карлсон, разве не знаете?
— Знаю.
— Так вот, законы теперь излает губернатор. Он уполномочил и обязал нас расследовать политические дела.
— Довольно болтать, — вступился Михеев, — у меня руки чешутся. За дело, за дело!
— Мы остановились на боевых организациях, — вставил старичок, писавший протокол.
— Я сам напишу протокол, — вдруг объявил Карлсон.
— Да ну? — удивился Михеев.
— Да вы вообще умеете писать, Карлсон? — язвил Пятак.
Полицейские ни с того ни с сего развеселились.
— Не перетрудить бы вас лишней писаниной, — тянул чей-то дьяконовский бас.
— За это полагаются хорошие отступные, — воскликнул другой. — Пусть напишет о себе всю правду.
— Ты отвечай, что тебя спрашивают про организацию, — ревел Михеев, — и не лезь куда не надо, ишь, писарь нашелся, дрянь, рвань, трань!
— Пусть пишет! — глухо молвил спавший на диване чиновник. Он даже не повернулся, лежал лицом к стенке, только могучая спина шевельнулась, диван под ним скрипнул, потом чиновник всхрапнул, будто все произнес во сне.
Сказанные спросонья слова произвели магическое действие. Тотчас Карлсону предоставили бумагу и ручку.
«По своим убеждениям я социал-демократ. В Ригу приехал двенадцатого января, а уже тринадцатого января по недоразумению был арестован, потому что не успел отметить паспорт в полицейской части».
— Хорошо, хорошо, — подбадривал Михеев, стоя у него за спиной и через плечо читая написанное. — А теперь пишите, откуда приехали.
«В Ригу приехал из Двинска».
И подписался
А. Карлсон.
— Ну, знаете, — сказал, обращаясь к коллегам, Михеев, — ничего подобного в жизни не видел. Какова наглость! Если ты, дрянь, в течение пяти минут не признаешься, не скажешь, гниль, своей настоящей фамилии, из тебя, гад, польются сопли, и я собственноручно на твоей спине агитатора истолку в муку протокол!
— Мне нечего к этому прибавить, — ответил Карлсон.
— Где жил в Риге? — с металлом в голосе спросил Пятак.
Не получив ответа, задал следующий вопрос:
— Кто твои знакомые?
— Где чемодан с бельем?
— Господа, — ответил Карлсон, — я не однажды уже объяснял, в Риге не успел снять квартиру. Знакомых у меня нет и чемодана с бельем тоже.
Двое дюжих полицейских взяли Карлсона под руки о отвели на отгороженную барьером площадку.
— Пожалуй-ка, приятель, на исповедь, — проговорил один с усмешкой.
С Карлсона сняли пиджак, рот завязали мокрым полотенцем.
«На чужой роток не накинешь платок», — блеснула в памяти пословица, и еще подумалось, что думать сейчас нужно о чем-то постороннем — я не должен помнить ни одной фамилии, ни одного адреса, даже малейшего пустяка. Когда станут бить, буду думать о постороннем. Их девять, у них в таких делах опыт, голову пригнули к барьеру, протокол положили на спину.
Сзади кто-то крепко зажал ноги, будто железной скобой перетянули, двое других держат за руки.
Пятак сказал Карлсонуз
— Сейчас большой мастер помассирует тебе спину, считай, тебе повезло, парень!
КАРЛСОН РАЗМЫШЛЯЕТ О ДОМОВЛАДЕЛЬЦАХ, ВАННЫХ КОМНАТАХ, СЧАСТЬЕ И БУДУЩЕМ
Мой дом — моя крепость, четыре барьерных стены, сам я крыша над ними, и град сечет спину. Но куда же девался домовладелец?
Идет жаркая схватка, схватка за деньги и жизнь между домовладельцами и квартиросъемщиками. Делегатов квартиросъемщиков повсюду арестовывают как мятежников, смутьянов, потому что они, простаки, вздумали просить о снижении квартирной платы, иначе говоря, посягнули на кошелек и пузо домовладельца, и уж наверно в камерах полицейского управления отсиживается не одна дюжина таких делегатов.
Домовладельцы поднимают головы, устраивают сходки, толкуют о более решительных, действенных мерах, засыпают губернатора заверениями в своей поддержке. И вот пятого января съезд домовладельцев выносит решение: домовладельцы должны твердо держаться прежних постановлений о квартирной плате, квартирная плата должна вноситься в полном размере и за месяц вперед. В случае неуплаты в срок на квартиросъемщика можно подать в суд, причем генерал-губернатор отдал мировым судьям распоряжение рассматривать подобные дела в двадцать четыре часа, невыполнившие постановление суда выселяются из занимаемых квартир, а в случае неповиновения подлежат высылке в северные губернии страны. Домовладельцы с восторгом голосуют за резолюцию, однако неисповедимы пути господни, и где будет взять им спасительный Ноев ковчег, когда нахлынут воды потопа?
Вода — символ очищения.
Я бывал во многих новых доходных домах для рабочих и видел повсюду одно и то же. Только в квартире домовладельца ванна, у остальных даже сортиры на лестнице, о такой роскоши, как ванна, они и мечтать не смеют.
Изложение.
Домовладелец был грязен, вековая короста покрывала его тело. Измотанный в жестокой борьбе за существование, отощавший в погоне за счастьем, достатком, наконец-то к началу двадцатого века домовладелец обрел то, о чем он мечтал, к чему стремился из поколения в поколение. Присохшей коркой с ним пришли в двадцатый век и несбывшиеся надежды, которые род его копил десятилетиями, а надежды все оставались надеждами, отмирали, так и не сбывшись, и розовые, нежные тельца мертворожденных надежд отвердевали, черствели, каменели, обволакивая своих носителей все более крепкой, все более прочной броней, и со временем сквозь нее уж не могло пробиться ни единого слова сочувствия, ни в одну протянутую ладонь не мог быть вложен грош помощи и ни один скорбящий не мог быть утешен, ибо эти люди не чета каким-нибудь слюнтяям добрякам. И вот теперь домовладелец, бессердечный, неприступный, позабыв обо всех, сидел в ванне, в презрительном величии позабыв и забывая своих страждущих братьев, он, только он, обрел счастье, заковавшись в броню жестокосердия, не желая знать, что броня не что иное, как окаменевшие тельца несбывшихся надежд целых поколений его предков, не сознавая, что и другие жаждут живого, трепетного счастья, так нет же, ему хотелось одному смыть с себя корку грязи, ибо он думал,
думал ли он?
Нет, иначе.
Еще древние открыли, что весь мир и все вещи в нем состоят из атомов, из молекул, крохотных кирпичиков, вероятно, и счастье выглядит точно так же. Счастье, совсем как тень идет по свету вместе с человеком, и мыться в теплой, чистой воде было счастьем. После трудовою дня на цементной фабрике, когда во все поры въедалась белесая пыль, окунуться в очищающую воду было счастьем, но это счастье домовладелец оставил только себе.
Ему же никогда не приходилось работать на цементной фабрике.
Скоро само время станет мыть и песочить домовладельца железными перстами, в щелоке страданий будет купать его, пеной безнадежности мочалить, щетками дальних дорог драить, водами одиночества окатывать, и все это домовладелец сам навлек на свою голову. Ибо каждый сам готовит ванну своей судьбы, а горечь собирается по капле. Всякий раз, когда с квартирной платой к нему приходили съемщики, приходили из своих безванных, бесклозетных квартир, принося деньги, выкроенные из скудного жалованья, эти ассигнации уже тогда предназначались на растопку под котлом, в котором домохозяину предстояло вариться через много, даже трудно сказать, через сколько, лет.
Есть что-то фатальное в такой непреложности, и зовется она законом жизни, закон неумолим и неподкупен, неотвратим и неподкупен, домовладельцу никак не спастись и тогда, если б он вдруг понастроил ванны и в других квартирах.
Как узнать?
Счастье — это старая-престарая бабуля? Счастье — это кирпичики, тесно-тесно уложенные рядом, счастье — это молекулы, одна к одной, счастье — особая форма существования, счастье — дар божий или дело рук человеческих? Да разве может человек сотворить счастье! Даже из сказок известно, что счастье редкая гостья, к тому же и не очень она торовата, иной раз заглянет, а ничего не принесет, кроме утешения, обещания наведаться в другой раз, в сто лет один раз, один-единственный, стороной обходит счастье бедняков, не шибко шагает счастье— камни и те быстрее растут. Может, правду говорят, счастье бродит по свету, только ведь счастье на земле живет миллиарды лет, а человек — всего коротких шестьдесят, век человека для счастья все равно что дуновение ветра. Поймать ветер, поймать счастье? А мечтать о счастье — признак слабоволия? Нет в мире преступления большего, чем слабоволие, и сказать, что товарищи твои слабовольны, есть преступление. Ибо слова обла «дают магической силой.
Если скажем, что господа у нас добрые, станут ли они добрыми?
Никогда.
Так что же есть счастье?
Может, любовь? Отчего ж тогда у любви свое собственное имя? Нет места для любви за барьером, с четырех сторон давят деревяшки ограды, о если б дерево не было безгласно, сквозь одежду спину жжет протокол, в огне больно ли дереву, теперь спина как клумба с алыми гвоздиками, а есть дом, стеклянный гроб, не чувствую жестких деревяшек барьера, не чувствую тяжкого, злобой налитого воздуха, лежу себе в доме, где правит любовь, гляжу в темноту широко открытыми глазами и вижу знакомый овал лица, губы, сочные, свежие губы Аустры, она так бесстрашна, сумеет ли пленить ветер, сумеет ли настичь счастье, и снова боль железными пальцами давит подбрюшье, подбирается к печени, и кровь туда ринулась, и в солнечном сплетении растет камень ненависти, камни растут медленно, говаривал мой дед, зато все-то помнят они.
Голая риторика.
Розовыми ножками вылезает дитя из колыбели, еловая ветка щекочет ладошки, барахтаются братики, семенят сестрички, розовыми ножками вылезет дитя из колыбели, ноги цыпками обметет, когда в пастухи отдадут, и первые мозоли натрет себе батрачка, а у матери синие вены, распухшие пальцы задеревенеют, и твердый нарост на большом пальце, старуха сходит в могилу с толстыми подошвами на ступнях, они толще подметок, тверже коровьего рога. Даже смерть, щекоча своей острой косой, не проймет старуху, не заставит ее улыбнуться. Но щекотно розовым ножкам дитяти на зеленый мураве, смеется дитя, былинки ластятся к телу нежными губами соцветий, старуха сходит в белую могилу, не улыбнувшись на заигрывания смерти косой.
Что за башмачник пошил ей такую обувку?
Неужто все предрешено?
Не победим — все будет предрешено.
Если жизнь на ступнях натирает твердые-претвердые подошвы, то какие же подошвы на душе оставляют страдания?
Философия, скажете, философия на уровне башмачника? Не смейтесь вы, с душами в подошвах! Сорвите кожу тяжких каблуков, почувствуйте, как громки стоны в мире! Сорвите подметки с душ своих, которыми вы столько лет себя отгораживали от голоса, зовущего меньших ваших братьев? Послушайте, мы кличем вас! Вставайте, зовем вас! Грядущее что крепкий порыв ветра над ржаным полем. И кто пыльцу не отдаст колосьям, остаться тому бесплодным!
— Ну, красный волк, будешь говорить?
— Не проглотил ли язык ненароком?
— Говори, меднолобый!
— На, попробуй теперь ты, девятижильный, — пригласил Михеева запыхавшийся полицейский, белые пятаки у него на щеках пылали каленым железом.
Девять дьяволов с девятью головами, девять истязателей в комнате, вдевятером дубасили. Возьмись-ка ты теперь, брат, сказала первая голова второй, погрейся немного, сказала третья голова четвертой, так, чтоб он каждой жилкой, каждой клеткой, каждой порой, шестая седьмой, свинцовая нога, оловянный глаз, восьмая, девятая, собравшись с силами, раздула щеки, ухнула дубиной с размаху.
И ветер с размаху с царского воинства шапки посшибал, аж в пот их бросило, и вогнали они сына батрацкого в медный пол по колено.
VI
Бог? Совесть? Суд истории? Ответственность перед человечеством?
Может, все это всплывет многие годы спустя. Но мне важна сиюминутность. Возможно, конечно, лет эдак через пятьдесят, хотя сильно в том сомневаюсь, люди проклянут меня, мои поступки им покажутся жуткими, но что мне от того сегодня, что будет через много-много лет, покуда нам живется хорошо, молю только бога, чтобы не переводились такие вот Карлсоны, тогда буду при деле. Когда-нибудь, может, признают, что я был изувером, но пока я наслаждаюсь жизнью, а другие гниют по тюрьмам, пока я вышибаю другим зубы, у самого же полон рот блестящих зубов, и главное — сиюминутность. Я человек своего века, не какой-то там мудрец, мне важен сегодняшний день, руками и ногами держусь за сегодняшний день, а что будет завтра, о том горя мало, потому что завтра меня, может, и в живых не будет.
И подписался:
Л. Я. Михеев.
Кончил бить.
Городовой по-прежнему стоял у стола. Все время, пока Михеев давал свои показания на спине Карлсона, простоватое лицо городового причудливо отражалось в самоваре. Городовой был человек в годах, примерный семьянин, и ему противно было это, истязали человека, но он был на службе царской, многие его сослуживцы пострадали в революции, и теперь городовой пытался держать себя в рамках и не выказывать отвращения. Все же он совершил одну человеческую ошибку. Когда экзекуция закончилась и Карлсону велено было одеться, городовой, видя, что барин никак не попадет в рукав пиджака, собрался было помочь.
— Не забывай, где находишься! — рявкнул на него Михеев. — Здесь не гардероб ресторации!
— Напрасно вы отпираетесь, — сказал Пятак, когда Карлсон оделся. — Мы о вас знаем достаточно. Знаем даже такие мелочи, о которых вы сами успели забыть.
— Твоя фамилия Брауер, — торжествующе объявил Скобецкий.
— Ты приехал из Либавы, — сказал Михеев.
— Известно нам и чем вы занимались в Либаве, — добавил Пятак, — так что всякое запирательство лишь ухудшает ваше положение.
— Не могу изменить своих показаний, — произнес Карлсон придушенным, хриплым голосом, — если бы я и жил когда-то в Либаве, то сейчас приехал в Ригу из Двинска.
— Скажите, пожалуйста, — неожиданно любезно начал Пятак, — где вы получили образование?
С ветки склонившейся над водою ракиты Карлсон сломя голову бросался в озеро, обомшелые камни, зеленые водоросли скользили перед глазами, кровь звенела в подводной тишине. Под водой он мог оставаться, пока не сосчитает до шестидесяти. После шестидесяти — выныривать, и чем скорее, тем лучше, вопрос раздирал барабанные перепонки, с ответом нельзя было медлить, и не ответить нельзя, в короткий миг, пока выныриваешь, нужно придумать верный ответ. Они тотчас зададут новые вопросы, опять толкнут под воду, в каком городе находится учебное заведение, кто родители, кто отдал в школу, кто платил за обучение, кто преподавал, преподайте все это нам, господин коммерсант, как, господин коммерсант, вы забыли школу, в которой учились? Мы не можем вам дать ни секунды времени на раздумья. С плеском разомкнулись воды, и Карлсон глубоко глотнул воздух.
— Образование я получил в учительской семинарии. — Какой семинарии? Где находится эта семинария? — Образование я получил в Валмиерской семинарии. — Где ваши родители, чем занимаются?
— Родители умерли, я сирота.
— Кто платил за обучение в семинарии?
— Обучался на казенный счет.
— Где работали по окончании семинарии?
— В разных местах.
— Где? Говорите конкретно!
— Так где? Помимо паспорта, есть у вас еще какие-то документы?
— Где рекомендации? Отзывы о службе?
— Где?
— Назовите имена сослуживцев?
— Фамилии!
— Ну? Язык проглотили?
Гибкая нагайка, ах, как льнет к спине, к плечам ластится, а свинцовая пулька на конце татарской этой плети долбит, точно дятел по живому месту.
— Учился в Валмиерском учительском семинаре, в гимназии Людендорфа в Валке, могу еще присовокупить духовную семинарию в Пскове, коммерческое училище в Олаве, образцовую гимназию Критыня — все, что вам будет угодно. Бейте еше, язык пока ворочается, ума у вас, надеюсь, хватит понять, когда говорит плетка, а когда рассудок!
— Молчать! — вспыхнул Пятак. — Ответьте в письменном виде. Пишите разборчиво и не вздумайте уклоняться от дачи показаний.
Где получили образование?
В Кулдигской семинарии, в Валкской семинарии и в гимназии.
Где жили в Двинске?
Постоянного местожительства не имел.
Где остановились в Риге?
Постоянного местожительства не имею.
Где чемодан с вещами? Адреса знакомых?
Чемодана у меня нет, в Риге никого не знаю.
И подписался:
А. Карлсон.
Да этот человек над нами издевается! Доколе мы, высокие чины полиции, будем терпеть! Он воображает, что здесь церковноприходская школа, пансион для благородных юношей, ему кажется, что здесь сиротский приют, ночлежка для бездомных, еще, чего доброго, возомнит, что угодил в райские кущи, ну, нет, шалишь, голубчик, мы не кончали курсов хорошего тона, следить за осанкой, выше голову, смотреть прямо, приближаясь к даме, отвесьте легкий поклон, изъясняйтесь изысканно, изящно. Не вытирать руки о скатерть, не сморкаться с помощью пальцев, соблюдать приличия, но только не с вами, уважаемые революционеры, не с вами.
Михеев схватил ручку.
— Пиши то, что нужно! Не будешь? Глаза выколю, по одному выковырну!
Глаз — орган зрения, воспринимающий световые раздражения внешнего мира. Глаз устроен по принципу камеры-обскуры или наоборот: камера-обскура устроена по принципу глаза, что разъяснит вам любой фотограф, веки, ресницы, мышцы, роговая оболочка, зрачок, слезные железы, они мне даны природой, я не могу вам позволить испортить мои глаза, уважаемый господин полицейский, извольте, я напишу.
Вежливо, но решительно отобрав у Михеева ручку, Карлсон как бы в раздумье в верхней части листа стал чертить загадочные знаки, потом положил ручку на стол.
— А ну подать сюда Охотника за скальпами! — крикнул потрясенный Михеев. — И держите парня покрепче за руки!
И перерыли они древние пергаменты, и отыскали в них описание древних пыток, и посыпались на голову удары, маленьким таким молоточком по наковальне, легко-легко, и все в одну точку, пиши то, что надо, пиши то, что надо…
КАРЛСОН РАЗМЫШЛЯЕТ О СЛОВАХ
Бледно-розовые розы уже отцвели, я увядающих лепестках ползали глянцевито-зеленые жуки.
Чем они были заняты?
Собирали нектар, розовое масло? Иногда жуки перелетали с одного цветка на другой, окружив себя прозрачным хрупким нимбом трепещущих крылышек, и казалось чудом, что жуки летают.
Бог на санскритском языке означает небо.
Человек, познавший тайны слов, многое поймет, человек, добравшийся до сути, разгадавший, изучивший, коснется самых основ, что значит умереть, откуда взялось слово «смерть», la morte, marnam, mors, mord, murtlier, smertis? Что станет co мной после смерти? Нет, нет, такие вещи меня не волнуют. Пустопорожняя философия размагнитит волю, размягчит характер, станет он шатким и податливым — восковая кукла в руках полицейских, в детстве я играл с надутым свиным пузырем, засыпанным горохом, нет, лучше не вспоминать, весь горох пересыпали мне в голову.
Например, что такое Межгайлис? Межгайлис в переводе означает — лесной петух. А кличка у этого человека Ланса. Иначе сказать — лиса. Петух и лиса, возможно ли в одном лице более странное сочетание? Казалось бы, что делать петуху в лесу? А лесной петух — глухарь поет в лесу серебряную песню. Может, дед его был знаменитым доезжачим, серебряным петухом на макушке ели, дул в охотничий рог, и, раздавая имена, помещик нарек его Межгайлисом, Лесным петухом, Глухарем, говоря иначе. А может, предок его, крестьянин, все больше по лесам скитался, тощий харч богадельни сдабривая ягодой — земляникой, малиной, голубикой, брусникой, черникой, клюквой, собирал себе ягоды и при этом пел дрожащим фальцетом, пел песню лесного петуха, песню глухаря, сластены-ягодника, пел песню, весню, лесню.
А Лиса потому, что филеров и шпиков был мастак вокруг пальца обвести, хитрющий парень, так и заработал себе кличку, обводя полицейских вокруг пальца, только почему же вокруг пальца? Не вокруг дома, квартала? И вдруг открылась глазам широкая, длинная улица, и вдоль по улице широкой, вдоль по улице мощеной братца родного ведут.
и по улице широкой, и по улице мощеной красна кровушка течет, красна кровушка течет,
может, оттого булыжники мостовой со временем краснеют?
Ночь, лепет листьев, златорогий месяц в небе, люблю я ветреные дни, когда дождь набегает порывами, облака летят, сдирают шапки, то застят, то открывают солнце. Тысячи и тысячи все еще стоят в стороне, тысячи и тысячи спят еще беспробудным сном, выжидают, и свинья, мол, не моя и огород не мой, меня, мол, пока не прижали, чего горячку пороть, людоеды живут только в джунглях, и наконец, нельзя же забывать просветительского влияния миссионеров, хотя иной миссионер пока оказывает влияние лишь на органы пищеварения. Как-нибудь все само собой уладится, все будут сыты, обуты, одеты, вдоволь обеспечены, тогда и царь смягчится, подобреет. Пая-пая-паинька, и никто тогда на рожон не полезет, да и куда нам, и той горстке бунтарей — куда им! Ну конечно, у одних есть все, те со вкусом прожигают жизнь, после сытного обеда, пополуденного сна предаются праздным мечтаниям, ищут смысл бытия в проведенном вечере за икрой и шампанским, у других же нет ничего, и те смысл бытия ищут в работе и ждут не дождутся, когда и к ним придут достаток и довольство, ибо, как говорится:
и у нас ничего не было, но мы копили, теперь у нас есть. Копите вы, и у вас будет, стучите, и отворят вам.
Они стучали, им отворили, отворили им, пригласили войти, и они убиты, и затворились ворота, и опять возникли огненные письмена, стучите, и отворят вам, только дураков все меньше, самодержец смекает, не к добру все это, ведь опорой деспота служит горстка умных подлецов и море олухов, есть еще и третьи — недоумки, недомерки, недоучки, недомыслы, недотепы, недоноски, недолеты, недогляды, недовески, недородки, словом, недочеловеки. И уж эти-то прекрасно понимают, что при другом режиме не снимать им пенки из большой российской миски, оттого они и самые ретивые заступники самодержавия, встают и ложатся с именем монарха на устах, встает и ложится Охотник за скальпами, и больше всего на свете получеловеки ненавидят образованных, интеллигентных, чутьем постигая, что люди широкого кругозора никогда не станут опорой царизма, что они найдут себе место в обещанном партией обществе будущего. И потому-то недоумки объединяются в особый орден, без устава и правления, а девиз того ордена: тридцать сребреников, и хоть трава не расти. Из ордена выходят шпики, филеры, доносчики, соглядатаи, надзиратели, провокаторы, предатели, гнусное шпионское отродье плодится на задворках ордена, черносотенцы, погромщики, наемные убийцы, истязатели — словом, цветы зла, цветики с голубыми глазами, с темными, карими, зелеными, глаз — орган зрения, и цвет тут ни при чем, орден тридцати сребреников— парша человечества, позор его, и жаль, что природа наделила этих тварей теми же чувствами, что прочих смертных.
Одиноко сойдешь в могилу, одиноко будешь лежать в сырой земле, одиноко будут над тобой проноситься птицы, одиноко шелестеть будут осени. Вечная слава погибшим, вы слышите нас, слы-ышите? Мы, живые, вышли мстить за вас, чтоб было другим не-по-ва-адно! Не-по-вад-но-адно, били жадно, жажда… Боженька санскритский, небонько родимое, льет который день, затычка, что ли, из бочки небесной выпала, дождь барабанит по черепу, голому черепу,
не спрашивай, куда девалась Удача, не поможет опа, не поможет, заплутала где-то, шлюха, сбилась с круга. Разразит тебя гром, будешь говорить такое про Удачу, — клюквенным бором, болотом брела Удача, с песней выбралась на простор, собирай вещички, ступай вслед за Удачей, свет посмотреть, себя показать,
в том поместье пьяно пили
драгуны, драгуны,
в зеленом вине усы мочили.
Той порой овин спалили
и помещика убили,
и гуляет по округе
красный петух,
на том свете пьяно пьют
драгуны, драгуны.
И четыре коня увидят мир, и сидящие на нем называются: мор, голод, огонь и вода. Четыре коня вспашут землю, из четырех севалок посеют мор, голод, огонь и воду, в четыре косы скосят, в четырех квашнях замесят хлебы ненависти, хлеб из праха, хлеб из смерти печь будут людям, пусть поедают в
слезах свой ломоть, пусть в зубах застревает мякина бренности, пусть воспалятся десны от корки жестокосердия, а если хотим, чтобы было иначе, мы должны победить, судьбу победить,
а молоточек — дек-дек-дек, — декамерон мне нужен, не декаданс.
Стершийся язык, набившие оскомину слова, заезженные сравнения, примелькавшиеся образы, да простит мне Вельзевул, но кровь не стынет в жилах, портится кровь, разжижается, вскипает, избитые шутки, лубочная восторженность, слюнявые целования, беспомощные эпитеты, рыхлый стиль и бессилие, во всем бессилие, декаданс, словно старец лет семидесяти на тощей кляче верхом на смотрины едет.
Сваты скачут верховые — совсем другое дело, да не знаю, будут ли когда-нибудь еще справлять свадьбы со сватами? Схватить их, схватить, скачут сваты голубой гречихой, сваты смерти схватят всех товарищей, розовая лилия на озере, на самой середине, только юмор висельника стережет сознание, рассудок, сам же я, трезвее трезвого, бреду в озеро, за лилией, долго держаться против сватов, долго, долго, долго, вежливо выстукивают голову.
Нескончаемая вежливость утомительна, разъедает душу, как и ненависть, нескончаемая вежливость — и не стихает ненависть, два крыла колыбели чувств, в приторном сиропе можно утонуть точно так же, как и в луже крови, убийцы, верша свое грязное дело, не должны своими мерзкими устами пятнать язык народа, на каком бы языке ни говорили. Уж лучше бы молчали.
Увлекшись естествознанием, я в свое время наткнулся на слово «марксизм», и слово это дало мне возможность заглянуть в суть вещей. На заданный вами вопрос, уважаемые господа, отвечу без околичностей:
частная собственность — вот вечный двигатель, порождающий убийц. Если кому-то на правах частной собственности принадлежат люди, чувства, орудия труда, то собственник готов на что угодно, лишь бы все удержать за собой,
если же на правах частной собственности присвоена власть, обладатель ее вдвойне готов стать убийцей.
Власть — та абстракция, что зиждется на безоговорочном подчинении племени, власть издревле стояла в первом ряду вожделенных устремлений, ибо власть имущий имеет все, а самая сладкая власть — первобытная власть, при которой владеешь правом жизни и смерти себе подобных, несказанная сладость, острее и глубже, чем все остальные утехи и радости, вот что такое власть, когда владеешь ею на правах частной собственности.
Вековечно жить буду в лесу вековом с медведями, ведмедями, вековечно корчевать буду пни, вековечно возделывать пустоши, пахать, бороновать, сеять, жать, молотить, молоточек тить-тить, пить, пить… свое единственное поле и век свой буду вековать отшельником, в голове моей осы гнездо вьют.
Родная речь, дар бесценный, из поколения в поколение собираемый, умножаемый, дубрава величавая, древо древнее, сквозь годы тянется к нам, и день ото дня зеленее, нам доверен шифр, и если разгадаем тайну слов, откроем смысл жизни,
мой братишка, совсем глупыш, шести месяцев от роду, решил, что летать естественно для человека. Братишку не пугала высота, он то и дело порывался свалиться со стола, куда его усадили, перед тем как накормить, — птенец, да и только. Малышу казалось, что, выходя из затхлого подвала, взрослые разлетаются вольными птицами, малыш понятия не имел ни о собственной тяжести, ни о силе земного притяжения, он еще не коснулся своей розовой стопой серой земли, — стопа ребенка на земле, стопа дьявола на камне, стопа надежд на небесах,
и каждый вечер мать пела братишке колыбельную и, как птичку, вскидывала вверх на поднятых руках,
Ты куда полетел, ястребок,
на воскóвых крылышках?
Мне хотелось докопаться до глубинного смысла тех слов, узнать происхождение песни, отыскать ее в древних свитках, выявить корни и связи, почему же все-таки «восковые крылышки»,
этакая кроха барахтается в своей колыбельке, норовит поближе подобраться к тряпичной кукле, в то же время за сотни верст от города другая такая же кроха пытается половчее ухватиться за сушеный свиной пузырь с гремящим горохом внутри, и множество подобных им крох ползут на четвереньках, эти тоже еще не открыли мира, никого не видят, кроме родителей, им еще невдомек, куда попали, в какой котел заброшены. Что скажете вы, когда подрастете, когда поймете, куда попа-ли? Мама, почему мы впятером живем в тесном подвале? Дедушка, почему другие дети едят в школе хлеб с маслом? А сестра перестала ходить в школу, потому что должна работать на фабрике? А наша бабушка умерла потому, что у нас не было лекарства? А меня тоже когда-нибудь покатают на извозчике? И что мы им ответим, если все останется по-прежнему?
Вей, ветерок, гони лодочку,
Ты свези меня в Курземе,
Где богатая хозяйка
Дочку выдать обещалась.
Попробуй-ка из батраков в богатый дом посвататься, тогда узнаешь, красна ли хозяйская доля. Помещик будет драть тебя как липку, государство задавит налогами, и от родни не видать покоя,
пил и ел на свои деньги,
на своем коне катался!
Ибо ничего другого не остается, коли хочешь выжить и остаться в здравом уме.
Можно, конечно, и так. Но мне иная жизнь по душе.
Если пойдут среди нас раздоры, победы нам не видать, но кует полицейский молот, воедино сплачивает полицейская дубинка бесправия, дубинка бедности,
жить — значит медленно умирать? Или жить — наслаждаться? Или жить — бороться? Или жить — мечтать? Или жить — мудрствовать? Философия, София, фия, ия, я, а может, жить — значит любить?
Встать поутру, наскоро съесть ломоть хлеба, запить кофе с цикорием, потом — на фабрику, четырнадцать часов вкалывать за семьдесят пять копеек, вечером выпить водки, бухнуться в постель, при чем тут смысл жизни? Детей растить, в тряпье копаться, и вся жизнь — огромная куча тряпья, нищета растлевает душу, человек плетется огородным пугалом, стоит бледный, посреди цветущего сада жизни, на тощих плечах болтается выцветший пиджак, хрустят костлявые коленки под пестрыми заплатами, ноги босы, под ногтями грязь, таким он возвышается над державою, великаном в лохмотьях, птичьим пугалом, впрочем, какое дело ему до птиц, равнодушная ухмылка на испитом лице, ветер шевелит редкие волосы, что проросли сквозь дырявый картуз, гуляет ветер над шальной головой птичьего друга, птицам хорошо на воле.
Есть и другой вариант.
По воскресным дням надевает он новенькую пару, до блеска надраивает башмаки и отправляется в церковь. Чем не барин! Черный нафабренный ус, руки отмыты с помощью мыла и щетки, владеет тремя языками, наловчился дамам комплименты говорить. В кармане у него золотые! Тешит ухо слово «золото», шелковистое такое, округлое, неуловимое, как песок кладбищенский, только прикоснись к нему, потом руки отмывать надо щеткой и мылом? Ничего подобного, «золото» звучит убедительно, рабочий с золотыми в кармане. И при этом еще недоволен. Он может купить английское трико на костюм, австрийские туфли, французский галстук, облачиться в сорочку из тонкого полотна латвийского производства, надеть русскую меховую шапку — скажите на милость, чем не барин? Так нет же, он недоволен. Прячет под полою бомбу, за пазухой листовка, хулящая монарха, годами бродило недовольство, тайное, крепкое, и теперь вот, выбродив, поутру поднимается тесто, за день вовсе дойдет, к вечеру через край побежит.
Как-то он себя поведет?
А третий — землепашец, соль земли, ноль без земли, этим все сказано, тут не просто игра слов, соль земли, ноль без земли.
Нам, нам-то чего бояться, слышу, вы похваляетесь, мы, мол, дети божьи.
Вы дети божьи, а я дитя человечества, и к братьям моим перейдет отмщение. Ни на миг обо мне не забудьте. Дай мне силу, природа, дай силу, земля, силу выстоять, камень праведного гнева черен, что совиная кровь, укрепи меня, дай мне силу, пепелящую, как пламя! В кромешной ночи взрастили вы черный камень гнева, поутру расцветут на лугу цветы силы, и сила земли перельется в меня, товарищей прошу исполнить последнюю мою просьбу, все должны получить по заслугам, из праха я встану, птицей огненной взовьюсь над островерхими крышами баронских замков!
— Ну, теперь-то, может, образумишься?
— Слышишь, тебя спрашивают?
— Сейчас с тобой будет разговаривать господин пристав!
Карлсон все слышал, все понимал. Полицейские говорили отдаленными, приглушенными голосами, бойкие гномики тюкали молоточками по черепной коробке, в ушах гудело, тело стало невесомым, жужжали, жужжали жуки, голова каким-то чудом держалась в прямом положении, бледно-розовые розы уже отцвели, и голова временами перепархивала с цветка на цветок. Когда ж это было? Ну да, сегодня утром, девчушка розовым светлячком пробежала по коридору, я не смел ни о чем спросить госпожу докторшу, в квартире был кто-то чужой, не смею думать об этом, не смею думать, голова каким-то чудом держалась в прямом положении, соображая, не проболтался ли хоть в чем-нибудь, пока был без сознания? Господин пристав мне безразличен, пусть себе приходит, я даже перепорхну поближе к господину приставу, я покину бутон бледно-розовой розы.
— В связи с тем, что в Лифляндской губернии введено военное положение, губернатор предоставил нам право расстреливать мятежников и агитаторов, не дожидаясь решения суда. Возможно, вам приходилось слышать о подобных случаях. По дороге в Центральную тюрьму арестованные пытаются бежать, обычно их пристреливают у железнодорожного переезда. Так решено поступить и с вами.
Тотчас в комнату вошли пятеро солдат — в шинелях, с подсумками, винтовками.
— Унтер!
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!
— Этого парня доставить в тюрьму, но так, чтобы не сбежал по дороге!
— Не убежит, ваше высокоблагородие!
— А на тот свет убежит?
— На тот свет убежит, ваше высокоблагородие!
— Не церемоньтесь, ребята, незачем везти его на кладбище, — добавил кто-то издалека, — пристрелите прямо под забором!
КАРЛСОН РАССУЖДАЕТ О КЛАДБИЩАХ
Кладбище — кладовая мертвецов, куда рано или поздно мы все попадем, где встречаемся, уравниваемся в правах.
Возможно ли это — уравняться в правах?
Я видел сельские кладбища, на южной стороне там росли дубы и липы, а на северной — ели, березы и сосны. Местные толстосумы покоились под дубами и липами, а мелкоту всякую, бобылей, батраков, издольщиков хоронили под березами, елями, соснами. Так что и под землей равноправия нет. Никогда бедняку не попасть в компанию богачей, даже в сырой земле, а богач не потерпит соседства с прахом малоимущего. Разве что на полях Маньчжурии сын богатого хозяина и батрацкий парень, оба японской шрапнелью разорванные, хоронились в братской могиле. Там конечно, а здесь, в Лифляндии, западной губернии России, на благоустроенных кладбищах ничего похожего произойти не может, здесь соблюдают приличия. И уход на кладбищах не везде одинаков, на одном конце, глядишь, могилы бурьяном заросли, крест покосился, надписи не разобрать, должно быть, последыш оскудевшего рода лежит там, неторопливо беседуя с червями о бренности земной жизни, об астральном бытии своих близких где-то в заоблачных сферах.
Я знаю человека, который утверждает, что Латвия со временем станет сплошным кладбищем, ибо кладбище то место, куда в конце концов на пир червей пожалуют все как один и где без остатка переведется наш народец, и еще тот человек проповедует, что только таким путем мы можем освободиться от царя, губернатора, жандармов, полицмейстеров и наших собственных дойчмейстеров, властолюбивых и раболепных черных баронов. Другого пути нет, так говорит он, только через кладбище, через посредничество червей мы можем, братья, отправиться в совместное плавание по вольному эфиру. У него нет детей, и он вещает, что все благоразумные латыши должны последовать его примеру. Дети для нас обуза, уверял этот поборник червей, апостол вымирания, соглядатай праха, ибо, рождая детей, мы рождаем новых рабов для царизма, в жизни не видать нам народовластия, свободы, кладбище — вот место для этого, и только на кладбище мы освободимся от своих оков. Так что, братья, угаснем без боли, совершим всеобщее самоубийство, рассеемся как народ, ибо, говорю вам, все равно нас перемелет жернов, именуемый царизмом.
Так проповедовал этот пустоцвет, я его знаю, меня воротило от подобных речей, и всякий раз хотелось тотчас бежать к женщине.
На кладбище похоронены многие, лежат под крестами, еще больше лежат без крестов, лежат под солнцем, не потому ли солнце символ моего народа? Солнце в общем-то символ братства всех народов, все кладбища на земле лежат под солнцем, и все кладбища под землей лежат под солнцем, и как знать, может, смерть для бедняка сейчас — лучшее из того, что он способен обрести на земле?
В Дурбе я выступал перед батраками, стоя на баронской могиле. Барон окружил свой склеп чугунными цепями на каменных столбах, цепи окружали усыпальницу из камня, точно так же как неправда окружала жизнь барона, но об этом не хочу сейчас думать.
Лучше всего на кладбище, когда шумят на ветру деревья и ни души кругом. Кладбища всегда расположены в красивых местах. А наступит ли день, когда кладбища опустеют? Нет, не наступит, на кладбищах вечно будут покоиться усопшие, но где же наши древние курганы, древние могильники, где покоятся те, что первыми подняли оружие, где память о них? Если мы забудем их, то и наши могилы будут забыты. Смерть в пламени костра на плоту посреди озера, смерть в огне — прекрасно почить с миром, с длинной седой бородой, с семнадцатью внуками, семнадцатью маленькими пролетариями,
пролетарии всех стран, соединяйтесь, пока живы на земле, соединяйтесь,
и мой народ будет долго жить.
Кладбищенский гравий хрустит по-особенному — чем-то похоже на хруст соли, а трава на кладбище густая и сочная, каменная ограда заросла зелеными мхами, плотный мох забвения покрывает камни, зарастут ли точно так же и наши обиды?
Чем живут мхи на камнях? Земля принадлежит всем, но кому принадлежало первое зерно?
И кому принадлежали шесть последующих зерен, что выросли на первом колосе? А следующие шестью шесть породили собственника? И вот уж место на кладбище приходится покупать за деньги, потому что земля принадлежит не тем, кому за все воздастся на небесах и кому на земле живется не лучше, чем в аду.
Если человек перепашет кладбища и засеет их, разве то грех? А куда подевались воинственные латники, что топтали нашу землю? Спят под тяжестью пшеничных колосьев, спят под шелест ржаных полей, судьба у них завидная, сами того не ведая, питают природу, так перепашем же кладбище врагов своих от моря до моря.
Но кто же мой враг? Фон? Господин? А тебя самого не так величают? Товарищем тебя называет лишь узкий кружок. И тебя свезут на кладбище, и на кладбище будет шуметь листва, и придет пахарь, вспашет поле, посеет пшеницу, а ты будешь спать под пшеничным колосом, будешь спать под шелест ржи, но будешь ли свободным, выйдешь ли победителем?
Если шестью шесть колосьев останутся в руках одного и еще раз одного, и еще и еще раз шестьдесят на шестьдесят раз он присвоит их себе?
Может, потому они и расстреливают нас по закраинам поля, чтобы сеять пшеницу на наших костях. Всю землю хотят сделать кладбищем и затоптать его копытами и солдатскими сапогами.
Ясени и липы растут на кладбище, ели, сосны, дубы, вязы — да есть ли такое дерево, что не растет на кладбище? И есть ли такой человек, что минует кладбище? А коли так, не лучше ли все отринуть в сторону? Растить колосья, ковать плуги, рожать детей? Не лучше ли понежиться на жарком лоне женщины, чем сойти в лоно сырой земли? Не лучше ли пить пиво из прохладной глиняной кружки, чем жадно слизывать кровь с рассеченных губ?
Я уже дал ответ. И могу быть спокоен.
Незачем везти на кладбище, пристрелить прямо под забором! Может, боятся, что и после смерти мы поднимем против них все кладбища, и однажды, проснувшись среди ночи в своем замке, они узрят гремящие костьми скелеты с пылающими факелами в фалангах пальцев, и вся Россия воспламенится от тех факелов?
Я не увижу.
Другие.
Мой путь окончен, кладбище, скудельница, каменная ограда, мягкими мхами поросшая, с кладбища нет возврата, смерть — бессрочная эмиграция.
Карлсон надел роскошную на рысьем меху шубу, надел легко, даже спины своей не почувствовав. Он был спокоен и равнодушен. Что ж, расстреливайте. Не напускное то было равнодушие. Если расстреляете человека, задавшего вопрос, неужто думаете, и вопрос вместе с ним исчезнет? Это недолго, всего один миг. Преисполненные рвения лица солдат говорили, что они быстро и ладно обделают бесславное дело.
Встал солдат слева, встал солдат справа. Впереди солдат, сзади солдат, здоровенные служаки, от шинелей пахнет махоркой и щами, в окружении солдат Карлсон вышел из комнаты.
— Назад! — рявкнул вслед Пятак.
В распахнутую дверь его, как пирог, собравшийся было раньше времени из печки выскочить, впихнули обратно.
Поработали над ним изрядно. Девятисил в ход пускал кулаки. Охотник за скальпами тюкал, и нагайка потрудилась, потом и кровью смоченная, затем еще исповедальня, и все впустую, ни слова не сказал он им, не утолил их любопытства, и все, кто был в комнате, в ярости уставились на Карлсона.
Спавший на диване чиновник между тем проснулся, потягивался полулежа, хрустел суставами, покрякивал от удовольствия, разминал ладонями похожее на лепешку лицо.
— Пришлось сбрить усы, — сказал он Карлсону, — ничего не поделаешь, в интересах личной безопасности пришлось поступиться мужской красой!
Карлсон слушал его с недоумением.
— Я Грегус, — объяснил развалившийся на диване чиновник. — Что, не слыхал? Знаю, знаю, по всему городу за мной гоняетесь. За усатым Грегусом. А я взял и сбрил усы! Каково, а? Не слыхали обо мне? Ну-ну! Думаете, тут шуточки с вами шутят? Как бы не так! Запрут в карцер, будут морить голодом, пока не сознаетесь. А не сознаетесь, расстреляем. Нам нужны козлы отпущения, мы их и находим. Отправьте его вниз, ребята! — приказал он солдатам. — Пускай денек посидит. Одиночка освободилась, засуньте его к тем четвертым. Авось образумится!
VII
Только Розентала той ночью не тронули, он меньше всех вызывал подозрения: человек в летах, документы в порядке, паспорт в полицейском участке отмечен, живет в Риге. Единственная причина для ареста — почему пытался убежать через черный ход?
Розентал объяснил: он занимается продажей газет и торопился поскорей попасть в газетную контору, боясь, что проверка документов задержит его — потом объясняйся с хозяином.
Хуже всего обстояло дело с Межгайлисом. Он лежал в отдельной камере с поломанными ребрами.
В субботу в восемь утра в приемную полицейского управления явилась молодая дама и попросила разрешения передать арестованному коммерсанту Карлсону передачу.
С утра дежурили двое чиновников. Одним из них был Спицаусис. После неудавшейся облавы на улице Дзир-наву, где Спицаусис не смог опознать дружинников среди посетителей харчевни, он был понижен в должности и на неопределенное время назначен простым надзирателем.
— Раз не умеешь отличать смутьянов от порядочных людей, дадим тебе возможность понаблюдать социалистов в непосредственной близости, — так рассудило начальство.
Само собой понятно, что понижение в должности ударило по кошельку Спицаусиса. Однако ему было известно, что у надзирателей тоже имеются свои небольшие статьи дохода. Начать с того, что по закону каждому арестованному полагалось семь копеек в день на питание, на те деньги, правда, можно было купить всего-навсего два фунта хлеба и пару соленых огурцов, но и эту ничтожную сумму надзиратели зачастую прикарманивали. Они собирали деньги с самих заключенных, один из надзирателей покупал продукты и раздавал все по камерам. Охотно принимались передачи. И сегодня Спицаусис передал сверток для господина Карлсона, предварительно проверив его содержание. Спицаусис был настолько любезен, что осведомился у дамы, не пожелает ли она завтра прийти на свидание с господином Карлсоном. Сегодня это никак невозможно устроить, потому что дежурит старший надзиратель, большой брюзга, а вот завтра, если угодно, пожалуйте к восьми и за небольшое воздаяние, всего пять рублей, Спицаусис берется устроить свидание. Да, кстати, кем дама доводится Карлсону? Родственница? Дама ответила, что невеста. До скорого свидания, галантно раскланялся Спицаусис.
Получив передачу, почему-то обернутую в грязный лист газеты «Ригас Авизе», Карлсон прежде всего внимательно проглядел газету. В верхнем углу едва заметно ногтем было нацарапано: «приду», а в нижнем по диагонали надпись — «Епис».
Это я-то не умею отличить порядочного человека от смутьяна, возмущался Спицаусис, разглядывая Карлсона сквозь решетку камеры, одно из двух— или этот господин не социалист, или же и социалист может быть порядочным человеком! Но эту еретическую мысль Спицаусис оставил при себе.
Поскольку торговец Карлсон стал камнем преткновения в его карьере, Спицаусис решил удвоить бдительность в отношении Карлсона. Он, Спицаусис, докажет начальству, что в состоянии распутывать самые запутанные дела. Он выведет на чистую воду таинственного торговца, конец клубка, считай, у него в руках, в воскресенье утром явится дама, он даст им возможность встретиться, понаблюдает, о чем будут говорить, послушает, какие у них мысли в голове, а его коллега, такой же шустрый парень и опытный сыщик, как он, проследит, куда потом отправится прекрасная дама. Таким манером Спицаусис вернет себе не только прежнюю должность, но, глядишь, схлопочет еще и повышение.
Полицейские тоже люди, им тоже положен отдых. В субботу вечером допросы не проводились, потому как уважаемая комиссия в полном составе поехала в театр посмотреть спектакль, и ночь с субботы на воскресенье прошла сравнительно спокойно.
Воскресным утром, в семь часов сорок пять минут, Спицаусис велел отпирать камеры и выпускать арестантов группами умываться.
— Погуляйте по коридору, господин Карлсон, — великодушно разрешил Спицаусис. — Если хотите что-то купить, можете послать человека. Я распоряжусь. Но, возможно, вас опять сегодня посетит очаровательная невеста. Вам, должно быть, не терпится с ней увидеться, да?
— А вы как думаете, господин надзиратель?
— Она просила меня устроить свидание, — искушал Спицаусис.
— Что же вам мешает выполнить просьбу, господин надзиратель? — спросил Карлсон.
— Ну, знаете ли, разные побочные расходы. Сами понимаете, одному нужно глаза отвести, другому рот замазать.
— Три рубля! — предложил Карлсон.
— Если торговец дает три, значит, товар стоит все пять, — решительно возразил Спицаусис.
— Последнее слово: четыре, — сказал Карлсон, доставая бумажник.
— И в тюрьме торгуется! — с укором произнес Спицаусис, выхватывая деньги. — Подождите немножко, — предупредил он, — пойду взгляну.
Немного погодя он вернулся, немало смущенный.
— Пришла ее сестра. Ну да ладно, пусть будет по-вашему. Следуйте за мной в антропометрическое отделение. Разумеется, наедине вас не смогу оставить, должен буду присутствовать, поймите меня правильно, я рискую потерять место.
Он привел Карлсона в антропометрический кабинет и оставил его там одного. Кабинет почему-то был жарко натоплен. Оса, должно быть, зимовавшая за печкой, разомлела от тепла, в голове у нее все перепуталось, и она закружила под потолком, временами опускаясь совсем низко, делая грозные заходы над Карлсоном.
Самочувствие было сносное. В голове тупая боль, зудела спина, и все-таки он чувствовал себя сносно. Все это мелочи по сравнению с назревавшим событием. Он не имел понятия, какую из сестер невесты к нему прислали на свидание. Кто она? Удастся ли с ней обменяться хоть несколькими фразами? Не провокация ли это?
Сорочка на груди запачкалась от пыли и пота. Он снял галстук, завязал его крупным узлом, чтобы закрыть грязную сорочку. Причесался. Даже небритый, вид он имел вполне пристойный.
В коридоре зацокали каблучки, прошелестело платье, и в кабинет вошла Аустра Дрейфогель. Следом за ней появился Спицаусис. Притворив за собою дверь, он скромно устроился на скамейке.
У Аустры при себе оказалась корзинка, с которой обычно ходят на базар, в ней что-то аппетитно пахло и булькало. Аустра поставила корзинку на стол. Карлсон поднялся.
— Адольф! — сказала Аустра. — Похоже, у вас был загул! Костюм помят. Глаза заспанные! Что с вашей сорочкой?
Прежде чем он успел ответить, Аустра подошла к нему, приподняла галстук, оглядела грязную рубашку.
— Завтра принесу вам смену белья! А пока получите пищу.
Аустра принялась выгружать на стол принесенные продукты. Жареная свинина, масло, хлеб, дюжина апельсинов, колбаса. Бутерброды с сыром, холодные котлеты. Две бутылки лимонада.
— Прошу вас, вы, должно быть, захотите проверить, — обратилась Аустра к Спицаусису.
Надзиратель встал, вынул из бумажника длинную иглу и ловко исколол ею мясо, котлеты.
— Проверьте и бутерброды, — предложила Аустра, пододвинув их поближе.
— Да чего уж там бутерброды, — отозвался Спицаусис, — не могу я колоть хлеб иголкой. Душа не позволяет, мать меня сызмальства научила хлеб почитать.
Сказав это, Спицаусис так же проворно проколол иголкой хлеб и, с удовольствием облизнув иголку, спрятал ее в бумажник.
— А вот лимонад не могу позволить. Бутылки вносить запрещается!
— Да ну? — удивилась Аустра, — Как же быть?
— Выпейте прямо здесь.
— А стаканы?
— Стаканы раздобудем.
Не спуская с них глаз, Спицаусис дошел до двери, крикнул в коридор:
— Павел Валерьевич, принеси пару стаканов!
Павел Валерьевич принес.
Карлсон еще не сказал ни слова. Аустра с нежностью глядела на него.
Отлично играет, и до чего ж хороша, подумал Карлсон, и его охватила внезапная радость, хоть он и понимал, что это только игра, конспирация, Аустре от этого ни холодно, ни жарко, при других обстоятельствах она бы на меня так не смотрела — кушайте, а то суп остынет, смотрела бы глазами святой Магдалины, э, чего там, все мужчины одинаковы!
Не говоря ни слова, он сдернул пробку с лимонада. Бурлясь и булькая белой шипучей пеной, лимонад наполнял стакан. Обалдевшая оса, одуревшее насекомое, полосатая козявка, почуяв сладкое, очертя голову ринулась в каскад струи, там ее закрутило, она исчезла в лимонадовороте, и Аустра, сделав глоток, ощутила на кончике языка тонкий, но пронзительный укус.

— Ай! — вскрикнула она и выплюнула осу. — Тьфу, тьфу, тьфу, — выпалила Аустра, в то время как оса уже корчилась на полу. — Она меня ужалила в самый кончик языка!
— Ничего с тобой не случится, — сказал Карлсон, неожиданно переходя на «ты». — Ничего с тобой не будет.
— Как это ничего! Язык распухнет, целую неделю слова не вымолвишь!
— Ничего с тобой не будет, — повторил Карлсон с еще большей твердостью и нажимом.
— Вот как? Почему же со мной ничего не будет? — обиделась Аустра. В самом-то деле, что она, не человек, что оса не может ей сделать больно.
— Потому что язык у тебя поострее осиного жала, — спокойно ответил Карлсон.
Лицо у Аустры слегка вытянулось, она высокомерно пожала плечами, потом вдруг покатилась со смеху, смех рассыпался мелкой трелью, звенел школьным колокольчиком.
— А жало, — проговорила она сквозь смех. — Посмотри, не осталось ли жала на кончике языка! Бэ-э! — И она высунула свой румяный язычок. — Бэ, бэ, с тобой, с толстокожим, и вправду ничего бы не случилось, ужаль тебя оса!
Так они язвили друг другу, ни о чем всерьез не разговаривая.
Отпив глоток лимонада, Карлсон сказал:
— А жаль, ты не взяла с собой конфет! Пригодились бы к лимонаду.
— Хорошо. В следующий раз захвачу, или Анна сама принесет. Надеюсь, господин пристав позволит? Да, да, понимаю, — сказала она, обращаясь к Спицаусису, — побочные расходы! Это мы уладим!
— Гм, гм! — Карлсон многозначительно глянул на плутоватую физиономию Спицаусиса.
— Я вынужден прервать свидание, — сказал Спицаусис. — На сегодня больше нельзя. Прошу даму проститься. Охотно увижусь с вами в другой раз. Мне полагается еще неделю отдежурить в наказание за то, что препятствовал вашему аресту. — Это он сказал Карлсону, а Аустре добавил: — Да будет вам известно, барышня, я всего-навсего скромный надзиратель.
— До свидания! — Аустра смотрела на Карлсона. — Вели себя хорошо, а в понедельник жди свою милую!
Проводив посетигельницу, Спицаусис еще раз перебрал в памяти весь разговор. Ему показалось, что где-то он видел эту барышню, однако в ночь с субботы на воскресенье Спицаусис выпил с горя, и память у него отшибло, иначе бы он припомнил, что видел Аустру в собственной харчевне. Сейчас под впечатлением легкомысленных разговоров Спицаусис все более утверждался во мнении, что Карлсон арестован по ошибке. Разумеется, откуда Спинаусису было знать, что конфетами дружинники называют маленькие браунинги.
Спицаусис надеялся, что донесение коллеги, опытного сыщика, окончательно прояснит дело. Однако непредвиденные обстоятельства помешали хорошо начавшейся слежке. Шустрый дружок Спицаусиса, боясь попасть под дождик и простудиться (в воскресенье, пятнадцатого января лил дождь), выпил лишку и упустил прекрасную даму, пентюх этакий, болван, не смог ее выследить. В расстроенных чувствах незадачливый сыщик зашел в трактир, спросил себе водки и принялся составлять донесение, каракулями исписывая страницы записной книжки. «В упряжке была сивая кобыла, годов примерно пяти, грива на правую сторону, сбруя наборная, коляска обита голубым сукном, по краям красный кант, оглобли красные, колеса желтые, на резиновом ходу производства фабрики «Проводник». Прошу выделить транспорт для дальнейшего наблюдения, которое было сорвано по причине отсутствия оного, так как упомянутая дама на улице Карла села к лихачу в пролетку». Оставалось уповать на го, что при следующем свидании агенты сыскной полиции окажутся более расторопными.
Да будет день воскресный днем отдыха, да преисполнятся все люди на земле хорошего настроения. Томясь от похмелья, члены уважаемой комиссии опрокинули по стаканчику, по другому и под вечер были на верху блаженства. В Риге еще с тысяча восемьсот восемьдесят второго года действовал телефон, и Грегус всем своим сослуживцам и подчиненным строгим голосом возвестил, что допросы отменяются, чтобы дать возможность людям провести воскресный вечер в семейном кругу. Только господину Михееву предстояло выполнить особое задание.
Седьмой день недели человеку дан, чтобы отчитаться за свершенные дела, чтобы держать ответ перед грозным Саваофом.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Как проводили воскресный вечер всесильные мужи Лифляндской губернии? Чем был занят губернатор, которому препоручалось физическое благополучие граждан?
Какие вопросы решал главный цензор, надзиравший за благонамеренностью граждан? В каких сферах обретался архипастырь, озабоченный благонравием и душевным спасением паствы?
Что поделывал дилетант Зилбиксис? И жив ли был еще доктор Леинь? А начальник карательной экспедиции капитан Рихтер из поселка Стукмани прискакал со своими людьми на двор крестьянина Эрнеста Крива. Что привело туда капитана? Адвокат из Митавы Чаксте тем временем закреплял фундамент своей головокружительной карьеры. С помощью чего он выдвинулся?
Что поделывала старенькая тетушка Ригер? О чем толковал с товарищами Яков Дубельштейн?
Чтобы в этом кратком воскресном обзоре соблюсти последовательность, прежде всего поинтересуемся времяпрепровождением губернатора.
Балтийские бароны пригласили губернатора на ужин, и там все вместе сфотографировались.
В настоящее время губернатор в пароконной карете под охраной конвоя драгун возвращался в свою резиденцию.
Сквозь мягкий шорох шин въедливо громыхали и цокали подковы, шипы у них поистерлись, столько демонстраций приходилось разгонять, назойливый этот перестук давно надоел губернатору, он бы охотно ездил один, без конвоя. Если бы не высочайшее повеление — не подвергать жизнь опасности, губернатор был нужен, чтобы твердой и властной розгой, прошу прощения — рукой держать в повиновении Лифляндскую губернию.
Пока мысли губернатора под мягкий шорох бежали державным, надежным руслом — еще немного усилий, и в Остзейском крае воцарится порядок, конечно, генерала Орлова в город нельзя впускать, он тут и казенную собственность спалит, мятежников выкуривая, здания нужно сохранить, мятежников же уничтожить, надо распорядиться, послезавтра поеду к Николаю Александровичу, как-то он там, в Петербурге? В ровный и упругий шорох ломился назойливый топот копыт.
Но ты-то почему, великий, православный?
Этих выродков, инородцев, японских агентов, продавшихся за иностранное золото, этих еще можно понять, для них на Руси нет ничего святого, но почему и ты, великий, православный?
Разве не платили вам золотыми рублями? Разве водки мало в кабаках, девок в домах терпимости? Кто мешает вам излить душу в заунывной песне? Кто запрещает как следует подраться по престольным праздникам? Или в лавках материи мало, или хлеб слишком дорог? Или в школах инородцев не обучают на твоем родном языке? Или древние твои святыни и могильники оскверняются?
Ты, великий, православный, отмечен перед господом и царем, но и твои сыновья восстают против отечества. Не все, конечно, не все, но и одна заблудшая овца причиняет страдание господу, ради нее он оставляет стадо и идет разыскивать заблудившуюся.
Почему?
Губернатор так и не нашел ответа на мучивший его вопрос. Но он был человек здравомыслящий. Сказал себе, успокойся, успокойся, никаких волнений, никаких эмоций, никаких «ах» и «ох», никаких сожалений.
Мы притесняем их? Притесняем?
И он приосанился, сидя в карете.
Впрочем, они правы. Ты, великий, православный, еще жаждешь быть и великим правдолюбцем? Не терпится тебе признаться, перед всем миром покаяться, что мы их притесняем? Тогда мы вырвем твое жало, вырвем его! Пчела-труженица, на самого самодержца покушаешься? Вырвем жало, а работать дозволим, мед носить в улей.
У большого организма и восприятие правды должно быть большим, раздумывал губернатор, это естественно. Может, кое-где мы перегнули палку с инородцами, не признаваться же в том, однако. Чего доброго, еще отставки потребуют. А в отставку подавать мы не намерены. Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Мы не возражаем, только сначала свою смену на земле отработайте, уж тогда, под землей, в царстве червей соединяйтесь себе на здоровье.
Котелком крутого кипятка моря не согреешь.
Хуже всего, конечно, дело обстоит в городках и поместьях, куда стекается уйма народа, там с этой оравой не справиться десятку охранников, даже казачьей полусотне. Раскидать бы этих крестьян, как волков, по хуторам, пускай живут в стороне друг от друга, пускай воюет сосед с соседом, пускай перегрызутся из-за добра, пускай глотки надорвут от воя на своих заброшенных усадьбах, так рассуждал сам с собой губернатор.
Потом ему подумалось, что не мешало бы съездить поглядеть на свой родовой герб, недавно украсивший богато отделанную усыпальницу.
Там, где наши кладбища, там наша родина, еще подумал губернатор.
II
В воскресенье газеты не выходили, и главный цензор мог перевести дух. Воскресный день он проводил в детской, играя с внуками.
Главный цензор был скорее статен, нежели тучен, скорее здоров, нежели болен, скорее аскет, нежели прожигатель жизни, скорее правый, нежели левый, и, наконец, о нем говорили, что он скорее умен, нежели глуп. Толком никто не мог его раскусить, он был человек многосторонний, скорее скрытен, нежели откровенен. Чтобы в его портрете не осталось белых пятен, остается добавить, что он был скорее живым, нежели мертвым.
Покачивая на коленях внучку, главный цензор старался разогнать мрачные мысли.
Горькой стала доля цензора на Руси. В других цивилизованных странах писатели и газетчики горой стоят за свое правительство, там цензору и вычеркивать нечего, там он и горя не знает. А на просторах матушки России все обстоит иначе. Мерзавцы из кожи вон лезут, чтобы испортить человеку жизнь, отравить последние годы перед выходом на пенсию! Ладно бы всякие там голодранцы, у кого за душой ничего нет, но только подумать, что пишут, что говорят, с подмостков выкрикивают, в книжонках печатают все эти уважаемые адвокаты, литераторы, журналисты? Разве у них в кошельке не те же деньги, что у цензора? Такие же. Разве не живут они в больших, просторных квартирах? Разве сами стирают пеленки и детей выхаживают? Разве их жены стоят за плитой на кухне? Моют в квартире полы, натирают паркет? Штопают, перешивают одежду? Нет, царь обеспечил их хорошим жалованьем, большими гонорарами, и все до последней мелочи за них делают служанки, стряпухи, поденщицы, поломойки, экономки. По воле божьей, с соизволения царского могли бы использовать отпущенный им срок и себе на радость и на благо отечеству. Ибо отечество суть мы сами.
Взять тех же учителей, что призваны нести в народ свет и самодержавие, плохо ли им живется? Ну, жалованье невелико, что правда, то правда, да ведь не хлебом же единым. Может, вас инспекторы притесняют, из тощего учительского кошелька взятки выуживают? Не давайте, голуби, инспекторам! Мало, что ли, учителям цветников и роз, за которыми надо ухаживать? Так нет же, самые отъявленные ниспровергатели, самые злостные зачинщики всех беспорядков как раз учителя!
Государство улучшать вздумали?
Что эта мелюзга понимает в делах государственных?
Нелегко, конечно, распознать все их штучки-дрючки. Простой человек — с ним и разговор прост. Простой человек хватает камень и швыряет его в блюстителя порядка. Блюститель порядка сразу видит, где враг, остается лишь умело и вовремя применить оружие, и с простым человеком все кончено. А вот интеллигент куда опаснее, тот столько наплетет двусмысленностей, что ты, цензор, никак в толк не возьмешь, то ли это просто двусмысленности, то ли что похуже, вот до чего может довести ежедневное чтение таких газет, календарей, сам начинаешь рассуждать как последний смутьян, и, надо сказать, уж самому-то себе можно признаться, что царь явно переборщил, чересчур надавал обещаний, теперь не так-то легко доказать, что за всеми этими штучками-дрючками скрывается социалист.
Составляют петиции?
Это хорошо.
Пишите свои петиции, простаки, и царь, прочитав их, даст вам все свободы, каких только ни попросите, еще и сам из Петербурга босиком прибежит проверить, не притесняют ли народ чиновники, не обманывают ли его, самодержца, до слуха которого не доходят стоны простого люда. Так что пишите петиции, жизнь идет, жизнь идет, отцветает вишня, поспевает смородина, придет осень, а там зима!
III
Сколь бы странно это ни звучало, архипастырь был человеком порядочным, непорочным. В воскресенье у него, как на грех, разболелся живот, и большую часть вечера архипастырь провел в клозете на унитазе. С некоторых пор он возлюбил сей амвон, где можно было остаться наедине со своими мыслями.
«Пытки и пули, как плуг, пашут землю, — с высоты унитаза мысленно проповедовал архипастырь, — и только тот, кто ничего не смыслит в земледелии, скажет: «Смотрите, все поле черно, ничего не взойдет на нем». А я говорю вам, оно вспахано, и придут социалисты, чтобы посеять свои семена, а потом поднимутся колосья — бунтари, мятежники с оружием в руках!»
Находясь в своем клозете, архипастырь был преисполнен глубокого сочувствия к слабым и сирым и был уверен, что слабые и сирые ни за что бы не взялись за оружие, не подняли бы руку на ближнего, не доведи их ближний до полного отчаяния, безысходной бедности. Архипастырь был самый настоящий демократ и либерал, и с высоты унитаза ему отчетливо были видны глубокие классовые противоречия, он понимал, что класс его держится на деспотизме, грубой силе и отнюдь не соблюдает божью заповедь о другой щеке, подставляемой для удара.
В тишине, с высоты унитаза, архипастырь благословлял бунтовщиков, потому что архипастырю до тошноты опротивели его собратья по профессии, опротивели их ненасытность и чревоугодие, их гордыня и стяжательство, сребролюбие, сластолюбие, винолюбие. Архипастырь знал, что божьи заповеди нарушаются, да что там нарушаются — прямо-таки в грязь втоптаны. Церковь погрязла в кумовстве, семейственности, настоящие заслуги и добродетели при назначениях в расчет не принимаются. Архипастырь видел, что священники присвоили себе право открыто принимать подношения, и он возмущался этим, мир закоснел в грехах, стиралась даже грань между грехом и добродетелью — между преступлением и благим делом. Царь во всем виноват, царь этот вепрь смердящий, чтоб скорее он сдох! Благословенны те, кто грань эту вновь проведет, создаст ее заново, прочертит перстом строгим и праведным, даже если при этом посягнут и на церковное имущество, пусть даже так. И архипастырь глубоко вздохнул, помолился, помянув недобрым словом своих собратьев по профессии.
Уходя, он дернул книзу ручку, и вода с глухим шумом устремилась вниз, унося мысли его в клоаку. А пастырь твердым шагом направился к своей ежедневной рутине — крестить, венчать, божьей карой грозить с амвона бунтовщикам и молиться за здравие дома Романовых.
Да, он нарушил заповедь — не произноси ложного свидетельства, — но он также знал, что нет ему возврата, что он по рукам и ногам связан терновыми узами со своим кланом, что церковь шутить не любит, никакие отступления невозможны, приходится исполнять обязанности. Больше всего на свете архипастырь боялся с кем-нибудь поделиться своими мыслями. Если бы
его клозетные раздумья, так называл он свои размышления с высоты унитаза, если бы о тех его раздумьях узнал кто-то третий (ибо двое уже знали — архипастырь и бог), если бы узнал кто-то третий, пусть даже родственник или близкий, то мысли могли дойти до начальства, и тогда не миновать расправы.
О, она была бы тихой, незаметной, явилась бы черным ангелом, приняв образ чаши с вином или свежего хлеба. Высшие церковные иерархи сплошь все члены тайной ложи, сработал бы негласный суд, и не прошло бы и года, как архипастырь лежал бы в сырой земле.
Палач, именуемый ядом, работает безупречно, без виселицы, без топоров, без гильотины, палач этот обходится без отделения солдат, без пороха и патронов, палачу этому нужен всего-навсего один преданный друг, который плеснет несколько капель в бокал, запечет их в хлеб, впрыснет в яблоко, и палач, именуемый ядом, довершит свое тайное дело, не возбуждая в обществе излишних толков, не вызывая манифестаций, уличных шествий, скандалов, яд действует скромно, без хвастовства, яд не оставляет следов, он приходит тихо и чинно, как канун престольного праздника, обнимет тебя нежными объятиями и уведет в мир иной.
Ко всему прочему церковь возвела бы архипастыря в святые, нарекла бы великомучеником, до последней капли крови оставшимся верным делу церкви, и никто бы никогда так и не узнал его истинных мыслей.
И потому-то его преосвященство эти думы просто-напросто спустил в черные трубы, в небытие, в клоаку.
IV
Дилетант Зильиксвс ходил:-:а ипподром, хотя и не играл в тотализатор, просто разглядывал лошадей в бинокль. В семикратном увеличении он находил воплощение своих давнишних желаний.
В молодости его, непоседу, искателя приключений, занесло в сказочную страну Америку. Не сказать, чтобы Зилбиксис там преуспел. Пытался выбиться в люди и как художник, и как ваятель, и как музыкант, и как писатель— одним словом, перебрал все жанры, но повсюду терпел фиаско, так и не сумев превозмочь лавров дилетанта.
И тогда Зилбиксис занялся фотографией, используя в этом деле свои знания по части композиции, выбора полутонов, построения кадра, психологического подхода и прочее, но в пору большого кризиса в конце прошлого века ему опять не повезло — разорился.
Вернувшись в начале нового века в Латвию, он открыл в Риге фотоателье и попутно с фотографией стал активно упражняться во всех отраслях искусства в качестве признанного дилетанта.
Раньше времени поседев от выпавших на его долю невзгод, он тем не менее во всей свежести сохранил телесные и духовные силы. К тому же он вернулся на родину не с пустыми руками, а с чемоданами, битком набитыми всякими курьезами.
Так, например, там были пожелтевшие, типографским способом отпечатанные листы созданного им в Нью-Йорке музыкального опуса № 38, потом еще каталог выставки картин, и Зилбиксис уверял, что такая выставка его произведений была организована в Калифорнии. Привез с собой он несколько скульптур, монографии по искусству с дарственными надписями заслуженных авторов. Ему же принадлежал и мешочек с золотыми самородками. При всем при этом в Нью-Йорке он считался бедняком, здесь же, в Латвии, сумел оборудовать прекрасную мастерскую, обставить просторную квартиру.

Следует отметить, что Зилбиксис был мастер пускать пыль в глаза. В лавках старьевщиков накупив всякой всячины, разных экзотических штуковин, он все это продуманно расставил по полкам, и его жилье сделалось похожим на музей древностей. Украшением коллекции был сборник его собственных рассказов, изданный на английском языке в Сан-Франциско, и поскольку тираж не был указан, Зилбиксис мог смело утверждать, что продано по меньшей мере две тысячи экземпляров.
В самом деле, он умел в нужный момент подсунуть вам пожелтевшую газету с пространной рецензией на его книгу, еще ему принадлежал письменный прибор из слоновой кости, а на полке лежала стопа исписанных листов. Зилбиксис объяснял, что пишет интересный очерк о синкретизме, иначе говоря о слиянии всех видов искусств. Эту возможность слияния всех видов искусств он наглядно демонстрировал в своей большой комнате, одновременно служившей ему и мастерской. Здесь стоял мольберт, на нем непременно какое-нибудь незаконченное полотно, вполне приличное для дилетанта, а рядом, на скульптурном станке, обернутая в восковку, старательно увлажненная глиняная заготовка, в ней тоже чувствовалась известная доля таланта. Помимо этого, конечно, был рояль с очередной новинкой, опусом № 39, и еще бы не забыть отметить, что Зилбиксис одинаково забавно рассказывал о борделях на берегах Тихого океана и о картинных галереях Нью-Йорка.
В скором времени Зилбиксис сделался своим человеком среди писателей, врачей, музыкантов, журналистов. Он не был завистливым, в гении не лез, умел ценить непризнанные таланты, никому не пытался подставить подножку, всегда находил утешительное слово для неудачника и какую-нибудь глубокомысленную сентенцию для баловня судьбы. С Зилбиксисом всегда можно было потолковать об искусстве. Но главной причиной его популярности, всеобщей любви и уважения было то, что Зилбиксис был и оставался дилетантом и не стремился оставить по себе незабвенный след в искусстве, короче говоря, не был соперником, конкурентом из тех, что готовы идти по чужим головам.
Нет, Зилбиксис был преданным другом, добрым советчиком, человек хорошего вкуса, огромной эрудиции, при всем при том не склонен был использовать свои обширные знания на то, чтобы в кичливых газетных статьях высмеивать промахи своих современников, чтобы тыкать их носами в ванночки ошибок и неудач, вовсе нет, Зилбиксис с достоинством нес нелегкое бремя своей эрудиции, держась в стороне от шума и суеты.
Время шло, и на квартире у Зилбиксиса образовалось нечто вроде салона. Особенно уважаем был этот тайный, если возможно так выразиться, салон во времена нахлынувшей реакции. То был благодатный оазис в взбаламученном мире, охваченном неверием, страхом, изменами, арестами, убийствами, военными судами, казнями, ссылками. И никто не знал горькой, немыслимой правды о том, что Зилбиксис регулярно пишет отчеты в охранку, осведомляет ее об общественных настроениях, доносит о недовольных, подозрительных, недоверчивых. Причем большая часть посетителей его салона как раз принадлежала к этой категории людей, и они-то в первую очередь и заносились в черные списки. Однако до поры до времени их не трогали, как не трогают подсадную утку, стреляя лишь подлетных дурочек.
И многие, никогда не посещавшие салон лица (чьи имена всплывали в разговоре, чьи взгляды выявлялись) нежданно-негаданно увольнялись с работы, их вызывали на допросы, задерживали, запугивали, шантажировали, даже избивали, высылали, и никому в голову не могло прийти, что причиной тому был всеми любимый, уважаемый дилетант.
Зилбиксис вообще-то был добряк, но у него был один изъян. Он так рассуждал — что мне эти люди? Что мне их признание или непризнание? Я сгину, умру, так на что мне людская память, воспоминания, пусть славят или проклинают, мне все одно, я свое пожил.
Если подлость более выгодна, если подлость приносит плоды, я буду служить подлости, если подлость приносит проценты, я отступлюсь от добродетелей, потому что добродетели не приносят ни одного процента, зато подлость — все сто, и я делаю ставку на нее. Подлецы сейчас в силе, и я буду служить им. Подлецы дают мне возможность наслаждаться жизнью, и я наслаждаюсь, я живу, служу им и правильно делаю, потому что подлецы хозяева жизни.
А если верх возьмут честные, добродетельные? Так что же? Никто не узнает, что я служил подлецам, они ж обещали держать в тайне мою службу и не нарушат слова, ибо такие, как я, их опора.
Зилбиксис не был женат. В молодости, скитаясь по белому свету, не нашел времени присмотреть себе жену, а позднее, в зрелую пору, стал чересчур привередливым, каждую кандидатуру подолгу взвешивал, изучал всесторонне, в мыслях стараясь заглянуть подальше, и неизменно видел себя в образе убеленного сединами господина, состоятельного, всеми уважаемого, в то время как те ветреные девчонки, с которыми он знался, превращались в противных, ворчливых старух, никак не достойных его. В мыслях своих он слышал, как из отдаленного будущего звучат их старческие хриплые голоса, видел, как их морщинистые, настырные руки вмешиваются в его излюбленные привычки, нарушают привычный ритм дня.
У Зилбиксиса не было никаких принципов, и это был его единственный принцип: человек, если он желает преуспеть, не должен иметь принципов.
Вполне понятно, что все нововведения в государстве вызывали в нем страх и ненависть. Новое общество, насколько Зилбиксис понимал намерения революционеров, собиралось потребовать от своих сограждан исполнения чистых и высоких принципов, а это ставило иод угрозу единственный принцип Зилбиксиса.
Если человек безнравствен, он, как зверь, до последних когтей будет драться за то, чтобы ему не вменили в обязанность быть нравственным.
Зилбиксис зачерствел и замкнулся в себе.
Муки, стыд, угрызения совести, радость и прочие человеческие чувства он переживал лишь во сне, но и тогда, проснувшись, оставался собой недоволен. Он был сух, как высохший куст можжевельника.
Все шло хорошо, шло бы очень хорошо и пошло бы еще лучше, покуда не пошло бы наконец настолько хорошо, что дальше просто некуда, если бы не легонький грипп, инфлюэнца, залетная граничная гостья, иной раз по себе оставляющая дурную память. После перенесенной болезни Зилбиксис стал слышать все хуже и хуже и к своему ужасу обнаружил, что многое из того, о чем говорилось в салоне, проходит мимо его ушей, очень многое, а глухота все прогрессировала.
Это была трагедия в жизни уважаемого дилетанта, и он старался мужественно снести ее. Уши и слух, его инструмент, орудие труда, залог благополучия, слух — основа всего, та скала, на которой построил он свою жизнь, теперь слух подводил его, и вот он стал завираться в своих донесениях, и в охранном отделении насторожились.
Недалеко то время, когда там сообразят, в чем дело, сообразят и вырвут жирный кусок из алчущего рта дилетанта, и предчувствие беды омрачало дилетанту тот воскресный вечер. Он задумался о старости и вдруг понял, что старость не за горами, старость надвигается бесшумно, как поезд во сне, беззвучно, неотвратимо, как паровоз в бреду, подминает под себя день за днем, в страшном грохоте колес не расслышишь жалостного писка раздавленных дней в этой жуткой, ужасной, кошмарной действительности.
Слабый человеческий голос в лязге и грохоте железа
ржавой нашлепкой на челе у мира…
С некоторых пор Зилбиксис стал просыпаться по ночам и очень терзался этим, до болезни с ним такого не случалось —
странные мысли о сущности бытия, смысле жизни шевелились у него в мозгу. Было бытие, бытие убывало, не быв, оно было и, будучи, не было,
ужас всплывал из глубин сердца, как утопленник со дна озера, и Зилбиксис, по-щенячьи скуля, переворачивался на правый бок, — он, оказывается, лежал на сердце, это никуда не годится, тыкался лицом в подушку, чувствуя, как ему осточертело, до корней волос осточертело жить в мире лжи и предательства, никому, никому не мог он довериться, никому нельзя было излить душу, кругом сплошная игра. Карты ложились беззвучно, валет покрыл пиковую даму, дама била валета червей, валет червей покрыл даму бубновую, крестовая дама била червовую, с немыми, застывшими мнимо-любезными лицами они лгали, предавали, доносили, жульничали. Сам он из той же колоды, сам он такой же, и, если бы не проклятая глухота, он бы не терзался от мысли, что сам всего-навсего пиковый валет в руках азартных игроков, что сам видит только лицевую сторону карт, а за змеевидным орнаментом тыльной стороны скрывались другие люди, и, вполне возможно, жандармы уже ввели в его салон своего агента, и тот строчит параллельные донесения, проверяют его, не доверяют ему, мир лжи и подозрительности вращался вокруг него, и вдруг до последней черточки знакомого лица разглядел он всплывшего утопленника, ах, когда же все это кончится, когда кончится эта нелепость, стонал один из лучших агентов охранного отделения.
V
Доктор Леинь всего четыре года как женился, обзавелся врачебной практикой, переехал в просторную квартиру, растил и воспитывал трехгодовалую дочь, и неожиданно, как снег на голову, свалился на него рак печени. Ничем он не мог себе помочь, и только временами, находя в себе силы размышлять, он размышлял, наступит ли день, когда люди перестанут враждовать друг с другом и все свои способности бросят на борьбу с болезнями, и если такой день наступит, то скоро ли? Быть может, монархия и была сейчас той страшной болезнью, против которой следует объединить все силы? Чтобы разглядеть бациллы, не нужен и микроскоп, бациллы эти ничуть не таятся, они облачились в мундиры, чтобы быть приметнее. Бациллы эти пока еще в силе.
Хотя сам доктор не вставал с постели, но его роскошная шуба и меховая шапка боролись где-то против царских бацилл, и в какой-то мере это было утешением.
Леинь умирал, последние дни были мучительны, боль раздирала тело, приступы становились все чаще, острее, иногда он впадал в забытье, но большую часть дня пребывал в полном сознании. Он попросил раздеть его и лежал совсем нагим, закутанный в белые простыни, боль зарождалась в одной точке и волнами расходилась по телу.
Жена извелась от горя. К любви, жалости, состраданию примешивалась брезгливость к разлагавшемуся телу, к беспомощной плоти, изо рта больного шел гнилостный запах, его невозможно было заглушить никакими ароматическими маслами.
Леиня обуревали странные фантазии, почти кошмары. Он просил достать ему бомбы, собирался, обвесив себя ими, отправиться в резиденцию губернатора и там взорвать себя вместе со слугами самодержавия.
Долог, долог путь познания, порой до цели остается всего шаг-другой, но человек падает замертво, и следующий за ним вынужден тот же путь начинать сначала.
Чтоб быть чистой и немаркой,
Мы повяжем дочке фартук,—
пел доктор Леинь всего два года назад, когда его дочка садилась за стол, но вот уж смерть ему повязывает свой фартук, и он жует горький хлеб истины, что не вечен в этом мире, даже морфий перестал выручать.
В тот воскресный вечер в дверь позвонили.
Стучите, и отворят вам.
Жена Леиня отворила дверь, ее вежливо отодвинули в сторону, вежливо, но твердо, и чуть придержали, чтобы не кинулась в комнату, вздумай кого-то предупредить. Хозяйку отодвинул в сторону широкоплечий унтер, а сразу за унтером вошел офицер, потом несколько солдат и двое полицейских.
Офицер остановился у постели умирающего, пощупал пульс.
К картине Яна Розентала подошел какой-то тип в штатском, снял ее со стены, будто собираясь унести с собой. Картину доктору подарил сам художник, и бабушка вся ощетинилась, намереваясь защищать имущество, но тип ей учтиво объяснил:
— Мы только убедимся, нет ли за рамой нелегальной литературы, листовок. Не волнуйтесь, сударыня!
Никто не заметил, когда и как очутились в квартире эти странные люди в штатском. Один из них, светловолосый господин с нежными глазами цвета спелой ржи, золотистыми, будто цветочной пыльцой обсыпанными зрачками и ресницами, равнодушно стоял у окна и, прижавшись щекою к стеклу, глядел на улицу. За окном было мокро и сыро, совсем не похоже на зиму.
К этому господину подошел офицер, сначала проверив пульс у больного.
— Не довезем, — доверительно сказал офицер, — дорогой умрет, очень слаб.
— Доктор? — не отрывая щеки от прохладного стекла, тихо осведомился загадочный господин.
— Здесь находится его коллега, — почти беззвучно произнес офицер.
Тем временем солдаты переложили больного вместе с матрацем на пол, сняли с него одеяло, вытрясли его. Осмотрели массивную раму кровати, тип в штатском гнутым пальцем быстро, ловко и с явным удовольствием, будто на рассвете в окошко к возлюбленной, простучал по всем четырем ножкам кровати.
— Господа, я категорически протестую, — заявил возмущенный коллега Леиня, врач.
— Подведите, — словно обращаясь к кому-то за окном, обронил загадочный господин, прикрыв свои глаза цвета спелой ржи ресницами, обсыпанными цветочной пыльной.
— Безнадежный случай? — спросил он доктора, когда тот подошел, учащенно дыша от возмущения.
— Смерть больного вопрос нескольких часов, — ответил доктор. — Еще раз повторяю, такое обращение недопустимо!
Загадочный господин, не глядя, вытянул руку, и в коричневую замшевую перчатку кто-то тотчас вложил паспорт доктора. Господин полистал документ, с интересом ценителя каллиграфии проглядел все записи, затем вернул документ, обратившись к доктору:
— Медицина бессильна?
— Cancer hepatis, — почтительно произнес доктор, но, чувствуя на себе немигающий взгляд господина, добавил: — Рак печени.
— Значит, ваше присутствие ничего не в силах изменить? — участливо спросил загадочный господин.
— Моральная поддержка близким, и только, — ответил доктор.
— В таком случае, — любезно заметил господин, — вы поедете с нами. У нас строгое начальство, с пустыми руками никак не смеем возвращаться.
— Я протестую, — в третий раз повторил бесполезную фразу доктор.
— Свой протест вы сможете представить в письменном виде, — любезно разъяснил господин. — Писать вы умеете?
— Умею, — ответил несчастный доктор, в волнении не заметив, что над ним потешаются. Рядом выросли два здоровенных солдата, и доктор не мог потом вспомнить, как простился с близкими умиравшего товарища. Надел шубу. Его посадили в коляску. Все было сумбурно, точно во сне.
Доктора заперли в переполненной камере, без допроса продержали три дня, потом ночью избили и на другое утро выпустили.
Ему повезло.
VI
Эрнесту Криву, малоземельному крестьянину Лифляндской губернии, принадлежал небольшой хутор с двумя лошадьми.
Эрнест любил копаться в огуречных грядках, в зеленой шершавой листве, точно коровьим языком лизавшей руки, отыскивать под нею большие, белые, раздобревшие семенные огурцы.
Эрнест поднялся, распрямился, оглядел грядки, запоминая место, где лежал белый семенник.
Да, огурец еще должен набраться соков, пожелтеть, заматереть, стать увесистым, толстокожим. Все на свете в свой черед набирается соков, вызревает, и тогда семена прорастают, а такие незрелые они не пригодны. Чтобы получить хорошие семена, плод должен стать желтым, тяжелым, шершавым и толстокожим, щелкнешь по такому ногтем, он звенит, и звенит по-особому, глухо, будто внутри у него пустота, вот уж тогда это настоящий семенной огурец,
когда Россия со множеством своих медвежьих углов зазвенит глухим колоколом, тогда революция и пожнет плоды, так рассуждал крестьянин Эрнест Крив, копаясь осенью в своем огороде.
Огурец — творение умное, но ему самому невдомек, когда он созреет, нужно, чтобы кто-то щелкнул по нему ногтем, такой человек всегда нужен.
Любимым развлечением Эрнеста Крива по вечерам, примерно за час до заката, было присесть на краю огорода и любоваться облитыми солнцем деревьями. Темно-зеленые ели, более светлые березы, желто-зеленые липы манили, завораживали взгляд, наводили на размышления. Например, о вечности жизни. Он в своей вере остался язычником, хотя в воскресные дни хаживал в церковь, крестил своих детей, но библейским сказочкам не верил. Никакой вечной жизни не будет, как не будет и уничтожения. Человек обновляется в детях, в них продолжает жить, нет жизни вечной, есть жизнь непрерывная. И земля тоже чувствует, дышит, как и всякое живое существо.
Прикосновения земли ему частенько приходилось чувствовать в молодости, когда он босыми ногами шагал по полю за бороной или катком. Все дневные труды переделав, он на закате впрягал лошадь в каток и укатывал засеянное поле, и вот теперь ему припомнилось ласковое, теплое прикосновение земли к босым ступням, и он подумал о том времени, когда земля так же ласково обнимет плоть его, а душа, это всевидящее око, останется дома, может, схоронится в соседней березовой роще и станет добрым советчиком сыну, точно так же, как прадед его, и дед, и отец были для него советчиками. Когда пахать, когда сеять, косить, это всякий мало-мальски опытный хозяин знает, но, получив одобрение, чувствуешь себя куда уверенней.
Эрнест Крив был сепаратистом. Ему хотелось мира с самодержавием. Мира в разгар революции. Уже в ту пору в деревнях не в диковинку был сепаратор, отделявший сливки от снятого молока, и действие это называлось сепарацией, а машина, что отделяла, была сепаратором, ну а человек, пожелавший от чего-нибудь отделиться, стало быть, — сепаратист. Эрнесту Криву хотелось в своем доме отделиться ото всех, ему дела не бы по до революции, комитетов действия, митингов, стачек, на его земле рожь родилась кустистая.
Но, как на грех, волостной писарь, имевший какое-то касательство к карательным экспедициям, точил зуб на Эрнеста Крива, он и занес Эрнеста Крива в списки на букву К, а дальше все пошло, как по волнам в Антверпен.
Ибо жил да был в той волости один чудак, коему по морям захотелось поплавать, и он устроился на судно кочегаром до Антверпена, но в первый же рейс судно затонуло, и вот теперь в той округе до сих пор выражаются так: дела идут, как по волнам в Антверпен. Или: сам ко дну — пузыри кверху. Или еще так: не всякому дается по его хотению.
А тем воскресным утром капитан Рихтер сказал:
— По коням, ребята!
Капитанистый голос капитана отдавал металлом, и то был металл винтовочного затвора, уж тут скрывать нечего, накануне во время попойки капитан целовал винтовку, и едкая кислота, которую сам он считал слюною, разъела затвор, так что часть металла вобрал в себя голос капитана, вот как обстояло дело.
В холоде зимнего утра было отчетливо видно, как изо рта капитана вырываются клубы ядовитых металлических паров.
Так они скакали, копытами гремя,
а потом пропали в тумане дня.
Из нескольких домов в одно место были согнаны крестьяне с семьями, а Криву Эрнесту и его домочадцам было велено вынести во двор из избы все пожитки.
Было несколько степеней наказания: расстрел и сожжение имущества; сожжение имущества и ссылка; только сожжение имущества; ссылка без сожжения имущества.
Что же порешил капитан Рихтер в отношении Эрнеста Крива?
Самый меньший домочадец Эрнеста Крива барахтался в колыбельке, ему было семь месяцев, семь дней и семь часов от роду, и он бойко теребил высушенный и надутый свиной пузырь с насыпанным горохом. Гремели горошины, звякали уздечки посреди двора, солдатушки, бравые ребятушки, унтеры, отъявленные картежники и выпивохи, офицеры, сентиментальные поклонники изящной словесности, любители романсов, у всех отличная выправка, раскормленные ряшки, все как один гремели здоровенными свиными пузырями, винтовками гремели.
Прежде чем спалить дом. капитан разразился настоящим абордажным матом и так разошелся, так разошелся, аж посинел весь, жилы на висках вздулись, щеки побелели, на носу обозначилась одна особенно сизая, толстая жила. У капитана был редкостный нос алкоголика, и приобретенный в былых карательных походах загар очень пригодился для прикрытия предательской синевы, этой метки алкоголика, которую их высокоблагородие всегда носил при себе, как пес-призер носит при себе медаль.
Сверкая белками глаз, капитан орал во все горло, пересыпая речь свою грязными плевками. То бишь словами.
Крестьяне попятились назад.
Тут капитан вконец рассвирепел. Приказал казакам с тыла уплотнить толпу, тыловые крысы, те толком не слышат, что им говорят, под Мукденом были тыловые крысы, да их всюду хватает, тыловых крыс, гнать их вперед, на передовую, на передовой всякое бывает, оттого там и лучшие люди.
Толпу перемешали, перетасовали, тыловые крысы оказались в первых рядах, принимая удары нагаек по лысинам.
Капитан шепнул что-то — ординарцу. Тот пришпорил коня, вырвал шашку из ножен, проскакал впритык к первому ряду, проведя по искромсанной, в грязных комьях земле неразличимую черту.
— Переступивший эту черту будет обвинен в вооруженном нападении, непослушании правительству и расстрелян! — тихо произнес капитан и добавил ординарцу: — Повтори!
Пропитым, томимым с похмелья рыком, источая перегар баронской водки, ординарец прокричал приказ.
Из первых рядов люди невольно подались назад.
А капитан, потешившись, велел поджечь постройки.
Самый меньший домочадец Эрнеста Крива лежал в санках, закутанный в лоскутное одеяльце, но тут высунул из-под дерюжки свой озябший кулачишко с зажатой в нем веревочкой, на которой по ветру болтался свиной пузырь с гремящими горошинами.
Казаки как раз поджигали стоявшую на отшибе, у речки, баню.
Отсветы пламени причудливо обтекали прозрачный кокон, и сквозь пузырь капитан увидел, как вспыхнула банька, и ему припомнилось детство и сказки про гномиков, гномики всегда селились в таких баньках по берегам речек или в оврагах, так и казалось, что банька та сказочный домик внутри пузыря, и сухие горошины в нем мечутся, как ошалевшие гномики, потому что жилище их полыхало жарким пламенем, и сердце капитана болезненно сжалось, в огне сгорала сказка его детства, сгорали мечты о гномиках, и взгляд капитана скрестился с веселым взглядом мальчугана, смелый такой мальчишка, крестьянская кровь, ему была по душе вся эта кутерьма, крики людей, мычанье скотины, и сквозь рев пожара отчетливо было слышно, как мальчонка причитал мелодичным своим тоненьким голосишком:
«айяйяяай, тая, лака, алаалаа».
и капитан улыбнулся ему.
Один из солдат, только что подпаливший избу, увидев эту улыбку, прослезился, растроганный до глубины души.
Нет, мальчонка не ведал ни зла, ни добра, мальчонка, точь-в-точь как капитанов отпрыск, лепетал мелодичным, тоненьким голоском, но с грохотом рухнул коровник, и вопли животных захлебнулись в реве огня, и на миг в душу капитана закралось сомнение. Его убеждения, эти прочные мостки над пропастью, треснули, и капитан поскользнулся и чуть не упал на обледенелой дорожке от колодца к коровнику — от жары лед начал подтаивать. Не дай бог! От нахлынувшей злобы у капитана в глазах помутилось. Он понятия не имел, что натворил этот крестьянин. Это они, проклятые социалисты, на японское золото подкупленные, виноваты в том, что он, капитан Рихтер, докатился до того, что сжигает гномиков своего детства. Он чувствовал, как низко пал, разве так их следует наказывать, нет, нужно придумать что-нибудь потоньше, огонь сжигал имущество крестьянина, зато какой пожар разгорался в сердце того же крестьянина?
Вырастут дети, что мы им скажем?
Не мутите воду в озере,
Не срывайте белы лилии?
Ночью в сотнях крестьянских дворов горели фонари, ночью, словно фонари, горели сотни крестьянских дворов, и крестьяне отправлялись на смерть или в ссылку, отправлялись с подводой, наскоро заваленной пожитками, отправлялись совсем без ничего, их имущество забирали в казну, дома сжигали, крестьян высылали в глубь империи, распихивали по отдаленным сонным губерниям, подальше от мятежной Москвы, подальше от взбудораженного Петербурга, просторные сонные губернии пребывали в спячке, совсем как громоздкие, дождем залитые стога сена, и в те стога проникали ровным пламенем горевшие люди-факелы.
Паства негромко подпевает.
Берзини, Карклини, Лапини, Ивини,
Калныни, Лиепини, Клявинн, Чиепини,
Стабини, Риекстиии, Риетыни, Риныни,
Страздыни, Звирбули, Думпн, Цирули,
Лачн, Вилки, Курмьи, Стирнас,
Клявас, Эглес, Берзы, Дзилнас,
Гравас, Каркли, Калны, Леяс.
Сотни людей разных фамилий брели усталым шагом, по временам украдкой оглядываясь назад.
Сегодня вы нас, завтра мы вас.
И не знать на земле покоя тем, что других обидели. Неумолим железный закон жизни. И люди верили. Придет их час. Наступит час железной хворостины. Дети наши станут хворостиной. Будущее наше станет железом. Народ поднимется. Единство наше вызвонит час. Пролетарии всех континентов, всех заброшенных островов, всей земли, всех перешейков и мысов, всех вулканов пролетарии — соединяйтесь!
VII
На втором этаже пятиэтажного доходного дома под номером пятьдесят шесть по Александровской улице, в конспиративной квартире сидел за столом мужчина богатырского сложения. Его перепачканные пальцы проворно двигались, выбирая из наборной кассы литеры, составляя из них слова и предложения. Закончив строку, человек вставлял ее в раму, а сам принимался за следующую.
Тут же под рукой нержавейкой поблескивал самодельный пресс.
Человек работал с восьмиточечным петитом, хотя некоторые статьи, информации и сообщения он охотней бы набрал двукратным цицеро.
Само собой понятно, он бы лучше справился с работой за каким-нибудь линотипом фирмы «Роджер и Брайт» или «Моргенталером», но приходилось корпеть в тишине, у каждой работы своя технология, по Риге рыщут жандармы, разыскивая типографию нелегальной «Цини», и с выходом каждого нового номера у жандармского начальника подскакивает кровяное давление.
Наборщик чаще всего вынимал из кассы наиболее ходовые в латышском языке литеры «а», «с», «е». Шрифт был отлит из хорошего сплава, состоявшего из 70 процентов свинца, 22 процентов сурьмы и 8 процентов олова, тем не менее, печатая большие тиражи, не снившиеся ни одной из легальных газет, литеры вконец поистерлись, самое время раздобыть новый комплект, нет никакого смысла подновлять старый, смешав истершиеся литеры с нестершимися, набор получится неопрятным, неровным, неудобочитаемым, а «Циня» всегда гордилась своей печатной техникой, старалась держать марку.
Главное же было в содержании, в материалах, вот что упрочило славу газеты, обеспечило нелегальную распродажу и распространение восемнадцатитысячного тиража. Еще в первом номере газета извещала:
«Наша местная печать превратилась в болото грязи и лжи, напрасно было бы искать в ней мало-мальски правдивого, смелого слова, потому что она охраняет выгоды богачей… Но вольному слову по-прежнему звучать в Прибалтике! Его возвестит и наша газета, которая будет отстаивать истинные интересы рабочих, смотреть на жизнь их глазами, пробуждать дремлющих, подбадривать запуганных, призывать и сплачивать сознательный латвийский пролетариат на борьбу и для победы».
И вот уже почти два года выходила нелегальная газета, нерушимо выполняя свои обещания, в мрачную пору реакции рассказывая о самоотверженной борьбе рабочих, о прямом предательстве и равнодушии местной буржуазии.
И в том же тысяча девятьсот шестом году в Латвии объявились волки-стервятники (гиены), то бишь люди, скупавшие скарб по разоренным и сожженным дворам.
Аккуратно набрал наборщик двадцать шестой номер газеты, в котором неистребимым тавром был отмечен один из буржуазных дельцов и проходимцев.
И наборщик, минуя ящичек угловатых готических точек, взял круглую точку латинского шрифта и ею закончил строку.
«Одним из таких великородных волков-стервятников— и, по собранным нами сведениям, самый мерзкий— адвокат Чаксте из Митавы. Через своих агентов уважаемый адвокат распустил по деревням слухи, что он на дружеской ноге с генерал-губернатором. Кого хочет помиловать, тот будет помилован, а кого задумает погубить, тот погибнет. Огнем и мечом гонимые крестьяне вереницами потянулись в Митаву к Чаксте, совсем как суеверные мужики к чудотворной иконе. Чаксте с просителями не пускается в долгие разговоры. Прежде всего выложи на стол семьдесят пять рублей. После этого наш «чудотворец» облачается во фрак и едет в замок «на переговоры». Разумеется, там он кое-что узнает, потому что в канцелярии генерал-губернатора всякий имеет право навести справки. В том случае, если имени просителя нет в списках и против него не выдвинуто никаких обвинений, Чаксте объявляет просителю, что он замолвил за него словечко и тот может преспокойно возвращаться восвояси. Если же имя просителя значится в списках, то Чаксте объявляет:
— Против вас выдвинуто столько обвинений, что ничем не смогу помочь. Единственный мой совет вам — бежать!
Как в первом, так и во втором случае Чаксте берет за «наведение справок» от семидесяти пяти до ста рублей и ни в первом, ни во втором случае не забывает прочитать нотацию.
— Да, теперь вы все умоляете меня о помощи! А давно ли называли меня предателем народных интересов? Теперь-то, когда больше идти не к кому, все тянутся ко мне. Но что же я могу сделать? Съездить в замок, это я могу, но это вам обойдется…
Нет, господин Чаксте, примите наши заверения. Вы не предатель народных интересов, вы волк-стервятник (гиена). Предатель все-таки человек, хотя и мерзкий, презренный, преступный, но человек. А вы чудовище, которое рыскает вокруг логова хищников и, истекая слюной, гложет кости жертв, загубленных ими».
VIII
Каждое поколение заново открывает для себя историю, от Адама до Голгофы переживая все горести и радости человечества. Чем ближе к нашим дням, тем больше страхов и сомнений испытывает исследователь истории, он себя чувствует заблудившимся в незнакомом и в то же время удивительно знакомом лабиринте, переходя из одной залы в другую, наталкиваясь на старые пороки в новом обличье — предательство, низость, подлость, ложь, жестокость, эксплуатацию, зависть, алчность, корыстолюбие, и человек вопрошает себя, до каких же пор, до каких, и вот, дойдя до последней залы, над которой огненными буквами начертано «Век XX» и в которой ему суждено остаться, изжить себя, он с замиранием сердца переступает порог.
Кого он там встретит?
Четверо молодых людей воскресным вечером сидели за столом в небольшой комнатке со связками лука у печки, пучками душистых травок в вазах, в небольшой комнатке на перекрестке улиц Столбовой и Мариинской, где жила тетушка Ригер.
Епис, Бравый, Чом и Гришка сидели за столом, и желтый свет семилинейной керосиновой лампы уютным кругом ложился на расстеленный план городского центра.
На белом листе была нарисована схема внутреннего помещения полицейского управления.
— У входа стоит часовой, — докладывал Бравый. — В приемной двое городовых, внутри дежурит примерно с десяток агентов и двое надзирателей. Необходимо учесть, что надзирателей может оказаться и больше. На втором этаже размещается сторожевая рота — сто шестьдесят человек. Смена постов у входа происходит через каждые два часа, то есть в два, четыре и шесть.
— А равным образом во все остальные двадцать четыре часа суток, — иронически добавил Епис.
— Это еще не все, — продолжал Бравый. — Вот посмотрите, здесь, — и он черканул крестик на городском плане, — шагах в ста, рядом с Тукумским вокзалом круглосуточно несет дежурство пулеметная казачья рота, там же находится полицейский пост. А здесь, справа от входа, возле почтамта постоянно торчат двое городовых и трое солдат.
— В гостинице напротив расположен штаб драгунского полка, — добавил Гришка.
— Прекрасно, — обронил Епис.
— Положение более чем плачевное, — заметил Гришка.
— Одной охраны сто семьдесят девять человек!
— Сто семьдесят девять стволов.
— И все-таки план изменить невозможно. Двое наших отвечают за пост у почтамта, трое берут на себя пулеметную роту на вокзальной площади, двое прикрывают отступление с того места, где улица Карла выходит на площадь, один поможет укрыться женщине, принимающей участие в операции, а трое пойдут со мной, — сообщил Епис.
— Кто именно?
— Надеюсь, будет соблюден принцип добровольности? — заметил Чом.
— Никаких принципов добровольности! Я выбрал троих. Со мной пойдут Бравый, Страуме и Мерниек. Чом даст исчерпывающие указания наружной группе. В случае чего вы из кожи должны вылезти, но прикрыть отступление. Уточним детали.
— Почему не пришел Мерниек? — спросил Чом.
Епис не ответил.
— Здесь тебе не вокзальное справочное бюро, — съязвил Бравый, глянув на Чома.
— Вопросы такие, — начал Епис. — Первый: для семьи Мистера приготовили новую квартиру?
— Да, — ответил Чом.
— Одежда, документы для Господина в порядке?
— Да. Куплен билет на поезд. В Петербурге обеспечены явки. Подготовлен ночлег за городом. Все предусмотрено до последней мелочи.
— Повторяю, — сказал Епис, — место встречи у почтамта. Время встречи — восемь часов десять минут. Излишне добавлять, что являться раньше воспрещается, опаздывать воспрещается. Приводить за собой хвост воспрещается. Форма одежды — благопристойная. Ничего бросающегося в глаза.
— Одиножды один — один!
— Не иметь при себе никаких документов!
— За исключением некролога и завещания.
— С каким оружием?
— С луны свалился? Два маузера.
— Хотелось бы послушать твой план действия, — сказал Бравый.
— Идет. Смотрите, — ответил Епис, склоняясь над схемой, — здесь мы входим, вот лестница на второй этаж, проходим тут и оказываемся в приемной. Нужно проникнуть во внутреннее помещение. У дверей часовой, мы со Страуме проходим мимо него. Ты и Мерниек остаетесь в приемной, нейтрализуете часового.
— Как, как, ты сказал?
— Нейтрализуете часового!
— Мне послышалось — материализуете. Все же мог бы выражаться попроще.
— Идет. Итак, материализуете часового, городовых и прикрываете лестницу, с тем чтобы не дать сторожевой роте спуститься вниз.
— Мы вдвоем?
— Вы вдвоем.
— Не дать спуститься вниз ста шестидесяти откормленным верзилам?
— Не дать спуститься вниз! Только не сразу, сначала выждать, пока мы с Страуме пройдем внутрь.
— Так что ж прикажете нам делать? — воскликнул Бравый. — Сказать им, обождите, милейшие шпики, мы начнем стрелять по вас немного погодя. А покуда не сыграем ли в очко?
— Что-нибудь придумаете.
— Ну, конечно, приведем слона, уложим поперек лестницы, чтобы сто пятьдесят солдат не сбежали вниз.
— Сто шестьдесят.
— Спасибо, что поправил.
— Ну довольно, будем серьезны! Я и Страуме проникаем внутрь. Камера Господина расположена здесь. Вместе с ним Мистер, Грундманис, Межгайлис и еще двое товарищей. Камеру по утрам отпирают, наших ведут умываться. Там на месте будет видно, что делать.
— Я бы припас бомбу для второго этажа.
— Нельзя, много шума. Услышат наружные постовые, спустят на нас пулеметную роту, и тогда пиши пропало.
— Остается положиться на удачу.
— Кто прикроет отступление женщине?
— Озолбауд.
— Снова пойдет Аустра Дрейфогель?
— Нет, ей нельзя. Один из дежурных может ее опознать. В прошлый раз она и так натерпелась страхов. Очень удивилась, что шпик ее не узнал. Пойдет Анна.
— Все ясно.
— Если кого-то ранят?
— Легко — сам уйдет.
— А тяжело?
— Сам знаешь.
— Знаю.
— Уж тут ничего не поделаешь.
— Теперь приятная весть из Тукумса, — сказал Епис. — Убит начальник карательной экспедиции граф Дамсдорф, а вместе с ним барон Роэ.
— Ты когда-нибудь язык сломаешь, произнося такие фамилии!
— Роэ — это графский адъютант?
— Да. Дело было в корчме.
— Прямо-таки зависть берет, когда послушаешь, что там Зеленый со своими ребятами вытворяет. Чипус, наверно, тоже участвовал. Ну, тьфу, тьфу, тьфу, чтобы завтра и у нас все сладилось!
Тетушка Ригер на кухне раскладывала карты, гадая на своих ребят. Ее невестку застрелили прошлым январем в многолюдной демонстрации у железнодорожного моста, сын Кристап, известный также и под кличкой Чипус, повез внука к родственникам в Тукумс. Пока еще не вернулся. Теперь у тетушки Ригер жили друзья Чипуса, славные ребята, совсем еще дети, и каждый день им грозила смерть, карты предсказывали все самое худшее, и тетушка Ригер молилась за них:
— Господи, ты же видишь, они за правду стоят. Помоги им по своим возможностям, отведи от них пули и сабли, защити от дурного глаза и погибели!
Молчала темная ночь за окном.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
В понедельник в восемь часов десять минут утра боевая группа собралась у почтамта. Но задуманную операцию пришлось отложить. С Тукумского вокзала Театральным бульваром нескончаемым потоком тянулись войска. Ничего нельзя было сделать, город превратился в огромную казарму, от серых шинелей рябило в глазах.
Яков Дубельштейн сообщил, что операция переносится на вторник 17 января. Арестованным еще одни сутки придется провести в застенках полиции.
Разыгрывая из себя барина, Карлсон за всякие мелкие услуги раздавал надзирателям щедрые чаевые. Давал рубль и просил принести папирос «Рига», хотя пачка стоила всего пятнадцать копеек. Угощал надзирателей апельсинами, и те позволяли ему гулять по коридору. Но Карлсон не знал, что судьба его уже решена.
В полиции действительно имелись верные сведения о его деятельности в Либаве. Жандармский полковник Волков консультировал сотрудников сыскной полиции по части методов следствия, советовал Грегусу любой ценой вырвать из либавского агитатора Брауера показания о составе организации, ее руководителях, явках. А после Брауера-Карлсона расстрелять.
II
Грегус был глубоко убежден: все несчастия проистекают оттого, что законов напринимали слишком много.
Любой социалист, оказавшись в затруднительном положении, пытается отыскать статью закона, которой бы можно прикрыться.
И уж совсем никуда не годилось, что дипломированные царские адвокаты брались на судах защищать социалистов, вытягивая на свет
множество законов, о коих подчас и поднаторевшие дотошные чиновники не имели понятия. Законов было слишком много, и адвокатов тоже. А законов требуется совсем немного, причем расплывчатых и туманных, чтобы каждая строка была неясной, маловразумительной, чтобы закон всегда было возможно истолковать в пользу монархии.
Адвокатов же, дерзающих защищать социалистов, следует привлекать к ответственности. Все адвокаты должны состоять на учете в полиции, ей подчиняться, а тех, кто вздумает заниматься разного рода измышлениями, разоблачениями, направленными против полиции, таких адвокатов исключать из союзов, лишать практики. Разумеется, тут нужен человек, который бы упразднил, урезал многие законы, иначе нет смысла доводить социалистов до суда, не вырвал признания — пристрелить такого при попытке к бегству. Кое-кто из этих молодцов, предчувствуя свою участь, вопит о законе, словно козел, обреченный на заклание, только что за беда, пусть вопит, пусть подрыгает ножками, довольно нам нервы дергал.
Ключи подобрать нужно, ключи.
Утром Грегус хотел войти в ванную, но ее уже занял отец. Двое слуг мыли старика, сам он ни рукой, ни ногой не мог двинуть, а слуги причитали над ним:
— Сейчас Гедзюн Римантович ручки вымоет!
— Сейчас Гедзюн Римантович ножки сполоснет!
За завтраком отец сидел за столом в инвалидной коляске, в последнее время старик изводил его просьбами покататься по городу, ворчал и плакался, что вот уже три зимы подряд сидит дома, не пускают подышать свежим воздухом, неужто трудно порадовать человека.
Интересно, знают ли революционеры, что отец у него паралитик?
Нет, нельзя старика вывозить, время неспокойное. Если ты не можешь делать то, что тебе по сердцу, зачем вообще тогда жить? Само собой, и за сынишкой, маленьким Грегусенком, пятилетним сорванцом, тоже приходилось присматривать. Слуги угощали сына семечками, и сынишка, обожавший отца, отсыпал горсть-другую подсолнухов в карман отцовского пальто. Лучше всех семечки в монопольке у Филиповича. Грегус баловал сына, потакал его капризам, семечки тоже были капризом. Грегус вытряхивал из кармана семечки в снег, едва выбирался из дому, вытряхивал в пролетку или санки, развеивал по ветру свидетельство сыновней любви. И воробьи клевали подсолнухи, голуби их собирали, и многих добрых птиц спасли от голодной смерти они студеной зимой, студеной зимой, когда земля промерзала, когда конские яблоки превращались в камень.
Добряк зимой сеял семечки, чтобы и воробьям и голубям было неголодно, добряк из сыскной полиции, добряк в мундире,
истязатель Грегус.
Ненавистными глазами на него глядела Рига, пятно позора на брусчатке древних улиц, в доме палача жил Грегус, в красной шапке ежеутренне отправлялся в ратушу, арестантам ногти сдирать, в испанские сапоги их обувать, пороть, кости ломать, на дыбу вздергивать, плевок в лицо истории, изверг рода человеческого, и зачем он только на свет родился?
Грегус вспомнил свой вчерашний разговор с бароном фон Г.
Барон говорил, что город полнится слухами, слухами о страшных, бесчеловечных пытках, на что Грегус печально ответил:
— К сожалению, это не только слухи!
— Неужели, — ужаснулся барон, — такое возможно на самом деле?
— К сожалению.
— Но ведь это негуманно!
— Да, негуманно, но другого выхода у нас нет. Империя разваливается.
— Что?
— Да, да, разваливается, и никто не желает того понимать. Была бы надежная, прочная власть, вот тогда бы я мог себе позволить допрашивать обвиняемых с помощью разных психологических методов, быть гуманистом, воспитателем, но теперь для таких тонкостей нет времени. Дайте мне твердую власть, и я создам гуманную систему дознания, а сейчас, когда империя расползается по швам, преступно поддаваться мягкотелому гуманизму.
И Грегус тоном заговорщика сообщил барону:
— У меня самого сердце кровью обливается при виде страданий этих бравых парней, что идут на смерть в расцвете сил. А ведь могли бы еще столько полезного сделать на царской службе.
— Я объясню вам, в чем причина нашей слабости, — сказал барон. — Мыслящий человек для нашего общества стал опасен, из поколения в поколение мы делали все, чтобы воспитать людей недумающих, это еще куда ни шло, но беда в том, что эти-то люди, недумающие, и становятся властями предержащими. Все их достоинство в том, что они не думают! И все бы хорошо, если б не нужно было бороться с социалистами. У социалистов, у тех пока нет другой силы, кроме силы мысли, ибо… — И тут барон огляделся, не подслушивает ли кто. — Революция, катастрофа? Вы преувеличиваете, мой друг, для революции еще не выковано оружия и не хватает людей знающих. Не всерьез же вы обмолвились о том, что… ну, что гибнет империя, по швам расползается? Так-то, мой друг. А сила мысли у социалистов великая, и нам нечего им противопоставить!
Уловив в словах барона затаенную обиду, Грегус подумал, уж не социалист ли барон, но тотчас прогнал эту безумную мысль. Барон, у которого сожгли поместье, сам неробкого десятка, на улицу выходит один, без охраны, может, кольчугу под одеждой носит, но говорит от сердца. Трудно понять этих интеллигентов. Мелют, мелют. Сила мысли? Ничего он не понял. Силой мысли не свергнуть правительства, свергнуть его могут люди с оружием в руках, против них-то и нужно пустить в ход оружие.
— Значит, это правда о пытках? — еще переспросил барон.
— Уф, — вздохнул Грегус.
— Милый друг, — проговорил барон, извлекая из кармана белый конверт, — здесь скромная лепта от лифляндских помещиков, пятьсот рублей. Если бы слухов было меньше, а пыток больше, вы бы сполна получили тысячу. И еще личная просьба. Не позволите мне хотя бы разок присутствовать при этом? Хочется посмотреть, как вы работаете. Давно не видел ничего веселенького в этом закисшем от горя мире.
И вот на службу Грегус явился в раздумье. К полудню ему удалось разгадать туманные намеки барона о силе мысли, и в нем созрела решимость доказать самому себе, что по силе мысли он ничуть не уступит какому-то социалисту-агитатору. И велел привести Карлсона-Брауера.
III
Карлсон вспоминал свидание, вспоминал каждую фразу Аустры, каждый свой ответ, и в памяти вставал ее пытливый искрящийся взгляд, и теплая волна, возникнув где-то в солнечном сплетении, прокатилась по телу, и Карлсон, рассеянно усмехнувшись своим мыслям, еще вспомнил очертания ее стройного тела, когда, перед тем как уйти, Аустра на миг задержалась на пороге, в освещенном дверном проеме, только на миг оглянулась, повернула голову, выражения лица не успел разглядеть, лицо оставалось в тени, — освещенный проем в серой стене, словно обрамленная картина.
И, все больше мрачнея, он принялся расхаживать по коридору.
Посмотреть со стороны — образцовый арестант, приветлив и вежлив с надзирателями, но до чего омерзительно вот так запросто разговаривать с тюремщиками, широкий и щедрый, самому даже противно, не скупится на чаевые, держать себя в узде, притворяться, притворяться, ему разрешалось гулять по коридору, курить за стенами своей камеры.
Испытывал он страх?
Конечно, но у него почти не оставалось времени думать о страхе, потому что рассудок непрерывно изучал все возможности, рассматривал различные варианты побега, один бы, пожалуй, он хоть сейчас убежал, но нельзя же оставить товарищей, рассудок искал тот единственный лунный луч, что поможет спуститься с крыши. Еще один допрос, и его изуродуют точно так же, как Межгайлиса, он не сможет двигаться, не сможет уйти из этого ада. В самом деле, он сейчас, как лунатик, витает где-то между небом и землей, не оступиться бы, и вдруг — пробуждение, в здравом уме, в твердой памяти он видит свое безвыходное положение. Но у любой безвыходности должен быть по крайней мере вход, так, может, через него-то и выйти? Нет, нет, вы сами убедитесь, иного пути у вас нет, кроме чистосердечного признания, и тогда мы вас с миром отпустим в могилу, так говорил ему Грегус всего час назад, и Карлсон решил оттянуть время, сказал, что подумает, разыграв из себя человека, только что осознавшего безнадежность своего положения, самому даже странно, как это ухитрился он забраться на столь головоломную высоту, и теперь не под силу ему слезть на землю, обрести почву под ногами, и вот он взывает о помощи, и помощь приходит. Я, Грегус, помогу вам, и при условии полной откровенности, чистосердечного признания я гарантирую вам жизнь, свободу и, само собой разумеется, обещаю поддержку в устройстве вашей будущей жизни.
Какие страхи испытывал Карлсон?
Выдержу ли? Ведь это первая очная встреча с полицией. Хватит ли мужества? А если глаза выколют? Изуродуют, как Межгайлиса? Утром Анна принесла передачу, поговорить не удалось, сказала только, что завтра опять придет, значит, завтра, а до завтра колобродить лунатиком?
По всей империи, словно дома с привидениями, раскинулись лечебницы для душевнобольных. Душевные болезни и монархия идут рука об руку. Вечное притворство, лицемерие, двоедушие, непостоянство и жестокость изнуряют, требуют чрезмерных нервных усилий, и стоит ли удивляться, что люди иной раз бросались с крыши.
Лунатики, сумасброды, преобразователи природы, рационализаторы, сверхгениальные изобретатели, одержимые манией преследования, бредовыми идеями, были неопасны самодержавию.
Стоит использовать.
Алкоголь, как отрава и как лекарство, пили помногу и часто, только так рабочий хотя бы ненадолго мог забыть об унижении, только так ремесленник хотя бы ненадолго мог стать свободным человеком. В винных парах и видениях находили отдушину, потому что умственные видения, созерцание будущего были доступны немногим.
Дома для умалишенных битком набиты, дома для умалишенных и полицейские дома гостеприимно переполнены, по всей империи процветали три учреждения, три учреждения ломились от народа — дома для умалишенных, полицейские дома и дома молитвенные.
Святая троица правила дружно и безраздельно. Что не подчинялось церкви, подчинялось полиции. Что не подчинялось полиции, подчинял себе расстроенный рассудок.
Правители могли спать спокойно, но недооценили они противника.
Партию пролетариата.
Милая мама! Необратимость жизни, ее неповторимость она ощущала острее, чем мы, мужчины. Когда вижу стройных, пригожих девочек, мне вспоминается мама. Вот она идет в моих мыслях, босоногая, песчаным проселком, идет к воскресной обедне, деревенская девчушка с косичками, и только потом уже непосильный труд обезобразит ее.
Какой негодяй придумал присловье: работа костей не ломает. Какой надсмотрщик такое придумал? Непосильная работа ломает самые крепкие кости, непосильная работа перемалывает жизнь, сгибает стан, коромысло сгибает плечи, огород в узловатые крюки превращает руки, нежные руки, и ласка тех скрюченных пальцев для сына нежнее розовых лепестков, ноги распухают, вены проступают голубыми знаками молний, трудовая молния, трудовые знаки. Как выглядят ваши жены, фабриканты, работодатели? В каких квартирах живут, во сколько встают поутру? Какими яствами питаются, какими питиями прохлаждаются? Мы едим картошку, картошку с простоквашей, и это, бесспорно, здоровая пища, но мало тепла от нее человеку, живущему в подвале.
И все-таки в родной семье я был счастлив. Вечное корыто— стирать, полоскать белье — вот материнская доля, отжать простыни, выгладить в парной духоте, зато архипастырь утешит: добро, скажет, женщина, в поте лица есть будешь хлеб; а губернатор скажет: довольствуйся тем, что дают; а главный цензор воспретит обсуждать этот вопрос. В долгополом платье вечером в субботу мать сидит на лавке, греясь на солнышке, сидит, вяжет, беседует с женщинами, а отец в комнате с приятелями в карты играет.
Если заглянуть в подвальное оконце, за мутным стеклом увидишь четверых мужчин, сидящих вокруг стола, и в мельтешении кисейной занавески разглядишь, как ложатся на стол карты.
В уголке же, где посветлее, притулился я, зажав книжку между коленей, — как в детстве зажимал пушистого котенка, чтобы не сбежал на своих мягких лапках, сижу и негромко читаю мужчинам книгу, запрещенную книгу.
Ночью я не мог уснуть в тесноте своей камеры, и тогда восемь журавлей взлетели в синее небо, потому что в восемь нужно было проснуться, и мне снился ужасный сон.
Будто мать моя умерла и явилась мне. Помню лицо, иссеченное морщинами, и в тех судьбой и жизнью отложенных морщинах чернела могильная земля, а в остальном лицо было чисто. Она глядела на меня с молчаливым укором, и как это я не удосужился навестить ее, как мог, а я все терзался мыслью, почему она не смоет землю с морщин. Не смывается, объяснила мать, и я вздрогнул, она читала мои мысли, не смывается земля, повторила, под ногтями тоже, и показала свои руки. Я увидел, под ногтями у нее было черно от грязи. Думаешь, приятно с таким лицом и ногтями? Как же иначе, весь век копала, полола, рыхлила, разгребала, ворошила, пахала, боронила землю, потом вдруг очутилась за полированным столом и улыбнулась мне; а знаешь, сказала, твоя мать умерла, ты же так и не выбрался с нею проститься. Как, воскликнул я в ужасе. Ну да, отозвалась та самая старушка с черным от земли лицом и ногтями, неужто не узнал? Не может быть, не может быть, кричал я, ты в городе! Потом мы с нею повезли оружие в Айзпуте, никогда вместе с матерью не возил оружие, а тут мы ехали вроде бы на базар, в ногах на дне телеги в мешковине лежал зарезанный барашек, а в барашке спрятаны маузеры, патроны. Плотно обмотали горло барашку, и красное пятно расползалось по мешковине. Повозка катилась по булыжнику мостовой, лошадь шагала, оставляя позади себя дымящиеся катыши помета, еще раньше там проехала вереница подвод, воробьи, щебеча, пировали посреди улицы, а тут вспорхнули, потревоженные. Стремительный их полет прочертил штрихи в пасмурном небе, и птицы скрылись за шпилями кирхи. Кирха была из красного кирпича, а на высокой колокольне сверкали золотом стрелки и римские цифры циферблата. Вдоль улицы двумя рядами тянулись каменные дома. Мрачновато лоснились жестяные кровли. Влажный воздух обдувал лицо. Рядом со мною в телеге сидела мать, мы были вдвоем, свои темные волосы мать повязала платком, белым платком, а знаешь, сказала вдруг, мы победили, можешь домой возвращаться, и подхлестнула коня — ну, ну, пошевеливай, — в липовой аллее по листьям стекала роса, в серебряных водах канала купались узловатые стволы.
— Кто хотел видеть господина пристава?
IV
Для пущей важности Грегус велел привести Карлсона в свой кабинет, рядом с комнатой, где проводились допросы. За самоваром там уже сидели Михеев и другие. Одобрительными возгласами полицейские встретили Карлсона.
— На исповедь, на исповедь! — кричал Михеев.
— Все как на духу расскажи господину приставу, — напутствовал Пятак.
Дверь за Карлсоном затворилась.
— Садитесь, — любезно предложил Грегус, указав на мягкое кресло. Сам сел напротив.
— Ну, — произнес пристав, ожидая, что Карлсон первым заговорит.
— Я вроде бы ничего нового сообщить не могу, — неуверенно начал Карлсон. — Захотелось просто посоветоваться с вами, как мне быть? Вы мне не верите, а доказать свою правоту я не могу. Что же мне делать?
— Молодой человек, вы себя дали увлечь ошибочным идеям и потому оказались в столь неприятном положении. Право же, от души вам сочувствую. Быть может, у вас создалось превратное представление о методах работы сыскной полиции? Смею вас заверить, все происшедшее с вами в пятницу вечером чистое недоразумение. Хотя я и сам, так сказать, принимал в том активное участие. — Тут Грегус примирительно хмыкнул, а затем продолжал: — Надеюсь, вы на нас не будете в обиде. Но при всем при том скажу: напрасно вы отпираетесь. Не у всех из вас такие стойкие спины и крепкие нервы. Многие не выдерживают, начинают говорить, себя обелять, других выдавать. Должно быть, догадываетесь, что о вашей деятельности в Либаве нам известно не так уж мало.
Потухшим голосом надломленного горем человека Карлсон ответил ему:
— Да, господин пристав, положение мое прямо-таки незавидное. Прошу вас вызвать из Либавы свидетелей. Я уверен, всякий покажет в мою пользу. Они подтвердят, что я выступал на митингах. Но ведь после обнародования манифеста все только и делали, что говорили. Если вы намерены меня за это повесить, вам следует повесить и всех членов либавской думы, наказать весь Биржевой комитет, потому как он добровольно предоставил нам помещение для собраний. Придется вам арестовать и чинов либавской полиции, которые потворствовали преступной деятельности.
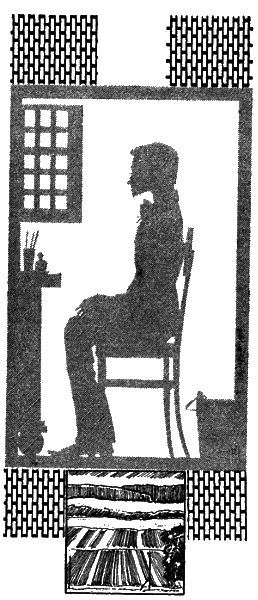
— Ай-ай, какой философ, — заулыбался Грегус, — софист, да и только! «Ты ешь то, что купил вчера. Вчера ты купил мясо, следовательно, сегодня ешь мясо». А если я вчера еще что-то купил? Сочувствую вам, очень сочувствую и сожалею, что такой молодой человек предстанет перед военным судом. Мой вам совет — признаться, откровенно обо всем рассказать, и я помогу вам, насколько это в моих силах. Расскажите о своих рижских знакомых. Мне известно, что вы в Риге уже несколько недель. Ну, вот видите! Все о вас знаем. Знаем и то, что у вас есть чемодан, и можете на меня положиться, если в чемодане найдем оружие, листовки, я по дружбе постараюсь сделать так, чтобы это вам не напортило.
Карлсон ничего не ответил, только потупил глаза, совершенно убитый, потерянный.
— Мне жаль, — продолжал Грегус. — Право, жаль ваших близких, жаль седого отца, любимой матери. Думаете, они переживут смерть сына?
— Родители у меня были бедные крестьяне, — ответил Карлсон. — Их уже нет в живых. С родными я не общаюсь, даже не знаю, есть ли у меня родные. Да и что с ними общаться, все бедняки. Были бы люди состоятельные, тогда другое дело!
— Не скажите, не скажите, — возразил Грегус, — смею вас заверить, беднякам-то как раз и свойственна любовь к ближнему. Вы же читали «Богатую родню» Апсишу Екабса. Ну вот видите, беднякам-то и свойственна любовь к ближнему.
— Может, так было раньше, — произнес в раздумье Карлсон, — только не сейчас.
— Нужно читать хорошие книги! — поучал Грегус. — Художественная литература просвещает, облагораживает. Какие у вас литературные привязанности, какие книги читаете?
— Мне больше по душе классики, Шекспир, например.
— А что вы читали Шекспира?
— «Юлия Цезаря».
— А, и ты, Брут! — воскликнул Грегус.
— «Макбета», «Ричарда Третьего».
— Похвально, похвально, бурные страсти, волевые характеры. А знаете, кто перевел на латышский эти трагедии? Адамович их перевел. Он, как и вы, начинал образование в учительской семинарии. Не горюйте, еще не все потеряно, доверьтесь мне, и я помогу вам выбраться на верную дорогу. Вы читали басни Крылова в переводе Адамовича? Сравнивали их с оригиналом? Отличный слог, прекрасное переложение, согласны со мной?
— Совершенно согласен, господин пристав.
— Благороднейшее занятие! Нести людям свет! А вы? Торговец! Даже не торговец, выдаете себя за торговца! Молоды вы и зелены. Моего коллегу пытались обвести вокруг пальца. А он стреляный воробей. Чтобы льном торговать, нужны капиталы, а у вас какой капитал?
— Капитала никакого, я разорен.
— Разорен! И все же интересно, что бы вы стали делать, отпусти мы вас на свободу?
— Я бы поселился в Риге, — ответил Карлсон, разом распрямившись, просветлев лицом, — поселился бы в Риге, поступил бы на службу. Делопроизводителем в какую-нибудь канцелярию.
— Да? — недоверчиво протянул Грегус. — Но ведь у вас тут нет никаких знакомых. Кто вам посодействует, кто даст рекомендацию? И, между прочим, разве вы работали делопроизводителем?
— Нет, никогда, да ведь это дело несложное, можно научиться. Что касается рекомендаций, я бы попытался обратиться к тем людям, с которыми меня свел случай.
Грегус навострил уши.
— К примеру, — продолжал Карлсон, — вздумай я к вам обратиться за рекомендацией, вы бы отказали?
— Ну что вы, что вы! Я вам искренне сочувствую и готов помочь! — отозвался Грегус. — Только я думаю о ваших политических убеждениях, — осторожно повел он дальше разговор. — Видите ли, я и сам, будучи студентом, увлекался сомнительными идеями, а теперь, признаться, стыжусь этого. Возможно, и с вами произойдет такое. С годами задор пройдет, и лет эдак через пять вы сами посмеетесь над своими нынешними взглядами.
— Ничто не вечно, господин пристав, — ответил Карлсон. — Вы правы. Возможно, уже через несколько дней я посмеюсь над своими нынешними взглядами.
— Ну вот видите, видите, — одобрительно закивал Грегус, — дело вы говорите. Присмотритесь поближе к своим идолам, и вы поймете, что все они корыстны, нечистоплотны. Взять того же Максима, вашего знаменитого агитатора, разве он не превратил идею в статью дохода, сорок рублей за каждое выступление, и смею вас уверить, рабочие его раскусили — духа его не терпят!
— А, тот Максим, о котором в газетах писали?
— Он самый.
— Ну, если все так, как вы говорите, тогда он отъявленный мошенник, надеюсь, уже сидит под замком?
— Пока еще нет, еще нет, — вздохнул Грегус. — Пока Максим на воле. Но уж недолго ему осталось, мы напали на след. Таких надо держать в узде! А вы? Я подумал о вас, не захотите ли кому-нибудь рассказать о том, что у нас перевидели? Может, даже отомстить попытаетесь, очутившись на свободе? Поймите, мы люди нервные, издерганные, перегруженные работой. Неблагодарное дело полицейская служба. Еще раз смею заверить, все происшедшее с вами — недоразумение, ошибка. К тому же сами знаете, какова у нас жизнь, из-за каждого угла в тебя целятся, собачья у нас жизнь, одно слово — собачья!
— У меня и в мыслях не было, — ответил Карлсон, — кому-то что-то рассказывать. С какой стати? И мстить — тоже не по мне. И что толку оттого, что один человек убивает другого?
Карлсон заглянул Грегусу в глаза и продолжал:
— А знаете, интеллигентные люди никогда не вступают в боевые дружины!
— Ну, не скажите, — возразил Грегус. — В Риге есть некий Мерниек, весьма интеллигентный, образованный человек. Но это, доложу вам, зверь по натуре. Для него убить полицейского — раз плюнуть. Ему и череп раскроить ничего не стоит, и жену с детишками разом прикончить.
— Меня бог миловал, — молвил Карлсон, — никогда с таким не встречался.
— Вот видите, а вы все толкуете о законах. Это же настоящее изуверство. И смею вас уверить, как раз у нас в сыскной полиции законы соблюдаются. В пятницу вы помянули жандармское управление. А известно лн вам, что такое жандармы? Я вас немножечко просвещу, любезный! Представьте себе, что вы ровным счетом ничего не знаете об одном из своих знакомых, и в один прекрасный день знакомый этот начинает вдруг поносить царя-батюшку. И вот сами посудите! Ваш знакомый, скажем, видный чиновник, занимает квартиру из семи комнат. Большая семья. Царь-батюшка положил ему приличное жалованье. На него он содержит семью, платит слугам, поварихе, еще и помогает находящейся при смерти бабушке. И вот среди бела дня сей муж вдруг начинает поносить царя. С глазу на глаз, наедине, как мы сейчас с вами. Никто их не слышит. Интересно?
— Интересно, — согласился Карлсон.
— Только не вздумайте поддакивать! Загляните поглубже в ясные глаза того типа и кулаком наотмашь между глаз! За что, спросит он. За то, что ты поносишь царя-батюшку, за то, что хаешь святую Русь. Вот за что! Ибо человек этот, знайте, находится на содержании в жандармском управлении, и он вас вызывает на откровенность. Запомните мои слова, может, пригодятся! Теперь вы убедились, насколько я с вами искренен!
— Такое даже в голове как-то не укладывается, — признался Карлсон.
— Само собой! А вы неопытны, потому и влипли. Но мы подобных методов не признаем. Мы, сыскная полиция, работаем иначе. Мы не уродуем людям души. Сейчас я вам расскажу, как работают жандармы!
РАССКАЗ ГРЕГУСА О ЖАНДАРМЕ-ПОДСТРЕКАТЕЛЕ
Как-то один образцовый жандарм в вверенном ему околотке навел образцовый порядок. Никто у него не стрелял в полицейских, не разбрасывал листовки, не призывал свергать самодержавия, не устраивал демонстраций. И жандарм, что называется, почил на лаврах. Тут начальство призадумалось: коли у него там все в порядке, за что платить ему жалованье? И смекнул жандарм, что начальство собирается урезать ему фонды, уменьшить его штаты. Тогда жандарм отправился к человеку, который, по его предположению, способен был убить полицейского, и сказал ему:
— Послушай, не хочешь ли пристукнуть полицейского?
— Я? — возмутился тот человек. — Чего городишь? Белены ты, что ли, объелся?
— Да не волнуйся, я просто так. Я бы и сам кого-нибудь пристукнул, но не могу, мундир не позволяет.
— Так сними мундир, — посоветовал человек.
— А угрызения совести? Совесть-то с мундиром не снимешь, — возразил жандарм.
— Тут уж я ничем тебе не могу помочь.
— Может, в шахматы сыграем?
— Что ж, давай сыграем.
— А ты все-таки подумай, нет ли у тебя среди полицейских врага?
— У меня вообще нет врагов.
— Говоришь, как дитя неразумное. У взрослого человека всегда найдутся враги. Возьми того же Зирдзыня, мало ли он тебе всяких пакостей делал? Или, скажем, Говстынь, да он всегда готов над тобой потешаться. А Лиелманис? Неужто и на Лиелманиса зубы не точишь? Лично мне он кажется грязной свиньей, дураком набитым, к тому же мошенник и взяточник, каких свет не видел. Уж по нему-то, по Лиелманису, давно могила плачет!
— А знаешь, — сказал человек, — тут я с тобой, пожалуй, согласен. И среди жандармов есть светлые головы!
— Вот видишь! Я вечерами, валяясь на диване, дожидаясь, пока жена картошку с салом поджарит, и так и сяк прикидывал, как бы убрать этого Лиелманиса. Ведет он, каналья, себя безупречно, никак не подкопаешься, дурного слова о царе не скажет, службу несет прилежно, начальство почитает, хитрая бестия, но ты-то знаешь, каков он на самом деле…
— Да, Лиелманис у меня давно в печенках сидит, — в раздумье заметил его собеседник.
— Вот и убей Лиелманиса!
— Нет, нет, тут я пас.
— Ну а если с ведома и одобрения жандармов? Согласился бы, а? Положение твое, насколько мне известно, не ахти какое, заодно, глядишь, и подработал бы. Мы бы раскошелились рубликов на триста. Ну как?
— Кхм?
И однажды темной ночью тот человек убил Лиелманиса, и у жандармов начался переполох. Они-де и не думали подстрекать, просто хотели узнать, какого образа мыслей держится человек, им-де в голову не могло прийти, что этот простак осмелится поднять руку на Лиелманиса!
Вот, мой милый, как работают жандармы. Сами раздуют пожар, сами и тушат. И к таким-то людям вы просились под следствие! Нет, сначала научитесь отличать истинных друзей от ложных. Я вам желаю только добра, но и у меня есть начальство. Чтобы спасти вас, я должен знать правду. Кто помог вам достать фальшивый паспорт? Доверьтесь мне полностью, и уж тогда мы с вами на пару попытаемся пустить пыль в глаза жандармам. Скажите, где ваш чемодан, и я пошлю туда доверенного человека, никто и не узнает, что в нем. Мы свое слово держим, не то что жандармы. Но, повторяю, я должен знать все, иначе не смогу вас выручить. Ну?
— Очень тронут вашей откровенностью и заботой обо мне, — со всей серьезностью ответил Карлсон. — Но паспорт в самом деле настоящий. Можете проверить в волостной управе. А чемодана у меня нет, белье, что было при мне, осталось у прачки.
— Ну, так бы и показали на допросах! Нечего сочинять каждый раз новое, забивать моим парням головы. Вот что получается, когда вы, молодые, неопытные агитаторы, попадаете в руки бывалых полицейских, они вас видят насквозь!
— Вы совершенно правы, господин пристав, — с готовностью согласился Карлсон. — Я еще молодой и неопытный агитатор.
— Ничего не скрывайте, это в ваших же интересах! У вас времени остается совсем мало, — предупредил Грегус. — Завтра предстанете перед военным судом, а может статься, мне будет велено расстрелять вас сегодня же ночью. Судебное разбирательство — пустая формальность. Если начальство прикажет, а вы будете запираться, тогда при всем желании не смогу помочь.
— Будь что будет, — вконец подавленный и расстроенный от всего услышанного молвил Карлсон. — Но завтра мне бы хотелось еще раз переговорить с вами, посоветоваться. Я должен все как следует обдумать, я верю, господин пристав, что вы от души мне хотите помочь.
— Только в камере никому ни слова о нашем разговоре, — предупредил Грегус, — всех я спасти не смогу! Подождите меня здесь! — И пристав прошел в комнату для допросов.
За приоткрытой дверью блеснул самовар, зарумянились полицейские рожи.
До Карлсона долетали обрывки разговора.
— Считаю целесообразным отложить до завтра, — говорил Грегус.
— Притворяется он, — проорал Михеев.
— Увести арестованного! — приказал городовому Грегус, на прощание доверительно подмигнув Карлсону.
— Сегодня же ночью в исповедальню его, в исповедальню, — гремел Михеев, пока Карлсон в сопровождении городового проходил через комнату, — все нам выложишь, болтатор, горлатор, аллигатор!
Пятак тем временем рассказывал анекдот.
— Один латыш — всем хорош и примерный работник. Два латыша — пошли честить правительство. А сойдутся трое латышей, тут мы знаем, о чем они толкуют, потому что один из троих непременно будет нашим человеком!
Карлсона вывели в коридор, дальнейшего он не расслышал, но ему вдогонку несся нахрапистый гогот, — смеялись над анекдотом там, в комнате для допросов, и Карлсон ощутил, как в душе разливалось злорадство. Оловянный твой глаз, костяная нога, теперь ты меня не догонишь! Он был уверен, Грегус заглотил наживку.
V
О чем думали противники во время беседы? Какой подтекст звучал в вопросах и ответах? Какие подспудные мысли помогали или же, напротив, служили помехой?
Как держал себя Грегус? Как вел себя Карлсон?
Руки Карлсона лежали на коленях, неподвижно лежали на коленях в продолжение всего разговора, не дрожали, не потели, ногти опрятные, коротко остриженные.
Взгляд Грегуса скользнул по рукам Карлсона. Тот ощутил его взгляд, как ощущают паука, ползущего по телу. Засвербели кончики пальцев. Грегус загонял под ногти заостренные спички, другим, другим, и при этом участливо спрашивал: «Ну, каково? Вам не больно? Станет больно, скажите, мы не садисты, сразу же прекратим!» А у человека от такой пытки глаза из орбит вылезали, и завязанный полотенцем рот двигался медленно, жутко, и губы вспухали под полотенцем, до крови искусанные. Со многими Грегус так поступал, по дороге в тюрьму их пристреливали, но иной раз Грегусу нравилось просто поговорить, вспороть незрелую душу, вытрясти из нее секреты, загипнотизировать жертву, к тому же ему не давал покоя вчерашний разговор с фон Г., он еще надеялся похвастать, что одолел социалиста, применив исключительно силу мысли.
Слюнтяи декаденты ненастными ночами выли на груди своих девчонок, читали слезливые стишки, с испугом косились на окна, когда ветер дергал ставни.
Руки Карлсона неподвижно лежали на коленях.
Грегус решил, что парень от страха пальцем не способен шевельнуть. В то же время и Грегус невольно заражался спокойствием Карлсона. Господин пристав с утра пропустил несколько рюмок можжевеловой водки, и оттого в голове уважаемого чиновника и бывалого полицейского был сумбур, ералаш, беспорядок, с такой головой нелегко расставить вещи по местам, и приставу казалось, что это он излучает покой, это от него так светло в кабинете, и от избытка хорошего настроения вдруг на коленях замурлыкал шаловливый, пушистый котенок.
Почему бы не сделать этого отчаянного парня своим должником, мне нужны отчаянные парни, которые не держат зла на старого, доброго Грегуса! И когда солдаты наведут на него винтовки, пусть парень умрет с мыслью, что я был его благодетелем.
Карлсону в разговоре с Грегусом помогла его безотчетная вера в будущее — будущее свое и партии. Каждый человек обладает большим или меньшим даром предугадывать жизнь на много лет вперед, поскольку ему известен свой характер и характер тех трудностей, с которыми придется столкнуться. Сущность Карлсона уже теперь весомо и прочно покоилась в будущем, свернувшись и сжавшись наподобие огромной пружины.
Черный змей на камне в море
Мелет белую муку:
Хлеб для тех господ суровых,
На кого все спину гнут…
Будущее покоилось в сущности Карлсона, словно свинцовое море за завесою лет, а где-то глубоко внизу, по ту сторону завесы стоял Грегус, еще не понимая, что в безудержном беге времени распахнется завеса, неумолимый поток ринется вниз, неотвратимый и праведный, как гнев народный, как обвал в руднике, и черный гигантский змей будет молоть муку на скале среди бурного моря, и нет у Грегуса будущего, песчаным комком рассыплется мир полицейского.
«У леса — уши, у поля — глаза, у полицейского — плутни, помни об этом, помни», — твердил про себя Карлсон.
Был у Карлсона еще один союзник — чувство самосохранения. Его можно было бы назвать и страхом. Механизм, подключивший волю, был, возможно, очень схож со страхом, предчувствием опасности. Предчувствие это заставляло чутко вслушиваться в слова Грегуса, искать западню в любом мнимо невинном вопросе, не пропускать мимо ушей даже безболезненные удары кнута.
Предчувствие опасности не позволяло рассеяться вниманию, не давало окунуться в дрему, в уютность мягкого кресла, предчувствие опасности удерживало волю на острие ножа. Бесспорное преимущество.
Грегус в своем кабинете не ведал опасности. Возможно, он чувствовал страх, возвращаясь ночью из полицейского управления домой, когда ждал взрыва бомбы, свиста пули, но в собственном кабинете, сидя в удобном кресле, он в какой-то мере утрачивал бдительность.
Конечно же, у такого полицейского туза отменный аппетит, удобная квартира, приличное жалованье, все это как бы обволакивает полицейского в мягкий кокон благополучия, полицейский теряет нюх ищейки, чует только запах крови, слабый след уже не берет. «Только не вздумай недооценивать его!» — остерегал себя Карлсон. «Иди по слабому следу, но будь осторожен, царский вепрь умен и коварен, у леса — уши, у поля — глаза, у полицейского — плутни».
Но в тот момент Карлсон не сознавал вполне всей своей силы, морального перевеса в сравнении с умственным бессилием заевшегося, спившегося Грегуса.
Я должен быть сильным, потому что меня ожидает дело, говорил себе Карлсон, я должен подавить омерзение, приветливо заглянуть Грегусу в глаза, мне дорого мое дело, я хочу видеть друзей, родителей, близких, хочу видеть голубое небо, зеленое море,
хочу быть свободным,
правда победит, жизнь победит, народ победит, если даже мне суждено умереть.
Да, давно ли на Рижском взморье в Эдинбурге он разгуливал вдоль пляжа в канотье и белом фланелевом костюме, со светлой тростью, кажется, березовой. Из кабинок выныривали обтянутые полосатыми купальниками барские холеные тела, Карлсон знал, что и сам сложен недурно, ранний труд не успел обезобразить его. Карлсону известен был случай, когда революционеру, попавшему в лапы к жандармам, велели раздеться, и палачи при виде высохшего тела с хилыми мышцами, голубой шнуровкой вен на ногах, темным полукружием у пупка, въевшимся на веки вечные от долгого стояния у литейной печи, при виде всего этого жандармы сразу смекнули, что в руки к ним попал рабочий, а не интеллигент, за которого товарищ выдавал себя из соображений конспирации.
Карлсон мог быть спокоен, тело у него достаточно крепкое, ловкое, тело его не подведет.
В разговоре с Грегусом Карлсон глушил свои чувства, давал волю актерским дарованиям.
Чего боялся Карлсон?
Не пронюхал ли пристав о его свиданиях с невестой и сестрой невесты? Но вскоре понял, что Спицаусис не донес начальству. Нижние чины полиции чесали языки и обсуждали действия высших чинов, а высшие нередко оставались в неведении относительно действий нижних чинов. Карлсон мог только порадоваться таким нравам полицейского управления.
Над чем он смеялся в душе?
Над рассказом Грегуса.
Если бы все было так просто, примитивно! Карлсон знал чиновников, вознесенных довольно высоко по служебной лестнице, с незапятнанной репутацией, благонамеренными мыслями и в то же время помогавших революции, только с глазу на глаз решались они высказывать свои истинные убеждения.
Если бы жандармы выложили все о полицейских, а полицейские раскрыли карты жандармов, что за кутерьма поднялась бы в дружной своре царских прислужников!
У кого Карлсон просил прощения?
У родителей, друзей, близких за то, что отрекся от них. У товарища Максима за то, что обругал его.
На что он надеялся?
Что удастся обмануть Грегуса, провести ночь без пыток, а поутру семнадцатого января бежать, захватив с собой всех заключенных одноместной камеры.
Сбылись ли надежды Карлсона?
Отчасти. Ночью допросов не было, прожорливый сом заглотил крючок, и утро подошло в тревожных ожиданиях.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
Карлсон, Розептал, Груидберг, еще трое товарищей провели ночь в тесноте одиночки. О подготовлявшемся побеге знали только Карлсон и Розентал. Остальные до последнего момента ни о чем не догадывались.
Без десяти минут восемь камеру открыли, сказали, что можно пойти умыться.
Еще через десять минут Спицаусис пригласил Карлсона на свидание.
— Ваша невеста уже здесь, — сообщил он и вытянул руку, ожидая, когда Карлсон положит на ладонь очередную дань, четыре рубля.
Свидание проходило в большой приемной.
— Ах, как хочется есть! — были первые слова Карлсона, когда он увидел Анну с корзинкой в руке.
— Сестра прислала тебе конфет, — сказала Анна и, отогнув салфетку, принялась выкладывать содержимое корзинки на стол.
— Почему сама не пришла? — спросил Карлсон.
— Заболела. Простуда. Слегла, пьет лекарства, хотела прийти, да я удержала.
Карлсон взял кулек с конфетами, предложил Спицаусису.
— Прошу, господин надзиратель, угощайтесь!
Спицаусис взял две конфеты.
— Не стесняйтесь, — уговаривал Карлсон, — берите еще!
Спицаусис взял еще две конфеты.
— А вот бутерброды, — сказала Анна.
Взяв сложенные увесистые ломти бутербродов, обернутые в вощеную бумагу, Карлсон протянул их Спицаусису.
— Желаете проверить, господин надзиратель?
— Нет, нет, — отмахнулся Спицаусис, полицейский-сластена, с аппетитом догрызая вкусную конфету, — что там в хлебе может быть, хлеб иголками колоть рука не поднимется. Ешьте на здоровье!
Этим утром в корзинке было много всякой снеди. Окорок, копченая колбаса, дюжина апельсинов, те же бутерброды и кулек конфет.
— Я вижу, вы настроились пожить у нас, господин Карлсон, — вожделенно проговорил Спицаусис.
— Только как мне унести все это? — проговорил озадаченный Карлсон.
— Отнесите в корзинке, — великодушно дозволил Спицаусис.
Опорожнив в камере корзинку, Карлсон быстро вернулся.
— Вот получай, — сказал он, передавая Анне пустую корзинку, — и передай привет от меня сестре!
— Привет передам, спасибо. А что тебе принести в следующий раз?
— Птичьего молока. Аустра обещала мне сорочку и что-нибудь из белья.
— Завтра же все у тебя будет. Может, кроме птичьего молока, еще чего-нибудь съестного?
— Принеси пару пачек папирос «Рига». Что же касается съестного, ты знаешь, я ем все подряд.
— Ну, тогда приготовься к пиршеству, принесу тебе что-то очень вкусное. Совсем теплое, сниму со сковородки, и прямо к тебе!
— Да что ж это такое?
— Увидишь.
— А ты, я вижу, промокла. На улице опять дождь? Или просто сырость?
— Пасмурно, и ветер сильный. Ночью прямо-таки буря разыгралась. Вода в Даугаве поднялась. Ну, теперь я, пожалуй, пойду. Будь здоров, веди себя хорошо!
— Сама веди себя хорошо. Привет Аустре!
— Спасибо.
Спицаусис в тот день совершил роковую оплошность в своей и без того оплошной карьере. Он не проверил бутерброды, а в бутербродах была пара миниатюрных браунингов.
Анна простилась и вышла.
На улице ветер закутал ее в промозглый туман. Ветер дул с Даугавы. Анна торопливо зашагала вверх по Театральному бульвару, миновала почтамт. Мимоходом улыбнулась рослому молодому человеку.
Улыбка служила условным знаком.
Оружие передано, тюремщики ни о чем не проведали, все в порядке.
Еще от полицейского управления за Анной увязался вертлявый тип, коллега Спицаусиса, тенью скользил за ней по обочине тротуара, а позади него, в отдаленье, с ленцой прогуливался консервативно настроенный повар Озолбауд. Шагах в пятидесяти на бульваре неизвестные хулиганы расколотили фонари, и сначала Анна, потом шпик и наконец повар Озолбауд скрылись в предутренних сумерках.
II
Во вторник семнадцатого января в восемь часов пятнадцать минут четверо боевиков — Епис, Страуме, Мерниек и Бравый — вошли в здание полицейского управления и, миновав лестничную клетку, очутились в приемной сыскной полиции. Мерниек и Бравый задержались, сделав вид, что попали туда по ошибке, что им нужен паспортный отдел.
— Сс-каааа-ааа-жите, по-жааа-луйста, — томительно заикаясь, обратился Бравый к городовому, — ку-ку-ку-да н-аам…
«Чего кукушкой раскуковался, чего курицей раскудахтался», — хотел уж было оборвать его городовой, но одумался. Вроде бы господа солидные, одеты прилично, ну, заика, мало ли что бывает, и городовой вежливо осведомился:
— О чем, сударь, изволите спрашивать?
— Ку-ку-ку-да… — все тщился объясниться Бравый.
Епис и Страуме тем временем уверенно двинулись дальше.
Часовой, стоявший у входа, пытался их
задержать, спросил, что им нужно.
— Нам нужен Круминь, — назвал Епис первую пришедшую в голову фамилию, — дело срочное, и потому не задерживайте нас.
Опешивший постовой пропустил их.
На втором этаже сто шестьдесят солдат сторожевой роты после завтрака валялись по койкам, кое-кто чистил оружие, убирал помещение, приводил в порядок обмундирование. Унтеры распивали чаи, господа офипепы в отдельной комнате обсуждали ночные похождения, травили приличные анекдоты.
На первом этаже, во внутренних помещениях тем утром дежурили двое надзирателей, десять агентов и один часовой, двое же городовых и еще один часовой находились в приемной.
В восемь часов шестнадцать минут к тем двоим, что проскочили мимо растерявшегося постового и проникли во внутреннее помещение, подошел второй надзиратель, напарник Спицаусиса, и строго спросил вошедших:
— Кто вы такие? Что вам надо? Кто вас сюда пропустил?
Сам Спицаусис в тот момент в антропометрическом кабинете писал отчет о ночном дежурстве. Одиночку, в которой находился Карлсон с товарищами, сыщик еще не закрыл, давая возможность примерным арестантам поразмяться по коридору, пока не явилось большое начальство.
— Нам нужно видеть арестованного Карклиня, — громким голосом объявил Епис.
Вокруг вошедших столпились надзиратели и шпики. Никто из них не предчувствовал опасности. Часовой, услышав строгий окрик: «Кто вас сюда пропустил?», покинул свой пост и тоже подошел, держа винтовку наперевес.
Занятые выяснением личности пришельцев, агенты не обратили внимания, что арестанты из одиночки тоже подошли и встали рядом.
Карлсон видел, что дуло винтовки нацелено на его товарищей, солдат, вне всякого сомнения, представлял наибольшую опасность, никто из сыщиков пока не выхватил оружия, и Карлсон сказал Епису:
— Ты стреляй в солдата.
Солдат услышал те роковые слова: «Ты стреляй в солдата», и тотчас последовал выстрел; верноподданный царя, опора самодержавия, крестьянский сын из-под Малоярославца, он знал лишь свой родной язык и не понял скрытого в словах приговора. Но если бы и понял, навряд ли бы уцелел. Сколь бы странно это ни звучало, среди всех завзятых негодяев — тюремщиков, сыщиков, надзирателей, полицейских — солдат был единственным, кто действительно сейчас старался защитить интересы не свои — царя, самодержца, а интересы эти обнимала емкая формула: «В случае побега или попытки к побегу солдат при помощи затвора досылает в ствол патрон, целится в преступника, нажимает на спусковой крючок и выстрелом предотвращает побег».
Солдат так и сделал, привычным движением успел отвести затвор, патрон выскочил из обоймы, ринулся в ствол, маслянисто-желтый, как маньчжурский тигр, но было поздно, жутко резануло где-то под сердцем, алая тьма, как царский балдахин, свалилась на солдата, и с этим банальным сравнением солдат заснул на веки вечные. Родился он уже после отмены крепостного права, отец его имел скромный достаток, и единственным примечательным событием в жизни солдата была его смерть. Сказать по правде, брось он вовремя винтовку и плюхнись на грязный пол, нет сомнений, солдат сохранил бы жизнь, и никто не упрекнул бы его в трусости, потому что вся тюремно-полицейская свора разбежалась по углам, а было там ни много пи мало шестнадцать человек, считая городовых с часовым в приемной, — перевес двукратный.
В вопросе гибели солдата авторитетные эксперты так и не пришли к единодушию. По мнению одних, погиб он оттого, что неумело обращался с вверенным ему оружием. Всплыло и другое мнение — будто бы солдат столь ретиво отстаивал царя-батюшку по своей темноте и забитости, но эта точка зрения лишена основания, потому как солдат окончил три класса церковноприходской школы, умел писать, читать и вполне разбирался в том, что происходит в мире. Кое-кто еще считал, что царская служби-стика замутила солдату голову, он так и не понял, кого в тот момент нужно было колоть. Однако приверженцы такого взгляда забывают, что по окончании службы солдата ожидало дома отцовское хозяйство и какая ни на есть землица. Говоря о солдате, следует добавить, что в его поступке не было ничего из ряда вон выходящего, сотни солдат в России стреляли, кололи, пороли, выполняя приказы офицеров, они еще не отведали на собственной шкуре горячего хлыста мировой войны, еще не братались со смертью в броске на вражеский окоп…
— Стреляй в солдата, — сказал Карлсон Еппсу.
Не вынимая рук из кармана, Епис выстрелил сквозь пальто, целясь в солдата. В тот же миг у Карлсона в руке блеснул браунинг, выскочившая гильза со звоном покатилась по полу. Из двух маузеров палил молчаливый Страуме, у Якова Дубельштейна в каждом кулаке тоже по маузеру, и все шесть стволов дергались, изрыгая свинец.
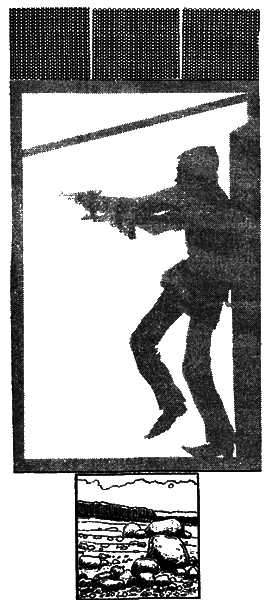
В приоткрытую дверь кабинета Спицаусис видел, как падали, в панике разбегались его коллеги. Прямая опасность Спицаусису не грозила, мог бы спокойно открыть огонь, карман оттягивал наган с привычно притершейся рукояткой, но верх одержала присущая сыщику храбрость: Спицаусис ринулся в окно и вместе с рамой и битым стеклом рухнул во двор, распластался на земле с переломанной ногой и помертвев от страха.
Тем временем изуродованный Межгайлис-Глухарь лежал на полу своей камеры, давно уж сведя счеты с жизнью— по крайней мере до того момента, когда в коридоре поднялся переполох и загремели выстрелы, Межгайлис был уверен, что счеты сведены, он знал — нет никакой возможности забрать его с собой, знал непреложный закон борьбы, и все же, когда загремели выстрелы, раздался знакомый грохот и в камеру заползла пороховая дымка, сладковато-кислая на вкус, хотя Межгайлис мысленно простился с товарищами, с дорогими, близкими людьми, его вдруг ошеломило желание жить, и Межгайлис, сам того не ведая, угрем по полу, — идти он не мог, — угрем по полу подполз к решетке, обеими руками вцепился в железные прутья, и ему захотелось крикнуть: товарищи! товарищи! Ему бы хватило сил выкрикнуть, но он знал, это задержало бы товарищей, операция провалилась бы, все бы погибли, а ему, Межгайлису, все равно погибать, и он пересилил себя, не крикнул.
Мерниек и Бравый в приемной уложили на пол обоих городовых и часового, живы те были или мертвы, одним только им известно, но лежали тихо, не шелохнувшись, а Мерниек стоял на лестничной площадке внизу, по маузеру в руке, и держал под прицелом дверь второго этажа, перекрыв пути сторожевой роте.
Как позже выяснилось, солдаты на втором этаже, видя, что дверь прошивают пули, и не подумали броситься вниз на выручку полицейским. Солдаты поспешили забаррикадировать дверь громоздким шкафом, опасаясь, как бы налетчики не забросали их бомбами. Как выразился на следующий день поручик Флатерный, они думали, что мятежников по крайней мере сотня, в памяти еще было свежо воспоминание о дерзком налете на Центральную тюрьму, и потому солдаты были озабочены только тем, чтобы удержать свои позиции. После первых же залпов внизу создалось впечатление, будто налетчики разом одолели всех шестнадцать человек охраны, а раз так, силы их должны быть значительны.
Потому солдаты помышляли только о самообороне, и шестеро освобожденных вместе с четырьмя освободителями благополучно выбрались из здания и затерялись в утреннем, в туманном муравейнике города.
Дежурившие вблизи полицейского управления городовые, сыщики и часовые, заслышав шум перестрелки, решили, что это полицейские сводят счеты с социалистами, никому и в голову не пришло своевременно поднять тревогу.
Случилось так, что в восемь часов двадцать минут мимо полицейского управления шел к бульварам в целях утреннего моциона дилетант Зилбиксис. Незнакомый молодой человек бесцеремонно сорвал с головы фотографа его мягкую велюровую шляпу и скрылся в толпе, так что уважаемому дилетанту пришлось продолжить прогулку с непокрытой головой. Кто-то из дружинников оказался без головного убора, вот и решил пополнить свой гардероб, чтобы не привлечь внимания, попадись навстречу патруль.
Когда поднятая по тревоге казачья пулеметная рота бросилась через привокзальную площадь окружать квартал, примыкающий к улице Карла, где предположительно укрылись беглецы, верховые проскакали мимо какого-то молодого человека, тот посреди площади что-то искал, в неверном свете зимнего утра оглядывая каждую пядь брусчатки, и при этом бормотал про себя:
— Не оставлять же мои чудо-галоши этим мерзавцам!
Молодой человек нашел наконец свою потерянную чудо-галошу, надел ее, выпрямился, проводил глазами прыгающие спины всадников — вверх-вниз, вверх-вниз, ловко у них получается! — двинулся в сторону Мариинской улицы.
III
Восемнадцатого января вечером у перрона Динабургского вокзала в Риге стоял курьерский поезд. На нем губернатор Звегинцев отправлялся в Петербург на аудиенцию с Николаем II, чтобы лично доложить монарху о положении дел в Прибалтийском крае.
Мимо пышной губернаторской свиты прошел носильщик с двумя кожаными чемоданами. За носильщиком следовал стройный господин, судя по внешности, какой-нибудь немаловажный министерский чиновник, монокль в глазу под стать дипломату, холеные усы.
Миновав губернаторский вагон-салон, господин поднялся в соседний. Вошел в купе, расплатился с носильщиком. Пока что он был один. Опустился на мягкое сиденье. Достал из кармана бумажник, просмотрел документы, особенно внимательно ознакомился с паспортом.
Отныне его звали Робертом Штраусом.
Появился второй пассажир, отдавая дань приличию, попутчики обменялись несколькими фразами. Роберт Штраус оказался неразговорчивым попутчиком.
Едва поезд тронулся, Штраус попросил проводника постелить постель.
— Так рано спать? — удивился сосед. — Может, пройдемся в ресторан-вагон, говорят, что в губернаторском курьерском отменный повар.
— Благодарю, мне что-то нездоровится, — ответил Штраус.
Когда сосед ушел в ресторан, Штраус облачился в шелковую пижаму, лег, закрыл глаза, мысленно про себя повторяя волшебные слова:
— Синее небо.
Семь журавлей!
Семь журавлей улетают в синее небо.
Семь журавлей курлычут,
Семь!
Он видел, как в синем небе скрывается семерка журавлей, журавлиный косяк становился все меньше и меньше, пока едва различимая точка совсем не растворилась в голубизне неба.
Когда попутчик вернулся из ресторана, Роберт Штраус спал глубоким сном.
Мчался в ночи земной шар, а на земном шаре Россия мчалась навстречу ночи, в теплых, мягких, широких постелях, на матрацах, набитых морской травой, на пуховых перинах, тюфяках, на железных кроватях с шишками в изголовье, на койках госпиталей, на кроватях богаделен, на блошиных лежанках, на жестких тюремных нарах и мягких диванах курьерских поездов навстречу ночи мчалась Россия.
Империя, выжившая из ума дура, расслышав, как стучит в ее груди сердце, как бьется пульс в артериях, решила, что поправится, если остановить кровообращение, и вот, набросив себе на шею петлю, затянула ее и бьется в агонии и норовит затянуть потуже, ну, еще, еще немножко, уж тогда наверняка все пойдет на поправку, все прекратится само собой, прекратится —
в камерах пыток, в могильных ямах.
В Прибалтийском крае только за декабрь и январь было расстреляно, повешено девятьсот пятьдесят девять человек, сожжено сто двадцать девять домов.
В тысяча девятьсот пятом году из России за границу было вывезено 278 424 000 пудов пшеницы, и в то же время два миллиона подданных страдали от голода, страшный голод невозможно было уничтожить, и потому уничтожали людей, осмелившихся говорить о голоде.
Тысячи сытых купались в роскоши, уверовав в несокрушимую мощь самодержца, крепко держась за ключи от сейфов, держась за тугие кошельки, ощущая приятную теплую тяжесть в желудке,
тепло денег ощущая в тугом кошельке, жили.
Грузно ступал динозавр монархии, высоко над землей вознеся свою крохотную головку с бездумным, маленьким мозгом,
динозавр еще имел власть над бездумной силой, сила затаптывала все, к чему только могла подобраться, топ-тон-топ, топали ножищи, урра, урра, рычала луженая глотка, динозавр боролся с маленьким человечком, пытавшимся отстоять свои права, топ-топ, урра, урра, еще не поняв широты и величия революции, еще не видя земли с птичьего полета, откуда можно было подсчитать горящие помещичьи гнезда; еще казалось, что все поправимо, еще буржуй ликовал, убежденный, что победа осталась за ним, а горячая лава с пролетарского, крестьянского вулкана уже подползала к дворцам, с ревом катилась в поместья.
Будут дни бежать и сливаться в недели, недели в месяцы, месяцы будут бежать и сливаться в годы, побежит огонь по бикфордову шнуру времени, и в семнадцатом году грохнет взрыв, от которого содрогнется мир и в прах разлетится веками взращенная монархия, тюрьма народов, Российская империя.
IV
Неспокойно спалось Роберту Штраусу, снился ему сон, и во сне его звали настоящим именем — Янисом Лутерсом, и привиделось ему, как разбитые дружинники после битвы под Айзпуте отступают, продираются сквозь дремучий лес, и сам он, уходя все глубже, отбился от остальных, остался один и все бредет, бредет, разросшийся под высокими соснами ельник цепляется колючими лапами за одежду, царапает лицо. Двустволку он не бросил, тянул за собой, держа ее за ствол, а бедро холодил тяжелый маузер.
Унес ноги.
А как же другие? А как же правое дело?
Он задыхался от боли, временами казалось, что печень раздуется и лопнет, боль сжимала грудь, боль от злости.
Он знал, что злиться опасно, от злости портится кровь, разум затмевается, злость мешает думать, и, проходя мимо старой мшистой ели, он с размаху саданул по ней прикладом бесполезной теперь двустволки. Та переломилась с сухим треском, приклад, пристегнутый к ремню, больно стукнул по ноге, но боль та была пустяком по сравнению с болью сердца.
На лесной опушке он наткнулся на мертвое тело. Дружинник из Айзпуте. Старуха мать весь лес обегала, пока собака не вывела на эту опушку, и теперь старая стояла, воздев руки к небу, призывая все самые страшные кары на головы убийц родного сына:
«Вороны мертвым глаза выклевывают, вы хуже воронов, у живых глаза клюете!
Свиньи поедают раненую тварь, вы хуже, чем свиньи, живых живьем пожираете!
Чтоб сгорели вы на малом пламени, чтобы в жилах ваших кровь с песком перемешалась, чтоб мозги у вас повысохли, как ласточкины гнезда, чтобы кости ваши, как сухой бурьян, ломались, чтобы в глотки вам колы нетесаные загоняли, чтобы кишки у вас и селезенка, как сита, прохудились, чтобы вас черви заживо источили!»
Выбившись из сил, старая примолкла. Ворожея, причитательница, мудрости народной хранительница, она помнила древние проклятия.
И сколько праведного гнева было в ее словах!
Слова, словно птицы, вздымались над лесом, унося с собой несказанную боль и ненависть, слова распускались на ветвях деревьев, слова падали в землю, прорастали семенами, и люди собирали те слова вместе с ягодами, пили их с березовым соком. А позднее крестьяне срубили ту ель, под которой ворожила и голосила старуха, ель распилили, раскололи, высушили, свезли в город и продали, и еловые поленья запылали в печах, и зимними вечерами люди смотрели на огонь, и в огне возникали былые битвы, и опять звучал голос зовущего.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ИСПЫТАНИЕ КЛЕТКОЙ
Прочтя эту книгу, иной ее покупатель пожалеет о затраченных средствах. Обманул его Алберт Бэл. Зацепил на пустой крючок: в каждый из трех романов ввел… следователя.
Нечестно. Ведь следователь — непременный и незаменимый персонаж детективной литературы. Где следователь — там всегда закрученная интрига, тайна и поиск, пальба и допросы, погоня и смерть. А у Бэла — что?
Ну, ищут кого-то. Кого-то допрашивают. Постреливают кое-когда… Только все это, как говорится, дым без огня. Бутафория. Блеф. Ловля на приключенческий антураж. Чтобы под шумок холостых выстрелов накормить обознавшегося покупателя всякими «вумными» разговорчиками: это, мол, нравственно, а это, мол, нет, надо жить так, а не эдак.
Философия, одним словом. Скука. Два целковых прямого убытка…
Именно так или очень похоже будет думать наш покупатель, и вряд ли есть смысл ему возражать. Ибо он прав: романы Алберта Бэла не для чтения по дороге из дома на службу или со службы домой. Не для приятного препровождения неприятного времени.
Они для другой надобности. И для другого читателя. Для которого художественная литература не развлечение, а возможность еще и еще раз с помощью книги добраться до сокровенного в собственной душе и учинить себе пристрастный допрос: кто ты? как бы ты выглядел в тех обстоятельствах, которые сотворил для своих героев писатель?
Человек должен знать, на что он годится. Детективная атрибутика у Алберта Бэла не прикормка для карася, а способ, посредством которого он возбуждает в своих романах чрезвычайную обстановку, и, в ней оказавшись, каждый из персонажей, как пи брыкайся, не в состоянии миновать, обойти частокол нравственного чистилища. Здесь обрывают свой век иллюзии и начинается век знания о себе и себя: кто ты.
Это и есть та точка, к которой спешат и в которой сходятся все устремления и все мысли Алберта Бэла. Тут его основная работа. Тут он пирует. Тут и читатель словно бы в самом деле попал на пир, присматривает для себя, примеряет на глаз, чья из одежд приглашенных к столу ему по размеру, по стати, по выправке. Благо «хозяин» — человек хлебосольный: вон сколько всяческого народу наприглашал. Выбирай!
О тех, кто собран за этот стол, и пойдет разговор. Но прежде, как водится, скажем несколько слов о самом «хозяине».
Латышский писатель Алберт Бэл не молод уже, но еще и не стар: сегодняшний его возраст — это гребень возможностей для профессионального литератора: сорок лет. Не берусь утверждать, что уже со школьной скамьи Бэл готовил себя к писательству, но сама его биография — как нарочно придуманная — говорит о том, что готовил. Может, и неосознанно, но готовил.
Посудите сами.
Человек поступает в техникум коммунального хозяйства, учится там два года и вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов — сдает экзамены в училище циркового искусства. Отслужив в армии, люди обычно возвращаются туда, где учились или работали. Бэл не возвратился. Новое его дело — чертежник. Но и за кульманом он простоял недолго — стал спортивным инструктором. Легко ли вяжется спорт с археологией? Вроде не очень. А у него связалось: попал в археологическую экспедицию, притом не рабочим — землю копать, а художником.
Приехал обратно. Теперь за что взяться? Какое дело теперь ему всех нужней, всех важней? Пошел в… актеры миманса. Он много видел и много слышал. И многое в жизни понял. Ему уже есть что сказать. Но надо, чтобы накопленное и понятое в хождениях по людям улеглось, отстоялось, а не разбрызгалось по мелочам и впустую.
Надо какой-то срок помолчать. Зарядиться молчаньем. Недаром же люди молчат перед дальней дорогой.
Только на третий год работы в театре жеста и мимики Бэл, наконец, «заговорил». Он написал рассказ. Затем — второй, третий. И?с напечатали. Тогда он решил, что поход за отправным писательским материалом удался, и бросил театр.
Отсчет дописательских лет Алберта Бэла истек. Начался отсчет его лет в литературе.
…Первые кратки Бэла всеми нитями связывали его творчество с нравственными поисками так называемого «четвертого поколения» русских писателей, заявивших о себе на рубеже 50—60-х годов, а также с молодой латышской литературой того же периода, которая взяла на себя заботу и труд проникнуть в духовный мир своего сверстника — человека, только еще вступающего или недавно вступившего в самостоятельную жизнь. «Соединительное звено» этих двух «составляющих» первоначальные прозаические опыты Бэла критика нащупывала в их исповедальности, яркие знаки которой носили обе литературы. Но уже тогда было замечено и некое отличие Бэла от тех, кто ходил в его братьях по духу. Бросались в глаза не очень-то свойственные исповедальной прозе рассудочность, «притчевость» в фабульных построениях, обнаженная назидательность замысла. И вот теперь, когда вслед за рассказами и романом «Следователь» Бэл обнародовал «Клетку» и «Голос зовущего», стало ясно как божий день: в поиске себя и своего места в литературе он шел не только от тех и с теми, кого называли критики. Ибо он (перечитаем его ранние вещи сегодняшним глазом) не исповедовался. Он — исповедовал! И более того: выслушав очередного своего прихожанина — персонажа, он каждый раз словно бы забирался на кафедру и, в зависимости от того, что услышал, — поощрял, предостерегал, осуждал.
В последних романах Бэл делает это и вовсе открыто. Нет, не исповедальную прозу писал он и пишет. То, что выходит из-под его пера, — если уж продолжать возникший ряд понятий и слов, — ближе всего к тому, что именуется нравственной проповедью. Что же касается его «духовных отцов» и «единоверцев-братьев», то, право, стоит ли мучить себя, выискивая, подбирая и сращивая «одноцветные» проводочки-концы? Не было еще такого писателя, который родился бы на голом месте — сам по себе: ни от кого не произошел, ни у кого не учился, не имел бы схожего с кем-то литературного кредо. И Бэл здесь не исключение. Однако поименно гадать-называть тех, из кого он будто бы вышел, пристраивать его к тому или иному течению в литературе, кроме того, что подобная практика в критическом деле давно уже стала раздражающим штампом, еще и потому представляется необязательным, что ведь гораздо важнее и интереснее находить в писателе как раз свое, индивидуальное, от других отличительное, нежели искать в его лице чужие черты. Всякий настоящий писатель — это, в конечном итоге, всегда на других непохожий, единственный в своем роде духовный мир. Этим писатель и интересен — прежде всего…
Первый роман — «Следователь» — вобрал в себя многое из того, что принадлежит не одному Алберту Бэлу. Уже сама его форма— следственное дознание — без труда отсылает память читателя к массе отечественных и зарубежных произведений последних лет, где именно этот прием помогает добраться до глубин человеческой психологии. Так вот, читаешь, и кажется поначалу, что действительно вроде бы Бэл идет по истоптанному пути, шаг в шаг за другими. Только вот… следователь у него странный какой-то субъект.
Ладно уж, что он без браунинга в тайном кармане. Это бывает. Но бывает ли так, что, расследуя преступление, сам следователь ухитряется не наследить, не дать читателю о себе никакой информации?
Мы не знаем, молод он или стар, какие у него глаза, руки, какая походка, какие привычки, во что он одет. Мы даже не знаем, как его звать. Нам неизвестно о нем ничего, потому что мы так и не видим его ни разу. Только лишь слышим. Это человек-невидимка. Голос без плоти. Он только и знает одно: допрашивать. И мы только одно о нем знаем: он — следователь.
И приходит на ум, что все это совсем не случайно, что тут не просчет, а некая хитрость, разобравшись в которой мы и доберемся до индивидуального в Бэле, до отличающего неповторимость его писательского липа.
Итак, разбираемся. Повышенная пристрастность следователя к подследственному наталкивает нас на мысль, что он не профессиональный криминалист, чей интерес к делу ограничен обычно служебными рамками, и не начитавшийся Конан Дойла сыщик-любитель, для которого ловко разгаданная тайна — перво-наперво корм, ублажающий самолюбие. Нет. Это кто-то совсем другой. Третий. Неведомый нам по детективной литературе. Его уверенность в ведении дела и знание всех мелочей жизни дающего показания столь абсолютны, что неминуемо возникает чувство, будто он появился в доме скульптора Юриса Ригера не в связи с преступлением, а гораздо раньше, очень давно, уже в то далекое время, когда маленький Юрис впервые ошутил, что живет на земле, что он человек.
И чем дальше читаем, тем все более крепнет в нас это чувство. И наступает момент, когда все сомнения позади. Мы не ошиблись: следователь у Бэла — так и есть — человек-невидимка, голос без плоти. Физически он не существует. Это что-то вроде второго «я» в человеке, его внутренний голос. А может быть, этот следователь — совесть Юриса Ригера?
Пожалуй, это вернее всего. Именно: совесть. Вспоминая себя и людей, которые его окружали и окружают, продумывая задним числом свое отношение к ним и свое поведение с ними, герой романа отдает свою жизнь на пристрастно-безжалостный суд собственной совести: так ли я жил?
Вот она — хитрость. Вот она — точка, откуда Бэл пошел сам по себе, без посторонней помощи. Вот где начало интереса к нему как К «самостоятельно мыслящей единице».
Этот интерес растет от строки к строке, потому что мы с трудом себе представляем, как Бэл из всего этого выкарабкается: Юрис Ригер судит себя — а за что? Что юн такого сделал? Он хотел помирить брата с отцом, пригласил их к себе, и этой же ночью брат умер. Он хотел сделать как лучше, а вышло как хуже. Разве он виноват? Случилась беда — вот и все.
Но недаром появляется Следователь. И, среди многих других, недаром задает этот вопрос: зачем Юрис Ригер хотел уничтожить им же самим созданные скульптуры?
Ригер ответил: «Что от них толку, если смерть неизбежна».
Эти слова, раздавленный происшедшим, Ригер произносит в конце романа. А в начале и на минуту невозможно представить, что этот человек способен на такой глубокий душевный спад.
Юрис Ригер — человек ровный. Его рассудок всегда и при всех обстоятельствах верховодит эмоциями, держит их в жесткой узде. Еще мальчиком он возненавидел издевавшегося над ним учителя физкультуры, но ненависти своей не выдал, а долгие годы исподволь качал и качал мускулы, чтобы достичь в силе и ловкости своего обидчика и отомстить. Но когда Юрис уже был «в боевой готовности», вдруг обнаружил, что учитель-мучитель здорово сдал за то время, за которое сам он нарастил силу. Придет ли удовлетворение, если он изобьет человека, который заведомо слабее его? А что, если другое чувство придет?.. И рвущиеся на волю эмоции спрятались и затихли, придавленные железными аргументами разума.
С этого эпизода, по сути дела, и начинается наше знакомство с Юрисом Ригером, с биографией его внутренней жизни, с жизнью его души, которая, как мы сразу же понимаем, не живет сама по себе, не вольничает, а находится под строгим надзором недремлющего рассудка. Да, да, недремлющего! Ибо даже ночью душа его не обретает свободы, не отдыхает от всевластной опеки: Ригер не просто, как прочие люди, видит «предлагаемые» ему сны — что «покажут», то и хорошо; как бессменный часовой, его разум и тут на страже — он пытается обуздать стихийный ход сновидений, подчинить его логике, направить привидевшееся во сне в русло наяву исповедуемой им философии. Вот слова Ригера по поводу только что увиденного сна: «…в нем все время приходилось быть начеку, к тому же наблюдать за собой со стороны». А вот его «философская система»: она «…основана на том, что жить имеет смысл уплотненной жизнью».
Уплотненная жизнь, по Юрису Ригеру, это не только работа. Это еще (а может быть, прежде всего?) активная связь с окружающими людьми, с обществом, с временем, в котором довелось жить. О чем бы Ригер ни думал, о чем бы ни говорил, он всегда поворачивает в это русло: я и общество, я и время. Ему отвратительна мысль о себе как о «гвоздике» в сложной конструкции жизни. Нет, он не может не согласиться, что зависит от времени, что ему подчинен. Но и время ему тоже подчинено!
Чей-то голос нашептывает ему во сне: ты — бог. Он и не пытается возражать. А наутро, проснувшись и «разобравшись в полученной информации», впрямую решает: «Никакой господь бог не сможет за меня сотворить мой мир. Только я сам». У него и план уже есть переустройства мира, перестройки взаимоотношений между людьми. Что нужно для того, чтобы на земле все поправилось и рассосалось? Право, не так уж и много: загнать всех чертей туда, откуда они пожаловали, — в ад. И тогда бесстыдники не смогут совращать целомудренных, крикуны перестанут кричать в уши тихоням, а ненормальным не удастся отравлять жизнь людям нормальным.
Он оптимист, Юрис Ригер.
«Ты оптимист», — с грустью констатирует Ева, видя в этом качестве мужа нечто стыдное для мыслящего человека. Она говорит ему о том, с чем не может примириться ее душа: что люди все еще строчат на людей доносы, что в газетах зачастую сглаживаются жизненные конфликты, что равнодушие, цинизм, демагогия стали вполне терпимыми спутниками у времени. Л он? Он только и делает, что округляет ее суждения, ищет оправдательные мотивы для недостойного, объясняя «отдельные недостатки» и «некоторые случаи» инерцией гирь, с которыми люди, мол, лишь недавно расстались, а точнее — еще только проходят, как говорится, процесс расставания с ними. Одним словом, на эволюцию напирает, на диалектику.
Странно. Как же это вяжется в Ригере: с одной стороны — одним махом взять и загнать всех чертей в ад, с другой — гири какие-то, диалектика.
«Ты живешь, как крот в своей норе», — сказала Ева.
Это он-то? Тот самый, который даже во сне. можно сказать, не перестает заботиться о социально-нравственном переустройстве человеческого общежития? Да за такие слова…
А вокруг-то, вокруг столько курортного счастья и красоты: жарко печет-ласкает южное солнце, ревет синее море, горы откликаются эхом, груды жизнерадостных загорелых тел на раскаленном песке — все вокруг так фантастически противостоит обиходу жизни, в которой он повседневно живет, работает, мыслит, что, право, не грех бы и отдых дать натруженной голове: «…кому нужен этот спор в таком прелестном месте?»
Но минуту назад голове его было больно. И хоть Ригер не звал эту мысль, она вдруг явилась ему: а что, если Ева потому все происходящее переживает острее его и непримиримее, что ближе, чем он, соприкасается с жизнью? Ну, а за эту мысль уж вовсе незваная зацепилась: «Султан, ой. султан, не начинаешь ли ты заплывать жирком?»
Хорошие мысли, правда? Как говорят, продуктивные. Только Ригер их тут же выдавил из себя. Как неподобающие оптимисту. Как несозвучные самой музыке этого «прелестного места», «где оптимисты растут, как грибы».
Естественный вопрос: так, может быть, именно в обстановке все дело, в южной экзотике, помноженной на расслабленно-отпускное состояние, — вот и отпихивает Ригер все то, что мешает ему наслаждаться заслуженным перерывом в работе?
Чтобы ответить, заберемся вместе с отдохнувшими мужем и женой и самолет и перенесемся на север, в Ригу, где у них дом и куда, среди прочих других, заходит иногда человек по фамилии Кризенталь, известный художник. Так вот, Кризенталь как-то сказал, что в жизни все запланировано: в праздник делаешь то, в будни это; что человек, как трамвай на рельсах, — ни влево, ни вправо, на остановках его подгоняет график, на перекрестках бездушные светофоры и готовые за всякое нарушение взыскать штраф регулировщики.
Любопытно. Во всяком случае, есть над чем призадуматься. Есть с чем поспорить.
А Ригер? Вот что он думает: «Еще один пессимист… у него в голове обычные философские пустячки о суете и бренности земного». Вслух же бросает: «Бесполезный разговор…»
Ну как, уловили связь? То есть абсолютно та же реакция, что и в случае с Евой. Услышав от нее то, что ему не хочется слышать, он категорически пресекает возможность попасть в неудобное, невыгодное для себя положение: кому нужен этот спор? Услышав рассуждения Кризенталя, грозящие подорвать взлелеянную им веру в себя, как в свободную, самостоятельно определяющую свой путь личность, он цепляется за этот спасительный ярлык — «пессимист», что для него привычно ассоциируется с пустяковым взглядом на жизнь, и, тем оправдав для себя нежелание продолжать разговор, обрывает его: бесполезно!
Но, может быть, эти два факта все же не характерны для Ригера? Может быть, вопреки геометрии, в данном случае не хватает двух точек, чтобы выстроить линию? Тогда разрешим себе еще одну точку поставить… Из мест, куда люди по собственной воле не едут, возвратился школьный товарищ Ригера, некто Иванов, «довесок к несправедливо осужденному» отцу. Лицо увяло, десны изрезаны цингой. «Старичок в двадцать лет». Воспоминания его о последних годах, надо признать, не такие уж радостно-светлые. Так вот, время от времени вставляя в его рассказ: «но ведь тебя освободили», «теперь все иначе», «вот видишь!» — Ригер с неудовольствием заключает: «Ты просто пессимист».
Надеюсь, теперь уже нет сомнений, что это — линия? Линия поведения, если не сказать — линия жизни.
Да, самый легкий способ решать те или иные проблемы — это попросту уходить от них, отрицать их наличие. Ригер ни разу не признается себе, что именно этим он занимается, по мы-то, внимательно вчитываясь в текст, не можем этого не заметить.
Нет, он не сотворил — он сконструировал собственный мир. И никакой он не бог в этом мире, ибо бог — в самом широком понимании этого слова — вдохновенный творец, чьи инструменты в работе — не только холодный «разум-резец», но и горячее сердце, восприимчивая к сторонним мыслям и чувствам душа. Можно такое сказать о Ригере? С теми шорами, каковые, дабы обезопасить свое спокойствие, он пугливо-предусмотрительно пристроил к глазам? С той заколоченной оградой-преградой, что расставил он на путях всяческого «инакомыслия», которое может проникнуть в его правильный мир тотального разума?
Нет, он не бог, он — узурпировавший бога в себе тиран, запрограммированный ум-диктатор, загнавший в самые дальние углы-казематы все то, что способно ограничить, ослабить его верховную власть… А Ригер еще рассуждает о какой-то свободе личности! Что ж, если свобода состоит в том, чтобы «держать» и «не пущать», то, можно считать, он свободы добился. Он освободил себя от необходимости держать в голове чужие тревоги и пускать в нее го, что исходит от сердца, что порываются выкрикнуть придушенные холодной плитой рассудка невольники-чувства…
Настало время сказать, что все написанное мной о Юрисе Ригере в романе не выглядит столь обнаженным. Наоборот: прямые мысли об истинной сути героя спрятаны Бэлом глубоко и настолько надежно, что долгое время находишься в искреннем заблуждении, принимая Ригера не за того, кто он есть, а за того, за кого он сам себя выдает. На протяжении многих страниц романа герой не перестает, не устает рассуждать о таких высоких понятиях, как время, общество, личность, об их неразрывной зависимости и взаимосвязи, и мы, попав под гипноз общепринятого толкования им известных проблем, настраиваемся на волну доверия и симпатии к этому человеку; нам кажется, что он близок нашему восприятию жизни, что он — свой. И надо не раз и не два вернуться назад, перечитать то, что уже прочитано, прежде чем мы нащупаем некую трещину, некий разрыв между тем, что он говорит и как он себя ведет, как живет.
Вот он говорит о необходимости для всякого творческого человека, художника, быть социально активным и, опираясь на собственным опытом выстраданные убеждения, решительно действовать, коль встретился на пути крутой поворот, возник острый момент. Все верно. В том смысле, что сказано верно. А на деле? Следует ли он в жизни тому, что на словах декларирует?
Рано или поздно, но обнаруживается, что за этими верными словами в общем-то нет никакого соответствующего их высокому пафосу дела. И более того: если такое дело подвертывается ему вдруг, он от него уходит, бежит.
Спросим себя еще раз: почему он обрывает спор с Евой? почему затыкает рот Кризенталю? почему в разговоре с Ивановым старается, как говорят, закрыть тему?
Отчасти мы уже поняли. Поняли, что это лишь отговорка: дескать, все они «пессимисты», и ему, Юрису Ригеру, одаренному противоположным мироощущением, слушать их скучно, или, как он выражается сам, — бесполезно. Мы поняли, что здесь гораздо глубже: он боится потревожить устои воздвигнутого им для себя мира.
Но есть здесь еще одна глубина, еще одна, самая нижняя ее отметка. Понять сокровенное в Юрисе Ригере, истинную его суть, можно только в том случае, если к этой отметке пробиться… Ригер потому так последовательно и твердо пресекает «скользкие» разговоры, что не хочет другим выдать то, что сам о себе знает уже давно: именно он, оптимист Юрис Ригер, и есть тот самый трамвай, что скрежещет по неукоснительным рельсам, обставленным разного рода указателями, светофорами и регулировщиками. Он догадывается, что, если хоть раз даст волю своим оппонентам, допустит втянуть себя в пучину сомнений, тут же и кувырнется его трамвай, сойдет с накатанной линии. Что тогда делать? Как тогда жить? Ведь только пока он на рельсах — он личность. Сильная. Гармонически развитая. Почитаемая всеми вокруг. И собой — в первую очередь.
В романе нет ни единой строки, которая бы нам сказала, что Ригер стыдится, грызет себя за то, что сегодня, вчера, позавчера спасовал перед кем-то в словесной дуэли, сделав вид, будто повод сражаться слишком ничтожен, да и сами противники ему не под стать. В романе этого нет.
Но это в романе есть! Иначе ничем нельзя объяснить его страсть развенчивать всевозможные афоризмы, устоявшиеся изречения и слова, записанные в древние книги. Этим самым он как бы прикрывает свой стыд, компенсирует недовольство собой. Одним словом, отыгрывается. И здесь он — герой. Здесь он смело бросается в бой. С неживым оппонентом.
«Не думай, что думается, а думай, что должен». Ригер негодует против этой уничтожающей человека формулировки. Лихо оперируя фактами из недавней истории, он доказывает гнусность заложенного в этих словах смысла.
А если обойтись без истории? Если приложить эти слова к сегодняшней жизни, к сегодняшнему конкретному человеку? К тому же Юрису Ригеру, например? Как там у него получается с думами? Всем ли, что просятся в голову, оказывается радушный прием?
Но Ригер знает: не будет ему этих вопросов. И других никаких не будет. Потому что некому их задавать… Спор, в котором ты заранее — победитель! Это ведь так вдохновляет. Зовет на новые подвиги: «Ненавижу Библию за эти дурацкие побасенки. Родись в свое время! Если люди не научатся переделывать время, они ничему не научатся…»
Красиво, не правда ли? И, на первый взгляд, вроде бы и придраться тут не к чему. Но попробуем. Чем же так не угодила Ригеру названная им «побасенка»?
Начнем с того, что этот «лукавый» библейский постулат, конечно же, распространяется не на любого и каждого. Для многих людей в общем-то не имеет значения, на каком отрезке земного времени они появились на свет и где протекает их жизнь. Где и когда родились, там себе и живут. Хорошо или плохо, радуются или недовольны — это другой вопрос. Но живут, вполне соответствуя уровнем своего развития времени на дворе.
Это не всем адресовано: родись в свое время. Сказано это о людях выдающихся, незаурядных, о тех, кто по своему интеллекту, воззрениям, знаниям и пониманию жизни то ли опережают время (рано родились), то ли пропустили момент для наилучшего использования своих сил (родились поздно). Подобных примеров — и из истории, и из жизни вокруг — можно привести не один и не два. Ню в том-то и дело, что Ригеру эти примеры совсем не нужны. Как умный человек, он, без сомнения, понимает, каких людей и какие судьбы имеет в виду библейский тезис. Однако делает вид, что заложено в него другое понятие, что этот тезис касается всех, в том числе и его самого.
Но ведь он-то… не такой, как все! Он — незаурядная личность. Незаурядная личность — а вот разногласий с временем пет! Что это значит? Значит, что чепуха, выдумка это: родись в свое время.
Однако Ригер не «чепуха» говорит, он говорит: «ненавижу». И правильно. Потому что «дурацкая побасенка» та попала ему не в бровь, а в глаз. Она пронзила его самолюбие острой, как шило, мыслью, что оп-то, Ригер, когда бы и где ни родился, всегда и везде пришелся бы ко двору. Встал бы на рельсы и покатил, никуда не сворачивая.
Ах, как мучит его эта мысль! Сколько стараний прикладывает его разум-тиран, чтобы пресечь ее разлагающе-пагубную работу. Но тщетно. Всесильный, с легкостью избавлявшийся от иных чуждых проникновений, здесь он оказывается бессильным.
И тогда Ригер решается. Чтобы жить дальше, как жил, чтобы верить в бога-себя, как верил, ему необходимо — сегодня, сейчас же! — опровергнуть гнетущую его мысль, доказать, что рельсы, по которым он катится, не только лишь временем выложены, — что в разумную их направленность внесен и его, Юриса Ригера, самостоятельный вклад… И вот он приглашает к себе отца и старшего брата Рудольфа. Он должен их помирить.
Но помилуйте, какая здесь связь: желание примирить двух не желающих примириться родственников и попытка вторгнуться в такую высокую сферу, как время, стремление оказать на него какое-то там влияние?
Есть связь. И, если задуматься, то прямая. Рудольф и старый Ригер не просто люди двух разных поколений. Это люди
разного исчисления времени! Отец и сын, у них общая кровь, по жизнь их сложилась так, что встали они друг против друга куда как решительней, чем в кровной вражде. Они антиподы во всем: в морали, в понимании жизни, что идет за окном, в понимании самого ее смысла. Это — два полюса неконтактных идей, нестыкующихся мировоззрений. Примирить их — все равно, что примирить воду с огнем, день с ночью.
Обо всем этом Юрис Ригер, конечно же, знает. Но это последний шанс. И он совершает насилие над природой: зажмурив глаза, резко бросает трамвай в сторону. И тот… сорвавшись с пути, сминает предупредительные сфетофоры и регулировочные посты. Катастрофа!.. Израненный на войне, не жалевший своего горячего сердца после войны, Рудольф Ригер не выдерживает насильственной встречи с тем, кто его породил и кого он более всех на земле ненавидел.
…Вот тут-то и появляется Следователь. Тут-то, раздавленный происшедшим, Юрис и произносит фразу о смысле жизни, которая перечеркивает все то высокое, что раньше он нам говорил. Перечеркивает его образ.
Роман Алберта Бэла тонко организован. Отдав собственные сокровенные мысли о времени и о жизни вообще Юрису Ригеру, писатель ввел в текст несколько коротеньких эпизодов, которые сутью своей
лишают героя права быть законным носителем и проповедником этих мыслей. Герой недостоин говорить то, что он говорит.
Однако эти коротенькие эпизоды (на них-то и строил я свои
рассуждения), в которых вскрывается вся подноготная Ригера и в которых вся соль, при беглом прочтении романа едва уловимы, и потому, видимо, не случайно первые его критики писали о главном герое как о единомышленнике Бэла, как о резонере, чуть ли не двойнике автора, по сути дела отождествляя писателя и его героя буквально во всем. Отсюда и утверждение, что Бэл написал исповедальный роман.
Но если бы все это было действительно так, то при чем же тут Следователь, который, кстати сказать, единодушно был признан критикой как совесть героя? Ведь Ригер не был замечен критикой абсолютно ни в чем, что указывало бы на какие-то его прегрешения перед людьми и перед самим собой. Что надо Следователю от человека, совесть которого чиста?
Неувязка. Основная, породившая череду других неувязок.
А у Бэла все увязано крепко. Не панегирик человеку-творцу он написал, а трагедию творческой личности, что вознамерилась жить, сообразуясь с жесткими рекомендациями лишь одного бога-разума. Но разум без сердца, без совести — смерть для художника. Чувствами не согретый, холодный разум может плодить только единственное: мертвечину.
Герой Бэла не кончился как человек и творец. Суровый и неподкупный, требующий честно ответить — так ли живешь? — навис над ним Следователь. Совесть вырвалась из глубокого сна, выжила— значит, выжил в Юрисе Ригере человек. И как верный признак возвращения к себе — его желание разнести вдребезги все сработанное им до того, когда впервые вошел к нему Следователь и пронзил невидимым взглядом. «Крепкий парень, — говорил этот взгляд. — …Сразу не раскусишь».
Да, не сразу раскусишь роман Алберта Бэла. Уж так он устроен.
Так и «Клетка» устроена.
Но теперь у нас уже есть опыт. Мы уже побывали в мастерской Бэла. Уже знакомы с некоторыми принципами в его работе. Уже знаем, что явное, на что усиленно нажимает Бэл, совсем не то, что он в действительности хочет сказать. Знаем, что тайное надо искать. Там его главные мысли.
Так вот, настроимся на их поиск. Прежде всего вот где поищем: клетка, в которой оказывается Эдмунд Берз, и путы-рельсы Юриса Ригера — не одно ли это и то же? Тут — ни туда ни сюда, там — ни туда ни сюда. Конечно, клетка и рельсы суть вещи разные, но символы, что за ними угадываются, — схожие, если не сказать, равноправные, синонимические: попал человек.
Поищем еще. Следователь Юриса Ригера, как мы знаем, это его внутренний голос, голос разбуженной совести. Нелепо, конечно же, было бы думать, что герой «Клетки» — следователь Владис Струга и разыскиваемый им Эдмунд Берз — также одно и то же лицо, по вот ведь какая странность: у того и у другого рост — метр восемьдесят, вес — семьдесят три, волосы — белесые, глаза — серые, оба увлекаются горными лыжами, играют в теннис, знают те же три языка — латышский, русский, английский, имеют одинаковый оклад — сто восемьдесят рублей и, наконец, ко всему этому оба недавно стали вдруг ограничивать себя в еде, бросили курить, купили тупоносые ботинки — у того и другого одновременно заболел большой палец правой ноги: «прицепилась» подагра… Струге приходит в голову мысль, что «он
разыскивает самого себя».
Еще поищем. Юрис Ригер пытался жить в соответствии с самим им выработанной «философской системой». Помните? Так вот, Владис Струга тоже «выработал философию жизни», все положения которой впрямую перекликаются с положениями уже известной «системы»: отношение к делу, которым ты занят; взаимоотношения с обществом; соотношение силы разума и силы эмоций в собственном мире и т. д.
Можно еще искать и еще находить подобные переклички, но, я думаю, и перечисленного хватает, чтобы установить уверенную преемственность вторым романом идей, составивших философию первого.
Понятие преемственности не предполагает, а вернее — исключает повтор. Преемственность — это продолжение, развитие того, что было сделано ранее. Поэтому, оттолкнувшись от внешне сходных моментов в «Следователе» и «Клетке», мы не дальнейших совпадений будем искать, а постараемся разобраться, что же заставило Бэла вернуться к, казалось бы, уже отработанным мыслям, образам, символам, что побудило его продолжить начатый в «Следователе» разговор.
Да, «Клетку» смело можно считать продолжением первого романа. Бэл то ли решил додумать свои же мысли, то ли поправить их А может ему захотелось с самим собой — ранним — вступить в полемику? Ведь и такое бывает. На разных этапах жизни писатели нередко по-разному видят жизнь.
Но не будем гадать. Под рукой у нас текст — они ответит.
Начнем с «философии жизни» Владиса Струги. Положения положениями, а вот какова их трактовка героем «Клетки»? Такая же, как у Ригера, или, может быть, есть отличия?
Есть. И немаловажные. Струга считает, что своему делу, работе надо «отдаваться всей душой», что «удовольствие от работы — одно из сильнейших». Иными словами, на первый план выносится не порожденная разумом необходимость трудиться (по Ригеру: «жить имеет смысл уплотненной жизнью»), а внутренняя потребность— потребность души, удовлетворение чувств (по Струге — «полнокровная жизнь»).
Много и на все лады разглагольствуя о человеческом общежитии, Ригер, как помним, делал упор на то, что все неустройства и пороки общества в целом исходят от самих его членов, от их умственных, моральных и других несовершенств. По его «теории» получалось, что общество вполне может достичь высокого уровня социальной стерильности — надо только избавиться от тех, кто мешает, кто тянет назад: «тупицы», которых нельзя «допускать к созданию цивилизации», «не нашедшие себя люди». Короче, трудиться на благо общества, по Ригеру, это
бороться с людьми, так или иначе выпадающими из некой положительной социальной обоймы.
А — по Струге? Следователь по уголовным делам, т, е. человек, которому «нередко приходится иметь дело с отбросами и подонками общества», вот в чем видит свою задачу в труде на благо общества и страны: «входить в людские горести и слабости», «помогать страждущим».
Бороться с людьми. Помогать людям… Это не противоположные— это противоборствующие, исключающие какой бы то ни было компромисс с той или иной стороны, жизненные позиции.
Мы помним все поступки и действия Ригера были всецело подчинены его богу-разуму. Холодно-расчетливый, он единовластвовал в том сконструированном мире, оставив на долю сердца лишь механическую функцию: перегонять кровь.
А каковы взаимоотношения разума с сердцем в мире Владиса Струги? Надо «прислушиваться к разуму» — вот что вычитываем мы из его «философии жизни». И тут же: надо «избегать эмоциональных заключений». Понимаете? Он не ставит разум над сердцем. Но и сердце над разумом не ставит. Он их взаимосвязывает — как равноправных, дополняющих друг друга, нерасторжимых в своем единстве «работников»!
Итак, подводим итог: выстроив философию Струги по тон же, что и у Ригера, схеме, Бэл напоил эту схему содержанием, прямо противоположным тому, что было содержанием философии Ригера. Это, как говорится, факт. Факт, из которого вытекает, что образная конструкция Струги возникла в лаборатории Бэла не сама по себе, что Струги не было бы, не пройди в ней несколько лет назад испытания некий Ригер, которому еще тогда выискивался антипод. — и вот он найден теперь.
Но только ли Владиса Стругу облек Бэл полномочиями противостоять своему первенцу? Ведь у Струги есть аналог, человек, как две капли воды на него похожий: Эдмунд Берз. Те же у него полномочия или, может быть, шире?
Те же и шире. Струга, как мы выясняем по ходу чтения, не главный герой. Он противостоит Ригеру, но, так сказать, в общем плане. Он нужен Бэлу затем, чтобы через него читатель понял человеческий статут Берза. Объясняя нам Стругу, Бэл главного героя «Клетки» нам объясняет. И попутно подчеркивает, что такие люди, как Берз, не единицы.
На этом, по сути дела, и кончается роль Владиса Струги в романе. Начинается роль Эдмунда Берза. Именно он угодил в ту злосчастную клетку.
А теперь раскинем, как говорится, мозгами: был ли хоть один человек в окружении Ригера, который знал бы о его душевных терзаниях, кто был бы допущен в его истинный мир и тем самым, хорошо представляя, с кем он имеет дело, мог бы в тяжелую минуту оказать Ригеру реальную помощь — понять, что с ним происходит, подсказать, как жить дальше?
Нет, не было в окружении Ригера такого человека. Даже Ева не знала, какие тайные силы движут делами и поступками мужа, даже ей не открыл Ригер дороги к истинному себе. Окруженный людьми, не мыслящий жизнь без людей, он в то же время всегда пребывал в высокомерном одиночестве, и не случайно, когда уже невозможно было отвертеться от колющей глаза правды, когда жестокие обстоятельства вынудили его заговорить о том, кто же он есть, не Еве, не Иванову, не Кризенталю он растворил свою исстрадавшуюся в заточении душу, а опять же — только себе самому. Своему личному Следователю. Он не проговорится!
Следователь Струга лично не знает разыскиваемого им Эдмунда Берза. Но день ото дня он все более проникается чувством, что лично знает этого человека. Их внешнее сходство, в конечном итоге, лишь остроумная литературная игра, которая понадобилась Бэлу в общем для малого: объяснить особую заинтересованность следователя в розысках Берза. Но не эта особая его заинтересованность обеспечивает удачный поиск. Вот что его обеспечивает: пройдя по следу, опросив членов семьи, товарищей, сослуживцев Берза, Струга смог в кратчайшее время создать в своем воображении живой облик таинственно пропавшего архитектора, его точную копию.
Нет, конечно, не всем и не весь Берз был открыт нараспашку, но глазное в нем: искреннее стремление не на словах, а на деле приносить пользу обществу — было у всех на виду. И потому самые разные люди, даже те, кому Берз «в свое время основательно досадил», кто «из-за него лишился орденов и премий», теперь, «в трудную для Берза минуту», «проявляли удивительную сплоченность» в желании помочь следствию. Выслушивая этих людей, сопоставляя их показания. Струга приходит к мысли, что причиной подобной отзывчивости является именно непреклонность Берза, которую он «в своей работе обращал и на них», что в их среде он «служил своеобразным катализатором, стимулятором процессов совести, побудителем дремлющей энергии, детектором скрытых возможностей». Вот почему общество так ощущает потерю, лишившись этого человека.
Это верно, многие от него «пострадали». Но никто о нем плохо не говорит! Не показатель ли это того, что люди говорят о нем правду? Что Берз был именно тем человеком, за которого себя выдавал?
Показатель!.. Теперь Струге остается только сложить услышанное о Берзе и, получив сумму, представить, как поведет себя этот так хорошо знакомый ему незнакомец в тех или иных — даже непредвиденных— обстоятельствах. Ведь когда человека, как себя, знаешь, сделать это нетрудно.
И все-таки… Струга ошибся. Недооценил Берза. Узнав, что Берз в клетке, он тут же его «похоронил»: это немыслимо, чтобы в голоде, холоде, одиночестве столько времени жить!
Вот мы и подошли к главной перекличке в романах: к рельсам Юриса Ригера и клетке, в которую заперли Эдмунда Берза.
Муки Ригера, связанные с гнетущим ощущением себя трамваем на рельсах, привели, как мы помним, к тому, что он, на людях всегда такой самоуверенно гордый и независимый, вдруг оказавшись наедине с собой, со своей совестью, потерял, как говорится, лицо — раскис, сдался на милость обстоятельствам, жалко залепетав о бессмысленности творчества и самой жизни, коль впереди у человека — дерзай он или катись по рельсам — один и тот же конец: смерть. Он не выдержал испытания одиночеством, куда сам себя и загнал. Человек, который лишь на словах радеет о благе общества, а по внутренней своей сути отгородившийся от общественных болен индивидуалист — рано или поздно придет к душевному краху. Вот вывод, к которому подводит нас Бэл, рассказав историю Юриса Ригера.
А Эдмунд Берз? Человек, который красивым словам и «добрым» намерениям избавить общество от путающихся у него в ногах «ненужных» люден предпочитает непримиримую битву с рутиной, бесхозяйственностью, бюрократизмом и прочими, как говорится, язвами в социально-общественном и трудовом делопроизводстве. невзирая на то, правятся его действия стоящим над ним руководителям или же пет, — выдержит ли такой человек испытание одиночеством, испытание оторванностью от общества, на которое, не в пример Ригеру, он-то уж — безусловно — влиял? Тем более — вон что изобрел для него писатель: клетку!
В глубине лесного массива, с времен войны, стоит на бетонном полу сваренная из стальных брусьев — площадью шесть на восемь и два с половиной метра в вышину — клетка. Когда-то это был карцер при немецкой школе разведчиков, и вот сюда-то Линдан и его сообщники заволокли Берза. «По специальности» похититель автомашин, Дипдап мог бы, конечно, просто выкинуть Берза из «Москвича» и — поминай, как звали. Но он ревновал Берза к своей невесте, он ненавидел его — и вот таким образом, «не замарав рук», решил отделаться от соперника.
Ситуация, надо признать, не так чтобы очень уж достоверная. Можно даже сказать — искусственная. Но это мало смущает Бэла. Уж так сложился его писательский организм: в разработке и проповеди тон или иной нравственной идеи он вполне допускает сюжетно-ситуационные условности, а точнее — любит к ним прибегать. Так было в первом романе. Так и во втором: тоже необычное выдумал. Устроил современному человеку средневековую, так сказать, проверку на прочность.
Как когда-то Дефо — Робинзону. Но в робинзоновой «клетке» было более чем достаточно самой разнообразной утвари и закуски, а вот Берзу из продуктов питания Бэл предложил только дюжины две мухоморов да орехи, которых тоже наперечет — не объешься. И еще деревянное корыто с прогнившей водой поставил. Противно? Не пей.
Словом, в отличие от Дефо, Бэл решил испытать своего героя по всем, как говорится, статьям. Не забудем, что дело происходит вдобавок на рубеже осени и зимы: дождь вперемешку со снегом и прочие, свойственные этому времени года метеорадости.
И вот долгие дни и ночи Бэл не спускает глаз со своего героя-невольника, подробно рассказывая нам, что он видит и слышит. Этот его рассказ повторять нет смысла: читатель не хуже меня помнит, с каким достоинством, ни разу не запаниковав, вел себя Берз, — как находчиво сумел он распорядиться немногими оказавшимися при нем вещами, как спланировал свой небогатый питательный рацион и как неукоснительно следовал ему вплоть до последней крохи. Наконец — как он отдыхал, сберегая силы.
И приходит мысль: а ведь этот распорядок-порядок организован
разумом Берза. Здесь и Ригер, пожалуй, не подкачал бы.
Но нет! Духу бы не хватило. Ибо, если мы хорошенько поду маем, то поймем, что с первых секунд заточения Берза в клетку именно дух захватил в нем все ключевые точки, все перекрестки взаимоотношений с разумом. Дух взял на себя всю полноту власти.
Вспомним: какой была первая мысль Берза после того, как щелкнул запор и трое незнакомцев скрылись во тьме?
«Так вот как они орудуют!»
Понимаете? Не о себе подумал! Не о своем трагическом положении. Вся жизнь его складывалась так, что сначала он думал о людях, о том, что и кто мешает им жить, а потом уже — о себе. Сверхнепредвиденная, шоковая ситуация — по и она. оказалось, не в силах перевернуть, поменять в нем местами общее с личным. И вот первая его мысль — о преступниках.
Дух, воля — это не от головы, это от чувств. Собранные в кулак чувства остужают воспаленное случившимся воображение, приказывают голове думать, что ничего страшного не произошло: работай спокойно! Если нам самим выбраться не удастся, — не завтра, так послезавтра люди отыщут.
Берз в этом не сомневается: он знает людей, от которых его оторвали, он верит, что эти люди сделают все возможное, чтобы вернуть его в свою жизнь. И ему уже даже заманчивым кажется «побыть немного в одиночестве после суеты и тревог цивилизации».
Но одиночество приятно только тогда, когда человек в любой момент сам может его нарушить. Одиночество Берза растянулось не на два-три дня, как он предполагал, а на месяц с лишним. И не головой — всем своим существом осознал Эдмунд Берз за эти в целую жизнь растянутые дни и ночи вынужденного заточения, что «одиночество — самая страшная клетка, в которую человек может себя посадить».
Берз выжил. Находясь в клетке, он не поддался другой — самой страшной для человека клетке. Несмотря на покидавшие его день ото дня силы, он не впал в отчаянье, не растворился в апатии и даже сохранил чувство юмора. Он сделал все, чтобы клетка не победила, не поработила, не отняла у пего веру. До самого последнею, предсмертного забытья он верил, «что общество не оставит его, верил людям, живущим в построенных им домах».
Вера в людей — это любовь к людям. Это сердце, рвущееся биться в одном напряженном ритме с сердцами тех, кто, подобно тебе, понимает жизнь как «привычное счастье работать» на общее благо, «счастье видеть, как твои замыслы претворяются в гармонию плоскостей и линий, видеть, как замыслы вырастают в дома».
Любовь к людям и вера, что люди тоже любят тебя, — вот что помогло, в конечном итоге, Эдмунду Берзу вырваться из клетки. Клетка не для него! Ни та, что стальная-железная. Ни та, что в себе самом — одиночка. На суде по делу Диндана он так и сказал, прося для него снижения срока: несчастный, мол, человек; в самом себе клетку носил. Услышав это, Диндан подумал, что от долгого сидения Берз «малость свихнулся».
А если бы это услышал Ригер? Тоже посчитал бы, что Берз свихнулся? Ну пет! Он бы понял, о чем идет речь…
На этом, пожалуй, можно и закончить разговор о втором романе Алберта Бэла. С тем только добавлением, что, конечно же, не затем писатель вернулся в нем к некоторым моментам первого романа, чтобы додумать, поправить какие-то свои ранние мысли, и уж, конечно, не для того, чтобы самому с собой схлестнуться в полемике. Тут вот в чем дело: Бэл принадлежит к категории писателей, которые, создавая разные книги, пишут книгу одну. Новые сюжеты, новые персонажи — а идейно-смысловых соприкосновений с тем, что было написано раньше, множество. Разрабатывается один и тот же круг тем — отсюда и идет письмо как бы кругами. Как круги по воле идут: догоняют друг друга, друг через друга переливаются, а накатившись на берег и от него оттолкнувшись, катят назад — перемешиваются с встречными, рвутся к той точке, где зародились, откуда пошли.
В «системе» тех же кругов, что ходят в «Следователе» и «Клетке», и третий роман Алберта Бэла «Голос зовущего». Вот уж, казалось бы, ничего общего! Первые два романа — о сегодняшней жизни, о людях и проблемах сегодняшних, а «Голос зовущего» — о событиях семидесятилетней давности, о людях, вся жизнь которых сводилась, по сути дела, к единой проблеме: быть или не быть революции?
Но снова человек вырван из привычной жизненной обстановки и поставлен перед собой один на один. Снова испытание клеткой. Снова тот же вопрос: что ты за человек? Снова круг тех же проблем: гражданская этика.
И снова, как и в прежних романах, кажется, что нам «грозит» детективный сюжет. Бэл интригует, маскируя своего молодого героя под старика, горбит его, надевает ему на пос очки с железной оправой. приклеивает бороду и усы. Сыскное отделение сбивается с ног — ищет революционера Карлсона, а он, в очередной раз сменив облик, ускользает от идущих по следу ищеек.
Обо всем этом мы узнаем не через действие — это герой рассказывает нам о себе, о своих отношениях с тайной полицией. И мы ждем: вот вот иссякнет рассказ и начнется действие. И уже не слушать мы будем Карлсона, а видеть, как он водит своих преследователей за нос.
Но Бэл не случайно выбрал для своего романа именно этот отрезок жизни реального человека Лутера Боба-Карлсона: на рубеже 1905–1906 годов его подстерегла неудача — опознанный предателем, он был схвачен. Детектив снова не состоялся. Потому что Бэл… и не думал его писать. Как всегда, он лишь бросил приманку, заинтриговал, а затем, так сказать, снова принялся за свое: скоренько проводив Карлсона до тюремных ворот, оставил его наедине с собой. Со своей совестью. С клеткой.
Самое трудное, самое «ненужное» Бэлу теперь позади. Теперь он в своей стихии. Итак… Ригеру грозила духовная смерть. Берзу — физическая. Карлсону… Карлсону Бэл предоставляет возможность выбрать одну из двух: ту или эту. Если Карлсон будет молчать, если не выдаст своих товарищей, его будут пытать и в конце концов замучают или, коль надоест мучить, поставят к стенке. Что надо для того, чтобы избежать пыток и сохранить жизнь? Не так уж и много: предать дело, которому себя посвятил. Но ведь это значит — пойти на духовное самоубийства! Да, это так. Однако тело твое зато уцелеет. А уцелеет тело — глядишь, и с духом своим, с совестью, как-нибудь там, может, договоришься? А?
Нет, такой вопрос Карлсон и не думает перед собой ставить. Он молод еще, ему всего двадцать три. Но, несмотря на это, он уже завоевал право открыто смотреть людям в глаза, право ощущать себя нужным для них человеком. И что же: взять и отобрать у себя это право, это великое счастье знать, что именно ты роешь могилу одряхлевшему времени? Из одной клетки попасть в другую? В пожизненную?..
А пытки становятся все мучительнее. Палачи все больше звереют, все реже отдыхают за «душеспасительными» беседами с арестантом, все чаще заводят разговоры о том, что надоело валандаться с этим «красным волком», что пора бы его прикончить. Да, клетка, в которую бросили Карлсона, имеет особые, несравнимые с прочими клетками свойства. Бэл указал своему герою лишь два пути из нее, но ведь недаром она — особая! Так, может быть, третий есть путь? Особый? Не предусмотренный Бэлом?
И вот, скоро-нескоро, но начинаешь в какой-то момент ощущать, что уже не Бэл ведет своего героя от страницы к странице, а герой— Бэла. У него есть живая — не книжная! — биография. И по этой живой биографии — он с браунингами в обеих руках вырвался из тюрьмы. Это, как говорится, исторический факт. И пройти мимо него, его не учесть Бэл не мог. Как писатель, он отдал Лутеру Карлсону много собственных мыслей. Возможно и даже наверно — Карлсон думал проще, чем одаренный литературным талантом его биограф. А может, сложней? Кто это знает?.. Но не о мыслях — чьи Бэла, чьи Карлсона — я веду разговор. Я вот что хочу сказать: фактом своей биографии — побегом из клетки — Карлсон окончательно привел писателя к убеждению, что не в обстоятельствах — в человеке все дело. В том, чем он жив, какими идеями дышит. Можно сидеть в тюрьме и оставаться свободным. Можно свободно разгуливать под голубым небом и находиться в клетке.
Вот она — главная мысль, что вела Бэла от романа к роману. Через клетку пропущен весь комплекс его идей. В клетке вся суть. В испытании человека клеткой.
Как всякий художественный образ, и этот, родившийся в мастерской Алберта Бэла, не претендует на абсолютную точность. Но степень точности достаточно высока. Это и побудило собрать три романа в книгу. Образ, воедино связавший их содержание, связал их общей обложкой.
У русского читателя будет теперь хорошее представление о том, как и над чем работает латышский прозаик Алберт Бэл.
Ю. ТОМАШЕВСКИЙ
В 1979 году издается 15 книг библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
A. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник — Я из огненной деревни… Перевод с белорусского.
Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.
Ч. Амирэджиби— Дата Туташхиа. Роман. Перевод с грузинского.
Ю. Бондарев — Берег. Роман. Повесть.
B. Быков — Дожить до рассвета. Повести.
А. Бэл — Голос зовущего. Романы. Перевод с латышского.
C. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 2-я.
Р. Иванычук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.
А. Кекильбаев — Баллады забытых лет. Роман. Повести. Перевод с казахского.
Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.
Б. Окуджава — Избранная проза.
М. Симашко — Маздак. Повести Черных и Красных Песков.
Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.
Б. Шинкуба — Последний из ушедших. Роман. Перевод с абхазского.
Л. Якименко — И вечная, как мир… Роман. Повесть.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Борис Панкин
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
[Константин Симонов
]
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Камиль Яшен
INFO
Алберт Артурович БЭЛ
ГОЛОС ЗОВУЩЕГО
Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1979, 432 стр. с илл.
Редактор приложений Е. Мовчан
Редактор Л. Цуранова
Художественный редактор И. Смирнов
Технический редактор В. Новикова
Корректор Л. Грановский
A10077. Сдано в набор 5/IV-79 г. Подписано в печать 2/Х-79 г.
Формат 84 X 108 1/32. Бумага печ. № 1. Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 22,68.
Уч. изд. л. 23,22. Зак. 4052. Тираж 220 000 экз.
Цена 2 руб.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва. Пушкинская пл., 5.
Сматрицировано и отпечатано с готового набора ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16. в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.
Зак. 3585.
…………………..
Scan Kreyder — 28.10.2018 — STERLITAMAK
FB2 — mefysto, 2023
Примечания
1
Буквально: «Человек есть то, что он ест». Афоризм Фейербаха.
(обратно)
2
Добровольный эсэсовский легион — так назывались войсковые части, создававшиеся гитлеровцами на территории оккупированной Латвии.
(обратно)
3
Джем Банкович — рижский школьник, подложивший мину замедленного действия на площади, где происходил организованный фашистами митинг в 1944 г. Зверски убит гитлеровцами.
(обратно)
4
Имеются в виду буржуазно-националистические студенческие корпорации.
(обратно)
5
«Лайкметс» — иллюстрированный журнал, издававшийся гитлеровцами в оккупированной Латвии.
(обратно)
6
В тексте встречаются структурные особенности, это не дефекты вычитки, так у автора. По этой же причине не рекомендуется к файлу применять скрипты исправления абзацев.
—
Примечание оцифровщика.
(обратно)
Оглавление
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
КЛЕТКА
I
II
III
IV
V
ЭПИЛОГ
ГОЛОС ЗОВУЩЕГО[6]
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
II
III
IV
V
VI
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
II
III
IV
V
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
II
III
IV
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ИСПЫТАНИЕ КЛЕТКОЙ
INFO
*** Примечания ***