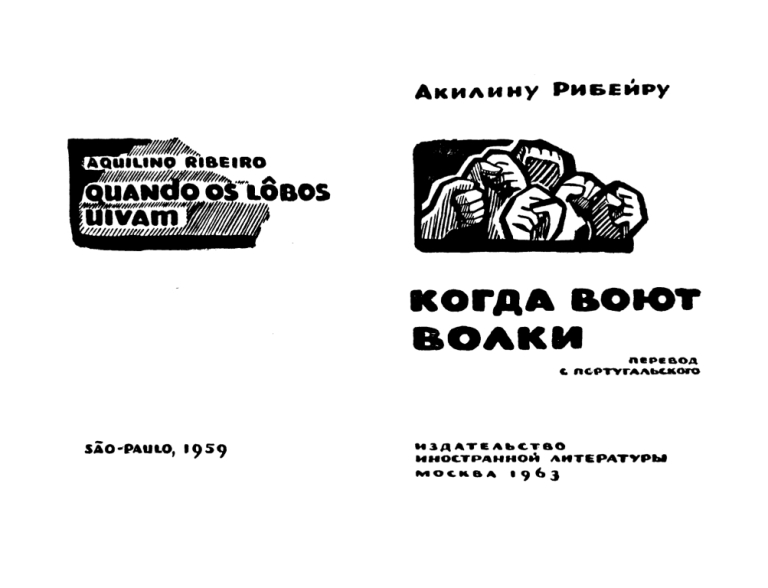Акилину Рибейру
КОГДА ВОЮТ ВОЛКИ
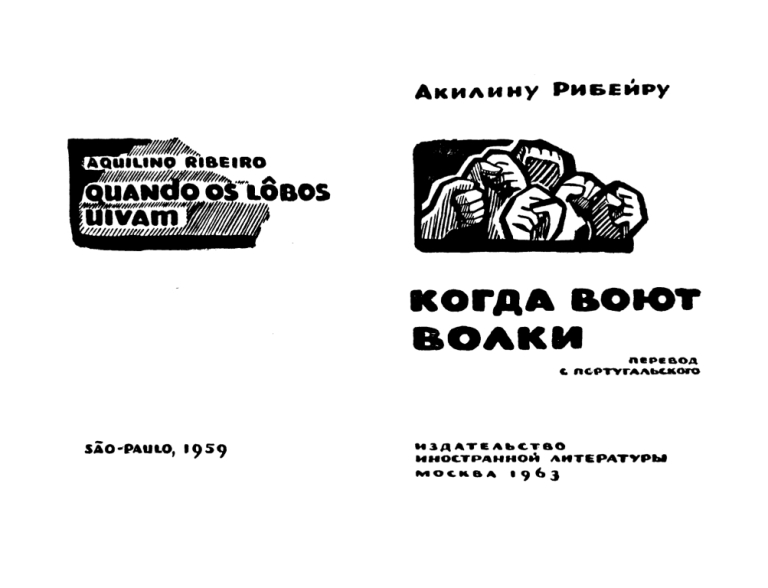
ПРЕДИСЛОВИЕ
Есть писатели, литературная слава которых так велика, что они еще при жизни становятся классиками. Именно таким и предстает перед нами автор романа «Когда воют волки» Акилину Рибейру, известный в Европе и Латинской Америке не только как талантливый романист, но и как крупный общественный деятель.
Писатель вступил в литературу в начале нашего столетия — его первая книга «Сад бурь» вышла в свет в 1913 году, в канун первой мировой войны. Уже в ней молодой тогда писатель сумел заявить себя достойным наследником и продолжателем величайшего мастера португальского реалистического романа Эсы ди Кейруша, а вышедший в 1918 году роман «Извилистый путь» подтвердил его право на ведущую роль в отечественной литературе. За «Извилистым путем» последовал ряд других замечательных по своим художественным достоинствам произведений: романы и повести («Дщери Вавилонские», «Бродят фавны по лесам», «Битве нет конца», «Человек, убивший дьявола», «Черный Архангел»), сборники рассказов, путевые очерки («Окровавленная Германия», «Акилину Рибейру в Бразилии») и литературные исследования и этюды (сборник «Камоенс, Камило, Эса и некоторые другие»). Во всех этих книгах Акилину Рибейру предстает перед нами, как замечательный бытописатель и тонкий знаток человеческой души, не уступающий по силе и яркости изображения португальского общества своему великому предшественнику Эсе ди Кейрушу. В произведениях Акилину Рибейру португальский язык приобрел еще большую выразительность и гибкость, не потеряв при этом своей органической, живой связи с народом и современностью.
Неизменное благородство и прогрессивность идей, свойственные творчеству Акилину Рибейру, подлинный реализм его книг, их высокая правдивость и народность сделали его самым популярным романистом Португалии первой половины XX века.
Красноречивым признанием той роли, которую сыграл писатель в развитии отечественной литературы, было его выдвижение в 1960 году на Нобелевскую премию. Группа видных португальских писателей, выдвинувших Рибейру, оценила его произведения как «самое замечательное из того, что было создано в португальской литературе нашего времени».
Широкую популярность Рибейру завоевал не только благодаря художественным достоинствам своих книг, но и постоянной верностью идеям демократии и прогресса, своим многолетним служением португальскому народу. Его жизненный путь является красноречивым тому доказательством. Политические взгляды Рибейру привели его в тюрьму еще при королевской власти в 1907 году; его прогрессивную деятельность, всегда направленную на благо португальского народа, «новое государство» Салазара неоднократно пресекало арестами и тюремными заключениями; некоторое время Рибейру был вынужден жить за границей. Но ни эти, ни другие репрессии не могли принудить писателя отказаться от борьбы за свободу. Начиная с 1945 года, то есть с момента окончания второй мировой войны, когда прогрессивные силы создали в стране «Демократическое единство», Рибейру неизменно подписывал все документы оппозиции, требования восстановления в Португалии политических свобод и амнистий политическим заключенным. Немало усилий Рибейру употребил и на то, чтобы сплотить разрозненные ряды португальских писателей. Организованное по его инициативе и под его непосредственным наблюдением «Литературное объединение» сыграло немалую роль в развитии освободительного движения в салазаровской Португалии. До последних дней — писатель умер весной 1963 года в возрасте 78 лет — он занимал почетное место в авангарде португальской литературы.
Естественно поэтому, что появление каждого нового романа Рибейру представляло собой событие не только литературного, но и общественного порядка; это, безусловно, можно отнести и к публикуемому в русском переводе роману «Когда воют волки».
Законченный автором в 1958 году роман вышел в свет в 1959, но не смог стать достоянием широкой публики: большая часть тиража была конфискована, а сам автор привлечен к ответственности. Ему инкриминировалась попытка подорвать престиж нации. «Этот роман, — говорилось в обвинительном акте, — подстрекает к преступлениям против безопасности государства, оскорбляет личность председателя совета министров, членов правительства, магистратуры, а также клевещет на государственную полицию». Второе издание, уже набранное, было запрещено цензурой. И все же роман увидел свет, но не в Португалии, а за океаном, в Бразилии, в июне 1959 года, выпущенный прогрессивным издательством Сан-Пауло «Аньямби».
Таким образом, несмотря на рогатки салазаровской цензуры, книга дошла до читателя.
В романе «Когда воют волки» Рибейру предстает перед нами как обличитель салазаровского режима, хотя прежде предпочитал не касаться в своем творчестве острых социальных тем, выбирая по преимуществу сюжеты, дающие возможность проявить тонкий психологизм и глубокое знание человеческой души. В романе «Когда воют волки» писатель блеснул новой гранью своего замечательного дарования; его взволновала не история отдельной человеческой жизни, а судьба крестьян горных деревень Серра-Мильафриша, защищающих свои исконные права от посягательств правящего класса. В центре романа история крестьянской семьи Ловадеуш, однако подлинным его героем является народ. Уже тот факт, что Акилину Рибейру обратился к подобной теме, весьма знаменателен, этот роман как бы политическое и литературное завещание писателя. Основную идею своего произведения Рибейру выразил, посвящая португальское издание видному общественному деятелю профессору Франсишку Пулиду Валенти: «В этот час, когда у всех нас на руках оковы, мы считаем, что успешным завершением нашего пути может быть только свобода». Роман Акилину Рибейру — это книга великого гнева и скорби; вот почему правы прогрессивные критики, которые утверждают, что ею открывается новая страница в истории португальского социального романа.
Разумеется, Португалия и в прошлом была страной экономически слабой, отсталой, нищей, страной социального неравенства и несправедливости. Крестьяне «кормили ораву дворян, министров, докторов, писарей, священников; сыпали манну небесную лодырям и бездельникам, а сами оставались голыми…» И все же никогда прежде над Португалией не нависали столь мрачные тучи, как в период диктатуры Салазара. Особая заслуга писателя как раз и заключается в том, что он сумел разоблачить демагогические приемы португальского правительства, возвестившего о приобщении наиболее отсталых слоев населения к благам цивилизации, в то время как вся его деятельность направлена на обогащение правящего класса. Как правило, за громкими фразами фашистских правителей скрываются хищнические цели, а в конечном счете дело сводится к ограблению народа под тем или иным предлогом. Именно о таком случае и рассказывает нам писатель.
Пусть жители горных деревень Серра-Мильафриша темные, невежественные люди. Но разве они виноваты в том, что у них нет электричества, воды, школ, больниц? В том, что в своем культурном развитии они лет на пятьсот отстали от среднего европейца? Для представителей правящей верхушки крестьяне Серра-Мильафриша — это пещерные люди, троглодиты, которых можно безнаказанно грабить во имя мифического прогресса. А между тем португальские крестьяне даже такого отсталого района, как Серра-Мильафриш, — это вполне здравомыслящие люди, в нравственном отношении стоящие гораздо выше чиновных грабителей. Как ни стараются присланные правительством крючкотворы обмануть невежественных и как будто бы простодушных горцев, они натыкаются на упорное сопротивление. Крестьянам ясна гнусная подоплека этой комедии. Они не верят ни слову из того, что им обещают. Горы для крестьян Серра-Мильафриша не только источник существования, но и своеобразный символ свободы. Горцы, которых представители салазаровской власти считают «неотесанной деревенщиной», на самом деле с полной ясностью отдают себе отчет в коварных замыслах правительства, в том, что, отчуждая у крестьян горы, правительство посягает на их независимость.
Собрание в Буса-до-Рей, на котором чиновники стараются уговорить крестьян, заканчивается неудачей ввиду преступного нежелания правительственной стороны вникнуть в подлинные интересы народа. Да иначе и быть не могло, поскольку эта тщательно подготовленная комедия была рассчитана лишь на то, чтобы обмануть горцев. Однако крестьяне поняли основное: им нечего ждать от правящей верхушки, единственно возможный исход этого столкновения — борьба. Автор сумел убедительно показать, как нарастало недовольство среди крестьян, как они сумели сплотиться, несмотря на превосходство сил противника, и выдвинуть из своей среды талантливых руководителей — энергичного и умного Жоао Ребордао, мечтающего о лучшей жизни Мануэла Ловадеуша. И не вина крестьянских вожаков, что вспышка народного гнева оканчивается для горцев Серра-Мильафриша неудачей. Слишком неравны силы.
Последующие три главы автор отводит описанию судебного произвола салазаровских властей над крестьянами Серра-Мильафриша. Эти главы по силе социального разоблачения принадлежат к лучшим в романе. Именно они, насколько мы можем судить на основании протокола о привлечении писателя к суду за оскорбление президента и членов правительства, и вызвали особую ярость у заправил «нового государства» и их агентов. Действительно, смелость, с которой Акилину Рибейру обличает салазаровский суд, не может не восхитить.
Не случайно Рибейру уподобляет салазаровское судопроизводство свирепому финикийскому богу Молоху, в честь которого в древности совершались человеческие жертвоприношения, и инквизиции. Не хватало только аутодафе. Все остальное было налицо: и пристрастный казуистический допрос, и огульные, ни на чем не основанные обвинения, и желание во что бы то ни стало добиться самого сурового наказания для крестьян, вся вина которых заключалась в том, что они не пожелали уступить властям единственное, что у них осталось, — горы. Читая эти страницы, нельзя не вспомнить толстовское «Воскресение». Та же подробность в характеристике судей, та же неумолимая сила в разоблачении лицемерного буржуазного правосудия.
В заключительных главах романа, посвященных описанию распада до конца разоренной семьи Ловадеуш, героем повествования становится старый Теотониу. После того как Мануэл уехал в Бразилию, а его дочь Жоржина перебралась в Лиссабон, Теотониу Ловадеуш, доведенный до отчаяния тем, что ему пришлось пережить, приступает к осуществлению своих планов мести. Он убивает стражника Бруно, выступавшего на процессе с ложными показаниями против Мануэла, обесчестившего жену Мануэла — Филомену и соблазнявшего его дочь Жоржину, после чего старик поджигает молодые деревья в зоне лесопосадок. Он мстит не только за свою семью, но и за всех обездоленных и разоренных горцев. Разумеется, это месть отчаявшегося, доведенного до крайности человека, но все же это месть. Двуногие волки, олицетворяющие собой в глазах Теотониу несправедливую, жестокую власть, убедились, что дух непокорных, свободолюбивых горцев не сломлен, как не сломлен дух всего португальского народа.
Ф. Кельин
ГЛАВА I
Мануэл Ловадеуш одним прыжком перескочил ступеньки крыльца. Наверху, на площадке, он натолкнулся на запертую дверь и, прежде чем постучать, остановился передохнуть. Сердце замерло, когда он увидел, что все осталось таким же, как прежде. Десять лет скитаний пронеслись, словно дуновение ветра, поглощенные вечностью, которая встала перед его глазами. Все как прежде — старый засов, отполированный годами, железная полоска щеколды с привязанной к ней бечевкой, поленница твердых и гладких дров — разве каштан не зовут костями Португалии. Черепичная крыша над длинным хлевом, черные камни стены, на которой мох разбросал свои блеклые пятна, и тишина — тишина глухой деревни, жалкой, недоверчивой и настороженной, словно птенец в гнезде, а поодаль — дубы в долине, крыши домов… Все было охвачено древним вечерним спокойствием неба и земли, твердой и гладкой, как асфальт.
Как давно он здесь не был! Много лет унесло время, а все вокруг такое же — целехонько, не тронуто, полно прежнего очарования. Пожалуй, лишь постарело… Да, постарело, подалось под зубами смерти и готово рухнуть, вот как этот карниз. Впрочем, можно подумать, что все это выдержало удары судьбы лучше, чем сам человек, уставший ходить по земле Христовой. Когда горечь прошла, эта мысль утешила его и оправдала в его глазах бедный дом, оставшийся таким же, как прежде.
Он снова посмотрел на засов.
— Стучу, не стучу — что это мне пальцы жмет? — услышал он голос… голос Филомены и замер.
Было полнолуние, конец марта, то самое время года, когда дни равны ночам, и по звону вилок и паузам он понял, что ужинают.
— Хорошенько покроши себе в миску! — слышался материнский голос, ворчавший на кого-то. — Хорошенько покроши, Жаиме, ведь у тебя только бульон!
Затем голоса пропали. Так журчание ручьев, текущих с гор, замирает в принесенной ими гальке. Но чего же он ждет? Он решился. Постучал раз… другой… третий, отступил на шаг и остановился в ожидании, словно нищий, просящий Христа ради. Он стал прикидывать, сколько времени понадобится, чтобы услышать его стук, подняться с циновки, поставить миску и открыть ему дверь.
Медлят… Ему показалось, что прошло больше, чем нужно. Может быть, они не слышали? Решив, что его стук, слабый и нерешительный, действительно не слышали, он постучал сильно и смело. Теперь наконец раздался голос, молодой, настороженный, такие голоса всегда первыми отзываются на стук:
— Кто там?
— Свои…
Молчание, осторожное молчание наполнило дом, как свет лампы, зажженной во тьме.
Секунда… другая… третья, не реку же они переходят! Неужели Филомена не узнала его голос? Хотя в этом не было бы ничего странного. До него донеслись вдруг ее быстрые слова:
— Жоржина, пойди посмотри, кто там!
Услышав, что засов поднимается, Мануэл Ловадеуш толкнул дверь и, не дожидаясь, когда она совсем откроется, протиснулся боком, оттолкнув девушку, и ворвался в дом вместе с порывом ветра. Как он и предполагал, все сидели вокруг огня с мисками в руках. В глубине каменного очага горел хворост, и его зеленоватый огонь несколько приглушал яркий свет пламени, бившегося под ламповым стеклом.
Увидев его, все застыли. Женщина глядела на Мануэла пораженная. Дети его не узнавали. Да иначе и быть не могло. Кот, испугавшись шума, забился в угол и оттуда следил за ним злыми глазами, полными ужаса. А Мануэл Ловадеуш, не дав им прийти в себя, тут же выпалил, с улыбкой глядя в их растерянные лица:
— Дай бог вам доброй ночи!
Только тогда Филомена подскочила на своей циновке. Видно, тяжела стала. Ведь она, его жена, его верная собака, должна была тотчас вскочить, поняв, что этот стремительно ворвавшийся человек, который стоял перед ней с непокрытой головой, не кто иной, как ее муж! Или она не узнала его в полумраке комнаты?.. Бросив быстрый взгляд, он понял, что она еще не пришла в себя, вернее, никак не может поверить тому, что видит, и пристально рассматривает его глазами, горящими, словно угли в очаге. Ее будто дубиной огрели. Неужели он так изменился? И все же нет ей прощения, хотя уже лет десять он бродит по миру и уже лет шесть не слал о себе никаких вестей — то ли умер, то ли сидит в тюрьме, то ли его убили. Пусть тяжелая работа и тропики неузнаваемо изменили его лицо, но сердце должно было подсказать ей сразу, кто он. И полный обиды, в которой боль смешивалась со злостью, он уже собрался снять пальто и показать шрам, оставленный на его руке старой косой, когда она закричала:
— О муж мой, сердце мое! — И, обвив руками его шею, неуклюжая и страшная, словно тигрица, простонала с тоской и досадой: — Какая же я глупая, не узнала тебя сразу! Сердце твердило, что это ты, но ты так изменился! Кто бы мог подумать?! Столько лет, и ни одной весточки. Я и ждать перестала!
И, уже не стыдясь, она обнимала, горячо обнимала его и прижималась лицом к его сильной груди, уткнувшись в узорчатую косынку, которая сползла у нее с головы. От нее, бедняжки, так пахло дымом и сеном! И этого было достаточно, чтобы воскресить в его памяти родные старые запахи, запахи семьи, отчего дома, чтобы он вспомнил, как он трудился вместе с отцом и матерью, как работал в амбарах, тех самых амбарах, где до женитьбы они с Филоменой встречались по ночам.
Тут его воображение полетело еще дальше. Хорошие были времена: много девушек, здоровья, солнца, руки в мозолях от мотыги, но всегда была сила и деньги в кармане на сигареты и на стаканчик. А что еще надо? Затем в его воображении возникла новая, совсем другая картина — Мато-Гроссо с его страшными алмазными приисками, пироги на реках, несущих бездонные зеленые воды, тишина каатинги
[1], где старатель из сертана
[2] один-одинешенек под стоящим в зените солнцем тонет, словно в мертвом море. Сколько невзгод подстерегает человека!
— Все говорили мне, что ты умер, что давно никто тебя не видел, говорили, чтобы я носила траур и заказала по тебе панихиду, а сердце говорило мне: нет, мой муж жив. Если бы он не был жив, его душа прилетела бы с того света сказать мне об этом! — И она осыпала его крепкими, горячими поцелуями, влажными, как губка, смоченная в солоноватой воде.
— Ну ладно, жена, ладно! Отпусти меня. Смотри, задушишь еще… А где отец?
— Он жив и здоров.
Только он хотел задать новый вопрос, как сзади к нему приникло лицом, губами, буйными волосами, спадающими на лоб, цветущее деревце, и он догадался, что это Жоржина.
О, разве не было у нее своих прав? Были, но только теперь она воспользовалась ими. Он видел, как она стояла в нерешительности, и понял, что она пыталась вспомнить его. Он не стал мешать ей. Оказывается, ее отцом был этот странный человек, в одежде, какую не носят здесь, — синяя саржа, такая блестящая, что от нее менялся даже цвет глаз, серебряные часы на золотом браслете, желтые ботинки, эти ботинки-туфли, похожие на срезанные по щиколотку сапожки, должно быть, он купил в Асунсьоне. Перед ее мысленным взором промелькнула вся его жизнь. И вот, преодолев робость, Жоржина повисла у него на шее. Улыбаясь этой нежной девушке, Мануэл Ловадеуш только и смог сказать:
— Какая большая ты стала! Какая большая!
Что она ему напоминала? Что может напоминать весна? Благоухающая и смешливая, она походила на цветок кактуса, — есть такие кактусы, их мучат пышущие зноем равнины, а они распускаются такими прелестными цветами, что заставляют человека цепенеть от изумления и привлекают к себе всю мошкару, какая только есть вокруг.
— Какая большая ты стала!.. А это твой брат?
Брат поставил свою миску на полку и ждал, стоя с опущенными вдоль тела руками, когда отец удостоит его взглядом. Теперь он протянул к нему руки:
— Благословите, сеньор отец…
Мануэл Ловадеуш растаял, вспомнив об этом старом семейном обычае. Глазами, полными слез, он восхищенно смотрел на крепкого парня. — Ах, разбойник! — Других слов он не нашел.
— Как дед? — спросил он снова после продолжительного молчания.
— Он жив и здоров! — ответил сын, повторяя слова матери.
— Ты уже не ребенок!
Это ничего не значащее восклицание растворилось в тишине, никто не ответил. Шли минуты, а они смотрели друг на друга, словно чужие: он в изумлении оттого, что все же оказался здесь и видит их вопреки ожиданиям очень изменившимися, они — пораженные его внезапным появлением.
Лампа, качаясь от ветерка, пробивавшегося сквозь крышу, бросала свой свет то в одну, то в другую сторону.
Жаиме сказал, вспомнив про деда:
— Он такой же, как был! Ему уже за семьдесят, а он один поднимает почти всю пашню у нас в Рошамбане. Я плохо с плугом управляюсь. А он здоров! Возьмет мешок в десять алкейре
[3], подбросит и взвалит себе на плечи!
— Только всегда он чем-то недоволен, — вставила Жоржина.
— Нет, вы послушайте, отец! Заболел как-то у него зуб. Вместо того чтобы пойти к цирюльнику и вырвать, он привязал один конец бечевки к гвоздю, другой — к зубу и так дернул, что зуб тут же вылетел прочь. Это был первый зуб, который его подвел. Корни, как у дуба, и кровь еле остановили. Мы уж думали, что ничего не сможем сделать.
— Таких людей теперь мало осталось, — сказал Мануэл.
— Ну и хорошо, — отозвался сын. — А как он бегает? Один раз, когда выпал снег, он подстрелил зайца. Ранил его в ногу и бежал за ним почти километр, пока не поймал. А Кашаррету-охотник говорил, что зайцы с перебитой ногой убегают иной раз даже от собак. Да, здоров старик! Сейчас он в Рошамбане…
— Один?
— Один и нисколько не боится. Прогнать его оттуда — значит лишить его жизни, — сказала Жоржина. — Вы уже слышали, что у нас хотят отнять землю в горах? Сейчас в наших краях ни о чем другом не говорят. Видать по всему, много крови прольется.
Пока дети расхваливали деда, испуг Филомены постепенно проходил. Теперь она повернулась так, чтобы удобней было смотреть на Мануэла. Он тоже смотрел на нее, смотрел с сожалением и даже отвращением — ее лицо было в морщинах, не хватало переднего зуба, и это портило ее. Жена казалась ему не только безобразной, но и чужой. Она тоже превратилась в развалину! Жалкая, растерянная Филомена смотрела на него и не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Ему же вдруг захотелось вернуться в Мато-Гроссо, провалиться сквозь землю, не быть больше Мануэлом Ловадеушем, этим загнанным ослом, превратиться в жестокого, бесстрашного бандита. Почему ему не посчастливилось стать богачом, владельцем двух или трех небоскребов в Рио или Сан-Пауло, хозяином магазина или двух-трех булочных на улице Кариока, которые приносили бы ему изрядный доход?! Вместо этого ему суждено было вернуться на родину и выть как псу у дверей хозяина, если он, Мануэл, хочет, чтобы его уважали: «Я богат, очень богат. Только богатство мое осталось в Мато. Оно там! Клянусь вам, оно там!» Теперь Филомена подошла к нему совсем близко, будто слабый свет коптилки вынуждал ее к этому. Ее глаза, такие голубые и такие искренние, что у него никогда даже в глубине души не возникало подозрения, что они могут лукавить, лишь так могли прочитать его драму. Когда она все поняла, ей стало больно, ее лицо омрачилось от горьких мыслей, веки опустились, наполненные тоской и печалью, набежавшими словно тучи в бурю. Потом они снова открылись, похожие на сморщенные лепестки, снова закрылись, и наконец ее глаза остановились на муже, полные слез. Едва сдерживая рыдания, отчаянно всхлипывая, она причитала:
— Ты тут, ты со мной, господин моей души! Ты здесь! Благодарю тебя, божья матерь. Ну, как ты добрался? Не прошли, видно, для тебя даром эти годы. Как ты изменился! Да и я стала совсем старухой, все в работе да в работе!
Пока Филомена говорила, на губах у дочери бродила загадочная улыбка, улыбка лесной птички, готовой вспорхнуть, а сын стоял неподвижно, словно платан.
— Столько людей говорили, что я вдова, что ты отдал богу душу, а сердце мое верило, что ты жив! — продолжала свою горькую жалобу Филомена. — Я так плакала, так молилась, и вот небеса услышали меня. Ты здесь, муж мой, господин моей души!
— А отец верил этим разговорам? — спросил Мануэл.
— Нисколько! — воскликнула Жоржина. — Никогда не верил! И он, и доктор Ригоберто смеялись над теми, кто так говорил…
— Как он живет, наш доктор Ригоберто?
— Хорошо, — сказала Филомена. — Чиновники из правительства делали ему немало всяких гадостей. Даже в тюрьму сажали, но выпустили, ведь и его друзья не дураки. Забрали его сыновей, так он и их через некоторое время вызволил из тюрьмы. Крепкий дуб! Ничего не боится. Всем делает добро, если может. В наших краях никто не берет себе другого адвоката. Он здесь за главного. Законов не издает, но как скажет, так все и делают. У нас любой готов за него в огонь и воду, только прикажи.
— Значит, доктор Ригоберто не верил, что я умер?..
— Нет, он и слушать не хотел, когда говорили, будто ты погиб. Когда его вели в тюрьму, он увидел, что я плачу, и подумал, что из-за него. Так оно и было, ведь он всегда был нашим другом. Но тогда я ему сказала, что не получаю от тебя никаких вестей и не знаю, что и думать. А он обернулся ко мне и сказал: «Успокойся, в жизни всякое случалось, однако я не пошел ко дну. Так и он вернется целым и невредимым. Когда-нибудь вернусь и я и в один прекрасный день с радостью обниму твоего мужа». И вот ты пришел, господин души моей! А я постарела…
Это она говорила уже второй раз, и Мануэл Ловадеуш, глядя на изможденную Филомену, которая еще сохраняла следы девичьей красоты, убеждал себя, что она такая же, как и прежде. Его молчание в течение стольких лет не могло быть оправдано расстоянием до Куиабы и Кошипо́, что у черта на куличках. Разумеется, не последнюю роль сыграли известное легкомыслие Мануэла, охваченного лихорадочным стремлением обогатиться, и неудачи, преследовавшие его на этом пути. К тому же нежные чувства этих несчастных людей обычно вытесняются чувством отверженности, порождающим некоторый цинизм. Мануэл одной рукой прижал к груди постаревшую, но еще стройную, как сосна, жену, а другой — дочь, свежую, как раннее утро. Когда он ласково привлек к себе Филомену с вьющимися пепельными волосами, удлинявшими ее лицо, и увидел ее шею, которую, как лианы стволы ипе
[4], обвивали жилы, все внутри у него содрогнулось, душа заныла, и комок подступил к горлу.
— Каждую минуту вы были со мной. Ты мне веришь, жена? Порой на сердце было так грустно, так тяжело, все вокруг казалось мне черной ночью. Но ты хорошо выглядишь! Очень хорошо!.. Почти не постарела…
Филомена, к счастью для себя, редко смотрелась в зеркало и поверила мужу. Поверила, хотя немало слез пролила, а теперь смеялась и ликовала, едва услышав, что блеск ее красоты не померк.
— Слава богу, я никогда не болею! — отозвалась она со скрытой гордостью. — Я, как святой Людовик, прошла через ад целой и невредимой. Плохо ли, хорошо, а жить надо. Часы не останавливаются, время бежит. Пока дети еще не могли свиней пасти, жизнь топтала меня сильнее, чем путники топчут придорожную траву. Под ногой прохожего трава приминается, а потом снова встает и снова зеленеет, потому что не хочет умирать. Когда ребятишки подросли, мне стало полегче, они от работы не отворачиваются, хотя и пошалить не прочь, — Филомена с любовью посмотрела на детей. — Жаиме больно норовист… ну да не беда, со временем образумится…
Наступила небольшая пауза, каждый погрузился в свои мысли. Пришел кот и, задрав хвост, стал тереться о ноги Ловадеуша, словно тоже признавал его своим хозяином и господином и хотел сказать, что готов жить с ним в мире И нисколько его не боится. Пожираемый огнем, трещал хворост. Филомена снова запричитала дрожащим голосом:
— А как ты жил все эти годы? Плохо?! О боже, что ж делать! С деньгами ты вернулся или без денег, а жить-то нужно…
Мануэлу Ловадеушу было до боли стыдно за свой измученный вид, и он хотел возразить, что заработал много денег, но тут постучали в дверь. Филомена, заметив недовольный жест мужа, означавший, что он не хочет никого видеть, нахмурила брови. Снова раздался стук… Потом удары стали сильнее, и наконец послышались голоса:
— Мануэл!.. Филомена!
Один из них был знакомый и принадлежал куму Жусто Родригишу, от которого никуда нельзя скрыться. Они догадались, что он привел с собой целую толпу любопытных и сплетников, сбежавшихся приветствовать Мануэла. Висенте, который довез его в своем грузовике, сейчас же всем разболтал эту новость, и привалило полдеревни. Оставалось только одно — открыть двери. Жоржина подняла засов. Первым действительно ворвался Жусто. Он мало изменился, хотя и потолстел, нижняя губа его еще больше отвисла. Жусто, как всегда, волочил правую ногу, которая была короче левой, за что его и прозвали Колченогим. С ним пришли болтливый Зе Грулья и дядюшка Карлиш, оба тощие, умирающие от любопытства и старости, а также хитрец Аугусто Финоте. Все поздравили Мануэла с приездом. Жусто рассказал местные новости, в том числе и о драке Жаиме с братьями Барнабе.
— Настоящий лев! — воскликнул он, указав на парня.
— Барнабе — хвастуны и задиры, да не на того нарвались, он им показал.
— Я знаю об этом, — сказал Мануэл, лицо которого помрачнело. — Мне рассказал Луис Барбадиньо в Лиссабоне, пока я ждал поезда. Барнабе поймали его в горах и вдвоем набросились на одного. Правильно? А ссора, кажется, началась из-за того, что Жаиме швырнул палку в их собаку?
— Да, так оно и было. Из-за пса все и началось… — довольно холодно подтвердил Жаиме.
— Они сами задирались, — снова заговорил Жусто.
Но ни Филомена, ни Жоржина не сказали ни слова. Они смотрели на огонь, явно не желая вступать в разговор.
— Ну, вот еще!.. — Живо воскликнул Жаиме, который, судя по всему, хотел прервать наступившее молчание. — Довольно об этом! Кто старое помянет, тому глаз вон.
Снова наступило долгое молчание, и снова все задумались о своем, а когда в густых зарослях затих холодный ветер, Ловадеуш спросил:
— До властей не дошло?
— Не дошло, — ответил Жусто, — не было свидетелей. Они встретились в Коргу, наверху, как идти в Валадим-даш-Кабраш, где зимой стада не пасутся. Туда ездят только за кустарником, и не удивительно, что в ту пору там никого не было. Бруно как подкошенный упал на землю… Думали, помирает, а он сам добрался до дому. Пришел с разбитой головой, но доктору не пожелал показаться, и это ему дорого обошлось. Рана на голове не заживала, он был на волосок от смерти. Сам может рассказать… Ты, кажется, уже слышал, что у нас хотят отнять землю?..
Жусто был большой сплетник, и не мудрено, что поторопился рассказать то, что Ловадеуш должен был услышать от жены и родных.
— Какая стоит погода? — спросил Ловадеуш.
— Плохая. В это время на сухих землях уже нужно сеять кукурузу, если роса выпадает. Теперь все перепуталось. Прежде на пасху слышно было, как куковала кукушка, а сейчас молчит. Земля больше не родит, устала, выдохлась… Португалию зовут страной семи семян, как божий мир — миром семи грехов. Еще бы! Сеешь один алкейре, а собираешь четыре, да еще должен считать себя счастливцем. Поэтому никто больше и не хотел обрабатывать землю. Ведь она черная и пачкает руки! Сильные уезжали из страны, оставались только слабые, ни на что не годные. Вот и получалось, что и тот, кто ходит за сохой, и тот, кто пасет скот, живут в холоде и голоде, они большие рабы, чем негры. Крестьяне кормят ораву дворян, министров, докторов, писарей, священников; на их шее все нищие, лодыри и бездельники. Они рассыпают манну небесную, а сами голые, как каштаны, после того как их обтрясут. Знаете, чего больше всего боятся те, кто носят фраки? Того, что в один прекрасный день будет подсчитано, сколько стоит зернышко хлеба. Если это случится, мир погибнет тотчас же.
Некоторое время все молчали, размышляя над словами Жусто, затем он приветливо обратился к Мануэлу:
— Висенте сказал мне, что ты стал доктором… Это правда?
Ловадеуш скромно улыбнулся.
— И будто отцу Урро, который ехал вместе с тобой, туго пришлось, когда ты стал с ним спорить. Похоже, немало ты повидал и кое-чему научился…
— В сертане без этого нельзя. Несколько книжек я читал. В Куиабе жил один человек, прямо святой, у него был целый шкаф книг, и он мне давал их. Он был натуралистом и бродил по зарослям с двумя ящиками. В один он собирал насекомых, в другой — травы. Иногда и я ходил с ним. Это знакомство научило меня большему, чем научила бы целая армия профессоров.
Выслушав его, Жусто восхищенно покачал головой. Однако он не мог не обратить внимания на худобу Мануэла и неуверенность его движений, а поэтому выпалил ему прямо в лицо, как бы подведя итог своим наблюдениям:
— Все это так. Ну, а деньги ты привез? Нет? А ты не обманываешь меня? Жаль, жаль… В твоем доме дела плохи, еле концы с концами сводят…
Ловадеуш, не ответив, поджал губы. Не хватало только, чтобы каждый дурак совал нос в его дела! Обозлившись, он уже готов был послать болтливого Жусто ко всем чертям, но лишь отвел глаза в сторону. Однако негодяй, неверно истолковав его деликатность, изрек унизительный приговор:
— Я всегда говорил, Бразилия не для всякого.
— Подумаешь новость! Так всегда было, с тех пор как мир стоит, — заметил Финоте.
— Одних когтей мало, нужна еще хитрость, — возразил Жусто.
— Знаешь, что однажды сказал мне Котим из Реболиде, когда я его спросил, не хочет ли он поехать за океан. «Конечно, хочу, — ответил он, — но это не для меня. И знаешь почему? Я не ловкач. Чтобы жить там, нужно быть пройдохой, а я таким не родился». Значит, правда, что там только хитрецы устраиваются?
Мануэл Ловадеуш, поняв смысл этого намека, ответил мягко:
— Всякое бывает, кум, всякое. Но и там хороших людей хватает и среди бразильцев и среди португальцев.
Беседа оборвалась, так как народу все прибывало и прибывало, большинство было в плащах, и очень немногие в пиджаках, женщины в шалях — ночи еще стояли холодные. Ловадеуш, растерявшись, не знал, с кем говорить, и поэтому переходил от одного к другому, а потом возвращался к жене, которая неохотно отпускала его, полная ласкового нетерпения.
Люди толпились во дворе, в дверях сгрудилось столько любопытных, что в доме стало нечем дышать. Сначала было темно, но потом взошла полная луна, и при ее ярком свете Мануэл обходил гостей, пожимая руки одним, обнимая других. Он вспоминал о стариках, которые уже умерли или не смогли прийти, а молодых отсылал домой к детям. Так постепенно он оказался далеко от дома на дороге, которая привела его к трактиру Накомбы. Трактирщик за это время снес старый дом и поставил новый, кирпичный, с оштукатуренными стенами. По-прежнему здесь подавалось разбавленное вино — та же водица, только вроде лучше на вид. А сам Жулио Накомба, ставший еще более пузатым и важным, как всегда, стоял с засученными рукавами и в фартуке, чтобы не пачкать одежду.
Осмотревшись вокруг, Мануэл Ловадеуш при свете фонаря увидел посетителей в рваных рубашках и штанах с заплатами на коленях. Он почувствовал вдруг, что его поношенный тропический костюм роняет его в глазах земляков. Сначала на него смотрели без любопытства, затем — без уважения, хотя Мануэл понимал, что слова привета и поздравления значили бы не больше, чем свечи, зажженные по давно истлевшим покойникам. Пораженный, как укусом кобры, недоброжелательством земляков, Ловадеуш покрылся краской стыда. Если бы был день, это не укрылось бы от любопытных глаз.
— Налейте вина, сеньор Накомба! — крикнул он. — Есть у вас печенье? А пирожки?.. А жареная треска?.. Давайте все, что у вас есть… — у Мануэла было такое чувство, словно он плыл против течения.
Вскоре в трактире собралось немало односельчан Мануэла и жителей соседних деревень. Мануэл хорошо знал, что завоевать доверие и симпатию горца и заставить его губы улыбнуться, а душу раскрыться лучше всего у бочонка с вином. Он помнил, что раньше именно в трактире заключались союзы на жизнь и на смерть, посетители договаривались о чем угодно, даже об убийствах. А теперь? Теперь то же самое. Земной шар еще не раз обернется вокруг солнца, прежде чем люди станут другими. А пока по кругу ходил кувшин с вином из Таворы, нежно ласкавшим рот, которое Накомба налил прямо из бочки, не успев разбавить. Языки развязывались, заговорили о лесопосадках на Серра-Мильафрише. Жусто Родригиш, богатый торговец скотом, ростовщик и председатель жунты, внушительно сказал:
— Я уже неоднократно говорил и снова повторю в следующий понедельник в палате: земля наша и только наша. Мы хотим, чтобы она и осталась нашей, и у нас есть на это право. Это нас устраивает. Господа из Лиссабона хотят сажать на ней сосны?.. Пусть сажают их в парках и садах с дорожками и подстриженной травкой. Вам будет лучше, ваши доходы станут больше, говорят они. Может, и так, а может, и нет. Допустим, они правы, но где тот Соломон, который подтвердил бы это? А мы знаем одно: мы должны ее возделывать, любой иной выход — грабеж. Горы принадлежали нашим отцам и дедам, нашим стадам и волкам, резавшим наших овец, галисийскому ветру, который точил на голых камнях свои вихры, острые как бритва. Разве мы можем думать иначе?
В трактир вошел старьевщик из Коргу-даш-Лонтраша, и Накомба обратился к нему:
— Что слышно, дядя Жоао до Алмагре?
— Люди говорят, что горы всегда принадлежали горцам — с тех пор как мир стоит, они переходили от отцов к сыновьям. И тому, кто явится отнять их у нас, придется иметь дело с нами!
Какой-то парень в обмотках, ведя за руль старый велосипед, подошел к двери трактира.
— В Лабружале все наготове, — сообщил он. — Отнять у нас горы все равно, что содрать с нас кожу и волосы. Но тогда свое слово скажут ружья! Они уже заряжены солью и черепками!
— Там и мои самопалы пригодятся, — сказал Мануэл до Розарио, старый кузнец и кум Ловадеуша, выводя подпись на счете одному из своих заказчиков, который только что ему заплатил.
— Как мы будем жить, если у нас отберут землю?
— Остается только грабить на большой дороге!
— Слыхал я, кто бы ни пришел хоть в Лиро, хоть в Тойрегаш, сейчас же убирается восвояси, — вставил Жоао до Алмагре.
— На Серра-Мильафрише эхо раздается сильнее, чем в Алжубарроте! — послышался голос парня из Реболиде-да-Вейга, который был влюблен в девушку из Аркабузаиша.
Его никто не понял, наступило молчание, но каждого мучил один и тот же вопрос.
— В Валадим-даш-Кабраше, — сказал кто-то, вступая в круг, — мужчины от семнадцати до тридцати лет готовятся, как солдаты к параду. Только успевай к их сапогам прибивать набойки! Командует ими бывший капрал. Он смелый и расторопный. Даже карабины достал.
— Где же он нашел их?
— Поди узнай. Я слышал, будто их отняли у солдат и спрятали в соломе, только никому ни слова.
Это сказал Жоаким Пирраса, или Писарра, хорошо известный в тех местах торговец козами и зерном. Дела заставляли его переезжать с места на место, то верхом на лошади, то на грузовичке, которым он сам управлял. Он знал всех как свои пять пальцев.
— Пришел Жоао Ребордао, послушаем, что он скажет…
Жоао Ребордао из Парада-да-Санты, можно сказать, руководил бунтом против лесопосадок в горах. Это был мужчина средних лет, с широкой грудью пса, охотника на куропаток, твердо стоящий на ногах, похожих на тумбы. Он со всеми был в приятельских отношениях.
Жоао Ребордао остановился и, круто повернувшись, обратился к Жусто:
— Мне сказали, что ты здесь. Значит, договорились, в следующую среду отправляемся в город.
— Все как один!
— Говорят, Жулиао Барнабе вместе с доктором Лабао что-то замышляют против нас. Нам только этого не хватало!
— Послушай, у меня новость! Из Бразилии приехал кум Ловадеуш. Он человек неплохой, за словом в карман не лезет, да и голова у него на плечах. Хорошо было бы привлечь его на нашу сторону…
— Мануэл Ловадеуш приехал? Где он? Я хочу его обнять!
Мануэл Ловадеуш поспешил выйти из трактира, и они крепко обнялись. После обычных в таких случаях приветствий завязался оживленный разговор. Ребордао знал Мануэла еще с войны, которую они прошли бок о бок. Не раз друзья смотрели смерти в лицо.
— Ты должен быть с нами, Мануэл…
— А как же иначе? Я в твоем распоряжении. Однако помни, что насилие никогда не доводило до добра.
— Только мне не говори об этом! Многое в нашем мире создано не добром, а злом, и это старо, как сам мир. Большинство королевств, владений и состояний было создано силой, они обагрены кровью. Что ты на это скажешь?
— Как только небеса терпят это?
— Там, видно, заняты другим!
— Ничего, когда-нибудь все изменится…
— Оставь, пожалуйста! Для нас каждая минута длинна, как пыльная дорога. Мы рассчитываем на тебя. Ну, я пошел, уже поздно. А ты приходи в поселок. От нас пойдут Жусто, Накомба и еще кое-кто. Прощай, друг!
Мануэл Ловадеуш вернулся в трактир, низко опустив голову.
— Без всяких сомнений, прольется кровь, — сказал Накомба, который слушал друзей, озабоченно качая головой. — Прольется, обязательно прольется. Если правительство тронет нас, мы достойно ответим. Но вы, сеньор Ловадеуш, можете не беспокоиться. Рошамбана не попадает в вону, хотя с южной стороны граница проходит совсем близко. Они очень хотели бы заполучить Рошамбану из-за родника, но из этого ничего не выйдет.
— Рошамбана принадлежит мне, — твердо сказал Ловадеуш. — Я уверен, и отец будет против.
— Теотониу? Не может быть! — съязвил дядя Карлиш, который уже заявил, что тот, кто первым к ним сунется, первым и споткнется.
— А что?! У него слово с делом не расходится, — вставил Жусто.
— Да, уж он зря болтать не станет, хоть и горяч, — подтвердил Накомба. — Знаете, как он расправился со сторожем Манга Куртой? Этот жулик, который словно для того и создан, чтобы причинять беспокойство честным людям, забрал кролика вместе с капканом Теотониу. Но Теотониу пришел как раз вовремя, когда вор собирался улизнуть, и навел ружье прямо ему в сердце. «Или клади, что взял, — говорит, — или сейчас отправишься в ад!» Манга Курта — трус, у него сразу ноги подкосились.
— Теперь, когда ему нужно нарубить веток, он взбирается на сосну, как кошка.
— Он думает, раз он наложил лапу, значит, уже стал хозяином, — заключил Накомба.
Их слова пришлись по вкусу Мануэлу Ловадеушу, который, хоть и был человеком сдержанным, не мог не гордиться подвигами отца. Старика уважали. И Мануэл, стараясь скрыть свои чувства, дал трактирщику знак налить всем по полной.
— Лей, Накомба, не жалей! — Затем он снова повернулся к стойке. — Много новостей я услышал от земляков. Значит, Рошамбану не трогают. А вообще правительство поступает несправедливо, отнимая у крестьян их землю, крестьян и так стригут, как овец. Они же, словно дети, часто не знают, чего хотят, что им на вред, а что на пользу. Вы уверены, что вас обкрадывают? А может, тракторы поднимут эту целину для вашего же блага?
— Для нашего?! Да они только о своем заботятся. Когда сосны подрастут, они же и будут их рубить. Дороги, которые хотят провести в горах, только им нужны, а дома строятся для охраны. И телефоны они ставят только для себя, предупреждать посты, если кто из нас пойдет в лес за дровами или жердь вырубить. Одним словом, польза от этого только им. Прощай, наша землица, прощай, больше тебя нам не видать. Попасть на участки будет трудней, чем в сказочный замок! — горько пошутил парень, который недавно рассказал о событиях под Алжубарротой.
Снова помолчали,
глядя на склоны гор, которые вставали на горизонте. Чтобы как-то утешиться, выпили. За ваше здоровье… еще по одной… еще… Ковш Большой Медведицы прошел полнеба и повернул свой посох обратно. Колючий ветер раскачивал ветви сосен.
Кружки в полканады
[5] и стаканы в пинту безостановочно мелькали, одни наполненные, другие пустые. Успевай только подливать! Ведь залить горло горца все равно что наполнить водой высохшее озеро.
Осушая кружку за кружкой, Мануэл Ловадеуш почувствовал, что вино ударило ему в голову. Радость снова оказаться в родных краях, среди земляков заставила его забыть о своих огорчениях и обо всем на свете. Он продолжал пить и скоро совсем захмелел. Пол качался у него под ногами. Те, кто напился до потери сознания, как и те, кто еще кое-что сознает, подчиняются какой-то силе, развязывающей языки и заставляющей изъясняться более или менее красочно. Во хмелю Ловадеуш сохранял способность мыслить, но был склонен к мелодраме. Полеты его фантазии, правда, содержали в себе какие-то трезвые суждения, однако очень трудно было уловить смысл его разглагольствований.
Он начал приставать к Жусто:
— Ты совсем не знаешь, кум, что такое жизнь! Ты слепой! Для тебя жизнь — это прятать деньги в кубышку. Нетрудное дело! А жизнь прожить, если хочешь знать, все равно что по бревну над рекой пройти, не замочив обмоток и не уронив их в воду. А если река унесет их, тогда прощай все! Что бы ты стал делать, Жусто, если бы у тебя были горы золота, а потом вдруг ты остался без гроша, без единого гроша? Что бы ты стал делать, если бы сегодня разбогател, а завтра узнал, что остался без всего? Отвечай мне сейчас же, что бы ты сделал, отвечай, я хочу знать, что ты за человек!
— Хорошо, Ловадеуш, отвечу. Если бы я вчера разбогател, а сегодня узнал, что разорен, я бы первым делом стал ломать голову, как это могло произойти.
— А потом?
— Потом не знаю… Потом попробовал бы найти выход. Допустим, у меня сгорел дом… Что я должен делать?
— Ну, а если тебя обокрали?
— Если бы обокрали?.. Если бы обокрали, закричал бы караул и побежал за вором.
— Так. А если вор бегает, как лошадь?
— Тогда, тогда… Всадил бы в него пулю…
— Всадил пулю?! А зачем? Ты представь, что поймал его и он в твоих руках…
— Право, не знаю, что тогда… Дать ему хорошую затрещину?.. Нет, не знаю!
— Не знаешь? Нет, знаешь, скряга и барышник! В душе ты такой же мошенник, как этот вор. А я вот знаю, что ты с ним сделаешь, кум Жусто: если ты его и вправду поймаешь, то от тебя одной затрещиной не отделаешься… Ты ему ноги переломаешь!
Жусто засмеялся, чтобы сгладить грубость Ловадеуша, который уже был изрядно навеселе.
— Пожалуй, — сказал он. — Одной тварью на свете меньше станет.
— Но ты не должен убивать его. Настоящий человек не убивает себе подобного, даже если тот братоубийца Каин. Нет, не убивает.
— Конечно, если он такой же тихоня, как ты!
— Вот порядочный человек убивает. Но есть такие, которые не убивают. Порядочный человек живет по законам священников, судей и богатых и всегда держит под полой острый нож. Они ужасны, эти порядочные люди! И общественное мнение всегда на их стороне. Бог и правосудие тоже. А горемык и бедняков так и норовят в яму засадить.
Он замолчал. Вокруг пили и громко рассуждали, кое-кто поддержал Жусто.
— Если бы у меня украли то, что я добыл своим потом, и я бы поймал вора, то тоже, наверно, свернул бы ему шею, — сказал один из посетителей.
Мануэл Ловадеуш подошел к нему, держа налитый до краев стакан.
— Убил бы? Убийство человека — тяжкое преступление. Даже если ты полностью прав, это всегда подлость, чудовищное преступление. Ты убил бы из-за того, что у тебя украли деньги, и сам стал бы хуже любого убийцы. Сломать такую удивительную и совершенную машину, как человек, сломать машину, которую никто не может снова пустить в ход? Нет этому оправдания! Ломать ее прежде времени — большой грех перед солнцем, звездами, горами, что виднеются вдали, перед насекомыми и птицами, которые летают по небу и видят все, что творится на земле!
Все замолчали, глубоко пораженные словами Мануэла, похожими на проповедь. Его нетрудно было понять.
— Пора спать, — напомнил Жусто.
Накомба покачал головой, не меньше других пораженный речью Ловадеуша, напоминавшей предсказание гадалки.
— Да, видать, немало ты пережил, раз стал таким ученым.
— Помолчи, может, он сам свернул там шею какому-нибудь жулику, — снова вставил тот, что высказывался за убийство.
Жусто, как истинный друг, тут же пришел на помощь Мануэлу:
— Ну что ты, это он так, для примера. Не видишь разве, что человек выпил?.. У него уже ум за разум зашел…
Один из присутствовавших бросил на Ловадеуша недоверчивый взгляд, и тот, заметив это, сказал:
— Посмотри, парень, эти руки всегда были чистыми. Они не запятнаны предательством. У кого на руках нет крови? Я убил ягуара… убил змею сурукуку… Я убивал хищников, но человека я не убивал. А можно убить зверя, который и ягуар, и крокодил, и сурукуку сразу?
— Пусть никогда не дрогнут твои руки! — хором воскликнули окружающие. — Если ты убил такого зверя, очень хорошо сделал.
— Я только хотел убить, но не убил. Нет! Бог убил моими руками. Бог или дьявол!
Он посмотрел на стакан, который плясал в его руках. Затем, словно приняв вдруг какое-то решение, поднес его ко рту и выпил одним глотком, как пьют лекарство.
— Бог или дьявол убил моим ножом… моим охотничьим ножом. Перед вами преступник!
Между тем, устав от бессвязных разглагольствований Мануэла, Жоржина и ее брат заспорили о Рошамбане: стоит ли продавать ее или нет? Филомена, которая тоже пришла к трактиру, молча слушала.
Постепенно Мануэл остался один, никто больше не обращал на него внимания. Тогда он приблизился к группе споривших и, словно мгновенно протрезвев, произнес, отчеканивая каждое слово:
— Рошамбану не трогайте!
— Лучше продай ее, — вмешался Жусто. — Сразу разбогатеешь. Тебе досталась хоть часть Рошамбаны после смерти матери?
— Досталась, но хозяин отец. К тому же мне не нужно богатство. Ты знаешь, что такое богатство? Оно, как пушинка одуванчика. Дунет ветер, и пушинка летит куда попало и где меньше всего ее ждут. Она часто попадает в руки тому, кто и не думает ее ловить, а еще чаще ускользает из рук того, кто ее поймал. Так и со мной случилось. Но богатство ждет меня в сертане, в двух шагах от леса!
— Так не продашь?
— Нет, не продам. Я хочу построить дом на этой земле, — снова начал Мануэл, и чувствовалось, что это решение созрело у него давно. — Я хочу жить в этом доме. Среди гор, под солнцем и звездами, я хочу быть свободным, как ветер, друзья, чтобы были только земля и небо. Я привык жить один. Вы не можете представить себе, каково снова очутиться в городе после пяти лет, проведенных в сертане. Мне показалось, что я заболел!
— Ты хочешь жить в Рошамбане, отец?! — недоуменно воскликнула Жоржина. — Там все ночи напролет волки воют, их логовища чуть повыше. Деду там нравится, но ведь он с волками дружит.
— А ты боишься волков, глупенькая?! — с ласковым упреком спросил Ловадеуш. — Но ведь они храбрые и симпатичные звери. Едят барашков? А приор, а господин судья, а Накомба, а дядюшка Грулья? Они тоже едят барашков, если те им попадаются. Кто же тогда страшней? Не бойся волков, глупышка! Нас они не трогают. От злых волков у меня есть хорошее средство… — Он показал на большой продолговатый, совсем новый чемодан, обитый железом, который лежал в кузове остановившегося перед трактиром грузовика на груде черепицы. И поскольку все посмотрели туда и, видимо, поняли, о чем он говорит, Ловадеуш, чтобы смягчить неосторожно вырвавшийся хвастливый намек на то, что он тайком привез с собой карабин или какое-то другое оружие, сказал: — Бойся человека, бойся человека-вора, человека-зверя! Волки меня не пугают. Кто жил в лесах Бразилии рядом с ягуарами и индейцами, тот не боится зверей своих родных краев!
Висенте, движимый любопытством, влез на грузовик и, приподняв чемодан, опустил его за борт. Внизу стояли Жаиме и его двоюродный брат Пласидо. Как только чемодан оказался на земле, они проворно схватили его и скрылись вместе со своей ношей.
Жусто Родригиш и остальные смотрели, как они поспешно удалялись по направлению к дому Ловадеуша, стоявшему на краю деревни. Видя, как легко и проворно они управляются с чемоданом, крестьяне переглянулись и единодушно заключили: много лозы — мало винограда. И сразу же все: и кум Жусто, и Мануэл до Розарио, и Жоао до Алмагре, и Накомба, и Грулья, и Финоте скорчили пренебрежительные гримасы, которые ранят больнее, чем кобра, потревоженная в траве.
— В чемодане всякая мелочь, — смущенно сказал Ловадеуш. — Вы знаете, англичане всегда ездят налегке. Впрочем, откуда вам знать!
Эти слова, подтвердившие подозрения земляков Ловадеуша, породили какой-то холодок в их сердцах. Все молчали, погруженные в невеселые мысли, слабый свет фонаря и луны не позволял хорошо разглядеть выражение их глаз, их лица были окутаны тенью.
— Вы удивлены тем, что не видите моего автомобиля? Он прибудет, я заказал его в Германии. Можете не сомневаться. Я оставил в тех краях большое состояние, его нужно перевезти сюда.
Стало совсем тихо. Одни улыбались, другие едва скрывали свое разочарование или опасение, что вдруг Ловадеуш и впрямь разбогател. Ему стало жалко этих людей. Жалко самого себя.
— Не хотите еще по глотку, друзья? Нет? Тогда я расплачиваюсь, сеньор Накомба. Пойду в Рошамбану просить благословения у отца, — Мануэл бросил на прилавок бумажку в сто эскуду.
— Так поздно? — удивился Жусто. — У тебя завтра будет время… Отец твой здоров, не умрет же он этой ночью…
— Нет, пойду сегодня. Завтра встретимся с тобой в кабачке. Хочу посмотреть, как живет старик и насколько выросли деревья, которые я посадил!
Он взял сдачу и попросил палку, чтобы удобнее было подниматься в горы. Накомба дал ему посох. Парни собрались идти с ним, и Жоржина тоже просилась. Мануэл был удивлен — незадолго до этого он заметил, что она бросала на него полные любопытства и ожидания взгляды. Что он мне привез? — как бы спрашивала она. А может быть, приехал без гроша в кармане? Тогда он привлек дочь к себе и, раскрыв ее ладонь, надел на безымянный палец правой руки кольцо в виде змейки из чистого золота, с двумя рубинами вместо глаз и сверкающими в оправе брильянтами.
Увидев Филомену, которая молча наблюдала за ним, Мануэл подозвал ее кивком головы.
— А это для тебя… — Он хотел надеть ей на палец другое кольцо, усыпанное драгоценными камнями, однако пальцы Филомены оказались слишком толстыми, и кольцо влезло только на мизинец. Она довольно и застенчиво улыбнулась, что очень обрадовало Мануэла. Он сделал это нарочно, чтобы все видели, что он приехал не таким нищим, как они думали. Потом достал два фунта и дал один Жаиме, а другой — Карлишу Пласидо, лучшему другу сына. — Они стоят по триста эскуду каждый! — не мог удержаться Мануэл.
Затем он открыл серебряный кошелек и стал раздавать всем присутствующим монетки по десять, пять, двадцать пять эскуду, по десять и пять тостанов
[6], пока кошелек не опустел. Горцы, спрятав монеты поглубже к себе в карманы — как бы Мануэлу не взбрело в голову потребовать их обратно, — стояли с разинутыми ртами, вытаращив глаза. Похоже, что он тронулся. Впрочем, раз он швыряет деньги, значит, не так уж он беден. И вконец сраженные его щедростью, рассыпаясь в льстивых похвалах, они бросились его провожать. Это было настоящее шествие: справа от Мануэла шел кум Жусто, слева — Накомба, старый трактирщик, почуявший запах денег. За стойкой он оставил жену.
ГЛАВА II
Во дворе ратуши Буса-до-Рей, стоя кругом, вели непринужденный разговор д-р Ригоберто из Аркабузаиша, председатель палаты д-р Лабао до Кармо, ставший известным в городке и окрестностях благодаря зависти одних и невинной болтливости других, — как и д-р Арканжело — и прочие, среди которых был и Мануэл Ловадеуш, в еще не померкшем ореоле героя, вернувшегося из Бразилии, и Жулиао Барнабе, по прозвищу Гнида, тоже не последний человек в горах. Только что началась торговля, и ярмарочная площадь стала наполняться народом.
Д-р Ригоберто, явный сторонник смены политической власти, недавно возвратился из Лиссабона и рассказывал анекдоты, высмеивающие существующий строй, которых он наслушался в Шиадо или у своих приятелей. Однако д-ра Лабао, пламенного сторонника новой политики и ее глашатая, нелегко было поддеть. По ряду причин, как он сам говорил, он не любил острот, но причины эти сводились к одному: к желанию прослыть снисходительным к злословию. Поэтому старый хитрец забросил крючок, на который остряк д-р Ригоберто непременно должен был клюнуть.
— Я поддерживаю интересы деревень, — сказал он. — Разве вы этого не знаете? Горы необходимы крестьянам, и, когда явятся уполномоченные Лесной службы, я об этом так и скажу.
— Сказать об этом в качестве адвоката хорошо, а в качестве председателя палаты — еще лучше. Если бы я был председателем палаты, я бы даже подумать им не позволил действовать без согласия муниципалитета. Так почему же муниципалитет Буса-до-Рей не может стать опорой горцев?
Д-р Лабао, который был прежде всего оппортунистом и кланялся всем ветрам, онемел. Но ему повезло — как раз в тот момент на площади со стороны Транкозо появился большой автомобиль, который несся с сумасшедшей скоростью. Прежде чем остановиться, ему пришлось свернуть влево, чтобы не наехать на калеку Рипопо, который уселся посреди дороги. Машина с грохотом затормозила под липами между зданием ратуши и толпой приехавших на ярмарку крестьян, которые с мешками на плечах и зонтами под мышкой отскочили в сторону, напуганные чудовищем, надвигавшимся на них.
— Инженеры приехали, — с облегчением воскликнул д-р Лабао.
Инженеры вышли из машины и сейчас же стали разминать затекшие ноги, затем залюбовались прекрасными видами. По зеленым горам разве только молока и меда земли обветованной не текло — обстоятельство первостепенной важности для чиновников; лучи солнца, лившиеся, словно радостная музыка, струились на черную землю и пеструю листву виноградников, уже тронутых осенью; эта яркая картина очень напоминала пейзажи плодородной Грузии. На несколько секунд они застыли в восторге, любуясь рядами розовых кустов, прекрасные и свежие цветы которых словно расцвели только затем, чтобы приветствовать инженеров от имени благодарной местной флоры. Полные восхищения, их превосходительства направились в ратушу. Навстречу им спешил запыхавшийся, но преисполненный достоинства и предупредительности секретарь палаты Амаро Розендо в сопровождении целой свиты. Не успев спуститься с лестницы, он разразился водопадом приветствий и поздравлений.
В зале, где должно было проходить совещание, все было готово. На фоне белых стен резко выделялись торжественные фигуры горцев, облаченных в праздничные одежды.
Их худые, в глубоких морщинах лица, над которыми старательно потрудились солнце, ветер и дождь, были выбриты; носы у большинства были кривые, как деревья, которые ветер постоянно гнул в одну сторону. Крестьяне вырядились в рубахи из домотканого полотна и резиновые калоши, их руки, как лопаты, висели из пройм жилетов или были вытянуты по швам. Вот они, «Граждане Кале».
В зал торопливо входили местные адвокаты, представители власти, должностные лица и запоздавшие представители деревень; занял свои места президиум.
Господин инженер Лизуарте Штрейт да Фонсека расположился в кресле, тщательно собрал слуховой аппарат, ибо был глух, и одной рукой погладил другую, как бы подавая знак Фонталве. Последний открыл громадный и роскошный портфель с пряжками и ремнями, напоминавшими старинную упряжь, и извлек из него целую гору дел, которую не поднял бы и галисиец. Пока он протирал свое пенсне, раскладывал бумаги и прикреплял кнопками чертежи, Штрейт скользил взглядом по крестьянам, вытянувшимся вдоль стен и словно образующим готический фриз. Его внимание, видимо, привлек Мануэл Ловадеуш, так как он повернулся к д-ру Лабао и о чем-то спросил его. Ригоберто слышал, как тот зашептал в ответ:
— Недавно вернулся из Бразилии, но неизвестно, с деньгами ли.
Все сидевшие за столом, кроме самого Штрейта, расслышали его шепот. Штрейт же принялся переспрашивать, подставляя ухо; Лабао, в конце концов поняв, что инженер глух, прокричал ему то, что сначала еле слышно шептал. Тем временем Фонталва начал чтение документов. Вопрос был известен всем: участок в горах Мильафриш, отводившийся под лесонасаждения, принадлежал десяти деревням: Аркабузаишу, Урру-ду-Анжу, Коргу-даш-Лонтрашу, Валадим-даш-Кабрашу, Алмофасе, Азенья-да-Море, Парада-да-Санте, Понте-ду-Жунку, Тойрегашу и Реболиде. Эти деревни своей пышной зеленью как бы обрамляли бесплодное плоскогорье. Простиравшаяся там пустошь наносила государству недопустимый экономический ущерб, который не оправдывался тем, что с нее получали несколько возов сена, или тем, что там паслось несколько десятков паршивых овец. Однако в упомянутых деревнях росло порой скрытое, а порой более явное сопротивление порядку, который хотели установить и который, если сейчас и лишал крестьян некоторых заброшенных земель, в будущем приносил им неисчислимые выгоды.
Сесар Фонталва долго наносил удары по доводам, которые могли выставить деревни против указаний государства, этого deus ex machina. Для горцев его речь, без сомнения, звучала небесной музыкой. Прислонившись к стене, они походили на статуи, временно вынесенные на склад или в смиренных позах слушающие благочестивые проповеди в храмах.
Д-р Лабао, грузный и широкий, сидел, оттопырив свои мясистые губы и покачивая головой. Д-р Базилио Эшперанса, молчаливый и неподвижный, казалось, врос в кресло из вишневого дерева. Его положение в Союзе
[7] обязывало его держаться важно и внушительно. Он не разговаривал, не смеялся, косо посматривая на весельчаков; его сравнивали с государственными мужами, описанными Плутархом, хотя д-ру Ригоберто приходилось слышать о его не совсем благовидных делах.
Доклад продолжался, грозя затянуться до бесконечности. Ригоберто заметил, как Штрейт нервно вставляет в ухо небольшой микрофон, поправляя его кончиками своих тонких и белых пальцев, и понял, что всеми этими речами инженер сыт по горло. Судя по еще не зачитанным бумагам, Фонталве понадобится не меньше четверти часа. Тогда, пользуясь своим положением на иерархической лестнице, Штрейт тихо сказал ему, чтобы он выбросил мотивировки и перешел к существу дела. Фонталва тут же с явным удовольствием перевернул несколько страниц.
Отчаянно жужжали мухи, которых раздражали жара и тишина в зале. С ярмарки доносился глухой гул голосов, ржание лошадей, музыка. Докладчика заглушал репродуктор: «Дешевая распродажа! Спешите! Только сегодня! Завтра в два раза дороже! Налетай! Разбирай! Мужские носки по пять эскуду! Женские по шесть! Дешевая распродажа! Кончается! Кому остатки?!» Многие улыбались. Д-р Лабао, борясь со сном, закрыл один слипающийся глаз и открыл другой, стыдливо посматривая по сторонам. Наконец-то Фонталва приступил к чтению резюмирующей части, которую торопливо отбарабанил, глотая слова:
— Нижеподписавшиеся от имени деревень, которые они законно представляют, отказываются от всех имеющихся и всех возможных в будущем прав на часть гор, граничащих с их землями и временно бывших общественным пастбищем, поскольку нет ни документов, ни записей в книгах жунты, что земли эти когда-либо были отведены им или издавна принадлежали приходу; взамен Лесная служба выделяет деревням постоянные выгоны, которыми они будут пользоваться по своему усмотрению и согласно старинным обычаям. — Кончив чтение, Фонталва пригласил присутствующих подписать документ.
Первым подошел доктор Лабао, он взял перо и начертал свое имя с явным удовольствием, затем д-р Базилио — доверенное лицо правительства, Сампайо из министерства финансов, д-р Арканжело Камарате и д-р Кориолано Арруда — местный адвокат. Потом Фонталва передал ручку Розендо и наконец д-ру Ригоберто Мендишу. Адвокат заметил, что намерен выступить с возражениями. Тогда Фонталва подозвал самого ближнего из представителей деревень, который оказался Жусто Родригишем из Аркабузаиша, но тот отрицательно покачал головой.
— Это все равно, что сменять несушку на ястреба, — пробормотал Мануэл Ловадеуш.
Фонталва, сделав вид, будто этот отказ был для него неожиданностью, обратился к несогласным с плохо скрытой радостью:
— Значит, вы не хотите подписать?.. Почему?
— Господа, очевидно, желают, чтобы крестьяне сами подписали себе приговор? — бросил Ригоберто.
Штрейт негодующим жестом поднял правую руку, тонкую, словно шпага, и произнес с оттенком сожаления:
— Не понимаю, на чем основывается столь прискорбное решение!
Крестьяне по-прежнему молча стояли вокруг бумаги, лежавшей на столе. Ригоберто слышал, как д-р Лабао, презрительно улыбаясь, подобострастно шептал что-то на ухо Штрейту, то и дело повторяя «грубиян».
— Да-да, грубияны, распоясавшиеся грубияны! — бормотал Штрейт, потом, резко отстранившись от Лабао, принял величественную позу, подобающую начальству.
— Ну, господа, решайте! — мягко, но настойчиво заговорил Фонталва. — У вас нет серьезных оснований возражать, и вы молчите, а поэтому будем считать вопрос исчерпанным, если вы не соблаговолите изложить ваши сомнения…
Тогда Ригоберто своим сильным и звучным голосом, громко, словно он выступал в парламенте, сказал:
— Разрешите мне… Эти люди молчат не потому, что им нечего сказать, а потому, что они не умеют четко изложить свои доводы. Вы хорошо знаете, уважаемые господа, что не каждому по силам объяснить причины того или иного явления. Крестьяне отказываются согласиться с планом лесопосадок, и причин на это у них более чем достаточно. Каковы же они? Вот вопрос, который должен интересовать вас, господа, если вы являетесь чиновниками Лесной службы, которая, я в этом нисколько не сомневаюсь, будучи национальным органом, действует во имя общего блага.
Штрейт, как глава миссии, сделал знак Фонталве, чтобы тот дал разъяснения. Фонталва подошел к картам, висевшим на стене, крестьяне двинулись за ним и тесно окружили инженера, который пальцем показал границы участков, отведенных каждой деревне. Все молчали, раздавались лишь покрякивания или односложные удивленные и негодующие возгласы. Ломались веками установленные границы участков. Лишь Жулиао Барнабе, по прозвищу Гнида, держался спокойно и надменно; своим жирным отвислым подбородком он напоминал свинью, которую, после того как она получила приз на конкурсе животноводов, закололи и повесили на крючок, чтобы стекла кровь. Он был большим приятелем д-ра Лабао, и тот подозвал его к себе. Гнида тут же подошел, и они стали что-то шептать друг другу на ухо. Всем своим видом Лабао выражал раздражение. После того как Гнида вернулся к группе крестьян, очень гордый вниманием, которое ему оказали, д-р Лабао тихо обратился к Штрейту. Ригоберто отлично слышал, что он говорил, а если и не понял кое-чего, догадаться было нетрудно.
— Этот хочет подписать, но боится, — говорил д-р Лабао. — Ему пригрозили. Он здесь самый надежный. Я постоянно призываю его быть послушным и терпеливым. На наше несчастье, д-р Ригоберто начал говорить, а его два дня не остановишь.
— Спаси нас бог! Я через час должен сесть на поезд. Скажите-ка мне одну вещь — кто платит этому адвокату?
— Платят, как обычно в этих краях. Барнабе рассказывал, что из Урру ему привезли воз дров, из Понте-ду-Жунку два воза сена, из Азеньи — пару дубовых пней. Из других деревень он получает шерсть, навоз для удобрения, иногда ему вскапывают огород или картофельное поле.
— Понятно. Черт побери, из-за него я опоздаю на поезд!
Ригоберто стоял в двух шагах от них и, даже если б не хотел, все равно б все слышал. Лабао, вероятно, не догадывался, насколько его голос, когда он обращался к глухому, становился твердым и громким. Наступила пауза. Фонталва уже заканчивал, и Штрейт снова повернулся к Лабао:
— Судя по всему, эта огромная горилла Барнабе ваш приятель?
— Мы старые друзья. Он богат. Его отец был чесальщиком шерсти.
— Он не смог бы уговорить крестьян дать согласие? Средства мы отпустим…
— Конечно, сможет, — ответил Лабао.
— И сыновья у него есть?
— Двое… Настоящие выродки…
— Назначаются сторожами. А он пусть пообещает крестьянам и корчевщикам побольше денег.
Д-р Лабао отозвал Гниду к окну, и они снова принялись шептаться.
Между тем Штрейт взял слово, опередив коллегу, который собирался выступать.
— Я попытаюсь четко сформулировать проблему, стоящую перед нами. В вашем районе имеется обширная зона в десять-пятнадцать тысяч гектаров — полупустыня, местами оголенная эрозией или покрытая камнями, местами поросшая кустарником, называют ее Серра-Мильафриш. Вокруг раскинулись земли дюжины деревень, которые получают в этой зоне приблизительно одну треть нужных им удобрений, строительной древесины и дров, а также имеют там выгоны. Государство говорит крестьянам этих деревень: я беру у вас определенную часть земель, предположим пятьдесят-семьдесят процентов, где сегодня растет лишь кустарник, который обгладывают овцы и с которого за целый день с трудом наберешь возок хворосту; через пятнадцать лет здесь вырастет густой лес, он будет расчищен и разрежен, в тени деревьев будут расти сочные травы. Тогда стада смогут снова пастись на вершинах и склонах гор. В лесах будут проложены трассы, по которым смогут ходить автомашины, и деревни, до сих пор связанные между собой кружными ухабистыми дорогами, словно приблизятся друг к другу. Когда горные склоны покроются растительностью, улучшится и водный режим района. Уровень вод в колодцах и поверхностных источниках станет более постоянным, а реки и ручьи не будут так сильно заливать поля и, возможно, прекратят размывать почву. Я уже не говорю о санитарной пользе и улучшении климата, которое будет вызвано этими мероприятиями. Это ясно само собой, кроме того, лет через двадцать-тридцать жители этого бедного района получат работу. Валка леса, распиловка, добыча смолы создадут могучий источник доходов и займут довольно много рабочих рук.
Тут представитель от Аркабузаиша, Жусто Родригиш, поднял свои ручищи, правой хлопнул по левой и раздавил двух мух, которые сосали его кровь. Затем он поднес руку ко лбу, целясь на третью, но она вовремя улетела, сев на нос Мануэлу Розарио из Азеньи, и тот тоже не стал с ней церемониться. Крестьяне из Алмофасы и Понте-ду-Жунку, которым эти мухи надоели не меньше, воодушевленные примером Жусто, начали ловить мух и отгонять их от себя. Двор ратуши и скотный базар кишмя кишели мухами; их и без того было полно, но со скотом, пригнанным на ярмарку, стало еще больше.
— Черт побери! — воскликнул Жусто. — Я уж и не знаю, чего здесь больше — мух или воров!
Штрейту из Лесной службы показалось, что резкий возглас Жусто имеет отношение к его персоне, и он приложил ладонь к уху, но, поняв, что это не так, успокоился и снова заговорил:
— К тому же уступка с вашей стороны является весьма условной. Все эти годы государство обязуется откладывать на счета административных корпораций какую-то определенную сумму. С одной стороны, оно арендует у вас земли, как если бы вы были их законными владельцами, что еще никак не доказано, а с другой — дает вам часть чистого дохода от лесов.
— Если бы эти деньги попали в руки того, кто знает, как ими распоряжаться, это было бы неплохо, — пробормотал Гнида отчетливо, словно молитву в церкви. — Жунты и так получают на воду, на тротуары, на кладбища… Правительство правильно поступает!
— Такому доверить дело, так он даже пустырь за дорогой запишет на свое имя, — вставил Жоао Ребордао из Парада-да-Санты, которого Гнида называл врагом режима и арестантом, — он бы денежкам нашел применение!
— Нам тут только коммунистов не хватало! — огрызнулся Гнида.
— А нам жуликов! — вставил кто-то вполголоса.
— Разумеется, на деревни посыплется манна небесная, — решительно и спокойно вступил д-р Ригоберто, сдержанным жестом отметая возражения инженеров. — Разве вы не видите, что Барнабе продался правительству и присоединился к крестьянам только для того, чтобы выступать от их имени. Но ведь он не возместит тех убытков, которые они понесут. А крестьяне боятся, что в результате разных постановлений и распоряжений они в конце концов останутся без того, что сегодня принадлежит им. Существуют ли в наше время более деспотичные тираны, чем сторожа, управляющие или просто смотрители парков?! Морские волны выбрасывают на берег много мусора, и чем он мельче, тем дальше его относит прилив. Так и со властью: чем она незначительней, чем дальше от центра, тем больше произвола, злоупотреблений. Сейчас крестьяне — полные хозяева гор, они сами распоряжаются своими землями. В некоторых деревнях существует порядок, который с сельскохозяйственной или лесоводческой точки зрения достоин самой высокой оценки. Я поясню: в течение долгого времени участки в горах не возделывались, травы там никто не косил. Горы никому не принадлежат, они ничьи. Дрок, сорго, ладанник щиплют козы, или их жнут серпами; зайцев, кроликов и куропаток бьют дробью охотники.
— Если имеют разрешение на охоту и ношение оружия, — тут же вмешался д-р Лабао, бессменный председатель палаты и ревностный блюститель формальностей.
— Полная свобода! В горах нет ни границ, ни стен, ни изгородей, ни заборов. Крестьянину никто не мешает выбрать участок с травой повыше и погуще и накосить сколько надо. Это награда за его труды, скот пасется на свободе, никто за это не штрафует. В деревнях говорят: родится ягненок, родится и пастух, который за ним присмотрит, ведь горы — это лучшая овчарня. А отнимая их у крестьян, что государство дает взамен? Даст, если только это случится, лет через десять-пятнадцать дрова, сосновые иглы, подпорки для фасоли и гороха, воздух, пропитанный запахами трав, хотя и сейчас на вершинах он насыщен кислородом и озоном, и тень. Крестьянам обещают густую тень, обещают им также красивые пейзажи. А для чего они? Разве их и так не хватает? Разве можно птице обещать в награду небо, а рыбе воду? Через десять-пятнадцать лет крестьяне должны будут водить своих коз и овец на веревке, ибо, если не доглядят и дадут им зайти в лес, штрафа не избежать. Придется гнать скот в поймы. А разве их хватит для всего крупного и мелкого скота? Через двадцать лет карантин закончится. Но ведь это срок для нового поколения. Одни уже расстанутся с детством и вступят в юность, другие будут прощаться с жизнью, третьи только появятся на свет. Но для всех них этот срок будет слишком длинным и слишком тяжелым. За это время наш Доуро сбросит в море не один миллион кубометров воды. Обновится состав населения в наших краях. Здешние тощие коровы тоже не переживут этого времени. А где горцы будут брать хворост, чтобы обогреваться, и лес, чтобы построить хлев? Нет, не сходятся концы с концами.
Штрейт, приставив ладонь к уху, старался не пропустить ни слова, а Ригоберто, видя это, в нужных местах повышал голос, а в других понижал, правда, он не всегда помнил об этом, ибо его захватила горячка спора. Штрейт, слушая Ригоберто, нервничал, он то разводил руки, то схватывал одной другую, то сжимал пальцы до хруста, то снова разжимал их. Затем, когда адвокат остановился и внимательно посмотрел на чиновников, особенно на Штрейта, тот презрительно улыбнулся, словно подтвердилось сложившееся у него мнение о Ригоберто как о болтуне.
— Прогресс — это не утюг, — произнес он с сардоническим спокойствием, — кое-что он ломает на своем пути. Так всегда было. Паровоз вытеснил телегу, автомобиль вытесняет паровоз, завтра автомобиль станет жертвой самолета. Нельзя тормозить обновление мира во имя вещей, которые могут восхищать лишь своей поэтичностью, импонирующей нашим давнишним привычкам.
Ригоберто помедлил только один миг и сейчас же возразил представителю власти:
— Согласен, господин инженер, прогресс — это действие, а не благие пожелания. Но засадите горы лесом, и вы убедитесь, как пагубно это скажется на крестьянах. Я понимаю, что для господ, воспитанных на «Rerum natura»
[8], это ничего не значит. Но имеют ли они на это право? Горы — это горы, и душа здешнего жителя формировалась у этих каменистых склонов, у бурных потоков и водопадов. Такие они есть, и такими их уважают, ведь характер у них добрый и мягкий. Люди общаются с ними и узнают их и, если умеют делать выводы, заключают: вот она Испания. Иными словами, в этих прекрасных, безлюдных утесах, которые кажутся окоченевшими пальцами нашей планеты, и даже в небе, которое иногда начинает сверкать, словно лезвие шпаги, есть еще что-то, кроме камней, пустоты и небесной синевы. Есть что-то неподдающееся определению, какой-то комплекс иберийского самолюбия и страсти, которым подчинен человек, хотя они и не присущи его характеру. Я знаю, что вам это неведомо, однако могу вас заверить: горец, которого господа намерены принести в жертву так называемому прогрессу, — это воплощение отчаяния, гордости, мягкости, полуволк, полуягненок, вскормленный здешней скудной и жалкой растительностью, воплощение безмерного терпения, каким отличается скот. Чтобы набить себе брюхо, он должен много пройти, здесь сорвет ветку, там щипнет сухой травы или еще чего-нибудь, что попадется на глаза, и так живет. Горы являются как бы неотъемлемым продолжением этих полудиких, суровых деревень — настоящие владения демона. Деревни и горы слились воедино самой глубиной своих душ.
Штрейт то потирал руки, когда адвокат попадал в цель, то застывал неподвижно. Следовало признать, что адвокат превзошел в красноречии поэтов и сумел убедить слушателей. Штрейт и сам с ним согласился, но опасался, что наступившую в помещении тишину можно истолковать как победу Ригоберто. Даже представители деревень, не понимавшие как следует, что происходит, прекратили охоту на мух. Однако насекомые, едва адвокат кончил, снова стали надоедать. Сейчас их по самым скромным подсчетам были мириады; они садились на волосатые руки крестьян и залезали им под рубахи. Обвинительная речь, произнесенная адвокатом и не стоившая крестьянам ни гроша, ошеломила их. Хотя горцы ее не поняли, они очень хотели, чтобы она не меньше ошеломила и правительственных чиновников. А вдруг адвокат переметнулся на сторону противника? В неподвижных и невыразительных глазах крестьян появилось недоверие. От чрезмерного внимания и непривычной работы мысли их рты приоткрылись.
— Но душа нематериальна, чего не скажешь о склонах, поросших кустарником, которые хотят отнять у горцев; они-то имеют свою цену, — закончил адвокат и наконец-то умолк, предоставляя возможность присутствующим насладиться долгожданной паузой.
— У нас в Парада-да-Санте топят дровами, — сказал вдруг Жоао Ребордао, — хотя поблизости нет ни лесов, ни рощ. Зато наши земли расположены у реки, они родят нам рожь и кукурузу, а горы дают молоко и шерсть, ведь там мы пасем наш скот. Но с дровами и так туго, а если у нас отнимут горы, то зимой мы умрем от холода.
Он говорил спокойно и решительно, и все смотрели на этого человека с бритым лицом, большими ушами и живыми, маленькими глазками, напоминавшими глаза сокола. Эти глаза, когда он замолчал, словно заволоклись шафранной пеленой, и их зрачки вдруг сверкнули и тут же погасли, словно объектив фотоаппарата. О Жоао далеко вокруг шла слава как о хорошем охотнике и любимце женщин. У него был длинный нос, толстые губы и красноватые щеки, на которых виднелись фиолетовые жилки. Тот, кто стал бы изучать лицо Жоао, мог назвать его безобразным, но тот, кто хорошо его знал и часто смотрел на него, назвал бы его симпатичным.
Если вы представляете себе старого петуха вскоре после любовного подвига, когда его глаза полны неугасимой радости, а гребень победно алеет, значит, вы можете составить представление и о Жоао. У него повсюду были дети, даже в Лиссабоне. Он готов был отдать всю кровь, если бы это понадобилось, но никому не давал свить гнездо у себя в сердце.
— Да, сеньоры, — снова заговорил он, словно очнувшись от забытья, — мы подсчитали, что наша деревня привозит с гор больше трехсот возов дрока.
— И мы, из Коргу-даш-Лонтраша, возим вереск с гор. И сено там косим, — добавил Жоао до Алмагре.
— А мы, — вставил Алонзо Рибелаш из Фаваиш-Кеймадуша, — собираем в горах сорго и мелкий хворост и топим хворостом и старой соломой, а пеплом удобряем поля.
— Местная почва бедна калием, — пояснил Фонталва.
— Наша земля, — сказал крестьянин из Реболиде, худой как палка, высокий старик, — родит мало, и многие кормятся тем, что режут дрок и жгут из него уголь.
Мануэл Ловадеуш, в своем экзотическом костюме походивший на моряка, выступил вперед. За его неуверенной, едва ли не робкой манерой держаться чувствовался человек, привыкший бороться даже с медленно тянущимся временем — самым злым врагом жителя сертана.
— Позвольте мне, сеньоры! — заговорил он. — Я много лет провел далеко отсюда, но в конце концов вернулся к нашим утесам. Поэтому я принимаю этот разговор близко к сердцу. Я слышал, сеньор Жулиао Барнабе сказал, что для благоприятного решения дела господа инженеры намерены дать крестьянам, имеющим скот и круглый год удобряющим свои земли навозом, субсидии в зависимости от размера участка, которые возместят им временный убыток. Тогда они ни на что не смогут пожаловаться. А тем, у кого нет скота, что им обещают?
— Они не в счет. Они вообще не приносят пользу обществу, — отозвался председатель палаты.
— Разумеется, ведь они работают на тех, у кого есть земля, кто за их счет еще больше разбогатеет и сможет еще больше их порабощать. Заметьте, я говорю как лицо незаинтересованное. У нас, Ловадеушей, есть немного скота и земли, но в этих краях мы считаемся богатыми. Горы — это не только место, где можно накосить сена, где с утра до вечера пасется наш скот и где бедняк может набрать хворосту. Горы — это свобода. Эти голые утесы, эти склоны, где не растет ни папортник, ни вереск, нас согревают, в них мы черпаем спокойствие и силу, они дают нам чувство пролетарской независимости. Этого никто нам не возместит. Вы смеетесь, господа, но, мне кажется, тут не до смеха…
— Мануэл Ловадеуш прав, тут не до смеха, — поддержал Ригоберто, готовый ринуться в бой. — Господа намерены засадить горы деревьями, перепахать почву на склонах, засыпать овраги. Они хотят уничтожить наше лицо, потому что наша природа — это лицо горца. Я слышу, как господин Штрейт говорит, что в этом нет ничего плохого, плохо то, что горец не знает, кто он есть. Но он свободен. Он может уйти в горы, может взять грех на душу. Утесы — это якоря его больших чувств. А его хотят согнать с земли, промыть ему мозги, как теперь говорят. И там, где были только скалы да бродили наводящие ужас призраки, посадят деревья, а вырастят нового человека. Ясно уже сейчас, что он будет хуже нынешнего. Осмелюсь напомнить, что человек существует тысячелетия, но разобрать этот сложный механизм, переделать его на новый лад — трудная задача.
— Допустим, что это так, — заговорил Штрейт. — Но пострадают люди только одного поколения. Они погибнут в маленьком сражении, каким было сражение дона Альфонса с маврами. В этой катастрофе жертв будет не больше, чем в третьем классе «Веры Крус», которая пошла ко дну. Ничто не вечно под луной… — сострил он под конец.
Ригоберто почувствовал, как его охватывает ярость при этих циничных словах инженера. Но снова заговорил Мануэл Ловадеуш:
— Нация — это мы. И все мы должны пользоваться равными правами. А если нет, то это значит, что правительство, олицетворяющее собой государство, превратилось в шайку. Если государство не прислушивается к тому, что я говорю, и не позволяет мне думать, как я хочу, если оно не дает мне свободно действовать, хотя мои действия никому не причиняют вреда, оно стало тюрьмой. И горцы — сколько бы их ни было: тысяча, пять тысяч, десять тысяч — имеют такое же право на уважение, как и остальные члены общества. Если их бессердечно приносят в жертву, они вправе выступить против этого так, как сочтут нужным.
— Все так думают, как этот сеньор? — зловещим тоном спросил Штрейт.
— Полагаю, что да, — уверенно отозвался Ригоберто, сознавая всю важность подобного утверждения. — А если и не думают, то инстинктивно стремятся к тому же.
— Так что же они хотят? Чтобы мы оставили горы такими, как они есть? — Штрейт усмехнулся, скрывая раздражение.
— Это было бы не самым худшим выходом, — снова ответил Ригоберто.
— Ну так вот, господа, то, что мы предлагаем, тоже не самое худшее. Время излечит от безрассудства, которое может проявиться в споре, столь странном для нашей эпохи. Но я позволю себе посоветовать всем вам не прибегать к насилию. Если вы встанете на этот путь, ваше дело будет проиграно.
Представители деревень, понимая, что речь идет о решении, которое означало для них жизнь или смерть, замерли, прижавшись к стене и предоставив мухам пожирать себя. Почти все в темных одеждах, с грубыми, массивными лицами, они время от времени бросали друг на друга вопросительные взгляды, словно обвиняемые на скамье подсудимых. В зале было жарко, ярмарочный шум с каждым часом усиливался. Треск репродуктора сливался с перезвоном колоколов, звавших верующих к обедне.
Гнида скромно опустил глаза долу и как человек, не теряющий ни секунды даром, приготовился молиться; губы его зашевелились, молитвы забулькали одна за другой: «Отче наш», «Святая дева»…
— Мошенник отчитывается дьяволу… — шепнул Ловадеушу Жоао Ребордао.
— Так оно и есть, — вмешался Мануэл до Розарио, слышавший шутку. — Он считает, что Христос у него в брюхе, а ему ничего больше не надо! Кому субсидии, а другие оставайся на бобах!
— Еще бы! — послышался голос Жоао до Алмагре. — Если бы он делил, то нам не досталось бы ни гроша!
— Пират да и только.
— Нет, сеньоры инженеры, нет! — воскликнул д-р Ригоберто. — Горы как географическое понятие — это одно, но, позвольте мне употребить такое выражение, как «психологический фактор», — и это уже совсем другое. Подобный фактор государство не сможет ничем возместить. Для Аркабузаиша, Коргу-даш-Лонтраша, Понте-ду-Жунку, Азенья-да-Моры горы — это колыбель и даже алтарь. Вы думаете, они зачинают детей в постели, под продымленной и грязной черепицей? Нет, господа, они делают это в горах, когда цветут дикий вереск и дрок.
Под сводами зала раздался оглушительный хохот. Выведенный из себя, инженер Лизуарте Штрейт бросил на крестьян
презрительный взгляд.
— Все это лирика, к тому же вредоносная!
— Ваша правда, — ответил адвокат с чуть заметной иронической улыбкой, стараясь сгладить колкость своих слов. Пока незачем было лезть на рожон. — А благотворная проза — это штрафы, которыми Лесная служба замучает свободного ныне крестьянина за всякие нарушения и потравы. Его будут притеснять те, у кого на плече карабин, его заставят ходить только по прямым дорожкам, а сейчас он бродит там, где ему хочется. Ему запретят охотиться на кроликов, зайцев и волков, даже если они будут опустошать хлевы, лишь бы егеря могли устраивать облавы для чинуш из лиссабонских управлений и министерств…
— А я, как представитель государства, — начал Штрейт раздраженным и хриплым от гнева голосом, — отлично знаю, что гектар гор, какие они сейчас, не стоит и квадратного метра тех гор, какими они станут. Это по шкале цен, а она вещь точная и объективная. Если бы мы позволили увлечь себя соображениями сентиментальными либо имеющими местное или преходящее значение, то уже сегодня нам пришлось бы пойти с сумой. Человек и только человек переделывает мир, природу и самого себя. А дети скал и болот, что здесь прозябают? Неужели они должны продолжать прежнюю жизнь, принося пользу лишь самим себе, замкнутые в самих себя, как в скорлупу протухшего яйца закосневшего, бесполезного и ограниченного эгоизма? Если это так, если какая-либо политическая экономия оправдает такое существование, то плуг никогда не взрыхлит этих голых склонов!
— Деревне, которая на много веков отстала от цивилизованного мира, все это безразлично, — отпарировал Ригоберто. — Горцу, живущему в доме, крытом соломой или черепицей, горцу, который ходит в деревянных башмаках, подбитых железом, в бурке из грубой шерсти, этой некрасивой, но удобной одежде, горцу, сморкающемуся на пол, утирающемуся рукавом и спящему на узкой лавке, горцу, который до сих пор пользуется тяжелой телегой на скрипучих колесах, глиняными горшками вместо железной посуды, керосином вместо электричества, горы милы такие, как они есть. Те горы, которыми вы хотите его окружить, для него противоестественны. Они могут существовать лишь без него. Так бросьте его в море или отправьте в другие края, как это делали после войны со многими. И почему бы действительно не отправлять в другие районы население тех мест, которые решили колонизовать? Изменить же облик гор, не изменив природы самого горца, — это значит обречь его на вырождение, привить ему смертоносную чуму. Лесопосадки сделают с бедными горцами то же, что огнестрельное оружие сделало с краснокожими: безжалостно уничтожат их. Господа согласны со мной? По моему скромному и непритязательному мнению, мнению того, кто видит в человеке прежде всего человеческое, раньше чем менять природу гор, следует дать деревне цивилизацию, достойную двадцатого века.
— Мы оказались в порочном кругу, — мягко заметил инженер Фонталва.
Штрейт поднялся, оперся на согнутые пальцы и воскликнул, подавшись вперед:
— Все эти аргументы, дорогой сеньор, надо рассматривать в палате. Ведомство, которое я представляю, не волнует то, что, когда лес рубят, щепки летят. Задача поставлена — мы ее решаем. А каков результат? Горец с Мильафриша такой же португалец, как и любой из нас. И подходить к нему мы должны, как к любому другому португальцу. Мы будем воспитывать его, поднимем его жизненный уровень, вырвем его из болота индивидуализма. Таково зло, которого мы ему желаем.
Представители горных деревень переглянулись. Не уяснив как следует сути этой казуистики, они все же прекрасно поняли выводы Штрейта. Нет, сеньоры из правительства не хотят знать их горестей. Хуже того. Сторицей придется заплатить за возы хвороста, которые у них украдут. Жоао Ребордао, оказавшийся самым смелым, решительно воскликнул:
— Мы никуда отсюда не уйдем, пока не победим!
И все в один голос, за исключением Гниды, который, казалось, подсчитывал, сколько молитв за пятьдесят с лишним лет утекло через его глотку в длинный канал чистилища, поддержали:
— Пока не победим!
— Жаль, — обращаясь к чиновникам, снова начал Ригоберто, чем-то похожий на борца, который засучивает рукава, чтобы вступить в схватку, — жаль, что уважаемые господа подходят к вопросу только с экономической стороны. Правда, и тут многое можно возразить. Но моральная, я бы даже сказал психологическая, сторона вопроса вас совсем не интересует, а она чревата большими осложнениями. Я еще раз утверждаю: без этих диких склонов, которые вы намерены засадить, горец с Серра-Мильафриша не мыслит своего существования, так же как тенистые рощи немыслимы без листвы. Местный житель, отставший от европейца на целых пятьсот лет, не только живет дарами гор — он населил их своими мечтами, своими призраками и суевериями. Об этом нельзя забывать. Горы, окружающие деревню на протяжении долгих веков, породили в фантазии народа его эпос и фольклор. Горец не сможет жить без этих пустынных просторов, его деревни словно повернули к ним свои головы.
— Очень хорошо, — ответил Штрейт, поднимаясь и взяв в руки шляпу, — но я не могу позволить себе заблудиться на поэтических тропинках Серра-Мильафриша. Завтра совещание в совете, и я непременно должен быть в Лиссабоне не позже одиннадцати. Прощайте, мой дорогой, и вы, мои сеньоры! Все, что я слышал, прекрасно, но отдает метафизикой. А вопрос, с его объективной стороны, достаточно ясен. Прощайте! Мне было очень приятно познакомиться с вами и послушать доктора… доктора Ригоберто. С неменьшим удовольствием лет через пять я послушаю птичек в лесах Серра-Мильафриша.
Он протянул руку адвокату и сердечно пожал ее. Д-р Лабао также пожелал удостоиться этой высокой чести. Он был не только председателем палаты, но и хранителем земельного реестра in partibus infidelium
[9] и политическим деятелем. А Штрейт считался влиятельным лицом, к его голосу прислушивались в правительственных сферах, поэтому Лабао вертелся вокруг него, мечтая заручиться столь могущественным покровителем.
— Останьтесь поужинать, Ваше превосходительство! — держа шляпу в руках, упрашивал Лабао. — Уже поздно и похолодало. Мой дом будет в вашем распоряжении.
Однако Штрейт оставался непреклонным, несмотря на медоточивые речи Лабао. Тогда, сочтя недостаточным этот поток любезностей и, быть может, вообразив, что обязан сгладить неприятное впечатление от строптивости крестьян, находившихся под его властью, он обрушился на эту деревенщину, неразумную и упрямую, хотя в душе сочувствовал этим людям, а возможно, боялся их.
Штрейт, судя по выражению его физиономии, казалось, хотел сказать: «Да будет тебе, приятель! Довольно!» Однако не решался и отвечал односложно, фразами, в которых сквозило притворное сострадание:
— Что ж, бедняги отстаивают свои интересы… Мне их очень жаль, но я ничего не могу поделать… Я бы на их месте тоже, пожалуй, не согласился. Однако только общие интересы учитываются законом…
А Лабао все твердил:
— Горцы с Мильафриша ничем не отличаются от настоящих дикарей. Поднимитесь повыше в горы, и вы увидите наших предков — троглодитов в шкурах и с дубинкой в руках…
Они остановились у обочины дороги, которая перерезала городок пополам. Любопытные прохожие собрались вокруг, желая послушать, что говорит Лабао. С ярмарки доносился сильный шум, который время от времени перекрывался хриплым голосом репродуктора. Увидев целый лес дубин в руках у крестьян, стоявших в весьма решительных позах, Штрейт выразил свое удивление:
— Неужели все они приехали на ярмарку?
— Нет, сеньор, это крестьяне, которые пришли вместе со своими представителями.
Штрейт окинул взглядом толпу — одни опирались на суковатые палки, другие помахивали ими; были тут и женщины, смуглые горянки, во вкусе великого Васко, у которых на лице написано отчаяние. Сложное положение! Глаза Штрейта, зоркие, как у всех глухих, по движениям губ прочли то, что скрывалось за невыразительными лицами крестьян, и, видимо, уловили признаки назревавшего бунта. В это время вышел Ригоберто. Штрейт видел, как он подбежал к представителям деревень и стал им что-то говорить. Слов он не слышал, но ясно различал выражение беспокойства на лице Ригоберто. Он догадался, что адвокат, должно быть, призывает горцев вести себя достойно и быть корректными по отношению к представителю власти.
Штрейт двинулся к автомобилю, который, разрезая толпу, медленно подъезжал к тротуару. Ригоберто снова приблизился к Штрейту. Некоторые крестьяне радостно улыбались. Из-за толкотни со слуховым аппаратом, видимо, что-то случилось, и он испортился. Ригоберто мысленно рассмеялся. Возбуждение, судя по всему, нарастало. Штрейт был не из робких, но этой толпы крестьян цивилизованному человеку следовало опасаться, словно неукротимых сил природы. Иногда бунт возникает неожиданно, как гром среди ясного неба.
К счастью, автомобиль наконец подошел к тротуару. Штрейт еще раз снял шляпу для прощального приветствия. Вокруг него сгрудились люди, против которых незадолго до этого он выступал в ратуше. Они походили на персонажей драмы Жиля Висенте.
— Доброго пути, сеньор инженер, и не бросайте нас на съедение зверям! — воскликнул Жоао Ребордао.
— Его превосходительство так и сделает, — произнес Мануэл до Розарио из Азенья-да-Моры, — но и мы не будем сидеть сложа руки!
— Если хотите войны, вы ее получите, — хмуро добавил делегат от Понте-ду-Жунку с угрожающим видом.
— Мы же не поедем в Лиссабон пасти на газонах коров, — сострил Рибелаш. — Хотя это тоже можно было бы назвать использованием земли!
— У себя дома хозяева мы! — крикнул Жусто, глядя на толпу, возбуждение которой росло.
Штрейт побледнел. Он протянул руку Ловадеушу, и тот дружески пожал ее; затем он еще раз обменялся сердечным пожатием с Ригоберто. Штрейт заметил, что делает это машинально, лишь бы доставить удовольствие толпе, и остался недоволен собой. Он слышал, как его ругают, и проявленная им трусливость, хотя и не замеченная другими, окончательно разозлила его. Он чувствовал, как в груди закипает ярость. Словно злой пес, он должен был вцепиться в кого-нибудь зубами.
Недовольный собой, этой неотесанной деревенщиной и этим городком, удаленным от железной дороги, Штрейт с отчаянием потерпевшего кораблекрушение посмотрел на часы. Успеет ли он попасть на южный экспресс? И, садясь в машину, произнес так, чтобы было слышно вокруг:
— Я еще вернусь! Так или иначе, но горы будут засажены! Не сомневайтесь!
Тогда Ловадеуш выступил вперед и крикнул горцам:
— Этот сеньор выполняет свой долг. У него свои соображения, у нас свои, и поэтому мы не можем считать его негодяем.
— Верно, — тихо поддержал Ригоберто. — Он на хорошем счету. Но его недостаток в том, что здесь он проявил себя слишком ретивым. Так еврей, обращенный в католическую веру, каждый день ходит в церковь. Таких людей я боюсь…
Машина тронулась, подняв облако пыли. И все же Штрейт смог увидеть поднятые кулаки и дубинки и расслышать гневные крики:
— Воры!
ГЛАВА III
Жаиме Ловадеуш увидел сестру, которая разговаривала с Бруно Барнабе у дороги к льняному полю. На голове Жоржина держала охапку травы, а в руке серп. Жаиме подошел к ней.
— Пошли!
Девушка опустила глаза и молча пошла впереди брата, оставив Гниду с разинутым ртом. Когда они отошли шагов на сто, Жаиме проговорил:
— Если я когда-нибудь увижу, что ты говоришь с этим бараном, я убью тебя. Тебя и его. Как-нибудь я скажу тебе почему. Поняла?
Больше он не сказал ни слова и быстро вошел в дом, оставив сестру на дороге.
Жоржина ничем не выдала себя, никто бы не сказал, что целую ночь она проплакала. В предрассветных сумерках, фонарем освещая себе дорогу, семья Ловадеуш отправилась в горы. Филомена и Жоржина несли корзину с семенами в мешочках, кулечках и банках, там же лежали еда и пузатый бочонок с молодым вином. Жаиме гнал коров, запряженных в телегу, груженную навозом. Звон колокольчиков нарушал хрупкую тишину ночи, но вот тени, хотя утро еще не наступало, изменили свои очертания, стали короче и плотнее. Воздух был спокоен и совершенно недвижим. Они шли на кукурузное поле, ведь удод, высунув из-за старой стены свой серенький хохолок, похожий на севильский гребень, давно пропел: «Хлеб! Хлеб!»
Старшие Ловадеуши уже ждали в Рошамбане, где Мануэл ночевал последнее время. Старик не признавал другого дома и хорошо спал только там, устроившись на своем соломенном тюфяке. Лишить его гор означало украсть у него несколько лет жизни. После того как умерла жена, одинокий домик в горах стал для старика своеобразным убежищем. В свои семьдесят с лишним лет, быстрый и подвижный, какими редко бывают и в сорок, он словно начал вторую жизнь. Да и Мануэл, пока был в Бразилии, пристрастился к вольной жизни и ощущал теперь тягу к одиночеству, а деревня напоминала ему жужжащий пчельник. Отравленный этим ядом, он испытывал радость лишь от близости с тем, что было для него дороже всего на свете: с землей и животными. Мануэл совсем не походил на тот автомат, каким обычно является крестьянин, изуродованный веками невежества и рабства. Только под лучами солнца или сверкающим покрывалом звезд он чувствовал себя человеком, маленьким или большим, в зависимости от силы внутреннего света, который его озарял. Он устраивался где-нибудь в укромном уголке, иногда под валуном, иногда у двери хижины или, если было холодно, делил с отцом его тюфяк. Старик смастерил для сына нары, прибив их над своим ложем, как в каютах третьего класса:
— Будешь спать здесь, как аббат!
— Что ты! Как епископ…
— Ну и слава богу… Спи…
И Мануэл в самом деле спал крепко, как праведник, и видел длинные сны, светлые и безмятежные. Ему там так нравилось, что он оставался у старика не только холодными ночами, когда свистел ледяной ветер и когда ни один любящий сын не покинул бы отца. Этими ночами он часто слышал голос бразильских лесов, издалека доносившийся в уединение высоких гор. Этот голос ласково манил его, и, не в силах ему противиться, осторожно, чтобы не разбудить старика, Мануэл выходил во двор. Однако старик просыпался при малейшем шорохе и говорил:
— Оденься! Возьми мою бурку…
Сны Мануэла Ловадеуша были спокойны, как гладкая поверхность озера, неподвижные глубокие воды которого не волнует ветер. Но в них притаился зверь, готовый к прыжку. Иногда сама луна и гроздья звезд, разбросанные по небу, свет которых лился через щели в стене, манили его на ночной праздник природы. И он, словно дух, скользил по густой росе. Обычно, с наступлением утра, он закутывался в одеяло и ложился на сено у дверей хижины. Лежа на спине, он слушал если не музыку небес — его уши не улавливали таких тонкостей, — то пение птиц, кваканье жаб, жужжание пчел, еще в сумерках начинавших свою работу. При этом Мануэл вдыхал тысячи нежных запахов, которыми растения и животные наполняли воздух. Светлячки кружили над ним; какие-то насекомые, носившиеся друг за другом в танце любви, жалили его лицо. Иногда на склонах гор лаяла лисица, — может, кто-то вспугнул ее, а может, она рассказывала подругам о своих вчерашних удачах или неудачах в стадах и овчарнях. Сова тянула надоедливую песню и вдруг срывалась с места, широко взмахнув крыльями. Затем все снова погружалось в тишину, окутанную шелковистым покрывалом мерцающей темноты — такой была ночь, опускавшаяся на горные вершины. Вот слышится журчание… Это вода бьет ключом в четырех шагах отсюда и, пенясь, низвергается с обрыва. Мануэл был пленен этими звуками, очень печальными, напоминавшими не то рыдание, не то детский смех. Нередко сну удавалось вдруг одолеть его, когда его взгляд останавливался на трех Мариях
[10], которые еле мерцали в бескрайних далях небосвода, или на полной луне, плывшей по небу, словно индейская пирога по Гуапоре́. Компанию Мануэлу составлял Фарруско, дворовый пес, такой же мизантроп, как и он сам.
В деревне Мануэл проводил иногда день, иногда несколько дней. Рошамбана, которая манила его отца своей дикой свободой, пленяла Мануэла особым очарованием уединения и возможностью отдаться всей душой музыкальному ритму таинственной и мимолетной ночи. Эта жизнь отшельника помогала Мануэлу восстановить силы. Он уже лучше выглядел.
Тем майским утром, когда его жена и дети подошли к воротам, о чем известил скрип телеги, сумерки уже стекали с гор в долины, где меж папоротника и черных зарослей дрока бегут ручьи. Сыч последний раз прогукал над холмами. Земля, невыразимо угрюмая, пустая и черная, походила на громадный дом, со старой разрозненной и хромой мебелью, заброшенный после смерти хозяев.
Оба Ловадеуша, отец и сын, уже начали работу; они выкорчевывали кусты, которые тянулись до самого конца поля, и вскопали углы, где нельзя было развернуть плуг. Когда взошло солнце — в это время пахари осеняют себя крестным знамением — появились Жусто с сыном. Они пришли помочь. Через некоторое время подошли запыхавшийся кузнец Мануэл до Розарио и его подручный Кальандро. Старый Ловадеуш шутливо бросил:
— Что, кум, вместо того чтобы ковать лемехи, будешь их стирать?
Потом подоспели Жоао Ребордао из Парада-да-Санты и с ним еще двое.
Жаиме запряг быков и начал боронить. Рошамбана с огородом, пшеничным полем, грядками лука, фасоли и помидоров и невозделанным клином примыкала к приходским владениям. Эта земля едва могла прокормить семью. Это было маленькое хозяйство, однако в тамошних местах, где участки, переходя от отцов к сыновьям, все больше и больше дробятся, такие наделы считаются роскошью.
Работало восемь человек, усердно и даже как-то торопливо, и скоро все закончили. Когда землю проборонили, старый Теотониу взял в руки решето и начал сеять; он делал это уверенно, точными и привычными движениями, какими застегивают пиджак, не глядя на пуговицы. Пока давали сено быкам, уже немного уставшим, Филомена позвала мужчин перекусить. Хлеб, жареные сардины, маслины, сыр ели с завидным аппетитом — все встали с первыми петухами и хорошо поработали.
Заговорили о лесопосадках в горах; без этого теперь не обходилось, где бы и когда бы ни собрались крестьяне.
— Ваш участок, кум, — сказал Мануэл до Розарио, — пропадет, если вокруг посадят лес. Скоту здесь не скосишь ни травинки и капусты не вырастишь…
— Я тоже так прикинул, — ответил старый Теотониу.
— Вы, как знаете, но я бы на вашем месте, постарался вовремя от него отделаться, — сказал Ребордао. — Ведь правительство дает хорошую цену.
— Нет, ни за что не продам, — произнес Теотониу. — Хочу здесь умереть.
— Участок не продадим, — поддержал отца Мануэл.
— Недели через две сюда придут тракторы с плугами, — начал Ребордао после недолгого молчания. — Похоже, будут пахать сверху вниз, а начнут в двух местах — Валадиме и Алмофасе.
— Хоть бог, хоть дьявол, но отведи их подальше. Я слышал, что с ними идет конвой…
— Вот шуму будет! В ваших деревнях больше ста пятидесяти человек вооружены, я сам считал, — заметил Ребордао.
— А чего стоят полторы сотни старых дробовиков по сравнению с винтовками? — возразил Мануэл до Розарио. — Избави нас бог…
— От чего? — воскликнул Ребордао. — Умирают только раз. А без крови теперь не обойдется.
— И я говорю, — пробормотал старый Теотониу. — Если прольется кровь, горы омоются и будут спасены. Но для этого многим придется пострадать.
— Пусть прольется. Кровью мы можем даже полить ваш огород, — пошутил Ребордао.
— Не повторяй этого, — сказал Жусто. — Как бы дьявол не подслушал.
— А вы с нами, дядя Теотониу?
— Еще бы!
— Мы хотим вас в командиры…
— Ну нет, командиром ты будешь. Ты смелый парень, охотник, и у тебя даже карабин есть. Я пойду с вами, но как солдат.
— Значит, дело будет! — рассмеялся Кальандро. — Сражение Серра-Мильафриша с Лиссабоном!
— А ты не смейся.
— Я против войны, — сказал Мануэл Ловадеуш. — За одной войной идет другая. Я и сам не пойду драться и никого вместо себя не пошлю.
Старый Теотониу подмигнул Ребордао и, чтобы перевести разговор на другую тему, рассказал свой любимый анекдот о хитрой крестьянке. Потом, вволю похохотав, они дружно взялись за плуг, будто кто-то с часами в руках следил за их работой.
Когда все поле было вспахано, старый Теотониу разбил грядки под лук, тыкву, арбузы. Для фасоли, которая очень любит воду, он отвел место у источника. В углу вскопал полдюжины грядок для помидоров и петрушки. К полудню вся работа была кончена. Филомена сварила большой котел гороха со свиным салом и зажарила дикого кролика. Фарруско достались кости. Пока люди ели, он барабанил хвостом и радостно тыкался мордой то в одного, то в другого. Ребордао схватил его за лапы, как тисками, сжал их узловатыми пальцами и сказал:
— Фарруско, сукин ты сын, если бы все были такими, как ты, у нас перевелись бы куропатки и кролики. Но, к счастью, другого такого нет!
Он любовно потрепал пса и дал ему кусок мяса. Пес, избавленный на утро от голода, довольно урча, лег спать. Ребордао, Жусто, кузнец и остальные поблагодарили хозяев и стали собираться.
После того как все ушли, мать и дочь снова принялись за дела, Жаиме стал возить дрок, погоняя палкой волов, а старик выстругал жердь и ею вдавливал в землю кукурузные зерна, которые остались незасыпанными и сверкали на черноземе, словно крупицы золота. Если этого не сделать, то, опаленные солнцем, они зачахнут, как только прорастут, или их склюют скворцы, дикие голуби, дрозды и другие птицы, и тогда все пропало. Кроме того, нужно было посмотреть, чтобы не оказалось огрехов, всходы должны быть густыми, а поля красивыми. Для крестьянина из-под Лиссабона красота имеет первостепенное значение, но не для жителя севера. Впрочем, старый Теотониу составлял исключение. По опыту он знал, да и инстинкт ему подсказывал, что плохо обработанное поле дает плохой урожай и что красота в данном случае — залог изобилия.
Разморенный едой, Мануэл лег на стог у входа в хижину. Фарруско, верный друг, устроился у его ног, он любил полежать. Наступили спокойные, тихие часы… Мануэл Ловадеуш, глядя на скалы, нависшие над хижиной, принялся мечтать, каким будет его дом. Но дальше первого этажа ему построить не удалось. Веки Мануэла смежились, и он погрузился в сладостный сон, каким спят или великие грешники, или великие праведники.
Когда он открыл глаза, то увидел, что отец, сгорбившись, все еще ходит по полю с палкой и вдавливает в землю зерна, оставшиеся на поверхности. Сколько он проспал?! Мануэл посмотрел на часы, у него они были, как у всякого, кто поездил по свету, — но так и не понял, проспал он минуту или целый час. Он забыл завести часы. Нужно было помочь отцу, Мануэл поспешно сел и потянулся. Вечер был Теплый, и ему приятно было чувствовать, как под ласковым солнцем кровь быстрее заструилась по жилам. Жизнь сейчас не казалась вечной каторгой, как он считал иногда. Когда Мануэл наконец встал, чтобы помочь старику, ему вдруг захотелось дать пинка Фарруско, который спал рядом. Пес почему-то не пожелал проснуться. Впрочем, пусть поспит, ведь он такой верный и умный! Но Фарруско поднялся и направился к пашне, пока Мануэл укорял себя за то, что не помог отцу. Следы старика вели в конец поля, значит, он уже почти все сделал. Мануэл почесал в затылке, недовольный собой. Но откровенно говоря, не так уж тяжело ходить с палкой по полю. И он снова растянулся во весь рост, подложив ладони под щеку; его глаза опять слиплись, и Мануэл погрузился в мечты. Фарруско снова подвернулся ему под ногу, но даже не пошевельнулся от удара. Когда брюхо полное, жизнь не так уж плоха, если и дадут пинок-другой. Поэтому пес и был так спокоен. Но набить брюхо удается не каждому; нищим, например, совсем редко. И тогда мечтать, особенно если в душе незаживающие язвы, грезить наяву, забыв обо всем, было приятней, чем искать забвения в вине.
И Ловадеуш снова начал мечтать о доме, но мысли стали вдруг спотыкаться, видимо, потому что его мучила жажда. Действительно, горло пересохло; Мануэл встал и пошел к бочонку, который стоял в глубине хижины. Он жадно сделал несколько глотков и снова лег. Фарруско не шелохнулся.
Вытянувшись, как ящерица под весенним солнцем, на стоге дрока и вереска и непроизвольно отбивая носками скрещенных ног беззаботный радостный ритм, он поплыл по спокойной реке мечтаний. Потом взглянул на нависшие над хижиной скалы, суровые и величественные, словно гора Пао-ди-Асукар
[11], перенесенная в Португалию, и принялся подсчитывать.
Вот он приглашает мастера Лару, искусного каменщика из Монтемуро, который не имеет себе равных и с которым он не раз виделся в трактире у Накомбы. «Сколько вы возьмете за такой дом?» — спрашивает он и рисует на полу прямоугольник, восточный угол которого упирается в скалу. В доме будет два этажа, четыре комнаты на первом, четыре на втором, несколько окон, две двери.
— А не тесно будет?.. — спросит каменщик.
— Тесно? Что вы! Для меня и моей семьи хватит. Используйте выступ в скале или сравняйте его, чтобы он не выпирал внутрь дома.
— Лучше, пожалуй, срезать… И камень будет на стены…
— Нет, сеньор, камень вы возьмете на этих холмах. На холмах его много, а скалы грех ломать. Смотрите, какие они ровные наверху, хоть самбу танцуй. Я, наверно, поставлю там ветряк и жаркими ночами буду там спать. А еще я установлю там две мачты и по праздникам — в день открытия Бразилии, в день установления Республики в нашем воровском притоне, на рождество и в дни семейных торжеств — на них будут развеваться флаги. Эти флаги расскажут всем, что здесь поселился португалец, который побродил по свету. А вы не боитесь ломать скалу, мастер?
— Нет, это меня не пугает. Но знайте, сеньор Ловадеуш, стесать ее так, чтобы она служила стеной, очень трудно. Хотя и возможно. Понадобится много времени и поработать придется. Недаром этот гранит называют «лошадиный зуб».
— Ерунда! Я знаю все камни и минералы на нашей планете. В этом деле я собаку съел, мой дорогой сеньор! Я знаю камни, из которых делают стены, и камни, которые носят в кольцах. Вся поверхность земли состоит из камней. Все — камень и везде — камень. Так и знайте. И мне известны все сорта драгоценных камней, даже гема… А эта скала из гладкого камня, он легко обрабатывается, режется на куски, как тыква. Это так называемый гранитон.
— Этот ваш гранитон твердый, как рога дьявола! Все зубила переломаешь, пока такую скалу стешешь.
— А хоть бы и так! Пусть это вас не волнует, мастер. Я за все заплачу. Итак, подсчитайте, сколько вы с меня возьмете за постройку дома.
Мануэл смотрит в лицо мастера Лары, который, опустив глаза, сворачивает и разворачивает носовой платок, прикидывая объем работ. Этот каменщик неплохой мастер, но уж очень упрямый. Его план всегда самый лучший, и ему важнее настоять на своем, а не заработать…
Карр! Карр! Прилетели вороны и опустились на скалу. Поскакали в одну сторону, поскакали в другую; громко хлопая крыльями, сплясали свой сарамбеке
[12]. У них блестящие черные фраки, отливающие фиолетовым, совсем как у служащих похоронного бюро! Вдруг они замерли, посмотрели вниз. Запах человека заставил их насторожиться. Вскоре одна из ворон увидела Мануэла, который притворился мертвым и лежал неподвижно, как бревно. Разбойница тут же клюнула воздух, словно человек хлопнул себя по лбу, и стала громко каркать, подпрыгивая:
— Смотри, какой хитрец! Смотри, какой хитрец!
Ворон, а это был, разумеется, ворон, отвечал ей:
— Вижу! Вижу! И в самом деле, хитрец!
И, напуганный больше своей подруги, отлетел на северную сторону скалы, однако не спуская глаз с Мануэла. Ворона, охваченная страхом, подлетела к нему. Какое-то мгновение они оставались там, обмениваясь впечатлениями, а затем, шумя крыльями, поднялись в воздух. И уже с высоты послали ему на прощание яростное «карр-карр» и направились на новое место. Мануэл догадался, зачем они прилетали сюда — скала была вся в беловатом помете. Очевидно, Филомены, с которой они были на короткой ноге, зная ее мягкий характер, они не боялись и не стыдились. Но этот новичок! Кто знает, что он выкинет — нужно быть начеку!
Мануэл посмотрел на носки ботинок, поднимая ноги поочередно, и вернулся к мастеру Ларе и своим мечтам о доме.
— Вы говорили, сеньор, что надо начертить план. План у меня в голове. Я представляю себе дом, будто он уже готов. Пока договоримся в общих чертах, а глубину фундамента, высоту стен, число дверей и расположение комнат я укажу совершенно точно.
Он снова шевельнулся, посмотрел в сторону и подпер голову руками.
— Договорились!.. Ну, а мелких ошибок сын такого отца, как мой, не допустит. Я ненавижу эти стандартные дома, построенные в кредит, что стоят вдоль шоссе. И не думайте, мастер, что меня так легко убедить. Вы ошибаетесь! Хорошо! Хорошо! Я хочу построить великолепный дом. Не возражайте! Кухня будет с камином, как полагается. Кладовка и столовая в нижнем этаже, дорожки асфальтированные, чтобы можно было ходить в башмаках и в снег и в грязь. Зал и комнаты будут окнами выходить на юг, и солнце будет у нас весь день. Дом построим на славу, не так ли, сеньор мастер? Не возражайте!
В этот момент Фарруско вскочил и подбежал к ногам Мануэла, высунув язык и будто улыбаясь. Чего бы это вдруг? Мануэл обхватил пса рукой и присел на карточки, делая вид, что собирается повалить его, но тут заметил Филомену, стоявшую за углом хижины с корзинкой в руках.
— Черт побери, ты все слышала?!
— Боже упаси! Ни слова! Ты не такой дурак, чтобы выбалтывать свои секреты. Впрочем, кое-что до меня долетело, было так тихо. О чем ты мечтал?
— Я долго жил один в лесах Бразилии и нашел себе друга, с которым можно поговорить. Конечно, чепуха все это. Так ты все слышала?
— Боже мой, говорю же, нет!.. Я только заперла ворота и слышала, как ты рассуждал о каком-то доме, то ли здесь, то ли там, далеко…
— Ладно, ладно! Я не ждал тебя так скоро. Смотри-ка сюда… Что ты скажешь, если мы поставим здесь дом и пристроим его к скале?
— К скале?!
— А что? Я уже не раз говорил тебе об этом, так что нечего таращить глаза. Не знаешь, как это делается? Пристроим к скале, и все тут. Не могу же я замок построить! Имей в виду, я не шучу. Поставим дом вплотную к скале, и одну стену нам не придется строить, еще и выгадаем на этом. Ты не согласна?.. Ломать скалу у меня душа не лежит, жалко. А с крыши будет видно полмира…
— Как же! Сколько раз я взбиралась на самые высокие скалы посмотреть, где бродит мой муж… Да и сколько ни гляди, сыт не будешь!
— Сыт не будешь, зато для глаз приятно и душа очищается. Я влезал туда сегодня утром, далеко-далеко хребет Серра-Эштрела, даже не знаю, на что и похож… как великан, который накрылся буркой и лег головой к Гуарде, ногами к морю. Как же можно запретить людям любоваться им! Да в него просто влюбиться можно! Но было бы еще прекрасней, если б он мог рассказать о том, что видел на земле и в небесах за всю свою жизнь!
Неподвижная Филомена молча смотрела на мужа: глаза полны удивления, ладони сложены под передником, корзинка на руке. Что за безумные речи? Тарахтит, словно погремушка… Мануэл не мог не заметить удивления жены. Неужели она думает, что он сошел с ума или пьян? Вот дура: перед его глазами, коричневыми, с золотистыми искрами, которые вспыхивали в гневе, как порох, и темнели, если Мануэлу было грустно, она вставала в образе водяной кобры с плоской головой, занесенной над добычей. Черт ее побери, она его совсем не знает! А может быть, это презрение?..
Мануэл сказал так, будто бросил камень, зная, что попадет в цель:
— Хижина тесна даже для Фарруско… А для отца, козы, Фарруско и меня и говорить нечего.
Фарруско, похожий на лису своей острой мордой, маленькими, подвижными ушами, поджарым животом и гибкой спиной, как только услышал свое имя, выскочил из-за куста дрока, под которым, пригревшись, свернулся клубком, и начал прыгать перед хозяином и радостно бить хвостом. Люди не обратили на него внимания, и пес решил, что им не до него. Через минуту он снова улегся, но теперь не спал, а, положив голову меж вытянутых передних лап, настороженно сверкал глазами и, подняв уши, пытался понять, зачем хозяева назвали его имя. Уж не собираются ли отправить его в деревню, где его ждет миска вкусного супа.
— Летом лачуга хороша только для кобр и скорпионов, а зимой в ней устраиваются медведи, едва отец уходит, даже ненадолго, — сказал Мануэл с горькой улыбкой. — Дом в деревне тоже не лучше, настоящий свинарник. Мы должны сломать все это и зажить по-новому! Я и в самом деле мечтаю построить дом у скалы. Удобный, в котором все будет: хорошие железные кровати, чтобы не разводить клопов и спать по ночам спокойно; простыни и наволочки — ты их сама сошьешь из холста, который мы купим на ярмарке, — посуда, салфетки, обеденный стол. Мне надоело есть из глиняного горшка, да еще на корточках! В Португалии крестьянин живет хуже скота, и мне стыдно за нас.
— А мне нисколечко! Я такой родилась, такой и умереть хочу и дом в деревне не брошу.
— Как не бросишь? Мы должны уйти из этого свинарника, иначе погибнем. Мы его продадим, а деньги пустим на новый…
— Там родились наши дети… там они росли…
— Послушай, жена, всегда нужно смотреть вперед. Я же сказал: построим дом и все переедем сюда. И мне и моему отцу горы дают радость. А тебе? Впрочем, тебе всегда не нравится то, что нравится мне…
— Не люблю я горы, не люблю, — говоря это, Филомена смотрела на мужа, не моргая, поджав губы, и он не понимал, то ли она смеется над ним, то ли жалеет, то ли не соглашается. Ее платок упал на плечи, взгляд был острый, пронзительный, она выставила вперед сухую сильную ногу и подняла лицо, на котором оставили свой след тяжелый труд, борьба, огорчения, голод и бог знает еще какие лишения, но которое было озарено неугасимым светом весны и красотой, пленившей его когда-то. И Мануэл, словно страстно влюбленный, вновь почувствовал, как его мускулы, разомлевшие на солнце, приятно напрягаются.
— Послушай, жена! Когда ты станешь жить в этом доме, который будет укрывать тебя от ветра, воющего в горах, от снега и дождя, которые будут хлестать в стекла, а окна у нас будут обязательно — ты снова расцветешь. Расцветешь, как яблонька… Пойдем в хижину…
Филомена отрицательно покачала головой, отец должен был вот-вот прийти. На ее лице еще не погасла улыбка, в которой, как показалось теперь Мануэлу, смешивались боль и любовь.
— Я хочу договориться с мастером Ларой. Что ты на это скажешь? Не согласна? Значит, хочешь остаться в деревне?
— Да, хочу. Я против того, чтобы продавать наш дом в деревне.
— Но хозяин — отец, и последнее слово за ним! А он хочет!
— А я не хочу.
— Но почему?
— Не хочу, и все. Мне хорошо только в нашем домике, там жила и моя мать, там ночами я слушаю, как звенят в хлеве колокольчики коров, а по утрам просыпаюсь от петушиного крика…
— И здесь все это будет…
— Не хочу. Здесь мне страшно. Горы всегда пугали меня. Я ненавижу тишину этих утесов. Когда я смотрю на скалы, они кажутся мне привидениями, которые вот-вот набросятся на меня. Нет, если ты хочешь, чтобы я прожила еще несколько лет, не уводи меня из деревни.
— Значит, дом не строить?
— По-моему, не надо. Этот дом принесет нам несчастье!.. Черт бы побрал твою хибарку! И почему ее молния не сожжет?! От нее и идет все зло!
— Ее построил отец, и разве ты не знаешь, что он счастлив в ней, как ящерица!
— Ну и пусть здесь живет!
Оба задумались. Заметив, что лицо Филомены все еще выражает досаду, Мануэл с вызовом бросил:
— Значит, не хочешь! Тебе больше нравится хлев?..
Он смотрел на жену, и все внутри у него кипело, золотистые искорки в его глазах разгорались, словно угли на ветру. Да как она смеет так говорить! Нет ей прощения! Его отец сложил эту хижину из камней, громадных, как опоры виселицы. Камни были плохо подогнаны друг к другу, крыша, сооруженная из соломы и тонких жердочек, протекала, дверь была сколочена из досок, и единственное окно открывалось только в хорошую погоду. Таково было логово отца на протяжении многих лет.
— Почини крышу, обмажь стены глиной, — начала Филомена, — поставь кровать…
— Нет, мои слова не должны расходиться с делом. Эта хибарка останется такой, как есть.
И вяло улыбаясь, Мануэл снова лег рядом с Фарруско. Желание прошло, и он стал жевать зеленый листочек вереска. Из кустов пополз густой туман, он заслонил собой радостное видение — его заветную мечту о доме. Долго смотрела на мужа неподвижная Филомена, мысли вихрем проносились у нее в голове.
— Я ухожу, — наконец проговорила она. — Скоро ложиться спать. Я приходила за капустой, Жаиме забыл…
Она пошла на огород, и вскоре появился старик. Он поставил палку к стене, вытряхнул землю из башмаков и сказал:
— В этом году время торопится, я только что слышал перепелку. Раз десять пропела да так громко!
— Садитесь, отец. Ноги не болят? — спросил Мануэл, желая таким, хотя и весьма платоническим образом, показать свою заботливость.
Старик сел, ничего не ответив, но, судя по выражению его лица, остался доволен приглашением. А через некоторое время, разморенный ласковым солнцем, он присоединился к сыну, растянувшись на мягкой траве. И тут Мануэл, обрывая листочки с ветки дрока, рассказал ему о своих планах насчет постройки дома. Рассказал, почему ему не нравится в деревне, в тесной и вонючей лачуге, рядом со сварливыми соседями, которые вечно подсматривают и подслушивают, что происходит за чужими дверьми. А уж здесь незваные гости к ним не явятся. Отец слушал сына молча, широко раскрыв глаза. И тот, принимая это молчание за одобрение, приводил один довод за другим и даже изложил требования, согласно которым ведется строительство домов.
Но отец, привстав, вдруг ворчливо сказал:
— Чтобы построить дом, нужно иметь вот это…
Мануэл, продолжавший лежать ничком, не видел его выразительного жеста и поэтому спросил:
— Что это?
— Это… — и отец снова сделал тот же жест. — То есть деньжата… Есть они у тебя?
Мануэл кинул на отца испуганный взгляд, словно ему приставили к груди дуло пистолета.
— У тебя же пусто в карманах, — продолжал старик. — Зачем ты людей обманываешь, мой бедный бразилец?!
Не возразив ни слова, Мануэл упал на грудь, закрыл лицо руками и вытянулся, будто мертвец. Отец сидел справа от сына, глядел на него пристальным, насмешливым взглядом и тоже молчал. Было слышно, как струится вода в ручье, как она падает с обрыва и, журча, уносится в низину. Вот сойка прокричала на холме, и вечерний ветер, словно рачительный хозяин, осматривающий свою ниву, зашелестел ветвями березок, прошумел и закружился в танце — сначала среди деревьев, а потом вниз по склону. С ногами, длиннее, чем старые сосны, и талией, тоньше осиной, этот баловень несся над землей, отплясывая фарандолу в клубах пыли, поднимая столбом листья и мусор. Он дурачился, потом затихал в зарослях кустарника, потом снова появлялся и исчезал, словно ходил взад и вперед, разбрасывая семена. Старик раздраженно прогонял его: «Пошел вон, грязный поросенок!», — но он неугомонно кружил над вереском, затем перескочил на луг и пропал вдали.
Мануэл все еще лежал неподвижно, и в душу старика закралась жалость. Теперь он испытывал угрызения совести, которые незаметно для него самого толкали его к молчаливо страдающему сыну. Да, он причинил ему боль. Старик понимал, что эта боль сильнее, чем боль от удара. К тому же он не знал наверняка, привез сын денег или не привез, хотя сам видел, как Мануэл швырял деньги, подносил подарки всем подряд. Было у него такое чувство, что все это делается напоказ, но пойди узнай…
Мануэл по-прежнему не шевелился, и старик ласково положил руку ему на плечо:
— Не сердись, сынок! Если у тебя есть деньги, если ты богат, тебе же лучше. Мне от тебя ничего не нужно. О твоей жизни я ничего не знаю. Ты ведь никогда не рассказывал…
Сын посмотрел на отца грустным взглядом, в его глазах стояли слезы.
— Никогда ни слова… Еще раз говорю: если ты богат, тем лучше, а мне от тебя ничего не нужно. Но ты должен понять, на дом надо много денег. На одни только гвозди сколько уйдет… Старый дом, конечно, можно продать, но разве хватит этих денег?
Услышав, что отец говорит теперь спокойно и ласково, Мануэл смахнул кулаком набежавшие слезы и ответил:
— У меня есть несколько конто
[13], значит, хватит.
— Ну, если так, строй на здоровье!
Мануэл опять разволновался, и слезы снова выступили у него на глазах.
— Знайте, отец, что я был богат… очень богат, так богат, что мог купить весь наш приход и еще осталось бы. И уверяю вас, я снова буду богатым…
— Может, и будешь. Педро Сем тоже был богат… Но с тобой, наверно, случилось то же, что с ним. Ты не отчаивайся! И с пустым карманом и с деньгами человек всегда должен оставаться человеком.
— Я был очень богат! Очень! И снова буду! — Мануэл едва сдерживал рыдания.
— Успокойся, успокойся. Человек остается собой, тысячи у него или гроши.
— Вы мне не верите?
Старик не мог сказать «да», не покривив душой, но не мог сказать и «нет». Он встал на колени рядом с сыном, ожидая, когда тот перестанет лить слезы. Его лицо смягчилось, но веры в слова сына в его душе по-прежнему не было. Фарруско подбежал к Мануэлу, лег на землю, положил морду на колени хозяина и, ласково повиливая хвостом, выразил ему сочувствие на своем собачьем языке. Затем пес, увидев, что и старик расстроен не меньше, направился к нему, словно добрый самаритянин. Старик принялся ласкать пса, а Мануэл поднялся и сказал решительно:
— Я уезжаю.
— Уезжаешь?! Не прошло и двух месяцев, как ты приехал, и снова уезжаешь?! Зачем же ты приезжал?
— Да, уезжаю. И знаешь почему? Я был богатым и снова хочу стать им. То, что у меня есть, — это лишь крохи, а я знаю, где настоящее богатство. Я столько раз обращался к богу, что в конце концов понял, где оно меня ждет. Я найду его, я еще удивлю всех вас…
— Ты бредишь…
— Не верите, отец? Думаете, я помешался? Да, я похож на сумасшедшего, но я в здравом уме!
— Да, сынок, да…
— Я здоров. Скоро я вам все расскажу…
Старик, все еще стоявший на коленях рядом с сыном, посмотрел на него, пораженный.
Смеркалось. Над голыми склонами ранний соловей запел свою песенку. И старик, и Мануэл забыли о Короаде, привязанной к колу, как вдруг раздалось ее блеяние. Она проблеяла раз, другой, третий, немного помолчала и снова взялась за свое: очевидно, ей надоела неволя. Потом, разбежавшись, коза, словно ястреб, который бросается на добычу, бросилась на кол и стала его бодать. Когда столб раскачался, Короада поддела его на рога и швырнула вверх. Затем с настойчивым блеянием — ее козленочек звал ее из хижины — она стремительно
пронеслась мимо хозяев, требуя открыть ей дверь.
Хотя настроение было подавленным и глаза уже слипались, Теотониу с интересом следил за проделками козы, которые не были ему в новинку.
Но рядом с ним был сын, прежде всего нужно помочь ему, а не козе, даром что она умнее многих христиан, с которыми ему приходилось иметь дело. Напуганный молчанием сына, старик склонился над ним и почти умоляюще прошептал:
— Мануэл!
Но сын смотрел на него сияющими глазами.
— Это такое богатство, ты даже не представляешь себе. На него можно купить столько домов и столько земли, сколько во всем приходе. Что там в приходе! В округе! Но я не хочу богатства. Я хочу, чтобы на земле, где я родился, были построены хорошая школа и больница, были проведены электричество, телефон и вода, годная для питья, хочу, чтобы моя земля стала цивилизованной — ведь сейчас она совсем дикая. Если наше скупое правительство не делает этого, то я сделаю. Не веришь, отец? Богатство там, оно ждет меня, я точно знаю, где оно, и могу дойти туда даже с закрытыми глазами.
ГЛАВА IV
Когда Сесар Фонталва вошел в лавку Жулиао Барнабе, тот, без пиджака стоя у прилавка, наливал керосин из большого, как перегонный куб, бидона в жестянку, которую держала худенькая, растрепанная девчурка, так и стрелявшая глазками.
Распрямив свое вихляющееся, как у орангутанга, туловище, Жулиао воздел руки кверху.
— Извините, ваше превосходительство, у меня руки в керосине. Сейчас вымою…
Он хотел зайти за прилавок, но инженер остановил его.
— Не беспокойтесь. К чему эти церемонии. Керосин, в конце концов, дезинфицирующее средство… Я спешу…
— Как хотите. Я мигом…
— Не стоит. Мой директор написал мне, чтобы я поговорил с сеньором Барнабе. Мы собираемся начать работы и хотим знать, каково сейчас настроение в деревнях…
Два покупателя, навострив уши, уставились на них, и торговец сделал инженеру едва заметный знак.
— Поднимитесь в зал, господин инженер. Там удобней… Бруно! Бруно!
Вошел молодой человек, лет тридцати, с усиками киногероя и ослепительным пробором; красный галстук в голубых крапинках лежал на его груди, приколотый к рубашке хромированной булавкой. На его ногах были желтые полуботинки, а на руке серебряные часы на кожаном браслете. Его нельзя было назвать неприятным; лицо его было правильным, но нагловатым, из тех лиц, что с первого взгляда не внушают ни симпатии, ни доверия. Судя по всему, даже отец не очень ему доверял, поскольку свое распоряжение сейчас же отменил:
— Оставайся здесь, Бруно, будешь обслуживать посетителей, пока я поговорю с господином инженером. Впрочем, нет, пусть лучше мать. Лусиния! Лусиния! Брось свое сито и иди сюда!.. Ты мне нужна…
Фонталва заметил, как по губам Бруно скользнула пренебрежительная и злая усмешка, которая сейчас же исчезла, едва отец обратился к нему.
— Поднимись-ка с господином инженером. Я сейчас приду.
Сесар Фонталва оказался в комнате с выбеленными стенами и голубыми рамами и плинтусами, которая, как он догадался, была столовой. На книжной полке стояли две растрепанные книги: «Проклятая дочь» и книга записей расходов. Высунувшись в окно, через которое из свинарника тучами летели мухи, он посмотрел во двор. У коновязи стояли мохнатая кобыла и пегий жеребенок, куры под охраной петуха старательно и бойко рылись в навозе. Фонталва сел и стал ждать, когда этот субъект заговорит с ним о хорошей погоде или каких-нибудь столь же интересных вещах. Некоторое время тот смущенно молчал, а потом с трудом выдавил из себя:
— Я слышал, что вы, ваше превосходительство, сказали сейчас, будто работы в горах Мильафриш скоро начнутся…
— Через одну или две недели. Как только прибудет второй гусеничный трактор, который сейчас в Марао, мы начнем.
Молодой человек подошел к окну, немного подумал и, преодолев робость, сказал:
— Наверно, много народу нужно? Господин директор Штрейт обещал отцу взять сторожами меня и моего брата Модешто… Это возможно?!
— Да, сеньор, предложение послано в Лиссабон.
— Значит, я могу считать, что вопрос решен? Хорошую новость принесли вы, ваше превосходительство.
Приносить хорошие новости всегда приятно, и Фонталва подтвердил с улыбкой:
— Надеюсь.
— Какая удача! У отца хорошая мастерская и небольшая лавочка в деревне, но он хочет все делать сам. За прилавок пускает только мать, а сам редко куда-нибудь уходит. В общем, и я, и мой брат Модешто болтаемся без дела, ничем определенным не занимаемся. Сначала отец думал послать нас учиться. Хотел, чтобы брат стал священником, а я — учителем, мы даже ездили в Визеу. Но, к несчастью, дисциплина в семинарии была слишком строгой для моего брата. Его выставили за какие-то проделки. Я пробыл несколько месяцев в городе, но отец решил, что это слишком дорого обходится, и взял меня обратно в деревню. Здесь я стал ходить в третий класс к сеньору Мадурейре. Мы могли бы работать в мастерской, да где там! Отец отдал чулочную и кружевную мастерские нашим своякам Мешии и Патакао. А в результате ни из меня, ни из брата ничего не получилось — не то работники, не то барчуки. Модешто, который немного знаком с техникой, в лучшем положении, его иногда приглашают что-нибудь починить, так он и подрабатывает. А я даже этого не могу. Мне уже тридцать, и я понимаю, что пора как-то менять жизнь. Отец неплохой человек, но характер у него невыносимый и уж очень он скуп. На одежду и обувь, на выпивку деньги дает мать. Она потихоньку от него продает зерно и понемногу копит деньжата. А если бы не это…
Тут Бруно услышал топот отцовских башмаков по лестнице и замолчал. Едва появившись в дверях, сеньор Барнабе сейчас же отослал сына:
— Пойди-ка посмотри кобылу, которая ожеребилась.
— Иду, — отозвался Бруно. — Знаете, отец, сеньор инженер сказал мне сейчас, что наше назначение передано…
— Для меня это не новость. Я уже знал об этом от доктора Лабао, моего старого друга. Но чтобы вы не хвалились прежде времени, я молчал, а теперь посмотрю, как вы станете себя вести. Подумайте, сеньор инженер, у моих сыновей ровным счетом ничего нет от меня. Они оба похожи на мать и на некоего Жозефино Галрао, бродягу и мошенника, который сейчас где-то в Бразилии… Грязь ведь всегда на хорошее полотно попадает!
Однако как только сын спустился с лестницы, старик сразу пошел на попятную.
— Конечно, ничего плохого я о них сказать не могу. И Бруно и Модешто за друга пойдут в огонь и воду. Сердце у них хорошее, да головы горячие. Впрочем, по-моему, теперь молодежь вся такая, а мои к тому же еще и транжиры. Проматывают все, что им дашь. Все, что я скопил с таким трудом, эти бездельники пустят на ветер. Если вы возьмете их в лес, сеньор инженер, для меня это будет все равно, что выигрыш в лотерее. Вот удача-то! Я так благодарен доктору Лабао, который назвал их имена сеньору старшему инженеру… я…
Но Фонталва прервал эту исповедь, сказав:
— Ну как, наши горцы в конце концов согласились?
— Поверьте, сеньор, я сделал все, чтобы убедить их. Много вина и водки текло даром, и только в Алмофасе и Реболиде крестьяне встали на нашу сторону. А в Валадим-даш-Кабраше и Азенья-да-Море, да и в других деревнях упираются попрежнему. Хоть палкой подгоняй!
— Как это понять?
— Прямо скандал! Есть там мерзавцы, которые мутят народ. Настоящие главари! В Парада-да-Санте и Валадим-даш-Кабраше, например, некий Жоао Ребордао. Вы, наверное, его помните, видели на собрании в Буса-до-Рей… такой коренастый, широкоплечий, лицо противное и глаза, как у быка… В Азенье — Мануэл до Розарио, кузнец проклятый. Они кумовья и перекрикиваются через горы, чертовы души, будто у них телефон. У этих нужно сразу когти вырвать… заявить, что они коммунисты. В Аркабузаише тоже свои главарь есть — Ловадеуш, и этому верить нельзя.
— Ловадеуш? Это бразилец? А он показался мне тихоней…
— Только с виду, сеньор, только с виду. С доктором Ригоберто он на короткой ноге и может стать самым опасным и самым вредным из главарей.
— Пожалуй. Я должен сегодня же поговорить с ним. Мы хотим купить его участок в горах…
— Они не продадут. Даже если им заплатят тысячу конто!.. Они считают, что у них там рай земной…
— Им хорошо заплатят…
— Все равно не продадут. Ни за что! Хоть и земля там такая, что растет только рожь. Впрочем, куропатки и кролики не оставили бы им ни колоска пшеницы, ни початка кукурузы.
— Наверху есть большой родник, который нам очень нужен…
— Да, воды там много. Но и рядом есть родники.
— Вы не знаете, сеньор Барнабе, пока мы здесь еще ничего не выстроили, мог бы кто-нибудь взять меня к себе на квартиру? Ведь управляющим-то назначен я…
— Если в деревню приезжает новый учитель, сеньор инженер, он останавливается у меня. Я прикажу приготовить вам комнату. Хотите посмотреть?
Барнабе отвел инженера в недавно отремонтированную комнату, стены которой были побелены; в комнате стоял стол, над умывальником висело зеркало. Но от мух и здесь не было спасения; весь потолок, сбитый из сосновых досок, был ими загажен. Однако Фонталва за неимением лучшего заверил, что комната ему нравится. Договорившись о плате, он собрался уходить, но Гнида снова взялся за свое:
— Мы разделаемся с этой деревенщиной, будьте спокойны! Враги порядка и Новой Португалии не дремлют, их стало слишком много, и пора за них взяться! Вот если бы этого Ребордао заковать в кандалы, дело сразу пошло бы по-другому. Тысячу раз спасибо за добро, которое вы сделали моим сыновьям! На что-нибудь другое они не годятся, а тут будут на месте! Можете на них положиться, они парни храбрые! Их самое слабое место — бабы. Через баб и случались все их неприятности… даже жизни чуть не лишились. А в остальном они парни честные — не украдут, родине не изменят, имя божье позорить не станут. В ваших руках, уважаемый сеньор, их жизнь и смерть.
— Только жизнь… Мы хотим, чтобы они жили!
Когда Фонталва после многочисленных поклонов старика и его жены, которая выскочила на крыльцо, вышел на улицу, он увидел Бруно Барнабе, любезно беседующего с шофером. От Урру-ду-Анжу до Аркабузаиша было два километра. Джип проглотил ленту дороги одним глотком и остановился, немного не доезжая до крайних домов. Сесар Фонталва вылез из машины и направился к низенькому человеку, который медленно шел по дороге, без пиджака, босой и оборванный, держа на плече мотыгу, видимо, собрался на огород. Судя по всему, это был один из многих тысяч бедняков, живущих в этих краях.
— Скажите, пожалуйста, хозяин, где здесь дом сеньора Мануэла Ловадеуша?
Человек внимательно изучил его взглядом и, видимо, убедившись, что это не шпик и не вор, ответил так, чтобы избежать нового вопроса:
— Не знаю, застанете ли вы его в это время. Ваша милость хочет поговорить с ним?..
— Да.
— Случайно не об участке?..
— Именно…
— Будете сажать деревья?
— Да, через несколько дней. А пока я приехал договориться с хозяевами участка, — сказал инженер, чтобы развеять подозрения этого человека, которые, как догадался Фонталва, он старался скрыть за чрезмерным спокойствием. Нет людей более недоверчивых, чем горцы, и поставить их перед конкретным фактом, хотя бы самым неприятным, всегда лучше, чем заронить в их душу сомнение, ибо тогда умудренные многолетним опытом крестьяне начинают рисовать себе самые мрачные картины.
— Я с добром пришел, — очень ласково начал Фонталва. — Мы все должны помириться…
Человек рассмеялся:
— Как не помириться, если у тебя силой отнимают землю!
— Ничего подобного. Горы останутся вашими…
— Еще бы! Ведь в мешке их не унесешь!
Неожиданный поворот беседы смутил инженера, но все же он произнес, стараясь говорить как можно более властно:
— И все же позовите мне сеньора Мануэла Ловадеуша или покажите его дом…
— Хорошо. Пойдемте со мной…
Они пошли по дороге. Когда миновали пустырь, крестьянин, показав на дом, одиноко стоявший среди огородов в конце улицы, сказал:
— Вот этот. Красивый дом справа принадлежит доктору Ригоберто. А дом Ловадеуша тот, что с калиткой из старых досок. Видите? Можете смело идти, собаки сейчас нет.
Сесар Фонталва направился прямо к дому с пристроенным к нему хлевом, видневшимся в глубине двора. Вдоль стены сушились на солнце охапки черного дрока. Он повернул деревянную вертушку и совсем рядом с калиткой увидел свинью, которая, разлегшись на земле, кормила целый выводок хрюкающих поросят с хвостиками, похожими на червячков. То ли он толкнул ее, то ли просто напугал, но свинья вдруг вскочила, а поросята повисли, прилипнув к ее соскам, и тоже перепугавшись, стали визжать и хрюкать на все лады, напоминая духовой оркестр, когда перед концертом музыканты настраивают свои инструменты-одни правильно, другие фальшиво.
— Есть кто-нибудь дома?.. — крикнул Фонталва, несколько смущенный поднятым им переполохом.
Послышались шаги, и в окне мелькнуло красивое личико с черными глазами и белыми зубами, окаймленное красным платочком. Казалось, повеселели даже мрачные краски окрестного пейзажа.
— Кто там?
— Сеньор Мануэл Ловадеуш здесь живет?
Девушка, как всякая истая горянка, некоторое время ничего не отвечала, взвешивая в уме, что могло бы означать появление незнакомца. Она изучала его взглядом своих то игривых, то серьезных глаз. С добром ли он пришел? Похоже, да. Стоит ли отвечать? Пожалуй. Быть может, принес что-нибудь? Нет. Может, с неприятными вестями? Да, разговор будет об участке. И она ответила, словно электронная машина, решившая уравнение:
— Здесь, но его нет дома. Сеньор насчет участка?..
— Да.
— Он пошел в Рошамбану. Он там строит дом. А вы, сеньор, простите за любопытство, не от правительства?
— От правительства, если вам так угодно. Я получил приказ и хотел бы увидеться с кем-нибудь, кто имеет вес у вас в деревне. Успокойся, девочка, мы никого не хотим заставлять силой. — И, помолчав, добавил: — Так что же, значит, сеньора Мануэла Ловадеуша нет. И долго он будет на участке? А вдруг задержится? Я не могу его ждать, это не входит в мои планы. Может кто-нибудь проводить меня туда? Я специально приехал, чтобы с ним поговорить.
— Сейчас никого не найдешь. Все работают. Но я посмотрю… Сейчас выйду.
«Интересно, какая у нее фигурка? — подумал инженер. — У этих горянок прелестные головки, а фигуры часто безобразные».
И при мысли, что сейчас она выйдет и он сможет рассматривать ее сколько угодно, Фонталва почувствовал, как горячая волна прилила к его голове, потом спустилась к сердцу и наполнила все тело радостной и приятной истомой. Еще не зная, как понимать обещание девушки, но уже плененный ее добротой и привлекательностью, он запротестовал, однако довольно вяло:
— Но я не хочу быть навязчивым…
Она ушла в глубь дома и вскоре появилась во дворе. В полумраке навеса девушка показалась ему выше среднего роста, худощавой и стройной, с маленькими грудями. На ней была кофточка из цветной ткани, застегнутая наглухо, и модная юбка, схваченная в талии.
Девушка быстро заперла дверь, положила ключ в щель и спустилась с крыльца, а Фонталва любовался ее ловкими, грациозными движениями. Во дворе, когда он задержался у калитки, преследуемый стадом поросят, которые бежали за ним, тыкаясь своими розовыми грязными пятачками в его ботинки, девушка отогнала их и сказала очень любезно:
— Пожалуйста.
Она закрыла ворота и пошла очень быстро, сначала по улице, затем по дороге. Фонталва шел рядом. Когда они вышли на дорогу, ведущую в горы, он сказал:
— Подождите минуточку, я ненадолго…
И направился к машине, остановившейся неподалеку, — дать распоряжение шоферу Ренато; будучи в благодушном настроении, инженер даже достал портсигар и угостил его сигаретой.
Ренато закурил, а Фонталва воспользовался этим, чтобы завести разговор:
— Ты уже бывал в этих краях?
— Разумеется! В последний раз я приезжал сюда с Сеньором директором примерно год назад.
— Ну и как?
— Гм, такие же люди, как и везде.
— Набожные?
— Очень. Два раза в день к обедне ходят.
— Богаты?
— Какое там!
— Честные?
— Это как смотреть.
— Ты прав. Честность и набожность зависят от того, как на них смотреть. А как насчет девочек? Хороши?
— Еще бы! Такие персики, клянусь богом, никто не устоит.
— Ну и как? Получается?..
Это было как раз то, что хотел выяснить Фонталва.
— Чего не знаю, того не знаю. Впрочем, женщина всегда согласна, если мужчина ей нравится. Только один мужчина не встречает отказа — это петух, знающий свое дело.
Сесар Фонталва подивился мудрости своего шофера, который был лишь на несколько лет старше его, но, без сомнения, с большим жизненным опытом и проницательностью. Чувствуя, что его оценили, Ренато пустился в воспоминания о своих победах, но Фонталва не слушал его. Мечты далеко унесли инженера. Вскоре у развилки дорог он заметил девушку, о которой только что мечтал и которая пленила его своим свежим личиком и грацией. Она уже откуда-то вернулась и поджидала его, разговаривая с какой-то девочкой. Фонталва хотел идти к ней, когда Ренато сказал:
— Ваше превосходительство, позвольте передать письмо этой девушке.
— Письмо?
— Да, меня просил Бруно…
— Дай-ка его мне, я сам передам.
Фонталва взял письмо и направился навстречу девушке.
— Никого не нашла, — сказала она. — Я сама покажу вам дорогу.
— Но я не хотел бы…
— Не беспокойтесь, это даже кстати. В тех местах пасется наш скот, а мне нужно сказать пастуху, чтобы он быстрее спускался вниз.
И они вместе с девочкой быстро зашагали, как понял Фонталва, к пастуху. С неба на хребты гор низвергался целый водопад солнечного света. Сейчас, когда солнце палило так нещадно, крестьяне были озабочены только одним — полить кукурузу и картошку. Повсюду в небе виднелись пятна облаков, напоминавших то куски белесой пакли, то развевающиеся косынки. Гроза собиралась над склонами Монтемуро. Яркое солнце, похожее на разъяренного быка, снова вырвалось из-за тучи и озарило небо и землю. Облака на горизонте темнели…
На девушке, правда, были очень старые лакированные туфли с пряжками, но она шла, гордая и безразличная ко всему, словно саламандра через огонь, в то время как Фонталва, испуганный надвигавшейся грозой, мечтал о зонте. Чтобы не отстать от девушки, ему приходилось делать широкие шаги, и его лицо покрылось потом. Маленькая босая девочка прыгала по камням и откосам, поросшим вереском, не хуже козочки. Шли молча. Да и что он мог сказать ей? Жаловаться? Сначала он пытался заговорить, но на второй или третьей фразе разговор оборвался или, лучше сказать, утонул в потоке разрозненных мыслей, и инженер решил замолчать. И все же он испытывал некоторое смущение, как тот, кто считает себя обязанным что-то сделать, но не знает, как и стесняется. Наконец вдали, раньше чем он предполагал и, быть может, желал, показалась стена из плохо отесанного камня; в стороне от дороги, на ровной площадке скалы, похожей на языческий трон, суетились фигуры каменщиков, возводивших эту стену.
— Вот и Рошамбана, — сказала девушка.
— Они тут строят дом?
— Да, сеньор. Отец грозился, что уедет отсюда, если не построит дом именно здесь, и добился своего. А дед, для которого в мире больше никого не существует, в конце концов согласился, ведь в душе он тоже хотел этого. Здесь они днюют и ночуют, и уж не знаю, кто из них больше заинтересован…
— Но это так далеко, дом, должно быть, не дешево обойдется…
— Наверно, недешево. Одна перевозка чего стоит, — ответила девушка непринужденно, что так нравилось Фонталве.
— Значит, это и есть Рошамбана?
— Да, сеньор.
— Из-за этого участка я и приехал сюда, но теперь вижу, что ничего не поделаешь…
— Если вы хотели его купить, то напрасно потеряли время… Впрочем, поговорите с отцом. А теперь я распрощаюсь с вами. Не заблудитесь, надо все время идти прямо… Я слышу, за кустами звенят колокольчики, наверно, это наше стадо.
Фонталва жалел, что она уже уходит. Он даже готов был просить девушку, чтобы она осталась, но ни за что не хотел одолжений с ее стороны. Вежливость обязывала поблагодарить ее и сказать, что больше ее помощь ему не нужна. Так он и поступил. Затем, вспомнив, что время — деньги, он сунул руку в карман и достал бумажку в двадцать эскуду:
— Вы позволите мне… Купите себе печенья…
Жоржина сделала жест, выражавший, как ему показалось, возмущение, и ему стало стыдно. Фонталва растерялся, но добавил:
— Может быть, разрешите побаловать девчурку…
Он сунул бумажку девочке, та взяла, но Жоржина строго взглянула на нее, и девочке пришлось вернуть деньги. Фонталва больше не настаивал. Простились. Пожимая руку Жоржине, он не смог сдержать чувств, охвативших его, и сказал:
— Большое спасибо… Но скажите мне по крайней мере ваше имя…
— Зачем вам его знать? Жоржина…
— Прощайте!
Несколько раз он оборачивался посмотреть на нее и видел, как она удаляется своей легкой походкой. Вдруг он вспомнил о письме, которое машинально сунул в карман. Ошибка, говорит Фрейд, всегда является результатом подсознательного желания. Фонталва посмотрел на шелковистый конверт: в уголке голубок с письмом в клюве; почерком человека, который редко берется за перо, написано: «Многоуважаемой сеньоре, доне Жоржине».
Какая-то сила, большая, чем деликатность, после недолгих колебаний заставила его разорвать конверт. Письмо, если не воспроизводить орфографических ошибок, гласило следующее:
«Урру-ду-Анжу, 15 июля.
Дорогая сеньора! Со всей страстью моего израненного сердца я шлю эти скромные и искренние строки женщине, которую я люблю больше всех на свете и которой являетесь Вы, Жоржина. Вы сами это знаете. Моя дорогая, я в отчаянии, Вы лишили меня сияющего солнца жизни, и Ваши глаза стали божественным светом, который освещает мне путь. Теперь мне остается только умереть, в этом я убежден, ибо написал Вам три письма и не получил на них ответа. Я думаю, Вы нашли себе другого возлюбленного, потому что сердце девушки изменчиво и быстро забывает о том, кто ее любит серьезно, вопреки всем препятствиям и угрозам родных. А я, даже если б захотел, не смогу забыть Вас никогда. С того счастливого дня, когда мои глаза увидели Вас впервые, я узнал, как прекрасна любовь.
Я всегда буду любить Вас и умру в печали, так как не могу взять в жены девушку, которую вижу во сне. Но любовь, которая, как я мечтал, в один прекрасный день разбудит Вас, подсказывает мне, что Вас отнял у меня Ваш брат. Однажды мы повздорили, и он избил меня. Я хотел просить прощения у Вашего отца и сделать Вам предложение, но Жаиме стал у меня на пути, и теперь мне с ним уже не разойтись мирно. Но поймите, я не хочу ему зла. Я проиграл, я слышал, что он и в карты хорошо играет. Я хотел бы сам убедиться в этом хоть когда-нибудь. Неужели мне никогда не суждено получить от Вас письмо, которое я положу на свое страдающее сердце?
Почему Вы не отвечаете на мои письма, полные любви к Вам? Дорогая, если б Вы хотели, Вы бы призвали на помощь всю свою хитрость и нашли способ послать мне ответ. Это письмо попадет прямо в Ваши руки, я найду человека, который передаст его. Знайте, нет в мире такой преграды, которая может помешать мне жениться на Вас. Клянусь Вам, что моя любовь чиста, самоотверженна и искренна и ничто под луной не заставит меня изменить ей. Примите полный тоски привет от того, кто всегда носит в своем сердце Ваш незабываемый образ и кто предан Вам до самой смерти.
Жду скорого ответа. Прощай, моя любовь.
Бруно»
Фонталва несколько раз перечитал письмо, смакуя его, как индиец смакует горький бетель. Так вот что пишут ослы, посидевшие за партой начальной школы! Смешно! Только дикарь, едва знакомый с грамотой, способен так нагромождать слова! О-о, слишком хороша девушка, к которой они обращены, чтобы отказаться от нее раз и навсегда! Но, разумеется, такими письмами ее не завоюешь. Скорее наоборот. Довольный, что письмо попало ему в руки, Фонталва разорвал его на мельчайшие клочки и разбросал по ветру, который закружил бумажки по траве, как мякину на току. Погрузившись в тревожные мысли, неверной походкой он направился к участку. Вдруг откуда ни возьмись выскочил мохнатый щенок — хвост трубой, морда сердитая — и залаял. Инженер понял, что пришел к Ловадеушам. Мужчина, выглянувший из-за стены, позвал:
— Фарруско, сюда! Фарруско!
Фонталва притронулся к шляпе.
— Здравствуйте, сеньор Ловадеуш. Помните меня? Мы виделись на собрании в палате.
— Как же! Помню, помню, входите, пожалуйста…
Мануэл открыл калитку, и инженер вошел. У Мануэла на руке были часы, одет он был в старый пуловер. Участок, около четырех гектаров, полого поднимался вверх, где виднелась полоса сосен и дрока, пониже — жниво, еще ниже — стена кукурузы и огород, который перерезала сверкающая сталь ручья. На вершине работали каменщики, возводившие дом. Под яблонями мужчина в рубашке из домотканого полотна, пожилой, но еще крепкий, поливал грядку фасоли. Видимо, это был отец Мануэла. Заметив инженера, он остановился и, выпрямившись, стал смотреть на него. Поза старика выражала нерешительность, очевидно, он раздумывал, стоит ли ради этого незнакомца бросать работу. Но, увидев, что сын и Фонталва, ведя какой-то разговор, медленно пошли по дорожке, снова склонился над грядкой. Фарруско занялся тем, что стал выискивать клещей и грызть их. Он прыгал, извивался, яростно лаял. Кругом, судя по всему, было много дичи и кроликов. Это отметил про себя инженер, бросавший по сторонам якобы рассеянные, а на самом деле внимательные взгляды.
— Меня назначили ответственным за лесное хозяйство в горах, — сказал он. — Я знаю, сеньор, что вы одно из наиболее уважаемых в здешних местах лиц, и хотел бы познакомить вас с тем, что государство предпринимает или намерено предпринять. Крестьяне ставят нас в очень затруднительное положение, когда заявляют, что мы нанесем им ущерб…
Фонталва изложил официальную точку зрения на данный вопрос.
Мануэл выслушал его молча и ответил:
— Если вам нужен уважаемый человек, то, видимо, речь идет о моем отце. А я сегодня здесь, завтра там, да и в деревне-то я чуть больше полугода. И все же соблаговолите выслушать то, что я вам скажу, словно это говорит мой отец. Он тут поблизости и не даст мне солгать. Я знаю, почему государство вынуждено объяснять необходимость лесопосадок в горах, но знаю и соображения, которыми руководствуются горцы, не желающие, чтобы у них отнимали то, что они считают своим. Я был в числе тех, кто ездил в город защищать интересы деревень, и видел там вас, ваше превосходительство. Если вы не помните меня, то только потому, что нас было очень много и ваши заботы помешали вам обратить внимание на мое лицо. Я хочу сказать, что это дело я изучил досконально. А коли так, то знайте, что, на мой взгляд, и вы правы, и мы тоже. Как же нам поладить? Вот в чем загвоздка, не так ли?
— Конечно.
— Теперь раз дело уже зашло далеко, мне кажется, сеньоры не должны добиваться решения силой. Если вы придете сюда с тракторами и войсками, чтобы защищать эти тракторы — а я такое слышал, — прольется кровь. Не сомневайтесь, сеньор, так оно и будет.
— Именно этого мы и хотим избежать любой ценой. Поэтому я и пришел договориться с вами, как буду договариваться с остальными.
Мануэл развел руками.
— От меня ничего не зависит. К тому же ни за что на свете я не откажусь от данного мной обещания. Если горцы выступят против солдат, сеньор увидит меня в первых рядах, но стрелять я не буду, и, когда откроют огонь, упаду одним из первых.
Он произнес это с какой-то романтической гордостью, и Фонталва почувствовал к нему симпатию.
— Никого не убьют, — улыбнулся инженер. — Если вести работы буду я, не раздастся ни одного выстрела.
— Да услышит вас бог, а с нас хватит и нищеты, в которой мы прозябаем. Поверьте, сеньор, горцы так бедны и жалки, что дальше некуда, жизнь для них и так несладка…
— Вот-вот! Мы хотим, чтобы им жилось лучше. А вы не верите в то, что, если горы засадят лесами, крестьянину будет легче?..
Ловадеуш улыбнулся неопределенно, немного скептически и сказал:
— Согласен, но только богатому, бедняк же, может, не станет беднее, но закабалится еще больше. То есть еще больше станет рабом. А деревенские богатеи, у которых нет совести и которым хомут не трет шею, разумеется, выиграют, да еще как! Могу сказать вам откровенно, что никакие улучшения не возместят нам ущерба. Вот смотрю я на эти вершины: сколько хочешь ходи по ним, свободный, как они, и никто тебе не крикнет: «Вернись! Дальше ходить запрещено!» Я ненавижу все эти запреты, охраны, надписи, которые заставляют человека сворачивать с дороги или вообще не дают прохода.
— Некоторые не переносят насилия, — согласился инженер, — а другие терпят.
— Для нас, горцев, это всегда насилие, даже если мы не протестуем или не умеем выразить свой протест. Мы дикари, но дикари свободные. У нас много общего с волками: те, даже если их держать на привязи, не могут забыть своих диких инстинктов…
— Это не совсем так. Теперь материальные выгоды на первом месте… — счел необходимым заметить инженер, хотя в известной степени был согласен с Мануэлом. Однако он боялся, что приобретет славу коммуниста — прозвище, которое теперь в ходу у злобных и недалеких завистников.
— Бедняка, не знающего, что такое богатство, это мало интересует. У нас в деревне есть и богатые и бедные, богатые с каждым годом богатеют, скупая землю у бедняков, которые лишаются последнего. Но наши богатеи мало чем отличаются от бедняков, если сравнивать условия, в которых живут те и другие. Богатые живут так же, как жили до того, как разбогатели, а бедняки — как прежде или чуть хуже. И те и другие едят суп из глиняных горшков, носят штаны из грубой шерсти зимой, полотняные летом и спят на соломенных тюфяках. Однако и тех и других поддерживает счастливое заблуждение — богатые думают, что они богаче бедных, а бедные, что они беднее богатых, поэтому и не рушится фундамент, на котором стоит наша жизнь.
Инженер, пораженный ораторскими способностями Ловадеуша, вдруг спросил неожиданно для себя самого:
— Значит, вы, сеньор, считаете, что между государством и деревнями не должно быть конфликта? Но вы же видите, что без этого невозможен прогресс…
— Я полностью согласен с доктором Ригоберто, нашим адвокатом, человеком здравомыслящим, который находит, что государство должно отложить свой план до лучших времен. Когда деревня станет более цивилизованной, получит электричество, телефон, школы, медицинскую помощь, тогда можно будет говорить о способах претворения в жизнь этой программы. А пока мы голодаем, ходим в деревянных башмаках и прозябаем в невежестве, оставьте нас в покое и не вздумайте навязывать нам свой закон с помощью пуль и штыков.
— Уверяю вас, этого никогда не будет. Но больше всего меня огорчает то, что мы так и не договорились. Я неприятен вам, как сторонник плана, к которому вы отказываетесь подойти доброжелательно, и я сожалею об этом, но я выполняю приказ. Да, скажите мне еще вот что: вы продаете этот участок?
— Этот участок, который, к счастью, не вошел в зону лесопосадки, не продается. Разве вы не видите, что мы строим здесь дом. А в наших местах строят дом для того, чтобы жить в нем, чтобы пустить глубже корни, чтобы он переходил от отцов к сыновьям. Дом только по бумагам принадлежит вашему покорному слуге, а на деле его хозяин — мой отец. Вот он… Он может ответить вам за нас обоих…
Мануэл показал на отца, который поднимался по тропке. Старый Ловадеуш был в деревянных башмаках на босу ногу, на его груди через расстегнутый ворот рубашки виднелись седые волосы. Он приближался спокойным, размеренным шагом, а его настороженные глаза так и сверлили гостя. Впереди него с тревожным урчанием бежал Фарруско.
— Отец! — крикнул Мануэл, хотя старик еще не подошел к ним. — Этот сеньор желает купить у нас Рошамбану! Как ты на это смотришь?
— Рошамбану? — переспросил старик упавшим голосом. Его глаза сначала уставились в землю, а затем снова поднялись, и, немного помолчав, Теотониу проговорил: — А сколько он дает?
Сесар Фонталва усмехнулся.
— Сеньор должен сам назначить цену. Но если он не сможет, я похлопочу, чтобы прислали экспертов.
— Они напрасно потеряют время, — возразил старший Ловадеуш. — Рошамбана не продается, пока я жив. Отсюда я уйду только на кладбище, и все это придется спустить вместе со мной в могилу, а я не хочу слишком обременять тех, кто будет нести гроб… Я и так тяжелый…
Инженер снова улыбнулся.
— А если мы у вас арендуем немного земли около родника и построим там барак… Сдадите? Заплатим хорошо.
Подумав какое-то время, старик ответил:
— Нет, сеньор. У вас и так много земли. Вам нужны сторожа? Поставьте часовых.
— И я то же говорю, — вмешался Мануэл. — Господа прекрасно обойдутся и без нашего участка. Они в любом месте могут разбить свой лагерь…
— Но у вас есть вода, — тихо сказал инженер, бросив взгляд на родник.
— Да, воды у нас хватает, — пробурчал Теотониу.
Приближался вечер. Инженер нерешительно топтался на месте, не зная, какие еще доводы привести этим упрямцам, которые так упорно стоят на своем. Он чувствовал их правоту и, если не склонялся на их сторону, то и не считал себя вправе не прислушиваться к ним. Перед его мысленным взором мелькнули красный платок Жоржины, ее очаровательная улыбка, и сама она, полная достоинства, и он сказал себе: «Будь по-вашему». Фонталву охватило желание снова увидеть ее, он стал прощаться. Мануэл вызвался проводить его. Фонталва пытался отказаться, ссылаясь на какие-то несущественные причины, и это прозвучало скорее как просьба пойти с ним. Им руководили смутная надежда вновь повидать девушку и в то же время желание продолжить беседу с Мануэлом, который показался ему разумным, скромным и сдержанным человеком. Фонталве хотелось снова войти во двор, где свинья хрюкала свою материнскую песню многочисленным поросятам. И когда Мануэл Ловадеуш сказал отцу, что пойдет с этим сеньором, а старик и Жаиме останутся в Рошамбане, он не стал больше отказываться.
Они спустились к дороге, которая вела из Валадим-даш-Кабраша в Аркабузаиш: шли медленно, беседуя о всякой всячине: о погоде, которая в том году была неблагоприятной для урожая, о налогах, которые все больше давят на мелких хозяев, этих трудолюбивых пчел, кормильцев государства.
Мануэл показался инженеру человеком содержательным и внешне мало похожим на крестьянина. А когда он услышал, что тот сравнивает окрестные горы с плоскогорьями Мато-Гроссо и вспоминает об аргентинских реках, Фонталва больше не удивлялся и понял, что перед ним человек, много повидавший. Поэтому, чтобы не остаться в долгу перед любезным хозяином и еще по некоторым другим причинам, он решил, что ему как инженеру-агроному, который будет руководить работами, следует отбросить все недомолвки, касающиеся дела. Он осторожно рассказал о том, что произошло на северном склоне: там провели границу и расставили столбы, но на следующий день пастухи и лесорубы вытащили и порубили их. В Реболиде и Азенье сторожа дежурили каждую ночь. Но и это не помогало. Летом еще можно сторожить, а зимой это все равно, что обречь себя на смерть.
Лесная служба предполагала разбить в горах нечто вроде военного лагеря с палатками и держать там конные патрули. Но это дорого стоило. В некоторых приходах по просьбе министра — верного друга церкви — священники призывали с амвона: «Дайте вспахать землю, это делается для вашего блага!» Но ни одного прихожанина не удалось убедить.
Солнце все еще припекало, и Фонталва, шедший с непокрытой головой, несмотря на густые черные волосы, чувствовал, что голова раскалывается. Высоко в небе кружили легкие стрижи, должно быть, к жаре. На притихшей земле не слышно было птичьего щебета, а цикады, подпалившие крылышки, готовились к смерти. Шли последние дни августа, и казалось, что солнце, разливавшее беспредельное сияние, хочет возместить холод весенних месяцев.
Когда они миновали поля, вспаханные совсем недавно, и свернули к заброшенному участку, где еще не стерлись борозды, Фонталва спросил:
— Здесь уже пахали? Если я не ошибаюсь, мы не планируем работы на этой земле…
— Да, сеньор, пахали. Эту часть выгона предполагается оставить Аркабузаишу. Произошло то, что возможно только на нашей бедной земле, в стране с такими беззаботными правителями, как Португалия. Сейчас вам все расскажу…
В Аркабузаише и других горных деревушках, вроде Понте-ду-Жунку и Алмофасы, не очень богатые крестьяне — Мануэл Ловадеуш был в их числе, — воодушевленные лицемерным лозунгом:
производить и экономить[14], в одно прекрасное утро отправились в горы с мотыгами на плечах и плугами, у кого они были, и принялись пахать луга, которые, на их взгляд, можно было засеять. Землю вспахали, выжгли сорняки и кустарник и засеяли. На целине рожь, которая урожай дает маленький, а землю сосет, выдалась такая, что удобренным навозом парам стало стыдно. Но бедняги земледельцы забыли о коварном Каине. Неизвестно, какими путями проник в приходский совет Урру-ду-Анжу этот злодей Гнида — трактирщик, ростовщик и богатей, который не остановится перед тем, чтобы вместе с последней рубахой содрать с крестьянина кожу. Этот человек старался оттянуть себе все — даже жалкий кустик вереска и дрока, не говоря уже об урожае с общего поля. Настоящий бандит! Сговорившись со старостой и сторожем, такими же подлецами, как он, Гнида донес на тех, кто вспахал целину, а поскольку они не могли уплатить штраф, дело было передано в суд.
Председатель палаты Лабао, фигура видная для здешних мест, не уставал давать обеды судьям и чиновникам всей округи и не задерживал у себя дома подхалимские дары, которые ему беспрестанно слали разные проходимцы, чтобы он поменьше их допекал, и негодяи, лившие воду на его мельницу. Многие из этих взяток тут же отправлялись сеньорам судье и прокурору, начальнику полиции или председателю Националистической лиги, которые наели себе такие животы, что едва могли дышать. В краю с застарелыми феодальными обычаями, расположенном частью в горах, частью в долине, господствовала, как и во многих других краях, круговая порука, скрепленная ножкой теленка или корзиной форели. Говорят, кто дает, тот и прав, так и в здешних местах — кто больше даст, тот и делает, что хочет. Единственное отличие местных властей от африканских царьков заключается в том, что здесь их слишком много, только успевай карманы выворачивать. Однако вернемся к нашей теме. Штраф был наложен, и судья, то ли потому, что его кладовая ломилась от свиных колбас — прошел слух, что с коптильни Гниды они попали туда через Лабао, — то ли просто плохо подумал, вынес следующее решение: крестьяне, вспахавшие целину, должны оплатить судебные расходы, гербовые сборы, судебный налог и лишиться прав на эту землю. Один падре в своей проповеди — а это о чем-то говорит — назвал эту землю полем Акелдама, или полем предательства. Поскольку магистрат счел незаконным не только захват земли, что все же было допустимо, но и признал бесхозными посевы, жадная семейка Гниды, как только приговор был оглашен, погнала свое стадо на тучные всходы.
За несколько дней они уничтожили труд многих недель, а для некоторых семей питание на долгие месяцы. Недальновидные пахари жестоко поплатились. К бандитской славе Лабао прибавился еще один подвиг. На свежевыбеленной стене трактира Гниды кто-то написал углем: «Жулик, ты пьешь пот бедняков, но когда-нибудь твои кишки через рот полезут». Но слова не дым — глаз не едят! Совсем недавно его сыновья, два таких же отъявленных негодяя, как и он сам, вместе с каким-то парнем чуть не убили сына Ловадеуша Жаиме. Они нагло скалили зубы, проходя мимо юноши и не подозревая о ярости, которая закипала в груди Жаиме и его деда.
Сесар Фонталва, уроженец юга, хорошо знал, какому грубому произволу подвергается крестьянин в горных районах. Закон и стражи закона стояли, как правило, на стороне сильного, в данном случае на стороне Гниды. Отсталость и ограниченность местных жителей способствовали процветанию подобных негодяев, а оказавшись в положении царьков, правящих дикими племенами, они превращались в настоящих зверей. В конце концов им ни бог, ни черт не были страшны.
Лесопосадки на Серра-Мильафрише вызывали сопротивление горцев, закаленных в борьбе за существование; они становились все ожесточеннее и неумолимее. В некоторых деревнях крестьяне сплотились перед лицом губительных посягательств со стороны государства, однако в других начались раздоры между теми, кто был тверд, и теми, кто готов был уступить. Были и иуды, которые обращались в Лесную службу в надежде, что Совет по колонизации или его правление наградят их либо назначат сторожами или десятниками.
Кое-где местные власти, зачарованные звоном монет, которые им причитались за аренду земель, только и мечтали о том, как они будут их тратить. Что ж здесь удивительного, если десяток деревень, решивших сохранить за собой Серра-Мильафриш, издавна принадлежавшую им, выступили дружно, как один человек. Возможно, многие крестьяне падут в этой борьбе, но без известного риска такие дела не совершаются.
В Лесной службе боялись волнений среди горцев. Сесар Фонталва не говорил об этом, но спокойными ласковыми речами старался склонить на свою сторону Ловадеуша, который показался ему человеком благородным; к тому же инженер, откровенно говоря, все время помнил, что Мануэл отец красивой девушки.
Подчиняясь какой-то необъяснимой и властной силе, Фонталва ставил перед собой цель убедить не только Ловадеуша, но и многих других. Ведь дело, ради которого он сюда приехал, можно сказать, было построено на песке. Поздно будет ловить поджигателя, который ночью разложил в разных местах костры, разгоревшиеся при благоприятном ветре и уничтожившие посадки.
Поэтому-то, стремясь не допустить того, с чем невозможно бороться, Фонталва посоветовал вести дело спокойно и разумно. Начальство с ним согласилось, и вот он здесь — миротворец с оливковой ветвью в руках.
Как бы то ни было, он заметил, что Ловадеуша в известной степени тронула искренность его слов, тем более что все говорилось к месту и весьма дипломатично. Именно мягкостью, как он слышал, полковник Рондон сломил сильное и дикое племя индейцев намбикуара. Без единого выстрела, без единой царапины. Если и он будет так действовать, крестьяне в конце концов согласятся.
Уже подходя к деревне, они увидели, как по пыльной траве замелькали словно в клочья разорванные тени — это с карканьем пронеслась стая ворон, появившаяся с востока. Когда стая уже была над домами, на дороге показался огромный, пестро размалеванный, грохочущий фургон и испуганные птицы свернули
в сторону Коргу-даш-Лонтраша. Мануэл обратился к Сесару Фонталве, который на время перестал жонглировать своими доводами и аргументами:
— В Тойрегаше звонят, даже здесь слышно. А вороны полетели за червями да насекомыми… К жаре!
Рядом с джипом, в котором, облокотившись на баранку, в великолепной позе Дон-Жуана, сидел Шиншим, Сесар Фонталва остановился. Неужели он так и уйдет, не увидев больше, как развевается красный платок малютки?!
Поблагодарив Мануэла за любезность, которую тот оказал согласно требованиям этикета, инженер тяжело и вяло влез в машину. К сожалению, кое-что повидавший Мануэл был не из тех горцев, что хватали инженера под руки и с подобострастными поклонами всячески старались затащить к себе в дом: «Бедно живем, так что не взыщите».
Звук мотора нарушил сонную тишину деревни. Фонталва кивнул Мануэлу на прощание.
— Сеньор Ловадеуш, между нами говоря, мне не очень хочется останавливаться у Жулиао Барнабе. А здесь ни у кого нельзя остановиться? Мне было бы удобнее…
Ловадеуш внимательно посмотрел на Фонталву и ответил, нахмурив лоб:
— Не знаю…
— Мне нужно устроиться, пока не будет какого-нибудь постоянного жилья…
— Понимаю. А Гнида действительно пускает кого угодно, лишь бы хорошо заплатили.
— Не нравится мне этот тип. И сынок его показался мне настоящим ослом и негодяем. Какой топор, такие и щепки, или лучше сказать: какие щепки, таков и топор.
— Младший на ножах с моим парнем, но это дела не меняет, все равно он негодяй. А Гнида, его отец, бессовестный, трусливый мерзавец. Но вы не бойтесь, он не поступит, как хозяин постоялого двора в Феррейриме, который, говорят, убил двух подвыпивших погонщиков, когда они спали, и закопал их тела в кустах.
Оба рассмеялись, а затем Фонталва сказал:
— Я сплю чутко.
— Впрочем, если хотите, приходите к нам. Правда, дом у нас старый… тесный…
Наступила короткая, многозначительная пауза, после которой, словно выстрел, прозвучали слова инженера:
— Послушайте! Сдайте нам клин в Рошамбане!..
Мануэл Ловадеуш молчал, казалось прислушиваясь к голосу сердца. Глядя на инженера, не спускавшего с него глаз, он ответил:
— Посмотрим! Отец решит.
Джип умчался в направлении Буса-до-Рей, подняв облако пыли и разогнав кудахтавших кур, которые устроились чистить перья в тени машины.
ГЛАВА V
— Не знаю, помните ли вы, отец, я писал вам из Кампинаша, что решил идти дальше? Мой приятель, Пауло Серодио, из Трофы, тот самый парень, которого я однажды спас от смерти, когда он тонул в реке Тиете, такой же бродяга, как и я, прожужжал мне все уши, что на притоках и рукавах Арагуайи и Парагвая растет дерево, у которого вместо листьев золотые монеты. Но это далеко, очень далеко — за реками и горами, за сертаном, — на самом краю света, и меня пугала эта даль. Иисус Мария, ведь все равно что в ад спуститься! Но Серодио твердил: «Ты подумай, на гаримпо мы в момент разбогатеем. Нужно только, чтоб было везение и зоркие глаза!» Гаримпо — это прииски, где моют золото и главным образом драгоценные камни, которых много в песке рек и ручьев. Сан-Пауло я сыт по горло. И городом Сан-Пауло и штатом Сан-Пауло. Там, на кофейных и разных других плантациях мы никогда не выбились бы в люди, поверьте мне. Теперь мы старались экономить: маниоковая каша и кусочек вяленого мяса, никаких женщин, никаких гулянок. Только уж если заработаешь неплохо — отдашь на складчину свою пару монет, поэтому каждый месяц я клал в банк тысячу крузейро, а то и две. Жил надеждой, что, когда соберется приличная сумма, скажу я Бразилии «прощай» и прочь оттуда. Но, черт побери, случилось со мной то, что случается с тем, кто прячет кусок льда в сумку и идет с ней в сертан: растаяли мои денежки. Растаяли в банке за неделю, и я и не заметил как. Растаяли сами собой, а как это случилось, я и сам не знаю. Словом, отец, лег человек богатым или хотя бы состоятельным, а проснулся — гол как сокол. Когда я узнал об этом, я целые ночи напролет вертелся на своем тюфяке и спать не мог, рвал на себе волосы, рыдал. Но слезами делу не поможешь. Серодио грозился выпустить кишки одному из тех толстопузых, которые заправляют в банке. Но я его убедил, что этим дела не поправишь, и он успокоился. Говорят, эти финансисты были вроде тех главарей крупной шайки, которая держала притоны в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, болтали даже, что один из них в самом Катете и знаком с Варгасом
[15]. Я часто слышал от старших, что невезение можно одолеть только силой и умением, поэтому спросил Серодио, своего товарища:
— Ты еще не раздумал попытать счастья в сертане?
— Наоборот, хочу еще больше.
— Вот моя рука, я с тобой. Хоть туда, хоть к самому дьяволу в зубы!
— Помни, Мануэл, на гаримпо мы быстро разбогатеем, сердце мне говорит, что сама фортуна зовет нас. Представь, я даже вижу ее, она мне кажется этакой полуголой красоткой, которая приглашает заглянуть к ней. Бесстыжая сука!
— Ну так поехали!
— Я, пожалуй, возьму Матурину…
— Но ведь у тебя дома есть невеста, а ты берешь эту негритянку! Отвяжись ты от нее. Бабы там у тебя будут, найдешь себе такую индианку — пальчики оближешь.
— Нет, она должна ехать. Кто мне белье будет стирать и штопать? А готовить? Кто будет за вещами смотреть? Только затем я ее и беру. Стирать, штопать, суп варить. Поверь, между нами ничего нет.
— А она говорит совсем другое…
— Врет, дура.
— Не понимаю! Ты собираешься жениться на честной девушке и не хочешь отделаться от этого чучела.
— Оставь, приятель. Она нужна мне. Могу тебе поклясться, что о невесте я не забываю ни на минуту. Она ждет меня там, в Португалии, чистая, как снег. А здесь снега нет, только чернокожие. Надо все попробовать. А вернемся к себе на родину, забудем об этом.
И, правда, в тех краях отношения между мужчиной и женщиной совсем другие. Я уступил. Но знаете, что стало с ним? Эта бабенка в свои тридцать лет была настоящей обезьяной, такая распутная, и наставляла ему рога со всяким встречным и поперечным, никому не отказывала. Он колотил ее иногда, как собаку, но от этого толку не было. Я слышал, не помню от кого, что она опоила его каким-то зельем. Как бы то ни было, за ней всегда волочилось полно негров и даже мулатов. Я не знаю, что было в ней особенного, и никогда не понимал, чем она их всех привлекает. Так и шли мы втроем по реке Бауру до Кампо-Гранди, где у нас жратва кончилась. Нанялись мы тогда лес рубить к одному богатому типу, консулу Португалии. Будь они прокляты эти края! Земля красная, как гранат, и уж если прилипнет к башмакам, не оторвешь. А когда дождь начинает лить, промокаешь насквозь, зуб на зуб не попадает, как у нас в горах, когда наступают холода. Работали мы там, как черти, а концы с концами еле сводили. Целый день в лесу москиты житья не дают, всю ночь от страха трясешься — ягуары и другие звери охотятся за людьми и никакого внимания не обращают на костры, разожженные вокруг ранчо. Как-то в зарослях я наткнулся на змеиное гнездо. Они свились в клубок, из которого торчали лишь две головы, а из пастей дрожащие языки. Их было много, я не мог оторвать от них глаз и остановился без кровинки в лице, почувствовав, что меня тошнит. Стволы некоторых деревьев, вроде жатоба́ и «негритянского сердца», были так тверды, что топор выскакивал из рук, словно ударялся о железо, а после двух ударов так зазубривался, что годился только на то, чтобы рубить тень от деревьев. Точить его было бесполезно.
— Похоже, нам отсюда живыми не выбраться, — сказал через неделю Серодио. — Нас обманули, этот консул — скупердяй. Не знает, куда деньги девать, а платить больше не хочет, хотя б мы сдохли. Я твердо решил: ухожу отсюда, и все тут.
— Пойдем вместе.
С пустыми котомками за плечами пошли мы в Куиабу — столицу штата Мато-Гроссо. Однажды в воскресенье я очутился на мессе, которую служил польский священник. Мне показалось, что я снова на родине. Святые — такие же, как и у нас, а падре напомнил мне Исидоро Кападиньо, который только и знал, что в носу ковырять да вшей бить. Сколько лет я не слышал мессы, святой боже! Вместе с молитвой летел я на родину и только стыд помешал мне заплакать. Когда месса кончилась, мы вышли в сад, чтобы послушать, как поют птички на пальмах, и нам было приятно до слез, словно пели наши дрозд и соловей.
Какой-то человек медленно подошел к нам и сказал:
— Слушаете жоао-до-барро? Это вон тот желтый, большой лентяй и щеголь. Поет так, что растаять можно, а другой, тот, что с краю доверчиво смотрит на вас, азулао. Никогда таких не видели?
— Нет, не видели. У нас на родине таких нет.
— Я вижу, вы португальцы… Я тоже. Здешние редко на птиц смотрят. Наверно, работу ищите?..
Мы кивнули, и он сказал:
— Слушайте, друзья, много народу работает в верховьях рек и на приисках, где добывают драгоценные камни и моют золото. Я уже ходил туда и по контракту, и для себя работал, но мне не везло. Был и недалеко отсюда, на реке Куиаба, там тоже не лучше. Законтрактовался я тогда в Санта-Рита-до-Арагуайя и отправился за алмазами в Шападинью на всем известную фазенду Кампо-Бонито. Не слышали? Что там было хорошо, так это бабы: и негритянки, и мулатки. И все были очень сговорчивые, у них от хозяина было задание удерживать мужчин. Многие не вернулись оттуда! Ну, а я решил, что сын моего отца не дурак, заработал денег, чтоб на дорогу хватило, и смылся оттуда подальше. Мой приятель Рафаэль — испанец с Балеарских островов, — промывая песок, нашел драгоценный камень больше чем в двадцать каратов. Унести его он не мог, — слишком много было глаз, тогда он вдавил его ногой в землю, а сам пошел копать дальше. Один кабокло
[16] заметил это, но не подал вида и ночью явился со своей лопатой на то место. Там они и столкнулись; Рафаэль начал выкапывать камень руками, а кабокло тут как тут. Рафаэль стал кричать, что он вор, и тот набросился на него. Но Рафаэль, парень бывалый, выхватил мачете. Однако и кабокло был не промах, он дрался с такой силой и яростью, что было ясно: кто-то из них живым не уйдет. Рафаэль по самую рукоятку всадил нож ему под сосок.
Пришлось испанцу смотаться в лес, ведь теперь не только правосудие, но и все цветные были против него. То ли он заблудился, то ли его убили, но никто не видел его больше. Кто-то говорил, что он попал в плен к диким индейцам, которые живут в горах Паресис и называют себя намбикуара, будто они держат его на мельнице. А на приисках Кампо-Бонито, если я что и заработал, так это венерическую болезнь, которая теперь не расстается со мной, потому что она у меня в крови, уже не говоря о лихорадке. Бросил я ремесло старателя, оно лишь каторжникам подходит. Проклято оно богом! Богатеют там только те, кто душу дьяволу продает. Так неужели вы, приятели, тоже хотите дать ему расписку кровью? Нет, душа наша принадлежит творцу небесному и святой деве Марии.
— Истинная правда, — согласились мы в один голос. — Кто же променяет, даже на все богатства мира, душу, принадлежащую богу?
— А когда разбогатеешь, можно порвать эту расписку? — еле слышно спросил Серодио, который был очень набожным.
— Вот этого я не могу сказать, — ответил незнакомец. — Зато знаю, где есть хорошая работа для свободных людей. Хотите? Вам дадут аванс и инструмент. Вы будете искать каучук для одного голландца, который держит лавку в Сан-Луиш-ди-Касереше. Будете собирать каучук, это нетрудно. Работать придется в лесу, но вы ни в чем не будете нуждаться, ни в чем! Бабы тоже будут — черные, индианки и даже белые.
— Нет, сеньор, — возразил Серодио этому обольстителю, — спасибо. Мы уже законтрактовались. Если б немного раньше, мы бы подумали, но теперь поздно, даже если вы предложите нам место казначея в государственном банке. Мы идем к реке Гарсас, на фазенду Жабутикабал, и, видимо, так господь хочет.
— Вы потом пожалеете…
— Может быть.
— Никому не живется лучше, чем сборщикам каучука.
Хитрость этого человека мы сразу раскусили. Серодио знал в Кампо-Гранди одного кабокло, который с детства собирал каучук, работал как вол и с каждым годом все больше увязал в долгах. Нищета пожирала его, как раковая опухоль. Хозяин давал ему в долг рис, фасоль, кофе, вяленое мясо, курево, соль, и если год был неурожайный и каучука собирали мало, то денег не хватало даже расплатиться за еду. А если урожай был богатый, то хозяин снижал цены на каучук, а на продукты взвинчивал так, что долг все равно нельзя было покрыть. Так или иначе, а сборщики всегда оказывались ему должны. Получалось, что если ты завербовался и сделал первый сбор, из его лап уже не вырвешься. Это был заколдованный круг.
— Никому не живется лучше, чем сборщикам каучука… — снова повторил он.
— Ну и что ж, ведь мы уже завербовались. Если бы не это, можно было бы поговорить. Прощайте и не обижайтесь.
Однако вместо того чтобы пойти на реку Гарсас, которая была у черта на куличках, вдали от людей и жилья, там, где свирепствовали индейцы и лес кишел ягуарами, мы остановились поблизости от города, на реке Кошипо. Были еще прииски на реке Куиаба, которая протекала совсем рядом, но мы прослышали, что ранчо там плохое, хозяин — вор и люди пропадают ни за понюшку табаку. К тому же говорили, что на реке Кошипо россыпи богаче. Если там и не было алмазов, зато были аметисты, на которые тоже большой спрос.
Мы сделали заявку на долину реки Кошипо и ее притоки и увязли в этом деле с головой. Сатанинская жизнь! Хуже собачьей! Стоишь по пояс в яме и перебираешь породу, просеиваешь ее через грохот, смотришь в оба, как курица, которая выискивает зерна. Дни шли, а мы еле наскребали на стаканчик. Так продолжалось долго. Подружка Серодио тоже ходила работать, но она была совершенно бессовестная и не раз воровала камни и отдавала их белым, ибо не было мужчины, который удовлетворил бы ее похоть. На ранчо из-за нее то и дело разгорались скандалы. Если ей приспичит, она ложилась с первым встречным. Но была она бабой сильной, крепкой и страстной, и не было, как говорили все, кроме меня — ведь я ни разу не имел с ней дела, — лучшей подружки, чтобы приятно провести ночь. Мы работали от зари до зари и только и мечтали, как бы выспаться, но часто комары не давали нам сомкнуть глаз. А болезни? Один раз Серодио подцепил клеща, и мы с ним порядком намучились.
К концу первой недели результаты наших поисков были плачевные. Мы чуть не умерли от голода, ведь в сертане умирают от голода, даже если вокруг растут бананы и кокосовые орехи. Голодный бросается на все — на мясо броненосца, ящерицы, корни маниоки. Сотни людей бродили по руслу реки, которая почти пересохла в эти месяцы, когда у нас стоит зима. Вы даже не представляете, что это такое. Каждый тащит породу и промывает ее в ямах с водой, которые еще кое-где уцелели. Потом из ям выбирают грязь решетом или миской, и те, кому повезет, находят алмазы или аметисты. У негритянки Серодио были глаза рыси и душа ведьмы. Иногда случалось, ей чертовски везло. Мы, как и другие старатели, построили хижину из жердей и покрыли ее сухими листьями. В одной половине жил Серодио с негритянкой, в другой — я. Баб там хватало. А Матурина, эта вертихвостка, не раз пыталась лечь со мной, но не на того напала. Как я уже сказал, она спала и с белыми, и с кабокло, даже самый никудышный негр годился ей, если не было других. Но кто пренебрегал ею, становился ее врагом. А над одним тамошним негром, Леонсио до Жауро, который работал на прииске и постоянно волочился за ней, она прямо-таки издевалась. Был он смелый, злой, сильный, с приплюснутым носом и вывернутыми, толстыми губами. Здоровенный парень. В драке никто с ним не справлялся. Один антрепренер из Парагвая предлагал ему выступать на ярмарке, но он отказался. Разлучить его с Матуриной было все равно, что убить его. На наше несчастье, он прямо прилип к ней. И хотя я перемывал породы больше, чем они оба, иногда ночью и мне было не до сна. И все же это была не та жизнь, о какой мы мечтали!
Однажды я бросил все свои дела и пошел вверх по одному из рукавов реки, который извивался среди зарослей камыша и кустарника. Там все вокруг кишит всяким зверьем, так что нужно было соблюдать осторожность. На болотах водятся ягуары, ядовитые змеи, а в иле — пираньи. Пиранья — это пиявка, но только большая, с острыми как бритва зубами. Если такая рыбка укусит человека, он истечет кровью и погибнет, Их там множество, и они мгновенно приплывают черт знает откуда, словно им дали сигнал. Шел я, шел и вдруг натолкнулся на Матурину. Увидев, как я рублю лианы и вьюны, она кокетливо сказала:
— Мануэл, вы так устали…
— Отстань от меня, чертова баба.
— Отстану, пожалуйста, но я не чертова. Я того, кто меня крепко любит, а вы не любите…
— Отвяжись!
— Эх ты, дурак, — она отвернулась.
К вечеру я обнаружил русло речушки, сухое-пресухое, забитое мелкой галькой, в таких местах обязательно должны быть драгоценные камни. И они там были. Я осторожно, чтобы никто не заметил, позвал Серодио, который был на другом берегу Кошипо, и показал ему находку:
— Здесь алмазы. Завтра вы скажете, что я остался на ранчо, заболел лихорадкой, а я приду сюда.
Так и сделали. За ночь я один нашел алмазов больше, чем мы трое за все время, что были там. Чтобы не привлекать внимания, мы по очереди, один день Серодио, другой я, то ссылаясь на лихорадку, то на вызов в контору, ходили к нашему тайнику. Однако нам пришлось принять в долю и негритянку, иначе она не стала бы молчать. Ну и поработали же мы! Через два года каторжных трудов и всяческих ухищрений у нас был целый мешочек камней — почти все алмазы и много аметистов. Один алмаз был с голубиное яйцо, а другой еще крупнее, пожалуй с куриное. Мы прикинули и решили, что один из камней весит больше тридцати каратов и вместе со вторым, который был без единой трещины, составляет целое состояние.
Вечером того дня, когда нам попался этот крупный камень, Серодио плясал с Леонсио до Жауро, Матуриной и всей братией. Затем он велел принести водки, все напились, а негр больше всех. Серодио взял гитару и запел, перебирая струны:
Моя черная, моя черная,
Моя черная!
Если я попрошу,
Моя черная,
Ты позволишь
Твой ротик поцеловать,
Моя черная,
Там на ранчо,
Моя черная,
Под персиком,
Моя черная.
Так люблю, так люблю я тебя,
Моя черная.
Он был пьян, и ему взбрело в голову, что Матурина должна спать с Леонсио.
— Переспи с ним, Матурина! Утешь ради меня бедного негра…
— Бессовестный! Я тебе не посудина поганая!
— Нет, у тебя сердца!
— Может быть, но я не пойду ко всякому!
Леонсио воспринял это как насмешку и разозлился. Он бросился на Серодио, но мы не могли допустить, чтобы негр его убил. Негра так отколотили, что к нарам его пришлось вести под руки.
В Куиабу приезжали торговцы камнями, обычно голландцы и немцы. Мы знали, что они сбивают цены, утверждая, будто один камень не чистой воды, другой с пятнами, третий после шлифовки будет никуда не годен. Поэтому мы старались продать им поменьше, лишь бы выручить на самое необходимое. К черту этих скряг! Мы были богаты, но наше богатство еще нужно было получить. В этом была вся загвоздка, и это заставляло нас призадуматься. Мы решили кое-что сбыть на месте, а потом осторожно, чтобы не вызвать подозрений, поехать в Сан-Пауло и продать там остальное. Так и сделали, продали мелочь и припрятали все, что за два года было добыто двумя жадными до работы мужчинами, но и эта мелочь принесла нам добрую пригоршню монет, которую мы разделили по-братски. Накануне отъезда я пошел в Куиабу купить себе костюм, поскольку походил на бандита с большой дороги. Вернувшись, я нашел ранчо Серодио запертым, никто не мог мне сказать, куда девались он и его негритянка. Я решил, что он тоже пошел по магазинам, и стал ждать. Ночь миновала, а они не появлялись, я уже не на шутку переволновался, пошел на ранчо, взломал дверь и увидел, что внутри пусто. Сердце мое остановилось, и я сказал себе: «Ну, Мануэл, кажется, тебя обокрали!»
Тогда я побежал спросить хоть кого-нибудь, поднял шум, да поздно. Они направились просекой в Касереш, и я сразу понял, что из порта на Парагвае они удерут в Аргентину или еще куда-нибудь подальше. Нанял я лошадь, хотя нет, купил, потому что нанять стоило нисколько не дешевле, а я и так еле наскреб денег. И как только наступило утро, ибо ночью одному в лесу опасно, поскакал. К вечеру добрался до селения, которое называется Носса-Сеньора-до-Ливраменто и стал расспрашивать. Но никто их не видел.
Я вернулся назад. Помчался в другое селение, куда они могли убежать: Санто-Антонио-ди-Леверже. Там их тоже не видели. Прошло два дня, я поехал в городок Поконе, до которого было километров двадцать. Там то же самое. Я метался в отчаянии и наконец решил позвать на помощь полицию и местных жителей, пообещав хорошо заплатить им, хотя у меня не было ничего, кроме горстки монет, доставшихся мне, как я уже говорил, после продажи камней голландцу. Я отдал их, не задумываясь. В конце концов меня охватила такая ярость, что у меня началась лихорадка, и я два дня не мог шевельнуться. Меня мучали кошмарные сны: то Серодио убивал меня, то я убивал Серодио, негритянка плясала свои обрядовые танцы и продавала мою душу дьяволу. Когда благодаря хинину я наконец поднялся, я уже не думал о потерянном и жаждал только мести. Но как ее осуществить? Прошло больше десяти дней, и эти негодяи, наверно, были уже далеко. Леонсио до Жауро все это время ходил мрачный и хмурый и, как я полагал, тоже был не прочь поймать беглецов, и, надо сказать, с его собачьим нюхом это ему удалось. Однажды вечером он подошел ко мне и сказал:
— Сеньор Ловадеуш, я знаю, где Матурина…
— Знаешь?! А Серодио?
— И Серодио там.
— Где же они?
— За рекой Мортеш, на западе.
— Черт побери, в самом аду…
— Не совсем так, сеньор, но если туда идти, нужно пробираться по склону очень высокого хребта Ронкадор…
— Откуда ты знаешь?
— От одного сборщика каучука, который добывал его для голландца…
— Ты уверен?
— Да. Судя по всему, это они.
— Можешь провести меня туда?
— Я как свои пять пальцев знаю эту дорогу, даже за Ронкадором. До Пусорео идет проезжая дорога, а дальше просека. Я собирал каучук в тех местах. Только вот что, идти придется низиной, в горах бродят ягуары и, может быть, даже дикие индейские племена.
— Собирайся, я заплачу как следует. Только пошли побыстрее.
— Я готов.
— Если проведешь напрямик, получишь сапоги и еще кое-что.
— Хорошо, сеньор. Но позвольте мне убить Серодио.
— Нет. Он мой…
— Нет, я убью его. Серодио меня обидел… Он меня презирает…
Положил я ружье и патроны во вьюк, нож заткнул за пояс; Леонсио пешком, а я верхом отправились к хребту Ронкадор, который был далеко к северо-западу, раза в два дальше, чем отсюда до Шавеса, а может, и того дальше. Пока мы двигались, Леонсио рассказал мне, сколько ему пришлось обойти да расспросить, чтобы узнать, где укрылась наша парочка. В конце концов он встретил сборщика каучука, который знал это. Когда я выслушал рассказ негра, мои прежние подозрения усилились, превратившись в уверенность: Серодио было известно, как рьяно я разыскиваю его, однако, не зная, где он, и он укрылся в лесу, бандит этакий. Несколько дней бродил он вокруг Куиабы, прячась в зарослях и выжидая, что будет. Узнав, что я поднялся после болезни и больше мне ничто не мешает его разыскивать, он решил, что ему лучше убраться подальше. Унес ли он с собой драгоценные камни? Дьявол нашептывал мне, что ни за что на свете он не станет держать их далеко от себя. Вор всегда носит при себе свою добычу. Я спрашивал себя, что же мне делать, и не находил ответа. Я не мог поставить себя на место вора, потому что никогда им не был, и не знал, куда он отправился и что думает делать, но был твердо уверен, что камни он унес с собой.
— А ты не ошибся, Леонсио?
— Нет, сеньор.
Это я знал, пожалуй, лучше его самого. Леонсио Жауро шел по следам Матурины, поэтому я доверился негру, как слепец поводырю. Двигаясь, можно сказать, на ощупь, раскладывая на ночь большие костры, продираясь по тропам, проложенным сборщиками каучука, питаясь медом и пальмовыми побегами, мы добрались однажды вечером до хребта Ронкадор. Оттуда слышался беспрерывный рев ягуаров. Каждый раз, как этот рев доносился до нас, лошадь вздрагивала, словно ее прижигали раскаленным железом. Видно, там было много всякого зверья, и я подумал, не потому ли этот хребет назвали Ронкадор
[17]. Поднялись мы на одну вершину, такую же голую, как наши горы, и я стал оглядывать окрестности. Посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую: кругом густые заросли деревьев, кустарника, громоздятся горы, как в день сотворения мира.
Мне показалось, что вдалеке взлетела стая цапель, наверно, так оно и было; солнце ярко освещало их, да и облака не могли так быстро нестись. Долго простоял я на вершине; Леонсио, державший лошадь за уздцы, был рядом — может быть, он молил бога избавить меня от отчаяния, а может, поняв мою мысль, тоже всматривался вдаль. И вот, уж не знаю, к счастью или к несчастью для меня, я увидел столб дыма, который поднимался с берега реки в нескольких километрах от нас. Я показал его Леонсио. Негр на какой-то миг замер, внимательно вглядываясь, потом воскликнул:
— Это они, сеньор!
— Может быть, это индеец… или сборщик каучука?
— Что вы, сеньор Ловадеуш! Индейцы зажигают огонь только в своих стойбищах, а сборщиков тут нет…
Я согласился с ним, и мы поскорее пустились к тому месту напрямик, словно ястребы за добычей. Мы еле держались на ногах, ибо крюки все же приходилось делать, и мы потратили больше двух часов. Наши руки и лица были расцарапаны в кровь колючими шипами. Когда мы подошли совсем близко, я приказал Леонсио остаться с лошадью, а сам с бьющимся от волнения сердцем стал пробираться по чаще. Скоро я увидел бамбуковые заросли у реки и спрятался в них. Святой боже, негр был абсолютно прав: это были они. В груди у меня закипело. Бог могущ, но и воля человека тоже немало значит. Серодио сдирал шкуру с броненосца, а негритянка с кокосовым орехом шла к реке за водой. Я стал приближаться к ним, то прячась за карликовые пальмы, то крадучись в высокой траве, нож я держал в зубах. Когда до Серодио оставалось шагов шесть, я прыгнул не хуже ягуара. Серодио от неожиданности оторопел, он даже не разобрал, кто напал на него: то ли индеец, то ли хищный зверь. Я повалил его и уперся коленом ему в грудь, одной рукой я схватил его за шею, другую, в которой был нож, занес над ним. Серодио от страха не мог шелохнуться и только таращил глаза.
— Твоя жизнь на лезвии этого ножа. Где то, что ты украл?..
Он не ответил ни слова.
— Молчишь? Прощайся с жизнью.
Я почувствовал, что он шевельнулся и тяжело задышал, очевидно пытаясь высвободиться. Но силы были неравны — я был вооружен и к тому же несравнимо сильнее его, и это он отлично знал, так как однажды мы с ним боролись. Видя, что он слабеет, я разжал пальцы, словно клещи охватившие шею Серодио. Хриплым голосом, похожим на стон, он еле выговорил:
— Не убивай меня. Я отдам тебе все…
— Мне всего не надо. Я хочу только свое…
Эти слова должны были тронуть его, если бы в нем оставалось хоть немного совести. Но он воспользовался ими, чтобы обмануть меня и выиграть время, он уцепился за них, как утопающий цепляется за соломинку; к счастью для себя, я это понял.
— Ты хочешь получить только свою долю? — спросил он. — Прошу тебя, не убивай, и все будет твое!
— Я уже сказал, прикажи негритянке принести камни…
— Они на ранчо.
Мне показалось, что его взгляд задержался на стволе огромного ветвистого ипе с большим дуплом, которое они превратили в жилище. Здесь подбежал Леонсио, привязал лошадь и, пораженный, уставился на нас, потом он заметил Матурину, которая в растерянности стояла поодаль.
— Леонсио, пойди посмотри, что в дупле…
Негр бегом бросился к дереву, осмотрел дупло и крикнул:
— Э-э! Тут ничего нет.
— Посмотри, где мешок…
Я имел в виду кожаный мешок, в котором мы хранили наши сокровища. В таких мешках тамошние жители носят все: и одежду, и бананы, и даже спелые арава — фрукты, растущие прямо на земле. Но где он, этот мешок? Леонсио искал его повсюду, но тщетно.
— Спроси Матурину…
Леонсио кинулся туда, где стояла Матурина. Зная ее похотливый нрав, я очень опасался за Леонсио; стоило ей состроить глазки, и он сразу потеряет голову, а ведь он и так был без ума от нее. Однако она бросилась в сторону с криком:
— Паршивый пес! Что тебе от меня надо?
Но потом вернулась, а Леонсио рассмеялся и показал пальцем на дерево.
— Смотри!
Над его головой, на ветке ипе, висел мешок. Леонсио поспешно вывернул его, а мои глаза жадно следили за его движениями. В мешке никаких алмазов не было.
— Серодио, — снова заговорил я, — где камни?
— Они надежно спрятаны на ранчо. Зачем бы я взял их сюда? Чтобы они попали в лапы индейцев или сборщиков каучука?
— Ты брешешь, как собака, Серодио. Вор добычу всегда при себе носит…
— Пусть Матурина скажет… Она знает.
Несколько раз я готов был всадить ему нож в сердце, как кабану. Тогда он принимался стонать, плакать и при этом не делал ни малейших попыток удрать. Он был большой хитрец и совсем не глупый парень и, видимо, решил, что таким образом скорее сможет выйти из создавшегося положения. Он выигрывал время, а быть может, надеялся на счастливый случай, который таким канальям, как он, всегда помогает в самую последнюю минуту. Вот он услышал, как я заскрежетал зубами, и снова начал умолять, повторяя одно и то же:
— Поверь мне! Твоей матерью, отцом, женой и детьми заклинаю, не убивай! Я отдам тебе твою долю, можешь взять и мою. Не хочешь? Не убивай меня! Опомнись! Ведь своими руками ты прольешь кровь брата, и нет такой воды, чтобы смыть ее. Не убивай меня! Я женюсь на твоей дочери… буду твоим рабом…
— Где камни?
— На ранчо остались. Пойдем туда, ты возьмешь их! Все возьмешь…
Я прикинул, ну убью я этого вора, а потом что? Не знаю, какое чувство испытывал я к этому мерзавцу, лежавшему подо мной, что думал Леонсио, с дрожащими руками и разинутым ртом стоявший рядом, что думала негритянка, лицо которой выражало презрение, смешанное с испугом!.. Не знаю. Во всяком случае, мною руководила не жалость. Жалость человек может испытывать, если у него все в порядке, несчастье ему не грозит, дела его идут хорошо, все дороги перед ним открыты, короче говоря, когда его звезда в зените. А в то время я сам нуждался в жалости — бог или дьявол должны были пожалеть меня, как они жалеют других! И разве я мог пожалеть это ничтожество? Нет, я не боялся отправить его в ад. Чего мне было бояться? Закона? В сертане законов не существует. Бога? В то время я его уже не боялся. Наверно, отчаяние, охватившее меня, не дало мне поднять на него руку. Что мне стоило убить этого подлеца? А зачем? Впрочем, не только отчаяние — я надеялся вернуть свое. В тех краях словам верят мало, а то и вовсе не верят, но я все же принял решение:
— Я свяжу тебе руки, и ты пойдешь впереди меня до самой Куиабы.
— Вяжи!
— Давай!..
— А знаешь, я обокрал тебя, потому что думал, что ты хочешь сделать то же. Но ты открыл мне глаза, я ошибся, прости. Прости ради твоей матери!
— Ничего не хочу слушать. Ну, дашь себя связать?
— Вяжи!
Я знаком приказал Леонсио помочь мне. Когда он понял, как я собираюсь мстить этому негодяю, он снял с пояса веревку, которую в сертане всегда носят рядом с ножом, и сказал мне:
— Сеньор Ловадеуш, если у вас духа не хватает убить его, дайте мне…
Мигом я скрутил Серодио руки, связал их за спиной и отдал конец веревки Леонсио, но тут Матурина бросилась на нас с раскрытым ножом Серодио.
— Держи! — крикнул я негру. — У тебя он не убежит!
— Ни за что, сеньор! Я и с быком справлюсь.
Матурина неслась, словно слепая, и мне ничего не стоило дать ей пинка в живот и столкнуть ее в лужу у берега речушки. Она проехалась на боку и, едва выбравшись из грязи, завопила:
— Ты меня убил, бандит!
Дело принимало серьезный оборот. Матурина бежала вверх по реке, туда, где я не мог ее догнать, и орала во все горло на своем наречии:
— Что, проклятый, камней захотел? На вот, посмотри! Вот они! Они у меня здесь!.. — и, нагнувшись, задрала юбку.
Я не мешал ей вопить, а сам в это время осматривал дупло ипе, кустарник и траву вокруг. Наконец негритянка успокоилась и дала мне подойти совсем близко.
— Матурина, ты знаешь, где камни? — спросил я. — Знаешь? Серодио принес их с собой или оставил в Кошипо?
— Не знаю, проклятый, ничего не знаю! А знала бы, все равно не сказала!
— Ну скажи… Со мной будешь… Разве ты не хотела этого?
— Ничего мне от тебя не надо! Видеть тебя не могу, проклятый!
— Что я тебе сделал плохого? За что ты на меня с ножом бросилась? Или ты на Леонсио?
— Причем здесь Леонсио?! Леонсио — это кобель, который сам не знает, что делает.
Я дал знак Леонсио, и он, как вьючную лошадь, погнал перед собой Серодио. Матурина стояла в нерешительности.
Я спросил:
— Идешь с нами или остаешься в этой глуши?
Мы двинулись: я на лошади, с ружьем в левой руке, чтобы сразу стрелять, если Серодио придет в голову бежать. Для большей уверенности Леонсио не отпускал веревку. Негритянка стала собирать свои пожитки.
Шли мы весь день и заночевали на берегу реки, под обрывом. На следующее утро Матурина и Леонсио пошли в лес набрать плодов и еще чего-нибудь поесть. Они принесли бананов и меду. Противно было смотреть, как Матурина кормила Серодио, словно младенца. Через два дня, в течение которых я с трудом терпел все это, Серодио сказал мне:
— Ловадеуш, развяжи меня, иначе Леонсио меня убьет. Я вижу, как он шепчется с Матуриной и бросает на меня косые взгляды. Сегодня ночью они оба ходили в лес и, могу поклясться, потешились там. Я мог бы убежать, если б захотел. Ты спал, как бревно.
— Гм, она видеть не может этого черного…
— Она настоящая шлюха, а я связан, вот Леонсио и пригодился.
— Возможно. Но больше я не позволю им вместе ходить в лес. Будут ходить отдельно.
На следующий день я велел Леонсио набрать плодов, а Матурину послал стирать в луже наши рубашки. Негр долго не появлялся, и я отправил Матурину искать его. А когда и она пропала, я сам пошел искать их, но не нашел. Тогда мне пришла мысль, в которой я побоялся себе признаться, и я повернул обратно. Серодио лежал на земле, а в его груди, вонзенный по самую рукоятку, торчал его собственный нож. Моего коня не было.
Я проклял свою судьбу. Черт побери, когда же я перестану быть дураком? Почему мать не свернула мне шею, когда я появился на свет? Я рыдал, рвал на себе волосы, залил слезами окровавленную грудь моего неверного друга. Силы меня покинули, и я заснул прямо на мертвеце. Очнувшись, я сказал себе: «Ты убийца, Ловадеуш. Да, ты настоящий убийца. Леонсио поступил по твоему наущению. Ты сам его вооружил. Признайся, ты сыграл более подлую роль, чем центурион, охранявший Христа. Рука Леонсио лишь нанесла удар! Зачем же ты доверил ему нож? Более отвратительно нельзя было поступить со своим соотечественником».
Я горько плакал, подавленный своей жестокостью. Но в груди моей еще теплилось что-то светлое. Я закопал несчастного у болота, где земля мягкая, и двинулся в обратный путь наугад. Недалеко от Пушорэу, откуда одна просека ведет до Куиабы, а другая до Диамантины, мне сказали, что кто-то видел негра с негритянкой на лошади, скрывавшихся от какого-то белого, который прикончил в лесу своего приятеля и теперь хотел их убить. Все смотрели на меня с подозрением, и я сказал:
— Этот самый негр его и убил, а я гонюсь за ними, чтобы свершить справедливый суд.
Мой гнев был настолько велик и искренен, что ни у кого не возникло ни малейших сомнений и никто не стал мешать мне.
— Они поехали в Диамантину, — сказали мне. — Верхом.
Достал я себе лошадь и тоже собрался в Диамантину, но на развилке дорог остановился. Зачем мне гоняться за этими негодяями, не лучше ли повернуть на ранчо и там поискать камни? Через четыре дня я был в Куиабе, а еще через день, на рассвете, в Кошипо. Я копал землю, руками перебирал ее, влезал на деревья, искал в кустах, но ничего не нашел. Ровным счетом ничего.
Больше мне в Куиабе делать было нечего. Поехал я в Сан-Луиш-де-Касереш, откуда по реке Парагвай ходит пароход. Он уже собирался отчаливать. Взял я билет на старую посудину «Ладарио», которая плавает больше тридцати лет. Машинистами были парни из Пескейры, а капитаном один старый пират. В Асунсьоне у консула я поставил визу в своем паспорте и в Монтевидео сел на пакетбот, идущий до Португалии. И вот я здесь. Был я богатым, и случилось со мной то, что со святым Петром. Говорят, рано или поздно мертвые мстят. Серодио, хоть и остался на болоте, бродит тут, будто его тело выкопали урубу
[18], душа его молит о сострадании! Но мои руки не запачканы кровью этого человека. Не я его убил!
— Доктор Ригоберто говорит, что за жизнь человека никакими деньгами не заплатишь, — сказал старик. — Видно, так оно и есть. Но я одному все же кишки выпустил. Было дело. Не сдержался…
Сын ничего не ответил. Оба замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Уже темнело, две маленькие звездочки зажглись рядом с Венерой.
Мануэл Ловадеуш снова заговорил:
— Теперь, отец, слушайте дальше, осталось немного. Уже прошло несколько месяцев, я много думал о том, где вор мог спрятать сокровище. Знаете, где? Близехонько от того места, где стоял наш шалаш, на той же реке Кошипо. В норе броненосца!
— В норе броненосца… А кто это?
— Животное, которое роет в земле очень глубокие норы. Однажды Леонсио увидел, как броненосец роет нору, убил его, заровнял землю и сказал: «Вот и готов тайничок для кого-то». Как это я раньше не сообразил! А теперь уже Поздно. Мое богатство осталось там, глубоко в земле, там он спрятал камни. Как только он понял, что я слежу за ним, он спрятал камни и сбежал. Притаился, словно трусливый бандит в надежде, что страдания и тоска по родине заставят меня вернуться в Португалию. Он сбежал, не взяв ничего, но где-то он спрятал алмазы… Только там… в норе броненосца. Эта мысль у меня из головы не идет. Там он их спрятал! Там, могу поклясться!
— Как сказать, — заметил отец. — Ведь он помнил, что ты знаешь о норе…
— Что вы! Он об этом не думал, я уверен. — И, немного помолчав, Мануэл добавил: — Когда-нибудь, если удастся, я доберусь туда…
— Забудь об этом. Это тебе не по силам. Тебя ждет там смерть. А вдруг Леонсио ловушку для тебя приготовил? Распустил слух, что Серодио убил ты…
— Не может этого быть.
— Правосудие часто бывает несправедливым и слепым.
— Это верно, но я слышу, убитый взывает к нему, я должен смыть со своих рук кровь Серодио, потому что, хоть он и ничтожество, я виноват в его смерти. Я заслужу прощение, если сделаю благо для нашей деревни… и если правосудие не всегда справедливо, как вы говорите, все же часто оно бьет в цель. Голос Серодио может мне помешать, прости господи этого негодяя! Но не нужно его бояться! Сильнее его голоса голос, который зовет меня взять закопанное там богатство. Подумайте только… ведь его хватит, чтобы купить весь здешний приход… что там приход — целую округу.
Отец задумался.
— Брось ты это, — сказал он потом. — Забудь! Все это уже в прошлом… Не забивай себе голову мрачными мыслями. Дом мы закончим с божьей помощью.
— Не могу, отец, не могу! Эти камни слепят мне глаза. А если б вы знали, сколько они стоят! И какие красивые! И сколько можно сделать для деревни, продав их!
— Успокойся, сынок! Твоя жадность тебя погубит. Она не пускает тебя, словно тюрьма. Серодио так или иначе будет отомщен…
И отец и сын плакали, но слез друг друга не видели, потому что совсем стемнело.
ГЛАВА VI
Рубщики с мотыгами на плече, словно солдаты с винтовками, заходили в таверну выпить стаканчик водки, наполнить флягу вином, купить пачку крепких сигарет — и снова дальше! По утрам было уже холодно, и, когда они открывали дверь, врывался обжигающий ветер и на минуту повисал в воздухе прозрачным туманом. В эти хлопотные дни у Гниды и минуты не оставалось свободной. И Бруно, и Модешто, поступившие на службу в Лесную охрану, были далеко — ставили межевые знаки на границах участков. Прежде, хоть и нельзя было на них положиться, все же они помогали отцу кое в чем, особенно во время посевной. Теперь Гнида был один и по каждому пустяку ворчал на жену, которая стала неповоротливой. По его словам выходило, что оба его сына — мошенники первой руки, не боятся ни бога, ни черта и только и ждут его смерти.
Наступило время, когда после уборки кукурузы расчищают землю под пашню. Уже больше недели крестьяне работали в горах. Дни стали короткими, погода туманной и дождливой, поэтому из дома уходили на рассвете, перекусив чем попало, а узелок с завтраком брали с собой. Заходили по дороге в таверну, опрокидывали у стойки стаканчик и шли в горы. В таверне, хоть Гнида и капли даром не нальет, всегда полно народу. Позже один за другим появлялись завсегдатаи, дышавшие перегаром; воздух в помещении сразу пропитывался запахом самогона. Гнида не только наливал за стойкой, но и продавал спиртное оптом. Он сам гнал это зелье и для поддержания торговли отпускал в кредит. Продавал он и водку. Самогон он гнал из чего угодно — из виноградных выжимок, целые баки которых стояли у дверей, из дикого винограда, который рос у него на участке вдоль склонов, из вишни, из инжира, и говорили — даже из опилок. Как-то выдался неурожайный год, и продавать, кроме зерна и молока, было нечего. Крестьяне просто обомлели, когда Гнида постучал в калитку и предложил:
— Сколько возьмете за вишни в Казале, дядя Мануэл? Кварта хлеба устроит?
Вишневые сады были отрадой горцев. В тех краях природа балует людей только вкусными и сочными вишнями. Редкий сад не украшался, когда наступало время, пышными красными одеждами. Сочные, налитые вишни любят все, особенно мальчишки и воробьи, которые дерутся из-за ягод; даже скворцы и дрозды лакомятся вишней, и спелой и сухой. Красивей вишни в Португалии только апельсины; щедрей только мостажейро, растение с ягодами кирпичного цвета, напоминающими по вкусу то ли ваниль, то ли печенье; они жмутся к стеблю, грустные, как зимние горизонты плато, земля и небо которого их взрастили.
Смеющаяся, протягивающая свои ветви через заборы и стены вишня не могла не привлечь внимания сметливого Гниды, который задумал утолить ею свою страсть к деньгам. И в своей и в других деревнях, где вишни сколько угодно, он покупал ее целыми чанами за бесценок. И вот уже бочки полны! Есть чем торговать целый год! Тут же без промедления, вдохновленный удачно обделанным
дельцем, он набрасывался на инжир. Но сбор инжира, у которого много сортов, длится долго и проходит в разные сроки, поэтому Гнида, чтобы не терять времени, старался ободрать все сразу. Из зеленых, гнилых и подопревших плодов получалась такая отвратительная бурда, что у тех, кто ее пробовал, кишки наизнанку выворачивало. Но Гнида не привык упускать свое. Приходили продрогшие клиенты, с мокрыми носами, в карманах ни гроша, и, стуча зубами от холода, просили:
— Дядя Барнабе, налей-ка водочки, только инжирной не надо…
— Инжирной? Откуда она у меня, дорогой! Сколько торгую, все оставались довольны, редко кто повторить не попросит. А ведь за день у меня немало народу побывает.
— Может быть, но мне с моим желудком она не подходит…
Жулиао лез под прилавок, куда был незаметно проведен резиновый шланг. Посетитель мог считать себя счастливцем, если в его рюмке не оказывалось больше половины всякой дряни.
Благодаря таким уловкам и богател этот мошенник. А сам все чесался да проклинал свою жизнь — перхоть и гниды так и сыпались на его воротник.
От этого пойла крестьяне Урру-ду-Анжу распространяли вокруг себя дух, который далеко чувствовался. На плоскогорье было много деревень, и всех их охватить Гнида не мог, хотя многим ему удавалось всучивать бутылки со своей мешаниной. Правда, некоторые хозяева кабачков не хотели подмешивать в водку всякую дрянь и еще не научились разбавлять ее. На сенокос крестьяне обычно брали с собой бочонок с молодым вином или выдолбленную из тыквы бутылку с водкой.
В начале октября в горах работы много, Стуча подкованными деревянными башмаками, словно солдаты в походе, крестьяне расходились по холмам и лощинам. Мотыгами острыми, как косы, они обрабатывали и впадины, поросшие репейником и вереском, и пригорки, которые так любит папоротник, и кручи, где цветет дрок, несмотря на острые зубы зайцев и кроликов, которые грызут его корни и роют под ним норы. Рубщик продвигается, валя кусты и складывая их в небольшие кучки, чтобы их можно было подцепить вилами и ничего не рассыпать. Вечером эти кучки убирают. Снизу привозят повозки, которые благодаря своим массивным колесам и подвижным осям могут проехать куда угодно; начинается погрузка.
Горцы в Серра-Мильафрише делают повозки высокими, прямоугольными, довольно больших размеров. В Миньо повозки обтесывают топориками, и они выглядят легче, красивей, а в Вейре они тяжелее, и по узким дорогам, где двум таким повозкам не разъехаться, они движутся, как неуклюжие военные машины, которыми пользовались воинственные племена далекого прошлого, осаждая крепости. С вечера до самой ночи эти медлительные громады, возвещая о себе громким звоном колокольчиков, наподобие черепах, тащились по земле, оживляя унылое пространство. В прежние времена их узнавали по скрипу осей, но с появлением автомобилей колеса велели смазывать. Возможно, волам нравилось поскрипывание втулок, плотно сидящих на осях, оно было приятно на слух и как бы облегчало их труд. Но неповторимая музыка сельской жизни исчезла. Запретили также пользоваться агилядой
[19]; может быть, в один прекрасный день какой-нибудь министр запретит волам носить рога? У них такой устрашающий вид.
К концу октября, когда люди уже спустились с гор и сидели по домам, пробежал слух: правительство намерено прибрать горы к рукам и согнать горцев с их исконных земель. Теперь никто не имеет права нарубить в горах дров или выпустить оягнившуюся овцу на луга.
С самого раннего утра все десять деревень были охвачены волнением. Последние рубщики и косцы бросили свою работу. Кто принес это известие? То ли погонщик мулов, то ли Жулиа Танганья, которая торгует яйцами, то ли Антонио Жоао, неважно, но это было правдой. В деревню уже прибыли автомобиль с инженерами и тракторы. Значит, эти собаки все-таки решили согнать их с гор! Значит, наступило утро судного дня!
Правительство для крестьянина — это государство, это законы, которым надо подчиняться, а вернее, бандитская шайка. С горцев уже содрали последнюю рубаху, а вместе с ней и шкуру всякими налогами, сборами, обложениями, податями, а теперь явились отнять землю! Сегодня отнимут горы, а завтра найдут причину выгнать крестьян из дому. Будь они прокляты!
Все они хотят жить за чужой счет, носить перстни на белых ручках, ездить на машинах, иметь любовниц для развлечения и слуг для удобства, которых берут из простонародья; им бы есть жирных барашков, откормленных сочной травкой, да форель, которую горцам запрещено ловить в их горных реках. Негодяи и воры! — вот что думали крестьяне о правительстве. Но позвольте, в правительстве хорошие, умные люди, и их задача руководить государством, распределять общественные блага, издавать законы и стоять на страже справедливости! Нет и нет! Бандиты с большой дороги, паразиты и кровопийцы, вот кем считали их горцы.
— Смерть им! — гремели гневные крики на деревенских улицах.
Действия правительства, намеревавшегося захватить землю, все расценили как вооруженный грабеж. На склонах и в низинах корчевщики распрямляли спины, бросали работу и, опершись на мотыгу, задумывались, неподвижно глядя перед собой. Некоторые с трудом подавляли гнев, те, кто посмелее, швыряли мотыгу.
— Не стану больше корчевать, раз у меня хотят отнять поле! Сукины дети!
Крестьяне собирались в кучки, и эхо разносило их тревожные крики далеко вокруг. Кое-кто уже посылал домой сказать, чтобы приготовили косы, которыми завтра, быть может, придется вооружиться. В полдень деревни, словно охваченные лихорадкой, шумно бурлили, а позже, когда слухи смешались с парами не в меру выпитого вина, возбуждение усилилось еще больше. От деревни к деревне, от человека к человеку, катились волны протеста. Все поднялись, хотя труба еще не играла сигнала тревоги. Плохо придется тому, кто пойдет на них! Парада-да-Санта стала штаб-квартирой, поскольку там жил самый смелый и отважный горец, человек большого ума и сердца — Жоао Ребордао. По какому-то безмолвному уговору все стали считать его главным. Он и сам желал этого и, взяв с охотой на себя эту обязанность, отдавал приказы. Во все стороны были направлены пешие и верховые гонцы, чтобы той же ночью во что бы то ни стало привести в Парада-да-Санту деревенских старост. Нужно было согласовать действия крестьян против правительства. Гонцами были смелые расторопные парни, они очень осторожно, без лишней болтливости, чтобы не отпугнуть трусов, выполнили задание.
От них-то Мануэл до Розарио, которого все прочили в старосты Азеньи, и узнал обо всем. У него, хорошего кузнеца, всегда хватало работы и на дому и на рынке. Он жег в горах уголь, с которым всегда было трудно, когда увидел двух парней, возникших перед ним из кустов. Только дым от костра, столбом поднимавшийся в ясное небо, мог привести их в эту глушь. В голове Мануэла замелькали догадки. Кто это? Заблудившиеся путники, или гонцы, прибывшие с каким-то известием, или бандиты?
— Мы от сеньора Жоао Ребордао из Парада-да-Санты, — поздоровавшись, сказал один из парней. — Мой хозяин просил вас прийти туда…
— У кума какие-нибудь новости?
— Насколько я знаю, нет.
— А вы-то хоть с делом пришли?
— Конечно.
Мануэл до Розарио задумался, вытянув руки над круглой, как бочка, ямой, освещенной раскаленными углями. Он мучительно думал, что же все-таки заставило их прийти.
— И вы не знаете зачем?
— Сами спро́сите, — ответил тот, которому, судя по всему, было поручено вести переговоры. Он развел руками, как бы говоря, что ему действительно ничего не известно.
Рядом с Мануэлом стояли его подручный Кальандро и дети — очень стройная с широкими бедрами дочь Сеу и сын Серафим, совсем юный, с пушком на щеках. Они, как и сам Мануэл, замерли, полные любопытства. Кузнец спохватился.
— Идите отсюда! Что вы, людей никогда не видели!
Когда они ушли, кузнец, нагнувшись, стал раздувать огонь, который уже угасал. Потом, отвернувшись от вспыхнувшего пламени, улыбнулся и прошептал:
— Что-то случилось… Из-за пустяка кум не стал бы меня звать…
Парни даже глазом не моргнули.
— Ну, друзья, — решительно сказал он. — Завтра, если ничто не помешает, я буду там.
— Сеньор Жоао Ребордао просил вас прийти сегодня.
— Сегодня? Сейчас уже часа два или что-нибудь около этого, а дни теперь короткие…
— Мы составим вам компанию, — сказал тот, который все время молчал. — Волки вас не съедят…
— Наверно, чья-нибудь кровь пролилась?
— Нам приказано только передать вам, чтобы вы пришли, даже если вы будете на краю света…
— Но ведь уже скоро вечер, друзья мои! Когда же мы придем? И кто за углем присмотрит? Мои дети и подручный годятся только есть.
— Мы дали слово, что приведем вас… Без вас мы и к воротам сеньора Ребордао не подойдем, — нетерпеливо откликнулся один из парней, показав острые, хищные зубы.
— Что поделаешь, — весело сказал кузнец. — Надо, так надо, пошли… — Он накинул куртку и, бросив последний взгляд на пылающий костер, сказал, обращаясь к Кальандро: — К вечеру потушишь, нужно еще отдушину прокопать… И земли маловато…
Потом он пошел к себе в деревню умыться и надеть костюм, в котором обычно ходил в церковь. Неприлично отцу будущего доктора — один из его сыновей учился в Коимбре — идти в чужую деревню в заплатанной и засаленной рабочей одежде.
По дороге Мануэл до Розарио, для которого все это было полной неожиданностью, и не представлявший, что речь может идти о каких-то важных вещах, снова попытался что-нибудь выудить у молчаливых гонцов. Сначала он действовал осторожно, потом более смело и наконец решительно предложил:
— Закурим, друзья. И дорога короче будет…
— Спасибо, я никогда этим не балуюсь, — ответил парень постарше, отказываясь от сигареты, которую предложил ему Розарио.
Так и не сумел кузнец выпытать у них хоть что-нибудь. Только у самой Парада-да-Санты, увидев своих приятелей и знакомых из Аркабузаиш-да-Фе, Коргу-даш-Лонтраша, Урру-ду-Анжу и Понте-ду-Жунку, он понял, в чем дело. Когда они вошли в деревню, к ним присоединились крестьяне из других деревень; можно было сказать, что по улице лился целый поток людей.
Было уже поздно, и пришедших приглашали чуть ли не в каждый дом. Все поужинали, выпили, и, прежде чем разойтись по своим деревням, на террасе у Ребордао собрались главные договориться о том, как действовать.
Ранним утром, когда на плато въехали оба отряда Лесной службы на обычных и гусеничных тракторах, с плугами, привезенными из долины Таворы, и сотней рабочих, нанятых в далеких, голодавших от неурожая деревнях, на холмах уже было полно народу. В северном секторе, куда входили деревни Валадим-даш-Кабраш, Алмофаса, Азенья, Парада-да-Санта, Реболиде, распоряжался главный инженер Штрейт да Фонсека. Этот высокий человек с тонкими губами и худыми руками, с коротко постриженными светлыми волосами, торчащими ушами и маленькими глазками на студенистом восковом лице внушал деревенским страх. Своими грубыми, словно вырубленными стамеской, заостренными чертами он напоминал лубочные изображения святых.
В южном и юго-западном секторах, куда входили Аркабузаиш-да-Фе, Урру-ду-Анжу, Понте-ду-Жунку, Фаваиш-Кеймадуш, Коргу-даш-Лонтраш, распоряжался Сесар Фонталва. Разместившись с бумагами и топографическими картами в джипе, он с любезной улыбкой встречал всех, кто приходил. Когда вся эта армия, ее адская техника, никем не виданные доселе машины, автомобили, груженные инструментами, с шумом и треском поднимались из Алмофасы в горы по дороге, где раньше гоняли скот, люди, еще остававшиеся в домах, тоже высыпали наружу. Все это очень напоминало потревоженный улей.
— Пришли у нас землю отнять, проклятые?
— У, будьте вы прокляты!
— А где теперь мы будем пасти наших овец?
— В набат бейте, в набат! Пошли на них!
И действительно, в Алмофасе ударили в колокола. Это послужило сигналом для других, и вот уже десять, двадцать колоколов зазвонили изо всех сил. Старики, женщины, дети, едва хлебнув пару ложек супа и сунув в карман краюху кукурузного хлеба с куском сыра или колбасы, пошли в горы, чтобы не отстать от мужчин. Был серый осенний день, и в его тусклом свете все вокруг казалось плоским.
Инженерам в джипах, видимо, донесли о продвижении нескольких колонн, которые шли наперерез, то взбираясь на холмы, то спускаясь в низины. И вот они показались: сумбурные, напоминающие дикую орду. Мелькали разноцветные платья женщин, стремглав пробегали мальчишки, порывы ветра доносили громкие голоса, и отдельные слова уже можно было отчетливо расслышать. Шло шесть, нет десять колонн, не считая тех, которых не было видно за холмами. Но вот группа, пожалуй наиболее многочисленная, вдруг резко остановилась на некотором расстоянии от тракторов. Затем от этой группы отделились люди, наверно парламентеры. Штрейт, как человек искушенный, отдал приказ начать работы. Двинулись машины и упряжки быков. Желая выяснить, чего хотят крестьяне, он послал сыновей Гниды на переговоры.
— Что вам надо? — крикнул Бруно. — Хотите помериться силой с войсками? Напрасно! Не видите, что ли, кавалеристов с карабинами? Подумайте хорошенько, что вы делаете, чтобы потом не жаловаться…
— Предатель! Эй ты, предатель! Продался, Гнида!
Услышав это, Бруно струсил.
— Не думайте обо мне плохо, ребята! Каждый живет, как может. Я с вами, но нужно же голову иметь на плечах. Главный у вас Ребордао, не так ли? Где он?
Ребордао подошел к Бруно, и они начали длинный, разговор; сначала громко спорили, потом их голоса затихли.
В другом секторе, которым руководил Фонталва, Модешто Барнабе даже слова не удалось сказать, к нему сразу подбежали крестьяне, и Ловадеуш крикнул:
— Не смейте ничего трогать! А ты иди, скажи своему хозяину: поле нам нужно, мы тут лук посеем. Ну, пошел!
В первом секторе уже провели несколько борозд, а крестьяне все еще не показывались. Наконец седьмой кавалерийский взвод и Лесная охрана увидели, как беспорядочная толпа появилась на вершине, а затем стала сползать вниз по склону и метрах в пятидесяти от холма выстроилась в длинную цепь. Но почему толпа вдруг остановилась? Это второй сын Гниды крикнул, что наказание понесет каждый. Крестьяне снова зашумели. Одни предлагали дать машинам и плугам отойти подальше, устроить в горах засаду, кинуться на них и уничтожить, другие советовали поджечь кусты: хотя они довольно редкие, но все же огонь заставит войска отступить. А самые отчаянные призывали идти врукопашную против войск и чиновников. У многих оказалось оружие, кое у кого боевое.
В это время на окрестных вершинах показались новые группы, все они стекались к колонне. Шум и крики усиливались, слышался топот многих ног, неразборчивые голоса, где-то изо всех сил колотили в старый котел. Впереди твердым шагом шли Жоао Ребордао и Мануэл до Розарио. Пусть эти верные слуги государства увидят, сколько народу собралось на холмах и как храбро держатся крестьяне. Они никого не боятся, потому что чувствуют плечо друг друга. В лесу дубин, мотыг, вил и кос кое-где проглядывали ружья и самопалы. Отовсюду неслись угрожающие гневные крики: «Вперед! Вперед!» Горцы продолжали неумолимо двигаться, они осмелели, осознав свою силу, ведь их было больше тысячи. Что бы теперь ни случилось, они не повернут назад! Когда до войск осталось меньше ста шагов, Ребордао вышел из толпы и направился к кавалерийскому офицеру.
— Кто здесь главный? — спросил он.
Как раз в это время подоспел Штрейт. Он посмотрел на Ребордао с такой отвратительной усмешкой, что тот счел за лучшее не повторять вопроса.
Ребордао узнал в нем того самого инженера, который председательствовал на собрании в Буса-до-Рей, однако не подал вида. Высокий, красивый нахмуренный лоб Штрейта, казалось, напрашивался на пулю, И тогда Ребордао подумал, что стоило бы как следует осадить этого высокопоставленного чинушу:
— Что ж, значит, без руля и без ветрил?
— Да, сеньор, без руля и без ветрил. Зато есть пехота и кавалерия, которые дадут вам достойный отпор, если вы не будете вести себя как положено, — ответил Штрейт.
— А что это значит: как положено?
— Бросьте дерзить, если хотите, чтобы вам отвечали. Ну, что вам надо?
— Я хочу знать, кто здесь главный. Вы, ваше превосходительство?
— А зачем это вам?
— Ясно, так отвечать может только главный. Я не стану больше задавать вопросов.
Штрейт посмотрел сначала на Ребордао, потом на толпу, и на его лице отразилась жалость к этому нищему невежественному сброду.
— За то, что здесь происходит, персональной ответственности никто не несет, вернее, за это отвечает весь народ, все государство, в том числе и я. Что еще вас интересует?
— Я не об этом. Я бы хотел знать, кто здесь командует… кто руководит этим бесчинством?
— Вы хотите сказать, кто руководит работами? Предположим, я. Что вы на это скажете?
— Кое-что скажу. Но хватит болтать, дело вот в чем: от имени всех, кого вы здесь видите, то есть здешних горцев, я требую — уходите прочь. Зачем господам понадобилось копать нашу землю?
— Только этого вопроса мы и ждали, — с издевкой сказал Штрейт, обращаясь к офицеру, и поспешил встать ближе к нему. — Уходить? А вы больше ничего не хотите?
— Вы занимаетесь грабежом, господа… — продолжал Ребордао.
— Не говорите глупостей! Мы выполняем приказ.
— Нет, вы занимаетесь грабежом! — мрачно повторил Ребордао.
— Занимаемся грабежом? — разъяренно прошипел выведенный из себя Штрейт. — А дальше что?
— То, что мы не дадим себя ограбить.
— А еще?
— Мы здесь останемся…
— Посмотрим.
— Может, сегодня вы и победите, но, когда сосны прорастут, вам придется у каждой поставить по часовому, если хотите, чтобы они выросли…
— Я вас не понимаю.
— Не понимаете? А я не виноват, что у вас на это ума не хватает.
Штрейт, кажется, начал догадываться, что имеет дело с необычным горцем; Ребордао не производил впечатления невежды, в его глазах горел смелый и даже дерзкий огонек. Тогда Штрейт решил предпринять обходный маневр. К этому времени вокруг них уже собралось много народу. Внимание Штрейта привлек Мануэл до Розарио. Его седеющие волосы, солидный вид и накрахмаленная рубашка внушили инженеру доверие.
— Я лишь исполнитель, — заговорил Штрейт, глядя на него, — и сеньоры прекрасно знают об этом. Ко мне бесполезно обращаться, я бессилен что-либо изменить. Сеньорам следует обратиться к властям округа: к администратору, гражданскому губернатору и изложить им свои соображения. А со мной обсуждать это бесцельно, я всего лишь исполнитель. Я получил приказ и должен его выполнить, а если не выполню, меня уволят. Понятно? Мне не доставляет удовольствия идти против воли жителей, а тем более причинять кому бы то ни было зло. Я вас не знаю, живу отсюда очень далеко, и у меня нет никакой личной заинтересованности в этом деле. Теперь вы видите, что ошиблись и что я не могу удовлетворить вашу просьбу. Она обращена не по адресу. Почему бы вам не пойти к гражданскому губернатору?
Мануэл до Розарио сделал шаг вперед.
— Допустим, ваше превосходительство не может удовлетворить нашу просьбу, — сказал он. — Но вы можете убраться отсюда и сказать правительству, что вам не дали работать. Все крестьяне, как один, высыпали в горы, и, если б вы не ушли, началась бы драка. Вы меня понимаете, ваше превосходительство? Вы не можете выполнить нашу просьбу, но можете уйти туда, откуда явились, не начиная работ.
Быть может, эти слова, продиктованные более или менее справедливым и твердым желанием, нашли бы отклик в душе Штрейта, если бы не выражали решительности, которая задела его самолюбие. И не умея или не желая делать скидку на грубость горцев, он уже со злостью возразил:
— Вы сами не знаете, что говорите, сеньоры. Я выполняю приказ… понимаете, приказ! И ничто не может заставить меня не выполнить его. Теперь вот что… Только что этот сеньор — его имени я не знаю — угрожал нам.
— Имя не имеет значения! — крикнул Мануэл до Розарио.
— Я не могу оставить без внимания его слова. Что он хотел сказать? Мы проведем работы, а крестьяне в отместку все поломают? Так, что ли?
— Понимайте, как хотите! — раздался голос Жоао Ребордао.
— Но подобные угрозы наказуются законом. Вы слышали меня? Может быть, повторить?
— Нет, сеньор, незачем.
— Но я хочу знать, поняли вы меня или нет?..
— Не поняли и понимать не хотим. Только глупец может угрожать тому, за кем сила. Кавалерия должна вернуться в казармы…
Толпа становилась плотнее и постепенно приближалась к своим посланцам. Кое-кто вырвался вперед и в нерешительности застыл неподалеку от Жоао и Мануэла; некоторые боязливо переходили с места на место, словно на ярмарке, когда народ только начинает съезжаться. Отовсюду неслись голоса:
— Пусть войска убираются. Здесь мы хозяева! Бандиты! Идите грабить на большую дорогу!
Штрейту снова пришлось признаться себе, что он выбрал ошибочный путь. Все предпринимаемые им попытки к сближению провалились. А вдруг правда на стороне этой деревенщины? Нет, не может быть, но не стоило ему вступать в спор с этими невеждами и толочь с ними воду в ступе. Сначала он делал вид, что очень терпеливо слушает их, но теперь не считал нужным скрывать своей злости. Солдаты молча с большим любопытством смотрели на него. Как, не злоупотребляя властью, но и не унижая своего достоинства, выйти из этого положения? Властным жестом, который в его собственных глазах был очень внушительным, Штрейт указал на Жоао Ребордао жандарму, торжественно и неподвижно стоявшему в нескольких шагах в позе человека, всегда готового выполнить любой приказ.
— Взять его!
Но Жоао не стал ждать, когда жандармские руки схватят его. Сделав два стремительных, упругих прыжка, он оказался в нескольких метрах от солдат. Жандарм, хоть и разгадал его маневр с самого начала, в нужный момент не рассчитал своего броска — так быстро все произошло. На жандарма и Штрейта обрушился шквал криков и брани. Несколько солдат бросились за Жоао, но он был ловок и проворен, легко бегал и без труда ускользнул от них. Солдаты налетели на крестьянина из Валадим-даш-Кабраша, который загородил им дорогу; началась свалка. Один из жандармов, очевидно самый озлобленный, ударил крестьянина прикладом по голове. Раздался выстрел, жандарм выпустил из рук карабин и упал навзничь.
Тогда жандармы дали беспорядочный залп по горам. Воцарилось смятение. Одни бежали, в панике сбивая с ног других; раненые или пострадавшие при падении ползли по земле, взывая о помощи; слышались рыдания, и лишь немногие были готовы оказать сопротивление, они сжали свои ружья и самопалы, повернув их против войск.
Полными ужаса глазами Штрейт смотрел на происходящее. Бог знает, во что это может вылиться! Он решил помешать бунту, попытаться уговорить крестьян, а начать с того, что оттеснить их от солдат. Штрейт вскочил в джип. Вокруг него раздавались стоны, выстрелы, удары, все куда-то бежали. Штрейт приказал направить джип к месту, которое показалось ему наиболее опасным. Там смельчаки из разных деревень затеяли драку с жандармами. Он крикнул: «Прекратить!», — но тут где-то сбоку раздался выстрел из охотничьего ружья и пуля угодила Штрейту в лопатку. Он инстинктивно закрыл руками лицо и как подкошенный рухнул на сиденье, не издав ни звука.
Кавалерия с обнаженными саблями ринулась на бунтарей. Открывать огонь не было нужды, и все же только каким-то чудом это не пришло в голову офицеру. Несколько крестьян были растоптаны конями или порублены саблями, толпа бросилась врассыпную, оставив на земле мертвых и раненых. В их числе были Штрейт, жандармский капрал, трое мужчин, очень красивая девушка и еще человек пять, которые корчились, умоляя прикончить их. Кое-кто из раненых, еле держась на ногах, карабкался по камням и утесам с помощью друзей и родных.
Раненым оказали первую помощь, а Штрейта отвезли в ближайшую деревню — Аркабузаиш. Там ничего подобного не происходило. К своему ужасу, правительственные чиновники увидели совсем иную картину: войска братались с народом, из рук в руки переходили бурдюки с вином и колбасы.
Когда Сесар Фонталва увидел, в каком состоянии был доставлен его коллега и начальник, уткнувшийся носом в сиденье джипа, наспех перевязанный, он стал благодарить бога за то, что ему удалось избежать подобной участи. Ведь и на него грозной волной надвигались жители окрестных деревень. Командир направленного туда взвода предложил запретить крестьянам собираться больше пятерых, а потом вообще разогнать их.
— Нет, пусть идут, — возразил Фонталва.
В боевой готовности на него двигались мятежные деревни, возглавляемые Ловадеушами, Жусто и Накомбой из Аркабузаиша, Жоао до Алмагре из Коргу-даш-Лонтраша, Алонзо Рибелашом из Фаваиш-Кеймадуша, Жозе Релой из Понте-ду-Жунку, Асидешом Фадалго из Тойрегаша и т. д. После того как они долго, до хрипоты, растолковывали, в чем заключаются их требования, он заявил:
— Сеньоры, вы не правы, но я понимаю, что вы искренни и убеждены в своем святом праве на оборону, однако, по-моему, вы плохо разбираетесь в том, о чем идет речь. Лесопосадки в горах принесут вам только пользу, и вы в конце концов должны признать это. Сейчас мы не будем спорить; чтобы вы убедились в этом, нужно время, нужно, чтобы вы успокоились. Хорошо, мы не будем начинать, подождем, пока улягутся волнения. Ни за что на свете я не пойду на то, чтобы мой участок превратился в кладбище. Господин лейтенант, ответственность я беру на себя.
Однако лейтенант не намерен был уступать. Он прибыл, чтобы обеспечить выполнение работ; если будет сочтено, что работы следует начать, он будет защищать рабочих и инженеров от этой деревенщины.
Однако Сесар Фонталва продолжал настаивать:
— На вашем месте я бы увел отсюда солдат и представил начальству рапорт, в котором сообщил бы, что упорство местных жителей, бывших до сего дня хозяевами этой земли, побудило вас принять решение не прибегать к оружию. Этот спор должен решиться мирно. Я отлично знаю, что ныне существует тенденция навязывать волю верхов оружием и другими насильственными способами, ибо верхи исходят из того, что они осуществляют самую прогрессивную и патриотическую миссию. В нашей стране все представители власти, начиная от главы государства и до деревенского старосты, наделены неограниченными полномочиями. И поскольку я являюсь одной из ступенек на этой лестнице, я выполняю свой гражданский долг, дав согласие на нарушение вами приказа. Работы прекращены!
— Я протестую! — крикнул лейтенант.
— Протестуйте, но, сделайте милость, уберитесь отсюда вместе со своими солдатами.
Отряд уже готовился уходить, но тут с севера подошла колонна с ранеными. Опечаленный и встревоженный Сесар Фонталва сказал лейтенанту, когда тот садился в джип, чтобы отвезти своего коллегу в больницу:
— Видите, чего мы избежали?
Офицер скривил рот.
— А кто мне докажет, что это случилось не потому, что сила была применена слишком поздно?
Крестьяне, поняв, что произошло, притихли и постепенно стали расходиться, кстати, заморосил мелкий, как бисер, противный дождь, за которым скрылись далекие горы. Те, у кого были плащи, завернулись в них. Женщины накинули на голову платки.
Утесы, унылые и мрачные, как в день сотворения мира, прислушивались к затихающим голосам людей. На одном из них показался человек: это был сын Гниды. В Аркабузаише колокола зазвонили по убитым, и звон их, смешиваясь с дождем, казалось, превращался в тончайшую ткань, которая окутывала землю, украшая каждый листочек серебряной искоркой. Мануэл Ловадеуш подошел к инженеру:
— Сеньор, позвольте поблагодарить вас от имени горцев. Возможно, мы не правы, но нам еще не доказали, что это так. Прежде чем стрелять в нас, нам нужно открыть глаза.
Сесар Фонталва вдруг увидел развевавшийся на ветру красный платок Жоржины и ее блестящие черные глаза, которые смотрели на него. Теперь он чувствовал, что готов пойти навстречу любым опасностям.
ГЛАВА VII
У Теотониу Ловадеуша от злости болела печенка. Его сын арестован, как зачинщик бунта, а у Рошамбаны день и ночь гудят тракторы, которые плугами поднимают целину Серра-Мильафриша. Но до него долетал не только шум моторов — в определенные часы доносились голоса людей, поднимавшихся и спускавшихся по горным дорогам пешком, а иногда и в джипах. Заслышав их, Теотониу зло крутил головой. От него добились разрешения брать из источника воду, и у старика часто появлялось желание отравить источник и убить всех, кто там работал, начиная с инженера. Однако сострадание пересиливало злобу: неужели он мог отказать жаждущему в глотке воды? Источник не должен принимать участия в спорах между людьми. Он так прозрачен и чист, что только последний подлец может осквернить его воды, чтобы не дать никому глотка воды. Да, пусть приходят и берут ее сколько хотят, пусть пьет из источника хоть сам дьявол! Но пришел тот, кто был хуже дьявола, — первым с двумя кувшинами явился не кто иной, как Барнабе. Инженер Сесар Фонталва отослал его в Парада-да-Санту, на северный склон хребта, где он еще никому не успел навредить. Барнабе сам так жалобно просил об этом инженера, что тот вынужден был согласиться.
Со дня их первой встречи Теотониу Ловадеуш утратил покой, хотя сначала не узнал Бруно Барнабе. «Ну, бездельник, хитростью ты меня не возьмешь», — сказал он себе.
Разбили два лагеря. Один — метрах в двухстах от геодезического знака, в небольшой впадине на склоне у Валадим-даш-Кабраша. Построили дощатые, крытые шифером бараки, казарму для отряда НРГ
[20] и навесы для машин. Чуть выше, на защищенной от ветра площадке, красовались оштукатуренные кирпичные дома главного агронома и командира отряда.
Руководил работами в этом секторе опытный инженер, переведенный из Серра-Аргы, известный как весьма энергичный человек, а это означало, что он был способен на все: мог продать душу дьяволу или взломать сейф и с деньгами сбежать в Америку.
Второй лагерь находился почти в четверти часа ходьбы от Рошамбаны, если идти напрямик, и оттуда доносились звуки, от которых у старого горца волосы становились дыбом. Этот лагерь был меньше первого, но состоял из таких же построек. Там руководил работами инженер, назначенный временно, пока велось следствие по делу Сесара Фонталвы.
Лейтенант Монталто подал рапорт, в котором обвинял инженера в бездействии и сговоре с бунтовщиками. Однако начальство, высоко ценившее Фонталву, в сообщении министру привело следующие доводы:
«В секторе 1 были убитые и пролилась кровь, работы там пришлось прекратить, зато в секторе 2, хотя практические результаты там оказались не лучше, беспорядков не было, не было и убитых. Поэтому тамошнее население в данное время кажется более сговорчивым».
Доводы произвели впечатление на его превосходительство, ценившее диалектику, особенно когда она приводила к парадоксам, которые без больших осложнений можно было устранить. Нетрудно было догадаться, что Фонталву вернут на прежний пост. Как бы то ни было, он избежал суда, который висел над ним, как дамоклов меч.
Штрейт остался жив, но навсегда потерял правый глаз, вместо которого ему вставили стеклянный. Такое увечье кое-кто был склонен считать символичным — правительственный уполномоченный, как и само правительство, напоминал циклопа, его взгляды не отличались многосторонностью, и это не могло не броситься в глаза. Хотя Штрейт и оправился, его увечье и нападение, жертвой которого он стал, требовали возмездия. Целая свора вооруженных агентов была спущена на горцев, повсюду шныряли их джипы. Те из крестьян, которые действительно совершили что-то преступное, например стреляли, несмотря на то, что карательная экспедиция была окружена тайной, прослышали о ней и сумели вовремя скрыться в зарослях, ущельях или спрятаться в хлевах. Во всяком случае, полиции удалось взять лишь тех, кто не боялся ареста, потому что не принимал никакого участия в бунте или принимал, но не сделал ничего предосудительного. Однако стражи общественного порядка непременно хотели найти преступников и арестовали в некоторых горных деревнях всех тех, кто был против лесопосадок и чем-либо выделялся среди остальных: то ли благосостоянием, то ли своим занятием, то ли просто пользовался уважением. Но однажды, появившись как будто совсем неожиданно, хотя дальнейшее было очень подозрительно, полиция арестовала Мануэла Ловадеуша, трактирщика Накомбу, Жусто Родригиша — председателя жунты, Мануэла до Розарио, Алонзо Рибелаша, Жоакима Пиррасу и старост деревень Азенья-да-Мора, Коргу-даш-Лонтраш, Валадим-даш-Кабраш, Фаваиш Кеймадуш и других. Всего двадцать четыре крестьянина, которые никогда не думали, что им придется греметь кандалами, трудолюбивых, рассудительных и почтенных. Их назвал д-р Лабао после того, как пошептался с Гнидой, мстившим за старые обиды и расчищавшим себе путь к власти. Арестованные в отчаянии рвали волосы, проклиная свою судьбу. Одни рыдали, другие настолько растерялись, что выдали родных, преувеличив их вину и забыв о тех, кто действительно оказал сопротивление или был вооружен. Однако это бесстыдное обнажение низменных чувств, эта нравственная капитуляция, приятные для властей, когда речь идет о лицах важных или занимающих в обществе видное положение, не интересовали их, когда дело коснулось невежественных мужиков. Властям были нужны козлы отпущения. Арестованных отправили в окружную тюрьму терпеливо ждать, когда решится их судьба. Среди этих людей, которые плакали, охали, на кого-то жаловались, кого-то проклинали, клялись, что теперь будут покорны и были готовы лизать сапоги д-ра Лабао, Мануэл Ловадеуш оставался одним из тех, кто держался достойно, с невозмутимым спокойствием, никого не обвиняя и не позволяя себя жалеть. Замкнувшись в гордом молчании, он позволил двум надутым от важности агентам тайной полиции увести себя в город. Подобного поведения было достаточно, чтобы назвать Ловадеуша главарем.
— Главарь?! — проворчал старый Теотониу, снимая шапку, чтобы показать свои седые волосы одному из сыщиков. — Поверьте, сеньор, это не так. Мой сын просто честный, не потерявший стыда человек.
— Вот таких-то нам и нужно. А этой мрази у нас полно, — агент показал на арестованных, жалких, как ягнята у ворот бойни.
После первых жертв Молоху общественного порядка полиция начала шнырять по деревням в поисках других бунтарей, совершивших поступки, наказуемые законом. Жоао Ребордао удалось скрыться в Кантас-да-Пенья-Воуга, где по диким зарослям бродили волки, а может быть, он уехал в Бразилию, ходил и такой слух. Многие затаились и выжидали. Полицейские для порядка попытались обыскать девушек, но получили пощечину — возмездие, которое в простонародье еще не вышло из моды. А потом, расстреляв все запасы патронов и распугав всех воробьев, они вернулись в Руа-Формозу, предварительно отправив в тюрьму еще партию простаков, более невиновных, чем те, что были отправлены раньше.
Целый месяц, пока власти удовлетворяли свои гнев, в Буса-до-Рей гудели толпы горцев, приходивших выяснить, как обстоит дело с их родными, и приносивших им передачи. Радовались лавочники, продававшие спиртное и жареную рыбу, — торговля шла бойко, как в базарные дни; радовался начальник тюрьмы, которому за тайные попустительства — он позволял арестованным раз в неделю сходить посмотреть свой скот и переночевать дома — немало перепадало от крестьян. Адвокаты и писари тоже неплохо грели руки. Горные бараны, а крестьяне очень их напоминали, хоть и были не столь породисты, давали себя стричь сколько угодно. Форель, бараньи туши, корзины яиц, телячьи ножки бесперебойно поступали в центр комарки
[21], чтобы обстановка для судебного разбирательства была более благоприятна. Никогда чаша Лабао не была столь полной. И вдруг, на тебе, в одно прекрасное утро появились грузовики с решетками и двадцать четыре мужлана были отправлены в Порто. Они обвинялись по статье 171-й, § 1 уголовного кодекса — преступление против внутренней безопасности государства — и были затребованы министерством внутренних дел. Их семьи даже не предупредили, и, когда те явились с передачами, для них случившееся было полной неожиданностью. Женщины подняли такой крик, что господину уполномоченному пришлось послать надзирателя предупредить их, что, если они не перестанут орать, их посадят в «крысиный дом» — так назывался подвал в окружном управлении.
Теотониу Ловадеуш, как обычно, в субботу с узелком в руках тоже пришел повидать сына, но Мануэла и след простыл. Старик покачал головой и сказал:
— Какая подлость! Что плохого сделал вам мой сын? Ну, ничего, вы мне за это еще заплатите!
Он пошел к одному чиновнику, который доводился кумом его куму и которому старик не раз носил форель, пойманную в горной речке. От чиновника Теотониу узнал, что сына обвиняют в том, что он возглавлял бунт, подстрекал крестьян к беспорядкам в секторе 2 участка лесопосадок и хранил боевое оружие. О карабине, будто бы имевшемся у Мануэла, стало известно из показаний свидетелей: старого Барнабе, его сына и двух охранников из Тойрегаша — дружков Бруно. Они якобы слышали, как, вернувшись из Бразилии, Мануэл сам об этом говорил. Еще до того, как чиновник назвал имена свидетелей, сердце подсказало Теотониу, что доносчиком был Гнида, этот Иуда, подлец бессовестный.
— Вот пес проклятый! Ты у меня поплатишься!
— О ком это вы говорите? — вдруг спросил его какой-то тип, который недавно вошел в комнату, где сидел чиновник, и прислушивался к их разговору.
— А разве я о ком-нибудь говорил? — Старый горец поднял глаза на господина, который очень внимательно глядел на него, его любопытство насторожило Теотониу. — Ах да! Это я щенка ругал, паршивый пес влез ко мне в мешок и утащил еду.
Старик вернулся в Аркабузаиш и, даже не поев, а лишь сообщив о плохих новостях, ушел в Рошамбану, оставив семью в слезах. Гнев переполнял его, от мыслей голова шла кругом. Свои горькие думы Теотониу прерывал лишь затем, чтобы пробормотать:
— Ты мне заплатишь за это, пес паршивый! Клянусь тебе, заплатишь!
Угрозы вырывались у него непроизвольно, как рычание у Фарруско во сне. Один раз он даже испугался, поняв, что говорит вслух. Нет, никто его не подслушивал, он мог говорить громко. И Теотониу вновь и вновь повторял:
— Пес паршивый! Ты мне заплатишь! Заплатишь! Тут шпики не подслушивают. Но помни, старик, в твоем возрасте нельзя быть ослом! О том, что ты должен сделать, никому ни слова! Даже ангелу-хранителю, а тем более в городе… чуть на шпика не нарвался…
Дом в Рошамбане был уже почти готов. Желая угодить сыну, старик всегда его поддерживал, а когда тот попал в тюрьму, за неделю кончил класть стены. Мануэл же, хоть и сидел в тюрьме, продолжал следить за постройкой, давал советы, поправлял, отвергал. Даже Афонсо Домингиш, слепой архитектор из Батальи, руководивший работами, не принимал во всех делах такого участия. Когда Мануэла ненадолго отпустил надзиратель и он смог увидеть наконец почти готовый дом, он остался им очень доволен. Плотники уже собирались стлать полы и делать наличники. На склонах хребта, где росли старые и крепкие сосны, пильщики заготовляли доски.
В общем, в скором времени дом готов был принять своих хозяев. Они могли бы переехать туда к рождеству. Разумеется, постройка дома, расходы, появившиеся после того, как Мануэл попал в тюрьму, задатки разным чиновникам и адвокатам поглотили деньги, привезенные им из Мато-Гроссо. Чтобы собрать нужную сумму и закончить новый дом, решили продать старый. Одному крестьянину, вернувшемуся из Бразилии с кое-какими сбережениями, дом приглянулся, и он предложил за него совсем неплохо. Однако Теотониу чувствовал скрытое недовольство снохи и внуков и все откладывал продажу дома, тем более что с переездом еще рано было торопиться. Теотониу занял денег под проценты. И все же он как-то раз попытался уговорить сына отказаться от этой затеи.
— Ты достаточно побродил по свету и хорошо знаешь: чем больше корабль, тем сильнее ему нужен ветер. Хватит тебе и домика в деревне, разве тебе в нем плохо? Зачем тебе новый? А с меня и хижины в Рошамбане достаточно, к тому же она мне ни гроша не стоила. Зато делаю там, что хочу. Ты же сам знаешь: от чего Педро излечивается, от того Саншо заболевает! Всегда так было! А мне эта хижина дороже королевского дворца.
— Послушайте, отец, — задумчиво начал Мануэл. — У вас свои нравы и привычки, и я вас не осуждаю. Но если вам это не по душе, забудьте о доме.
— Пусть будет по-твоему, как ты рассудил. Можешь не слушать моей воркотни, но помни: старому псу не говори «ату, ату».
Итак, дом был почти готов, но денег не было ни гроша. Однако старый дом не продавали в надежде на лучшее предложение, как говорил Теотониу. Целыми днями он работал в огороде или на стройке, а по вечерам тайком уходил на охоту. В деревне старик бывал редко, когда ему нужен был хлеб, молодое вино или керосин для коптилки. Только за этим он покидал Рошамбану. Рядом с ним всегда бежал Фарруско, и ему сам черт был не страшен. Коза Короада, стоявшая на привязи под соломенным навесом, давала достаточно молока. Порой ее запах привлекал прибегавших издалека волков, которые, не подозревая о привычках и характере горцев, выли на склонах. Если волчиц поблизости не было, им отвечал Фарруско.
Иногда в горах шел снег, он надолго заволакивал небо белой завесой и одевал деревья и кусты в белые наряды. Теотониу стоял у двери хижины и смотрел, как падает снег. Он думал: что им сделал мой сын? Ведь он такой хороший, такой простой, его все уважали, и падре и доктор Ригоберто, этот добрый, умный и справедливый человек. Постепенно в нем росла ненависть к правительству, которая распространялась и на тех, к кому прежде он относился неплохо. Теотониу возненавидел местных шпиков, вроде Бруно, сына Гниды, за подачки продающих своих братьев горцев. Крупный счет был у него к этой шайке, старый, очень старый, но очень серьезный, хотя и вспоминать об этом деле противно. А теперь появился новый. Старик ловил себя на том, что временами рычит, как дворовый пес, у которого даже во сне шерсть встает дыбом.
— Ты мне заплатишь, собака, заплатишь!
Он не задохнулся от ярости, не умер от жажды мести, которая терзала его и которую шум моторов вблизи Рошамбаны усиливал час от часу, не умер только потому, что ему некогда было сидеть сложа руки.
Наступил холодный октябрь, с утренними заморозками, и стук крестьянских деревянных башмаков отдавался по дорогам, словно под высокими каменными сводами.
Для охоты нет времени лучше, чем морозные дни, когда даже заросли кустарника коченеют от пронизывающего северного ветра. Кролики вылезали из нор на берега рек и
скакали на полянах, среди камыша и осоки; потом, попрыгав и постучав лапками, принимались обсуждать свои заботы, о чем-то шептались друг с другом. В сумерках Теотониу ставил силки. Холод словно замораживал все запахи, и каким бы тонким ни был нюх у этих животных, в мороз они не чуяли ни человека, ни зверя. Кролики скакали с места на место, изредка потирая свои носики, и вдруг, испугавшись листа, который летел, подхваченный ветром, пускались наутек. Убедившись, что на берегу никого нет, они скакали туда, где можно было поживиться, и попадали в зубы адской машины, которые впивались им в спинку, а то и ломали хребет. В эти холодные, ясные дни бедняги горные зверьки выходили на тропинки в поисках пищи. И для них каждая ветка кустарника превращалась в вертел, а овраги были полны острых ножей. Лужи были покрыты предательским ледком, по которому ни один зверек не решался пройти. Тропки для зверей то же, что улицы для людей. Когда отправляешься в дальний путь, разве свернешь в сторону? Травы прижались к самой земле и стали жесткими, словно их вырезали из жести. Не поешь и не пройдешь.
В холодные дни, когда небо покрывалось хмурыми тучами, кролики выходили на свои любимые места, едва начинало смеркаться, поэтому ставить силки приходилось на рассвете. А то волк, лиса или еще какой-нибудь хищник уносили добычу. Иногда на вершинах свистал такой злой ветер, что не всякий хозяин выгонял во двор своего пса. Теотониу набрасывал на плечи плащ и клал в карман кусок сыра. Ни снег, ни темень его не пугали. Если он кого и боялся, так это Зе — пастуха из Памполиньи, негодяя, который обычно выслеживал его сверху и, прячась за скалами, по зарослям, словно леший, скакал за ним, сверкая своими зелеными глазами. Сам он только портил охоту в горах, вычищая все норы и таская птенцов у куропаток, хотя у него достаточно было времени ставить силки и капканы, пока он, не торопясь, ходил по горам за своими овцами. Редкий день Зе возвращался домой без дичи.
Однажды Теотониу застал его на месте преступления и пару раз дал как следует по спине палкой в награду за кроликов, которых тот украл.
Каждую ночь Теотониу ставил капканы, и случалось, если бог того хотел, во всех была добыча. Время от времени попадались даже лисы, но если капкан защемлял только лапу, лиса уползала вместе с ним. Тогда Теотониу, продираясь сквозь заросли, отправлялся ее искать.
Но иные перегрызали себе лапы и, истекая кровью, уходили на болото; если они и выживали, то оставались хромыми на всю жизнь. Около Серра-Мильафриша водилась одна такая без задней ноги. Горцы заметили, что она была самая хитрая и громким лаем подавала знаки другим, словно учила их, как действовать в том или ином случае. Когда старику везло, лисам приходилось расплачиваться — они становились лучшей частью его добычи.
Обычно свою вылазку на зайцев старый Теотониу устраивал тайно. В морозные ночи, когда даже небо сковано холодом, зайцы покидают лежки в копнах ржи и болотах, где вода застыла, словно ковер, из которого там и сям торчат сухие папоротники и вялые хвощи. Шубка, которой наградил их господь, более шелковиста, чем одеяния самого папы римского, и защищает их от мороза и колючего снега, но зайцы прихотливы и не любят утруждать себя. Вместо того чтобы ворошить копны, они направляются прямо к межам и спускаются по ним в огороды или на старое кукурузное поле, где остается сколько угодно початков. За неимением лучшего зайцы едят все: ветки кустов, траву, дикий горох, щавель. Но предпочитают они галисийскую капусту. Чтобы добраться до побегов или до верхних листьев, которые всегда нежнее, зайцы грациозно становятся на задние лапки, словно кенгуру или дети, когда учатся ходить.
Теотониу был очень изобретателен. На зайцев он ставил латунные силки, бечевкой привязанные к камню. Заяц в поисках еды или просто, чтобы поразмяться, скачет по огороду или своей обычной тропинкой и вдруг оказывается в силках. Он всячески пытается вырваться, но петля затягивается все туже. Заяц в отчаянии бьется, катается по земле, визжит, предчувствуя конец. На рассвете Теотониу находит его уже выбившимся из сил, с обмякшими ушами, прекрасная шелковистая шкурка измята, будто подушка. Как приятно дрожащей рукой коснуться мохнатой заячьей шкурки красивого шафранного оттенка с ярко-белыми пятнами! Охота была запрещена, и Теотониу прятал добычу под плащ. В Аркабузаиш или Рошамбану он пробирался тайком, по тропам, известным ему одному. Не раз он едва не попадал в лапы сторожей и дозорных. Но какое-то шестое чувство — чувство лесного жителя — вовремя предупреждало его об опасности. Он знал, что о нем идет слава браконьера, который ставит капканы на кроликов, силки на зайцев, ловит куропаток в запрещенное время. Дозорам теперь помогали люди из Лесной охраны Серра-Мильафриша, и одним из самых усердных был Бруно. Он жил в лагере, менее чем в четверти часа ходьбы от Рошамбаны, и мог почти постоянно следить за Теотониу. Но старый Ловадеуш держался как ни в чем не бывало. Однако, чувствуя, что за ним следят, в свою очередь следил за охранником, который и не подозревал об этом; таким образом, пока ему все сходило с рук. Его верным помощником был Фарруско. Этот худой пес, все время дрожавший, как в лихорадке, и почему-то похожий на голодного, хотя всегда ел с хозяином, может быть только немного уставший, за целый километр чуял, что кто-то идет. Теотониу приучил его не лаять, а тихо рычать, чтобы не обнаруживать своего присутствия.
Фарруско помогал ему во всех переделках, в которые постоянно попадает браконьер, и ни разу никто его не заметил, очевидно, сказывалось его близкое родство с волками, сильными и коварными зверями. Как-то Теотониу и Фарруско отправились ставить силки на парах в Базула-иш-до-Фраде, что между клином Гниды и полем Накомбы. Один верхом вдоль дороги, что вела из Аркабузаиша в Урру-ду-Анжу, а другой низом, почти вдоль реки. Поднявшись со своей лежанки рано утром, когда было еще совсем темно, Теотониу, к своему великому огорчению, увидел, что все кругом покрыто пушистым снегом, который, словно ковер, лежал повсюду толстым и ровным слоем. Фарруско был удивлен не меньше хозяина. Обычно Теотониу знал, когда начнется снегопад, об этом ему говорили и оттенки неба, и полет птиц и насекомых, которые переставали жужжать, и то, как вздрагивал пес, которого еще сильнее кусали блохи, и деревья, которые неподвижно и мрачно застывали в ожидании снега. Снег не шумит, как дождь, и не стучит в дверь, как ветер. Но острый нюх старика чувствовал снег на расстоянии. Посмотрев на горизонт, он определял, придут ли тучи со стороны Эштрелы — и тогда повалит густой снег — или со стороны Монтемуро — и тогда снег будет злой и колючий. Тучи, которые приходили с северных склонов, приносили с собой коварный снег, который называли вором. Он не ждал, когда ему откроют двери, он врывался через дыры и щели в крыше, не спрашивая ни у кого позволения. Еще в три часа утра северный ветер спал, как убитый, и никто не мог бы сказать, что он задумал, а чуть позже он превратился в разъяренную фурию. Посыпал снег, колючий, словно острие кинжала, и к утру все покрылось белым саваном. Такой снег скоро не тает, лишь спустя много дней горы постепенно освободились от белого покрова. Теотониу ждал этого нетерпеливо, как ждут возвращения пленника.
Иногда появлялась луна, и Теотониу, прислонившись к стене хижины, смотрел, как льется ее бледный свет; луна походила на жернов, из-под которого беспрестанно струилась крупчатка. Часто ночью старик просыпался от боли в ушах или от потрескивания соломенной крыши под тяжестью снега. Утром Фарруско мчался в заросли кустарников поразмять лапы в погоне за воображаемым зайцем или по нужде — он был чистоплотный пес, — но скоро возвращался обратно, ему совсем не нравились эти белые мухи, которые нахально лезли к нему в шубу.
В такие дни кролики обычно собирались у ключа, в глубине участка, где снег таял от воды. Кролики словно сами лезли в горшок к Теотониу. На всех соседних холмах он знал места, где они прятались, и незаметно следил, как веселятся эти пушистые шарики, а когда ему было нужно, шел стрелять их. Частенько они собирались на берегу ручья пощипать зеленую травку — теплое дыхание воды охраняло здесь жизнь. В эти дни в горах было много всякого зверья. Со склонов доносился волчий вой. Но ружье Теотониу всегда было наготове и, хотя он был один-одинешенек в этой пустыне, не испытывал ни малейшего страха перед их воем, пронизывающим, как копье. Козочка, подогнув под себя ноги, неторопливо жевала жвачку или щипала сено и сухой папоротник, который был сложен в двух стогах у стены. Она волновалась только в определенный период, а в остальное время была спокойна и покорна, как истинная христианка.
Итак, в одно такое снежное утро Теотониу отправился в Базулаиш-до-Фраде проверить свои силки; пес бежал впереди, принюхиваясь и присматриваясь, однако довольно спокойно — дело предстояло привычное. Первые силки оказались пустыми. Но пройдя немного дальше, старик увидел на снегу след зайца, присыпанный снегом, который выпал позже. Чутье охотника подсказало ему, что добыча в других силках. Увидев опрокинутую рогатку, Теотониу понял, что заяц попался, но уполз в сторону реки вместе с камнем. Внимательно глядя по сторонам, он дошел почти до самой реки и уже начал терять надежду, решив, что зайцу удалось ускользнуть, как увидел, что тот лежит у воды, уткнувшись носом в камень. Неплохая добыча! Старик отодрал зайца ото льда и прикончил. Это был старый беляк. Но тут Фарруско глухим рычанием предупредил хозяина, что кто-то приближается. Старик осмотрелся: двое из дозора и лесник, метрах в четырехстах от него, торопливо спускались с горы, направляясь к месту, где стоял Теотониу. Что делать? Он не собирался бежать. Эти ублюдки не станут долго думать и всадят ему пулю меж лопаток. К тому же парни они сильные, место вокруг голое, как тут побежишь? Однако ждать в бездействии еще хуже. Закопать зайца в снег он уже не успеет. Зайца наверняка отберут, а его самого оштрафуют и отправят в каталажку. Что же делать?
Случайно взгляд старика упал на разрушенный забор с прогнившими и поломанными досками. Он вырвал одну из них, бросил на нее зайца, привязал его к доске бечевой и, воспользовавшись минутой, когда те трое спустились в овражек, бросил доску в реку. Вода подхватила самодельный плот и быстро понесла его. Сначала они, либо не поняв, что здесь делает Теотониу, либо опасаясь, что он их надует, ничего не спросили. Но потом один из них все же не утерпел:
— Покажите-ка, что у вас под плащом!
Старик поднял обе полы. Двое других в это время внимательно осматривали все вокруг.
— Что это за следы?
— И вы еще спрашиваете! Зверей-то здесь полно бродит, наверно, лиса съела зайца. Откуда я знаю!
— А вы что тут делаете?
— Ну уж, конечно, не ворую. Да и зачем вам это знать? Будет глаза таращить, все равно никого это не пугает. Не знаете разве, что у меня здесь луга? Пришел посмотреть, тает ли снег, пора коров выгонять.
— А если мы вас арестуем?
— Арестуете, так придется отпустить. Я ничего плохого не сделал.
— А если шею намылим?
— И этого вы не сделаете, сеньоры, мой ангел-хранитель не даст… — старик кивнул в сторону Бруно, сына Гниды.
Двое ушли, плюнув с досады, а Бруно предложил ему сигарету.
— Закуривайте, дядя Теотониу.
— Ты же хорошо знаешь, приятель, что я не курю.
«Удачно ты вывернулся, Теотониу, — говорил он потом себе. — В полдень погоню коров и поищу, может быть, заяц зацепился где-нибудь за камень». Так оно и было.
В подобных случаях, когда сторожа сталкивались с Теотониу, они не пускали в ход руки, потому что побаивались старика. Убить его тоже было нельзя. Мертвый он был бы еще опасней. А сейчас, когда он жив, когда в нем такая сила, трогать его никто не решался. Говорили, что никто никогда не видел, чтобы он плакал, он был скорее волком, чем человеком. А может, был в сговоре с волками или даже с самим дьяволом.
Кое-кто помнил историю со Студентом, которую до сих пор рассказывали в окрестных деревнях.
Однажды в августе, после большой облавы, волки вместе со своими волчатами покинули логова в кустарнике на склонах Монтемуро, и многие из них нашли убежище в Серра-Мильафрише. Вот тогда-то у Рошамбаны стал часто появляться молодой волчонок, которого, вероятно, манил запах козы. Он останавливался на соседнем холме и нюхал воздух, словно надеялся, что ему дадут молока. Потом он начал смело подходить к хижине, и как-то Теотониу вместе с внуком и Фарруско поймали его. Волчонок был голоден, и старик налил ему плошку молока. Сначала волчонок не понял, что это такое, или сделал вид, что не понял. Но старик ткнул его носом, и волчонок вмиг вылакал молоко. Фарруско, наблюдавший за этой сценой, сначала злился, но, поскольку был псом умным и считал, что все, что делает хозяин, хорошо, в конце концов успокоился и перестал косо смотреть на волчонка.
В углу хижины Теотониу Ловадеуш сколотил волчонку что-то вроде клетки, в которой он сидел ночью, а иногда и днем, когда всем надоедал. Теотониу назвал его Студентом, быть может, потому, что он попал в школу к человеку-зверю. Еды у волчонка было вдоволь — зайчата, подбитый камнем филин, остатки похлебки, и все он жадно пожирал, не сводя с Фарруско горящих глаз, давясь и придерживая еду лапой, чтобы показать, что все это принадлежит ему. А пес ел мало и больше всего любил кости, глодать которые бегал в Аркабузаиш или получал их от хозяина, когда тот жарил кроликов в Рошамбане. В конце концов они привязались друг к другу и стали играть, бороться и кусаться. Однако Теотониу держал волчонка на привязи, с толстой веревкой на шее, боясь, что тот вдруг вспомнит свои повадки — загрызет козу или убежит. Ночью Студент спал в своей конуре, а днем Теотониу выпускал его, и тот бежал позавтракать с Фарруско или поиграть с ним. Через несколько недель волчонок подрос и сменил свою прежнюю шерсть на шелковистую шубку, которой позавидовала бы любая банкирша. Мало-помалу он привык и к Теотониу, позволял ему все — чесать за ушами, гладить себя и даже любил, когда его хлопали по животу. В очень редких случаях он вдруг хищно оскаливался. Со всех деревень приходили крестьяне подивиться на это чудо.
Однажды маленький сын д-ра Лабао Нини был в Аркабузаише и ему рассказали о волчонке. Мальчик захотел посмотреть его, но ему не разрешили. Однако Нини поднял такой крик, что пришлось оседлать осла и отвезти его в Рошамбану. Мальчик пришел в восторг от волчонка, уже надевшего роскошную шубу. Сначала Нини поглядел на волчонка издалека, а потом, как все трусишки, вдруг расхрабрился и дернул зверя за хвост. Клыки со щелканьем впились ему в руку. Ребенок заревел, а д-р Лабао и его жена обрушились на Теотониу Ловадеуша.
Только один раз Студент показал свой характер. Это случилось, когда Теотониу принес чурбан и топорик и одним взмахом отрубил ему треть хвоста. Волк отпрыгнул, насколько ему позволила веревка, и остановился поодаль, изогнувшись дугой, оскалив зубы, морда вся сморщилась, глаза были полны злобы. Недоверие, страх и ненависть переполняли его, пока рана не зарубцевалась. Но постепенно обида забылась, известно, что время все стирает. Это было только раз, когда волку укоротили хвост, который прежде болтался, поднимая пыль с земли. Потом волк снова стал класть морду на колени старику и просить есть. А Теотониу ставил много силков и редкий день возвращался без добычи. Семье Ловадеушей тогда приходилось плохо, и они с трудом добывали себе пропитание. Шли дни, волчонок подрос и подружился с Теотониу, но старик все чаще ломал себе голову, что теперь с ним делать. Ему советовали отдать Студента в зоологический сад, где животные обязаны показывать себя детям и зевакам и за это обеспечиваются едой и могут долго спать. Но такому свободолюбивому человеку, каким был Теотониу, претила даже мысль о неволе. Пускай волк и здесь на привязи, но это не одно и то же. Здесь он среди гор, над ним чистое небо, в котором летают свободные птицы, он слышит, как воет ветер, у него есть друг, с которым он может поиграть.
Но когда наступили длинные дни, небо сбросило зимнее сукно и оделось в парчу, птицы защебетали по-весеннему и запорхали с дерева на дерево, а с вершин стал доноситься призывный вой, Теотониу почувствовал, что Студент затосковал, и сказал волку, будто человеку, который все понимает:
— Ну что тебе не сидится! Я могу тебя отпустить, но ты тысячу раз пожалеешь об этом! Вспомнишь мои слова: люди опаснее и коварнее волков!
Однажды, вернувшись вместе с Фарруско из Аркабузаиша, старик не нашел Студента на месте. Волк перегрыз веревку, сломал клетку и убежал. Теотониу не удивился. Зверь достиг зрелого возраста, и было бы чудом, если бы он устоял перед далеким глухим зовом истосковавшихся самок. Он, конечно, не мог не слышать этих призывов, спутанных с порывами ветра, как волокна льна на пряльце, и распутать эти призывы мог только он. Накануне Теотониу видел, как он стоял, вытянув морду, а по спине его пробегала мелкая дрожь.
— Ушел-таки к девкам, разбойник! Ну и пусть, мне забот меньше!
Фарруско, кажется, тоже позабыл о своем друге. Быстро прошло лето, наступила зима. Она принесла с собой ливни, заморозки, потом снег и густые туманы. И вот одним хмурым утром совсем близко от Рошамбаны Теотониу вдруг наткнулся на Студента. Он сидел на задних лапах и глядел в сторону Рошамбаны. Теотониу пошел в хижину, снял кролика, который висел там подвязанный за ноги, и, держа его кончиками пальцев, так, чтобы волк увидел, вынес во двор и понес волку. Но тот испугался и отбежал подальше, потом остановился и опять стал глядеть на Рошамбану. Теотониу бросил кролика и вернулся обратно, а волк наконец не выдержал, схватил кролика и принялся его рвать. Бедный зверь был голоден, настолько голоден, что не остановился бы ни перед чем, завидев пищу. С крыльца хижины Теотониу смотрел, как он в один миг покончил со своим завтраком, сожрав даже шкуру, и стал облизываться. Это очень походило на жертвоприношение, и старик невольно подумал:
«Всемогущий боже, если ты такой добрый, то зачем заставляешь зверей голодать? И почему, чтобы насытиться, они должны быть злыми и жестокими? Почему ты, безгранично мудрый, заставляешь их охотиться на беззащитных овец и невинных ягнят, когда в этом нет нужды! Поистине многие твои дела для нас непостижимы, и, если бы не это, я бы сказал, что ты безжалостный и безумный тиран!»
Потом это повторялось довольно часто. И уж обязательно Студент наведывался в сильные метели — он садился на задние лапы и ждал, когда его покормят. Если Теотониу задерживался или забывал о нем, волк начинал выть, однако стараясь издавать звуки помелодичней.
И Теотониу выносил ему, что было под рукой: кроликов, если они попадались в силки; не было кроликов — плошку молока; кончалось молоко — ломоть кукурузного хлеба. Он ни разу не позволил этому нищему уйти без подаяния. А Студент настолько привык к милостыне, что, если Теотониу не показывался, подходил к самому дому и царапался в дверь. Короада чуяла его и начинала в страхе скакать. Часто он приходил к источнику в Рошамбане утолить жажду, и однажды, когда валил снег, пришел вместе с волчицей. Какое-то мгновение они стояли перед опешившим Теотониу неподвижно, словно отлитые из бронзы, потом Студент положил лапу на плечо волчице, как бы говоря: «Прости, старик, но это моя подруга. Смотри, она такая же голодная, как и я. Нет ли у тебя для нас хоть крошечки».
Теотониу его понял, и некоторое время, пока продолжалась непогода, ему пришлось кормить еще двух едоков. Хуже было то, что волки стали таскать скот. Пастухи не знали, куда деваться от этих сильных зверей, нападавших на стадо среди бела дня. В одном из них все узнали волка, которого вскормил дядюшка Теотониу, — он ничего не боялся.
— Чтоб молния поразила этого лешего, зачем только он это сделал! — проклинали старика одни.
— Да он сам наполовину волк! — отвечали другие. — Нужно всем миром устроить на него облаву, как на настоящего зверя!
Никакой облавы не устроили — со стариком шутки плохи, но сплетни ходили всякие. Однако как избавиться от этих зверей, которым известны все человеческие хитрости? Их теперь видели то у одной деревни, то у другой, сегодня в Реболиде, завтра в Коргу-даш-Лонтраше, послезавтра в Тойрегаше. Здесь они зарезали ягненка, там — козленка, и горцы уже опасались, что они повадятся в деревни, начнут забираться в хлевы, ломать двери и уносить самых жирных барашков.
Спустя некоторое время люди стали видеть только волка с обрубленным хвостом. Куда же делась волчица? Может, ее отравили, или она сдохла, или ушла куда-нибудь? «Все ясно, — решил Теотониу, — волчица спряталась в дальних зарослях рожать и кормить волчат». И верно, вскоре они снова стали появляться вдвоем, но рядом с ними ходили три волчонка, неуклюжих и толстоногих. С высоких холмов волчица-мать показывала им стада и обучала, как надо бросаться в самую гущу и хватать глупых овец, пока пастух задает храпака. Их заметил дядюшка Зе из Памполиньи, который пас большое стадо и выше всех забирался с ним на вершины. Если они сейчас ягнят режут, что же будет дальше? Теотониу, которому часто доводилось слушать жалобы крестьян, даже глазом не моргнув, клялся отцом небесным, что этот волк вовсе не Студент, что у него хвост длинный, а охотников мерить хвост не находилось. Странно, но старик проникся к своему воспитаннику какой-то христианской жалостью.
Однажды, когда у Мануэла да Обриги из Аркабузаиша пропали коза и ягненок, он зарядил свое старое ружьишко, свистом позвал своих гончих и поспешил в дубняк, где Зе из Памполиньи слышал блеяние козы. Кустарник там рос очень густо, и раненые звери обычно скрывались в нем от преследования. Среди частых ветвей они находили убежище и исцеление, если верно, что волк не спит там, где жрет.
Псы Мануэла да Обриги, подойдя к кустам, начали отчаянно лаять. Прибежал хозяин и, раздвинув ветки, смело вошел в чащу. Он увидел волка, который, притаившись под папоротником, собирался броситься на него; глаза так и сверкали злобой, морда была прижата к земле. Не теряя времени, Мануэл вскинул ружье и нажал на спуск. Осечка. А волк уже весь напрягся для прыжка. Перепуганный, Мануэл стоял без кровинки в лице. Нужно было как-то избежать грозящей ему смерти, и он, сделав вид, что не заметил волка, как поступал, когда наталкивался на лежку зайцев и нечем было стрелять, повернул обратно. Выбравшись из чащи, он начал звать людей, которые были поблизости в можжевельнике. Прибежало много народу, все с вилами и мотыгами, и собак привели. А псы Мануэла не уходили от того места, где прятался волк, и по-прежнему громко лаяли.
Когда зверь увидел толпу, продиравшуюся сквозь заросли, он медленно поднялся и также медленно пошел в глубь чащи, вероятно чтобы скрыться в ней, но псы отрезали ему путь. Тогда люди, все же опасаясь напасть на волка, начали бросать в него камнями. Бросали мужчины, а женщины подносили камни в подолах. Первым полетел камень Обриги. Мимо. Вторым бросил Памполинья, он попал волку в живот. Зверь зарычал и начал грызть камень, кружась на месте. Третий камень угодил в лопатку. Потом люди решили, что кидать так не годится, что волк может опомниться, улучит момент и ускользнет, и теперь старались попасть в лапы и перебить их. Когда одну подбили, волк, пронзенный острой болью, гордо поднял голову, собираясь дать отпор. Но собаки набросились на него сзади, и волку пришлось повернуться к ним мордой. Преследователи, испуганные этим движением, кинулись врассыпную, псы тоже разбежались. Видя, что дорога открыта, волк с неожиданной быстротой бросился в чащу. Но собаки уже опомнились, как и люди. Одному из них удалось попасть волку немного выше глаза, а потом в лоб. Волк пошатнулся, с воем упал на траву и замер, вытянувшись во всю длину. Однако Обрига притащил большой камень и бросил его в волка. Камень обрушился ему на спину, тогда волк, собрав последние силы, вцепился в шею одной из собак. Это была самая любимая собака Обриги, и он, выхватив у кого-то вилы, с яростью вонзил их в волка. Зверь рухнул, как подрубленный дуб.
Все закричали, и на этот крик прибежал Теотониу — ведь Рошамбана была совсем близко. Увидев волка, он сейчас же узнал Студента.
— Это ваш волк, дядя Ловадеуш! — кричали вокруг. — Черт бы его побрал! Что он наделал!
— Глупости! Мой раза в три больше и худее этого. Вам моего в жизни не поймать. Хотите, проверим? Вспорите ему брюхо.
В брюхе у волка нашли половину козы, с копытами, шкурой и всей требухой. Не хватало только рогов. Может быть, коза была комолой.
— Так нажрался, что двигаться не мог.
— Мой Студент сначала сдирал с козы шкуру и кишки не ел. Уж я-то знаю! А этот был глупый и такой же свинья, как любой из вас.
— Тот, кто считает других свиньями, сам не лучше.
Теотониу показалось, что он поймал последний взгляд волка, перед тем как холод смерти погасил его. Памполинья, которого поддержал Обрига, сказал, что пойдет в Аркабузаиш за ослом, чтобы увезти волка.
— За него я получу немало яиц, лука и картошки! — радостно восклицал пастух, приплясывая на одной ноге.
Но Теотониу собрал сухого хвороста, положил волка сверху и поджег.
— Не удастся тебе посмеяться надо мной и над волком!
Вернувшись обратно, Памполинья нашел только пепел.
— Вот дьявол! Сорвалось! Но кто это сделал? Ничего, я с ним еще посчитаюсь.
Когда он проходил мимо Рошамбаны, Теотониу вышел на тропинку:
— Эй жулик, ты что, не знаешь, что оставлять мертвого волка в горах большой грех? Тут странники проходили из Парада-да-Санты, они его и сожгли. Так-то.
Ночью в своей хижине старый Теотониу смахнул одну-единственную слезу.
— Зачем я тебя растил, зачем от голода спасал! — сокрушался он. — Дорого ты заплатил, Студент, за свою любовь к воле и грех перед богом, за то, что любил ты каждый день, даже по пятницам, парным мясом вволю наедаться. А то, что с тобой случилось, не сегодня-завтра может и со мной случиться!
Наконец кончился этот несчастливый декабрь, потонул в бездонном потоке времени. Пришло рождество. Заливаясь слезами, семья Ловадеуш собралась за скудным ужином в своем обнищавшем доме. Мануэл писал из тюрьмы, и от писем его веяло бодростью и уверенностью.
«Говорят, скоро нас будут судить. Хоть бы скорей! Городские адвокаты — народ опытный и знающий, уверяют меня, что все будет хорошо. Значит, пол вы уже настелили и собираетесь продавать дом в деревне. Смотрите, не продешевите. Я здесь кое-что придумал, но пока не скажу что. Только помните: скоро конец нашим бедам. У нас еще будет автомобиль, вроде тех, что гудят здесь на улицах и не дают мне спать».
Старик, однако, не очень-то верил в сметку своего сына и продолжал все делать по-своему.
Потом полили дожди, подошла страстная пятница. Вороны улетели на вершины утесов, нисколько не интересуясь красной крышей нового дома, и восседали там, как на троне. Затем они падали вниз и высматривали потерявшихся в горах молодых овец или подстреленных зайцев, уползавших в заросли умирать. Но воронов опережала лисица, которая была гораздо хитрее их. Когда, обнаружив жертву, они подлетали, лиса по зарослям дрока уже тащила к себе в нору добычу, так же молча, как Теотониу. И впрямь, кто у кого научился?
В ясные часы, когда дом в Рошамбане с его новенькой крышей казался цветущим маком, на фоне темной, поросшей вереском и папоротником горы, Теотониу вздыхал:
— Был бы здесь Мануэл!
— Ваш сын должен вернуться, — говорила дона Мария Ригоберто. — Скоро будет суд, и его освободят. Иначе скалы сдвинутся со своего места!
ГЛАВА VIII
— Язык имеет свои причуды. Вы заметили, сеньор инженер, что слово «суд» хорошо сочетается с целым рядом слов, обозначающих в общем довольно отсталые понятия, хотя слова эти весьма громкие? Например: мученический, благочестивый, жестокий, карающий, несправедливый, продажный. От этих слов веет средневековьем, оставившим по себе дурную славу. Я слышу эти слова, и мне кажется, что до меня доносится похоронный звон; я вижу, как из церкви выходит процессия со святыми, ведет ее монах в черном одеянии, а впереди мальчик-служка с колокольчиком: динь-динь-динь!
— Совершенно с вами согласен. Инквизиция и та, пожалуй, лучше нашего ненавистного трибунала.
Так беседовали между собой д-р Ригоберто и Сесар Фонталва, направляясь по улице Святой Катарины в городе Порто на пленарное заседание трибунала. Было солнечное утро, какое бывает только ранней весной. Такие утра придают Порто особый, только ему присущий пленительный облик; под лучами солнца сверкают витрины магазинов, лоснятся изразцы храмов, словно вывернутый наизнанку фрак, блестят рекламы, камни мостовых и бегающие взад и вперед машины, которые своими визгливыми гудками словно просят: «Ну, посмотрите же, посмотрите на нас!» В такие дни, когда в Порто не идут обычные для него моросящие дожди и не стелются густые туманы, он похож на сказочный город, выросший из-под земли минувшей ночью, подобно грибам, которые чудом вырастают на опаленной солнцем земле. И как бы ты ни был обременен работой и удручен невзгодами, порыв безудержной радости проникает в твою кровь и ты забываешь о мрачном настроении и надоевших делах! Поэтому жители Порто оптимисты.
Ригоберто поддался очарованию этого города и был в таком же хорошем настроении, как и Фонталва. Судебное заседание было назначено на десять часов, и вот десять ударов пробило на башне Троицы. Но они знали, что заседания никогда не начинаются вовремя, и не спешили.
Рядом с ними шел Теотониу Ловадеуш в своем нарядном костюме, болтавшемся на нем, как на вешалке, в рубашке из домотканого льняного полотна, которую кроила, шила и гладила Жоржина. Теотониу был без галстука. Во времена его молодости галстук вообще редко кто носил, а Теотониу и вовсе, потому что не понимал, зачем это нужно. Галстук носили зажиточные крестьяне, а Теотониу был бедняком и бедняком собирался умереть. Он побрился на Руа до Сол у уличного цирюльника, который то и дело хватал его за кончик носа, чтобы чище выскоблить верхнюю губу, изборожденную глубокими, как овраги, морщинами. Скулы Теотониу до самых век заросли не поддающейся бритве черной и жесткой, словно проволока, щетиной, а из ушей торчали густые пучки волос, которых хватило бы на помазок. Его густые брови не могли приглушить блеск необычайно живых глаз, придающих старику сходство с разозленным котом. Внешне горец казался робким, но душою был горд.
Теотониу шел слева от Ригоберто, строгий и полный достоинства, а тот сбоку наблюдал за ним. И хотя доктора восхищала невозмутимость горца, который не утратил уверенности в себе, он все же догадывался, что старик устал от городской суеты и до смерти хочет поскорее назад, в горы. Теотониу, как и многие его земляки, пришел на процесс в надежде вернуться обратно с сыном, которого оправдают. Горцев набралось больше тридцати, они шли сзади Ригоберто и Фонталвы, громко шумя. Остановились крестьяне в гостинице неподалеку от Вандомской арки, устроились со всеми удобствами — спали на обеденном столе, положив под голову руку, похожую на клешню, предварительно поужинав жареными сардинами с молодым вином. Там они могли сколько хотели потягиваться, ходить без пиджаков, в шляпах, и никто им за это не пенял.
У подъезда суда было полно блюстителей порядка. Руководил ими капитан с преждевременно поблекшим лицом, затянутый в китель и в высоких сапогах; он чем-то напоминал разбитного и плутоватого казака из романа Толстого. В вестибюле ему было тесно, он метался по нему взад и вперед, то разглядывал тех, кто входил, то бежал послушать разговоры, на ходу решая дела, с которыми к нему обращались, и все время нервно подергивался. Переступить порог, охраняемый этим цербером, было нелегко, он допрашивал, как под присягой, не пропуская никого из входивших. Как зовут? Откуда явился? Зачем? Адвокат? Свидетель?
От кого же защищало это мощное войско? От новой Патулейи
[22], передовыми дозорами которой были крестьяне, хлынувшие на улицу Пасос, и Мануэл, готовой снести все начисто? От мятежных легионов, поднявшихся против буржуа, священников, дворян и полиции?
Каждое явление социального порядка имеет свой эпицентр, здесь эпицентром была сила, которой была предоставлена неограниченная власть и которая поэтому раздавала пинки направо и налево. Полдюжины оборванных крестьян, схваченных наугад во время беспорядков в Серра-Мильафрише, готовились в жертву прожорливому Молоху правосудия, и никто не заботился о том, чтобы кару понес виновный. А чтобы дополнить мятежный букет, в него добавили немного рабочих из Риба-до-Писко, обвиняемых хозяевами-мультимиллионерами в том, что по приказу Москвы они устроили мятеж, использовав как предлог гнилую треску, которая продавалась в лавке и которой многие из рабочих отравились насмерть.
За пару свиных колбас и полкорзины каштанов, поднесенных башмачнику с улицы Кармелитов, происходившему из Аркабузаиша и доводившемуся свояком одному полицейскому, сыновьям Мануэла до Розарио, Жусто Родригиша и Жоао Ребордао удалось сесть так, что они могли обмениваться с отцами ободряющими взглядами. Старик Ловадеуш тоже воспользовался этой любезностью со стороны полицейского, и, пока д-р Ригоберто направлялся к скамье адвокатов, а Сесар Фонталва — к скамье свидетелей, он протиснулся к своему месту с той же бесцеремонностью, с какой пробирался на ярмарке в загон, чтобы прицениться к корове.
Судьи по-приятельски, словно в пивной, переговаривались с адвокатами. Ригоберто, который не один год выступал на процессах, знал о них всю подноготную. Может быть, они были и неплохие люди, но кто знает, как они поведут себя в решительный момент. По новому положению о судоустройстве суд состоял из двух членов и председателя. С первого взгляда было видно, что они уже немолоды и не одну пару штанов протерли на судейских креслах, превратившись в механизмы, способные лишь штамповать одно решение за другим. Должно быть, в кругу своих знакомых они считались примерными отцами семей и людьми высоких моральных качеств. Пара серебряных эскуду, которая окольными путями попадала им в руки, козленок с горных пастбищ, интрижки со служанками — вот и все их грешки, однако не ниспровергавшие их с пьедестала добродетели, куда они попали, пожалуй, все же незаслуженно.
Самым подлым среди них был председатель д-р Отавио Роувиньо Эстронка Бритейрос, он был глух, но из гордости не признавался в этом и, когда с ним говорили, напряженно старался догадаться, о чем идет речь. Поэтому на заседаниях часто оказывался в смешном положении. Он неудачно женился в Алентежо, куда ему помог попасть приятель министр, обещавший Отавио богатую жену. Но Отавио Роувиньо женился на бедной, соблазнившись мешками с пшеницей, которые оказались заложенными, и с тех пор, так и не разбогатев, стал скупым, всегда всем недовольным, ко всему равнодушным. Других ценных качеств, необходимых, чтобы взбираться по служебной лестнице, он не имел, однако взобрался, что свидетельствует о его упорстве. Он был судьей в Порто, а родился в Майе. Старый дом отца, бродячего торговца, он со временем снес и сумел построить себе настоящий дворец, так что кое-чего ему все же удалось добиться. Но успех не всегда ему сопутствовал. При крещении он получил имя Отавио Роувиньо. На свой страх и риск, воспользовавшись дальним родством с дворянином, незаконным сыном которого был его дед по отцу, он добавил еще — Эстронка Бритейрос.
Один из членов суда, Адалберто Фернандиш, очень напоминал мясника — громадный, крепкий, толстомордый, он словно топором орудовал за судейским столом. Во времена, когда еще были виселицы, ему вполне бы подошла роль палача. Наказания он всегда требовал самого строгого из тех, что полагались по закону. Его приговоры отличались жестокостью и публиковались в ведомственных газетах как образец правосудия. Ходили слухи, что его семенная жизнь сложилась очень неудачно: жена была расточительна и развратна, оба сына — шалопаи, дочь — слабоумная. Поэтому он и лютовал, как зверь.
Другой судья — Жозе Рамос Коэльо, скользкий, как угорь, был абсолютнейшим нулем. В суд он пролез благодаря своему ничтожеству и подхалимству. Бледный, сухой, с бесцветными глазами, холостяк и женоненавистник, он превыше всего ценил порядок в делопроизводстве и быстроту при разборе дел. Подсудимый, который проявлял неучтивость, то есть сидел, открывал рот, зевал, говорил и смеялся не так, как это полагалось, по мнению Коэльо, получал максимальное наказание, и упаси бог если он заметит, как кто-нибудь ковыряет в носу, трещит суставами пальцев, ерзает на скамье, кладет ногу на ногу или сопит. У себе подобных он не терпел даже маленьких слабостей, а непочтительность почитал самым большим недостатком. Подсудимый же, который казался ему покорным, как раскаявшийся грешник, хотя его покорность была всего лишь смирением закоренелого вора, не оправдывался только в том случае, если изнасиловал монахиню или голодный был пойман с поличным при краже хлеба. Объяснялось это тем, что сеньор Коэльо был ревностным католиком и не допускал посягательств на чужую собственность. Собственность для него, владельца небольшого счета в банке и земельного участка в Оисе, представляла собой «основу общества, создающую и облагораживающую личность», он где-то вычитал эту фразу и повторял ее по каждому поводу.
Представитель министерства внутренних дел, выездной судья Илдебрандо Соберано Перес был подлецом высшей марки. Он был словно рожден для того, чтобы нагонять страх, адвокаты его боялись и ненавидели, его коллеги делали вид, что уважают его, однако в душе желали ему смерти. Ведь он был представителем и проводником воли властей и всячески давал понять, что сам министр прислушивается к его мнению. Небольшого роста, с маленькими и колючими птичьими глазками, он любил бросать многозначительные взгляды, якобы свидетельствующие о его мудрости и проницательности, иногда это ему удавалось. Розовенький и круглый, как барабан, он всегда был отлично одет и непрестанно поправлял что-нибудь в своем туалете: то складку на брюках, то галстук, даже полы его пиджака под тогой лежали строго вертикально. Щегольство не раз помогало Пересу, благодаря ему и другим приемам обольщения он завоевал дочь одного политикана времен монархии, который умер одновременно с королевской властью и оставил приличное состояние. Чтобы польстить одному видному чинуше, Перес и позже использовал свою славу щеголя, помог ему надеть сюртук, поцеловал ручку, поднес огонек зажигалки и с видом знатока воскликнул:
— Поистине королевский костюм!
Д-р Соберано Перес разбогател, а то, что его дочь была безобразна, это не так уж важно. Теперь главная цель его жизни — обогащение — давно была достигнута. Жестокость и раболепство перед стоящими выше вызволили его из нищеты и были теперь тем попутным ветром, который гнал его парус. Никто не удивлялся, слыша, как он требует высшей меры, невзирая на смягчающие вину обстоятельства, какими бы вескими они ни были. Для некоторых Перес мог сойти за человека умного, но в глазах настоящих юристов был не больше, чем посредственный толкователь кодекса; однако министерству юстиции были нужны такие чиновники для проведения в жизнь жестоких законов, и Перес был еще не самым худшим. Люди, подобные ему, говорил Ригоберто, считают, что только им дано вершить справедливый суд. Судьи прислушивались к мнению Соберано Переса, а он авторитетно подсказывал, чтобы не сказать — диктовал приговоры.
Д-р Ригоберто, хоть и был провинциальным адвокатом, составил об этих судьях мнение, которое его коллеги, когда он поделился с ними, нашли правильным, хотя и нелестным. Поэтому, когда Теотониу Ловадеуш сказал ему, что собирается присутствовать при разборе дела и не сомневается, что сына оправдают и они вернутся домой вместе, д-р Ригоберто не нашел в себе смелости разуверить его, хотя настроен был весьма скептически. Кроме гнилых плодов, ждать от этого судейского древа, более дикого, чем библейская смоковница, было нечего.
Пока он размышлял об этом, в зал входили адвокаты — опытные и совсем новички, — мелькали знакомые и чужие лица. Повсюду слышались приветственные возгласы, обмен мнениями, анекдоты. Но вот судейский чиновник начал перекличку гнусавым и скрипучим, как немазаные ворота, голосом, на тембр которого, видимо, повлияла и погода, и вино, и дурная наследственность.
Всего подсудимых было двадцать четыре человека, из которых половина не имела никакого отношения к делу о лесопосадках. Это были ткачи из Риба-до-Писко. Они привели множество свидетелей — родственников и знакомых. Рядом с ними теснилась толпа крестьян, которые, не побоявшись тридцатикилометровой дороги, приехали помочь подсудимым из Серра-Мильафриша. Поскольку это были люди зажиточные, они наняли грузовик.
Установление личности подсудимых и прочие процедурные формальности прошли обычным путем и довольно быстро. Только д-р Ригоберто заявил возражение против того, что сразу рассматриваются два совершенно различных дела. Подсудимые из Серра-Мильафриша обвиняются в сопротивлении властям, а подсудимые из Риба-до-Писко в ведении подрывной пропаганды, как это определили хозяева фабрики, и в посягательстве на существующий строй.
Председатель суда разрешил представителю министерства внутренних дел объяснить, почему эти дела рассматриваются одновременно. Тот, как и следовало ожидать, привел доводы, ставшие уже классическими при системе произвола, а именно: любое народное волнение, квалифицируемое законом как коллективное неподчинение властям, инспирируется коммунистическими агитаторами. Допустить, что массы сами могут подняться на восстание, когда ущемлены их интересы, он не хотел и отказывался понимать это. Все эти смуты — дело подпольных организаций, покушающихся на благословенный мир в Эльдорадо — стране изобилия и любви. Уж не пронюхал ли этот чиновник, что после того как в Буса-до-Рей произошла встреча инженеров с представителями окрестных деревень, крестьяне несколько раз собирались, чтобы договориться о вооруженном сопротивлении?
Такое же преступление приписывалось арестованным в Риба-до-Писко, часть которых уже привлекалась к суду за пропаганду — они организовали стачку на фабрике. Были произведены аресты рабочих, на которых указали как на главарей и которые, как выяснилось, были членами организации, подрывающей существующий порядок, то есть Португальской коммунистической партии, что не без оснований и предполагала полиция.
На этих обвиняемых распространялись меры наказания, предусмотренные статьей 169 пункт 1 с применением статьи 168 Уголовного кодекса, приравнивающей к восстанию всякий вред и убытки, причиненные государственным учреждениям, от работы
которых зависит благосостояние общества и удовлетворение нужд населения. Однако благодаря свидетельским показаниям выяснилось, что арестованные в Серра-Мильафрише свершили другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, а именно применили всякого рода оружие — охотничьи дробовики, маузеры и даже привязанные к палке серпы и вилы. Наконец главное обвинение, предъявленное арестованным горцам, сводилось к тому, что бунт, принесший большие потери, и покушение на высокопоставленных государственных чиновников явились результатом подрывной пропаганды.
Тот и другой бунты высокочтимое министерство внутренних дел расценило как акты, в конечном счете направленные против безопасности государства: в Серра-Мильафрише это было сопротивление жителей проведению государственного мероприятия, в Риба-до-Писко — подстрекательство к забастовке. Именно однородность этих преступлений и побудила прокурора (и весьма кстати, ибо это облегчало работу суда) объединить оба дела.
Остальные пункты, сформулированные на языке готентотов, обычном для чрезвычайных трибуналов, со слишком пространным изложением состава преступления, прокурор торопливо пробубнил, листая одну страницу за другой. И, прежде чем сесть, заявил:
— Из этого следует, что уважаемый адвокат грешит отсутствием логики, когда требует отдельного разбирательства преступного бунта в Риба-до-Писко и преступного бунта в Серра-Мильафрише, оба они являются ростками одного семени.
Д-р Ригоберто был явно не согласен с этим, но не стоило терять попусту время на возражения. Возобновилась процедура установления личности обвиняемых и зачитывания предъявляемого им обвинения, однообразная и тягучая, как долгий, скучный день. Все это очень напоминало присказку о стаде, которое никак не могло перейти мост.
Когда очередь дошла до Мануэла Ловадеуша, председатель бросил на него злой взгляд. Ригоберто напрягся, как натянутая тетива, чтобы не пропустить ни слова, ибо прокурор был простужен и гнусавил:
— Подсудимый Мануэл Ловадеуш обвиняется в том, что подстрекал крестьян сопротивляться проведению в жизнь решения, принятого государством. То обстоятельство, что он нажил в Америке кое-какое состояние и отличается от остальных тем, что повидал свет, умеет говорить и обладает редкой для эмигранта культурой, помогало ему разжигать страсти против Лесной службы и ее чиновников. Он заходил в трактир будто бы выпить стакан вина или купить сигарет, и вокруг него собирались люди. Конечно, он не призывал прямо к убийству, наоборот, пропаганда велась тонко и мягко, мы бы сказали, по-христиански, и поэтому была в высшей степени опасна. Он не напяливал на себя волчью шкуру, отнюдь — скорее представал перед земляками в овечьей. Таким образом мало-помалу ему удалось достичь своего, а в результате некоторые погибли, многие были ранены, и среди последних следует назвать крупного специалиста государственной Лесной службы Лизуарте Штрейта да Фонсеку, который остался искалеченным на всю жизнь. Расплывчатое, с одной стороны — научное, с другой — традиционное учение позитивистской церкви, пустившее корни в Южной Америке, особенно в Бразилии, пропитало Мануэла Ловадеуша мистицизмом, внешне безобидным и проповедующим сострадание к обездоленным. Учение это прививает филантропическую мораль, согласно которой человек не имеет права делать зло себе подобному и которой прикрываются, утверждая, что последователи этой доктрины никоим образом не могут поддерживать насилие. Но пословица гласит: правильно учит брат Фома, делай, как он говорит, но не делай того, что он делает. Следует помнить, что гражданин, который, имея возможность пресечь злодеяние, не сделал этого, виновен не меньше самого преступника. Однако действия обвиняемого, как это следует из приобщенных к делу документов, носят совершенно другой характер, они направлены на разрушение устоев общества, хотя и основываются на софистских доктринах всеобщего мира и согласия. Следовательно, слабость защиты в том, что она опирается на философию, не признанную нашими научными кругами и изгнанную из наших учебных заведений, где формируются убеждения в соответствии с законом божьим. Но так или иначе, вооруженный этими идеями, подсудимый смог исподволь, своими елейными речами разжечь бунт, охвативший один из самых спокойных и консервативных районов нашей трудолюбивой страны. Может, подсудимый что-нибудь хочет сказать в свою защиту?
Все с любопытством посмотрели на человека, поднявшегося со скамьи подсудимых; он был среднего роста, с лицом, почерневшим от долгого пребывания в тропиках, в потрепанном костюме, выдающем в нем эмигранта, который оделся в портновской мастерской или в магазине готового платья.
— То немногое, что я хочу сказать, относится только ко мне. Уж если зашла речь о моем прошлом, я хочу, чтобы уважаемый суд знал, кто я. О преступлении, которое я будто бы совершил, будет говорить сеньор доктор Ригоберто, известный адвокат и мой друг, который знает меня как свои пять пальцев, хотя я сам плохо знаю, какая рука у меня правая. А когда я покинул Португалию, я едва отличал буквы алфавита одну от другой. Там, за границей, где мне довелось пройти через тысячу мытарств, раз я хотел разбогатеть, а быть может, и из любопытства, я стал учиться. Я читал все книги, которые попадались мне на глаза, однако многие из них я не понимал. Я говорил со многими людьми, и каждый из них расхваливал свое учение; одни учения казались мне справедливыми, другие — запутанными. Приобретя некоторые знания, я стал задумываться над тем, что представляет собой окружающий меня мир и что такое я сам. Случилось так, что я стал последователем позитивистской церкви, ибо она лучше других объясняла моему непросвещенному разуму, для чего мы живем на земле и какой след останется после нашей столь быстро минувшей жизни.
Представитель министерства внутренних дел обменялся с судьей понимающим взглядом, видимо, речь Мануэла показалась ему длинной и не имеющей отношения к делу, поэтому он сказал:
— Хорошо, хорошо! Скажите, обвиняемый: верите ли вы в бессмертие души?
— Нет, сеньор.
— Значит, за хорошие поступки нет вознаграждения? А за плохие?
— Что такое хорошие поступки и что такое плохие? — вмешался Ригоберто. — Все поступки являются для меня хорошими, если я их сам совершаю или по крайней мере, когда я их совершаю. А плохие — это те, которые совершаются другими, — которые меня ущемляют и выгодны кому-то другому, а может, обществу. В таких ситуациях друзья и враги, видимо, меняются ролями. Так кто же прав? Где тот непогрешимый судья, который нас рассудит?
— Сеньор адвокат, я не допущу, чтобы вы делали столь недостойные намеки на мое министерство. Для меня добрые поступки те, которые соответствуют закону; плохие, которые нарушают его. Впрочем, это пустой разговор, и не с вами мне об этом говорить. Я полагал, что для нас, юристов, этические нормы одинаковы!
На лице Ригоберто промелькнула легкая пренебрежительная улыбка, не ускользнувшая от д-ра Соберано Переса; неожиданно, словно выстрел, раздался его вопрос:
— Подсудимый был когда-нибудь в Москве?
— Нет, сеньор.
— А знаете, где она?
— Да, сеньор.
— Слушаете Москву по радио?
— У нас в деревне нет электричества.
— Но Москву вы бы слушали с удовольствием?
— Как все станции мира: и Москву и Ватикан.
— Знаете, что такое коммунизм?
— Плохо.
— Это политическая система, отрицающая наш строй, основой которого являются бог, патриотизм, собственность и семья. Вы что-то хотите сказать?
Подсудимый молчал. Судья бросил на него торжествующий взгляд. Тогда д-р Ригоберто попросил слова.
— Что же еще может сказать вам этот простой и честный человек? Любое его высказывание дает вам повод запутать его в параграфах и статьях, в которых вы так хорошо разбираетесь. Вы всю свою жизнь только и делали, что упражнялись в искусстве полемики, а он натирал на руках мозоли. Я решительно возражаю против формы допроса, которой вы хотите сбить с толку моего подзащитного. Он находится здесь для того, чтобы ответить за свои действия, а не за то, что он сделал бы или не сделал в том или ином случае. Наше право еще со времен кардинала дона Энрике, короля и инквизитора, запрещает допрос, касающийся вероисповедания подсудимого.
Представитель министерства внутренних дел швырнул на стол папку, толстую, как могильная плита, и надменно заявил:
— Я считал, что подсудимому, против которого выдвигаются столь тяжелые обвинения, было бы выгодно откровенно рассказать о мотивах действий, в которых он обвиняется. Юстиция — это наука понимать, а понять — значит найти смягчающие вину обстоятельства; обоснуясь на них, суд сможет вынести мягкий приговор. Тот же, кто не дает проникнуть к себе в душу, является закоренелым преступником и представляет собой опасность для общества. С такими нечего церемониться. Вы, его защитник, находите, что я не должен заниматься личностью подсудимого, ну что ж, двинемся дальше. Подсудимый подозревается в том, что он привез из-за границы карабин. Многие слышали, как он хвастался, что хорошо вооружен. Правда, никто не видел этого карабина, но есть основания думать, что он передал оружие одному из тех безумцев, которые открыли огонь по отряду полицейских и на всю жизнь искалечили крупного ученого Лизуарте Штрейта да Фонсеку…
— Простите, — вмешался д-р Ригоберто, — мой подзащитный не привозил из Бразилии никакого оружия. Шутя, он как-то сказал, что у него есть способ отпугнуть волков от дома. Разве это равносильно заявлению, что он привез с собой оружие? К тому же речь идет о карабине. Но карабин не пропустит ни одна таможня. Я снова решительно протестую против того, что догадки выдаются за факты. Меру ответственности выясняют на действительных, но не воображаемых фактах, а медицинская экспертиза подтверждает, что инженера Штрейта ранили из охотничьего ружья. Из его тела была извлечена дробь. Куда же девались пули от карабина?
— Однако доказано, что подсудимого видели в тавернах и других людных местах, где он если не призывал к бунту, то, во всяком случае, советовал оказать сопротивление.
— Простите, господин представитель министерства внутренних дел, но это не доказано, — возразил д-р Ригоберто. — Мой подзащитный лишь изредка, когда ему случалось бывать в соседних деревнях, говорил о лесопосадках в Серра-Мильафрише. Иначе и быть не могло, в округе только об этом и шел разговор. Естественно, этот вопрос волновал и его, как же он мог молчать? Но, высказывая свое мнение, он ни разу не разжигал страстей, не призывал к сопротивлению.
— А нельзя ли сейчас узнать, каково его мнение по столь серьезному вопросу? — представитель министерства внутренних дел повернулся сначала к Мануэлу Ловадеушу, а потом к д-ру Ригоберто.
— Вот оно! — ответил д-р Ригоберто. — Я уверен, что мой подзащитный, впрочем, как и я, считает, что горы, засаженные лесом, в будущем дадут экономическую выгоду в десять, двадцать раз больше, чем теперь, когда за ними никто не смотрит, когда их ранят мотыги корчевщиков и весной, когда появляется молодая зелень, топчет скот. Сами горцы под руководством Лесной службы и при поддержке государства должны проводить лесопосадки без всякого насилия, чтобы они, эти люди, не утратили чувства свободы, которой пользуются. Пусть лес валят на древесину и для других целей, но пусть народ останется хотя бы номинально хозяином своих родных мест. Без этого он не может жить. Или уж тогда поднимите его на такую ступень развития, чтобы лесопосадки стали для горцев еще одной победой над бедностью, а не печальной необходимостью, стали путем к лучшей, более культурной жизни. В неописуемо трудных условиях, в которые поставлено местное население, при крайне низком уровне жизни и существующей отсталости горы совершенно необходимы ему, ибо только они поддерживают этих людей. Вот что я думаю, и что-нибудь в этом же духе, но другими словами мог бы сказать и мой подзащитный. А если это преступление, то «Отче наш» нужно запретить, поскольку в этой молитве просят нового царства взамен царства земного.
— Допустим, что Мануэл Ловадеуш занимал эту внешне безобидную позицию, но как вы объясните то, что он появился в секторе два и возглавил бунтовщиков?
— Главный инженер, который руководил работами в этом секторе, в своих показаниях совершенно недвусмысленно заявил, что не слышал от Ловадеуша ни одного грубого слова, скорее наоборот, было установлено, что его действия были направлены на примирение. Там не было никаких беспорядков! Вряд ли Ловадеуш умышленно взял на себя благородную миссию миротворца, скорее, он выполнял ее непроизвольно. Но разве он не имел права заявить, что лесопосадки, которые намеревалась провести Лесная служба, принесут горцам вред?
— Нет, сеньор, не имел, ибо заранее было известно, какого рода намерения были у этой толпы, к тому же вооруженной.
— Но в секторе два не было беспорядков…
— Они были в секторе один, а разве все, что там случилось, не походит на преднамеренные и организованные действия? В секторе два мятеж не вспыхнул только благодаря обстоятельствам, не имеющим отношения к делу, но он вспыхнул в секторе один. И на участниках волнений в секторе два лежит вина за то, что произошло в секторе один.
Д-р Ригоберто снова скривил губы и возразил:
— Это басня о волке и ягненке, вечная история о сильном и слабом, о судье, который сначала допрашивает ответчика, а потом хватает его за волосы.
— Сеньор председатель, я требую занести в протокол для возбуждения уголовного дела слова сеньора адвоката, они оскорбляют мою честь.
— Заседание прерывается для рассмотрения просьбы представителя министерства внутренних дел!
ГЛАВА IX
— Второму подсудимому встать! — громко произнес густым осипшим голосом судья Отавио Роувиньо, открывая в десять утра очередное заседание. — Алонзо Рибелаш, не так ли? Бывший приходский староста. Владелец участка, уроженец Фаваиш Кеймадуша, женат. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?
— Точно нет, сеньор судья, — ответил Алонзо Рибелаш, цветущий полный мужчина, с копной волос, спокойными большими глазами и крепкими челюстями. У него были большие жилистые руки, руки бедного земледельца, который всю свою жизнь пахал окаменевшую землю. Повязанный вокруг сильной шеи ярко-красный в темную крапинку галстук напоминал рану на его загорелой груди. Ростом и сложением Алонзо походил на Санчо Пансу.
— Вы обвиняетесь в том, что были одним из главарей бунта в районе лесопосадок в Серра-Мильафрише. Вы были в числе стрелявших?
— Никогда в руки не брал оружия.
— Вы проходили военную службу?
— Нет, сеньор.
— Такой здоровяк?
— Меня освободили.
— Вы хотите сказать, что уклонились.
— Нет, сеньор, меня освободила жунта. Дай бог здоровья отцу сеньора доктора Лабао, который сейчас здесь, он вступился за меня.
Эти слова судья д-р Жозе Рамос расценил, как непочтительность и даже клевету на государство, раз речь шла о погрешимости хотя бы одного из его органов. Он попытался съязвить:
— Это было, когда у вас была другая жена?
— А я, ваше превосходительство, только один раз и был женат.
В зале послышались смешки. Даже сеньор председатель ухмыльнулся. Однако достопочтенный член суда по-прежнему считал показания Алонзо Рибелаша ложью, а его самого наглецом:
— Подсудимый притворяется простаком…
— Нет, сеньор, я горец.
Последовало непродолжительное молчание, судье, который обдумывал, как ему поступать дальше, передалось веселое настроение присутствующих. Наконец он нашел удачный ход, полностью исключавший возможность контратаки:
— Конечно, если подсудимого освободила комиссия, то, видимо, она нашла у него какой-то дефект. Может быть, он плохо соображает, а может быть, плохо слышит. Но пойдем дальше: сеньор председатель спросил вас, не были ли вы в числе тех, кто открыл огонь?
— Да у меня нет ни огнива, ни зажигалки — я не курящий.
— Но вы держали что-то в руках… нож или дубину… словом, были вооружены с головы до ног.
— Нет, сеньор судья, я тогда босиком ходил, у меня мозоль на пятке, и я не мог сапоги надеть.
— В протоколе совсем другое говорится. Зачитываю: «Шел во главе толпы, громко крича «долой»…
— Это неправда. Я даже на волка, если он меня за горло схватит, крикнуть не могу. Как-то я шел по моему участку в Шелейра-до-Негро и наскочил на стаю волков, которая ярку зарезала у меня на глазах. Кругом было полно народу, и никто не услышал, как я звал на помощь, такой слабый у меня голос.
— Что-то это незаметно, когда вы говорите.
— О, говорить я могу целый день и не устану, хотите верьте, хотите нет.
— Ну и остряк! — сказал судья Жозе Рамос Коэльо, обращаясь к председателю, словно предлагал взять этого подсудимого на заметку.
И действительно, председатель, выпрямившись в своем кресле, спросил:
— Каковы ваши политические взгляды?
— Я в политике ничего не смыслю, ваше превосходительство. Газет не читаю.
— Но вы были старостой.
— Был по просьбе отца доктора Лабао, который избавил меня от солдатского ранца.
— Когда-нибудь голосовали?
— Раньше случалось, а теперь мне не дают, чтобы я не голосовал против правительства. Мы в горах все, как один, против правительства.
— А вы знаете, кто правит страной?
— Откуда мне знать! Я слышал, какой-то выродок, ведь дела идут все хуже и хуже.
— Подсудимый, вы позволяете себе лишнее. Одно из двух: либо вы дурак, либо притворяетесь.
— Я не дурак, но, будь по-вашему, говорить, что страной правит какой-то выродок, я больше не стану. Не стану говорить и о том, что беднею с каждым днем, что налоги все тяжелее, что ремень затягиваю все туже.
— Самое страшное, что вы не понимаете, что говорите. Правят страной очень умные люди, не вам чета. Если бы у вас была хоть капелька ума, вы бы не оказались на скамье подсудимых. Вы никогда не слушали их речей?
— Да кроме них, я ничего и не слышал. Хотел бы я им сказать, что они разбойники с большой дороги. Я чем больше работаю, тем становлюсь беднее.
— Ладно, перейдем к главному: вы признаете, что принимали участие в бунте?
— Я не могу признаться в том, чего не делал. Пусть я не увижу больше света, если вру.
— Но вы шли с толпой?
— До определенного места.
— Но все же шли. Так знайте, даже один шаг делает вас преступником.
— Я давно хотел посмотреть, кто нас грабит…
— Вернее, кто хотел помочь вам… Много народу участвовало в бунте?
— Все, кто родились в нашем несчастном Серра-Мильафрише и зимними ночами слушают, как воют волки.
— Вы участвовали в бунте?
— В чем?
— В бунте!
— Нет, сеньор. Мой кум Шико Баррелаш сказал мне: «Вернемся назад, Алонзо. Эти люди идут на погибель». И мы пошли в трактир к Гниде опрокинуть рюмочку и в картишки сыграть.
— Вы призывали к борьбе против правительства?
— Нет, сеньор, к борьбе против правительства никто не призывал. Мы все мирные люди. Мы думали, что нас оставят в покое, но все вокруг стали говорить, что теперь мы обнищаем еще больше, останемся без рубашки.
Судья Роувиньо Эстронка Бритейрос развел руками, словно хотел сказать, что добиваться чего-либо от этой деревенщины, которая почему-то строит из себя дурака, все равно, что ковать холодное железо. Представитель министерства внутренних дел попросил позволения задать несколько вопросов:
— Подсудимый, вы умеете читать и писать?
— Свое имя выведу, а читаю кое-как, по складам…
— Какие книги вы читали?
— «Учитель жизни», «Сборщики каучука»…
— Следовательно, вы знаете больше, чем может показаться, когда вы разыгрываете из себя простака… Прошу уважаемых судей принять к сведению мое замечание. Кто стрелял в инженера Лизуарте Штрейта да Фонсеку? Не знаете?
Подсудимый опустил голову.
— Не вы?
Рибелаш подскочил:
— Я был в трактире у Гниды, когда поднялся весь этот шум.
— В протоколах говорится другое. Но можно выяснить… Господин председатель, нельзя ли вызвать на одно из ближайших заседаний этого Гниду. Кстати, кто это?
— Гнида — это прозвище. Его зовут Жулиао Барнабе, он из Урру-ду-Анжу, — услужливо пояснил д-р Лабао, адвокат двух тамошних крестьян.
— Пожалуй, его можно вызвать, — согласился председатель д-р Отавио Роувиньо Эстронка Бритейрос, — он живет в округе Буса-до-Рей. Его показания представляются мне очень важными. Он может точно сказать, был ли подсудимый в тот день в его лавке.
— Нам известно, что вы сказали: один уже накрылся, — произнес представитель министерства внутренних дел, обращаясь к подсудимому.
— Если я это и сказал, то это относилось к игре. Мне не везло, мне пришлось заказать для моего кума три пинты вина. Как я мог иметь в виду сеньора инженера, если в Урру только вечером стало известно о том, что произошло в горах? Я умываю руки.
— Я прекрасно понимаю, что вы, как и Пилат, ничего другого не хотите. Но нет воды, которая может их отмыть…
— Можете не сомневаться, сеньор, они привыкли к навозу.
— Я говорю о крови. Свидетели правы. Сеньор председатель, я настаиваю на вызове Жулиао Барнабе, а пока прекращаю допрос подсудимого.
Один за другим Мануэл до Розарио, Жусто Родригиш, Жулио Накомба, Жоао до Алмагре, Жоаким Пирраса, или Писарра, Жозе Рела были допрошены в соответствии с буквой закона, с инквизиторским рвением и тщательностью. Министерство внутренних дел упорно старалось из этих неотесанных крестьян, как будто бы бестолковых, но хитрых, упрямых и, без преувеличения, способных провести самого дьявола, сделать коммунистов. Их слабой стороной было то, что о политических доктринах они знали куда меньше, чем о догме святой троицы.
Последним вызвали Жоао Ребордао. Его судили заочно, ибо он имел наглость удалиться за Атлантический океан, подобно вероотступникам, которые бежали в Голландию. Был ли он действительно главарем крестьян, которые, искренне заблуждаясь, подняли знамя борьбы за свои извечные права? Именно так ставил вопрос д-р Базилио да Эшперанса, глава лиги в Буса-до-Рей, взявшийся защищать Жоао, разумеется, за приличное вознаграждение. Семья Ребордао хотела избежать наказания, а с таким адвокатом имелись большие шансы на успех. Ведь его звали Эшперанса
[23] и он был выразителем воли крестьян и защитой невинных. Краснолицый, словно выструганный из досок вишневого дерева, он, помимо блестящего красноречия, обладал непререкаемым авторитетом. Это был замкнутый, неторопливый, но вспыльчивый человек. Друзья знали о его неизбывном сладострастии, жертвой которого становились многие служанки и экономки городка. Впрочем, если не считать этой мелочи, он был прекрасным главой семьи, отцом многих детей, трое из которых уже получали свои куски с государственного стола.
Конкурентом д-ра Эшперансы среди местных адвокатов, прочно стоящих на ногах, был д-р Лабао до Кармо, но у этого был другой стиль, он обычно отмалчивался и очень напоминал немого Демосфена. Он садился на краешек стула и с подобострастным восхищением, которое так и распирало его, кивал, поддакивая даже самым нелепым заявлениям судей; таким образом, он оказывал воздействие на ход дела. Это подобострастие в сочетании с наигранной сердечностью и симпатией, которую он всячески выражал судьям, создавали надежное укрытие для его подзащитных, спасавшее их от громов и молний, извергаемых юпитерами правосудия. Чтобы добиться такого эффекта, нужно было обладать незаурядными актерскими способностями, принадлежать к Националистической лиге и иметь дар правильно ориентироваться в обстановке. А у Лабао были все эти столь необходимые качества. Коротконогий, с лоснящимся лицом, тройным подбородком, хитрыми и веселыми глазками, толстыми губами, пузом, которое выпирало из-под пояса брюк и выставляло напоказ белую полоску кальсон, он был похож на ленивого изнеженного царька, ожиревшего от безделья, или на омерзительную жабу. Кажущаяся кротость позволяла д-ру Лабао делать всякого рода подлости, поскольку все ему верили и слишком поздно раскусывали его. Готовый оказать любую услугу властям, он был образцом судейской крысы, всем существом своим связанной с муниципальной автаркией. Сегодня он был с одними, завтра с другими. «Умеет жить», — восхищенно говорили о нем глупцы. Арестованные из Урру-ду-Анжу не могли найти себе лучшего защитника, хоть он во время процесса рта не раскрыл.
На следующий день заседание открылось опросом свидетелей обвинения. Начали с инспектора Пакомо — грузного, тучного человека с головой дога на бычьей шее и зеленоватыми бегающими глазами, — типа вполне подходившего для скользких дел. Он заявил, что после посещения горных деревень у него сложилось впечатление, будто он побывал в волчьем логове. Все кругом выли — собаки, женщины, дети и даже старики. А мужчины разбежались. Те, кто считал себя состоятельным, а в тамошних местах нужно очень немного, чтобы сходить за богача, прятались и, замерев, ждали со страхом, что их дома обворуют. Весьма вероятно, что этот страх и завлек их в сети бунтовщиков. Бедняки и голытьба были взбудоражены. По вечерам они встречали градом камней представителей власти, и не раз те были вынуждены открывать огонь. Кое-кому пришлось отступить с проломленной головой, но эти дикари совершенно не боялись получить пулю. Иногда им удавалось увидеть горцев, притаившихся в тени, они прицеливались, но камни продолжали сыпаться. Не оставалось ничего другого, как отказаться от охоты за деревенщиной и схватить этих здоровенных дядей, которые, кажется, до сих пор корчат из себя невинных овечек.
Сеньор Пакомо рассмеялся, рассмеялись и сеньоры судьи, ибо им надлежало поступать так же, как поступает представитель порядка, жрецами которого они были. Сеньор помощник прокурора республики снова попросил позволения задать вопрос, оказавшийся весьма коварным:
— Я слышал, что за отсутствием настоящих волков вы брали других из той же породы, которых следовало бы назвать лисами. Вы убеждены, что подсудимые, независимо от того, принимали они участие в беспорядках или нет, были заодно со смутьянами?
— Больше чем убежден — абсолютно уверен. Самым добросовестным образом было проведено тщательное расследование, установившее, что если кое-кто из арестованных и не нападал на государственных служащих с камнем или ножом, то все они призывали к мятежу. Скажу больше: если бы они направили свою пропаганду в обратную сторону, в Серра-Мильафрише никто бы не выступил против Лесной службы. Все, что произошло, носит политический характер.
— Я удовлетворен, — заявил представитель министерства внутренних дел, сделав жест своей холеной рукой. — Итак, сеньоры судьи, вы убедились, что перед нами злоумышленники, совершившие преступление.
Затем допрашивались другие чиновники того же учреждения. Один из них признался:
— Мы со всем старанием вылавливали преступников, хватали кого могли. Но главный из них, Жоао Ребордао, успел улизнуть. За его голову установили награду.
Поднялся Ригоберто.
— Можно узнать, сколько дают за его голову?
Представитель министерства внутренних дел заколебался, но, увидев, что судьи выражают живейшее любопытство, и стремясь удовлетворить его, ответил:
— Сто эскуду.
— Сто эскуду? — повторил Ригоберто. — Дешево! Для сеньоров из внутренней безопасности человек дешевле ягненка. Теперь хороший ягненок стоит около двухсот эскуду. Сеньоры судьи, обратите внимание на то, какое значение наша система и ее полицейская машина придают человеческой личности, этому высшему существу с точки зрения той метафизики, которой нас пичкают каждодневно.
Судьи даже подскочили в своих креслах. Председатель грубо спросил, имеет ли он еще что-либо заявить.
— Нет, сеньор судья.
— Можете садиться.
Д-р Ригоберто возвратился на свое место с опущенной головой. Через несколько секунд после того, как он сел, д-р Лабао шепнул ему что-то, от чего он нахмурился.
Свидетели по делу рабочих старались, как только могли, очернить подсудимых, но это им плохо удавалось. Полицейские часто путались, что производило невыгодное впечатление. Возобновился допрос по делу о лесопосадках. Первыми вызвали двух сторожей участка в Мильафрише, однако у них словно память отшибло, они едва пролепетали свои показания. Они якобы слышали, что во всех безобразиях виноват некий Жулиао Барнабе.
— Жулиао Барнабе?! — воскликнул д-р Лабао, который защищал на суде двух крестьян из Урру-ду-Анжу. — Не может быть! Жулиао Барнабе порядочнейший, верноподданный по своим убеждениям человек, чистейшей воды бриллиант новой системы, отец двух лучших служащих участка. Разве свидетель не знаком с Бруно и Модешто Барнабе? Нет? Один из них рядом с вами… А Жулиао Барнабе — отец обоих.
— Отец Бруно? Разве отец Бруно не Гнида?
— Это обидное прозвище, но в общем Жулиао Гнида и Жулиао Барнабе — одно и то же лицо, — ответил д-р Лабао. — Свидетель, если не дурак, то очень на него смахивает!
Свидетель в смущении схватился за голову. Он все время был на северной стороне участка, около Валадим-даш-Кабраша, и позднее слышал, как повсюду только и говорят о Гниде.
Ригоберто было ясно, что имя Жулиао Барнабе названо по ошибке; оно было среди других имен, которые свидетель должен был упомянуть в числе сторонников лесопосадок, ибо так оно и было на самом деле. Черт побери! Бедняге пришлось извиниться, сославшись на то, что он перепутал имена. На скамье адвокатов и в зале послышались смешки. Дежурный офицер по знаку председателя призвал публику к порядку.
Свидетель было обрадовался, что допрос кончился, когда д-р Ригоберто попросил разрешения задать ему несколько вопросов.
— Вы не из этого района, свидетель?
— Нет, сеньор, я из Эскуркелы.
— Кто назначил вас сторожем?
— Сеньор доктор Базилио Эшперанса дал мне записку к сеньору инженеру Штрейту.
— Уважаемые судьи, сеньор доктор Базилио Эшперанса председатель Националистической лиги. Он пользуется большим влиянием в округе. — И, обращаясь к свидетелю, продолжал: — Вы часто встречаетесь с вашим покровителем?.. Не забываете отнести ему кролика или корзинку форели?
— Что бы я ему ни носил, я никогда не расплачусь с ним за то добро, которое он для меня сделал. Я за него в огонь и воду готов, если он скажет. Я многим ему обязан.
— Разумеется, сеньор, это совершенно естественно, сеньор доктор Базилио Эшперанса заслуживает этого. И, если бы мне сказали, что политика в Буса-до-Рей делается за телячьи ножки, я бы ответил, что это такой же обычай, как всякий другой. Взятка там дело привычное. Сегодня берет Белтрано, который стал председателем, завтра берет Сикрано, который его заменил. А крестьянин, чтобы его выслушали да поменьше обобрали, должен идти в город с корзиной, набитой яйцами, копченым мясом, или с гусем, или с поросеночком.
Раздался голос председателя:
— Еще не очередь защитительных речей.
— Это просто иллюстрация и извините, что я у вас отнял время этими ненужными отступлениями. А теперь ответьте мне, свидетель: сеньор доктор Базилио Эшперанса, должно быть, очень недоволен тем, что произошло в Серра-Мильафрише? Разумеется: как же иначе! Ведь в его феоде нарушены устои, окаменевшие, как древняя порода. Вы, конечно, слышали, как он говорил, что этим псам нужно шею свернуть… отвечайте, Телес Жордао!
— Да, слышал.
— Вы слышали это от своего покровителя, за которого готовы в огонь и воду. Больше к этому свидетелю у меня вопросов нет. Будьте любезны, господа судьи, принять это к сведению.
Ригоберто положил ногу на ногу, скрестил руки и стал ждать нового свидетеля, когда заметил, что раздраженный д-р Базилио Эшперанса направляется к нему.
— Вы тупица, сеньор.
— Круглый, знаю об этом и никогда не исправлюсь. А если бы я таким не был, то был бы таким же важным и счастливым человеком, как вы.
Второго свидетеля обвинения, тоже сторожа и тоже попытавшегося лгать, адвокат также сразил. Наконец перед судом предстал Бруно Барнабе, старший из братьев. Он был в форме и берет держал в руке. Его наглая мина не могла скрыть смятения и нервозности.
— Клянетесь говорить только правду?
Последовали обычные вопросы и ответы. Бруно старался быстрее выполнить свой неприятный долг и не слишком себя скомпрометировать. Д-р Ригоберто решил, что парень ни рыба, ни мясо. Представитель министерства внутренних дел остался недоволен этим допросом и обратился к свидетелю, прежде чем адвокат сумел опередить его:
— Скажите, свидетель, является ли кто-либо из подсудимых вашим родственником, приятелем, с которым вы выпивали, или соседом?
— Никто из подсудимых не является моим родственником, ваше превосходительство. Из нашей деревни Урру-ду-Анжу здесь двое, остальные из соседних деревень. Что же касается приятелей, то я не помню, чтобы хоть раз с кем-нибудь из них я выпивал.
— Посмотрите внимательней. Что вы можете сказать о Мануэле Ловадеуше?
— В каком смысле?
— Не был ли он одним из тех, кто подбивал крестьян на мятеж?
— Открыто он этого не делал, но он такой краснобай, что вполне мог быть в их числе.
— Следовательно, если бы он захотел, жертв можно было бы избежать?
— Может быть, я не знаю. Если бы захотел… Но разве можно заставить человека хотеть или не хотеть… — Бруно крутил свой берет, уставясь в пол.
— Смотрите мне в глаза… Итак, если бы захотел?..
— Если бы захотел… — Бруно поднял и снова опустил голову.
— Да, если бы захотел?
— Если бы захотел, мог бы многое сделать.
— Разумеется, многое, удержать своих односельчан, например, — послышались слабые смешки. — А он не удерживал? — Это прозвучало совсем фарисейски. — Ведь можно было бы избежать столкновений и жертв. Разве ему что-нибудь мешало?..
— Если бы он захотел… — выдавил из себя Бруно с подленькой улыбкой, и судорожно, словно ему осталось жить считанные минуты, обдумывая ответ: — Если бы захотел, может быть, и удалось.
В этот миг послышался голос, который прогремел под сводами зала словно гром. Старый Теотониу Ловадеуш проклинал Гниду, его голова, напоминавшая голову Селена, возвышалась над многоликой толпой. Обернувшись в его сторону, все сразу вспомнили, как незадолго до этого судья назвал горцев волками.
— Кто тебе это сказал, мошенник? Кто? Ты слышал, чтобы мой сын призывал к бунту? Разве, когда он приехал из Бразилии, горцы не знали, что их собираются грабить? Ну, подожди, щенок, ты мне еще заплатишь!
К старику подскочили полицейский и дежурный офицер. Судья поднялся со своего кресла:
— Отправить его в тюрьму!.. Три дня ареста!
Ригоберто вступился за Теотониу, он говорил о его сединах, о его законном возмущении несправедливым обвинением Мануэла, которое, разумеется, могло повлиять на сеньоров судей. Все было тщетно. Старика вывели из зала силой, а он бился, как в припадке.
На какой-то миг Бруно задумался, но потом продолжал отвечать на вопросы с тем же рассчитанным вероломством.
— Свидетель, вы слышали когда-нибудь, чтобы подсудимый вел пропаганду подрывных идей, то есть идей, направленных против нашей святой матери церкви, против собственности, против законного порядка, установленного с одобрения нации?
— Да, слышал.
— Не можете ли вы сказать конкретнее, о чем именно он говорил?
— Он считает, что мир устроен несправедливо: у одних есть все, а у других ничего; одни умирают с голода, а другие от обжорства. Но, по правде сказать, он никогда не советовал прибегать к насилию. Что же касается религии, то все знают, что на службах он не бывает и не исповедуется. Однако он и мухи не обидит…
— Вы никогда не слышали от подсудимого, что религия — это обман, а священники служат этому обману.
— Нет, сеньор.
— Но это записано в протоколах, — сказал судья, хлопнув рукой по пухлой пачке бумаг. — Ладно, пускай вы этого не слышали, однако допускаете ли вы, что подсудимый мог это сказать?
Бруно низко опустил голову, лицо его напряглось, и после некоторой паузы он выдавил:
— Нет, сеньор.
— Отлично! А не говорил ли он, будто Христос родился на соломе, чтобы доказать, что все мы равны? А в нашем обществе у одних есть все, а у других ничего? Не слышали?
— Нет, сеньор.
— А не знаете ли вы, читал он авторов, осуждаемых нашим государством и религией, например Ленина, Карла Маркса?
— Карла Маркса не знаю. А о Карле Великом читал, я сам видел у него в руках эту книгу.
Сеньоры судьи громко расхохотались, не столько от того, что им было весело, сколько желая продемонстрировать свой незаурядный интеллект. Довольный представитель министерства внутренних дел кивнул головой.
— Я удовлетворен.
Доктор Ригоберто отметил про себя явную дегенеративность Бруно. Адвокат с презрением рассматривал его наглое лицо и маленький череп — мелкий, ничтожный подлец, без стыда и совести. Единственной ярко выраженной чертой этого негодяя была скотская похоть. Настоящий петух, только гребня не хватает! И в конце концов он не сказал о Мануэле Ловадеуше ничего, помимо того, что уже было изложено в обвинении, предъявленном ему министерством внутренних дел. Кивком головы его подозвали; другим кивком, полным презрения, отослали обратно; так избавляются от противного насекомого, которое садится на ваш костюм.
На третий день судебного заседания выяснялась история с гнилой треской, послужившая причиной забастовки и беспорядков. Треска поставлялась в столовую самими хозяевами фабрики. А рабочие были обязаны столоваться на фабрике, поскольку стоимость обедов входила в их жалованье. Разумеется, хозяева отвечали за качество продуктов. Однако признать, что продукты были недоброкачественными, означало действовать на руку бунтовщикам. Первый свидетель обвинения показал, что треска была не лучше и не хуже той, что продается на рынке, а с приправой так и вовсе: добрая ложка масла да зубок чеснока, пальчики оближешь. Вторая свидетельница — девица с размалеванным лицом и крашеными волосами — сказала, что ту же треску она ела дома и была бы не прочь попробовать еще.
— Откуда вы знаете, что это была та же треска? — спросил председатель, оценивший сообразительность девицы.
Свидетельница улыбнулась, опустила голову, и стало заметно, что ей неловко.
— Не бойтесь, говорите, — настаивал представитель министерства внутренних дел.
— Повар в тот день принес мне кусочек.
Это было не совсем убедительно, однако представитель министерства внутренних дел стал потирать руки, что было верным признаком его радости. Несколько свидетелей заявили, что если треска и была гнилой, то это означает, что какой-то торговец злоупотребил доверием хозяев фабрики. Ведь хозяева не едят в рабочей столовой, откуда же им знать, что треска была тухлой.
— Вам известно, где она была куплена? — спросил защитник.
— Нет.
— А цену вы знаете?
— Тоже нет, сеньор.
— Как вы видите, сеньоры судьи, где был куплен товар и в каких условиях он был доставлен на фабрику, нам не известно. Следовательно, заявления относительно качества рыбы и чистоты, в которой она приготовлялась, голословны.
Свидетели защиты показали, что им известно, что хозяева покупают за бесценок треску, которая предназначена на удобрение и которую торговцы незаконно сбывают населению. Очевидно, хозяева знали, что до сих пор случаев отравления не было, так почему же они должны были произойти на фабрике? Для сеньоров хозяев фабрики смягчающим вину обстоятельством могла послужить лишь их твердая вера в крепкий желудок бедняков, который переварит всякую гниль, из рабочих сделали подопытных свинок.
— Этого не может быть! — воскликнул представитель министерства внутренних дел. — Всем известна неоспоримая добропорядочность этих глубоко милосердных людей! Они отмечены папой римским высшей наградой, они первые занесены в списки граждан, имеющих заслуги перед новой системой. Они то броневик фаланге пожертвуют, то дадут несколько сот конто на рождественские подарки беднякам, их карман всегда открыт для организации чествований великих мужей режима, благотворительных мероприятий, церковных торжеств, то есть для дел, которые требуют больших средств.
Свидетели из малодушия согласились и даже отказались от своих показаний. Хозяева фабрики, накормившие рабочих гнилой треской, от которой умерло несколько человек, были оправданы. Впрочем, как сказал один мастер, может, они умерли совсем не потому, что отравились. Но следовало осудить рабочих, зараженных пагубным влиянием анархизма и коммунизма. Да как же иначе, ведь сила должна карать и ни в коем случае не бить мимо, тем более что девиз суда: наказуй. И свидетели обвинения — с одной стороны, а представитель министерства внутренних дел — с другой, казуистически изобретали для бедных ткачей преступления, уточняя подробности и доказывая недоказуемое. Получилось совсем неплохо.
На четвертый день вновь занялись подсудимыми с Серра-Мильафриша. Старого Ловадеуша выпустили, он пообещал не раскрывать рта, даже если прозвучат оскорбления, способные очернить все достойное на земле.
Судьи, адвокаты, подсудимые из Риба до Писко и все прочие были очень удивлены, увидев, что защищать деревенскую голытьбу на кафедру поднялся сеньор инженер Сесар Фонталва. Он был одет элегантно, но не крикливо, обладал изысканными манерами, в которых сказывалось хорошее воспитание. Ему не хватало только монокля, чтобы окончательно сразить судейских чиновников, тоже любивших пофрантить, если судить по костюмам, в которых сеньор Соберано являлся в церковь к воскресной мессе и в кондитерскую «Атика», где встречался со своими друзьями.
Фонталва говорил искренне, и это вызвало новое волнение среди судей. Свое выступление он начал с того, что заявил, что будет говорить не только как главный инженер Лесной службы во второй зоне района лесопосадок, но и как человек, которому пришлось общаться с горцами. Фонталва надеялся, что его показания помогут судьям найти правильное решение, а в их добрых намерениях он нимало не сомневался. Вопреки распространенному мнению горцы Серра-Мильафриша и обстановка, в которой они живут, не показались ему дикими и еще меньше — отсталыми. Если уклад их жизни и был довольно примитивным, то лишь потому, что они бедны и почти не получают помощи от правительства. Район нуждается в дорогах, питьевой воде, телеграфной и телефонной связи, медицинских пунктах, короче говоря, в тех простых вещах, которые есть всюду. Еще рано думать о театре, кино, библиотеках. Школа дает горцам самые элементарные знания, а священники спасают их души молитвами, воскресными мессами, вечернями, как это было в первом веке после рождества Христова. О теле горца, пока правили четыре славные династии,
вообще никто не заботился. Стоит ли удивляться, если учесть все это, отдельным проявлениям их жадности и завистливости? Стоит ли удивляться, что они решительно стали на защиту того, что всегда считали своим? Их нищета взывает к небесам. Как может в наше время столь низкий жизненный уровень существовать рядом с роскошью, даже относительной роскошью Португалии?
Отсталость горцев в Мильафрише объясняется их нищетой, в заключение подчеркнул инженер. Если бы не условия, в которые они поставлены, они были бы самыми зажиточными крестьянами нашей страны. Что же касается их дикости, то ему не приходилось слышать, чтобы они танцевали вокруг скальпов своих жертв или варили в горшках сало, срезанное с государственных чиновников, которые, говорят, им очень досаждают. Некоторые из тех, с кем ему пришлось познакомиться, умственно и морально превосходили крестьян других областей.
— Может быть, вы что-нибудь скажете о ком-либо из подсудимых?.. — предложил председатель, чувствуя, что выступление затянулось.
— Могу, о Мануэле Ловадеуше, например. Он человек добрый и знающий, причем знания он приобрел сам или от общения с более образованными людьми. С первой же нашей встречи меня восхитила легкость, с которой он без всякой подготовки выражает свои мысли. Меня восхитили также его рассудительность и терпимость, с которыми он объяснял свои жизненные неудачи. Когда я узнал, что он на скамье подсудимых, мне пришло в голову, что произошла судебная ошибка или налицо пристрастность.
— Что вы можете сказать конкретно по делу подсудимого, как один из лесных инженеров, на которых лежала задача освоения Серра-Мильафриша? — спросил председатель.
— Я могу поклясться своей честью, что если я и видел Мануэла Ловадеуша в наступавшей на нас толпе, то не слышал от него никаких провокационных заявлений, ни даже протеста. Наоборот…
— Будьте любезны объяснить, что значит наоборот, — попросил защитник.
— С большой охотой. Мануэл Ловадеуш удерживал самых горячих, призывал их не обрушиваться на чиновников и солдат, они-де народ подневольный, исполняют свой долг. И еще я слышал, как он сказал: «Пошли отсюда. Власти уже знают, что мы возражаем против работ, которые они намерены вести. И с нами должны согласиться. Мы тоже Португалия! Не надо портить ненужной строптивостью то, чего мы достигли!»
— Позвольте мне, сеньор председатель! — вмешался представитель министерства внутренних дел. — Если Мануэл Ловадеуш так успешно играл в горах роль королевы Изабеллы, почему же он не сделал этого раньше?
— Позвольте и мне, сеньор председатель! — заговорил Ригоберто. — Не знаю, действительно ли мой подзащитный выступал в роли королевы Изабеллы, скорее это была роль человека, призывавшего к благоразумию, но не отчаявшегося в успехе своего дела. Достаточно только этого, даже если бы он не взял на себя роль арбитра, что, впрочем, заслуживает похвалы, чтобы его присутствие там было оправдано.
Представитель министерства внутренних дел скорчил недовольную гримасу и был вынужден проглотить пилюлю. Сесар Фонталва продолжал:
— Есть люди, для которых делать добро, я бы сказал, является внутренней потребностью, хотя это стремление не подавляет в них другие. Оно доставляет им радость так же, как другим доставляет удовольствие делать людям зло. Недаром существуют понятия эгоизма и альтруизма.
— Значит, вы считаете, что подсудимый сыграл положительную роль в происшедших событиях? — задал вопрос представитель министерства внутренних дел, заметно сбавив тон.
— Совершенно верно. Возможно, что без вмешательства Мануэла Ловадеуша, который пользуется у горцев определенным влиянием, пролилась бы кровь, как это было в первой зоне. А во второй зоне войска и народ побратались. И разве не к этому стремится наше государство!
— Прошу занести в протокол, сеньоры судьи: подсудимый пользуется среди горцев таким влиянием, что смог заставить их остаться на месте.
— И это вменяется ему в вину? — удивился Фонталва. — По-моему, если он оказал то влияние, которое мы предполагаем, его действия следует лишь одобрить, а не осуждать. Прошу глубокоуважаемых судей для выяснения истинных виновников рассмотреть следующие вопросы: почему во второй зоне не было беспорядков и кровопролития? Благодаря чему или кому этого не произошло? Если вас интересует мое личное мнение, извольте: то, что эти люди находятся здесь, я объясняю лишь чрезмерным усердием полицейских. Мой разум восстает против этой нелепости, поскольку она влечет за собой явное беззаконие.
Затем Фонталва заявил, что кончил свои показания. Его последние слова, произнесенные патетическим тоном, наполнили зал торжественной тишиной. Однако через минуту представитель министерства внутренних дел, словно опомнившись, положил свои белые руки на стол, полюбовался ими, внимательно осмотрел ногти и проговорил:
— Коль скоро сеньор инженер утверждает, что имел с подсудимым частные беседы, пусть будет добр сказать мне, не приходилось ли ему слышать во время этих разговоров изложение каких-либо теорий. Быть может, между вами имели место споры, я не говорю дискуссия, поскольку всякая дискуссия подразумевает компромисс?
Свидетель молчал, всем своим видом выражая презрение к чиновнику, но отнюдь не замешательство.
— Не кажется ли вам, — вкрадчивым голосом настаивал представитель министерства внутренних дел, — что перед нами скрытый коммунист?
— Нет, сеньор, ничего подобного мне не кажется, — запальчиво начал Сесар Фонталва. — Судя по тому, что я слышал от Мануэла, он верит лишь в здравый смысл и моральный долг, который все мы имеем друг перед другом, а неравенство условий, в которых живут люди, причиняет ему боль. Однако эти положения могут основываться на законе божьем и на учении Толстого. Таким образом, взгляды Ловадеуша нельзя отнести к той или иной политической или философской системе, а значит, нельзя и рассматривать. Это мое мнение, и, надеюсь, вы со мной согласны. Если же иметь такие взгляды — преступление, чтобы избежать его, нам придется вернуться в каменный век и убеждать друг друга не доводами, а каменным топором.
Представитель министерства внутренних дел помолчал с минуту — это была напряженная минута, весь зал умолк — и снова начал:
— Значит, взгляды подсудимого нельзя отнести к программным положениям той или иной политической организации, подпольной или легальной?
— Нет, сеньор. По крайней мере так мне кажется.
— Уж очень уверенно вы заявляете это. Позвольте задать вам один вопрос: вы занимаетесь политикой?
— Я не состою в Единой партии.
— Но вы государственный чиновник?
— Да.
— В чем, по вашему мнению, причина беспорядков, которые были в первом секторе?
— Взаимное непонимание обеими сторонами тех намерений, с которыми туда пришли те и другие. Войска получили приказ поддержать порядок, население отстаивало старые традиции. В моем секторе я не допустил возникновения стычки, охлаждая пыл одних и других. Большую помощь в этом мне оказал Мануэл Ловадеуш.
— Если я правильно понял, вы считаете, что главная ответственность за случившееся в первом секторе падает на войска?
— Понимайте, как хотите.
Снова наступила настороженная, зловещая тишина. Представитель министерства внутренних дел, розовый от удовольствия, потер руки и тягучим голосом произнес:
— Понятно. Еще один вопрос, только один, чтобы вам не показалось чрезмерным то старание, с которым я стремлюсь установить истину и служить социальному порядку. Если бы подсудимый Мануэл Ловадеуш правильно использовал свое влияние на местное население, то есть разъяснил бы, что горы принесут много больше пользы, если будут засажены лесом и переданы Лесной службе, чем если все останется по-старому, его послушали бы?
— Пожалуй.
— Пожалуй?! Мне приятно слышать это слово. «Пожалуй» в ваших устах, устах свидетеля защиты и человека сильного звучит как «наверняка».
— Наверняка было бы допустимо только предполагать это, если бы он был убежден, что намерения государства принесут пользу.
— Но разве не в этом заключается долг гражданина, уважающего законы и предначертания государства?
— Государство не непогрешимо. Государство прежде всего, если оно не превратилось в бандитскую шайку, это я. Я, индивидуум.
— А вы как бы себя вели на месте Ловадеуша?
— Вы много хотите знать.
— Извините, но я орудие истины.
— Это верно, но вам не следует быть отмычкой.
Снова наступила напряженная тишина. Злоба кипела в душе обоих.
— Так вы не желаете сказать, какую позицию вы заняли бы на его месте? Призывали бы к сопротивлению или стали бы вести двойную игру, как и поступил обвиняемый?
— Если бы я был королем, то и вел бы себя, как король. Но поскольку я не король, я не знаю, как бы я поступил.
— Я удовлетворен, — произнес судья, самодовольно улыбнувшись.
Такой исход грозил Фонталве неблагоприятным отзывом, направленным в Лесную службу, и занесением в списки неблагонадежных. Однако инженер спокойно относился к перспективе ухода со службы. Он не был богат, но от голода не умер бы. Фонталва покинул здание суда, где с прежним средневековым изуверством и усердием судьи продолжали допрос, силясь сделать из Мануэла Ловадеуша отпетого преступника.
ГЛАВА X
Шел восьмой день процесса, утром начались прения сторон. Ровно в десять часов господа судьи заняли свои места; председатель Роувиньо Эстронка Бритейрос был простужен сильнее обычного, а д-р Соберано Перес в своей великолепной мантии выглядел щеголеватым, как никогда. Защитники, занявшие скамью от одного конца до другого, были в черном. На д-ре Ригоберто Мендише лежала обязанность защищать арестованных из Аркабузаиш-да-Фе. Д-р Лабао был адвокатом крестьян из Урру-ду-Анжу, он последовательно держался своей тактики и весьма учтивой позой напоминал сборщика податей перед новоявленными Соломонами. Барнабе решил разгромить своих земляков, но так, чтобы не испортить с ними отношений, при полном взаимопонимании обеих сторон, если можно так выразиться. Известно, что Гнида только и мечтал о том, как бы закопать в землю себе подобного, но делал это так лицемерно, так хитро, с таким искусством, а порой настолько вживался в роль, что уходил из-под власти собственной подлости. Д-р Кориолано Арруда и д-р Арканжело Камарате дополняли комплект защитников крестьян Серра-Мильафриша, обвиняемых же по делу о гнилой треске, защищал молодой и порывистый адвокат из Марко, послушать которого пришли многие.
После того как в полной тишине была произведена перекличка, магистры и доктора права еще раз привычно оглядели людское стадо, которое должно повиноваться их посоху. Это был простой народ, на вид грубый, даже жалкий; некоторые обросли многодневной щетиной — требования приличия или чистоплотности для них не имели смысла; на печальных лицах — испуганные глаза рабочей скотины. Фабричные рабочие отличались от крестьян не столько выражением лиц, которое было таким же драматическим и угнетенным, сколько одеждой, галстуками, обувью, хотя все это было тоже далеко не лучшее.
Слово взял Илдебрандо Соберано Перес, помощник прокурора республики. После краткого изложения фактов он перешел к обвинению.
— Мануэл Ловадеуш — главный преступник, — заявил прокурор. — Если Жоао Ребордао был организатором бунта, то Мануэл Ловадеуш подготовил его теоретически. Кто такой Ловадеуш? В нескольких словах, сеньоры судьи, я обрисую его. Уехав из Португалии больше десяти лет назад, воспитанным в духе патриотизма и уважения к лицам, достойным уважения по своему происхождению, богатству и положению в обществе, рьяным католиком и честным тружеником, он вернулся зараженным пороками, свойственными Новому свету, где нет традиций, где предоставлено широкое поле деятельности всякого рода подонкам. В этих кругах, забывших Христа и исповедующих ложные религии, язычество, псевдофилософию Конта, он набрался анархических взглядов, которые позволили ему надругаться над евангелием и святыми догмами церкви. Истый верующий, он отвернулся от веры, в которой был рожден; а это всегда служило началом отступления от здравого смысла. Никто и никогда не видел его больше в храме, хотя он любил вступать в беседы со священнослужителями и даже притворялся, что послушен им. Он высмеивал церковные обряды, пытаясь опровергнуть их дешевым вольтерьянством или называл их абсурдными и основанными на языческих ритуалах. Если мы оставим моральные заблуждения Ловадеуша и обратимся к его политическим взглядам, то выясним, что он является одним из приверженцев экономической теории Карла Маркса, хотя можно допустить, что он никогда не читал подрывных трактатов этого философа. Однако его пагубные идеи носятся в воздухе, и не удивительно, что, подобно атмосферному электричеству, которое ударяет в громоотвод, они поляризовались в наполовину просвещенном, наполовину невежественном мозгу. Он утверждал, что монархия — историческая бессмыслица, короли, как правило, были в прошлом предводителями разбойничьих шаек и распространяли заразу феодализма. Всем, кто его слушал, Ловадеуш проповедывал экономическое равенство, заявляя, что любая собственность — это грабеж. Он превозносил коммунистические законы, которые вскоре якобы станут кодексом всего культурного человечества. Вот в нескольких словах облик подсудимого Мануэла Ловадеуша. Что касается подробностей его личной жизни, то ни в Буса-до-Рей, ни в Сан-Пауло, к властям которых обращалось полицейское управление, о нем не располагали никакими сведениями. Следовательно, перед нами человек, не имеющий документов, человек, которому удалось не оставить никаких следов там, где он побывал. Есть предположение, что он привез из Америки карабин, тот самый карабин, которым он вооружил одного из фанатиков и который был отобран после кровавой стычки на Серра-Мильафрише. Итак, имеется достаточно оснований для применения к нему наказания, определенного параграфом 1 статьи 173 и параграфом 5 статьи 55 Уголовного кодекса, а именно заключение в тюрьму сроком на три года.
— Алонзо Рибелаш, — продолжал прокурор, подойдя к скамье подсудимых, — по-видимому, не имеет представления ни о политических системах, ни о партиях, но его столь же невежественные, сколь и выразительные рассуждения отражают подрывные настроения, недооценивать которые было бы опасно. Он не переставал ругать, как он выражался, белоручек и толстобрюхих, то есть дворян, офицеров, чиновников, святых отцов, которые едят то, что добывают крестьяне, соблазняют их дочерей и так и норовят согнуть крестьянина в бараний рог. Акцизы и перепись имущества он расценивал как грабеж на большой дороге; налоги, по его мнению, с крестьянина, как с дойной коровы, дерут все, кому не лень; он считает, что богатеи и правительство придумали для себя войска и полицию, которым, как верным собакам, бросают обглоданную кость. А что такое нация? Алонзо Рибелаш полагает, что это короли и графы, их славные войска, огонь мортир и море слез. В день, когда святое провидение поставило страну перед угрозой гибели, когда жертвы во имя общего спасения были неизбежны и государство удвоило сумму денежных сборов, все помнят, как он носился и кричал в таверне и даже на церковном дворе, когда народ шел с мессы: «Ребята! Пошли по деревням, соберем всех честных, кто еще не потерял стыда. У кого есть ружье, заряжай! У кого нет, бери колья! Подожжем учреждения в Буса-до-Рей, где окопались жулики!» Этот человек — закоренелый бунтарь и замешан в преступных делах, но, принимая во внимание его безупречное прошлое и то, что он является отцом пятерых несовершеннолетних детей, я требую для него наказания, предусмотренного статьей 171 — два года тюрьмы и соответствующий штраф.
Жоаким Пирраса, или Писарра, является одним из подозреваемых участников покушения на крупнейшего государственного служащего Лизуарте Штрейта да Фонсеку. Было установлено, что подсудимый во время прохождения им военной службы постоянно проявлял недисциплинированность и только амнистия позволила ему избежать разжалования и строгого наказания. В полку, где он служил, он дважды принимал участие в актах неподчинения военным властям. Если подсудимый не был наказан, то только потому, что он и остальные солдаты укрылись за спиной офицеров, которым пришлось отвечать за бунт в их подразделении. Его солдатская книжка испещрена записями, свидетельствующими о его позорных проступках: четыре недели гауптвахты за отказ от обеда под предлогом того, что в котле была найдена крыса; военный трибунал и три месяца тюрьмы за пощечину сержанту, который будто бы обозвал его ослом; снова военный трибунал и перевод в роту дисциплинарного батальона в Пенамакор за то, что он послал к черту капитана, который приказал ему купить пачку сигарет, добавив в шутку: «Смотри не сбеги с деньгами». Подсудимый получил недельный наряд вне очереди за то, что ударил палкой старшину роты, отважного героя и сторонника режима; этот старшина принимал активное участие в своевременном подавлении одного из восстаний черни в Лиссабоне, в районе Росарио. В молодые годы подсудимый был известным рыночным вором. Хотя ныне он является отцом несовершеннолетних детей и хотя свидетели защиты утверждают, что Писарра исправился, я полагаю, что к нему должно быть применено то же наказание, что и к предыдущему подсудимому.
Жоао до Алмагре тоже один из главарей в Серра-Мильафрише. Чтобы было ясно, чем он занимается, достаточно рассказать о двух-трех его подвигах. Когда доктор Невес, бывший тогда председателем палаты в Буса-до-Рей, пустил по деревням подписной лист с целью собрать деньги на оплату расходов по созданию в городе отряда легионеров — это проводилось в более или менее обязательном порядке, — он отказался дать хотя бы грош и грозил своим соседям, говоря, что тот, кто хоть сколько-нибудь даст для этой шайки бездельников, должен дать вдвое для беспомощных стариков и старух, в противном случае получит заряд дроби. А самому доктору Невесу, отозвав того в сторону, подсудимый, чтобы его не могли обвинить в клевете и угрозах, шепнул, что при первом же удобном случае всадит ему заряд, если доктор Невес воспользуется правами, которыми он наделен. Подсудимый разоблачил якобы имевшие место акты произвола, нарушения законов и злоупотребления со стороны доктора Невеса и кричал об этом на ярмарках и сельских праздниках. Как-то на рассвете доктор Невес устроил засаду у ворот дома Алмагре и схватил его. Его заперли в «крысином доме», тамошней каталажке, но на вторую ночь подсудимый сбежал. Прошло несколько дней, и однажды доктор Невес заметил в отдалении человека, который бродил по дороге, где он должен был пройти, в целях предосторожности доктор изменил свой маршрут. Это был Алмагре. Достопочтенный доктор, справедливо обеспокоенный поведением злоумышленника, подал в отставку и переехал жить на свою ферму в верхнем Дуро. Весьма возможно, что выстрел, который, едва не оборвав жизнь инженера Штрейта, превратил его в калеку, был сделан из ружья подсудимого. Его видели в толпе, собравшейся в секторе 1, он был вооружен и подстрекал остальных. В соответствии с положениями статьи 173 параграфа 1 и статьи 55 параграфов 5 и 4 я требую для подсудимого года строгой изоляции.
Жоао Ребордао — это зверь на свободе. Наследник завидного для здешних мест состояния, он промотал его на охотах, праздниках и гулянках с друзьями и подружками. Он обокрал женщину, на которой был женат и от которой имеет восемь детей, четверо из них уже совершеннолетние. Говорят, он неплохой семьянин, но в его любви к детям есть что-то звериное. Человек, который ударил одного из его сыновей, был убит. Однако это не мешало подсудимому в каждой деревне на Серра-Мильафрише завести по любовнице. Он ненавидит бога и закон. Мой бог — это мой живот, заявлял он, а закон только тогда хорош, когда он заставляет моего ближнего уважать меня, ибо я не делаю никому зла. Как вам нравится этот шутник? Ребордао учился в школе преподавателей начального обучения, и при обыске у него нашли много романов и всякой писанины с республиканской пропагандой. Не мудрено, что он организовал бунт горцев в зоне лесопосадок на Серра-Мильафрише. Он, фигурально выражаясь, поднял красный флаг. Даже если допустить, что подсудимый не стрелял в инженера Штрейта, и принять за достоверное показания командира отряда, утверждающего, что он не спускал с Ребордао глаз, подсудимый тем не менее должен понести наказание как главный виновник. Поскольку он уклонился от личной ответственности перед высоким судом своей отчизны, мы вынуждены судить его заочно. Главный виновник скрылся, поэтому я требую для него наказания, предусмотренного статьей 55 пункт 3 и статьей 168 Уголовного кодекса — то есть двенадцати лет тюрьмы со строгой изоляцией.
Мануэл до Розарио, совращенный чуждой пропагандой труженик, в представлении которого жизнь — несправедливое наказание. Он всем недоволен, все проклинает: «Пусть гром поразит бога! Пусть гром поразит дьявола! Ты хочешь стать вором, как министр? Упаси тебя бог стать депутатом!..» Вот его высказывания — недопустимая и постыдная брань, требующая кары. Он вечно твердит: «Отец небесный — негодяй, сатана тоже, а святой отец стоит их обоих, ничего не скажешь, подходящая компания. Правительство — это шайка воров, они только и знают, что кровь сосать из нас, бедняков». Это вечно, от природы, недовольный всем на свете человек, и способен он тоже на все. Такие всюду вносят разлад и ссору. То, что они совершили не менее опасно, чем то, что они могут совершить с отчаяния. Когда подсудимого позвали принять участие в злополучной схватке, он тут же бросил свой кузнечный молот на пол: «Я готов!» Вполне возможно, что он один из тех, кто открыл огонь по государственным служащим в зоне лесопосадок, хотя свидетели не дают четкого ответа на этот вопрос. Я требую для Мануэла до Розарио наказания, предусмотренного уже упомянутой статьей 171.
Обвинения, выдвинутые против Жусто Родригиша, Жулио Накомбы, Жозе Релы и других, были не столь пространны — следует помнить, кто взялся их защищать. Д-р Лабао до Кармо, председатель палаты в Буса-до-Рей, д-р Кориолано и д-р Камарате были преданы режиму. Понятно, что прокурор потребовал для этих подсудимых более мягких наказаний, предусмотренных статьей 171 и статьей 177 Уголовного кодекса, а для Жозе Лиро из Понте-ду-Жунку — три месяца тюрьмы и соответствующий штраф, ибо ему покровительствовал сам епископ.
Первым адвокатом, взявшим слово, был д-р Ригоберто Мендиш, который снова изложил историю Серра-Мильафриша и проблему лесопосадок в ее этническом и экономическом аспектах. Он начал с того, что заявил:
— Если проект лесопосадок на Серра-Мильафрише, выдвинутый государством, справедлив, то мои подзащитные и остальные подсудимые явились жертвами своей добронамеренности и невежества. Однако если правы горцы из Мильафриша, пусть даже относительно, — а нужно сказать, что в этом мире все относительно, — то бунт был единственным средством воздействия на всесильное и непреклонное в своих стремлениях государство, не способное на какие-либо компромиссы и осуществляющее свои грандиозные дерзкие планы методом насилия. Я считаю, что горцы не должны нести никакой ответственности за убийства и причиненный ущерб. Возложить эту ответственность следует в первую очередь на тех, кто решил ввести это новшество, и только потом можно спросить с лиц, которые или каждый в отдельности, или совместно совершили преступления, если таковые имели место. Но нельзя хватать преступников наобум, арестовывая кого попало. Этой несправедливости надо положить конец. Несмотря на недовольство среди жителей деревень, вызванное обнародованием плана лесопосадок на Серра-Мильафрише, португальское государство, эта закостенелая держава, напоминающая скорее фараонское царство, чем европейскую монархию, решило претворить в жизнь проект, выношенный в отделах Лесной службы. Разве могли старательные чиновники оставить без внимания этот клочок земли? Националистический дух всеведения, которым вот уже несколько десятилетий проникнуты наши власти, удержал их от поисков компромисса, который привел бы букву их программы в соответствие с местными интересами. Власти проявили непреклонность, оставив задуманный план без малейших изменений. Как и было намечено, план этот должен был выполняться согласно основной идее, превращающей искусство управлять в нечто большее, чем политический постулат, — в религиозную догму, словно речь идет не о цивилизованном европейском народе, а о рабах или каких-то первобытных племенах, которым посчастливилось получить в подарок от бога новоявленного Соломона.
Представитель министерства внутренних дел и председатель суда обменялись понимающими взглядами. Д-р Роувиньо скривил рот в гневной гримасе:
— Если уважаемый адвокат намеревается и дальше развивать подобные идеи, я буду вынужден лишить его слова!
— Разве то, что я сказал, сеньор председатель и достопочтенные судьи, не нужно для установления истины? Разве вы, ваши превосходительства, не находитесь здесь для того, чтобы выяснить причины, побудившие жителей горных деревень взбунтоваться против указаний законной власти? Принимая во внимание, что никто из обвиняемых не признал себя виновным, должен ли я отказаться от права на защиту, которое предоставлено в первую очередь мне и главным образом моим подзащитным? Разве не верно, что власть, издающая португальские законы, глубоко теологическая по своей сущности и форме, действует in aeternum
[24] согласно лемме неизменности? Считается, что пытаться изменить эту линию — значит предавать ее благородную миссию. Пока еще власть опирается на духовенство и буржуазию, главным образом финансовую, и протягивает руку помощи развенчанному дворянству. Какая-то жестокость или, лучше сказать, неуважение к своим подданным делает эту власть очень похожей на карикатурный халифат. Разве преступление — косным, отживающим нормам противопоставить реальные принципы, согласно которым на земле нет ничего более живого, чем дела человеческие.
— Уважаемый адвокат, вы отклонились от сути. Я еще раз призываю вас к порядку, не вынуждайте меня лишать вас слова!
— Поступайте, ваше превосходительство, как сочтете нужным. Я обращаюсь к здравому рассудку сеньоров судей, которые решат, должен ли я продолжать свое выступление или нет. Неужели вы хотите приговорить подсудимых a priori? Нет, такой безупречно честный судья, разумеется, далек от подобной мысли. Позвольте мне заявить, что политика, используя свою смиряющую и регулирующую узду, должна быть зеркалом окружающей действительности. Если этого не будет, представьте себе, во что превратится наша нищая нация.
Д-р Ригоберто быстрым взглядом обежал судейский стол: судьи были в самом спокойном расположении духа; сидящий с краю, казалось, даже спал. Толстый и довольный д-р Лабао, д-р Кориолано, д-р Камарате, д-р Эшперанса сидели на адвокатских местах в весьма торжественных позах, напоминая своими одеяниями сельских судей времен вестготов.
— Достойно сожаления, — продолжал д-р Ригоберто, пощупав таким образом судейский пульс, — что государства упорно подходит к данной проблеме лишь с точки зрения использования гор, впрочем, и об этом можно поспорить. Но моральная или психологическая сторона вопроса совершенно не интересовала государство, и такое безразличие многих огорчило. Я позволю себе со всей ответственностью сказать: государство ошибается, если считает, что сумеет осуществить свой план, прибегая к насилию. Горец со склонов Мильафриша — это не обычный португалец, и вот почему: два противоположных начала сосуществуют в нем. С одной стороны — независимость, мужество, прирожденная любовь к воле, которую, если позволите, я назову пространственным правом, то есть свободой пойти, куда хочется, невзирая на препятствия, преграды, стены, запрещения. Другое начало — это особое, только горцу присущее чувство собственности, которое пустило корни еще с первобытных времен, не мешающее ему, однако, быть в высшей степени гордым. Если бы горец мог, он сформулировал бы свои мысли так: горы принадлежат мне, срублю ли я там хворостину или целую повозку хвороста, сломаю ли ветку дрока или наберу его целую охапку, никому до этого нет дела. От меня же это потребует немного времени и немного усилий. Одним словом, в горах хозяин я! Подобного рода привилегия — а это бесспорно привилегия — породила некоторые, только ему присущие черты характера: склонность к праздности, любовь к кочевому образу жизни и неприхотливость животного. Стремление уйти от будничных забот, которые стали как бы внутренней потребностью любого другого человека, постоянно влечет его в горы. Горец не может жить без утесов, громадных скал и узких долин, холмов, поросших кустарником, как пес не может жить без кости. Именно в горах, в постоянном общении с этой суровой природой сформировались моральные качества горца. Когда они ругают детей за леность, они обращаются к ним с такими словами, уже превратившимися в поговорку: «Посмотрел бы я, как ты в горах от зари до зари будешь дрок рубить!» Трусу говорят: «Стучишь зубами, будто на вершине горы!» Болтуну: «Иди потрещи на горе́!» Горы, окружающие деревню, в фантазии горца приобрели поэтический облик, многие сказания связаны с ними. Горца нельзя понять без гор. Усилиями многих поколений магическая сила гор обрела героическую плоть. Горы хранят на себе следы далеких времен и бесконечных нашествий; горцы воздвигли неприступные стены своих крепостей.
Сражались камнями, дубиной, топором, и безмолвие смерти всегда завершало эту борьбу, в которой никто не просил пощады. Названия деревень и сел и по сей день хранят память о минувших событиях: Волчий Прыжок, Змеиная Нора, Холм Силы, Лобное Место, Западня, Виселица, Наручники; там наши деды, укрывшись у родников и ключей, пускали стрелы в томимых жаждой антилоп или медведиц с медвежатами. Поднимитесь в горы, и вы прочитаете надписи на могильных плитах, буквы еще не совсем стерлись. Эти надгробья местные жители называют иностранным словом — долмены; в Коваисе, в Кувосе, в Казал-де-Мойросе вы увидите старинные кладбища, вы увидите также выбоины на отвесных утесах, указывающие положение звезд в разные времена года; на высоких, недоступных скалах вы увидите озера, которые, вероятно, служили местом погребения вождей, погибших в схватках с неприятелем или диким зверем; в этих местах археологи могут сделать множество ценных находок — каменные и бронзовые топоры, наконечники для стрел, жернова, обожженная глина и обработанный камень. И новоявленные преобразователи природы осмелились затронуть потомков людей, которые когда-то жили в этих горах и оставили после себя немало загадок, людей диких, грубых, замкнутых, занимавшихся скотоводством или разбоем, людей выносливых и сильных, не боявшихся ни голода, ни холода, людей неприхотливых и стойких! Неужели их хотят уничтожить, как уничтожили индейцев Америки? Очень похоже. Нет, господа, оставьте в покое этого истинного представителя нашей нации, в жилах которого смешалась кровь иберийца, кельта и галла, и тогда отпадет необходимость в подобных процессах!
Д-р Ригоберто вновь окинул взглядом присутствующих, сначала толпу в зале, затем господ судей. Ему показалось, что судьи, как черепахи в панцирь, ушли в свои мысли и слушали его вполуха. Должно быть, думали о чем-то более для них интересном: о жене, о любовнице, просившей деньги на платье, служаночке, которая предпочитает молодого приказчика из бакалейной лавки. Однако д-р Ригоберто продолжал, ибо адвокат, как и игрок в пушбол, должен бить в слабое место.
— Поднимитесь в горы, и с одного взгляда вы убедитесь, сколь мрачна и несчастна эта земля. Вероятно, когда-нибудь тщательное исследование недр обнаружит там богатые залежи полезных ископаемых, и с их разработкой район приобретет экономическую независимость и возможность развиваться. Но об этом никто не думал. Разве допустимо, даже если нет лучших перспектив, лишать горцев того, в чем они нуждаются? Они не собирались устраивать одну стычку за другой и уже совсем не хотели, чтобы их протест был омыт кровью. Они лишь хотели напомнить всемогущему государству и его руководителям: «Посмотрите, как мы несчастны! Не дайте нам умереть с голоду! Оставьте нам горы, они нужны нам, чтобы сеять рожь, пасти наши стада, собирать хворост, которым мы обогреваемся холодными зимами». Произошло несчастье, но горцы не виноваты в нем. Господа судьи, я взываю к вашему пониманию и благородству — оправдайте подсудимых!
После закрытия заседания при выходе на улицу Санто-Антонио встретились д-р Ригоберто, Сесар Фонталва и старый Теотониу Ловадеуш. Адвокат шел молча. По мимике, жестам и словам д-ра Соберано Переса не составляло труда догадаться, что крестьяне будут строго наказаны. Подзащитным адвокатов, преданных государству, наказание, возможно, смягчат. Остальные же обязательно поплатятся за свое преступление, состоящее в том, что они бедны и вместо того, чтобы довольствоваться нищим существованием, заявили о своих правах.
Сесар Фонталва сказал старику:
— Ни один суд не может осудить вашего сына. Как день ясно, что он невиновен.
— Мне тоже так кажется, сеньор. Но люди, когда это нужно, бывают злы.
— Нет, нет. Завтра я еду в Пендоно и буду в Аркабузаише. Хотите, захвачу вас?
Теотониу отрицательно покачал головой.
— Приговор будет вынесен только через несколько дней. Вам придется ждать, Теотониу! — заметил Ригоберто.
— А сына я увижу?
— Увидите, если позволят…
— Если позволят? — Предупредительная вежливость адвоката поселила тревогу в душе Теотониу. — Смогу ли я хотя бы обнять его?
— Думаю, да.
Но ему не дали увидеться с сыном. Эту ночь он не спал и уехал в машине Сесара Фонталвы весь в слезах. Черт побери это государство! Неужели нельзя даже попрощаться с единственным сыном?! Инженер всячески поддерживал старика и, чтобы его ободрить, беспрестанно повторял, что ни один судья не осудит Мануэла Ловадеуша. Ведь его выступление на суде было вполне убедительным. Старику было приятно, что этот человек небезразличен к судьбе его сына, скорее наоборот.
Ригоберто подумал, что Сесар Фонталва, предложивший отвезти его из Порто домой в Сабор через горы Мильафриш, неслучайно выбрал этот путь, который на сорок километров был длиннее обычного. Но почему? Только в Аркабузаише по той внимательности, которую инженер проявлял к Ловадеушам и особенно к Жоржине, Ригоберто понял, в чем дело. Что ж, может быть, счастье улыбнется этой хорошей и красивой девушке.
Через несколько дней в суде был зачитан приговор. Если не считать протеже епископа, который получил три месяца тюрьмы и мог быть освобожден под залог, большинство подсудимых было приговорено к двенадцати годам тюремного заключения со строгой изоляцией для Жоао Ребордао и годом строгой изоляции для Жусто Родригиша. Мануэл Ловадеуш был приговорен к трем годам и довольно крупному штрафу. Рабочие, объявившие стачку из-за гнилой трески, получили от четырех и более лет. Это должно было послужить им уроком. Адвокаты, однако, сочли это наказание слишком строгим.
— Ничего, проглотят, — веселился Бруно, хотя его отец был при смерти.
Ригоберто почувствовал, что старый Ловадеуш охвачен отчаянием. Не сказав ни слова, старик отправился в Рошамбану. Он хотел остаться один, перебороть душившую его злобу и стонать, рычать, кричать, пока тоска не отпустит, или уж подохнуть, как последняя собака.
ГЛАВА XI
Концом палки, которая служила ему кочергой, Теотониу Ловадеуш, сидя на табурете, машинально ворошил угли в жаровне, а сам думал о сыне. В хижину старика через приоткрытую дверь проникала узкая полоска лунного света, дрожащего и прозрачного, каким он бывает зимой, мягкого и чистого, заливающего все вокруг серебристым сиянием. Рядом с Теотониу лежал Фарруско, протянув лапы к огню, опустив уши и тоже задумавшись. Уже давно стемнело, и лишь время от времени в горах раздавался крик совы.
— Мой сын невиновен, как агнец божий, — глухо проговорил старик и приподнял голову, потом нагнулся к огню, поворошил угли и сказал: — Что плохого он сделал?
Он представлял себе сына то в тюрьме, в арестантском халате с номером на спине, то работающим на строительстве зданий, которые правительство, как он слышал от д-ра Ригоберто, возводит по всей Португалии лишь бы как-то занять армию заключенных и создать видимость, что жилищное строительство страны на подъеме.
Вдруг Фарруско насторожил уши, он услышал стук деревянных башмаков. Это был Жаиме. Он пришел пригласить деда к ужину, который уже остывал. Но старик отказался:
— Ужинайте одни, мне не хочется, я поздно обедал.
Внук признался, что уже поужинал. Он пришел из деревни с грудой ящиков, коробок и всякого хлама и набросился на еду, парень был голоден, как волк.
Ловадеуши уже перебрались в новый дом в Рошамбане, хотя там едва успели обмазать стены и оставалось еще много недоделок. Стало известно, что Лесная служба намеревается отобрать хутор, и по совету Ригоберто, чтобы увеличить сумму возмещения и создать лишнее препятствие, Ловадеуши переселились, перенесли всю утварь и перегнали скот. Однако старый дом, где был крытый соломой навес и инструменты, необходимые на те случаи, когда приходилось работать на участке близ деревни, они не продали. Хотя в новом доме с избытком хватало места, чтобы всем разместиться, старик не пожелал уходить из своей хижины. Он бросал в очаг пару поленьев, если ночи были холодными, и, бесцельно потоптавшись на месте, укладывался на лежанку, устланную соломой, перебирая в уме прошлое и настоящее. Фарруско ложился рядом. Со своего места Теотониу видел весь хутор, в любой момент он готов был вскочить, чтобы подстрелить куропатку или поставить свои браконьерские силки.
Жаиме сел рядом с дедом и подбросил в огонь хворосту. Немного помолчав, он сказал:
— Вы уже поставили капканы, дедушка? Сегодня такая ночка, кролики обязательно придут погулять…
— Поставил. Но едва ли они придут. Вечером я слышал, как в горах лаяла лиса, а у них слух лучше нашего, и они трусливы. Наверно, останутся в норах.
— Где вы поставили? Я пойду сниму.
— Одни в кустах у родника, другие в зарослях дрока у Баррелаша, третьи на новом месте, которое я нашел у дороги в Урро. Ты не найдешь, лучше я пойду… Коров уже смотрел? Двери закрывай плотней — волки близко бродят.
— Не волнуйтесь, я все запер.
Оба придвинулись к огню и замолчали. Наконец старый Теотониу медленно, словно выбираясь из чащи запутанных мыслей, сказал:
— Значит, Гнида отправился на тот свет?..
— Да, больше он не разбавляет вино водой и не дерет три шкуры с бедных…
— Неужели так и подох, как рассказывают? Прямо не верится!
— Так и подох!
Жаиме рассказал то, что слышал от людей и от самой вдовы Лусинии Барнабе. Был канун праздника святого Антония, и, если бы у Гниды было четыре руки, он и тогда не успевал бы справляться. Кому не хочется поесть картошки с оливковым маслом, уксусом и чесноком и выпить стаканчик? К тому же, Гнида еще торговал рисом, сахаром, треской, хлебом, так что в праздники в его заведении всегда было много посетителей. Что из того, что дорого, ведь второй лавки во всей округе не было, только в городе.
В такие дни лавочнику помогали жена и сыновья. Но к жене и к парням нужно было бы приставить по полицейскому: не успеешь и глазом моргнуть, как они припрячут что-нибудь себе в карман. А на это Гнида не мог пойти. Но в тот день у Лусинии болела спина, и она не могла разогнуться; Бруно как свидетель обвинения выступал на суде в Порто, а Модешто не мог оставить свой участок в северной зоне, где каждый день валили межевые столбы, заливали саженцы водой из ручьев и даже портили тракторы.
Итак, Гнида остался за прилавком один, но старик он был крепкий и управлялся неплохо. Уже ночью, голодный и усталый, даже не отмыв рук, вымазанных маслом, рассолом, жиром, он свалился на тюфяк рядом с женой и заснул мертвым сном. Гнида лежал на животе, с самого краю, поскольку Лусиния имела плохую привычку спать, свернувшись калачиком и вытянув правую руку; по ней могла хоть телега проехать — она все равно ничего не услышала бы. Спали они на случай, если вдруг явится запоздалый покупатель, прямо в лавке. Если бы кто-нибудь заглянул в лавку, когда они забывали закрыть дверь, то увидел бы супругов Барнабе на тюфяке, лохматом, как шерсть щенка.
В ту ночь, на рассвете, Гнида проснулся от страшной боли в пальцах, он приподнялся, но от боли даже не мог сначала глаза открыть. Он толкнул жену, которая крепко спала, отвернувшись к стене, и решил зажечь свет. Когда Гнида потянулся к лампе, боль стала такой острой, что он чуть лампу не уронил. Из груди старика вырвался крик.
— Ой, жена! У меня что-то случилось с руками! Будто мне пальцы ломают. Зажги свет, посмотри…
Жена заворчала во сне:
— Ну чего ты спать не даешь людям…
Но она знала характер мужа и побаивалась его, поэтому стала торопливо чиркать одну спичку за другой, пока не зажгла огонь. Барнабе осмотрел свою правую руку — из окровавленной кисти капала кровь. Он поднес руку к свету и закричал:
— Черт бы побрал этих крыс, они искусали мне пальцы! Перед самым закрытием я отпускал масло Кашаррете, а руки не помыл…
— Господи Иисусе, они отъели почти все пальцы! Ну где была твоя голова?
— Чего ты хочешь? Я весь день работал и бревном свалился в постель… Но где наша кошка?
— Поди, поищи ее! Каждую ночь где-то шляется, вчера здесь коты такой концерт устроили, почище, чем в филармонии.
Гнида натянул штаны, взял полотняную тряпочку, налил водки и, немного подержав в ней пальцы, обмыл их. Затем вместе с женой они разорвали тряпку на узкие полоски и обвязали руку. Гнида снова улегся, но уже светало, и сон не шел. Рука разболелась еще больше, и он так стонал, что жена в конце концов сказала:
— Пошел бы ты к врачу…
— Зачем? Дать ему двадцать эскуду и еще столько же аптекарю? Я и так знаю, что мне пропишут. Принеси лучше спирту и приготовь настой на мальве.
Вечером Барнабе вымыл руку настоем на мальве, положил пластырь на искусанные пальцы и встал за прилавок обслуживать покупателей.
— Что это у вас, дядя Барнабе? — спросил один.
— Ушиб руку…
— Возьмите из очага пепла, смешайте с уксусом и приложите.
— Что это вы руку перевязали? — спросил другой.
— Так, пустяки. Открывал дверь и ушиб…
Он не говорил правды из стыда и еще потому, что боялся, что люди узнают, как крепко он спит, и к нему заберутся воры. Соображения гигиены меньше всего волновали его, впрочем, как и покупателей.
— Насыпьте в молоко отрубей и приложите. Кровь сразу рассосется.
На следующий день рука сильно распухла. Всю ночь Барнабе почти не спал, его мучали кошмары.
— Черт бы побрал эту кошку, от нее нет никакого проку, — сказал он жене. — Пусть только она мне попадется, я ей голову разобью. Смотри, как рука вспухла, но это хороший признак. Все идет своим чередом…
И Барнабе снова встал за прилавок; он уже не двигал правой рукой, распухшей, как полено, и ему казалось, что и левая стала упрямиться и отказывалась исполнять его приказания с обычным проворством и силой.
На третий день опухоль дошла до плеча. Рука с обезображенными пальцами напоминала ствол оливкового дерева с корнями.
— Сходи к врачу, — настаивала Лусиния.
— Уж лучше к дьяволу! Я знаю, что со мной там сделают. Сначала станут колоть, а это стоит недешево, а потом, пожалуй, резать начнут. А зачем мне это? Обойдемся домашними средствами, оно и дешевле и надежнее. А если пиявок поставить?
— Мой бог, а у кого они есть? Подожди, может быть, у сеньоры Марии Ригоберто? Надо послать в Аркабузаиш.
Послали Шику Белдроегу, которая пришла просить милостыню. Нищенка вернулась вечером, после того как обошла весь Аркабузаиш, распевая у каждой двери «Отче наш» и «Аве Мария», только она могла так петь молитвы. Котомка ее была полна, но явилась она без пиявок. У доны Марии их давно уже нет, прислуга как-то забыла поменять воду, и они подохли.
— Ладно, жена, и так пройдет, — сказал Барнабе.
— Сходи к врачу. Из-за сорока тысяч рейсов дом не развалится…
— Если завтра не будет лучше, схожу. Закажи молитву во здравие, хотя сейчас святой Антоний…
— На Антония молятся за скотину, но я уже заказала, а потом еще закажу на девять дней подряд…
В субботу было много покупателей, и Гнида не отходил от прилавка. В воскресенье, как всегда, дел по горло, так что о докторе он даже не вспомнил. В понедельник утром старик от боли не мог двинуть шеей. Много ночей подряд он почти не спал, его мучили боли, словно дом обрушился ему на череп. Гнида встал с твердым намерением сходить к врачу. Правая рука стала тяжелее, чем пест для отжимки винограда, и ему казалось, что она чужая. Руку будто свинцом налили. Это испугало Гниду. Левая рука тоже не двигалась, язык прилипал к небу, как мастерок штукатура с раствором. Ноги не держали массивное тело старика, он упал на одеяло, прохрипев:
— Пошлите за доктором! Пошлите скорей, я умираю! Будь прокляты эти крысы! Зачем только господь создал их!
Врач пришел поздно, он был на охоте. Когда он щупал пульс и увидел руку Гниды, он понял, что произошло, и сказал Лусинии:
— Как можно скорее пошлите кого-нибудь в город за этими лекарствами. Тут есть у кого-нибудь автомобиль?
— У сеньора Луиша пикап…
— Так попросите его съездить за лекарствами. Если хотите спасти мужа, нужно действовать быстрее…
— О боже!
Лусиния ушла. Врач попросил согреть воды. Ампулы привезли быстро, насколько это было возможно для тамошних мест. Доктор погрузил руку Барнабе в кипяток.
— Вы обварите меня!
— Вот и хорошо!
Врач сделал уколы и ушел, сказав:
— Завтра снова приду. Я сделал все, чтобы предотвратить гангрену. Может быть, антибиотики помогут. В противном случае… — больше ему добавить было нечего.
Еще три дня доктор приходил к Барнабе и исколол ему все тело: ноги, ягодицы, живот. Бруно приехал из Порто и не узнал отца. На седьмую ночь больной стал бредить:
— Крысы выпили все масло! Будь прокляты все крысы, которые только есть в Португалии! Португалия — крысиная нора, повсюду они пищат и грызутся. Плодятся и жрут… Жрут и плодятся… Все жрут — и живого и мертвого. Черт бы их побрал! Грызут стены, жрут сахар, сало, но больше всего любят оливковое масло. Они скоро станут пить масло из лампады господу богу заодно с дьяконом. Сколько крыс! Сколько крыс! Какие громадные! Как бараны! Жена, дайка мне мотыгу — я убью одну, она по мне лезет…
Ночью он разразился громкими судорожными рыданиями, потом захрипел. Грудь старика раздулась и походила на большой глиняный горшок, фиолетовый, как вино; он завернулся в полотенце и рычал:
— Черт побери всех крыс Португалии! Какое проклятие господь послал на нашу землю! Они жрут меня заживо! Какая громадная крыса! Это доктор Лабао…
— Ты бредишь! — сказала Лусиния. — Тебя зовет к себе матерь божья, она исцелит твой рассудок. Хочешь, я позову священника?
— Священника?! Черт бы его побрал, это самая злая крыса!
Теотониу слушал внука с открытым ртом, его душу переполняла злобная радость. Значит, избавились от этого мошенника, сейчас, наверно, на нем верхом дьявол скачет по аду. Когда же он заберет и его подлого сына из Лесной охраны?
— На похоронах много народу было? Его сыновья теперь богатыми стали…
— Очень. Болтают, Лусиния вместе с зятем Карвалиньо залезла в сундуки, взяла все деньги, что там были.
— Нет на них напасти!
С гор донесся вой.
— Это лиса, — сказал Жаиме.
— Нет, это волки почуяли скот в хлеву.
— А может, душа Барнабе бродит.
Старик лег. Поздно ночью он услышал, как возится Фарруско. Недобрый признак. А может быть, ему приснился плохой сон? Собаки ведь тоже видят сны, как люди. Однако пес услышал, как ворочается хозяин, и снова заснул.
Тогда старик натянул штаны, надел башмаки, взял в руки заряженное ружье и вышел к калитке. Вдали, по опушке соснового бора, там, где недавно проложили дорогу из Урро в Барракаш, медленно, озираясь по сторонам, шел человек. По его фигуре, ружью за плечами и форменной одежде Теотониу узнал Бруно. Там, где дорога сворачивала в Рошамбану, он остановился. Старик видел, как он недолго постоял и пошел дальше.
«Гм, — сказал себе Теотониу. — Позавчера твоего отца похоронили, а ты уже бродишь?! Ну, подожди, я тебе покажу! Разве честный человек пойдет на службу в лесничество? Но зачем он останавливался?.. Только ли из любопытства?..»
В силках, установленных на новом месте, старик нашел крупного зайца; он уже окоченел, значит, попался еще вечером. Спрятав зайца под одежду, старик вернулся в Ромашбану и отдал его Жоржине:
— Зажарь на завтрак!
К вечеру явился д-р Ригоберто, который принес судебное постановление: Мануэл Ловадеуш или кто-нибудь вместо него обязан был заплатить за шесть месяцев пребывания в тюрьме и 20 эскуду штрафа, что составляло в общей сложности 3600 эскуду, кроме того, судебные сборы и налоги, составлявшие 4 конто. Хорошо еще, что адвокат не взял ни гроша, хотя коллеги д-ра Ригоберто обычно запускали руку в чужой карман по самый локоть. Это была своеобразная мера воздействия на подсудимых. Следующий раз они задумаются, прежде чем нарушить устои государства.
— Продадим дом в деревне, — сказал старый Ловадеуш.
— Не нужно, дедушка, — стала упрашивать его Филомена. — Может, мы здесь не станем жить. Здесь так скучно! А по ночам страшно…
Обычно старик мало говорил с невесткой, только о самом необходимом, и редко кто их видел рядом.
— А почему бы не продать сначала лес? — предложила она.
Старик подумал, закрыв глаза, а затем сказал д-ру Ригоберто:
— Да, лес можно продать. Древесина сейчас в цене, по нынешним ценам за десяток сосен можно неплохо выручить.
— Я думаю, это лучше, — согласился адвокат. — Продавайте, а я подам в суд прошение об отсрочке.
От имени инженера Сесара Фонталвы, руководившего работами в южной части зоны, к Теотониу Ловадеушу снова обратились с просьбой разрешить брать в Рошамбане питьевую воду. Старик дал свое согласие. В тот же вечер пришел один из рабочих с осликом, у которого на спине было четыре кувшина. Потом рабочие каждый раз менялись, наверно, пока еще не назначили водовоза. Приходил даже Бруно Барнабе. Увидев его, старик проворчал:
— Ты нахален, но твоя подлость тебе боком выйдет. Я поклялся своей жизнью и не отступлю. Ты за все заплатишь сполна, пусть только случай подвернется!
Другой раз Теотониу заметил его, когда он подходил к дому с северной стороны. Жаиме, который не мог сдержать себя, подскочил к Бруно и стал требовать, чтобы он поворачивал назад, будто не знал, зачем явился сын Гниды.
Теотониу ничего не сказал внуку, но про себя пожалел, что упущен удобный случай поговорить начистоту с этим мерзавцем. Однако он насторожился, впрочем, последнее время это состояние не покидало его. Насторожился и Фарруско, который понял, что этот человек — враг, и оскалил зубы. Такой же несдержанный, как и Жаиме, он бросился однажды на Бруно, когда тот наполнял кувшины. Бруно дал ему пинка, и пес с воем отскочил. Старик был в хижине и наблюдал за этой сценой из окна, он едва сдержался, чтобы не закричать. Но пинок Бруно пошел на пользу, он сделал из Фарруско неподкупного и бдительного сторожа.
Между тем по всей зоне энергично велись работы по подъему целины. Сто рабочих рядом с Рошамбаной и еще столько же чуть подальше корчевали заросли, выжигали кустарник, прокладывали дороги, бульдозерами сравнивали холмы, по которым не могли пройти механические бороны. С восхода до заката беспрерывно раздавался адский грохот моторов, сотрясавший зимнюю тишину плато.
Старик прислушивался к этому шуму, и злоба переполняла его душу. Если бы он мог, он уничтожил бы все, что уже было сделано. Но руки были коротки. В нем говорил дух старого охотника, и в его мозгу один за другим возникали коварные планы, очень часто фантастические, о которых знали только звезды.
С недавних пор в машинах стали обнаруживать неисправности, которые, очевидно, были делом чьих-то рук. Как-то ночью у одного из тракторов взорвался мотор, было обнаружено, что под трактором кто-то разжег костер. Потом в бараке, где помещалась контора, возник пожар, и барак едва не сгорел дотла. Кто это делал? Как правило, страшным оружием злоумышленника был огонь. Неизвестный действовал под покровом ночи, неслышно, словно кобра, он поджигал то кучу хвороста, то стог сена и скрывался. Пожар обычно замечали только тогда, когда языки пламени вздымались высоко в небо. Спустя некоторое время стало ясно, что этим занимается не один человек. Тогда приказали спустить сторожевых псов, ибо войска, хотя в каждом секторе и было по группе из десяти человек, вооруженных автоматическими пистолетами, оказались неспособными пресечь эти вылазки, даже при поддержке лесников, смелых и выносливых, отлично знающих местность и повадки горцев. На некоторое время дерзкие диверсии прекратились. Однако потом один за другим доги стали дохнуть. Их хорошо кормили, но устоять перед соблазнительными пирожками бедные животные не могли. Охрану усилили, и все же несчастья приходили одно за другим. В Тойрегаше был убит один из злоумышленников; он получил пулю меж лопаток, когда убегал, приведя в негодность бульдозер. Все население деревень вышло хоронить убитого, снова раздавались крики: «Долой правительство! Долой воров! Серра-Мильафриш принадлежит нам!»
В секторе 2 дела шли более спокойно — то ли тамошние руководители работ не вели себя так вызывающе, то ли у жителей деревень, входящих в этот сектор, нервы были покрепче. Теотониу слушал, что говорили, наблюдал за тем, что происходило, и выдавливал сквозь зубы:
— У здешних горцев заячья душонка! Трусы!
Теотониу, Жаиме и обе женщины теперь как никогда старательно возделывали свой участок у деревни и у Рошамбаны. Старик спал мало, но был еще очень крепок, мог ставить силки и капканы и охотиться в ночь и в непогоду. Для этого он уходил на другую сторону гор, к болотам, где кролики собирались играть и, закончив фарандолу, кавалеры разбирали дам. Кролики любят жить в уединении, их норки расположены поодаль одна от другой. Поэтому, встречаясь, они рассыпаются в любезностях. Ночью они навещают друг друга, роднятся, отмечают свои праздники. А лунными ночами, когда поблизости нет лисиц, они собираются на большой праздник. Тогда красивые и сильные самцы имеют возможность выбрать себе хорошую подругу. Теотониу разряжал свой дробовик почти в упор, и редко когда два или три зайца не попадали к нему в мешок. От Фарруско подранку почти никогда не удавалось уйти.
Охота с манком шла не хуже. Теотониу умел подражать писку молодых зайчих. Из зарослей появлялся самец, он беспокойно прыгал, навострив уши и поставив усы торчком, искал молодицу. Теотониу продолжал пищать, и пылкий заяц шел прямо к нему, попадая на мушку. Охота силками — дело более тонкое и трудное. Силки нужно расставить в сумерках и снять их тоже затемно, когда торчащие на бороздах кусты дрока походят на крадущихся воров. Сегодня старик поймает одного зайца, через пару дней — другого, а больше им и не нужно.
Жаиме перенимал от деда это запретное искусство, которое требует знания многих секретов и хитростей; впрочем, после того как состоялось несколько охотничьих съездов, старик стал считать, что люди превратились в шайку разбойников. Когда старик оставался дома, на охоту шел внук. Так они и жили в Рошамбане, тихо и спокойно, как никогда раньше, и всего им хватало, ведь горы были все равно, что неиссякаемая кладовая. А воры из правительства хотели лишить их всего этого.
Бруно, серьезно повздоривший с матерью и свояками из-за женитьбы, появлялся на дороге в Урру, как только на службе ему давали отпуск. На пути туда и обратно он проходил под окнами домика в Рошамбане. Теотониу заметил время, когда он появлялся, и прятался в коровник, откуда через узкую щель наблюдал за Бруно. И вот однажды вечером, незадолго до захода солнца, он услышал такой разговор:
— Привет, Жоржина, да будут счастливы все, кто видит вас.
Девушка, которая сидела у окна и что-то вязала, подняла голову, но ничего не ответила.
— Вы не отвечаете мне, а ведь я не сделал вам ничего плохого… Хоть бы отдали письмо, которое я послал из Шиншима…
— Мне нечего отдавать, я никакого письма от вас не получала и не хочу получать. Запомните это раз и навсегда.
— Но я писал вам. Писал, что дела идут на лад и что, если вы пожелаете, я буду просить вашей руки…
— Напрасно старались. Я даже глядеть не могу на человека, который помог осудить моего отца. Мой отец — святой, а вы, сеньор, — обманщик. Это вы хотели от меня услышать? Где ваша совесть?!
— Ваш отец был приговорен еще до того, как сел на скамью подсудимых. А суд для того и выдуман, чтобы наказывать людей, которые посылаются туда по распоряжению правительства. Никаких других целей у него нет.
— И все же вы поступили плохо.
— Поймите, я ничем не ухудшил положение вашего отца. Я же не сказал того, чего от меня добивались. Ведь они хотели, чтобы я показал, будто ваш отец с карабином в руках шел впереди толпы. Даже больше, много больше… А я рядовой служащий лесничества… я вынужден был подчиниться.
— Значит, ваши начальники научили вас сказать это?
— Не самые главные, а те, что помельче. Вызвал меня один такой и говорит: «Скажешь то-то и то-то». — «Но это же ложь», — ответил я. «Для тебя нет ни лжи, ни правды. Для тебя это одно и то же. Ты служишь — вот и делай, что тебе говорят, скажешь все, что знаешь». — «Мне противно лгать!» — «А если противно, убирайся отсюда. На твое место найдется много желающих». Вот как это было. Что же я мог поделать…
Жоржина молчала. Тогда Бруно снова спросил:
— Что я мог сделать?..
— Что? Если вы хотите жениться на мне, как уверяете, вы не должны были клеветать на моего отца и помогать тем, кто упрятал его в тюрьму. Вот что! Или вы не такой, как все, и умерли бы с голоду, если бы потеряли место?!
— Конечно, не умер бы. Но слухи об отцовском наследстве очень преувеличены, больше разговоров, а деньги куда-то исчезли. Поэтому нам с братом, если бы не было земли, которую в карман не положишь, пришлось бы зубами щелкать.
Жоржина молчала.
— Вот какое дело. А пока простите, до следующего раза.
— Уходите и больше у нас не появляйтесь. Наши пути разошлись и никогда теперь не сойдутся.
— Не будьте такой злой! До свидания.
— Прощайте, я же сказала, оставьте меня в покое.
Едва он отошел, как громко хлопнуло окно — девушка была с характером. Однако она почему-то выслушала его объяснения, — очевидно, побоялась обострять отношения с этим мерзавцем. Теперь Фарруско, когда он был в Рошамбане — а он был там всегда, если не охотился со стариком или с Жаиме, — давал знать о появлении Бруно, едва тот показывался на дороге в Урро. Пес издалека чуял его шаги и сбегал по откосу со вздыбленной шерстью и оскаленными зубами. Как только сын Гниды показывался на гребне, пес бросался к нему и преследовал добрых пятьсот метров, то забегая вперед, то отставая, хотя Бруно делал вид, что собирается бросить в него камнем или ударить. Фарруско отставал, только когда тот исчезал за холмами. Когда пес прибегал в хижину, хозяин гладил его и приговаривал:
— Ах, ты, псина, ну чего ты от него хочешь? Оставь-ка ты его в покое…
Иногда пес скулил и виновато поджимал хвост. Он ложился у ног хозяина, а тот давал ему пару пинков за непослушание, и Фарруско удирал.
Однако его ненависть была сильнее разума и стремления исправиться. Как только Бруно появлялся вдали, он вскакивал и бросался ему навстречу. Хозяин наконец решил не мешать ему. Он понял, что ничего не поделаешь. Фарруско не мог совладать со злостью, которая охватила его, как и его хозяина. Теотониу и сам не привык делать добро себе подобным, но к этому негодяю питал глубокую ненависть. Кто знает, быть может, псу передался его гнев и он ненавидит за двоих, за себя и за хозяина? Теотониу ласково погладил пса, тот лизнул его в лицо. Они простили друг друга, и пес получил право поступать как хочет.
Бруно возненавидел Фарруско. Стоило ему приблизиться к дому Ловадеушей, как проклятый пес начинал лаять, а Жоржина, на которую посматривал парень, захлопывала окно. После того как это повторилось несколько раз, Бруно отказался от своих прогулок мимо дома в Рошамбане.
Как-то ночью Теотониу помогал отелиться корове и забыл про Фарруско, а рано утром нашел пса у родника мертвым. Он не хотел верить своим глазам. Неужели это Фарруско? Зачем эта бессмысленная, необъяснимая и ужасная жестокость? Да, это был Фарруско, окоченевший и неподвижный. Теотониу отчаянно закричал:
— Помогите! Убили моего Фарруско!
В Рошамбане все всполошились. Первым прибежал Жаиме, он обнял пса и разрыдался. Старик стонал и скрежетал зубами. Филомена и Жоржина плакали. Что делать? Может, еще не поздно спасти пса? Попробовали влить ему в пасть водку, может, он придет в себя? Наверно, Фарруско дали отраву. Ох, зачем он взял!
Фарруско был мертв. Случилось непостижимое. Прекрасный, совершенный механизм навсегда остановил свой ход. Ничего нельзя было поделать — пес уже похолодел. Теотониу, превозмогая горе и гнев, велел женщинам идти в дом. Он поднял пса и отнес его в свою хижину. Вместе с Жаиме он снова и снова осматривал мертвого друга. Живот раздулся, как барабан, но никаких следов ранения не было. Старик раскрыл плотно сжатые зубы и разглядел остатки какой-то странной пищи.
— Надо вскрыть, — сказал Жаиме.
— Нет, — ответил старик, — и так ясно, что отравили.
— Кто мог это сделать?
— Помалкивай, он за это поплатится. Пока распустите слух, что пес сдох от удушья.
— Дедушка, вам не потребуется проливать его кровь. Я сам берусь свести счеты с этим мерзавцем…
— Ну нет, это мое дело и пес мой. Он был мне верным другом девять… нет, больше десяти лет. И еще мог бы жить. Лучшего друга у меня не было!
— Он заплатит…
— Заплатит, но только мне. Слышал? Я старый, если и придется тюремные нары боками тереть, все равно недолго, а у тебя вся жизнь впереди. Я отомщу за Фарруско… и за все остальное. Это он оклеветал твоего отца, честного человека… Послушай, Жаиме, мне может понадобиться твоя помощь. Только надо быть осторожным, чтобы тебя не заподозрили. Я еще подумаю…
Оба замолчали, прочтя в глазах друг у друга свою судьбу. Вспомнили обиды, которые нанес им Бруно. Разве он не надругался над Филоменой, когда она осталась в Рошамбане одна? И потом, считая, что ее мужа уже нет в живых и получив от негодяя обещание жениться, бедняжка не раз отдавалась ему. Она все рассказала Жаиме, когда он был на пороге смерти, и горячо просила у него прощения. Но Жаиме выжил и попытался рассчитаться с Бруно. Из-за этого и была та драка.
Старик узнал об измене Филомены еще раньше. Он видел, как они выходили из кустов, и только ждал случая снова застать их вместе и убить. Но не удалось, как он ни старался. Однако Теотониу считал, что эту грязь Филомена никогда с себя не смоет.
Наконец старик сказал:
— Иди с миром, мой мальчик, и не думай больше о нашем разговоре. Говори всем, что пес умер от удушья. Понял? А негодяя оставь мне.
Теотониу хотел побыть один. Когда внук ушел, он обнял пса и стал целовать его. Старик рвал на себе волосы и плакал, но тихо — стыдился, что его услышат. Этот суровый горец не питал большого уважения к себе подобным, чужие беды не очень волновали его, хотя он и не оставался равнодушным к несправедливости. В его душе находилось место состраданию, старик мог бы разорвать на части того, кто поступал в ущерб другому. К своему сыну, человеку доброму, безоружному против людского коварства, мечтателю, не способному ненавидеть даже убийцу, он питал искреннюю, большую любовь. О внуках старик считал своим долгом заботиться — ведь они были плотью от его плоти, выросли у очага, у которого грелся и он, у них была одна кровь, одни взгляды, один характер. Любовь старого Теотониу была подобна угасающему солнцу, льющему свет на верхушку каштана. Жаиме завоевал его сердце своей прямотой и храбростью. «Он моей породы», — любил говорить Теотониу. После того как умерла жена, он стал очень привязываться к животным: к Фарруско, Студенту, Короаде. Когда Теотониу увидел Фарруско мертвым, свет померк в его глазах. Он обнимал пса, гладил, называл ласковыми именами и вел с ним молчаливый разговор:
«Тебе не нужно было говорить, ты и так все понимал! Стоило только подать знак, и ты угадывал все мои желания и отвечал по-своему, виляя хвостом. Сразу можно было понять, что ты хочешь сказать. Ты был умней всех животных и даже некоторых людей, разбирался в охоте лучше, чем Лабао в законах. Своим нюхом и ловкостью ты превосходил благородных породистых собак, с богатой родословной. Кролики боялись тебя, ты вдруг выскакивал из густых зарослей и хватал зазевавшегося длинноухого. Ты знал все места, где они собираются зимой и летом. Даже куропатки, самые осторожные птицы на свете, не уходили от тебя! Никогда мы с тобой не брали меньше полудюжины куропаток и относили их на рынок. Ты прекрасно знал, что на эту птицу охотятся иначе, чем на кроликов, нельзя с лаем гоняться по их следу. Собака, которая сжирает куропатку, совершает непростительное преступление, если это не пастушья овчарка или какая-нибудь дворняга, по которой плачет палка. Ты был простым псом, но так обучился своему ремеслу, что стал проворней сенбернара или этих рыжих, мохнатых псов, с широкими мордами, способных выследить горную дичь, где бы она ни скрывалась. Я отомщу за тебя, мой друг. Так отомщу, что сам сатана спросит своих подручных: «Кто из вас обучал его?»
Старик убивался два дня и только на третий, когда труп Фарруско стал разлагаться, собрался с силами похоронить его. Возвращаясь к себе в хижину, он столкнулся лицом к лицу с д-ром Ригоберто — единственным из чужих, с кем пес ходил на охоту. Д-р Ригоберто уже все знал от Жаиме и ласково спросил:
— Говорят, ваш Фарруско подох?
— Да, сеньор доктор, от удушья…
— От удушья? Еще позавчера он ходил со мной на охоту… и был совершенно здоров. Гм!
— А отчего же еще он мог умереть?
Ригоберто удивленно посмотрел на старика.
— Хотя, может быть, и не от удушья. Ведь и люди зачастую умирают неизвестно от чего.
Ригоберто понял, что за этим выдуманным объяснением старик хочет скрыть свое решение отомстить кому-то. Было очевидно, что пса убили, и д-р Ригоберто сказал, сам не веря в свои слова:
— Если сдох, значит, и спрашивать не с кого. А если убили, то кто это сделал? Вы знаете? Смотрите, не ошибитесь. Между «умер» и «убили» пропасть, и только сумасшедший перейдет ее с закрытыми глазами. За человека мстят. Отомстить всегда можно, но должен вам сказать, рано или поздно месть оборачивается против мстителя. А когда выясняется, что произошла ошибка, платят вдвойне.
— Нет, сеньор, пес погиб от удушья. О мести я не помышляю.
— И не надо, Ловадеуш.
Старик замолчал. Ригоберто пристально посмотрел на него и сказал как бы в шутку:
— Ладно, посмотрим! Только учтите, я не хочу становиться штатным защитником семьи Ловадеуш!
— Не беспокойтесь, не станете. Я уже стар, одной ногой в могиле стою. Мои годы — вот моя защита. Сеньору доктору не понадобится прибегать к законам. Что может надежнее смерти избавить человека от кандалов? Вот он мой приговор. В мои годы это самый лучший выход. Разве я способен еще на что-нибудь?!
ГЛАВА XII
Теотониу Ловадеуш отвез в Азенья-да-Мору стальной лом, чтобы его разрубили на части.
— Как рубить, дядя Теотониу? — спросил Кальандро, показывая крупные кривые зубы и уставив на старика свой бычий взгляд. Он упивался властью, пока хозяин, кузнец Розарио, отбывал наказание в исправительной тюрьме Коимбре.
— Сколько получится, мил человек, по две ладони каждый кусок.
— Так коротко? Зачем?
— У меня есть такой крепкий участок, что кирка не берет.
Кальандро разрубил лом и бросил куски в горн.
— Хорошенько заостри, — попросил Теотониу, кончив раздувать мехи.
— Хотите ими занозы вынимать?
— Вот, вот. Они у меня вместо булавок будут.
Получилось пять зубил с концами острыми, как жало осы.
В Рошамбане Теотониу вместе с Жаиме взялся вскапывать небольшой участок земли рядом с хижиной, чтобы посадить там несколько виноградных лоз. Сталь зубил была крепкой, и камни крошились, не оставляя на зубилах ни малейшей царапины. Скоро они блестели, словно побывали под наждаком. Вечером Жаиме погнал коров на выгон, а Теотониу взял одно зубило, еще больше сточил его острие на бруске и направился в сосновый бор в Каррейру. Убедившись, что поблизости никого нет, он стал бросать зубило в ствол сосны.
Теотониу слышал от д-ра Ригоберто, что дротик был самым распространенным холодным оружием у крестьян, до того как появилось огнестрельное оружие. Им они защищались от хищных зверей и от разбойников на дорогах. А может, и не д-р Ригоберто сообщил ему об этом, а после долгих размышлений подсказала дремавшая память.
В молодые годы Теотониу очень метко бросал испанскую наваху. Не одну кружку вина он выиграл, когда соревновался с приятелями, бросая наваху в круг, начерченный на двери мелом. Старик знал, что его рука сейчас не менее тверда, чем раньше, однако глаза уже начали подводить. Через полчаса упражнений он попадал в ствол сначала с четырех, потом с шести и с восьми шагов, и удар приходился почти в одно место. Тем не менее Теотониу был недоволен и в следующие дни, как только внук куда-нибудь уходил, возобновлял свое занятие, потом спрятал зубило.
— Пропало одно зубило. Вы его не видели, дедушка? — спросил внук.
— И правда, пропало. Наверно, валяется где-нибудь.
— Надо поискать.
— Не стоит… Для этого понадобилось бы всю землю перепахать.
Как-то утром Жаиме, который обычно ходил на вечеринки в Парада-да-Санту, где у него была подружка, дочь Жоао Ребордао, сказал деду:
— Вчера Розинья очень возмущалась тем, что рассказывает Бруно, за такое ему надо сердце вырвать. Мне даже вспомнить стыдно.
— Говори…
— На святого Салвадора в Коргу-даш-Лонтраше эта свинья напилась и хвасталась…
— Представляю…
— Говорил: ходил к матери и к дочке пойду. Сейчас она не желает знать меня? Пускай, не такие птички попадались в мои сети. Бандит проклятый!
— Ладно. Он сразу за все поплатится!
Зима была мягкая: ни холодов, ни дождей. Но и в теплую погоду горец, не надеясь на бога, надевает бурку. Февраль холодный — в животе дьявол голодный, говорит пословица. Черными ночами, когда небо напоминает воду в колодце, всходил молодой месяц, острый и сверкающий, словно серп. Скоро он превратится в полную луну, которая светит лучше фонаря. По субботам служащие лесничества расходились по соседним деревням, охрана становилась слабее. Да и охранники тоже часто без разрешения разбредались кто куда.
По пути в Урру на отдых, который благодаря графику или обмену с кем-нибудь из товарищей всегда приходился на воскресенье, Бруно Барнабе делал крюк, заглядывая в Рошамбану. Он не оставлял своего намерения совратить девушку, и старик не спускал с него глаз. В глубине души он был уверен, что на внучку можно положиться, однако житейская мудрость старого человека подсказывала ему, что ручаться никогда ни за кого нельзя. И в самом деле: девушка с возмущением отворачивалась от Бруно, но какую-то надежду она ему все же подавала.
— О небо, никогда нельзя забывать, что такое женщины, — ворчал он себе в усы. — В этом все дело… У малышки глазки блестят, и Бруно может воспользоваться этим.
И вот как-то вечером, спрятавшись в хлеву, он услышал такой разговор:
— Если бы я нравился Жоржине, она доказала бы мне это. Обязательно доказала…
— Чем?
— Пошла бы со мной.
— Больше вы ничего не хотите?
— А разве вы из другого мира?
— Нет. А вы собираетесь показать мне что-нибудь оттуда?
— Мне нравятся ваши ответы.
— Зачем же мне идти с вами?
— Зачем? Разве вы не можете подарить мне поцелуй? Тогда бы вы узнали, как приятно я целую!
— Представляю! Ваши поцелуи, должно быть, похожи на укус осла. Опомнитесь и никогда больше не подходите к моему дому.
Жоржина захлопнула окно перед носом Бруно. После этого позорного поражения мерзавец решил ославить девушку. Он повсюду трепал, что обесчестил ее. А уж о Филомене без всякого стыда болтал что угодно: и правду и неправду.
— Я поймал ее однажды ночью, когда свекор пошел ставить силки. Сначала она кричала, а потом, когда я сказал, что женюсь на ней, стала поласковее, думала, муж погиб в Бразилии. А мне больше ничего и не надо было от старой дуры.
Теотониу, до которого доходили эти грязные слухи, только качал головой:
— Я не я буду, он заплатит за все, что говорит и делает!
Изучив все тропки, по которым ходил Бруно, старик подкараулил его субботним вечером на дороге в Урру-ду-Анжу. Он заметил Бруно, когда тот вышел на гребень и свернул в Рошамбану, видно, хотел снова поговорить с Жоржиной. Но Жоржину старик отослал вместе с матерью и Жаиме в Аркабузаиш — в Рошамбане уже начали штукатурить комнаты. Когда Бруно показался на тропинке, Теотониу, поджидавший его за поворотом, вышел из кустов и достал из-под бурки свой дротик. Однако Бруно вовремя заметил, что на него собираются напасть и схватил висевший на ремне карабин. Но было поздно, стальной дротик, пущенный рукой мстителя, с силой вонзился ему в грудь, и он упал. Не теряя ни минуты, старик оттащил его за ноги к ручью шагах в ста от места, где они повстречались. Потом вернулся и веткой размазал лужицу крови, которая осталась на тропинке. Опять пошел к убитому, вытащил из его груди зубило и спрятал его вместе с карабином под скалой. Перед рассветом, когда Жаиме, возвращавшийся с вечеринки, входил через ворота во двор, чья-то железная ладонь сжала его руку. Когда испуг прошел, Жаиме разглядел деда, который шептал ему:
— Пойдем со мной. Но чтобы никто нас не видел…
Через вырубки они пошли в горы. Зашли в Рошамбану, взяли там две мотыги, лопату и кирку. Дед пояснил:
— Поможешь мне закопать дикого зверя, он свалился с обрыва. Если его оставить, заразит горы, и прежде всего Рошамбану.
— Может быть, лучше днем…
— Завтра воскресенье и работать грех.
По одежде Жаиме сразу узнал, кто убит, и пораженный застыл на месте.
— Ты как будто испугался, — сказал дед. — Не бойся, он теперь не укусит!
— Я и не боюсь. Он получил по заслугам.
— Ладно, пора приниматься за дело. Запруди ручей наверху, а воду отведи в низину. Знаешь, где поуже? А, ничего ты не знаешь…
— Знаю, дедушка.
— Ну, тогда начали…
Старик железным прутом стал щупать дно ручья. Камень, снова камень, песок, ил. Глубина две-три ладони. Ручеек, стоит его перегородить, быстро пересыхает. Так и сделали. Вскоре показалось дно.
В ярком свете луны блестела галька, поверхность воды казалась зеркальной. Было светло, как днем. Начали рыть яму. Судя по тому, насколько ушел в землю прут, до твердого грунта было больше метра. Этого было вполне достаточно. Они работали мотыгами и лопатой, словно у себя на участке копали землю под виноград. Сняли слой гальки, вытащили большой камень, который мешал, и меньше чем за полтора часа выкопали яму. Пот крупными каплями стекал с их лиц. Жаиме и старик взяли труп за ноги и за голову и бросили в яму. Он упал лицом к небу, как лежат христиане в святой земле. Они посмотрели на Бруно в последний раз, но открытые глаза, глядевшие на них со дна ямы, ничего не сказали им. На лице мертвого не было обычного для убитых выражения, нагоняющего ужас: будь то страх перед адом, сжимающая сердце печаль или саркастическая улыбка, будто бы говорящая, что для них пробьет час отмщения. И лицо Бруно и зрачки его мертвых глаз ничего не выражали, он был обречен тлеть без сострадания, без проклятий. Жаиме бросил в яму первую лопату земли.
— Подожди… — сказал старик.
Он пошел под скалу, взял там карабин и зубило и бросил их рядом с мертвецом.
— Оставьте карабин себе, дедушка. Может пригодиться!
— Ты с ума сошел! Чтобы потом прицепились, где мы его взяли?
Тело засыпали землей.
— Теперь давай камни…
Набрали камней, — некоторые едва притащили, — гальки из ручья и закрыли ими яму.
— Так надежней, — сказал Теотониу.
Утрамбовали землю мотыгами, а оставшуюся разбросали по дну ручья и со всех сторон обложили яму камнями, потом снова пустили воду по старому руслу. Она потекла стремительно, унося с собой комья земли, и вскоре смыла холмик мелкой гальки, скрыв таким образом людское злодеяние.
— Потом, когда рассветет, я уничтожу кровь и следы, которые остались там… Ну, пошли отсюда, — сказал Теотониу, вымыв мотыгу и лопату. — Теперь слушай, что я тебе скажу — сегодня воскресенье, и никто его не хватится ни в Урру, ни в лесничестве. Завтра начнут спрашивать, куда он делся. Во вторник поднимут шум, станут искать. Больше, пожалуй, ничего и не будет. Все перевернут, станут копать везде, где только им почудится что-нибудь подозрительное. В Рошамбане все перевернут вверх дном. Но, по-моему, только сатане удалось бы найти Бруно, так что мы можем спать спокойно. Но если все же найдут, хотя я в это и не верю, ты говори правду. Дескать, я завел тебя сюда обманом, ты не знал зачем. А раз так случилось, тебе не оставалось ничего другого, как помочь своему деду. Только не-признавайся, что ненавидел его так же, как я. Упаси тебя бог совершить такую глупость! Убил Бруно я один, я один и отвечать буду, все равно мне скоро конец. Понял?
— Понял, дедушка, но…
— Тебя могут на время посадить в тюрьму. Тогда увидим, какой ты есть. Смотри крепко держи язык за зубами…
— Не бойтесь, дедушка, даже на раскаленных углях я не скажу того, чего не хочу…
— А сейчас отправляйся в постель, скоро утро. Когда встанешь, надень свой воскресный костюм и иди к обедне как ни в чем не бывало. Я тоже приду в церковь. Постой, у тебя вся одежда в грязи, впрочем, крестьянин всегда с землей возится, всегда испачкан… Но лучше, чтобы тебя не видели в грязной одежде. Спрячь ее. Да смотри, чтобы дома не заметили, когда входить будешь. Ладно, сам знаешь. Завтра пораньше приходи, снова займемся виноградником.
— Одежду я спрячу на сеновале. Завтра, когда будем работать, уже никто не заметит, а сегодня могут спросить.
— Ну, давай иди, уже поздно. Инструменты я унесу.
На рассвете Теотониу отправился уничтожить следы на месте убийства. В горах уже слышался звон колокольчиков — гнали стада. Вдруг старик заметил, что кто-то наблюдает за ним, прижавшись к скале. Это была пастушка Леокадия со своей собакой; в одной руке девушка держала корзинку, в другой кнут погонять овец. Старик подошел к ней.
— Ты что мне мешаешь делом заниматься?..
— Мешаю, дядя Ловадеуш? Чем?
— Тем, что смотришь. Я ищу вольфрам…
— Никто вам не мешает…
— Мешать не мешаешь, но смотришь. Только никому не говори, я покажу тебе, где вольфрам. Получишь свою долю. Иди сюда, не бойся…
Девушка пошла за стариком и веря ему и не веря, но желание заработать было сильнее страха. У зарослей дрока она остановилась. Старик схватил ее за руку.
— Иди, иди, получишь свою долю… Ты и не представляешь, какое это богатство!
Он толкнул ее, и Леокадия не удержалась на ногах, упав прямо на куст дрока. Все произошло так неожиданно, что Теотониу не успел понять, как это случилось. Он ведь не хотел ей ничего плохого и уже давно отвык от таких дел. Леокадия заплакала.
— Молчи, получишь золотую цепочку.
— Мне страшно! Такого злого человека я никогда не встречала!
— Подумаешь, не я первый. Если обидел, иди жалуйся, — настроение у Ловадеуша испортилось, хотя он и не видел в своем поступке ничего ужасного.
Воскресенье прошло спокойно, солнце заливало мягким светом Аркабузаиш и все плато от края до края. Крестьяне сходили к обедне; из трактира доносились звуки гармоники; на площадке в центре деревни парни играли в пино
[25], а Жоао Мота напился пьяным.
Весь понедельник оба Ловадеуша трудились на винограднике. Во вторник вечером в Рошамбане появились два лесника.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер!
— Вы не знаете, где Бруно Барнабе?
Старик оперся руками на черенок мотыги, а Жаиме выпрямился.
— Нет, не знаем.
— В субботу вечером ушел из лагеря, и больше его не видели…
— Раньше я иногда видел, как он проходил по склону в Урру. По крайней мере мне казалось, что это был он, ведь я подслеповат. А в субботу вечером я в хижине готовил ужин, у меня штукатуры всю неделю работают, семья была в Аркабузаише, так что смотреть на дорогу мне было некогда.
Один из лесников очень пристально глядел на него, но Теотониу с самым невинным видом снова занялся своим делом, и лесники, немного постояв, ушли.
— Наверно, скоро явятся жандармы, — пробормотал Теотониу. — Ну, парень, держись.
Все жители Урру вышли в горы искать Бруно. Искали главным образом вдоль дороги, которая вела из лагеря в Урру. Осматривали заросли густого кустарника, обшаривали скалы, прощупывали дно ручья. Как-то вечером в Рошамбану явился Модешто Барнабе в форме, с карабином через плечо.
— Эй, старый хрыч! — крикнул он Теотониу. — Где ты закопал моего брата? Я знаю, ты его убил, и ты за это ответишь.
Теотониу сразу прикинулся более дряхлым, чем был на самом деле, и ответил покорно и испуганно:
— Я? Я убил твоего брата?! Выброси это из головы. Мне уже скоро являться на суд божий, как же я мог убить себе подобного?!
Модешто насупился и медленно-медленно стал приближаться к Теотониу. Потом, положив правую руку на карабин, он схватил его левой за горло.
— Повтори еще раз, негодяй!
— Я уже сказал.
— Это вранье.
Штукатуры, работавшие в доме, и жены, которые принесли им обед, со всех ног бросились к Теотониу и Модешто и растащили их. Модешто убрался обозленный и пристыженный.
Однако слух о том, что Ловадеуши убили Бруно и спрятали его труп, упорно распространялся. Говорили о драке, которая когда-то была между Жаиме и Бруно, о грязном хвастовстве последнего и о том, что старик, по словам д-ра Лабао, крикнул на суде в Порто: «Ну, собака, ты мне еще заплатишь!»
В присутствии двух жандармов группа мужчин, выделенная лесничеством, перекопала всю землю на новом винограднике у Рошамбаны. Ничего там не найдя вопреки ожиданиям многих, стали копать участок, потом в доме подняли пол. На склонах поиски тоже продолжались. Копали всюду, и все безрезультатно, однако власти не теряли надежды. В деревнях расклеили объявления, а в газетах было опубликовано следующее:
Таинственное исчезновение охранника в лесной зоне Серра-Мильафриша.
Исчез охранник лесничества Бруно Барнабе. Некоторые высказывают предположение, что его убили и спрятали в труднодоступном месте; считают также, что он стал жертвой чьей-то мести или мести со стороны населения. Эту версию подтверждают тем, что убитый был человек заносчивый, злой, вероломный, способный на любую подлость, клеветник и, следовательно, имел основания бояться за свою жизнь. Недавно в суде города Порто он давал показания против жителей Серра-Мильафриша во время нашумевшего процесса, и крестьяне поклялись прикончить его. А как можно избежать мести, которая с незапамятных времен является в этих местах неумолимым судьей? Каждая тропа, каждая щель в горах тщательно осмотрены, но Барнабе нигде не обнаружен. Деревенские гадалки, к которым обращались родственники, говорят, что он жив и здоров, что иногда они слышат его шаги, другие — что он мертв и уже предстал перед господом. Столь таинственное происшествие поистине достойно пера Понсон дю Террайля!
Однажды утром арестовали обоих Ловадеушей. Подозрение пало на Жаиме, но он сумел выставить свидетелей, которые подтвердили его алиби: вечером в субботу он ужинал в Аркабузаише, там его видели соседи; потом играл в «веревочку» в трактире Накомбы, партнеры подтвердили это; потом до полуночи был на вечеринке, и это подтвердили свидетели. Затем он отправился спать и встал в 7 часов, когда зазвонили к мессе, в церкви его тоже многие видели. Воскресенье Жаиме провел в деревне; сидел в таверне, гулял по площади, слушал оркестр, плясал.
Сержант посмотрел на администратора
[26] и на д-ра Лабао, который присутствовал при допросе.
— Хорошо, допустим, не ты убил Бруно, но ты знаешь, кто это сделал. Признавайся!
— Мне не в чем признаваться, я ничего не знаю.
— Смотри мне в глаза.
Парень не моргая уставился на сержанта.
— Я уверен в том, что ты знаешь, что стало с Бруно, так же хорошо, как я знаю, что меня зовут Педро. Я вижу это по твоим глазам, ты меня не обманешь.
Сержант схватил плетку и подошел к парню; насилие и пытки — обычное дело при дознаниях, проводимых следственными органами.
— Сознаешься?
— Мне не в чем сознаваться.
Сержант хлестнул Жаиме по спине.
— Сознаешься?
— Мне не в чем сознаваться…
Сержант еще несколько раз хлестнул парня. Плеть со свистом врезалась ему в лицо, оставив широкий рубец. Узаконенное избиение могло бы продолжаться, но Лабао остановил занесенную руку.
— Хватит! Довольно с него. Он действительно не знает.
Тогда взялись за старика. Смиренным, тихим голосом Теотониу заявил, что не способен причинить зло ближнему своему и тем более убить. Да, у него была большая обида на Бруно, и в Порто он
действительно не сдержал своего гнева, когда услышал, что этот злодей возводит поклеп на Мануэла, толкая его в тюрьму. Но посягать на жизнь человека он никогда не стал бы! Бог дает человеку жизнь, бог ее и берет. А убить — это все равно, что обокрасть господа.
Медоточивые речи старика, видно, не убедили следователей, ибо они подвергли его строгому и каверзному допросу, который вел д-р Лабао, мастер в таких делах. Убедившись, что и эта попытка не увенчалась успехом, администратор дал знак сержанту Педро, официальному палачу в Буса-до-Рей. Сержант взял плетку и подошел к Ловадеушу.
— Значит, не знаете, что стало с Бруно Барнабе?
— Не знаю, сеньор.
— Нет, знаете, знаете и скажете…
Сержант хлестнул старика и занес руку для второго удара, но Теотониу бросился на него, словно раненый тигр. В мгновение ока он повалил сержанта на пол, коленом уперся ему в грудь, рукой схватил за горло и задушил бы, если бы его не оттащили. Однако и оттащили его с трудом: колотили кулаками по спине, били ногами, прикладом — только так удалось заставить старика отпустить жертву. Сержант лежал без сознания, тяжело дыша, челюсть его была свернута на сторону. У старика же все лицо было в крови, одежда разорвана в клочья.
— Черт возьми, да это просто дикий зверь! Посадите его в «крысиный дом».
— Можете сажать, но я с вами все равно посчитаюсь, — прохрипел старик, злобно сверкая глазами.
Д-р Лабао испугался: ведь для такого скота, как он, страх был основным законом жизни.
— Отправьте этих дикарей в аптеку и гоните их вон, — распорядился он. — Не так ли, сеньор администратор?
Жители городка возмутились, увидев, что оба горца вышли из полицейского управления избитые, оборванные и окровавленные. Сразу собрался народ, глухой ропот пробежал по толпе.
— Долой доктора Лабао! Подлый убийца!
— Долой администратора! Долой!
Д-р Лабао, видя, как растет толпа и ее возмущение, приказал поставить у ворот муниципалитета часового и вызвал автомашину отвезти обоих Ловадеушей в Аркабузаиш. А сам вместе с председателем Лиги и администратором скрылся черным ходом, который вел на ярмарку.
Неизвестно, откуда возник и пополз слух: Бруно Барнабе ушел с цыганским табором в Транкозо. Какая-то цыганка опоила его зельем, и он в нее влюбился. Гулена был, вот и получил по заслугам, теперь спета его песенка. А бедняги Ловадеуши, с них едва шкуру заживо не содрали в магистратуре! Проклятые! Слухам верили все больше и больше, и теперь никто не пытался разобраться в таинственном происшествии. Негодяй и соблазнитель Бруно Барнабе был забыт.
ГЛАВА XIII
Меньше стало родиться ягнят и козлят на Серра-Мильафрише, зато больше появилось дыр и заплат на ветхих лохмотьях крестьян. Всемогущее, неограниченное в своей власти государство добилось своего. Вся зона была засажена деревцами. Прошло немного лет, и они выросли, склоны и долины покрылись красивыми, будто отглаженными молодыми сосенками с изумрудными иголками. Дороги с мостами для машин пересекали горы во всех направлениях. На склонах, где раньше гулял только ветер, появились сторожки с красными крышами, необычные для этой дикой земли, повсюду виднелись наблюдательные вышки, связанные между собой телефонными проводами. Лесной инженер хозяйничал в огромной зоне, словно феодал; как король в свои угодья, он приглашал друзей на охоту в заповедник, где водились олени и косули. На Серра-Мильафрише пока не охотились, но со временем, очевидно, будут. А горцы? Горцы, загнанные на свои участки, по-прежнему влачили существование в бедности и дикости. Но что значат лишения каких-то дряхлых стариков, потомков иберов и турдетан?
Лесничество отобрало Рошамбану, которую разросшийся лес обступил со всех сторон. Для Ловадеушей это не было ударом, ибо уплатить судебный штраф денег не хватило бы, даже если бы они продали Аркабузаиш. И так пришлось добавлять к полученной в порядке компенсации сумме, очень заниженной государственными чиновниками, которые, подобно клеткам раковой опухоли, пожирают здоровый организм и как спрут впились в тело народа, высасывая из него соки. Только благодаря вмешательству д-ра Ригоберто Ловадеушам удалось получить побольше, но и этого не хватило.
Они вернулись в старый дом в Аркабузаише дважды в год жать рожь на скудных полях, копать крохотный огород, с утра до ночи ухаживать за кукурузой, которую, прежде чем она созреет, нужно часто поливать. Теотониу очень напоминал ощипанного ястреба, укрывшегося на отдаленной скале, чтобы оправиться после ран, но его душа кипела ненавистью и жаждой мести, совсем как у его диких предков. Эта ненависть, с каждым днем все более жгучая, придавала ему сил.
Не отбыв трех с половиной лет в исправительной тюрьме — полгода Верховный суд, это недреманое око Порядка, счел нужным добавить, — Мануэл Ловадеуш попал под амнистию. Наконец-то его примерное поведение, не помешавшее, однако, осудить его, было признано добродетелью. Постаревший и бледный, он неожиданно появился в Аркабузаише, подобно Христу. Он много читал в тюрьме, еще глубже познал людей и стал еще большим идеалистом. Хотя из-за него разрушилось все хозяйство Ловадеушей, в этом не было и капли его непосредственной вины, и никто ни в чем не упрекнул его. Он же надеялся восстановить все за короткий срок и по-прежнему не оставил мечты раскопать богатство, которое покоилось, ожидая его, в тайнике Мато-Гроссо. Это было так же верно, как и то, что они всей семьей сидели сейчас вокруг чурбана, каждый с миской супа в руках, что над ними плясал огонек лампы такой же, как в тот день, когда он неожиданно вернулся из Бразилии и воскликнул, удивленный поведением родных: «Неужели не узнаешь, жена?» Достаточно было послушать его, чтобы все, даже старик, недоверчивый, как лис, были пленены его словами. Они опять ему поверили, и в душе Теотониу опять появилась смутная надежда.
— Я должен купить вам хутор, с тенистым двором и конюшней, — говорил Мануэл. — Сейчас можно найти роскошные дома, принадлежащие мотам, которые спускают их по дешевке, или дворянам, которые совсем прожились. Такие дома с парадными лестницами, окнами с вычурными переплетами, лепными карнизами и оштукатуренными стенами мне очень нравятся. Немного подновить — и живи в свое удовольствие. Ясно, что за такой дом теперь немало запросят, но он стоит того!
— Конечно, но мне уже все равно, — вздыхала Филомена. — Я стара и только прошу бога дать мне спокойно умереть.
— Ну, что вы, мама! — вмешивалась Жоржина. — Разве вам нравится жить среди свиней?!
— В нашей нищей деревне, — продолжал Мануэл, — которая с годами становится все беднее и невежественнее, я должен создать школу, обучающую искусствам и ремеслам. И в первую очередь школу каменотесов. Какие прекрасные перила можно сделать на гранитных балконах, какие замки можно возвести на вершинах, где ходят только грозовые тучи! А здесь строят лишь часовни да церкви, казармы, поповские дома. Подумать, в наш цивилизованный век люди живут в землянках без самых необходимых удобств, без почты, без школ, без воды! Какой ужас! Какое издевательство над телом и душой человека! Разве это допустимо, чтобы в благодатной и прекрасной Европе вновь вспыхнула чума средневековья!
— Парни и все, кто здоров, бегут отсюда. Кому нужны твои школы?
— Люди все время рождаются…
— Но растут плохо — мелюзга, ножки, как соломинки, груди впалые…
— Я устрою пункты раздачи молока, больницы.
— Хорошо бы. У нас много больных и голодных…
— Я построю столовую для детей…
— Хорошо, значит, не будет больше голодных…
— Я проведу телефон, дам электрический свет.
— Зачем? Чтобы лучше видеть вшей и лохмотья?
— Оставь, отец, я должен спасти землю, где мы родились!
У Мануэла был заграничный паспорт, и он поехал в Лиссабон продлить его. Потом вернулся в свою нищую деревню, где теперь, когда выросли леса, каждую ночь был слышен волчий вой, и стал ждать. Через некоторое время Мануэл получил извещение и простился со своими. Его лицо сияло радостью.
— Крепче прижми меня к сердцу, сынок, больше не услышишь, как оно бьется! — сказал отец.
— Что вы! Я вернусь не позже, чем через полгода.
— Нет, больше я тебя не увижу! — отец плакал, крепко обнимая Мануэла и обливая его слезами.
Мануэл сел на попутную машину с тем же фибровым чемоданчиком, с которым приехал, — чужой, решительный и странно спокойный.
— Несчастен тот, кто родился португальцем, — воскликнул Жаиме.
— Много ты понимаешь! — огрызнулся дед. — Мы сами делаем жизнь. Если б не эти кровопийцы…
Они остались в старом домике ждать Мануэла, как спасшиеся в половодье остаются на холме, устремив взгляды на горизонт. Прошло два месяца, и надежды стали меркнуть, словно пламя во тьме. Потом три, четыре — видно, Мануэла что-то задержало. На пятый месяц, уже охваченные отчаянием, пошли на почту.
— Не пишет ваш сын, дядя Ловадеуш! Уехал и забыл. Там все другое.
Прошло семь, восемь, десять месяцев, год — они устали ждать. Иссяк тонкий ручеек надежды. Может быть, Мануэл умер, а может быть, его опять сманил сертан своей тишиной, своими громадными просторами, своим презрением ко всему, что лежит по ту сторону бесконечного горизонта.
Однажды вечером, когда Теотониу работал в поле, его вдруг охватил приступ ярости и отчаяния. Он упал на землю, вцепился в нее руками и застонал, осыпая голову сухими комьями и навозом. Его силой подняли, и всю ночь напролет он рыдал, а утром поднялся с сухими глазами и спросил Жаиме:
— Когда ты женишься?
— На следующей неделе.
— А когда Жоржина уедет в Лиссабон?
— После моей свадьбы. Обещала вернуться богатой сеньорой.
— Я никого не могу видеть, убирайтесь прочь с моих глаз.
— Мы вам надоели?..
Старик ничего не ответил. Вскоре Жаиме женился на дочери Жоао Ребордао, красивой и стройной девушке из Парада-да-Санты, куда он переехал жить. Дом у невесты был хороший, но нуждался в трудолюбивых сильных руках, деньги они получали от Жоао, прочно обосновавшегося в штате Сан-Пауло.
— Перебирайтесь к нам, дедушка, — просили старика Жаиме и его жена.
— Нет, я хочу умереть в Аркабузаише, где родился.
— Вы еще долго проживете…
— Слава богу, я здоров и крепок.
Теотониу остался с Филоменой и внучкой. С невесткой он по-прежнему не разговаривал. Чтобы оплатить дорогу Мануэла, пришлось кое-что продать, у них остался только дом с огородом. Старик, как и прежде, выходил по вечерам ставить капканы на кроликов или силки на зайцев, дичь всегда была у них на столе. Наконец Жоржина уехала в Лиссабон, старик остался с невесткой, но и теперь не говорил с ней. Филомена писала дочери, что жизнь ее стала невыносимой и что она бросится в пропасть, если Жоржина не возьмет ее к себе. В деревне побывал проездом Сесар Фонталва, он зашел к Ловадеушам. Инженер, видимо, знал о несчастьях, которые обрушились на семью, но ничем этого не выдал и, уходя, сказал Филомене:
— Я отвезу вас в Лиссабон. Мне кажется, этого хочет ваша дочь, только тогда она будет счастлива. Но прежде ваш свекор, сеньора Филомена, должен перебраться к внуку. Договорились?
Ловадеуши молчали.
— Завтра я снова буду здесь. Соберите вещи. Сначала отвезу сеньора Теотониу в Парада-да-Санту, а потом вернусь за сеньорой Филоменой и поедем в Лиссабон. Ну, до завтра!
Когда инженер уехал, Филомена упала к ногам Теотониу:
— Простите, отец, простите! Я слабая женщина… Простите, и я положу свой язык на пол, чтобы вы растоптали его.
Старик видел, как искренна ее скорбь, как изболелась ее бедная душа, он не мог больше сердиться и обнял ее.
— Я прощаю тебя, Филомена. Поедем к нашим детям, пусть всем будет хорошо.
Так и сделали. В Парада-да-Санте Теотониу бродил по молодому лесу, по зарослям кустарника и холмам, по просекам и опушкам, обошел все дороги и тропки, проложенные от поста к посту, от деревни к деревне, будто землемер, изучающий местность, но по-прежнему сторонился людей. Он уходил утром и возвращался к ночи. Однажды вечером старик сказал внучке:
— Можно я схожу в Аркабузаиш, там насчет аренды огорода не все решено и крышу нужно починить. Мы уехали впопыхах.
— Разве вы не хотите быть с нами на троицу?
— Развлекайтесь без меня, а я пойду в Аркабузаиш.
— Хотите идти пешком? А то мы дадим вам осла…
— Пешком лучше. Прямиком, это займет час с небольшим.
— А что скажет Жаиме, когда вернется и вас не застанет?
Старик наскоро закусил лепешкой с сыром и не захотел ничего брать с собой. Но Роза собрала ему на дорогу немного еды, он положил ее в суму и ушел. Шла первая неделя сентября, стояла засуха, и малейший ветерок поднимал над дорогой клубы пыли. Трава чахла на обожженной земле, а лес, пожелтевший на солнце, отливал золотыми оттенками соломы. Из Аркабузаиша весь народ ушел в Ремедиуш, все дома были на запоре. Деревня казалась вымершей. Теотониу укрылся в своем доме, и никто его не заметил. Он поел, выпил стакан вина, лег на тюфяк и чутко задремал, как дремлют горные животные. Когда ему показалось, что в деревне уснули даже собаки, он пробрался во двор д-ра Ригоберто; заглянул в одно окно, потом в другое — света нигде не было. Видимо, все спали, а может быть, ушли в Ремедиуш. Жители окрестных деревень стекались посмотреть на фейерверк, который пускают там на праздник троицы. Лошади в конюшне — значит, хозяева уехали на легковой машине, а прислуга — на грузовике.
Бича, верховая кобыла, стояла у яслей. Старик бесшумно вывел ее без упряжи, на одной веревочной уздечке. Выйдя на улицу, остановился и прислушался: в деревне по-прежнему не раздавалось ни звука. Тот, кто не уехал на праздник, спал крепким сном. Только из хлевов время от времени доносился звон колокольчиков да кто-то ходил по берегу реки, где были самые лучшие огороды, наверно, сторожа караулили бахчи от крыс, которых обычно было полно в этих голодных местах. Боязливо озираясь, Теотониу быстро перешел через дорогу. Если бы он мог, он нес бы лошадь на себе. Потом он вскочил на нее верхом, легонько хлестнул ее концом уздечки и поехал сначала шагом, а затем, когда дорога пошла прямо, перешел в галоп. В долину Урру, что в зоне лесопосадок, он въехал по тропе и остановился на лужайке. Там он спешился и привязал кобылу. Набрал сена и сухих веток, зажег спичку, раздул вспыхнувшее пламя, снова вскочил на лошадь и помчался на север. В Азенье он сделал то же самое. Выехав из леса, свернул к Реболиде и там разжег новый костер. Потом он зажег костры вдоль границы зоны. В Валадим-даш-Кабраше Теотониу остановился на вершине и смотрел, как полыхает в ночи зарево пожара. Он ликовал. Все кругом стало красным от огня. Только в Коргу-даш-Лонтраше, которая лежит в низине, нельзя было увидеть пламя. Он снова вскочил на лошадь и поскакал сначала в Понте-ду-Жунку, а затем в Фаваиш-Кеймадуш, где также зажег костры; недалеко от Алмофасы он услышал нарастающий шум, похожий на шум водопада. Это мчались пожарные в Шелейра-до-Негро и Фузос-до-Биспо. Теотониу спрятался в тенистой чаще и, как только пожарные проехали, двинулся своим путем.
Было, наверно, часа четыре утра — Малая Медведица уже обошла небосвод. Оставалось только побывать в Бонфим-даш-Пегаше, и он поскакал туда во весь опор по узким извилистым тропам. У старика было время изучить их, и он знал эти тропы как свои пять пальцев. Как и всюду, он набрал сухого дрока и вереска и поджег большую охапку сена. А когда увидел, что молодые сосны вспыхнули и горят, будто факел, двинулся дальше.
У Портела-до-Бейрау, что в трех километрах от Аркабузаиша, лес был много выше Теотониу. Дрок тоже был высоким и бил по ногам. Он даже не стал собирать хворост, просто поджег заросли дрока, и вскоре жадное пламя, раздуваемое ветром, побежало во все стороны. Когда Теотониу выехал на просеку, Бича заржала, и вдруг совсем рядом ей откликнулась другая лошадь. Тысяча чертей, конная охрана! Он понял, что его преследуют, и стал выбираться из леса. Осталось совсем немного до Аркабузаиша, изрезанного оврагами, примыкавшими к зоне лесопосадок. Стук копыт позади него становился все громче. Скорее, Теотониу! Наконец добрался. Он соскочил с лошади и дал ей хорошего пинка. Животное понеслось, то ли испугавшись, то ли поняв его намерение. Теотониу спрятался в небольшой яме. Он видел, как один за другим проскакали мимо него три всадника, которые скоро скрылись в направлении Тойрегаша.
Как только утих стук копыт, старик вышел из своего укрытия и в утренних сумерках осторожно двинулся в Аркабузаиш. Поглядев со склона на темные крыши деревни, он сказал себе: «Ну, негодяи, я отомщен!»
Лошадь уже спокойно стояла у ворот д-ра Ригоберто, хозяева наверняка не заметили ее отсутствия. Он привязал Бичу к яслям и, радостно обхватив ее морду, стал целовать кобылу; так или иначе она помогла ему отомстить. Продолжая ликовать, Теотониу отправился домой. Сколько проскакал он за эти шесть часов? То шагом, то галопом по запутанным тропам зоны он проехал, очевидно, не меньше тридцати километров. Когда выгоняли скот, старик отправился на переговоры с арендатором. Поторговавшись, они в конце концов договорились и распили бутылку вина. Какой-то прохожий рассказал им о пожаре, который охватил лес со всех сторон. Хорошо, подоспели пожарные, а то пропал бы труд нескольких лет, стоивший к тому же больших денег. Однако Лесная служба не стала просить помощи у деревень, подозревая, что кое-кто из жителей принимал участие в этом злодеянии. Вызвали только пожарных из всех сел и городов от Гуарды до Вила Реал. До самого вечера в Серра-Мильафрише бушевало багровое море пламени. Было трудно дышать. Густые клубы дыма окутали все кругом, воздух стал горьким и душным.
Прошло несколько лет. После долгой засухи, какая бывает только в бразильской Сеаре, на Серра-Мильафриш обрушилась небывалая доселе гроза. Потоки воды снесли речные мосты, размыли пашни, разворотили целину, залили хлева со скотом, затопили людей. Наступило светопреставление! — провозглашали священники со своих кафедр.
Когда над Рошамбаной взошло яркое солнце, волк и волчица вышли из кустов, уцелевших после потопа. По склонам медленно стекали потоки воды, заросли дрока и вереска были пышны и высоки, как райские кущи. Кругом на размытых водой холмах стояли сосны с обломанными ветвями, черные и дрожащие, будто здесь пронесся шквал войны. Уцелели только птицы, крылья унесли их в дальние края, а большинство горных животных погибли, удушенные змеями бурных потоков.
Оба волка медленно вышли из зарослей и, осторожно переставляя лапы, взобрались по склону, чтобы укрыться на вершине скалы. Как прекрасно утреннее солнце, особенно после холодной сырой ночи! Как ласкают его лучи!
Скоро волки положили морды на лапы и разомлели от тепла и дремоты. Лениво щуря глаза, они вглядывались в горизонт, хотя, насколько хватал взгляд, не было видно ничего интересного. Молочную белизну неба прорезала вдали фиолетовая гряда Эштрелы, холмы перемежались с дремлющими долинами, черными или темно-синими, как озерца чернил. Было время, когда скот после утреннего выгона возвращается в хлев. По звону колокольчиков, который постепенно замирал вдали, пока вовсе не таял в воздухе, как подхваченная ветром мелкая пыль, волки отлично понимали, что делается. Когда эхо усиливало этот звон, они поднимали морды и настораживались, зорко вглядываясь вдаль. Потом звуки опять замирали, и волки снова начинали дремать.
На крутых склонах, меж камнями самых различных размеров от тех, которые катятся, только коснись их ногой, до валунов, которые не увезешь и на телеге, слой земли столь тонок, что в нем еле держатся чахлый вереск и боярышник. Здесь выводят своих детенышей куропатки да кролики на солнцепеке роют зимние норы. Волки наслаждались тихим утром, их никто не тревожил, и постепенно они пьянели от тишины и простора. Жизнь никогда не была щедра к ним, но они не жаловались. А сейчас солнышко ласково грело этих вечных бродяг. И если бы они не любили бродяжничать даже с риском нарваться на пулю, они остались бы блаженствовать там до скончания времен.
Ящерица выскользнула из норки и, сверкнув блестящей, как ртуть, головкой, прошмыгнула мимо. Сквозь еле заметную щелочку глаз волчицы увидел ее совсем рядом. Волчица могла бы раздавить ящерицу, но зачем? Дремота разморила даже зверя. Вдруг волк вздрогнул и коротко взвыл. Наверно, увидел что-то во сне. Но волчицу это не волновало, вытянувшись во всю длину, она принялась облизывать соски, в которые тыкались мордочками волчата. Потом волчица спокойно улеглась спать. Ей снились козлята, ягнята, псы, пастухи. Вот бы поесть! Какое наслаждение сломать хребет ягненку и унести его в зубах! А потом утолить жажду его сладкой кровью! Но дремота овладела волчицей, и даже думать о добыче было лень. К тому же помогала природная привычка к голоду. Из раскрытой пасти волчицы свисал язык, она тяжело дышала. Но вот в памяти снова всплыли дни пиршеств, когда было сколько угодно потрохов и нежных бараньих ножек. Слюни потекли на лапы, и, заметив это, волчица принялась лизать их, хотя лапы и без того были чистые.
Волк спал, разомлев от свежего воздуха; его серое брюхо то опускалось, то поднималось плавно, словно волны во время прилива. Сорока слетела с вершины скалы, но, увидев волков, взмыла и улетела прочь. Этим только попадись, прощай тогда жизнь. За ней с утеса у Рошамбаны прилетел ворон, большой и крикливый. А этому что нужно? Время было голодное — ни каштанов, ни желудей, и воронье мерло. Найти мертвого кролика на дороге или в его монашеской келье было чудом.
Слышно было, как внизу, в зарослях дрока, лопаются стручки; с кустов вереска, если к ним прикоснуться, дождем сыпалась темно-серая пыльца. Спокойные воды ручья журчали, будто смех девушки. Волчица уголком глаза наблюдала за местностью. Какая богатая и шумная деревня лежит внизу! Столько там коз и овец! Все стаи в горах могли бы наесться до отвала на целый год! Но козы и ягнята были за оградой, за коваными дверями, под защитой псов. Разве до них доберешься?!
Волчица задумалась. Слушала, как журчит вода, и от этих звуков и жары ей захотелось пить. Она поднялась, посмотрела на волка, который поднял морду, словно сообщила о своем желании. И пока она шла к ручью, он провожал ее тусклыми глазами. Вставать не хотелось, да и зачем, если его не мучит жажда. Он так и остался лежать, вытянув морду и не сводя взгляда с волчицы. Она шла медленно и лениво, у подножия склона вскочила на стену, возвышавшуюся у водоема. Там она задержалась на миг, прислушиваясь к доносившимся издалека звукам. Но что она могла услышать, кроме шороха листвы под порывами ветра? Может быть, блеяние отбившейся овцы или козленка, зовущего мать?
Волчица обвела взглядом вокруг себя. Недавняя гроза размыла почву, ручей вышел из берегов и изменил свое прежнее русло, прорыв причудливые рукава. Он стал гораздо шире и полноводнее. Волчица нашла удобное место и погрузила морду в поток, скользивший стремительнее, чем кобра в свою нору; прохладная и вкусная вода полилась в горло. На миг она оторвалась, потом снова стала пить. Напившись, глубоко вздохнула и, подняв морду, пронзительно завыла.
Что она хотела сказать? Наверно, звала волка. И правда, волк поднялся и быстро пошел к ней. Он посмотрел на воду, которая билась о берега ручья, шуршала галькой, подмывала корни наполовину вырванных из земли деревьев, а в оставшихся после непогоды озерцах и лужах казалась спящей. Волки подошли к Рошамбане, где раньше кипела жизнь, бродил скот, сновали туда и сюда люди, лаяли собаки. Теперь здесь было тихо, как в глубокой пропасти. Настороженные и недоверчивые волки подкрались к хутору. Ни животных, ни людей! Лишь едва уловимый запах, который могли различить только они, доносили порывы ветра, видимо, из хижины, где долго жила коза с громадным, как два бурдюка, выменем. Мертвая, словно в пустыне, тишина, нарушаемая только журчанием воды, стекавшей с участка к ручью, сделала их смелее. Волки перескочили через забор и пошли по двору; осмотрели сначала хижину, дверь которой была раскрыта настежь, потом осторожно приблизились к дому. Все кругом пусто, окна забиты. Умудренные опытом звери пошли назад, кончив на этом свой осмотр. Они двинулись вниз по течению ручья. Вышедший из берегов поток бурно пенился. Вода поднялась, залив заросли кустарника. Но вот в камыше они увидели что-то белое. Это была куча костей, которые хлынувшая вода выбросила на поверхность; отмытые от ила и грязи, они белели, как снег.
Голодные звери ткнули свои морды в скелет, перевернули его, снова обнюхали челюсть, тазовые кости, весь скелет. Кости рассыпались, и волки снова вернулись к черепу, который особенно привлекал их внимание.
Оскаленные зубы, казалось, готовы были укусить. Они были отвратительны: острые, хищные. Когда волки снова прикоснулись к черепу, зубы щелкнули, словно засмеялись над ними. Из глазниц шел отвратительный запах, будто внутри еще сохранилось мясо. Череп был набит илом, смешанным с сукровицей. И все же волчица, которая с появлением волчат стала прожорлива и неразборчива, попробовала разгрызть его. Ей нечем было утолить мучивший ее голод. Волк схватил берцовую кость, но сейчас же бросил ее. Тут он заметил, что в нескольких шагах от него лежит холодный, черный предмет, который в руках человека издает смертоносный грохот. Боязливо раздувая ноздри, сначала с некоторой робостью, потом с возрастающим любопытством он притронулся к нему. Ничего страшного. Но от предмета шел запах, испортивший волку настроение.
Волк сел на задние лапы и стал наблюдать за волчицей, возившейся со скелетом в надежде, что удастся что-нибудь найти. Вдруг он вздрогнул. Его уши, небольшие, но чуткие, насторожились, и в них, как град, посыпались доносившиеся издалека звуки, сначала еле различимые. Со стороны деревни приближался какой-то шум; он становился все резче и громче. Однако волк не захотел тревожить волчицу из-за таких пустяков и, задрав морду, прислушался внимательнее. Шум становился отчетливее, сомнений больше не было: громко разговаривая, приближались люди. Они приближались с подветренной стороны, и, еще не поняв, откуда они идут, волк вдруг увидел на гребне своих смертельных врагов. Заметила их и волчица. Волки едва успели взобраться по склону и спрятаться за скалами. Убедившись, что их не заметили, они стали наблюдать сверху. Люди остановились около скелета. Потом по шуму, громким крикам и возгласам волки поняли, что люди догадались, кто только что побывал там. И встревоженные, несмотря на то, что люди были далеко, бросились прочь. Взобравшись на склон, они еще раз поглядели назад: люди, одни, ползая по земле на четвереньках, собирали кости, другие, стоя, распоряжались, первые напоминали сбившихся в кучу баранов, другие — сторожевых псов.
Издательство иностранной литературы
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
Чангмарин. ПЕСНИ ПАНАМЫ. Сборник стихов,
перевод с испанского, 3 изд. л., цена 17 коп.
Песни Панамы, созданные автором в ритме народных куплетов — лирические и задорные, — раскрывают перед читателем малознакомый мир далекой страны. Полные юмора и лукавства, они порой искрятся неподдельным весельем, а порой грустны и задумчивы; песни эти знакомят нас с думами и надеждами маленького, но гордого и свободолюбивого народа.
СОВРЕМЕННАЯ ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ. Сборник стихов,
перевод с испанского, 5 изд. л., цена 25 коп.
В сборник входят произведения испанских поэтов, уже завоевавших мировую известность, а также стихотворения молодых поэтов. В нем богато представлена лирика, а также стихи, отражающие думы и настроения испанского народа.
Вниманию покупателей!
Предварительные заказы на печатающиеся книги принимают магазины и отделы „Книга — почтой“ республиканских, краевых и областных книготоргов и потребительской кооперации. Они оформляются на почтовой открытке в магазине. О поступлении нужной книги в магазин покупатель извещается ранее заполненной открыткой.
Заказанные издания хранятся в течение недельного срока с момента извещения.
Своевременно оформляйте предварительные заказы на интересующие Вас книги.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
КНИГИ
Издательства иностранной литературы
Брэнд М. БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ. Пьеса.
Перевод с английского, 1961, 108 стр., 21 коп.
Перьялис Н. ДЕВОЧКА С ЛЕНТОЧКОЙ. Народная драма.
Перевод с новогреческого, 1960, 116 стр., 20 коп. (Современная зарубежная драматургия.)
Рукнах К. ПИСЬМО С ГОР. Рассказы.
Перевод с индонезийского, 1961, 66 стр., 16 коп.
Тур Промудиа Ананта. ЭТО БЫЛО В ЮЖНОМ БАНТЕНЕ. Драматическая повесть. В 4 частях.
Перевод с индонезийского, 1961, 70 стр., 20 коп.
Эти книги можно купить в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.
В случае их отсутствия заказы направляйте по адресу: Москва, В-168, 5-я Черемушкинская улица, 14, магазин № 93.
Заказ будет выполнен „Книга — почтой“ наложенным платежом.
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Каатинга — зона лесов с низкорослыми деревьями и кустарниками в Бразилии. —
Здесь и далее примечания переводчика. По техническим причинам разрядка заменена болдом (
Прим. верстальщика)
(обратно)
2
Сертан — внутренние засушливые районы Бразилии.
(обратно)
3
Алкейре — мера сыпучих тел в Португалии. Приблизительно 13,8 л.
(обратно)
4
Ипе — дерево, растущее в джунглях Бразилии.
(обратно)
5
Канада — старинная португальская мера жидкостей, равная 1,4 л.
(обратно)
6
Тостан — старая португальская монета, равная 100 рейсам или 10 сентаво.
(обратно)
7
Имеется в виду Национальный союз — правящая в стране фашистская партия Салазара.
(обратно)
8
«О природе вещей» — книга известного древнеримского философа Лукреция Кара.
(обратно)
9
В стане неверных (
лат.).
(обратно)
10
Звезды, образующие пояс в созвездии Ориона.
(обратно)
11
«Сахарная голова» — гора в бухте Рио-де-Жанейро.
(обратно)
12
Сарамбеке — негритянский танец.
(обратно)
13
Конто — крупная португальская денежная единица.
(обратно)
14
Лозунг, выдвинутый Министерством экономики Португалии. —
Прим. автора.
(обратно)
15
Катете — дворец президента в Рио-де-Жанейро. Жетулио Варгас — президент Бразилии (1934–1945).
(обратно)
16
Кабокло — метис индейца и белого.
(обратно)
17
Ронкадор в переводе с португальского означает «ревущий».
(обратно)
18
Урубу — южноафриканские грифы.
(обратно)
19
Агиляда — длинная палка с железным наконечником, которой погоняют волов.
(обратно)
20
Национально-республиканская гвардия.
(обратно)
21
Комарка — единица деления Португалии по компетенции судов.
(обратно)
22
Патулейя — народная партия, созданная в Португалии в 1846 г.
(обратно)
23
Надежда (
португ.).
(обратно)
24
Вечно (
лат.).
(обратно)
25
Пино — народная игра.
(обратно)
26
Полицейский чин в Португалии — начальник отделения полиции.
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
ГЛАВА XIII
*** Примечания ***