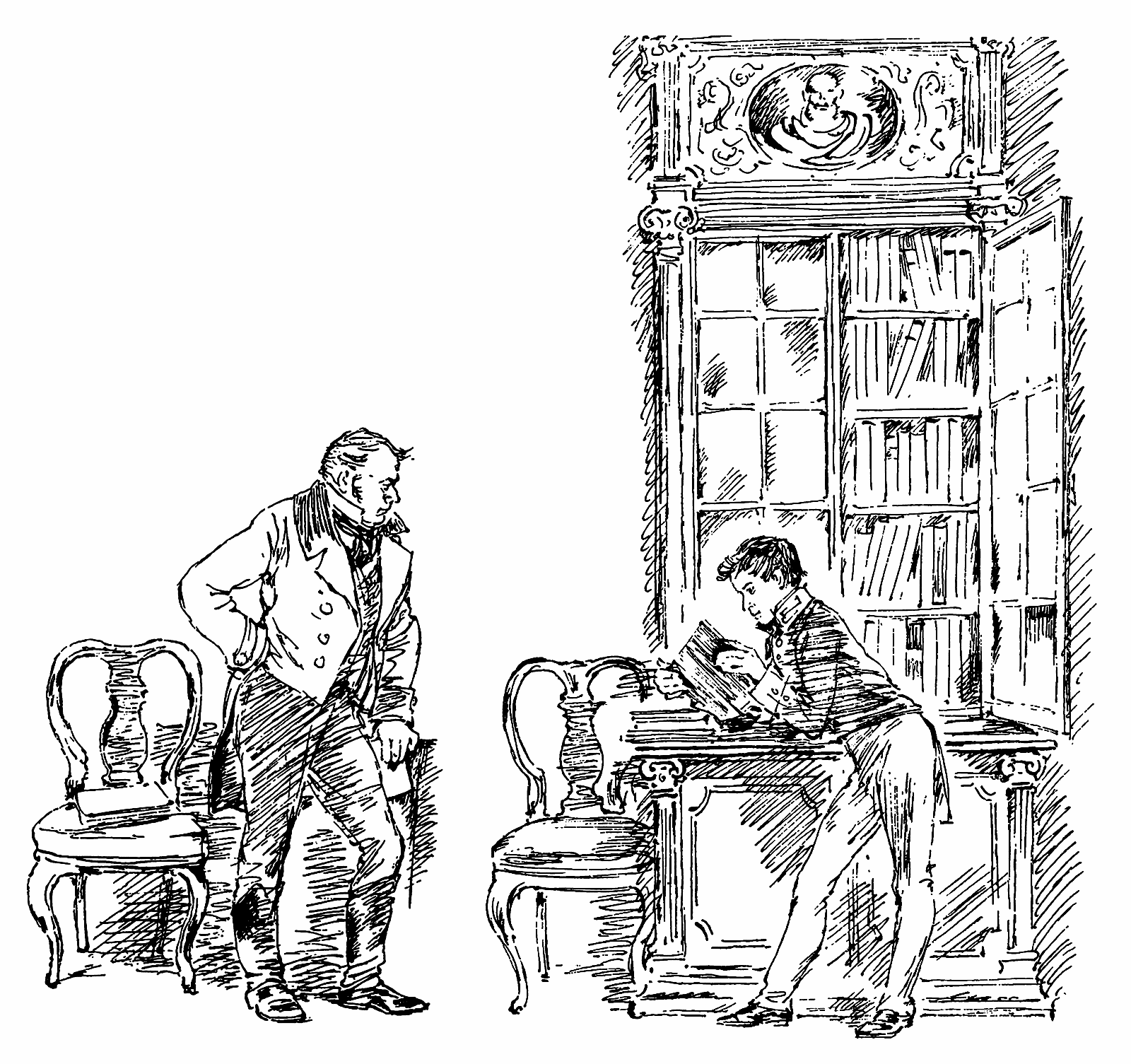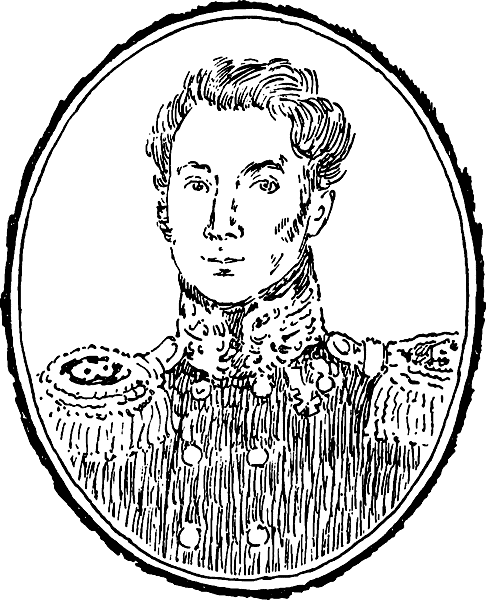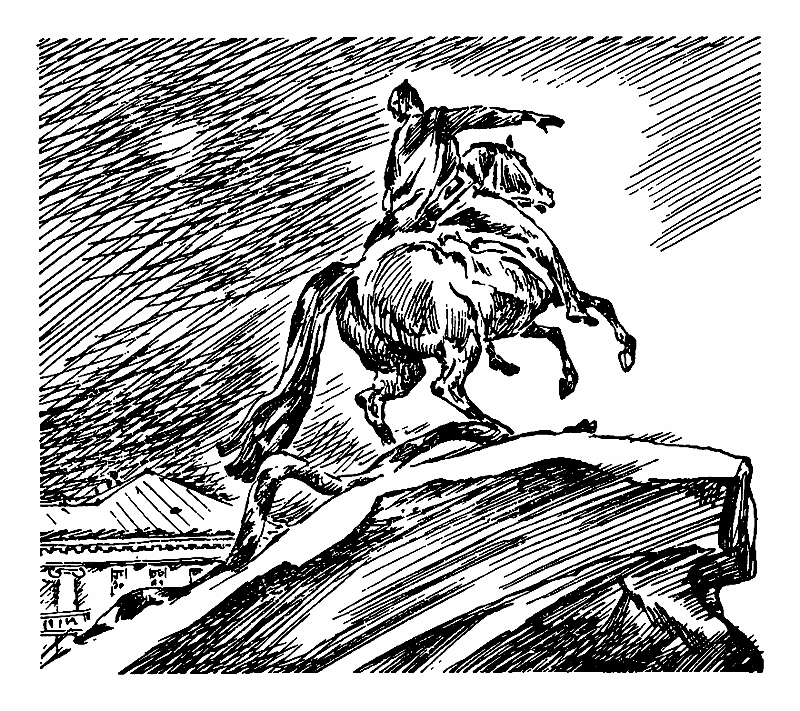Владимир Муравьев
ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ
ПОВЕСТЬ

 Художник Д. Бескаравайный
Научный редактор
В. И. Кулешов
Художник Д. Бескаравайный
Научный редактор
В. И. Кулешов
Часть первая
КАДЕТСКИЙ КОРПУС


1
В малолетнем отделении Петербургского первого кадетского корпуса случилось происшествие: кадет Чижов разбил дверное стекло.
Встрепанный, съежившийся и казавшийся оттого еще меньше, Чижов дрожал и замирал в ожидании возмездия. Он был новенький, в корпусе жил всего вторую неделю и за все восемь лет своей жизни еще ни разу не попадал в такую тяжкую беду.
Дежурный гувернер Николай Семенович и корпусный эконом, суетливый и добродушнейший толстяк Андрей Петрович Бобров, по-корпусному — «старый Бобёр», произвели следствие и выявили кое-какие любопытные обстоятельства этой истории.
В таком большом городе, как Петербург, с его двухсотпятидесятитысячным населением, состоящим из лиц всякого чина и звания — высших и низших, свободных и крепостных, в этом человеческом муравейнике всякий слух, даже самый нелепый, обязательно находил себе доверчивых слушателей и усердных распространителей.
Разных слухов всегда ходило немало. Но в зависимости от государственных и политических обстоятельств они обычно приобретали некое общее направление и общую окраску.
В последние годы царствования Екатерины особой любовью пользовались истории о внезапных милостях и фантастических возвышениях и обогащениях. Во времена Павла I шептались не без тайного злорадства о падении и опалах знатнейших вельмож. Начало царствования Александра I внесло сумятицу в толки: все ожидали каких-то перемен, каких именно, точно никто не знал, но упорно твердили, что перемены эти имеют целью улучшение участи каждого россиянина — вещь, как это должно быть ясно всякому трезвому уму, совершенно невозможную, поскольку улучшение участи одного сословия может быть произведено лишь за счет ухудшения другого. И лишь после столь несчастного для русской армии и для России Аустерлицкого сражения и позорного, иначе его и не называли, Тильзитского мирного договора с Наполеоном, слухи вновь обрели генеральную, так сказать, линию, заключавшуюся в мрачном и безнадежном взгляде на будущее.
Одна такая нелепая выдумка, появившаяся на свет осенью 1809 года, и оказалась причиной разбитого стекла.
Началось все с того, что Ефим Миняев, кухонный мужик, служивший на кухне Первого кадетского корпуса, возвращаясь из гостей от приятеля — отставного солдата с Гончарной улицы, куда он ходил неукоснительно каждое воскресенье, по пути заглянул в трактир, что возле Сенной площади.
Был Ефим человеком общительным, всегда расположенным к приятной беседе и потому в трактире, заказав то, что возжелала его душа, тотчас же завел разговор с двумя приезжими мужиками, отмечавшими удачную торговую сделку. Новые знакомые оказались тоже людьми душевными и разговорчивыми. Они-то и открыли Ефиму тайну, которую правительство тщательно скрывает от народа, потому что при ее открытии может в государстве произойти великая смута и великое непослушание властям.
А тайна заключалась в том, что в ближайшие дни, самое большее через неделю, наступит светопреставление: по небу пройдет хвостатая звезда, заденет хвостом Землю, все, что ни есть на суше — города, деревни, все государства, — сметет в моря-окияны, и всему живому будет на том конец.
В корпусе Миняев рассказал про звезду нянькам, приставленным к кадетам малолетнего отделения. Няньки обсуждали новость, не таясь от воспитанников, и таким образом разговор пошел по всему корпусу.
Самые младшие кадеты — пяти-шестилетние дети — ничего не поняли, старшие — пятнадцати-семнадцатилетние юноши, уже прослушавшие курс астрономии и поэтому знавшие, что появление кометы вовсе не опасно для Земли, — посмеялись над неуклюжей выдумкой. Но среди малолеток восьми-девяти лет, которым вскоре предстояло из малолетнего отделения переходить в полноправные кадеты и из малолетних курток с панталонами переодеваться в мундир, известие о страшной комете вызвало большое беспокойство.
Волнение нарастало с каждым днем. У всех оно проявлялось по-разному, в соответствии с его характером. Тихони притихли еще более, некоторые даже тайком плакали. Отчаянные, то есть те кадеты, которые поставили своей задачей участвовать во всех проказах и проделках и кого не страшило никакое наказание, дали полную волю своей отчаянности: совсем перестали учить уроки, бегали по коридорам, стучали ложками в столовой и дерзким смехом отвечали на угрозы дежурного воспитателя подвергнуть их за такое поведение наказанию.
И действительно, что́ такое в сравнении со всеобщим концом розги, карцер или оставление на праздники в стенах корпуса? Впрочем, они рассчитали, что до праздников комета уже придет, так что праздников никаких не будет.
Кадет Николаев, один из таких девятилетних малолетков, скорее все-таки верил слуху, чем не верил, но его собственная натура была сильнее всяких внешних влияний. Николаев отличался скупостью и предприимчивостью в разных делах, приносивших материальную выгоду. Он был в своем роде талант.
Еще не зная экономических учений о цене труда и прибыльности обрабатывающей промышленности, Николаев дошел до их понимания на практике. Он сшивал несколько листов бумаги, натирал их мелом, чтобы тетрадь казалась толще, и выменивал ее на бумагу, из которой выходило уже две тетради. Совершал он и другие выгодные для себя операции, объектами которых являлась разная движимая собственность кадет: перья, карандаши, краски, книги, получаемые из дому гостинцы и подарки.
Так вот, этот Николаев, смекнув, что материальные ценности ввиду надвигающейся катастрофы должны упасть в цене, затеял аферу даже помимо своей воли, так как все-таки допускал возможность близкого конца света.
Недавно он получил посылку из дому, и у него еще оставались от нее конфеты и сушеные фрукты.
Вечером в спальне Николаев громко объявил:
— Всех угощаю конфетами! Берите, господа!
Это было так неожиданно, что никто к нему даже не подошел.
Николаев принадлежал к числу жмотов, которые не делились с товарищами домашними гостинцами. Но обычно жмоты все-таки сознавали, что поступают плохо, стыдно, и старались съесть свои лакомства тайком. Николаев же никогда не таился. После ужина, когда все кадеты находились в спальне, он аккуратно расстилал на тумбочке салфетку, раскладывал еду и, ловко орудуя ножичком, ел спокойно, не спеша, с удовольствием и неколебимым сознанием своего права. Его не смущал завистливый или просящий взгляд и не тревожила собственная совесть. Получить что-нибудь у Николаева можно было только купив или выменяв, и это знали все.
— Что же вы, господа, угощайтесь! — призывал Николаев. — На что мне это теперь? Ведь нынче ночью комета все унесет. И это теперь не надобно, — добавил он и смахнул на пол с подоконника, возле которого стояла его кровать, свои тетради, карандаши и, главное, хорошенький альбом для рисования, который никак не относился к учебным пособиям и потому в глазах кадет представлял более цены.
— А правда, господа, на кой черт все это? — подхватил один отчаянный и тоже кинул на пол свои тетради.
После этого словно какое-то безумие охватило спальню. Мальчики принялись вытаскивать из портфелей, папок, коробок, из тайников, устроенных за кроватями, под подушками и тюфяками, все, что там было сложено и спрятано, бросать на пол и пинать ногами.
— На кой черт!
— На кой черт! — раздавались громкие, исступленные крики.
В общую кучу летели не только школьные принадлежности, но даже бережно хранимые сокровища — самоделки, игрушки, с которыми мальчики еще пять минут назад не расстались бы ни за что. Это было настоящее наваждение.
Петя Чижов бросил в кучу книжку, по которой учил заданный урок, и маленькую бронзовую собачку, принесенную из дома. В тот миг, когда собачка пропала в общей куче, острое сожаление сжало его сердце: эта собачка была частицей его прежней жизни, частицей дома. Только какая-то непонятная сила — боязнь показать перед товарищами свою привязанность к игрушке — остановила его, чтобы не броситься за собачкой. Он лег на кровать, сунул голову под подушку и заплакал горькими, тайными слезами.
Наверное, не один Чижов пожалел о сделанном, но — сделанное сделано.
После бурного взрыва в спальне вдруг наступила тишина. Нервное напряжение, выплеснувшись до дна, сменилось упадком сил. Мальчики лежали на своих кроватях в ожидании неминуемого конца, чувствуя себя одинокими и несчастными, и даже не переговаривались.
Мало-помалу все заснули…
Проснувшись поутру, кадеты увидели всё вокруг таким же, как оно было вчера и позавчера: потолок, стены, окна, за которыми голубело ясное небо, товарищей, кровати, тумбочки… И только на полу посреди спальни, там, где вчера громоздилась накиданная ими куча, было пусто, а всё, что они покидали в нее, теперь в порядке было сложено на тумбочке и под кроватью у Николаева.
Сам Николаев, уже одетый, сидел на застеленной кровати и разбирал последнюю мелочь.
— Зачем ты все это взял? Это же не твое, — сказал Николаеву его сосед Миша Пущин.
— Вы выбросили, я подобрал. Значит, теперь это все мое.
— А комета?
— Наверное, вранье, — беспечно ответил Николаев.
Проснувшиеся мальчики невольно высматривали среди разложенных Николаевым в строгом порядке — тетради к тетрадям, книги к книгам, игрушки к игрушкам — свои, только вчера еще принадлежавшие им сокровища и теперь казавшиеся им еще более ценными.
Тоненький белокурый кадет, помещавшийся на кровати возле двери, со слезами в голосе воскликнул:
— Обманщик!
Николаев повернулся в его сторону:
— Я не заставлял тебя верить мне, Рудаков. И вообще, господа, вы же сами выбросили свои вещи, — сказал он и засмеялся. Но, заметив, что самый сильный в малолетнем отделении кадет Сакен смотрит на него отнюдь не дружелюбно, быстро добавил: — Однако я вовсе не жмот какой-нибудь. Сакен, возьми, пожалуйста, свои вещи. И ты, Петров, и ты, Кикин.
Отчаянные получили свои вещи обратно. Но когда за своим альбомчиком протянул руку Пущин, Николаев схватил альбомчик и спрятал за спину.
— Это теперь не твое, и ты не имеешь на эти вещи никакого права. Тут моя воля: хочу — отдам, хочу — нет. Правда, Сакен, если человек подбирает выброшенное другим, то оно становится его законной собственностью?
Сакен, толстый, неповоротливый тугодум, почесал в затылке, подумал. Он соображал медленно, но зато уж, придя к какому-нибудь выводу, стоял на нем твердо: вторично обдумывать раз обдуманное ему было лень.
— Ты, Николаев, плут, ловко подстроил, — сказал он наконец. — Но выходит, что подобрал ты действительно выброшенное.
— Вы слышите? — обратился Николаев к соученикам.
Поднялся шум.
— Плут! Жулик! Мошенник! Я тебе это попомню! Хитрюга! Жила!
В этих криках была только обида на то, что их обманули, законность владения Николаевым их имуществом была признана.
Но Николаев как хитрый политик понял, что зашел слишком далеко и его зыбкое моральное право, не подкрепленное хотя бы силой кулаков Сакена, очень легко может рухнуть. Поэтому он бросил обществу подачку: наиболее шумевшим выдал их вещи.
К нему подошел Чижов, попросил робко:
— Возьми книгу, но отдай мою собачку.
— А-а, собачка, значит, твоя? — сказал Николаев, вытаскивая из кармана фигурку и поворачивая ее перед глазами. — Хорошая собачка.
— Хорошая, — согласился Чижов. — Она у нас на часах была…
— Знаешь, Чижов, я лучше отдам тебе книгу, а собачку оставлю себе.
— Отдай! — В голосе мальчика послышались слезы.
— Нет, не отдам.
Чижов заплакал, потом, вытянув вперед руки, он бросился на Николаева, выхватил свою собачку, зажал в кулак, но тут же от сильного толчка полетел назад и с размаху угодил локтем в дверное стекло…
Начальник Первого кадетского корпуса генерал-лейтенант Фридрих Максимилиан Клингер — немецкий писатель, в молодости друживший с Гете, но затем променявший неверную судьбу литератора на прибыльную службу в «дикой России», которую он глубоко презирал, — выслушал доклад Боброва о разбитом стекле и равнодушно бросил:
— Пятьдесят розог.
— Ваше превосходительство, мальчонка новый в корпусе, непривычный к розгам, да и мал он, вот такой…
— Он стекло разбил?
— Разбил, но ведь…
— Наказание должно быть наложено на виновного в соответствии с тем, какова его вина, а не с тем, каков его рост. Я сказал.
Старый Бобёр вернулся в отделение вздыхая, погладил Чижова по голове:
— Придется потерпеть, мошенник ты этакий… Его превосходительство Федор Иваныч (так переиначили на русский лад имя Клингера) приказал, мы с тобой ослушаться не смеем-с… Да ты не бойся, не бойся…
Экзекуции производили тут же в коридоре, на лавке, на которой обычно сидел дежурный дядька и которую в случае необходимости отставляли от стены на середину коридора и укладывали на нее наказываемого.
— Иди, иди, спускай штанцы и иди… — приговаривал Бобров, легонько подталкивая мальчонку.
— Сколько? — спросил гувернер, уже доставший розги из чана, где они мокли, чтобы не потерять упругости.
— Малую норму, — ответил Бобров.
Пятьдесят розог считалось у Клингера легким наказанием, за более значительные провинности он назначал вдвое и втрое больше.
Чижов, увидя розги, съежился, попятился, обхватил руку эконома и, плача, припал к ней:
— Не надо! Не надо! Не секите меня! Я тогда умру!.. Умру!.. Умру!..
Гувернер взял мальчика за плечо и оторвал от Боброва.
— Умру! Умру! — страшным, отчаянным, хриплым голосом кричал Чижов.
Несколько кадетов третьей мушкатерской роты, мальчики тринадцати-четырнадцати лет, прогуливавшиеся по коридору, подошли не спеша: порка в корпусе была не таким явлением, чтобы привлечь к себе чье-либо особое внимание.
Один из них, невысокий, черноглазый, спросил Боброва:
— Андрей Петрович, что случилось?
Бобров сокрушенно махнул рукой:
— Нету никакой жалости у немца! Разве ж можно так? Да так навек душу искалечить можно…
— А за что его, Андрей Петрович?
— Стекло вон сломал. Рубль цена стеклу, а…
— Так ведь я ж это стекло выбил.
— Ты? — Бобров опешил.
— Я, Андрей Петрович. Давеча шел и стукнул. Могу и второе… — И черноглазый решительно замахнулся кулаком.
— Стой, мошенник ты этакий! — Бобров схватил кадета за рукав. — Ты, значит?
— Я, Андрей Петрович, не сомневайтесь.

— Ну ладно. — Бобров рысцой подбежал к гувернеру. — Наказание приостановите. Тут объявился истинный виновник.
Товарищи черноглазого засмеялись и смолкли, поняв, что шутка зашла слишком далеко. Один из них сказал:
— Андрей Петрович, он шутит, он и не ходил никуда, мы с ним все время были в зале…
Черноглазый оборвал товарища:
— Замолчи, Фролов. Я тут был и разбил стекло, а кто вздумает оспорить, то…
— Ну, ладно, ладно, Рылеев, — сказал Бобров. — Ты так ты, спаси тебя бог. Стой здесь, пойду опять к Федору Иванычу.
Клингер был недоволен, что его отрывают от занятий: он писал роман «Гражданин Вселенной и Поэт» и как раз в эту минуту долго не удававшаяся фраза вдруг стала приобретать необходимую стройность.
— Я сказал: пятьдесят розог.
— Федор Иваныч, тот малолеток-то не виноват, другой кадет, Рылеев, стекло разбил, сам сознался, честный мальчик.
— Значит, розги дать Рылееву.
— Сколько?
— Те же пятьдесят. Закон полагает определенное возмездие за определенную вину, и только вина, а никакие другие обстоятельства определяет меру наказания.

Вечером в пустой спальне среднего возраста за столом у горящей свечи Рылеев читал, сидя спиной к двери. Когда дверь, неуверенно заскрипев, открылась, он не обернулся. За восемь лет пребывания в корпусе, всегда на людях — в классе, в зале, в спальне, — он приобрел способность совершенно не замечать окружающего.
Ни шум, ни возня, ни мелькающие вокруг люди не мешали ему. Пусть каждый занимается чем хочет, а он будет заниматься, чем ему надо.
Открылась дверь, через порог неуверенно переступил Чижов, остановился. Постояв, подошел к столу, посопел и, вдохнув воздуха, срывающимся голосом заговорил:
— Рылеев, вы мой спаситель, я так благодарен вам, я маменьке скажу, что вы спасли меня… Я вам буду отдавать все, что мне пришлют из дома… Я бы умер… Ей-богу, умер… Вы пострадали за меня… Вам очень больно?
Рылеев улыбнулся:
— Пустяки. Тут только привычка нужна. И ты привыкнешь. Человеку следует воспитывать в себе презрение к физической боли с юных лет. Знаешь про маленького спартанца?
— Нет, не знаю.
— Один юный спартанец принес в школу лисенка, чтобы показать товарищам. Но в это время пришел учитель, и начался урок. Мальчик спрятал лисенка за пазуху. Учитель вызвал этого мальчика отвечать урок. Мальчик отвечал урок, а лисенок в это время грыз ему живот. Юный спартанец, хотя ему было очень больно, терпел, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Ответив урок, он вернулся на место. Но рана была так велика, что он тут же умер.
— Я бы не вытерпел, — признался Чижов. — Я боюсь, когда больно. Меня дома маменька никогда не била. Но я буду воспитывать в себе презрение к боли.
— Юный друг, — сказал Рылеев, — советую тебе, следуй в жизни примеру античных героев. Тогда ты будешь достойным гражданином отечества.
— Я буду следовать.
— Вот и хорошо. А если кто будет к тебе приставать, ты тому скажи, что он будет иметь дело со мной. Понял, Чиж?
— Понял, — ответил мальчик и всхлипнул, уже не горько, а с облегчением.
Утерев слезы, Чижов сунул руку в карман и протянул Рылееву на Дрожащей руке бронзовую собачку.
— Это вам, Рылеев, возьмите ее. Эта собачка — самое дорогое, что у меня есть.
Рылеев взял собачку, посмотрел.
— Спасибо. Хорошая вещичка. Только знаешь, она мне сейчас вроде бы ни к чему. Пусть у тебя останется. — И он вложил игрушку в ладонь мальчика.
Чижов, просияв, сунул собачку в карман.
— Но когда вам понадобится, вы скажите, и я сразу отдам. Ладно?
— Ладно.
Издали, из коридора, послышался звон колокольчика.
— Иди, звонят вам спать, — сказал Рылеев. — Опоздаешь, опять попадешь в историю. Беги, брат, скорее.
2
Окна учебного класса третьей роты выходили на Неву.
Прямо перед окнами расстилалась широкая водная гладь с узеньким наплавным мостом, качавшимся на волнах, за рекой виднелись пустынная Петровская площадь с конным памятником Петру, воздвигнутым при Екатерине II, узкая полоска невысоких зданий и небо над ними, такое же широкое, как вода.
Шел урок словесности.
Учитель словесности Гавриил Васильевич Гераков, по кадетскому прозвищу Грек, потому что был греком по национальности, сидя за столом и глядя в тетрадку, глухим, скучным голосом вычитывал параграфы, пункты, подпункты, которые должно соблюдать при написании оды.
Его равномерное, бесстрастное чтение сливалось в равномерный гул, в котором слова, не отделяясь друг от друга, теряли смысл и производили лишь впечатление усиления и понижения силы звука, как бывает, если время от времени то зажимать уши пальцами, то отпускать. Но иногда в этом монотонном шуме прорывались живые интонации — это значило, что Гераков в написанный текст вставлял свое собственное замечание.
— Правила нужны для того, чтобы создать что-либо прекрасное, — подняв голову от тетради, сказал Гераков и язвительно хохотнул. — А наделать дряни можно и без правил.
Гавриил Васильевич сам сочинял стихи, которые печатал в журналах, и среди столичных поэтов считался не последним, хотя кое-кто и не признавал за ним таланта.
Рылеев сидел возле окна за последним столом, и ему был виден весь класс.
Поскольку шел еще только первый урок и кадеты после сна и утреннего сбитня находились в спокойном состоянии, то в классе стояла тишина, и каждый занимался своим делом.
Сидевший за первым столом Федя Миллер (маленький Федя, названный так в отличие от другого — большого Феди, Егорова), не поднимая глаз от стола, записывал, что читал Гераков.
Маленький Федя был «тетрадным кадетом», то есть записывавшим лекции учителей в тетради. Таких в классе было всего три человека. По их тетрадям сдавали экзамены все остальные, и поэтому им не мешали писать.
Николай Фролов — рослый, кудрявый, с румянцем во всю щеку крепыш — тоже наклонился над столом и, высунув язык, усердно орудовал карандашом. Со стороны можно было подумать, что он еще более усерден, чем Федя Миллер. Но все знали, что Фролов самый что ни на есть закоренелый «бестетрадник».
«Наверное, карикатуру рисует, — подумал Рылеев. — Интересно, на кого?»
Фролов рисовал Геракова. Получалось смешно и похоже: круглая, толстая фигурка, полузакрытая книгой, круглая лысая голова с торчащими кое-где отдельными черными космами, большой вислый нос, вздернутая вверх толстая рука с растопыренными пальцами. Когда Гераков декламировал свои стихи кадетам, то принимал такую позу.
Семен Боярский, подперев голову поставленными на локти руками, читал лежавшую на коленях под столом книгу. Ему нельзя было тратить время впустую: на роман «Селим и Роксана, или Превратности жизни человеческой», который он читал, среди кадет установилась очередь, и завтра он должен был отдать его, а оставалось прочесть еще больше ста страниц. Кроме того, что история про невероятные и занимательные приключения Селима, сына багдадского калифа Альрашида, была интересна сама по себе, интересу ей прибавляло то, что ее сочинитель Сергей Николаевич Глинка окончил Первый кадетский корпус, был, так сказать, однокашником.
Бледный белокурый поляк Зигмунтович тихо дремал…
Рылеев, скользнув взглядом по рядам столов, повернулся к окну.
За годы пребывания в корпусе, если сложить вместе все время, которое он провел за созерцанием заоконного пейзажа, получилось бы, наверное, немало месяцев.
Он знал Неву и Петровскую площадь в самых разных обликах.
В солнечный весенний день Петровская площадь бывала светлой, ликующей, просторной и легкой, как голубое весеннее небо с сияющими белыми облачками, и Петр, представлялось, вознесся на коне вверх на скалу тоже в каком-то светлом веселье.
Осенним днем, когда небо затягивали сплошные серые облака и сеял мелкий дождь, площадь становилась суровой, величественной и бесконечно огромной. И тогда Рылеев чувствовал себя маленьким, заброшенным, забытым.
Зимой на площади из конца в конец гуляли, кружась, белые снежные вихри. В своем круженье они окутывали памятник, и он, казалось, тоже срывался со своего места и, как они, мчался от Адмиралтейства к Сенату, окутанный белым облаком, из которого вдруг показывалась то черная поднятая рука, то конская голова, то вырвавшаяся из-под ног коня змея. Наблюдать за этим фантастическим бегом было жутко, но и глаз нельзя было отвести.
Сейчас же стоял тихий сентябрьский день. Ровное, спокойное солнце освещало синюю крышу Сената и красную — Адмиралтейства, зеленые кусты вокруг камня-валуна, который служил памятнику пьедесталом, и от всего веяло добрым покоем.
Давно уже у Рылеева не было так спокойно и хорошо на душе, как сегодня. И причиной тому был вчерашний вечерний разговор с Чижовым.
Это была не та буйная и короткая радость, которая бывает сразу после удавшейся и как будто благополучно сошедшей с рук проделки, радость незаконная, опасная, могущая каждую минуту смениться возмездием. Сегодняшняя радость не была чревата возмездием, и потому Рылеев мог спокойно наслаждаться ею.
Потребность родственной, семейной любви может быть заглушена обстоятельствами, как это было у Рылеева, которого отдали в корпус на шестом году и который, в общем-то, почти не помнил жизни в родном доме, но совершенно истребить эту потребность ничто не в силах, и едва лишь появится хоть малейший повод, как она хлынет обильным и радостным потоком.
Этот мальчишка Чижов, только что вырванный из дома и такой беззащитный перед казенной равнодушной и жестокой действительностью корпусной жизни, вдруг почему-то вызвал у Рылеева острую жалость. Взять на себя чужую вину — это водилось в корпусе и не считалось чем-то особенным, а было одним из законов товарищества. Так же, как молчание перед воспитателем, когда он спрашивал о чьем-либо проступке. И Рылеев, взяв на себя вину Чижова, не придал этому какого-либо особого значения. Он выручил мальчишку из рук гувернера, как мимоходом иногда удается помешать подкрадывающейся кошке схватить птицу. Птица улетит — на этом и конец.
Но вечером, глядя на Чижова, Рылеев подумал: «У меня мог бы быть такой младший брат…» И с этой мыслью в нем всколыхнулись такие чувства, присутствие которых он и не подозревал в себе.
Рылеев не тосковал по домашней, семейной теплоте, потому что никогда не знал ее.
Отец его Федор Андреевич, вышедший в царствование Екатерины II в отставку подполковником, помнился Рылееву мало, он почти не жил дома и постоянно пребывал в Киеве, где служил управителем имений княгини Голицыной.
Маменька Настасья Матвеевна боялась мужа, и в его приезды постоянно твердила сыну: «Веди себя послушно, тихо, не то папенька прибьет».
Но как ни старался Кондратий вести себя тихо, все же ему доставалось от отца. Впрочем, как и всем в доме, — от кучера до маменьки.
Федор Андреевич был беден, управительское жалованье тратил на свои нужды и жене с сыном почти ничего не высылал. А после того как в восьмисотом году дальний родственник Настасьи Матвеевны, генерал Петр Федорович Малютин, снисходя к ее бедности, подарил ей сельцо Батово, которое сам получил в виде пожалования за службу при Павле I, Федор Андреевич вообще перестал выдавать семье какие-либо средства.
Настасья Матвеевна назвала Батово Петродаром и поселилась в деревне. Однако Петродар не приносил никакого дохода, единственно, что он давал, это возможность не помереть с голоду.
Тогда Рылееву пошел шестой год, пора было брать ему гувернера, а там и учителей. Но средства не позволяли ни гувернера иметь, ни учителей нанимать. Сама же Настасья Матвеевна едва умела писать и не могла заняться обучением сына.
Петр Федорович Малютин посоветовал отдать мальчика в Петербургский кадетский корпус и взялся похлопотать.
Поплакав, Настасья Матвеевна отвезла сына в Петербург, в корпус. Рылееву было тогда пять лет и четыре месяца.
С тех пор он бывал дома только на праздники, да и то лишь когда случалось, что в Петербурге оказывались малютинские подводчики, возвращавшиеся домой порожняком.
Первые годы Рылеев скучал по дому, потом привык, а потом даже стал предпочитать оставаться на праздники в корпусе с товарищами, чем ехать к матушке, выслушивать ее жалобы и являться на поклон к благодетелю Петру Федоровичу.
Но было бы несправедливо утверждать, что годы детства оставили у Рылеева только горькие воспоминания; иногда матушка бывала в хорошем настроении, шутила, певала смешные песенки ее молодости и рассказывала сыну про прежние годы, про бабушку с дедушкой, про отца, про разные занимательные случаи.
Особенно любил Кондратий слушать маменькин рассказ о том, почему его нарекли таким именем, которое не встречалось ни в отцовской, ни в ее родне.
И всякий раз как маменька начнет рассказывать эту историю, обязательно прослезится.
Рылеев воспринимал ее рассказ как сказку с печальным началом и хорошим концом: сначала у него замирало сердце от жалости, потом сладко сжималось от радости.
— Надобно тебе сказать, друг мой, — начинала обыкновенно Настасья Матвеевна, — родился ты маленьким, слабеньким, голосок подавал тихонько, вроде и не кричал, а поохивал, словно старый старичок, одним словом — не жилец на этом свете. Гляжу я на тебя и плачу и молю господа и богородицу: «Не дайте ему помереть». А надобно тебе сказать, прежде тебя родившиеся братец и сестричка, хоть малы и слабы, а все же покрепче тебя были, да оба в младенчестве умерли. Оттого-то я за тебя еще больше боялась.
Убиваюсь я, слезы точу, а кухарка наша Анисья — царство ей небесное — говорит мне:
— Барыня, есть одно средство верное, чтобы ребеночек выжил.
— Так открой же, — говорю ей, — скорее.
— Средство верное, не раз испытанное, да не господское, а мужичье, не знаю, подойдет ли вам.
— Пусть хоть какое, только бы сыночек жив был.
Тогда Анисья говорит:
— Надо, как понесете в церковь младенца крестить, кого первых встретите, тех и звать в крестные отцы-мать.
А папенька твой уже надумал в крестные отцы просить полкового своего командира, генерала Свечина, и намекал ему об этом.
— Как можно, душенька, — говорит мне папенька, — я же уже почти позвал его превосходительство, и вдруг — такой конфуз. Потом еще неизвестно, кто попадется.
Я заплакала и возразила ему:
— Что толку покумиться с генералом, если сыночек помрет. А жив останется, глядишь, сам генерала выслужит.
И так я плакала, так просила твоего папеньку, что он махнул рукой и говорит:
— Делай как знаешь! — и ушел на полковой двор.
Мы с Анисьей быстренько собрали тебя, завернули потеплее, вышли на улицу и пошли к церкви. Церковь-то от нас недалеко была, на соседней улице.
Вышли мы на улицу, гляжу — пуста улица, ну, ни одного человека. А тут еще дождичек начал накрапывать.
«Ну, — думаю, — кто же по такому времени на улицу выйдет?»
— Иди потише, — говорю Анисье, чтобы время протянуть.
Прошли нашу улицу — никого. Уже к церкви подходим.
«Значит, не угодно господу, чтобы жил мой сыночек», — думаю, и слезы застят мне глаза, и я ничего не вижу.
Вдруг слышу, Анисья окликает кого-то:
— Эй, дядюшка, поди-ка сюда!
Смахнула я слезы, вижу, подходит к нам старик, отставной солдат, спрашивает Анисью:
— Чего тебе, вострушка?
Объяснила ему Анисья, что от него требуется.
— Это мы можем, дело хорошее, — согласился отставной солдат, — когда барыня нами не побрезгует.
Я уж так ему обрадовалась, так обрадовалась, в ножки бы поклонилась.
— А крестная мать ты, что ли, будешь? — спросил солдат Анисью.
— Да нет. Я с самого дома иду, а тут встречного человека надо.
А уж совсем подошли к церкви, и никого, кроме нас, нет. Я опять в слезы.
Крякнул солдат и говорит:
— Не убивайся, барыня, это видимость только, что нет никого: там на паперти, за уголком, от ветру хоронится нищенка одна. Слышь, клюкой стучит, сюда идет.
Вошли мы в церковь.
— Каким именем нарекаете младенца? — спрашивает батюшка.
А я и не подумала прежде об имени. Сама звала тебя просто «сыночек», папенька хотел назвать Николаем в честь генерала Николая Степановича. Но раз уж его в крестные не позвали, не годится Николаем называть. Я растерялась и говорю батюшке:
— Какого нынче святого память?
— Нынче память святого апостола великомученика Кондрата.
— Вот-вот, как раз нынче мои именины, — сказал солдат, — ибо зовусь Кондратием.
— Пусть и сынок мой будет Кондратием, — говорю я батюшке, — потому что супруг мой желал назвать сына в честь отца крестного.
Так и нарекли тебя Кондратием.
Окрестили тебя, записали в книгу, я говорю солдату и нищенке:
— Теперь пойдемте к нам, закусим чем бог послал.
А сама думаю-боюсь, как-то папенька твоих крестных встретит, как бы по его крутому характеру чего нехорошего не получилось.
И солдат тоже в смущении. Спасибо, Анисья выручила.
— В дом, — говорит, — идти им одно неудобство, они за господским-то столом стесняться будут, не попьют, не поедят в охотку. Пожалуйте им, барыня, лучше деньгами, они и выпьют за здоровье крестника.
— Ай, молодец, вострушка! — оживился солдат. — Так-то оно лучше будет.
Денег-то у меня тогда случилось один серебряный рубль, солдат с нищенкой и тому были рады.
Потом-то, Кондрата, сколько страху я натерпелась от папеньки, очень он гневался. Зато ты остался жив мне на утешение.
— А крестные мои что? — спрашивал Кондратий.
— Искала я их после, да не нашла, — вздыхая, отвечала Настасья Матвеевна. — Люди сказывали, что не местные они были, прохожие, а откуда и куда шли, никто не знал. Спаси их Христос, видно, хорошие люди были, ты их, Кондраша, в молитве поминай…
По коридору, звеня колокольчиком, прошел дядька. Урок окончился. Гераков прервал чтение на полуслове. В классе сразу стало шумно.
— Рылеев! — кричал Фролов. — Посмотри, как я Грека изобразил!
— А и правда вылитый, — согласился Рылеев.
3
Жизнь Первого кадетского корпуса была похожа на хорошо отлаженный, добротный часовой механизм: утренняя побудка в начале шестого часа, на завтрак неизменный сбитень, затем классы до обеда, обед, после обеда — вечерние классы, потом ужин, и в десять вечера — сон.
С годами кадеты переходили из малолетнего отделения в средние мушкатерские роты, которых насчитывалось четыре, и в старшую предвыпускную гренадерскую роту, сменялись изучаемые ими предметы, но ничто не изменяло ритма корпусной жизни, чередования положенных занятий, завтрака, обеда, ужина, и в конце концов за более чем десятилетнее пребывание в корпусе у кадета все эти годы сливались в нечто единое целое, состоящее из повторяющихся элементов.
К лету 1812 года Рылеев находился в корпусе одиннадцать лет и состоял уже в первой, гренадерской роте. Впрочем, каких-либо особых изменений в себе он не замечал.
Ученье оставалось ученьем. Рылеев учился неровно, иногда что-то его увлекало, заинтересовывало, он получал высокие баллы, заводил тетради для записи лекций. Но увлечение проходило, и он снова становится «бестетрадным».
С учителями и начальством он находился в состоянии традиционной войны и не упускал возможности надерзить и затем геройски, без единого стона, перенести порку.
В корпусе он считался верным товарищем и хорошим кадетом, так как инспектор классов, молодцеватый и бравый полковник, участник итальянской кампании Суворова, Михаил Степанович Перский, эконом бригадир Бобров и многие воспитатели сами в свое время были кадетами и уважали кадетские традиции и мораль.
И вдруг 28 июня 1812 года механизм Кадетского корпуса сбился.
Кадеты заметили это еще при побудке. Воспитатели-офицеры, обычно заходившие в спальни и стоявшие у дверей, пока все не поднимутся, в это утро, только объявив: «По-одъем!» — тотчас ушли. Было в их голосах что-то тревожное. Беспокойство передалось кадетам, вставали без напоминания.
За сбитнем дежурный ротный офицер сообщил приказ директора корпуса: после завтрака трем старшим ротам собраться в фехтовальном зале.
К выстроившимся поротно кадетам вышли Клингер и Перский.
Батальонный командир, полковник Кондратьев, скомандовав кадетам «Смирно», пошел к Клингеру с рапортом.
Но тот, отступив, показал на Перского, и удивленный батальонный отрапортовал инспектору классов.
— Вольно! — скомандовал Перский.
— Вольно! Вольно! — эхом повторили ротные.
Перский, как всегда, был в ловко сидевшем на нем мундире, но сегодня кадеты заметили, что инспектор надел кресты и ордена.
— Господа! — сказал Перский. — В ночь на двадцать четвертое июня войска Наполеона, нарушив договор о мире и дружбе, перешли границу России. Началась война. Его величество государь Александр Павлович находится при армии. Мужество и крепость наших войск известны. С надеждою на бога и наших воинов будем ожидать сведений с театра войны. Господа, вы — будущие офицеры. Возможно, некоторым из вас, наиболее успешно проходящим курс обучения, будет досрочный выпуск. Идите в классы и удвойте, утройте усилия в занятиях. Надеюсь, что воспитанники нашего корпуса будут в армии на лучшем счету.
Ротные скомандовали расходиться по классам.
Первым уроком в старшем возрасте была словесность.
Гераков опоздал. Запыхавшись, вбежал он в класс.
— Господа, прошу извинить опоздание, я был в главном штабе.
Все сорвались со своих мест, окружили Гавриила Васильевича.
— Что? Каковы известия? Где Наполеон? Где наша армия? — посыпались со всех сторон вопросы.
— Господа, господа! Не все сразу! — пытался утихомирить Гераков кадет. — Известно пока лишь то, что Бонапарт, поправ договоры и обещания, преступил границы России, но далеко ли он продвинулся, об этом точных сообщений нет. Однако мне посчастливилось прослушать приказ государя армиям с объявлением о нашествии французского войска на пределы России. Очень сильно составлено! Очень сильно! Особенно конец: «Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу, я с вами. На зачинающего бог!»
Реляции, публикуемые в газетах, сообщали об успеш ном наступлении Наполеона и отступлении русских войск без боев. Тактика главнокомандующего Барклая де Толли вызывала в обществе удивление и возмущение. Все ожидали крупного сражения, но его не было.
В корпусе все разговоры были только о войне.
Некоторые — их, правда, было меньшинство — пытались понять и оправдать тактику Барклая.
— Все наступательные войны против величайшего из всех известных в истории полководцев до сих пор оканчивались неудачей, — говорили они. — Силы Наполеона сейчас гораздо значительнее наших. Перед нами пример Германии и Пруссии.
— Конечно, Наполеон — великий полководец, — соглашались их противники, — но, говоря о Германии и Пруссии, не следует забывать про Испанию, где его успехи не так уж велики. Значит, можно противостоять и этому великому полководцу.
Между тем русская армия отходила, не давая генерального сражения. 6 августа после тяжелого боя был оставлен Смоленск, офицеры и солдаты роптали, обвиняя главнокомандующего Барклая де Толли в измене. 8 августа последовало высочайшее назначение главнокомандующим суворовского ученика князя Кутузова.
Две недели спустя после приезда Кутузова в армию произошло, наконец, генеральное сражение под Бородином. Реляция Кутузова говорила о победе. Но русская армия продолжала отходить.
Без боя оставили Москву.
Второго сентября Наполеон вступил в древнюю столицу России.
В те печальные дни, когда Наполеон находился в Москве, состоялся первый досрочный выпуск кадет.
В зале Первого кадетского корпуса построили в шеренгу старших, по последнему году обучения, воспитанников всех трех петербургских дворянских военных учебных заведений — Первого и Второго кадетских корпусов и Дворянского колка.
Внесли развернутые корпусные знамена, на пунцово-палевых полотнищах которых был изображен корпусный герб: в обрамлении венка из ветвей лавра и пальмы наложенные друг на друга крестообразно шпага и Меркуриев жезл — символ познания. Под барабанную дробь в зал вошел шеф гвардии великий князь Константин Павлович.
Рыжеватый, сутуловатый, курносый, как и его отец, он прошел вдоль шеренги с мелком в руке, делая на груди каждого отметку: крестик, кружок, квадратик.
Потом он сказал:
— Государю императору угодно было назначить лучших по своему поведению и знанию службы кадет в гвардию на места офицеров, павших за отечество. Я избрал вас и надеюсь, что вы оправдаете мой выбор. Поздравляю вас прапорщиками. Завтра я вас представлю государю. Всем явиться во дворец в шесть часов утра. Прощайте, дети.
Едва великий князь ушел, в зал ворвались кадеты, окружили выпускников, расспрашивали, что им сказали, рассматривали меловые знаки на мундирах.
Батальонный, полковник Кондратьев, расправил плечи, набрал воздуху, намереваясь скомандовать и прекратить беспорядок, но Перский подошел к нему и тихо сказал:
— Оставьте их. У наших выпускников сегодня последний праздник в стенах корпуса. — И, вздохнув, добавил: — А у кого-то, может, и вообще последний…
Перский замешался в толпе.
— Михаил Степанович, что означают иероглифы, которые начертил его высочество? — спросил один из кадетов.
Все оборотились к Перскому. Он этого не знал; только на следующий день выяснилось, что шеф гвардии таким образом пометил, в какой род войск назначает того или другого кадета: кресты — в пехоту, кружки — в кавалерию, квадраты — в артиллеристы. Но недаром Перский служил под началом Суворова, не терпевшего немогузнаек. Он лукаво подмигнул, взял за плечи стоявшего перед ним кадета Александра Булатова — невысокого, но ладного, голубоглазого, с румянцем во всю щеку крепыша, посмотрел на меловый крест на его груди, взглянул в глаза, усмехнулся:
— Неужели непонятно? Да вы поглядите на этого молодца. Да после первого же дела его грудь украсится Георгиевским крестом. На это и указывает знак, начертанный его высочеством.
Булатов разрумянился еще более, его взгляд светился смущением и радостью.
— А мой кружок — орден! — воскликнул сосед Булатова.
— А квадрат — Владимир с мечами!
Поднялся веселый шум.
Перский, не опуская рук с плеч Булатова, спросил его:
— Скажи, кто сейчас после государя важнейший человек в государстве?
Булатов ответил не задумываясь:
— Граф Алексей Андреевич Аракчеев!
— Нет, — улыбнувшись, возразил Перский. — Новый прапорщик важнее всех. Знай это. — И он отпустил его плечи.
Ах, как завидовали остающиеся кадеты выпускникам! Большинство новых прапорщиков были старше Рылеева на три-четыре года, но были и такие, что всего на год-полтора, почти ровесники… К Рылееву, занятому подсчетом лет товарищей, подошел Булатов.
— Что приуныл, Рылеев? — с сочувствием спросил он. — Не горюй, я слышал, что будут еще внеочередные выпуски, и ты вполне можешь попасть в один из них…
4
Никогда кадеты старшего возраста не учились с таким
рвением, как теперь, когда каждый полученный хороший балл прибавлял шансы на досрочный выпуск.
Все новости из действующей армии становились известны в корпусе тотчас же по получении их в Петербурге.
Газеты с ежедневными реляциями читались по многу раз; упоминаемые в них селения отыскивались на карте; действия как русских военачальников, так и французских подвергались самой придирчивой и пристрастной оценке со стороны тактической и стратегической.
Еще больше, чем из газет, кадеты узнавали от ежедневных посетителей.
Посещение воспитанников родственниками разрешалось в корпусе в строго определенные дни и часы. В иное время свидания воспрещались. Но с началом войны соблюдать это правило, даже с педантизмом Клингера, стало невозможно. Родственники кадет приезжали в столицу и уезжали из нее, не сообразуясь с корпусным распорядком. И разве можно было отказать в свидании уезжающему в армию или привезшему поклон из армии, хотя бы даже день был неприемный?!
Как и вся Россия, кадеты тяжело пережили известие о сдаче Москвы, и только вера в Кутузова, имевшего, как все думали, свой план войны, удерживала от полного отчаяния. И действительно, план Кутузова вскоре принес первые победы, а к концу года, четырнадцатого декабря, жалкие остатки разгромленной наполеоновской армии в панике переправлялись уже через Неман обратно. Враг был изгнан за пределы России. Русская армия вступила в Европу, освобождая захваченные Наполеоном европейские страны.
Но несмотря на победные литавры, гремящие в газетах и журналах, всем было ясно, что война еще далеко не окончена, что Наполеон еще силен, что он не преминет произвести новую мобилизацию. К тому же вести бои в привычных и хорошо известных условиях Европы ему будет несравнимо легче, чем в России.
Война продолжалась. Толки о досрочном выпуске в армию возникали в корпусе по нескольку раз на дню.
Рескрипт о новом наборе рекрутов, оброненное мимоходом замечание какого-нибудь посетителя в генеральском мундире — все питало эти толки.
Гренадерская рота считала и пересчитывала: возраст — до месяца, до дня, баллы в науках, число замечаний, стараясь из всех этих цифр вывести дату, когда кого могут представить к выпуску.
В декабре 1812 года из корпуса вышли в армию сто шестьдесят человек. Следующий выпуск предполагался в мае будущего года.
По всему получалось, что Рылеев должен попасть в майский выпуск.
Изменившаяся военная обстановка отменила досрочные выпуски, но не изменила общей атмосферы патриотического подъема в корпусе. Слова «отечество», «гражданин», «свобода» волновали умы, заставляли биться сердца. Все, что как-то было связано с войной, с русской армией, вызывало неизменный и самый горячий интерес.
Гераков с начала войны ввел обычай на своих уроках сообщать наиболее замечательные новые произведения литературы — отклики на современные события.
От Геракова кадеты услышали стихи Федора Глипки, которые он написал под Смоленском в перерывах между боями:
Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить.
Защитим свою державу.
Лучше смерть, чем в рабстве жить!
Эти стихи пели в армии на мотив старой солдатской песни.
Читал Гераков стихи Милонова, Астафьева, Ламанского, Невзорова, Батюшкова, Долгорукова, Аврамова и многих других; среди авторов читавшихся стихов были поэты, уже известные своими сочинениями и вовсе не известные, взявшиеся за перо впервые только для того, чтобы в тяжелую для отечества годину выразить свое чувство любви к родине.
Большинство стихотворений вызывали в памяти высокопарящие оды Петрова и Державина двадцати-тридцатилетней давности.
«Нельзя теперь о России ни писать, ни даже говорить слогом обыкновенным!» — вещал Гераков. Сам он писал возвышенным слогом, как в стихах, так и в прозе.
Гавриил Васильевич был знаком со всем литературным Петербургом, и поэтому чтение каждого произведения он сопровождал рассказом о том, что узнал об авторе и об этом произведении от знакомых.
Очень картинно рассказывал Гераков о басне Крылова «Волк на псарне», которой славный баснописец отозвался на посылку Наполеоном в Тарутино, к Кутузову, бывшего французского посла в России графа Лористона с предложением мира.
Наполеон, поняв, что вступление в Москву было роковой ошибкой и что его армия скоро будет совершенно неспособна на боевые действия, решил обмануть Кутузова. Перед общественным мнением он старательно разыгрывал роль великодушного победителя — ведь он находился в завоеванной столице противника! План Наполеона был прост: он заключает мир, его армия получает передышку, в это время подтягиваются из Франции резервы, и тогда он снова может продолжать войну. «Мне нужен мир во что бы то ни стало!» — сказал Наполеон Лористопу.
Но Кутузову была ясна хитрость Наполеона, он понимал, что не великодушием, а слабостью продиктовано его предложение о мире, знал он и то, что мирный договор будет нарушен Наполеоном, как только он соберет силы и будет способен продолжать войну: так уже бывало не раз.
И Кутузов отказался вести какие-либо переговоры о мире.
— При отправлении меня в армию, — ответил он Лористону, — слово «мир» ни разу не упоминалось. Меня проклянет потомство, если меня признают первым виновником какого бы то ни было примирения: таков действительный дух моего народа.
Крылов, написав басню, отправил ее Кутузову. Кутузов получил ее уже после победного сражения под Красным.
Перед строем войск, поблагодарив солдат и офицеров за храбрость, Кутузов сказал:
— Вот послушайте, господа, какую побасенку прислал наш баснописец Крылов.
Он начал читать басню вслух.
Дойдя до слов Ловчего: «Ты сер, а я, приятель, сед», Кутузов снял фуражку, обнажив белую, седую голову. И дочитал до конца, не надевая фуражки:
«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
Однажды, в январе тринадцатого года, Гераков явился в класс торжественный и сияющий. К груди он прижимал небольшую книжечку.
— Господа, то, о чем говорит весь Петербург, наконец-то стало доступно всем, — торжественно сказал он, потрясая книжкой над головою. — Это — замечательнейшее произведение нынешней нашей словесности и по праву встанет рядом с самыми лучшими произведениями минувших времен. Это — поэма Василия Андреевича Жуковского «Певец во стане русских воинов». Я прочту ее вам, но прежде должен сказать несколько слов. Поэт писал ее у костра Тарутинского лагеря и читал написанные строфы товарищам, героям этой замечательной поэмы, тут же у костра. Вся армия твердила эти стихи, и мы узнали их от приезжавших из армии, а ныне поэма Жуковского издана книгою.
Гераков начал читать.
Кадеты слушали, жадно воспринимая строку за строкой. Музыка стихов завораживала, каждая строфа вызывала в сердцах ответное волнение. Поэт писал о том, о чем они думали сами, чувствовал то, что чувствовали они, и говорил теми словами, которыми сказали бы и они, если бы сумели:
На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Далее певец вспоминал о подвигах славных предков россиян — Святослава, Дмитрия Донского, Петра Первого, Суворова, затем переходил к героям нынешней войны — Кутузову, Ермолову, Багратиону, Раевскому, Денису Давыдову, Милорадовичу, атаману Платову…
Никогда еще стихи не оказывали такого воздействия на кадет. Они вдруг перенесли юношей на военный бивак, с палатками, кострами, тревожной тьмой, ржаньем коней, бряцаньем оружия. И каждый из них почувствовал себя воином, сидящим возле костра, и как будто это им пел певец военную песню, как в древние времена певал славянским богатырям вещий Боян…
Само построение поэмы призывало слушателей присоединить свои голоса к голосу певца. Сначала шло несколько строф от имени певца, затем вступали воины, повторяя последние строки.
Первые повторения Гераков читал один, но две-три строфы спустя, когда стало ясно строение поэмы, он в нужном месте взмахивал рукой, и кадеты в восторге вступали в чтение:
Отведай, хищник, что сильней.
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!
5
Петр Степанович Железников — преподаватель русского языка в младшем и среднем возрастах, кроме своей прямой учительской должности, исполнял еще и должность библиотекаря.
Кадет, желавший получить книгу из корпусной библиотеки, должен был заявить об этом Железникову. Если книга в библиотеке имелась, то Петр Степанович шел с кадетом в библиотеку, отпирал нужный шкаф, доставал книгу и, записав в свою тетрадку фамилию кадета и название книги, выдавал ее читателю. Самим же кадетам открывать шкафы и рыться в книгах не позволялось, они вынуждены были ограничиваться лишь рассматриванием книжных корешков сквозь стеклянные дверцы.
Железников занял библиотекарскую должность около пятнадцати лет назад, как раз незадолго перед памятным посещением корпуса императором Павлом, после которого государь, возмущенный тем, что в корпусе основное внимание уделялось изучению наук и языков, а не фрунту, приказал: «Аббатов (так он называл преподавателей, среди которых было много иностранцев) прогнать, корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых».
С тех пор направление преподавания в корпусе резко изменилось, военные науки и строевая муштра заняли в нем главное место.
После этих преобразований читателей в корпусной библиотеке год от году становилось меньше, кадеты вполне удовлетворялись учебниками. Да и новыми книгами библиотека почти не пополнялась, и любители чтения, которые, несмотря ни на что, все-таки водились в корпусе, доставали новинки где угодно, только не в корпусной библиотеке.
Поэтому Железников отпирал шкафы все реже и реже, и чем дальше, тем больше портился у него характер и тем усерднее прикладывался он к штофу с водкой. А ведь он знавал лучшие времена. В восьмидесятые — девяностые годы, когда он сам учился в корпусе, литература в нем весьма почиталась, преподаватели и кадеты гордились тем, что знаменитые писатели Сумароков и Херасков — питомцы корпуса. Но это было давно… От тех времен остались на стенах библиотеки портреты Сумарокова и Хераскова да воспоминания, до которых никому не было дела.
Однажды в предвечерний свободный час, перед звонком ко сну, когда кадеты разбредались по спальням и в коридорах корпуса становилось пусто, Железников шел по коридору и вдруг услышал, как кто-то читал стихи, подвывая и скандируя размер. Он остановился, прислушался. На него повеяло воспоминаниями юности. Железников вздохнул и тихонько пошел на голос.
Кадет не замечал его. Он стоял возле окна, глядел в темноту улицы, кое-где светящуюся слабыми желтоватыми и красными пятнышками фонарей и окон, и бормотал стихотворные строки. Отдельные связные фразы прерывались поставленными для размера «та-та-та, та-та, та-та-та».
«Сочиняет или забыл текст?» — подумал Железников и вдруг по следующей прорезавшейся строке: «Отчизне кубок сей, друзья!» — узнал «Певца во стане русских воинов». И когда кадет снова запнулся, подсказал:
— Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
Кадет повернулся к Железникову.
— Хорошие стихи, Рылеев. Их стоит выучить на память. Мы в свое время знали оды Державина и Кострова, которые так же поднимали дух воинов, как ныне Василий Андреевич Жуковский. И воины чтили поэтов. Сам Александр Васильевич Суворов уважал и жаловал поэзию. Поэзией воспламенялся он перед боем. Я слышал своими ушами, как рассказывал он, что читал в боевом шатре «Песни Оссиана» в переводе Ермила Ивановича Кострова. «Оссиан — мой спутник, меня воспламеняет, — сказал наш величайший полководец. — Я вижу и слышу Фингала, в тумане на высокой скале сидящего и говорящего: «Оскар, одолевай силу в оружии! Щади слабую руку». Честь и слава певцам! Они мужают нас и делают творцами общих благ». Вот что говорил Александр Васильевич Суворов.
— Петр Степанович, в нашей библиотеке есть «Песни Оссиана»? — спросил Рылеев.
— Есть, ежели не пропали…
— Дайте мне.
— Когда? Сейчас?
— Сейчас.
Железников посмотрел на Рылеева и сказал:
— Пошли в библиотеку.
Кровать Рылеева стояла возле ночника, горевшего всю ночь. И всю ночь он читал «Песни Оссиана» — книгу, которая вдохновляла самого Суворова.
Суровая поэзия древних кельтов производила большое впечатление, и даже тяжеловатый устарелый язык перевода, вызывавший у ревнителей нового слога насмешки, здесь был так естествен, что Рылеев невольно вспомнил слова Геракова о том, что есть предметы, о которых нельзя говорить обыкновенным слогом.
Проснувшийся до звонка Фролов удивленно спросил:
— Ты, Рылеев, всю ночь читал?
— Да.
— А что за книга?
— «Песни Оссиана».
— Ведь это же какая-то старая скучища!
— Я тоже так думал, пока сам не прочел. Вчера у меня интересный разговор был с Петром Степановичем, про Суворова. Он ведь знавал его…
И Рылеев пересказал другу, что услышал от Железникова.
— Знаешь, дай я тоже почитаю этого Оссиана, — попросил Фролов.
— Бери. А я сегодня попрошу у Петра Степановича стихи Кострова.
— Я с тобой пойду, вдруг Железников еще что станет рассказывать про Суворова.
Железников не удивился, когда к нему на следующий день подошли Рылеев и Фролов. Он знал, что пробудившаяся к литературе душа уже более не уснет, и ждал Рылеева.
Петр Степанович теперь пытался вспомнить, каким был Рылеев на его уроках. Кажется, особого внимания не проявлял, но и злостным неучем не был, кое-что слушал с интересом… Да, конечно, любознательность в нем была. Однако всему свое время, и пробуждению души — тоже.
Высокие шкафы библиотеки уходили под потолок. Золоченые корешки многотомных французских и немецких изданий плотным нерушимым строем заполняли полки. Этих книг не трогали много лет: Руссо, Вольтер, Лессинг, Дидро, д’Аламбер и другие вольнодумные авторы прошлого века, хорошо представленные в библиотеке, не входили сейчас в число рекомендованного чтения кадет, да и языками кадеты после изгнания «аббатов» уже не владели в той степени, чтобы читать что-нибудь, кроме учебника.
Рылеев спросил стихи Кострова.
— Должны, должны быть сочинения Ермила Ивановича, — сказал Железников, открыв шкаф с русскими книгами и перебирая их. — Собрания сочинений, что во втором году печатано, не покупали, а отдельные издания од и эпистол имеются.
Железников отобрал с десяток тоненьких книжечек и отдал их Рылееву.
— За что Суворов почитал Кострова? — спросил Фролов.
— За то, что он был служителем поэзии, а поэзия заключает в себе важнейшие поучения человеку. Костров преподнес фельдмаршалу оду. Вот эту, — добавил Железников, вытягивая из пачки книжек в руках Рылеева одну. — И Александр Васильевич ответил на нее также стихами. Он писал много стихов, но не печатал их, ибо считал свой талант слишком малым. Вот как он ответил Кострову:
Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь,
И обожаю все, что ты в меня вперишь:
К услуге общества, что мне недоставало,
То наставление твое в меня влияло.
Суворов уважал даже само звание поэта. Рассказывают, что однажды какой-то молодой офицер на обеде у Суворова сел за стол не по чину. А надобно сказать, Суворов строго соблюдал чинопочитание и не любил выскочек. Заметив, что офицер занял не подобающее ему место, Александр Васильевич напустился на него: «Ты, говорит, зазнайка, не почитаешь старших!» — и пошел, и пошел… Бедный офицер ни жив ни мертв, в свое оправдание слова не может вымолвить. Один полковник пожалел офицера и говорит Суворову: «Ваше сиятельство, сей поручик — пиита, и сел нарочно поближе к вам, чтобы, приглядевшись, изобразить затем в стихах». Суворов сразу переменился. «Коли так, говорит, извини, братец, и иди сюда поближе, оттуда ты не много увидишь и услышишь. Поэту любой чин мал».
В одном из шкафов стояли книги в разных переплетах, на корешках которых были вытиснены русские буквы. Рылеев, как ни приглядывался, не мог прочесть, что на них написано.
Пыль, покрывавшая эти книги, свидетельствовала, что их давно не доставали с полок.
— А что за книги вон там стоят? — спросил он Железникова, который, окончив говорить, молчал с задумчивой полуулыбкой.
— Какие?
— Вон те.
Железников посмотрел на указанные Рылеевым полки и вздохнул.
— Это не книги, — коротко ответил он и отвернулся. Но потом встал со стула, подошел к шкафу, долго отпирал его и, наконец отперев, вынул из разных мест три тома. — Это работы кадетов. В наши времена был такой обычай, лучшие переводы, сочинения, хороший выбор мыслей, изречений и отрывков из классических произведений, сделанные кадетами и одобренные преподавателями, удостоивались переплета.
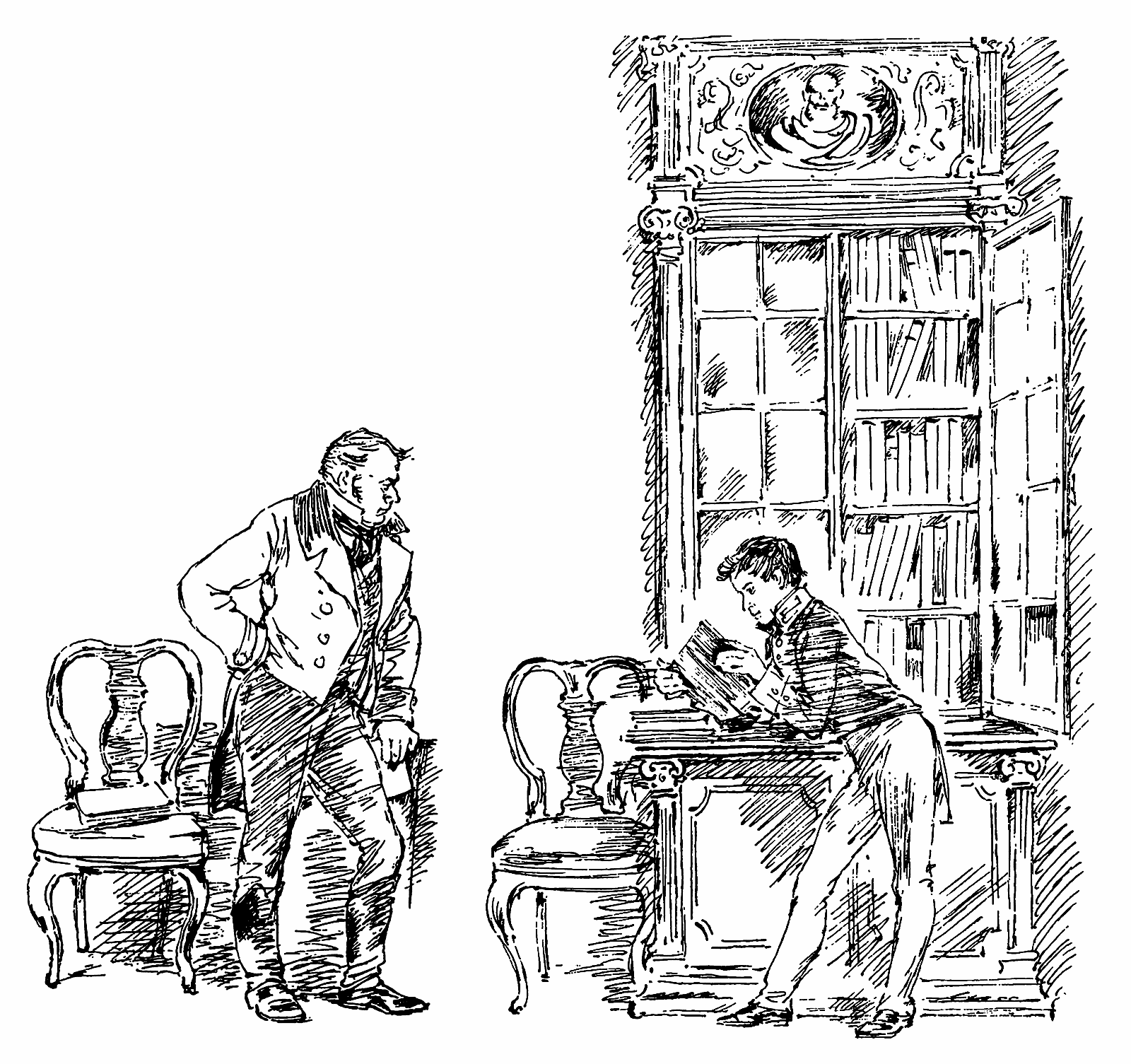
Петр Степанович раскрыл один из томов и дал Рылееву, другой дал Фролову. Рылеев стал перелистывать страницы, исписанные старинным, но четким почерком. Сначала шли выписки из Жан-Жака Руссо о выгоде добродетельной жизни, затем собственное сочинение кадета «Письмо отцу раненого сына с поля сражения».
«Я ранен, но кровь моя лилась за отечество, и рана увенчала меня лаврами!» — читал Рылеев. В конце сочинения стояла подпись: «Сергей Глинка».
— Сергей Глинка! — воскликнул Рылеев удивленно и радостно.
— Да, Сергей Николаевич Глинка, — сказал Железников. — Он читал это сочинение на экзамене, и Михаил Илларионович Кутузов, прослушав его, сказал автору похвальные и пророческие слова: «Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем».
Между тем Фролов тоже застрял на одной странице и подмигивал Рылееву. Тот заглянул в книгу: под переводом отрывка из романа Фенелона «Телемак» стояло: «Перевел Петр Железников».
Железников заметил переглядывание кадетов.
— Да, я переводил, — сказал он, отобрал тома с работами кадетов, водворил их на место и запер шкаф на ключ.
Шли дни, заполненные обычными занятиями. Внешне как будто все оставалось прежним. Но Рылеев чувствовал, что после тех памятных разговоров с Железниковым в коридоре и в библиотеке и после того, как он заглянул в переплетенные кадетские сочинения прежних времен, он переменился. Он садился за уроки и не мог сосредоточиться на задании. Совсем другие слова и фразы шли ему на ум, совершенно не относящиеся к уроку. Слова сочетались одно с другим в какой-то гармонии, фразы выстраивались, словно сложный музыкальный мотив, в котором пели трубы, гремели литавры.
Рылеев взял чистый лист бумаги и начал записывать звучавшее в нем слово за словом, фразу за фразой.
«Низойдите, тени Героев! низлетите к нам на крылиях из Виталища доблести! низлетите разделить радость нашу!.. Мы прогнали сильного с полей отечественных; истребили неисчетные полчища его… Низлетите, тени Героев, тени Владимира, Святослава, Пожарского!.. Оставьте на время райские обители! Зрите и дивитесь славе нашей!..
Подобно робким еленям, преследуемым от звероловов, утекали враги наши из Москвы златоглавой… Было время, в которое враги сии славились своею храбростию; но время сие пролетело и исчезло, подобно как пролетает звезда по синему небу и исчезает со мраком ночи.
Возвысьте гласы свои, Барды! Воспойте неимоверную храбрость воев Русских! Девы красные, стройте сладкозвучные арфы свои; да живут герои в песнях ваших!..»
Получалось похоже на Оссиана. Рылеев убрал листок в стол.
Этот листок не давал ему покоя. Он перечитывал написанное, переменял слова и их порядок и вдруг заметил, что его сочинение обретает стихотворную меру. Стихотворные строчки выступали, как предметы в густом, но уже редеющем тумане: «Владимир, Минин и Пожарский…»; «Так русские всегда любили, и так Отечество хранили…».
Это были стихи.
6
Русская армия шла по Германии. Взяты Дрезден, Лейпциг, Берлин. Немцы встречали русских солдат как освободителей.
Кутузов за Бородино получил чин фельдмаршала, за изгнание Наполеона из России — титул князя Смоленского. Никогда еще в России военачальник не пользовался такой широкой, поистине всенародной известностью и любовью, как Кутузов.
С именем Кутузова связывали все победы. Военные действия развивались по плану, составленному им, но сам Кутузов был тяжело, неизлечимо болен. 28 апреля он умер, за границей России, в Бунцлау.
Как завещание остался его приказ по армии, данный сразу после перехода границы России:
«Храбрые и победоносные войска!
Наконец вы на границах империи. Каждый из вас есть Спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем.
Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят нам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед; два месяца сряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских; тысячи падали разом и погибали.
Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его.
Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница вышнего праведно отмстила их несчастие.
Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России.
Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восклицать: непобедимо воинство русское в боях и подражаемо в великодушии и добродетелях мирных! Вот благородная цель, достойная воинов, будем же стремиться к ней, храбрые русские солдаты!»
Этот приказ, отпечатанный отдельным приложением к газетам, Рылеев вложил в любимую книгу «Жизнь Суворова», приобретенную три года назад на деньги, подаренные отцом в последнее его посещение сына, и хранил как одну из самых заветных драгоценностей, время от времени перечитывая.
Таким и должен быть настоящий воин: храбрым в бою, беспощадным к вооруженному врагу и великодушным к поверженному.
Таким был для Рылеева Кутузов, и в будущей своей военной службе он хотел походить на Кутузова.
Неделю спустя после того как Рылеев обнаружил в своем сочинении стихотворные строки, он на трех тетрадных страницах переписал набело получившееся стихотворение.
Эти странички он не оставил в столе вместе с учебными тетрадями, а сложил вчетверо и убрал в карман.
После занятий Рылеев вызвал Фролова в коридор и, заведя его в дальний конец, к спальням малолетнего отделения, где в это время было уже пустынно и тихо, молча дал ему листки со стихами.
— Что это? — спросил Фролов.
— Я стихи сочинил.
— Ты? — недоверчиво спросил Фролов и стал читать, а прочитав, изо всей силы хлопнул Рылеева по плечу:
— Здорово! Покажи Греку, и он то же скажет, если от зависти не лопнет!
— Да неудобно как-то…
— Ладно, тебе неудобно, а мне удобно.
На первом же уроке, едва только Гераков уселся за столом и утвердил перед собой книгу, Фролов встал и громко сказал:
— Гавриил Васильевич, Рылеев сочинил оду «Любовь к отчизне» и хочет слышать о ней ваше мнение.
Гераков заинтересовался:
— Оду сочинил? Давай ее сюда, Рылеев.
— Гавриил Васильевич, что вам глаза утруждать, разрешите прочесть ее вслух.
— А почему ты, Фролов, говоришь за Рылеева?
— Он смущается.
— Ну, ладно, читай, — махнул рукой Гераков.
Фролов развернул листки и начал читать.
— Значит, ода «Любовь к отчизне»:
Где алтарей не соружают
Святой к отечеству любви?
<И долгом> где не почитают
Питать святой сей жар в крови?
. . . . . . . . . . .
Но римских, греческих героев
В любви к отечеству прямой
Средь мира русские, средь боев
Затмили давнюю порой…
Пока Фролов читал, все с интересом смотрели на Рылеева, который, побледнев, неподвижно глядел куда-то в пространство поверх голов.
Фролов замолчал.
Все повернулись в ожидании к Геракову.
Гавриил Васильевич сидел за учительским столиком, облокотись и прикрыв ладонью глаза. Он не изменил позы и после того, как окончилось чтение оды. Конечно, он чувствовал на себе взгляды класса и знал, что от него ждут решающего слова. Гераков широким картинным жестом отвел ладонь от глаз, поднял голову, встал, вышел из-за стола, поднял руку, как поднимал, когда читал стихи, и хриплым голосом — он волновался — сказал:
— Рылеев, поди сюда!
Рылеев подошел.
Гераков продолжал:
— Рылеев, я приветствую тебя как поэт поэта!
Он обнял Рылеева и трижды поцеловал. На его глазах блестели слезы.
То, что среди них объявился поэт, признанный Гераковым, книги которого все знали, наполнило кадет гордостью и обернулось бурной вспышкой желания сочинять.
На уроках и в свободные часы по разным углам сидели над тетрадями сочинители. Даже те, кто до этого терпеть не мог писать классные сочинения, теперь первым делом брались за них.
Учебные сочинения вроде «Письма маменьке от сына, живущего в деревне» или «Письма дядюшке, страждущему в болезни в день его ангела» под перьями кадет превращались в замысловатые рассказы, а обычные описания «Зима», «Лето», «Озеро» — в лирические повествования.
Геракову сразу прибавилось работы. Сначала он благосклонно одобрял всё, затем чаще и чаще стал поругивать:
— Смыслу не вижу! Жестко! Тебе чувства благодарности выразить надо, а ты пишешь про какую-то корову.
— Так я, пишучи письмо, представляю, что в окошко смотрю и вижу пасущуюся на лугу корову и пастушка, играющего на свирели.
— Так ты же с рождеством поздравляешь! По снегу, что ли, твой дурак пастух корову пасет?
Однако подобные неувязки не смущали неопытных сочинителей, и они в желании писать красиво, описывали «сияние солнца в полночной тьме», «дикого африканца, сидящего под елью», и прочие несообразности.
Всеобщее сочинительство продолжалось с месяц, затем утихло. Пишущих осталось всего человек десять, но интерес к их сочинениям со стороны товарищей не пропал.
Первым среди сочинителей был признан безусловно Рылеев. Ему несли на суд свои произведения остальные.
Не бросили писать Фролов и Боярский. Они сочиняли преимущественно стихи. Зато обстоятельный Боборыкин только прозу.
По примеру кадет девяностых годов решили составить тетрадь из лучших теперешних сочинений.
Открывалась она одой Рылеева «На погибель врагов» и его же «Посланием к Ф.» (по примеру журналов адресат послания был обозначен одной буквой). Фролов дал рассказ «Пришествие зимы», Боборыкин статью «Каким образом Россияне поступали во всех веках при нашествии врагов». Было еще несколько стихотворений, все хуже рылеевских, но их включили только ради того, чтобы не отпугнуть авторов от этого литературного предприятия, потому что Рылеев с Фроловым не намеревались ограничиться одной тетрадкой и предполагалось в будущем выдавать их регулярно наподобие журнала.
7
Корпусному увлечению литературой не остались чужды и многие родственники кадет. Теперь, приходя в корпус на свидание, они приносили не только гостинцы, но также последние номера журналов, и среди сообщаемых новостей не последнее место заняли новости литературные.
Однажды Фролову брат-чиновник принес сатиру на современных поэтов, ходившую по Петербургу в списках. Называлась она «Видение на берегах Леты» и приписывалась Ивану Андреевичу Крылову, но, как оказалось потом, необоснованно: эту сатиру сочинил молодой поэт Батюшков. Сатира высмеивала поэтов-староверов, считавших, что и ныне надо писать так, как писали полсотни лет назад, что современному уху казалось дико и нелепо.
«Видение на берегах Леты» настроило корпусных поэтов на сатирический лад. Рылеев написал свою сатиру на современных поэтов — «Путешествие на Парнас». В ней досталось тем же староверам, в том числе и Геракову.
Но, испробовав сатирический жанр, Рылеев не мог остановиться на одном «Путешествии». Ту же тему он продолжил в «Послании к Фролову». Фролов ответил ему тоже стихотворным посланием и сочинил басню «Мужик». Тогда Рылеев написал басню «Гусь и Змия». В соревнование вступил Боярский, он разразился тремя эпиграммами. Боборыкин пыхтел-пыхтел над подписью к портрету, но, не сладивши с рифмами, сочинил притчу в прозе. И затем басни, эпиграммы, послания, сатиры посыпались как из рога изобилия. Все окружающее вдруг повернулось к кадетам (или, вернее сказать, было повернуто ими) своей смешной стороной. Какой-то бес насмешливости и язвительности вселился в них: товарищи, преподаватели, случаи корпусной жизни стали поводом для неуемного заразительного смеха.
И даже самые тихие, самые благоразумные, самые робкие поддались общему настроению.
Умер старший повар Кулаков, много лет проработавший в корпусе. Рылеев сочинил шуточную поэму на его смерть, в которой изобразил, какими должны были бы быть торжественные поварские похороны: в его описании похорон за гробом сослуживцы-повара шли с кастрюлями и чумичками.
Поэма называлась «Кулакиада», и кадеты считали ее очень остроумной.
Заканчивалась она обращением к Боброву:
А ты! О мудрый, знаменитый!
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленым жиром весь политый,
Единственный герой Бобров.
Не озлобися на поэта,
Тебя который воспевал…
Тщательно переписанную «Кулакиаду» подсунули Боброву, положив на место рапорта, с которым он ежедневно ходил к директору корпуса.
Никто, собственно, не представлял себе, каков будет финал подготовленной комедии, никто не ждал чего-то определенного. Конечно, само собой подразумевалось, что грянет гроза, расследование и наказание — карцер или какая-нибудь другая кара. Но до карцера кадеты надеялись насладиться так, чтобы воспоминания об этих веселых минутах оказались сильнее неминуемых неприятностей.
Но то, что они увидели, совершенно не соответствовало их замыслам.
Бобров вышел от директора понурый и расстроенный, в одной руке он нес лист с переписанной на нем «Кулакиадой», в другой держал синий застиранный платок. Он тихонько всхлипывал и вытирал платком слезы.
— За что?.. За что опозорили? — бормотал он. — Ведь до чего додумались: в стихи вставили… Теперь и на глаза людям показаться стыдно. Э-эх…
Грустным взглядом он посмотрел на кадет, покачал головой и, заплетаясь ногами, пошел в свою комнату.
Корпусные коридоры наполнил переливчатый звон колокольчиков, призывающих на уроки. Кадеты потянулись в классы.
Рылеев пошел со всеми, но перед дверьми класса остановился и, решительно повернувшись, побежал назад.
— Ты куда? — окликнул его Фролов.
— Надо.
В конце коридора показался Железников. Проводив взглядом Рылеева, он удивленно пожал плечами и вошел в класс.
Рылеев остановился перед приоткрытой дверью комнаты, в которой жил Бобров. Просунул голову.
Андрей Петрович сидел, забившись в угол диванчика, и плакал, утирая слезы и сморкаясь в платок.
— Чего тебе, мошенник? — увидя Рылеева, спросил он, всхлипнув.
— Андрей Петрович, это я сочинил…
— Ты? — Бобров оцепенел.
— Я, Андрей Петрович.
Бобров покраснел, тяжело задышал, хватая воздух ртом.
Денщик протянул ему стакан с водой, Бобров отстранил его.
— Ты, ты, ты!.. — запнувшись, он вскочил на ноги, побежал по комнате, наткнулся на стол, чуть не опрокинув его, наподдал ногой стул и закричал. Рылеев никогда не слышал, чтобы Бобров так кричал.
— Разбойник! Каторжник! Совести у тебя нет! Карцер по тебе плачет!
Он раскраснелся, расстегнутый мундир разлетелся, и из-под него выбилась старая исподняя рубашка с заплатой, обметанная крупными и крепкими солдатскими стежками.
— Андрей Петрович, упеките меня в карцер на неделю, на месяц, только простите.
— И упеку! — Бобров взял стакан с водой, отпил немного, вздохнул, допил стакан до дна и почти успокоился. — Нет, ты скажи: за что? Я только желаю знать, за что ты меня, разбойник, осрамил!
— Простите, Андрей Петрович. Я же не хотел вас обидеть. Это же комическая поэма — бурлеск. Все бурлески так пишутся, нарочно, чтобы смешно было…
— Не над всем смеяться можно… Ни я, ни Кулаков, царствие ему небесное, не заслужили того, чтобы над нами смеялись… Повар он был замечательный. Какой горох при нем был! А картофель! Унес в могилу секрет. Сколько ни старались наши повара, а не могут по-настоящему стереть картофель, чтобы с ложки не тек, а сползал… Нет, не могут!.. Ты садись на стульчик, в ногах правды нет, — кивнул он Рылееву. — Садись.
Рылеев сел.
— А какой человек хороший был Кулаков, — продолжал Бобров. — Честности удивительной… О вас заботился… Заболел, говорю ему: «Иди, Васильич, ложись, отдохни», а он мне: «Обед надо довести… Как же без обеда…» Так и не пошел… Так у плиты и помер… Разве над этим можно смеяться?
— Нельзя.
— На́ вот твое сочинение. — Бобров брезгливо кинул Рылееву листки с «Кулакиадой» и плюхнулся обратно на диван.
Рылеев взял поэму и тут же порвал ее.
Бобров смотрел на него уже одобрительно.
— Ну, ладно, ладно. Иди сюда, садись рядом. Я всегда знал, что ты хороший кадет. — Он всхлипнул еще раз и обнял Рылеева. — Вот что я тебе скажу, Рылеев, и, придет время, припомнишь мои слова. Сам скажешь: «Правду говорил старый Бобёр». Вот что я тебе скажу, Рылеев, брось ты эти глупости, стишки всякие. Литература — это вещь дрянная, и занятия ею никого к счастью не приводят.
8
В двенадцатом году ожидали досрочного выпуска, думая только об одном — как бы скорее попасть в действующую армию, в бой, а обо всем остальном как-то не думалось.
Теперь же выпуски подходили в свой срок, и заранее было известно, когда будут какие экзамены, когда последует приказ о присвоении офицерского звания, когда будет представление во дворце, и все приобрело более спокойный и трезвый облик.
Теперь уже приходилось задумываться и о прозаической стороне офицерской службы: о приобретении обмундирования, обзаведении нужной для будущей жизни посудой и тому подобными вещами.
Выходившего в полк кадета снабжали мундиром от казны. Но давали лишь один комплект, так что один и тот же мундир приходилось носить повсюду — и в пир, и в мир, поэтому он довольно быстро обтрепывался, да и материя, из которой он шился, бывала далеко не лучшего качества.
Белья тоже выдавали один комплект. Поэтому белье да и многие другие мелочи приходилось покупать.
Кому же не на что было все это купить, тех выручал Бобров. Он все свое жалованье тратил на выходное приданое для бедняков: три перемены белья, две серебряные столовые ложки и четыре чайные.
— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, — приговаривал он, — а к чаю могут зайти двое и трое, так вот, чтобы было чем…
Приданое от Боброва принимали без обиды, потому что знали — от чистого сердца дает.
Кто мог, обмундировывались целиком за свой счет. Но обмундирование стоило дорого, и счастливцев, щеголявших в ладно пригнанных мундирах и тонких, но теплых шинелях, приходилось на выпуск один-два человека.
Кадет выпускали в разные роды войск: и в пехоту, и в кавалерию, и в артиллерию, и в инженерные войска, рассудив, куда кто более достоин и к чему проявляет склонность.
За год, за два до выпуска кадеты уже выбирали, куда они пойдут, и в соответствии с этим учились, потому что назначение зависело от успехов в тех или иных науках.
Наиболее подготовленных определяли в конную артиллерию. Чтобы добиться этого назначения, приходилось последние два-три года много и серьезно учиться. Рылеев рассчитывал, что по своим успехам он может быть артиллеристом, и поэтому, думая об экипировке, составил перечень обмундирования конноартиллерийского офицера.
О боже! Как много нужно всего, чтобы обмундироваться!
Мундирный кафтан, или попросту называемый мундир, темно-зеленого сукна (сукно, конечно, хорошего качества), двубортный, с пуговицами красной меди, с светло-оранжевой тесьмой-басоном по воротнику. Мундирных кафтанов требовалось иметь по крайней мере два.
Сюртук для ношения вне службы.
Трое форменных панталон того же темно-зеленого сукна, что и мундир, с пришитыми кожаными крагами, застегивающимися на шесть медных пуговиц.
Жилетки для поддевания под мундир — три, для разной погоды.
Рейтузы для верховой езды с кожаной нашивкой — леей на заду.
Шинель со стоячим воротником. Шинель, кроме того, важно у кого шить, ибо умелый, а потому дорогой портной, не нарушая положенных форм, создавал произведение искусства, а обычный делал шинель, похожую на армяк.
Шарф офицерский — для не имеющих георгиевских наград — полагался с серебряной нитью.
Кивер в конной артиллерии отличался от прочих большим развалом кверху и выгнутостью с боков. Герб на кивере — медный — двуглавый орел, сидящий на двух перекрещенных пушках. Султан — черный, волосяной, кишкеты — витые шнуры, опоясывающие кивер, — серебряные.
Конфедератка для летнего учебного строя, тулуп для зимы, сапоги…
Не говоря уж о лошади и полном комплекте сбруи…
Но даже если лошадь пока взять казенную, обмундирование будет стоить не менее полутора тысяч.
Рылеев понимал, что матушка дать ему таких денег не в силах. Остается обратиться к отцу.
Правда, отец уже три года не отвечал на его письма, но Рылеев знал, что он жив-здоров, служит в той же должности управляющего украинскими имениями княгини Голицыной и живет в своем доме в Киеве.
В последний раз отец приходил в корпус навестить сына с приятелем-генералом, много и громко говорил, от него пахло вином. Рылееву, не избалованному отцовскими посещениями, тот день очень запомнился. Было это три года назад. Более отец, если и приезжал в Петербург, в корпусе не появлялся.
Но тогда Рылеев, наоборот, думал, что теперь-то он часто будет видеть отца.
Федор Андреевич подробно расспросил сына про занятия, какие у него баллы, что какой учитель спрашивал, какие книги сын читал, и когда узнал, что сын учится хорошо и большой охотник до книг и даже потратил на покупку книг деньги, что подарил ему на пасху маменькин благодетель Петр Федорович Малютин, то сказал с большим жаром:
— Учись, сын. Ученье — свет, неученье — тьма. Я ничего не пожалею для этого, никаких денег. Вот тебе десять рублей на книги. Больше с собой нет. Я ужо пришлю из гостиницы. Ты пиши о своих нуждах. На баловство ни копейки не получишь, а на дело — сколько надо, я не поскуплюсь…
После долгих сомнений и размышлений Рылеев решил, что при теперешних обстоятельствах он может обратиться к отцу с просьбой.
Обдумывая письмо отцу на уроках, на гимнастике, на строевых занятиях, в столовой, в свободные вечерние часы и уже лежа в постели до того мгновенья, пока не заснет, Рылеев мысленно писал и переписывал это такое важное для него и для отца письмо.
Надо было написать так, чтобы отец узнал, каковы мысли и жизненные правила сына, чтобы, прочтя письмо, он мог сказать: «Мой сын вырос достойным человеком».
«Дражайший родитель!
Вот уже почти три года, как не имею я об Вас никаких известий. Много писал писем, но не получал на оные ни одного ответа. Конечно, болезнь или какое-нибудь другое злосчастное обстоятельство, думал я, Вам то воспрещает; старался осведомиться об Вас; был у генерала Сергеева, который принял меня как родного сына и успокоил в рассуждении Вас… Но нужда снова меня принудила взяться за перо…
Отечество наше потерпело от врага вселенной, нуждалось в воинах, кои и были собраны. Из нашего корпуса были нынешний год три выпуска, в кои выбыло кадет до 200; да ныне выходит человек 160…
Мои лета и некоторый успех в науках дают мне право требовать чин офицера артиллерии, чин, пленяющий молодых людей до безумия, и который мне также лестен, но ни чем другим, как только тем, что буду иметь я счастие приобщиться к числу защитников своего отечества…
Почему, любезный родитель, прошу Вашего родительского благословения, так и денег, нужных для обмундировки. Вам небезызвестно, что ужасная ныне дороговизна на все вообще вещи, почему нужны и деньги, сообразные нынешним обстоятельствам… По крайней мере тысячи полторы; да с собою взять рублей до пятисот, а не то придется ехать ни с чем.
Надеюсь, что виновник бытия моего не заставит долго дожидаться ответа и пришлет нужные мне деньги…
В заключение, поздравляя Вас с наступающим Новым годом ижелая Вам всяких благ, остаюсь покорнейшим Вашим сыном
К. Рылеев».
Рылеев очень надеялся на силу своего красноречия, но ответ — на этот раз скорый — пришел совсем не такой, какого он ожидал.
С огорчением читал он отцовский ответ. Мало того, что отец не понял его, он обвинил сына в притворстве и корыстолюбии.
«Ах, любезный сын! — писал Федор Андреевич. — Сколь утешительно читать от сердца написанное… Напротив того, человек делает сам себя почти отвратительным, когда говорит о сердце и обнаруживает при том, что оно наполнено чужими умозаключениями, натянутыми и несвязными выражениями, и, что всего гнуснее, то для того и повторяет о сердечных чувствованиях часто, что сердце его занято одними деньгами… Но надобны ли они ему действительно или можно и без них обойтиться?
И ежели я твой родитель, то должен ты из сыновнего уважения, вступая в новое для тебя поприще, не размышляя ни о чем другом, прежде всего броситься в отцовские объятия и верить благонадежно тому, что он с лучшею противу всякого другого благодетеля твоего горячностию приимет, обнимет и благословит по возможности!
Да и приятнее ему будет видеть тебя, вместо двух дорогостоящих, в одном и от казны даемом мундире, и буде ты приедешь теми деньгами, которые на проезд тоже казна жалует… И довлеет ли тебе только одному не пользоваться толикими щедротами от общего нашего отца!..»
Рылеев понял, что его мечте о своем мундире не суждено сбыться…
Матушка тоже была расстроена. Она все-таки надеялась, несмотря на все прежнее, что на этот-то раз Федор Андреевич изменит своему обыкновению и скупости и снабдит сына необходимой суммой, ведь так давно они ни с чем не обращались к нему…
— Ладно, маменька, не печальтесь, — утешал ее Рылеев, — нынче во всем выпуске ни у кого своих мундиров нет, и я обойдусь казенным. К отцу, конечно, придется заехать, поклониться. А на деньги его я не льщусь…
Матушка все же, собрав крохи, к отъезду сына купила шарф получше, белья теплого. Долго прикидывала, кого бы послать с сыном для услуг: рылеевских крепостных отец давно продал, из Батова, когда там всего-навсего восемнадцать работников, никого не возьмешь. В конце концов Настасья Матвеевна остановилась на дворовом Федоре Павлове.
— Хоть он не так расторопен, поскольку уже в годах, зато верный и основательный человек, — говорила она сыну. — А если отец вдруг денег даст, сможешь взять наемного, коли Федор не угодит…
Из почти ста выпускников всего десять человек получили назначение в конную артиллерию: кроме Рылеева, Федя Миллер, Зигмунтович, Егоров и еще шесть человек из другого класса, с которыми Рылеев близкого знакомства не вел.
Фролов, как большинство выпуска, вышел в армейскую пехоту.
Последняя неделя пребывания в корпусе, пока ожидали официального приказа о присвоении офицерского чина, была неделей бесконечных разговоров о будущем, построения планов, пересказов узнанного от родных и знакомых об армейской службе, о порядках в заграничной армии, поскольку выпускали кадет в части действующей армии, находившейся за границей.
Но в то же время эта неделя была неделей прощания с корпусом.
Многие из выпускников пробыли в корпусе более десяти лет. Придя сюда несмышлеными малышами и прожив здесь пору сознательного детства, отрочества и юности, они покидали его почти взрослыми людьми. Все радости и горести были связаны у них с корпусом. Новое, конечно, манило, но и пугало своей неизвестностью. Прежнее же стало перед разлукой милым и дорогим своей знакомостью и привычностью.
Остающимся в корпусе товарищам выпускники дарили свои записи лекций, карандаши, перья, тетради, линейки с удобной разметкой, самодельные шахматы, самодельные перочинные ножички, сделанные из обломков железа и заточенные при многодневном старании о ступень лестницы до остроты бритвы, и другие вещи, в новой жизни им уже совершенно не нужные.
Рылеев большую часть своего кадетского хозяйства отдал Чижову. Тот давно уже не был таким, каким пришел в корпус. Первоначальное покровительство Рылеева помогло ему в самый кратчайший срок пройти путь от зеленого боязливого новичка до настоящего «доброго» кадета. На второй год пребывания в корпусе он уже входил в число отчаянных. Теперь он хладнокровно ложился на лавку под розги, спокойно шел в карцер.
Но сейчас Рылеев опять чувствовал себя по отношению к Чижову более взрослым и опытным.
— Пора и тебе, Чижов, кончать с отчаянностью и браться за ум, — говорил Рылеев. — Годы до выпуска пролетят незаметно. А одной отчаянностью науки не осилишь. По собственному опыту знаю.
— Да я, Рылеев, и так уж думал поднажать, — отвечал Чижов. — Как переведут в гренадерскую роту, с отчаянностью — всё. Пусть младшие отчаянничают. Я, как и ты, буду стараться попасть в конную артиллерию.
— Вот что, брат Чижов, эту тетрадь я хотел взять с собой, но оставляю ее тебе, — расчувствовавшись, сказал Рылеев. — Раскроешь, почитаешь и вспомнишь меня. И разговор наш сегодняшний вспомнишь.
И Рылеев отдал ему тетрадь кадетских сочинений.
Наконец 10 февраля 1814 года последовал приказ о производстве выпускников в чин.
Рылеев, как и все определенные в конную артиллерию, получил назначение в Первую резервную артиллерийскую бригаду, входившую в авангардный отряд Чернышова, который со дня на день должен был достичь границы Франции, перейти ее и далее двигаться на Париж. Пополненные новыми мобилизациями, наполеоновские дивизии теперь снова представляли собой грозную силу, они отходили с упорными боями, иногда останавливали войска союзников и даже порой заставляли их отступать.
В тот день, когда выпускникам объявили приказ о производстве, в Петербурге было получено сообщение о сражении при Бриенне — первой крупной битве на территории Франции. Это сражение выиграл Наполеон.
В корпусе сообщение о Бриенне обсуждали с жаром, особенно оно взволновало выпускников.
— Говорят, армия Блюхера и корпус Остен-Сакена разбиты совершенно, — сказал Фролов. — Один столоначальник в департаменте у брата читал об этом в немецких газетах.
— Да-а, у себя дома француз не тот, что был на Березине, — проговорил Боярский.
— Значит, и на нашу долю еще кое-что останется! — воскликнул Рылеев. Он взмахнул рукой и вскочил на скамью.
Рылеев видел устремленные на него восхищенные взгляды младших кадетов, отыскал в толпе Чижова. Рядом с Чижовым, блестя глазами, стоял его приятель Миша Пущин.
Рылеев снова взмахнул рукой. Он чувствовал непреодолимую потребность высказать всем переполнявшие его чувства и не находил слов, и вдруг слова пришли. Он даже не сразу понял, что читает собственные стихи «На погибель врагов»:
Наполеон до царска сана
Взнесен всевышнего рукой;
Забыл его — и се попранна
Души кичливость гордой, злой!
Желая овладеть вселенной,
Он шел Россию покорить.
О враг, кичливый, дерзновенный!
Булатный меч тебя смирит.
— Ура! — закричали кадеты. — Ура Рылееву!
— Спасибо, товарищи, — дрогнувшим голосом ответил Рылеев. — Следите за газетами: если наш полк будет в деле, на приступе первым — я.
Часть вторая
КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПРАПОРЩИК


1
Никакая радость не может сравниться с той радостью, которую испытывает кадет, окончивший корпус, получивший офицерский чин и едущий в свой полк.
Долгие годы постоянного подчинения строгому и мелочному распорядку, надзор учителей, надзирателей, начальников в один день сменялись опьяняющей свободой. Свободой от уроков, от раннего вставанья, от страха возмездия за неизбежные школьнические грехи.
«К черту! Все — к черту! Старое — забыть! Начинается новая жизнь!» — думал Рылеев, сидя в глубине кибитки, которая везла его к месту службы.
Рылеев ехал и мечтал о том, каким подвигом он прославит свое имя. Как потом, с Георгием, а может быть, и с Анной, раненный, с рукой на черной перевязи, он вернется в Петербург, придет в корпус и при всеобщем восхищении будет читать свои стихи, а в них обязательно будут слова: «Я не поэт, а воин…»
Из состояния мечтательности Рылеева вывел вопрос Федора:
— Кондратий Федорович, может, озябли? Так я тулупчик достану. Маменька велела и его с собой взять.
— Спасибо, Федор, не надо, — ответил Рылеев. Он еще не привык, что у него, как у взрослого самостоятельного человека, есть слуга, и, по правде говоря, смущался его.
Товарищи, назначенные в одну с ним армию, все разъехались из Петербурга для положенного свидания с родными. Он тоже должен был ехать в Киев к отцу, но, уже когда была выправлена подорожная и назавтра отправляться в путь, получил из Киева письмо о том, что отец скоропостижно скончался и погребен.
«Увы, все мы смертны, и вы, мой родитель, перешли из мира бренного в мир вечный», — подумал Рылеев книжно и выспренно, потому что настоящего, острого горя не почувствовал.
Единственно, в чем изменились его планы, это в том, что теперь не надо было по пути к месту назначения заезжать в Киев, а можно следовать прямо в армию. Тем более, в том же письме сообщалось, что на имущество отца наложен арест по иску Голицыных, имениями которых он управлял, и поэтому Рылеев не мог даже вступить в права наследства.
Подорожная офицера, следующего в действующую армию, и уменье Федора ладить со смотрителями почтовых станций способствовали тому, что на станциях только ночевали, а весь день проходил в пути. Подорожная была выписана до Дрездена, где находились штабы многих русских гвардейских частей. Через Дрезден осуществлялась связь между всеми армиями союзников.
При виде огромного, раскинувшегося на обоих берегах реки Эльбы Дрездена, этого необычайно живописного конгломерата тесно стоящих разноэтажных многооконных домов с острыми разноцветными крышами, над которыми возвышались могучий корпус Фрауенкирхе, шпили множества колоколен, башни и стены старой крепости, Рылеев ощутил растерянность и тревогу. До этого все заботы лежали на Федоре: он узнавал, устраивал, и Рылеев чувствовал себя за ним как за каменной стеной, теперь же, как он понимал, наступило время, когда надо все это делать самому. В Петербурге дежурный офицер, отправлявший его, сказал: «В Дрездене узнаете, где находится ваша бригада». Рылеев кивнул, не решившись спросить, у кого надо узнавать.
Коляска прибыла на почтовую станцию.
Рылеев спросил у хозяина гостиницы комнату, но тот клялся, что нет ни одной свободной.
— Эка беда! — сказал Федор. — Мы и в сарае на сене можем переночевать.
Рылеев заговорил с хозяином про сарай. Немец замахал руками.
— Здесь это не принято, — вздохнув, пояснил Рылеев Федору.
Они вышли во двор.
— Ну и ладно, не пропадем, — подбодрил Федор Рылеева и вдруг, сорвавшись с места, побежал за ворота. Несколько минут спустя он вернулся, ведя с собой русского солдата.
— Вот, Кондратий Федорович, мы сейчас у земляка все разузнаем.
Солдат вытянулся.
— Здравия желаем, ваше благородие!
— Здравствуй, приятель. Не знаешь ли ты, где находится штаб резервной артиллерийской бригады графа Чернышева?
— Никак нет!
Рылеев вздохнул.
— Ну, ладно, иди.
— Нет-нет, постой! — окликнул его Федор. — Ты, земляк, здесь уже огляделся, а мы только из России. Посоветуй, куда податься.
— Так его благородию первым делом следует явиться к коменданту, а уж его превосходительство определит его благородие куда следует. Комендатура тут недалеко, эту улицу пройдете, направо повернете, и тут она и есть. Комендант у нас генерал-майор Михаил Николаевич Рылеев.
— Ну спасибо, братец, — сказал Федор, давая солдату полуполтинник.
— Премного благодарны.
Когда солдат ушел, Федор спросил:
— Комендант-то, случаем, не родня нам?
— Кажется, дядюшка. То ли двоюродный, то ли троюродный. Я его никогда не видел.
— Ну и что ж, что не видел? Все одно — родной человек, чего уж лучше! — обрадовался Федор. — Идите скорее, Кондратий Федорович, а я тут вещи постерегу.
Должность коменданта города, переполненного военными, к тому же принадлежащими к армиям нескольких государств и поэтому время от времени неизбежно приходящими в конфликты друг с другом, была довольно хлопотлива, и Рылеев долго просидел в приемной, прежде чем дежурный офицер пригласил его в кабинет.
— Значит, ты сын Федора?
— Да, дядюшка.
— Беспутный был человек, впрочем, царство ему небесное. Чего же ты хочешь от меня?
— Я зашел только засвидетельствовать вам свое почтение как родственнику, дядюшка.
Михаил Николаевич взял документы племянника.
— Бригада твоя сейчас находится возле Базеля, бумаги велю выправить завтра же. Ты где остановился?
— Каналья трактирщик говорит, что свободных комнат у него нет.
— С квартирами у нас плохо. Приезжие у знакомых устраиваются. Ты сейчас погуляй по городу, а вечером приходи ко мне домой. Тут, сам видишь, поговорить некогда.
Вечером, дома, дядюшка разговаривал с Рылеевым душевнее, по-родственному, расспросил про матушку, про Малютиных и других общих знакомых, велел кланяться им, когда Кондратий Федорович будет писать в Петербург.
Потом Михаил Николаевич подробно рассказал Рылееву историю неудачного управления киевскими имениями князей Голицыных Федором Андреевичем, в результате которого получилось убытков на восемьдесят тысяч рублей.
— Впрочем, всем имуществом Федора не пополнить и десятой доли его долга, — заключил Михаил Николаевич. — Жаль, что ты не поехал через Киев, тамошний полицеймейстер — мой приятель, он бы отдал тебе лучшие вещи твоего батюшки.
Когда, уже около полуночи, Рылеев оказался один в отведенной ему комнатушке, то первым делом принялся за письма.
С неизъяснимым удовольствием вывел он в правом углу листа:
«Город Дрезден, февраль, 28 число 1814 года».
Он написал два письма: одно в корпус, другое матушке. Письмо Настасье Матвеевне получилось слишком коротким: привет от дядюшки и сожаление о том, что мог бы от дядюшкиного приятеля — полицеймейстера получить что-нибудь из вещей отца. Все же остальное — описание пути, Дрездена — содержалось в письме в корпус.
Ввиду короткости письма матушке Рылеев вписал в него свои стихи, которые к содержанию письма не имели никакого отношения, но самому автору нравились:
На что высокий чин, богатства,
На что и множество крестов,
В них вовсе, вовсе нет приятства,
Когда душевно нездоров.
Богат будь добрыми делами,
И будешь счастлив завсегда;
Не лезь за суетой — чинами —
И не споткнешься никогда!
2
Саксония, Бавария и Вюртемберг, через которые пролегал дальнейший путь Рылеева, представляли собой сплошной военный лагерь. По дорогам двигались воинские части и обозы, улицы городов заполняли военные мундиры.
После январского и февральского успешного контрнаступления французских войск союзникам в марте удалось остановить французов и выиграть несколько сражений. Силезская армия, в которую входили отряд Чернышева, и Первая резервная артиллерийская бригада, одержала победу при Лаоне. Главная армия разбила французов при Арен-сюр-Об. 13 марта Главная квартира, союзные императоры и командующие армиями приняли решение об общем наступлении на Париж.
В это самое время Рылеев прибыл в расположение бригады. Штаб находился в Базеле, батарея размещалась в окрестных деревнях.
Перед тем как войти в штаб, Рылеев при помощи Федора привел свой мундир в наилучшее состояние, чтобы сразу произвести хорошее впечатление на бригадного генерала. Но их старания оказались напрасными: бригадного не было на месте, дежурный адъютант, куда-то спешивший, подвел Рылеева к писарю, распорядился:
— Туда же, куда и прежних, — и ушел.
Писарь неторопливо списал что-то из документов Рылеева в одну бумагу, потом в другую, убрал их в стол, написал третью и только после этого поднял глаза.
— Вы зачисляетесь в первую роту сверх комплекта. Эту выписку отдадите командиру роты.
Рылеев вышел из штаба с чувством обиды и досады. Во дворе его нагнал конноартиллерийский поручик.
— Не огорчайтесь, камрат, плевать на этих штабных крыс. Я слышал, вы зачислены в нашу роту. Давайте знакомиться: Унгерн-Штернберг — второй. В батарее у нас служит еще мой старший брат Густав.
— Прапорщик Рылеев.
Они пожали друг другу руки.
— Вам у нас понравится. Офицеры роты — отличные люди, добрые товарищи. Ротный тоже отличный офицер, родной брат генерала Сухозанета, командовавшего нашей артиллерией при Лейпциге. Да и мы тоже кое-что можем вспомнить. Ваши два товарища, что прежде прибыли, весьма довольны.
— А как их фамилии?
— Миллер и Зигмунтович.
— Маленький Федя! — обрадованно воскликнул Рылеев и пояснил: — В корпусе так Миллера звали.
— Ну и ладно! — засмеялся Унгерн.
Рылеев тоже засмеялся, от сердца отлегло, и ему стало легко и весело.
Командир роты капитан Петр Онуфриевич Сухозанет, взводные командиры (два брата — оба поручики) Унгерн-Штернберги, капитан Костомаров, поручик Мейендорф, поручик Косовский, подпоручик Гардовский действительно оказались прекрасными людьми. А уж как обрадовался Рылееву Миллер!
Рылеева определили во взвод Мейендорфа. По поводу его прибытия в роту устроили пирушку, и он почувствовал, что отныне для него действительно начинается новая жизнь — жизнь офицера.
Поселился Рылеев в одной комнате с Миллером.
— Ротный наш перевелся в артиллерию из пехоты, — говорил маленький Федя, — видимо, по настоянию брата. Ведь сейчас артиллерия на виду, да и рота наша из лучших в армии. Офицеры — настоящие храбрецы, капитан Костомаров командовал партизанским отрядом в окрестностях Москвы, Унгерн Федор Романович, который тебя привел в роту, отличился при Гальбергштадте… Да ты сам со временем услышишь их рассказы.
— А что должны делать в роте мы, сверхкомплектные? Ты вот чем занят?
— Иногда взводный поручает мне заменить его на учениях. А вообще-то надо самому себе занятие выдумывать. Это в двенадцатом году подпоручику прямо из корпуса давали батальон, теперь же штаб-офицеры командуют ротами. Нам с тобой, судя по всему, долго придется ждать вакансии, а может статься, и не дождемся ничего…
— Скорее бы в дело, там ждать не надо: грудь в крестах или голова в кустах.
— Ждем приказа выступать со дня на день.
Авангарды союзнических армий уже придвинулись к Парижу. Первая резервная артиллерийская бригада все еще оставалась на месте, но веселая и жизнерадостная атмосфера успешного наступления, царившая в войске, захватила и ее.
Ученья проводились по батареям, взводам, капральствам. С утра в лагере слышались команды:
— Орудие! С банником! С картузом! С пальником! Прибить заряд! Наводи, вставь трубку! Орудие! Пали!
Наконец пришел приказ: выступать. Приятно было смотреть, как все горело в руках бомбардиров и фурлейтов, как лихо подводили ездовые лошадей в упряжки, как весело командовали фельдфебели, как сияли лица офицеров.
Поход, поход!.. В душе Рылеева пели серебряные трубы.
Что ни говори, а движущаяся на марше конная артиллерийская рота — внушительное зрелище. Высокие сильные лошади, блестящая тяжелая медь орудий, величавая таинственность закрытых снарядных ящиков, в которых до времени заперт всесокрушающий огонь.
Рылеев ощущал себя частицей этого могучего и гордого организма. Он ехал рядом с Мейендорфом и с нетерпением оглядывался по сторонам.
— Как вы полагаете, — спросил он взводного, — с какой стороны может появиться противник?
— С любой, — ответил Мейендорф. — Тут везде бродят отбившиеся после недавних сражений от главных сил французские отряды.
Вокруг стояла тишина. Зеленеющие весенние поля и сады, тихие деревушки дышали миром и покоем.
На второй день с утра стали слышны далекие пушечные выстрелы.
— Что за сражение? — взволнованно спросил Рылеев Мейендорфа. — Кто там дерется?
Мейендорф пожал плечами и спокойно проговорил:
— Откуда мне знать? Фронтовой офицер знает только свой взвод, а что за дело, в котором ему предстоит помериться с врагом, он узнаёт лишь, когда столкнется с ним нос к носу или когда в него полетят ядра и картечь.
Прискакал адъютант от бригадного генерала с приказом батарее остановиться и приготовиться к бою.
Несмотря на ясно слышимую канонаду, казалось просто невозможным, что здесь, на этих мирных полях, может разгореться сражение. Все было похоже на ученье. Но, наверное, потому и заняла батарея боевое построение четко и без суеты.
На горизонте показался небольшой отряд французской кавалерии.
По орудийным расчетам прокатились эхом быстрые команды.
— Орудие!
— С пальником!
— У зарядного ящика!
— По команде с картузом!
На всадниках уже можно было различить зеленые с красным мундиры и драгунские хвостатые каски.
— Заряжай! Заряжай! Заряжай! — раздались быстрые команды.
Драгуны скакали прямо к батарее, видимо не ожидая встретить тут противника и поэтому не замечая ее. Но вот они увидели русских, остановились и после краткого совещания повернули вдоль дороги.
— Уходят! — воскликнул Рылеев, вскочил на коня и дал шпоры. Конь рванулся и понес. Рылеев выдернул из ножен саблю.
— Прапорщик, назад! — крикнул Сухозанет таким громким голосом, которого Рылеев никогда не слышал у него.

Рылеев натянул повод, но лошадь по инерции еще продолжала скакать. Драгуны уходили. Несколько человек драгун на ходу достали из седельных сумок пистолеты и выстрелили по Рылееву. «Так вот как свистят пули», — быстро подумал он. В этот момент его лошадь остановилась и, подчиняясь поводу, тряся задранной головой, стала разворачиваться.
Французские драгуны скрылись за горизонтом.
Рылеев вернулся к батарее.
— Мы, прапорщик, артиллеристы, а не гусары, — сердито сказал Сухозанет. — Наше дело стрелять из пушек, а не скакать, размахивая саблей. — Но, окончив разнос, улыбнулся. — Поздравляю с боевым крещением: первый раз под пулями. В жизни офицера минута незабываемая. А эполет сохраните, внукам будете показывать.
Рылеев схватился за плечо: правый эполет был прострелен.
Перед вечером к батарее вышел еще один французский кавалерийский отряд, но после нескольких залпов ушел, не предпринимая атаки.
А еще час спустя пришла эстафета о капитуляции Парижа и приказ возвращаться на прежнюю стоянку.
Затем последовали известия об отречении Наполеона, о ссылке его на остров Эльбу и возвращении на французский престол Людовика XVIII.
Русской армии было приказано возвращаться в Россию.
Начался обратный путь войск. Теперь уже оставалось одно занятие — знакомиться с достопримечательностями и по возможности развлекаться.
Проезжая знаменитый водопад на Рейне возле Шафхаузена, Рылеев счел необходимым посетить его. На берегу он увидел живописца, рисующего величественный вид. Живописец оказался русским, звали его Сильвестр Щедрин.
Они разговорились.
— Завидую вам, живописцам, — сказал Рылеев, — вы можете изобразить все это величие и красоту.
На что художник возразил:
— А мне порой думается, что кисть не в силах передать чувства и движения души, которые вызывает созерцание подобного пейзажа. Поэзия, слово в этом счастливее.
На первой же стоянке Рылеев попытался описать виденное на Рейне.
«Утро было прекрасное. Солнце светило во всем своем величестве. Силу падения воды невозможно ни с чем сравнить! Пенящиеся волны с порывом рвутся между скал и, низвергаясь с крутизны утеса, дробятся, образуя над поверхностию воды густое и блестящее облако ныли, соединяются, делятся вновь, вновь совокупляются и воспринимают дальнейшее свое течение. Шум и рев волн, с необычайною силою ударяющихся о кремнистые скалы, оглушает и изумляет зрителя…»
3
Рота находилась в пути уже третью неделю. Ночевали в палатках или у костра. Люди устали, требовалось кое-что починить из снаряжения и амуниции, больным отлежаться. Бригадный генерал обещал остановку недели на две, на три, как только будет к тому возможность. Наконец в маленьком, похожем на десятки пройденных немецких городков Альткирхе и окрестных деревнях квартирьеры нашли место для размещения нескольких рот.
Рылеев получил билет на постой в одной из окраинных улиц. Он увидел довольно большой каменный дом с зелеными запертыми ставнями. Рылеев поднялся на крыльцо, громко постучал железным кольцом, прибитым к двери. Дверь не открывали.
В это время к дому подъехал пехотный прапорщик и на вопросительный взгляд Рылеева сказал:
— У меня билет на постой в этом доме, видимо, как и у вас, но, кажется, ни вам, ни мне на этот раз не придется воспользоваться билетом: похоже, что дом пуст.
Рылеев застучал сильнее. Дверь открылась, на пороге стоял чисто одетый испуганный пожилой немец в белом парике.
— У нас билеты на постой в вашем доме, — сказал Рылеев.
— Прошу, господа офицеры. Прошу, — поклонился немец.
— Почему у вас заперты ставни?
— Иначе нельзя, господин офицер. Я бедный учитель музыки, у меня две дочери. Теперь время военное, проходящие войска составлены из всякого народа…
— С этой минуты можете быть спокойны, — сказал Рылеев, — мы с господином прапорщиком будем вашими защитниками.
В гостиной на диванчике сидели две девушки, лет семнадцати-восемнадцати. При виде офицеров они встали и сделали книксен.
— Мои дочери Эмилия и Флорина, — представил девушек хозяин.
— Прапорщик Рылеев.
— Прапорщик Голубев.
— А недурные девицы, — сказал Голубев, когда хозяин проводил офицеров в отведенную для них комнату и оставил одних.
— Недурны, — согласился Рылеев. — Вам которая больше понравилась?
— Пожалуй, блондинка Флорина.
— А мне, представьте себе, ее черноглазая сестра.
Голубев рассмеялся:
— Значит, здесь мы не соперники и будем помогать друг другу.
Но юные прапорщики были смелы только на словах. Они смущались больше, чем сами сестры, и ограничивались лишь тем, что обсуждали между собой, благосклонно или равнодушно посмотрела нынче Эмилия на Рылеева или Флорина на Голубева.
Когда Флорина пела под арфу и ее голос доносился до комнаты постояльцев, Голубев, прислушиваясь, говорил:
— Это она поет для меня, Кондратий! (Они с Рылеевым перешли на «ты».)
Однажды Эмилия позвала Рылеева сопровождать ее в прогулке. Это неважное событие было истолковано как неоспоримое свидетельство того, что она неравнодушна к юному офицеру.
Рылеев написал стихотворение, посвященное Эмилии:
Краса с умом, соединившись,
Пошли войною на меня;
Сраженье дать я им решившись,
Кругом в броню облек себя!
В такой, я размышлял, одежде
Их стрелы не опасны мне,
И, погруженный в сей надежде,
Победу представлял себе!..
Как вдруг Эмилия явилась!
Исчезла храбрость, задрожал!
Броня в оковы превратилась!
И я — любовью воспылал!
Две недели спустя рота тронулась дальше в путь.
Провожая своих постояльцев, немец пожелал им всяческого благополучия, а на глазах Эмилии, как показалось Рылееву, блеснули слезы.
В его уме складывались строки нового стихотворения:
И я, разлукою сраженный,
Увяну в цвете юных дней!
4
В окрестностях Дрездена батарея снова остановилась на отдых. Сухозанет съездил в штаб бригады. Там ему сказали, что пока, до приказа Главной квартиры, бригада будет находиться здесь, а когда и какой приказ последует, неизвестно.
Рылеев попросил у ротного командира разрешения отлучиться на несколько дней в Дрезден проведать дядюшку. Сухозанет отпустил его без всякой задержки, так как вообще-то ему в батарее делать было нечего, и ротный не знал, чем его занять.
В Дрездене Рылеев явился к дяде.
Михаил Николаевич встретил племянника приветливее, чем в первый раз.
— Ну, в походе ты пообтерся, на офицера стал похож, — сказал он, осматривая племянника. — Тогда-то был чистый цыпленок, а теперь — петушок. Начальник тобой доволен?
— Я полагаю, что доволен. Хотя до сих пор мне не пришлось выполнить сколько-нибудь серьезного его поручения.
— Да-а, если твой Петр Онуфриевич таков же, как и братец его, генерал-майор Иван Онуфриевич, который под Лейпцигом своей артиллерией, можно сказать, много способствовал нашей победе, то тебе повезло на начальника. А поручения… Какие поручения? Взвода еще не скоро дождешься, вакансий не предвидится. Ну ладно, подумаю, куда тебя пристроить, чтобы путь открыть.
Дядюшка сдержал свое обещание и выхлопотал у саксонского генерал-губернатора князя Репнина место для племянника при артиллерийских складах.
Теперь Рылеев, числясь в роте, считался прикомандированным к складам, изредка ездил в артиллерийские части, расквартированные в Саксонии, с разными поручениями. Новая служба оставляла много свободного времени. Оно оказалось очень кстати, потому что Рылеева снова посетило вдохновение.
Он правил стихотворения, сочиненные еще в корпусе, отчего они стали много лучше. «Вот сейчас бы почитать их Боярскому или Фролову», — думал он. Но где сейчас находились друзья, он не знал и не мог им даже написать.
Почти каждый день появлялись в тетради новые стихотворения: элегии, послания, но больше всего эпиграмм на сослуживцев и начальство. Эти эпиграммы принадлежали к тому роду литературы, который назывался «карманной поэзией» и не предназначался для печати. Но Рылеев вполне удовлетворялся одобрением товарищей, которым он читал их.
Все было хорошо: и служба, и товарищи, но вдруг Рылеев заметил, что дядюшка как-то охладел к нему. Кондратий Федорович не мог понять причины, вроде бы никаких проступков и упущений по службе за ним не числится.
Однажды Михаил Николаевич сказал:
— Ты, Кондратий, говорят, стихами занимаешься?
— Сочиняю.
— Как полковник Марин: «Князь Шаховской-то с длинным носом, он болен был тогда поносом»? Или чего почище?
— Льщу себя надеждой, что, во всяком случае, не хуже.
— И на кого же ты стишки свои сочиняешь?
— Некоторые так просто, без посвящения, некоторые, главным образом эпиграммы, на товарищей.
— И на меня, старика, небось сочинил?
— Нет, не сочинил…
Рылеев смутился и покраснел: на дядюшку действительно эпиграммы написано еще не было, но написать ее он собирался.
— Беспокойный для начальства человек был полковник Марин, его и прежний государь не жаловал. Знаешь что, племянничек, бригада твоя на будущей неделе возвращается в пределы отечества, и ты поедешь с бригадой. Так оно будет лучше и для тебя, и для меня.
Уже на пути в Россию Рылеева догнало письмо от матери, посланное в Дрезден.
Матушка писала, что на отцовское наследство рассчитывать не приходится совсем: княгиня Варвара Васильевна Голицына дала законный ход своим претензиям к бывшему управителю. Дома тоже нет денег, и она не может выкупить из арестованного имущества мужа даже свой портрет. И больно ей, что не может она посылать сыну столько денег, сколько хотела бы, и от того страдает еще более…
Хотя письмо было писано четыре месяца назад, Рылеев понимал, что ничего с тех пор не могло измениться. Он представлял себе матушку, как она, помолившись, идет опять к Петру Федоровичу. Ноги не идут, язык не поворачивается, но она, смирив гордость, преодолев стыд, обиняками выпрашивает милостыню. Хотя Петр Федорович и родственник, и душевно расположен к ним, все равно просить нелегко…
Рылеев чувствовал свое бессилие, и от этого ему было очень горько. Он откажется от всех матушкиных посылок, он напишет, что все имеет, что ему ничего не нужно, что казна обеспечивает его всем, и не нужно ему своей лошади, обойдется казенной… Но, даже отказавшись от ее помощи, он из своего скудного жалованья не сможет ей помочь. Что делать? Что делать?
Он взглянул на развернутое письмо, взгляд упал на особенно крупно выписанные слова: «княгиня Варвара Васильевна Голицына», и Рылеев подумал: «О вельможи! О богачи! Неужели сердца ваши нечеловеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая последнее у страждущего!»
5
По возвращении в Россию бригада Рылеева разместилась в белорусском местечке Столовичах, но уже через три месяца был объявлен новый поход.
Первого марта 1815 года Наполеон на пяти небольших суденышках, с отрядом около тысячи человек, покинул остров Эльбу, пристал к южному побережью Франции, высадился в заливе Жуана и двинулся к Парижу. На пути к Наполеону присоединялись гарнизоны всех больших и малых городов. Через десять дней Наполеон был в Лионе, через двадцать, встречаемый многотысячной толпой, восторженно кричавшей «Да здравствует император!», вступил в Париж. Людовик XVIII бежал накануне ночью.
Союзные войска находились вне пределов Франции и при получении известий о возвращении Наполеона не могли сразу же выступить в поход. Ближе всех к Парижу находилась северная группа войск англичан и пруссаков. Она представлялась Наполеону наиболее опасной, и он двинул свои войска навстречу именно ей.
Восемнадцатого июня произошло сражение при Ватерлоо. Наполеон потерпел окончательное поражение. В те дни, когда на поле Ватерлоо решалась судьба Наполеона, русская армия переправилась через Рейн и вступила на территорию Франции.
Рылеев со своей батареей шел теми же дорогами, что год назад.
Однако русской армии в боях участвовать не пришлось. Батарея Рылеева, дойдя до старинного городка Васси на Марне, получила приказ встать на квартиры в городе и в окрестностях.
Ожидали скорого распоряжения о возвращении в Россию. Наполеон находился под арестом у англичан, уже было решено, что он будет сослан на остров Святой Елены, за шесть тысяч верст от Европы.
Однако приказа о возвращении все не было.
Причину этого в батарее узнали в конце июля, когда ротного командира навестил в Васси его старший брат, генерал-майор Иван Онуфриевич Сухозанет, командир гвардейской артиллерийской бригады. Он сообщил, что государь решил перед выступлением наших войск в обратный путь сделать всей нашей армии общий смотр и что уже назначено место смотра — обширная равнина близ города Вертю.
— Господа, — сказал генерал в штабе обступившим его офицерам, — государь придает большое значение этому смотру. Вся диспозиция в мельчайших подробностях разрабатывается им самим. Особенное внимание предложено обратить на церемониальный марш, ибо по нему, как сказал государь, он может видеть выправку людей, и тем самым составить мнение о ревности и прилежании офицеров и смотрении за своими полками командиров.
Вечером, оставшись наедине с братом, старший Сухозанет сказал:
— От этого смотра зависит твое будущее, учти это. Я приехал к тебе нарочно для того, чтобы помочь в подготовке.
Генерал Сухозанет считался в армии одним из самых лучших знатоков фрунта. Его взгляды на обучение подчиненных фрунту давно уже сложились в стройную систему, которой он очень гордился и которую неустанно излагал при каждом удобном случае.
— Одиночная выправка артиллериста, — говорил Сухозанет, — важнейший предмет, ибо артиллерист действует не в строю, а отдельно, и поэтому малейшая в нем неловкость более заметна, чем в других родах войск. Добиваться настоящего вида требуется с обучения опрятно одеваться. Для чего ежедневно приводить на развод трех человек, образцово одетых. Затем действия. Чтобы ездовые и фейерверкеры умели быстро и ловко седлать и управляться с амуницией, требовать, чтобы на каждый развод приводили тщательно осмотренное орудие. А главное — постоянство и усердие в учении. Я завел у себя ежедневные разводы при штабе, на коих приказал под страхом штрафа и наказания неукоснительно присутствовать всем находящимся в наличии офицерам и юнкерам. Кроме ежедневных учений, не менее, чем раз в месяц, необходимо проводить парады.
— Однако вряд ли это нравится офицерам твоего дивизиона, — заметил Петр Онуфриевич.
— Я требую подчинения и выполнения приказа. А нравится или не нравится — меня не касается. Ты свою батарею просто распустил. Поставь себя так, чтобы тебя боялись и почитали. Иначе порядка не добьешься.
Начались ежедневные ученья по два раза в день, почти без отдыха.
Наконец подошел день смотра.
Стопятидесятитысячная русская армия заняла пространство в несколько верст. На холме была построена платформа для государей и сановных гостей.
Александр вместе с австрийским императором, прусским королем, герцогом Веллингтоном и большой свитой объехал части и встал на предназначенном ему центральном месте — на платформе. Но перед церемониальным маршем он неожиданно исчез, и, когда первые колонны двинулись мимо платформы, все увидели, что впереди, самозабвенно салютуя, едет сам русский император.
После смотра стало известно, что особенно доволен государь остался гусарами, уланами и конной артиллерией.
Когда возвращались из Вертю на квартиры, капитан Костомаров сказал:
— Господа, готовьтесь к пирушке, Петр Онуфриевич не останется в долгу за наше старание.
И он не ошибся: в Васси Сухозанет на первом же разводе поблагодарил роту, нижним чинам распорядился выдать по внеочередной чарке, объявил неделю отдыха, а офицеров пригласил на обед.
Обед происходил под открытым небом. Батарейные плотники поставили столы и скамьи, возвели легкий навес. Специально отряженная Сухозанетом Команда ездила в Шампань за вином.
Музыканты играли марши. Особенно часто новинку, прозвучавшую впервые на поле Вертю, «Парижский марш 1815 года».
В начале обеда, как водится, первый тост за государя, далее за государей-союзников, за главнокомандующего, за командира бригады, дивизиона, роты… В конце концов уже и не знали, за кого и за что пьют. Как раздастся за каким-нибудь столом «ура!», так его дружно подхватывают за остальными.
Между тостами Сухозанет сообщил, что батарея простоит на месте, видимо, еще месяца два или три и что офицерам будет разрешена в очередь недельная поездка в Париж.
Это сообщение было встречено также громким «ура!».
6
До Рылеева очередь дошла в начале сентября.
Только очутившись в Париже, Рылеев понял, что никакие описания или рассказы не могут передать того впечатления, которое он производит. Можно изобразить архитектуру Пале-Рояля или Лувра, описать театральное представление или памятник, дать реестр содержимого лавок или меню блюд ресторана. Но все это дает о Париже такое же представление, как добросовестная, хорошо раскрашенная, подробная топографическая карта о местности, которую она изображает. Главное в Париже — и это Рылеев понял сразу — городская толпа, ее настроение, выражения лиц.
Первым делом Рылеев направился в Пале-Рояль и, проходя по саду, стал свидетелем сцены, подобные которой происходили, видимо, по многу раз на дню в разных частях города.
Пруссаки поставили в саду караул. Солдаты громко высказывали по адресу проходящих французов разные шуточки. Один солдат схватил за руку девушку, та закричала, и тотчас собралась толпа человек в двести и угрожающе окружила караул.
Офицер приказал примкнуть штыки и разогнать народ.
Люди разбежались, но через десять минут прусские солдаты оказались окружены толпой раз в пять более прежнего.
Офицер храбрился, но над ним смеялись. Народу между тем все прибавлялось и прибавлялось. Волнение перекинулось на близлежащие улицы.
Рядом с Рылеевым, хмуро наблюдая за происходящим, стоял француз лет тридцати, во фраке, со знаком Почетного легиона и орденом Святого Людовика. Несмотря на штатский костюм, выправка выдавала в нем военного. Правый пустой рукав его фрака был подвернут и пришпилен.
— Мы терпим, сколько можем, но ваши союзники скоро выведут нас из терпения, — вдруг обратился он к Рылееву. — Чего они хотят от нас? Разве им мало бедствий Франции? Кто мы? Рабы, что ли, их? По жребию оружия мы побеждены, но некогда были и победителями. Мы — французы, и у нас есть гордость. Я говорю это вам, господин офицер, потому что русские офицеры и солдаты относятся к нам по-другому. Впрочем, великодушие и благородство свойственны истинно храбрым воинам.
Между тем из-за угла показался патруль Парижской национальной гвардии, направлявшийся к месту происшествия.
Рылеев с французом выбрались из толпы и пошли по улице.
— Мы, французы, считаем своим долгом отдавать дань уважения достойному противнику, — продолжал француз. — В прошлом году, после падения Парижа… Мы сражались, но нас было слишком мало, и мы вынуждены были сложить оружие… Так вот, когда русские войска вступили в Париж и проходили церемониальным маршем мимо государя Александра, один ваш офицер вызвал буквально всеобщий восторг. Это был молодой человек, почти юноша, весь израненный, с повязкой на голове, с подвязанной правой рукой, и, несмотря на раны, он бодро шагал во главе своей роты и салютовал левой рукою. О, это было великолепно! Это было возвышенно! Публика приветствовала его, отовсюду кричали: «Vive le brave!», и женщины бросали ему под ноги цветы. Я потом разузнал о нем у ваших офицеров, и они подтвердили, что этот юноша — человек отчаянной храбрости, в бою под картечью всегда впереди солдат,
и не обернется, будто его и не волнует, идут ли за ним.
— Имени этого офицера вы не запомнили? — спросил Рылеев.
— Как же! Поручик Александр Булатов.
Рылеев схватил француза за руку и крепко сжал ее.
— Спасибо вам, мсье, за добрую весть о товарище! Мы с Булатовым выпускники одного кадетского корпуса, только он вышел из корпуса ранее меня на два года.
— Ваш кадетский корпус может гордиться такими воспитанниками.
На одном из перекрестков они обменялись рукопожатием и расстались. Далее Рылеев пошел один.
Глядя на оживленно разговаривающие группы французов, на сидящие в кофейнях и ресторанчиках компании, он думал о том, что, наверное, здесь зреют будущие заговоры, взращиваются семена возмущения — ведь беспокойство и возмущение в характере парижан.
На Вандомской площади возле знаменитой колонны, воздвигнутой в память победы при Аустерлице, на вершине которой прежде стояла снятая в прошлом году статуя Наполеона, а ныне развевалось знамя с королевскими лилиями, Рылеев увидел знакомый мундир конного артиллериста и очень обрадовался этой встрече, потому что, по правде сказать, чувствовал себя в Париже не слишком уверенно.
— Эй, товарищ! — окликнул он конного артиллериста.
Тот услышал, обернулся.
— Здравствуйте, поручик, — сказал Рылеев, подходя. — Вы не из Первой резервной бригады?
— Из нее.
— То-то я вижу, лицо знакомое. Видимо, встречал вас в штабе. Прапорщик Рылеев.
— Поручик Тимирязев.
— Вы давно, поручик, в Париже?
— Первый день.
— На неделю?
— На неделю.
— Я тоже. И вот не знаю, куда сходить, что посмотреть. Может быть, проведем эти дни вместе?
— Давайте. У меня тоже никакой компании. Сюда-то ехали мы вдвоем с одним измайловцем. Но он богатый человек, пошел кутить, а я ему в этом не товарищ, — просто объяснил Тимирязев.
— У меня тоже карман пуст.
— Значит, увы! — засмеялся Тимирязев. — Придется нам ознакомиться с теми достопримечательностями, которые не требуют тугого кошелька.
Рылеев с Тимирязевым поселились в одной гостинице. Они разработали план ознакомления с Парижем, в который включили посещение театра, музеев, осмотр памятников и замечательных зданий.
— Можно еще посетить мадам Ленорман, — сказал Тимирязев.
— А чем она замечательна? — спросил Рылеев.
— Разве вы про нее не слышали?
— Нет.
— О, это замечательная личность. Она — прорицательница. Наполеон изгнал ее из Франции в восьмом году за то, что она предсказала его падение и реставрацию Бурбонов. Теперь она возвратилась в Париж, и многие ходят к ней, чтобы узнать свою судьбу. Говорят, император Александр тоже встречался с ней.
— Что ж, может, с посещения мадам Ленорман и начнем?
На следующий день, узнав в гостинице адрес знаменитой гадалки, Рылеев и Тимирязев направились к ней.
Ленорман было за сорок лет, худая, в темной шали, накинутой на плечи, она была похожа на какую-то зловещую птицу.
При виде русских офицеров она не выразила никакого удивления, уже привыкнув к таким посещениям.
Глядя на руку Тимирязева, она говорила о скором возвращении домой, счастливой женитьбе, встрече с родителями, небольшом, но достаточном состоянии, которое ожидает его.
Потом протянул руку Рылеев.
Гадалка взглянула на нее и с ужасом оттолкнула, быстро сказав:
— Нет, нет! Вам гадать я не буду.
— Почему?
— Нет, нет!
— Не бойтесь предсказать мне несчастье. Если я буду знать о нем, то постараюсь к нему приготовиться. Очень прошу вас, мадам, откройте мне мое будущее.
Ленорман колебалась. Но Рылеев решительно протянул к ней руку.
Гадалка долго вглядывалась в испещрявшие ладонь линии, потом тихо проговорила:
— Вы умрете насильственной смертью.
— Я погибну на войне?
— Нет.
— Убьют на дуэли?
— Нет, нет, гораздо ужаснее. Не спрашивайте меня более, я вам больше ничего не скажу.
Рылеев принужденно засмеялся:
— Я — воин; мне ли бояться смерти, какова бы она ни была.
Однако выйдя из полутемной квартиры мадам Ленорман на улицу, залитую солнцем и заполненную народом, Рылеев словно очнулся. Тьма квартиры, сама Ленорман, ее невнятное бормотанье показались ему каким-то кошмарным, неправдоподобным сном. Тревога постепенно уходила из его сердца и совсем рассеялась, вытесненная впечатлениями следующих дней.
Еще только собираясь в Париж, Рылеев решил вести записки и, очутившись в нем, точно исполнял свое намерение. По утрам, до того как они с Тимирязевым отправлялись на осмотр достопримечательностей, и вечером, вернувшись в гостиницу, он раскрывал тетрадь и делал записи. Своим записям Рылеев придал форму писем к другу.
«Письмо третие
Г. Париж. 18 сентября 1815 года.
Сегодня день моего рождения; прошлого года провел я оный в Дрездене — и мог ли воображать тогда через год праздновать его в Париже! Вот, друг мой, каковы нынешние обстоятельства! Сегодня здесь, а завтра — бог весть! Помнишь ли, как мы читали Исторические описания славных деяний Рима и Древней Греции? «Это басни!» — восклицал ты часто. Сообрази теперешние случаи с тогдашними, и ты увидишь, что происшествия наших времен более достойны удивления, более невероятны, нежели все до оных в мире случившиеся — и ежели мы не верим чрезвычайным событиям лет протекших, то не знаю, как поверят потомки наши происшествиям, которые происходили при глазах наших. И как поверить, что один ничтожный смертный был причиною столь ужаснейших политических переворотов! Как поверить, что в продолжение не более как десяти лет возрождалось и упадало до десяти государств, восстановлялось и низвергалось несколько монархов! И всё по прихотям одного человека! Как наконец поверить, что сей самый человек, неоднократно повелевавший Судьбе, сам подпал под острие косы сей владычицы Мира!..»
В десять часов за Рылеевым зашел Тимирязев, и они пошли осматривать панораму, представляющую город Кале, по всеобщим отзывам, сделанную так искусно, что она создавала полную иллюзию, будто видишь перед собой с большой высоты настоящий город.
Когда вышли из панорамы, Рылеев сказал Тимирязеву:
— По случаю дня моего рождения приглашаю позавтракать со мной в Пале-Рояле с шампанским.
После ресторана Тимирязев направился в Лувр, а Рылеев вышел на набережную, прогулявшись, забрел в сад Тюльери и сел на скамейке, отгороженной от аллеи подстриженными кустами.
Он был настроен в этот день на размышления.
Блестящие спектакли, богатство музеев Лувра, магазины Пале-Рояля, мосты через Сену, игорный дом с рулеткой (они с Тимирязевым заглянули и туда), сады и бульвары — все это не заслонило первого впечатления: впечатление от мятежного, беспокойного духа парижан осталось самым сильным.
«Почему они так уверены, свободны в поведении, горды? Почему, несмотря на то, что в их столице стоят биваком войска победителей, они всё же сохраняют вольный дух? — размышлял Рылеев. — Видимо, это — прямое следствие революции. Пробужденные ею в душе человека чувства и понятия могут исчезнуть только с его смертью, а пока он жив, никакие перемены судьбы и несчастья не заставят его думать и чувствовать иначе. Он сам может оказаться в цепях, но дух его заковать в цепи невозможно».
За другим кустом тоже стояла скамья, на нее присели два прогуливавшихся господина в щегольских фраках. Один из них был помоложе — лет двадцати двух, другой довольно пожилой. Рылеев, скрытый от них густой листвой, стал невольным слушателем их разговора. Они заговорили по-русски.
Говорил в основном молодой. Видимо, он еще прежде начал развивать мысль, возражая собеседнику.
— …Видя марширующего перед войском государя с таким восторгом, будто он прапорщик, впервые надевший мундир с эполетами, я чувствовал только стыд за него. Думаю, что государи и Веллингтон, которым он так лихо салютовал, в душе смеялись над ним.
— А вы знаете, что он ответил королю прусскому, когда тот похвалил русскую армию?
— Что же?
— Он сказал: «Всему, что вы здесь видите, я обязан немцам и другим иностранцам». Странное пренебрежение к собственному народу!
— Не такое уж странное: он считает подданных не народом, а своими рабами. Обычное отношение господина к рабам. Оно и будет таково, пока у нас существуют крепостные. Однако я полагаю, что это положение должно измениться. Теперь возвратятся в Россию много таких русских, которые видели, что может существовать гражданский порядок и могут процветать царства без рабства, что могут быть умные распоряжения и постановления. Нынешняя война имеет одну особенность, которую стараются затушевать, но не замечать ее нельзя. Я имею в виду тот факт, что в двенадцатом году крестьяне по собственному почину вели партизанскую войну и мужественно бились. Когда неприятель был изгнан, те из них, которые были крепостными, вполне естественно думали, что после всего, что они сделали ради общего освобождения, имеют право и на собственную свободу. Крепостные некоторых местностей не хотели признавать право своих господ на них, и, надо сказать, местные власти и помещики благоразумно не решаются пока прибегать к насилию ради утверждения этого своего права. Поэтому теперь освобождение крестьян от крепостной зависимости мне кажется естественным и весьма легким шагом, который должно совершить наше правительство, если желает предупредить серьезные беспорядки.
Собеседники поднялись и пошли дальше. Рылеев смотрел им вслед. Молодой шел, прихрамывая и легко опираясь на трость, и продолжал горячо что-то говорить.
Вернувшись из Парижа в расположение батареи, первое, что увидел и услышал Рылеев, были марширующие в облаках пыли группы солдат и надсадные фельдфебельские голоса, несущиеся с плаца:
— На пле-чо! Слушай на караул! Тесак в руку! Назад на крючках! Вперед!
Рылеев заехал в штаб, там был только дежурный — поручик Гардовский.
— Все на учениях, — сказал Гардовский. — Как придет Петр Онуфриевич, доложу о вашем возвращении, будьте спокойны, идите отдыхайте.
Рылеев вошел в палатку, сбросил сапоги и завалился на кровать.
Вскоре пришел Мейендорф, красный и мокрый от жары.
— Ох и погонял нас сегодня Петр Онуфриевич! — сказал он, отдуваясь.
— Зачем столько мучений, и главное — безо всякой надобности, — ответил Рылеев.
Мейендорф опешил:
— Как без надобности? Приказ: производить ежедневные учения.
— Зачем?
— Как зачем? Вдруг приедет командир бригады с инспекторским смотром или даже сам государь!
— Только из-за этого убивать целые дни? Мучить людей? Не вижу в этом смысла. Когда готовились к боям, в учении был смысл — «трудно в учении, легко в бою», теперь же война кончена.
— Война войной, но распоряжения начальства мы обязаны выполнять.
— А если распоряжение лишено здравого смысла?
Мейендорф поднял вверх палец и назидательно произнес:
— Мы обязаны не смысл искать в распоряжениях начальства, а неукоснительно и точно выполнять их.
— Но я не могу не думать о смысле, и когда не вижу его, то не могу и исполнять, я не кукла, а человек.
Мейендорф покачал головой.
— Ох, трудно тебе будет служить, Кондратий Федорович, с такими взглядами на службу…
7
В начале декабря бригада вернулась в Россию. Перезимовали в деревнях в пограничной с Пруссией Виленской губернии, затем получили распоряжение военного министерства о перемещении бригады в центральную Россию, в Воронежскую губернию.
Офицеры были рады новому походу. Он вносил разнообразие в надоевшую монотонную жизнь, и, кроме того, на новом месте, надеялись они, будет веселее, чем в глухих литовских деревнях.
Бригада со всем обозом двинулась по назначенному маршруту. На путь до места назначения было положено четыре-пять месяцев с месячной стоянкой в середине маршрута.
Рылеева Сухозанет назначил батарейным квартирьером, и Кондратий Федорович без сожаления покинул деревню, в которой жил, и еще до выступления всей бригады выехал к месту новой дислокации.
Конечным пунктом маршрута был обозначен Острогожский уезд, и в апреле 1817 года Рылеев приехал в Острогожск — небольшой чистый городок с белым собором, просторной базарной площадью, крепкими домами, среди которых многие были каменные и двухэтажные. К каждому дому примыкал сад.
Когда Рылеев в сопровождении фельдфебеля и двух ездовых солдат въехал на центральную — Вознесенскую улицу, его окутал аромат цветущих вишен и молодой зелени.
«Что за прелесть этот Острогожск, — подумал Рылеев, — хорошо бы здесь остаться».
А тут как раз улица вывела к берегу реки, которая вся сияла под солнечными лучами. Невдалеке в нее впадала другая река, поменьше. На берегу, над водой, возвышались могучие, розовеющие первой листвой дубы.
На улицах было полно народа. Прогуливались барышни, некоторые из них искоса бросали взгляды на Рылеева, и он невольно старался выглядеть эдаким молодцом, бывалым воином.
Проезжая мимо торговых рядов, Рылеев приметил книжную лавку.
Все больше и больше нравился ему этот городок, и к штабу бригады он подъехал в приподнятом настроении.
Однако в штабе ему сказали, что его батарее назначено местопребывание в слободе Белогорье в восьмидесяти верстах от Острогожска. Правда, адъютант бригадного командира, заметив огорчение на лице Рылеева, сказал, что слобода Белогорье большая, ничуть не меньше Острогожска, в окрестностях проживают многие помещики и что там стоять ничуть не хуже, чем в уездном городе.
На следующий день батарея Рылеева подошла к Острогожску. В походном строю, с музыкой и знаменами прошли по улицам до полкового двора.
Офицеры окружили Рылеева, делясь между собой первыми впечатлениями.
— Хорош городок!
— А барышни какие!
— Тут скучать не будешь.
— Кондратий Федорович, давайте скорее билеты на квартиры, только мне, чур, квартиру с хорошенькой хозяюшкой, — протянул руку Миллер.
— Хитрый какой! — засмеялся Косовский. — С хорошенькой хозяйкой билет будем разыгрывать по жребию.
— Не ссорьтесь, товарищи, — сказал Рылеев. — Острогожские красавицы не для нас: мы следуем далее, в слободу Белогорье.
Общий разочарованный вздох был ему ответом.
— Эх, черт! Значит, господа, веселая зима — мимо нас.
— Когда выступаем?
— Послезавтра утром.
— Ну, ладно, хоть день наш. «Стукнем чашу с чашей дружно! Нынче пить еще досужно…»
Подошли офицеры других рот, нашлись знакомые, пошли объятья, расспросы, и скоро стало ясно, что назревает большая пирушка.
Сухозанет, которого на вечер пригласили к бригадному генералу, просил:
— Господа, прошу вас не как начальник, а как товарищ, чтобы к послезавтрашнему утру все были в порядке. Очень прошу вас…
Вечером того же дня Рылеев выехал в Белогорье.
Слобода Белогорье была, конечно, поменьше Острогожска, но назвать ее глушью было бы грешно. В самой слободе и окрестностях насчитывалось несколько помещичьих домов, куда офицеры были тотчас же приглашены и приняты с самым искренним радушием и гостеприимством. Особенно тепло их принимали в доме генерал-майорской вдовы Анны Ивановны Бедраги. Ее сын — подполковник конно-егерского полка, сослуживец и соратник легендарного Дениса Давыдова, Михаил Григорьевич Бедрага — сейчас жил в доме матери, залечивая рану, полученную при Бородине. Он знал наизусть и охотно читал стихи своего приятеля — поэта-партизана, в том числе и многие, нигде не напечатанные, предназначенные, так сказать, для устного бытования.
Но Рылееву и в Белогорье не пришлось надолго задержаться: осенью, при распределении на зимние квартиры, которых в слободе оказалось недостаточно, взвод Мейендорфа получил назначение зимовать в слободе Подгорное, за шестьдесят верст от Белогорья.
Прощаясь с товарищами, сочувствующими уезжающим в неведомую глушь, Рылеев бодро сказал:
— Зато от фрунта на зиму я освобожден, а вас Петр Онуфриевич погоняет.
Хотя Рылеев и надеялся избавиться от фрунта вдали от ротной штаб-квартиры, но все же ехал в Подгорное с сожалением. К тому же и Мейендорф не был тем человеком, чье общество привлекало Рылеева.
8
Слобода Подгорное стояла на оживленном Богучарском тракте и представляла собой обычное украинское село. В ее центре, как положено, возвышалась церковь, базарную площадь окружали каменные лабазы и несколько каменных домов местных богатых купцов, а дальше, вдоль берега мелководной, в жаркие летние месяцы превращавшейся в ручей Россоши тянулись улицы с белеными хатами под золотистыми соломенными крышами, с хлевами, огородами, садочками. Здесь, в Острогожском уезде, центральная Россия сходилась с Украиной, и русские жили вперемешку с украинцами.
Мейендорф занял комнату в купеческом доме, Рылеев предпочел поселиться в хате, но зато жить одному.
Хата быстро приобрела тот вид, который приобретало любое жилище Рылеева, как только он поселялся в нем. На столе, на окнах, на лавках раскладывались книги и бумаги, покрывавшиеся пылью, потому что Федору строго запрещалось трогать что-либо и путать, и он, подметая пол, обходил все лавки и стулья, на которых было сложено что-либо «письменное».
Дня через два Рылеев решил, что пора навестить Мейендорфа.
Поручик устроился с большими удобствами, чем Рылеев, поскольку его хозяин-купец тянулся за господами и дом велся по-городскому.
— Видно, нам стоять тут долго, — сказал Мейендорф, — надо обживать место. Я своего купца и его почтенную половину спрашивал об окрестных помещиках. Некоторые проживают в своих имениях и зиму. С нашей стороны было бы невежливо им не отрекомендоваться. Как, Кондратий Федорович, не приступить ли нам к визитам с завтрашнего Дня?
— Что ж, можно и с завтрашнего.
— Первым в реестре у меня помечен Михаил Андреевич Тевяшов, майор в отставке. Имеет, как говорит мой купец, весьма хорошее состояние, два старших сына — офицеры, служат, две дочери на выданье. Сам сидит безвыездно в имении, как барсук в норе, еще с царствования императора Павла. Небось оскотинился. Но считается здесь одной из первых личностей.
— Значит, завтра к Тевяшову, — заключил Рылеев.
Рылеев с Мейендорфом ехали к Тевяшову настроенные на сатирический лад, но простота и приветливость Михаила Андреевича Тевяшова и его супруги Матрены Михайловны, обрадовавшихся неожиданным гостям и отнесшимся к ним так приветливо, словно они были их родственниками, обезоружили молодых офицеров, и все их сатирическое настроение пошло прахом.
— Матрена Михайловна, распорядись насчет обеда! — сказал хозяин и, крепко пожимая руки Рылееву и Мейендорфу, приговаривал: — Вот разодолжили, что приехали! Вот чудесно! Ведь я тоже в молодости служил. Прошу, прошу в гостиную. Сейчас велю принести трубки. Пока там на стол соберут, покурим, потолкуем. Расскажите мне, сельскому жителю, давным-давно не выезжавшему далее уездного городка, что в мире творится. Вы ведь с армией где-где не побывали…
— Да-а, побывать пришлось во многих заграницах, — важно отозвался Мейендорф. — Повидали много. Вот, помню, однажды под Кирхенгофом…
В открытую дверь гостиной заглянуло из-за притолоки хорошенькое смуглое девичье личико, блеснули темные глазки. Заглянуло и скрылось. Послышались смешки и быстрый шепот.
— Дочери мои, — сказал Тевяшов. — Стесняются. Катерина, Наталья, идите к нам!
Девушки вошли в комнату. Они конфузились, жались, прыскали в кулак.
— Мои дочери, старшая — Катерина, младшая — Наталья.
Мейендорф и Рылеев звякнули шпорами с небрежной лихостью.
Девушки присели в реверансе.
Старшей, Екатерине, было лет восемнадцать. Она была крупная, полнотелая, медлительная. Младшая же, Наталья, еще совсем девочка, смуглая, угловатая.
— Маменька велели просить за стол, — певуче сказала Екатерина.
— Прошу, прошу. — И Михаил Андреевич широким жестом показал на дверь, ведущую из гостиной в столовую.
— У нас, правда, кухня деревенская, городских разносолов нет, — говорила Матрена Михайловна за столом, — зато все свежее, свое. Кушайте на здоровье. Наливочка вишневая нынче удалась.
— Ты, мать, наливочку на потом оставь, — вмешался хозяин, — а подвинь-ка к нам поближе вон тот графинчик с горилкой.
По столу было видно, что в доме Тевяшовых любили покушать и знали толк в еде.
После того как было отдано должное кушаньям и напиткам, разговор за столом оживился.
Михаил Андреевич, придя в великолепнейшее настроение, припомнил стихи Григория Саввича Сковороды — славного поэта и философа. Сковорода сочинял их на ужасающем бурсацком жаргоне, представляющем собой смесь украинского языка с великорусским, а кое-где и с добавлением латыни.
Нехай у тех мозог рвется,
Кто высоко вгору дмется,
А я буду себе тихо
Коротати милый век.
Так минет мене все лихо,
Счастлив буду человек.
Потом Михаил Андреевич пустился в воспоминания, как встречал Григория Саввича в доме своего двоюродного дяди, воронежского предводителя дворянства Степана Ивановича Тевяшова, где тот часто гащивал.
— И до чего ученый был человек, о чем ни спроси, все знает.
— Конечно, знает, коли учился и в Киеве в академии, и в заграничных школах, — сказала Матрена Михайловна. — Ты бы, отец, чем про Сковороду болтать, учителя дочкам поискал.
— Где я тебе в нашей глуши учителя найду? — в сердцах возразил Михаил Андреевич. По его тону можно было понять, что разговор на эту тему возникал у них с Матреной Михайловной не однажды и что он неприятен ему.
— Вот вы, Карл Иванович, Кондратий Федорович, скажите, — продолжала Матрена Михайловна, — разве нынче можно девицам безо всякого образования? Вот вы в разговоре стихи поминаете, имена всякие, из греческой, что ли, истории, потому что учились, знаете. А они ведь не знают ничего такого и разговор даже поддержать не могут. Летом ездили мы в Острогожск. Барышни тамошние, вроде вас, и стихами и именами так и сыпят, так и сыпят, а мои — молчат. Ну, конечно, забили их кузины.
— Маменька, мы тоже стихи читаем, — сказала Катерина.
— Какие же стихи вам нравятся? — спросил Рылеев.
— Про грех, — смущенно ответила она.
— Тоже Сковороды, — пояснил Михаил Андреевич. — Когда-то, в молодости, я в тетрадочку его вирши записал и теперь дочкам отдал. Пусть читают.
— А Дмитриева, Державина творения вам нравятся?
— Откуда ж нравиться, когда в доме их сочинений и в глаза не видывали! — воскликнул Михаил Андреевич.
— Я могу, если пожелаете, познакомить Катерину Михайловну и Наталью Михайловну с классическими образцами нашей словесности, — сказал Рылеев.
— Ах, Кондратий Федорович, премного будем вам обязаны, — ответила Матрена Михайловна.
Возвращаясь домой, Мейендорф сказал:
— Ловко ты, Кондратий Федорович, придумал: в учителя вызвался. А ученицы хорошенькие. И за какой же ты намерен приударить?
Рылеев покраснел.
— Этих видов я не имею.
Уже после нескольких месяцев занятий ученицы Рылеева сделали заметные успехи, и по мере того как расширялся их кругозор, они все с большим интересом стали относиться к тому, что он объяснял. Рылеев, чтобы удовлетворить их любознательность, должен был основательно готовиться к урокам, а это давало новую пищу для собственных размышлений. Особенно любил он уроки словесности и заметил, что младшей сестре, Наташе, они тоже интереснее, чем остальные предметы. Читая стихи, теперь он обращался более к ней, чем к Екатерине, Всегда живая, смешливая, слушая стихи, она становилась тихой, задумчивой.
Однажды Рылеев прочитал на уроке свое стихотворение как пример песни-стансов, написанных от лица возлюбленной, провожающей своего милого в военный поход.
Прости, за славою летящий,
Прости, с тобой душа моя;
Стремись в бессмертья храм блестящий;
Но ах! не позабудь меня!
Читая, он смотрел на Наташу, следил за выражением ее глаз, и эти глаза выражали искреннее восхищение.
— Какие чудесные стихи, — сказала Наташа.
— Вам нравятся?
— Очень. — И она повторила рефрен: — «Но ах! не позабудь меня!» Кто сочинитель этих стихов?
Рылеев смутился, покраснел.
— Их сочинил один мой приятель и прислал в письме…
Правда, Рылеев, как и всякий поэт на его месте, не смог долго скрывать, что стихи написаны им самим. После этого он часто читал на уроках свои произведения. Наташа с восторгом признала в нем поэта.
9
Прошло около двух с половиной лет, как Рылеев со своей бригадой вернулся из последнего заграничного похода в Россию. Он все еще числился сверхкомплектным: вакансий не открывалось и не предвиделось. Поначалу, пока это было для него в новинку, Рылеев с удовольствием предавался традиционному течению мирного быта воинской части, стоящей в провинции: пирушкам, поездкам в ближайший уездный городишко, танцам, ухаживаниям за барышнями — правда, и в танцах, и в ухаживаниях успеха не добился. Два раза дрался на дуэлях, обе окончились бескровно, но доставили немало острых ощущений. Однако мало-помалу все это отошло на задний план, его жизнь наполнилась новым содержанием, и сейчас, оглядываясь на прошлое, он видел, что стал совсем другим человеком, чем был всего два-три года тому назад.
Он размышлял о том, что же послужило причиной перемены, и приходил к выводу, что все вместе и ничто в отдельности.
Еще в корпусе он приохотился к чтению и начал собирать библиотеку, с годами менялся только характер книг, которые он покупал: в корпусе самым ценным своим приобретением он считал жизнеописание Суворова, в прошлом году — сочинения Державина и Дмитриева, а теперь — купленный месяц назад в Острогожске «Дух законов» Монтескье.
В корпусе же узнал о неравенстве, существующем в обществе, о жестокой власти богатства и знатности, о чем писали многие русские и иностранные писатели, порицая мир, в котором богатство предпочитают высоким душевным качествам, а грубая сила торжествует над справедливостью. Все это Рылеев знал и разделял чувства и мнения писателей, но по-настоящему задумался обо всем этом, пожалуй, после того нечаянно подслушанного разговора в саду Тюльери. Он часто вспоминал его. Слова молодого незнакомца заставили Рылеева оглянуться вокруг себя и увидеть в окружавшей жизни те страдания человечества, которые прежде он представлял лишь по книгам. Это было подобно прозрению: Рылееву вдруг открылся новый мир — Россия и русские не в античных одеяниях, как они представали в драмах Озерова и Крюковского, а в своем реальном облике. Политические и экономические работы стали новым его чтением. Увы! Россия, любезное отечество, великое и славное, обширнейшее и богатейшее государство, страдало от внутреннего неустройства, от злой воли правителей, от лихоимства чиновников, от слепой корысти помещиков, уверенных в своем праве владеть себе подобными как рабами. Повсюду проникало зло и повсюду находило себе приют.
И можно было бы впасть в отчаянье при взгляде на всеобщее торжество зла, если бы светлые умы лучших сынов человечества в поисках средств к искоренению зла иной раз не находили бы верных путей. Читая Цицерона, Плиния, Дидро, Плутарха, Шиллера и других старых и новых писателей, Рылеев то и дело с замиранием сердца отмечал, что их занимали те же самые вопросы, что и его. «Высокие истины, обнаруженные однажды мудрецами, бессмертны, — думал он. — Это такие монеты, штемпель которых от времени не изглаживается, но, напротив, еще делается явственнее. Вот почему ни одна истина древних мудрецов не пропала от нас».
И чем больше он читал и раздумывал, тем более уверялся в возможности существования государства, в котором граждане будут благоденствовать: надо лишь ввести в государстве законы, основанные на свободе и равенстве всех граждан.
Рылеев выехал из Подгорного, когда только начало светать, чтобы до наступления жары добраться до Белогорья. Он ехал по дороге, пролегшей от горизонта до горизонта через зеленые, начинающие кое-где желтеть поля. Лишь изредка попадались среди полей небольшие рощицы.
Ах, как не хотелось ему уезжать, оставлять привычные занятия, но раза два в месяц все же надо было показываться в штабе. По мере того как он удалялся от дома, плохое настроение улетучивалось. И не только потому, что стояла прекрасная погода, а широкие поля с островами деревьев были красивы.
Эти короткие наезды в Белогорье были для Рылеева не только необходимой данью службе, они были нужны ему самому для того, чтобы выговориться, высказать все, что накопилось за недели чтения и размышлений. Наконец, для того, чтобы прочесть кому-нибудь вновь написанные стихи. Ведь никакой поэт не может прожить без слушателей.
Приехав в Белогорье, Рылеев первым делом направился в штаб, где обычно в утренние часы собирались офицеры батареи. Там он и застал всех, кроме Сухозанета и Миллера. Ожидали ротного командира.
Разговор шел о ротных делах.
— Прислали людей из роты Дублянского в рванье, босых, жалованья не уплачено за две трети, амуничных не платили несколько лет, — жаловался младший барон Унгерн, Федор Романович. — Нигде ни на алтын порядку.
Свернув на непорядки, разговор оживился и стал всеобщим. После нескольких историй, рассказанных офицерами, Рылеев сказал:
— В будущем Россию ожидает истинное величие и счастие ее граждан, но для этого необходимо изменить существующие законы, уничтожить лихоимство, а главное — удалить от государственных дел Аракчеева и ему подобных и вместо них поставить разумных людей и настоящих патриотов. Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны. Души с благороднейшими чувствами постоянно должны стремиться к лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу. Так будем же стараться уничтожать его!
— Ты, Рылеев, мечтатель, — вздохнул на его горячий призыв Федор Унгерн, — мы имеем в обществе очень мало значения, чтобы иметь на что-то влияние.
— Самые великие люди сначала не были великими, — возразил Рылеев. — Надо иметь великую цель и, стремясь к ней, возвышаться.
— Ни к чему доброму такие твои стремления не приведут, — усмехнулся Косовский. — Вон Пугачев как высоко заносился в своих целях, а кончил тем, что его четвертовали как злодея.
— Совсем не то! — с досадой ответил Рылеев. — Вы меня не понимаете, потому что или не хотите, или не можете понять.
— Напрасно ты, Кондратий, обижаешься, — примирительно проговорил Федор Унгерн. — Ты сидишь у себя в слободе и читаешь с утра до ночи, а мы каждый день на плацу, нам читать времени нет. Зато на смотру ты как следует перед батареей не пройдешь, а мы отмаршируем — любо-дорого посмотреть.
— В постижении шагистики не вижу никакого смысла. В бою вытянутый носок ни к чему.
— В бою он, конечно, ни к чему…
— Вот видите, — повернулся Рылеев ко всем, — ни к чему, а вы маршируете до седьмого пота.
— И то правда, Петр Онуфриевич мог бы поменьше гонять, в других ротах учения бывают реже.
— Это унизительно — слепо подчиняться прихоти равного вам человека и быть куклой в его руках! — подхватил Рылеев. — А вы как раз представляете из себя кукол, и доказательство тому — усердие, с которым вы выходите во фрунт, особенно пеший.
Молчавший до того старший Унгерн усмехнулся:
— Кондратий Федорович, мы от тебя часто слышим о всеобщем равенстве. Но ведь надо когда-то переходить от слов к делу, покажи нам пример: начни сам чистить платье и сапоги своему Федору да беги к колодцу за водой.
Рылеев на мгновенье растерянно замолчал, потом махнул рукой:
— Это вздор! Такие пустяки со временем разрешатся сами собой.
Все засмеялись.
— Господа, чему веселитесь? — спросил, подходя, Миллер.
— Рылеев полагает, что в будущем сапоги сами себе чистить будут.
— Вполне вероятно такое при общем прогрессе науки, — серьезно сказал Миллер. — Ротный посылает меня в Острогожск, давайте поручения. Думайте, пока я схожу на почту закажу лошадей.
Все пошли вместе с ним. Пока Миллер договаривался со смотрителем, Косовский увидел стоящее в углу старинное длинноствольное ружье и спросил:
— Заряжено?
— Кажется, нет, — ответил смотритель.
— Это мы сейчас проверим, — проговорил Косовский, беря ружье. — Приложи, Кондратий Федорович, руку к затравке, а я дуну в дуло.
— Воздух проходит, заряда нет, — сказал Рылеев.
— Посторонись, Кондратий Федорович. — И Косовский взвел курок.
— Я уже дважды стоял против пистолетных пуль, а против пустого старого ружья и не подумаю сторониться.
Косовский нажал на курок, прогремел выстрел, в стену над плечом Рылеева врезался заряд волчьей дроби.
Рылеев побледнел, потом, напряженно улыбнувшись, сказал:
— Вот ответ на наши разговоры: судьба охраняет меня, потому что ведет к славной цели.
Рылеев сидел за столом в своей хате и писал, когда Федор, приоткрыв дверь и просунув голову, обеспокоенно зашептал:
— Его высокоблагородие подполковник к нам идет.
За дверью послышались шаги, в дверь постучали.
— Прошу, — ответил Рылеев, поднимаясь и идя навстречу Сухозанету. Ротный командир был в мундире и при сабле.
— Не видя вас на учении, решил зайти узнать, здоровы ли вы.
— Спасибо, здоров. — Рылеев оглянулся вокруг, собрал со стула книги, переложил их на стол. — Садитесь.
— Чем занимаетесь? — спросил Сухозанет, осторожно присаживаясь.
— Записываю кое-какие свои соображения о границах свободы воли человека.
— Интересная материя.
— Да, она принадлежит, по-моему, к главнейшим вопросам судьбы рода человеческого. Человек одарен свободой воли, он может поступать, как ему заблагорассудится, но все его поступки, если они не согласуются с духом времени, не будут иметь никакого влияния на судьбу человечества. Особенно это ясно, когда нам известны намерения свершения поступка и его последствия. Брут, желая спасти мир от деспотизма, убил Цезаря. Деяние хорошее, но оно не имело влияния на дальнейшую судьбу Рима, потому что не соответствовало духу времени.
— Я бы не назвал хорошим деянием убийство законного государя, — возразил Сухозанет.
— Но для этого имелись веские причины.
— Я не знаток древней истории и живу сегодняшними заботами. Мне их вполне хватает. Я пришел поговорить с вами не о Бруте и Цезаре, а о вас самих.
— Слушаю, Петр Онуфриевич.
— Вы — молодой офицер, имеете счастие служить в конной артиллерии. Чего бы, кажется, лучшего желать в ваши лета: красуйся на хорошем коне, в нарядном мундире, батарея с тремя отличиями за сражения. А вы лишь изредка выезжаете на конноартиллерийские учения, в пеший же фрунт никогда не выходите, уклоняетесь от своих обязанностей.
— Я занят важными и полезными делами.
— Как можно быть полезным, когда вы сидите постоянно один в этой хате, избегая товарищей, которые служат со всем усердием, даже и те, которые вступили в батарею позже вас. А вы вроде бы состоите на пенсии.
Рылеев усмехнулся.
— Может быть, я один тружусь за всех.
— Но для службы ваши труды бесполезны.
— Для службы — да, но для отечества они имеют цену. Мое имя займет в истории несколько страниц благодаря им. Кто переживет меня, в том убедится.
— Я не любитель отгадывать загадки, а как старший товарищ советую больше думать о службе. Скоро подавать рапорты к повышению чинов.
Сухозанет встал. Рылеев проводил его до крыльца. Ротный, уходя, еще раз повторил:
— Очень советую.
Петр Онуфриевич Сухозанет получил письмо от брата из Петербурга, где в это время находилась артиллерия гвардейского корпуса.
Письмо это было написано в несвойственном брату тревожном и растерянном тоне.
Старший Сухозанет сетовал на то, что военная служба нынче теряет свою прежнюю ясность и определенность, что раньше он твердо и определенно знал, чем живут его офицеры, к чему каждый стремится, понятны бывали и их поступки — кутежи, карточная игра, на которые командиры смотрели сквозь пальцы — люди молодые, надо им перебеситься; а теперь офицер утратил ясность характера и жизни: молодые люди пренебрегают службой, к фрунтовым учениям относятся с насмешкой.
В гвардейском Семеновском полку офицеры устроили артель, совместно обедают, а после обеда играют в шахматы, читают громко иностранные газеты, рассуждают о политике, причем дерзко осуждают действия правительства, ругают введенные с одобрения государя военные поселения и их основателя графа Аракчеева, толкуют о правах и свободах, покушаются на государственное устройство. Один штабс-капитан Семеновского полка — боевой офицер, удостоенный награды орденом Святого Георгия за Бородино, участник многих сражений кампании на территории России и за границей, молодой человек, перед которым открывался прямой путь к блестящей карьере, — и вдруг свихнулся: объявил, что желает своих крепостных отпустить на волю. Правда, родственники воспрепятствовали этому нелепому желанию, но тогда он взял и вышел в отставку.
И не он один таков, во всех почти полках объявились подобные сумасшедшие.
Увы, Петр Онуфриевич хорошо понимал брата: в его собственной батарее завелось такое же, и он знал, откуда оно шло и кто главный его источник. Виною всему — Рылеев. Уж слишком любит поговорить этот прапорщик, и разговор у него не про службу и обыкновенные житейские дела, а про черт знает что, про какую-то книжную чепуху. А живет как! Не офицерская квартира, а чулан какой-то: окна, лавки, стол завалены бумагой, книгами, каким-то хламом — на всем пыль, пол не метен, и сам сидит среди этой грязи в своей
пиитической хламиде! Нормальный человек приказал бы слуге первым делом убрать дом, почистить вещи, а Рылеев вместо этого в своей берлоге, в которую и войти-то мерзко, сочиняет стихи и даже не стыдится приглашать к себе в гости:
Друзья! Прошу, спешите,
Я ожидаю вас!
«Впрочем, чудил бы сам по себе — и черт с ним, — думал Сухозанет о Рылееве. — Но ведь, как паршивая овца портит стадо, он портит всю батарею. Сам не выходишь на ученья, ладно, тебе же хуже — производства не дождешься, а вот более усердных своих товарищей смущаешь!..»
Но не только Сухозанеты задумывались о том, что непонятные, странные пошли нынче люди, их появление отметили повсюду — кто со страхом, кто с любопытством, кто с возмущением, кто с одобрением.
Эти странные молодые люди появились в обществе вскоре после окончания войны, когда развеялся дым сражений, отгремели победные трубы и литавры, когда увенчанные лаврами русские армии вернулись в отечество и вновь потянулась однообразная и серая гарнизонная служба.
Они, эти молодые люди, обнаружились повсюду. Их можно было встретить на балу в Зимнем дворце, где они, сверкая густыми полковничьими и генеральскими эполетами, высказывали свои странные идеи с легкой и умной изящностью на безукоризненном французском языке.
И те же самые идеи, но высказываемые по-иному, корявой русской речью, приправленной крепким народным словцом, под стук водочных стаканов, в тяжелом дыму дешевого табака проповедовал какой-нибудь нищий армейский прапорщик своим товарищам в какой-нибудь глухой провинции, в деревушке, которую от уездного городка отделяли десятки верст скверной проселочной дороги.
Всех их объединяло одно: они ругали нынешние российские порядки и строили прожекты переустройства общества.
И когда Рылеев в Белогорье ораторствовал перед товарищами по батарее о равенстве и свободомыслии, то же самое в столице говорили блестящие гвардейцы Якушкин, князь Волконский, Пестель, Фонвизин и многие другие. Это было знамение времени, «дух времени», как называли они свой образ мыслей.
И еще — все эти молодые боевые офицеры были уверены в том, что если они спасли отечество от порабощения его внешним врагом — Наполеоном, то на них же лежит обязанность спасти отечество от внутренних его врагов — от нынешнего правительства и они жаждали этого нового сражения с тем же восторгом, с каким дрались под Смоленском и при Бородине, в Тарутинском сражении и в лихих партизанских схватках.
10
Время близилось к полуночи. Рылеев, лежа на кровати, читал. Тихо потрескивая, горела свеча. За окном верещали кузнечики. Федор в сенях ворочался и вздыхал во сне. В такое время хорошо думалось, и Рылеев не столько читал, сколько, отрываясь от страницы книги, погружался в собственные мысли, уводившие его далеко от остроумных силлогизмов прославленного философа.
Свеча догорела и потухла. В темноте думалось еще лучше, и Рылеев не стал зажигать новую.
Неожиданно резко послышался стук в дверь. Рылеев вздрогнул. Стук повторился.
— Федор, не слышишь, что ли? — крикнул Рылеев. — Посмотри, кто там!
— Слышу, слышу, — сонно проворчал Федор и пошел открывать, тяжело ступая и недовольно ворча: — Сейчас, сейчас, ишь нетерпеливый какой… Ну, чего надо?
— Открывай, Федор!
Федор узнал голос денщика поручика Мейендорфа, но для верности переспросил:
— Ты, что ли, Прохор?
— Я.
— Чего тебе?
— Твоего барина мой поручик требует к себе незамедлительно.
— Что случилось?
— Депеша какая-то важная из штаба пришла, а про что, не знаю. Буди барина.
Рылеев зажег свечу и вышел в сени.
— Я не сплю. Скажи, что сейчас буду.
Мейендорф встретил Рылеева официально.
— Господин прапорщик, мною получена депеша от командира бригады.
— Но что случилось, Карл Иванович?
— Взбунтовались мужики в имениях Гарденина в Бирюченском уезде. В депеше сообщается, что туда выехал земский суд и ему даны права требовать из квартирующих в округе полков сколько надобно военных людей для удержания буйств оных мужиков и приведения в действие распоряжений суда.
— Бирюченский уезд от нас далеко, — сказал Рылеев, — наша помощь не потребуется, там квартируют пехотные и кавалерийские полки. Так что, Карл Иванович, снимайте мундир и идите спокойно спать.
— Может быть, вы и правы, Кондратий Федорович, но не думаю, чтобы его превосходительство не имел никаких видов, посылая эту депешу. Правда, никакого прямого указания в ней не содержится, но все-таки мы обязаны принять ее к сведению и быть готовыми. Я отдал приказ на завтра провести взводное учение и присутствовать на плацу всем без исключения.
На следующий день во время учения солдаты исполняли команды, как на параде, ни одной ошибки. Мейендорф был доволен и удивлен их старательностью.
— Что нынче с солдатами? — сказал он Рылееву.
Рылеев пожал плечами, хотя догадывался о причине такой старательности: просто солдаты хотели скорей отделаться от учений и заняться своими делами. Их ожидания оправдались: Мейендорф продержал всех на плацу три часа и приказал разойтись.
Рылеев пытался дополнительно узнать что-либо о бунте, но Мейендорф ничего не знал, курьер из штаба тоже отговорился незнаньем.
Однако к вечеру все в Подгорном уже знали о бунте в Марьевке (так называлось имение Гарденина), его причинах и течении. Рылееву обо всем этом рассказал Федор, он оказался гораздо осведомленнее Мейендорфа, поскольку курьер из штаба своему брату солдату сообщил гораздо больше, чем офицеру.
Причина бунта уходила в события трехгодичной давности.
Слобода Марьевка в царствование Екатерины Второй была пожалована генерал-майору Федору Матвеевичу Толстому, по его смерти ее наследовал сын его, действительный камергер Матвей Федорович, который заложил имение в банке. В шестнадцатом году Матвей Федорович умер, не оставив по себе наследника.
Слободской писарь, острый ум, из поповичей, Федор Кирдченков, прикинул обстоятельства и сообразил:
— Коли у вас теперь законного владельца нет, а есть только долг в банке, так ежели вы этот долг банку уплатите, то будете вольными.
Дума о воле крепко запала в мужицкие головы, и сход послал ходоков в губернский город сведать, сколько на них долгу и куда надо платить. А деньги у мужиков, промышлявших торговлей, были.
Но в то самое время, когда марьевцы считали себя почти вольными, явился в слободу новый управитель и объявил, что Марьевка принадлежит теперь коллежскому асессору Петру Ивановичу Гарденину, которому якобы запродал ее прежний владелец, а посему требует новый владелец уплаты оброка и прочих налогов.
Мужики прогнали управителя и вслед за ним послали восьмерых ходоков в Острогожск для отыскания справедливости и уличения незаконных происков Гарденина.
Однако из Острогожска вскоре прибыли следователь, судья и исправник с эскадроном солдат. За эскадроном везли воз шпицрутенов.
Собрали сход. Судья зачитал бумагу, из которой следовало, что у Гарденина имеется законная купчая на Марьевку и посему с мужиками, отказавшимися подчиниться его приказаниям и распоряжениям, будет поступлено как с бунтовщиками и нарушителями государственных постановлений.
Затем началась расправа. Мужиков по одному раскладывали на колоде и били шпицрутенами и плетьми…
Собственно говоря, бунт был усмирен, и полученная Мейендорфом депеша была всего лишь еще одной запоздалой и поэтому ненужной бумагой, которые в таком обилии производили неповоротливые российские канцелярии.
Штабной курьер уехал, жизнь в Подгорном вошла в обычную колею, и казалось, что о событиях в Марьевке уже никто не вспоминал.
Однако, как ошибочен бывает поверхностный взгляд, Рылеев убедился довольно скоро.
Как-то, возвращаясь поздно вечером от Тевяшовых, он медленно шел по улице, любуясь звездным небом. Поравнявшись со своей хатой, он услышал тихий разговор. В тени плетня Федор вел с кем-то неторопливую и, видать, долгую беседу.
— Я тебе, Николай Иваныч, так скажу, — рассуждал Федор, — пустое это дело.
«Николай Иваныч? Кто же это? — подумал Рылеев и потом догадался: — Да ведь это Николай Степанов».
Степанова, старого солдата, георгиевского кавалера, неделю тому назад прислали в Подгорное из Белогорья, с приказом зачислить в роту не бомбардиром, а всего лишь фурлейтом, как объяснялось, «за дерзость».
— За какую дерзость? — спросил тогда Рылеев.
— Не могу знать, — отрапортовал бывший бомбардир. — Вины за мной нет.
Мейендорф тоже удивился, так как знал Степанова за толкового и исполнительного солдата. Однако приказ есть приказ, и Степанов был назначен фурлейтом к малой гаубице.
— Пустое не пустое, а не остановишь народ, — возразил Степанов Федору. — Ведь как получилось? Когда француз на Россию напал, сам государь император воззвал: спасай, народ православный, а уж побьем, мол, супостата, будет тебе самая великая награда. А какая самая великая награда мужику? Воля. Значит, выходит, волю царь обещал.
— Выходит, так, — подтвердил Федор.
— А получилось что? Супостатов побили, а награда где? Прямо по пословице выходит: «Тонул — топор сулил, вытащили — топорища жаль». Если царь свое обещание забыл, мужик его очень хорошо помнит. Ты народ волей помани, он куда хочешь за тобой пойдет. Вон марьевцы, думаешь, не знали, что Толстой запродал их? Знали. А только воля их поманила, и та приманка сильнее всякого знания оказалась…
11
В очередной наезд в Белогорье, в начале июня, Рылеев попал в самый разгар конфликта офицеров батареи с командиром. В штабе он нашел только писарей, ему сообщили, что уже третий день нет учений, а ротный командир и офицеры сидят по квартирам.
Рылеев пошел к Миллеру. Денщик сказал, что Федор Петрович и все остальные офицеры у Унгернов.
В двух комнатах, которые занимали Унгерны, несмотря на открытые окна, табачный дым стоял, как туман. Все говорили громко и одновременно, и Рылеев не сразу понял, в чем дело. Но когда разобрался, тоже принял самое горячее участие в обсуждении произошедшего.
Происшествие, взволновавшее батарею, выглядело весьма некрасиво. Оказывается, Сухозанет в своем представлении к повышению чинов, вопреки существующей традиции производить в следующий чин по выслуге лет, представил к повышению прослуживших в батарее меньший срок и обошел прослуживших больший. Хотя положение о чинах давало командиру право представлять к повышению отличившихся помимо выслуги, но на практике главным образом учитывалась давность службы. Маневр ротного был ясен: давая чины младшим в обход товарищей, он рассчитывал на то, что обязанные ему чином станут его покорными клевретами.
Но Сухозанет просчитался, офицеры разгадали его замысел и, как только стало известно о содержании его представления, все вместе явились к нему в штаб. Те, кого он представил к повышению, заявили ему, что они не чувствуют, чтобы они сделали для службы что-либо отличное по сравнению с другими офицерами батареи, а те, кого он хотел обойти, сначала довольно спокойно и вежливо, потом, разгорячась, более резко доказывали ему, что он несправедлив. В конце концов Сухозанет накричал на Миллера, находившегося в числе обиженных, как на денщика, и отказался изменить свое решение. Теперь офицеры собирались все уйти из батареи и подали рапорты о переводе в кирасиры.
— Я, надеюсь, повышения не удостоен? — спросил Рылеев.
— Насчет тебя подполковник подавал особый рапорт, — сказал Федор Унгерн, — просил, как нерадивого по службе, перевести куда-нибудь от него. Но это дело у него сорвалось; инспектор артиллерии Меллер-Закомельский предписал ему удержать тебя в батарее, строго следить за тобой, чтобы со временем сделать из тебя полезного человека.
— По-моему, наш подполковник просто подлец! — воскликнул Рылеев. — После такого честный человек под его началом служить не может.
— И ты подаешь в кирасиры?
— Нет, в отставку. И так уже много времени прошло в службе, которая никакой не принесла мне пользы, да и впредь ее не предвидится. Чтобы в нынешние времена иметь выгоду от службы, нужно быть подлецом, а я, к счастию, не могу им быть.
— Ты же сам постоянно говоришь, что надобно служить отечеству.
— Но разве я не могу в статской службе доплатить отечеству то, что не доплатил в военной?
— Это, конечно, резон.
— Я тоже подаю в отставку, — сказал Миллер. — В другом полку ведь тоже можно напасть на такого же Сухозанета, а выслушивать выговоры я больше не намерен.
— Я бы на твоем месте с ним стрелялся, — жестко произнес Рылеев.
— Я думал об этом, но ведь он откажется…
— Не посмеет! Я буду твоим секундантом. Надеюсь, никто из товарищей не откажется быть вторым, и мы принудим его дать удовлетворение.
Дуэль Миллера с Сухозанетом состоялась на следующее утро, Миллер был ранен в руку, Сухозанет остался невредим.
Скандал в батарее получил огласку. В Белогорье приехал командир корпуса, заставил Сухозанета извиниться перед офицерами, а офицеров взять обратно просьбы о переводе в другую часть. Водворенный таким образом мир, естественно, был лишь внешним, и все единодушно решили под разными предлогами выбраться из роты. Первым подал рапорт с просьбой об отставке в связи с желанием служить в статской службе Миллер.
Но все батарейные дела вскоре для Рылеева отошли на задний план: он влюбился.
12
Вся жизнь Рылеева наполнилась мыслями
о ней. Он сравнивал то, что чувствовал сейчас, с тем, что испытывал в Альткирхе к Эмилии, и должен был признаться себе, что — увы! — любовь к Эмилии была вовсе не любовью. И когда он это понял, то твердой рукой в старом стихотворении, которое считал одним из самых удачных своих произведений, зачеркнул имя Эмилии и поставил другое:
Как вдруг Наташенька явилась,
Исчезла храбрость, задрожал!
Броня в оковы превратилась!
И я — любовью воспылал!
Влюбленность Рылеева не осталась тайной для друзей. Они, по правде говоря, заметили это даже раньше, чем он сам решился признаться себе в том, что любит Наташу.
Об этом же говорили и его новые стихи, которые он читал товарищам.
В общем, все шло к объяснению. Тем более, что Наташа выказывала ему явные знаки внимания: пела, что он просил, когда начинались танцы, взглядом отыскивала его…
За год Рылеев пережил все, что должен пережить робкий влюбленный — надежды и разочарования, муки ревности и отчаянье, разгадывание намеков и недомолвок.
Как-то раз Наташа пела арию из «Днепровской русалки» и, когда дошла до слов: «Вы к нам верность никогда не хотите сохранить», выразительно посмотрела на Рылеева.
— Как вам нравится ария? — лукаво спросила Наташа Рылеева, окончив петь и отыграв последний аккорд.
— Мне нравится мотив, но не нравятся слова.
— Но других слов на этот мотив нет.
— Я вам принесу другие слова.
На следующий вечер Рылеев с нетерпением ожидал, когда же иссякнет разговор и кто-нибудь предложит начать музицировать: за ночь он написал стихи на мотив арии, которые должны были объяснить силу его чувств к Наташе и серьезность его намерений.
Наконец Матрена Михайловна сказала:
— Теперь спой что-нибудь, Наташенька.
— Но что? Я бы хотела спеть из «Русалки», но Кондратию Федоровичу слова не нравятся.
Рылеев достал из кармана сложенный листок бумаги и, подойдя к Наташе, развертывая его, протянул девушке.
— Вот другие стихи, которые можно петь на мотив этой арии, и я прошу спеть их.
— Если они мне понравятся, то спою.
Наташа, взяв листок со стихами, начала читать их про себя. Рылеев смотрел на нее, на сосредоточенно морщившийся лоб, на шепчущие губы, по движению глаз стараясь уловить, какую строчку она сейчас читает.
Прочитав, Наташа подошла к фортепьяно, проиграла мелодию, тихо напела, примеривая размер стихов к музыке, и запела.
О, какими чудесными показались Рылееву его стихи, произносимые милым голосом! Он бледнел и краснел и, опустив глаза, не смел смотреть ни на Наташу, ни по сторонам.
— Нет, неправда, что мужчины
Верность к милым не хранят,—
эти строки Наташа пропела, как того требовала мелодия, медленнее и протяжнее, чем остальные. А допев, сказала:
— Как бы я хотела, чтобы было именно так.
— Именно так и есть, — проговорил Рылеев.
Наташа засмеялась:
— Не верю…
— Ну что ты мучаешься, — говорил Рылееву Миллер, — объяснись — и дело с концом.
— А если она не любит меня?
— Любит она тебя, не беспокойся.
— А может быть…
— Экий ты, брат, нерешительный! Гляди, опередят тебя. Дай слово, что завтра объяснишься.
— Завтра?
— Да, завтра. Иди утром, когда в доме нет посторонних.
Рылеев отчаянно тряхнул головой.
— Ладно. Завтра иду.
Рылеев еле дождался десяти часов, когда уже было прилично явиться к Тевяшовым.
Идя через сад, он увидел в беседке Наташу. Она вышивала, шепотом считая клеточки канвы. Пробивающиеся сквозь склоненные густые ветви старой яблони солнечные лучи ложились на ее платье колышащимся, мерцающим, прекрасным в своей неопределенности и прихотливости узором.
Наташа, занятая вышиванием, не замечала Рылеева. Он подошел совсем близко и встал рядом.
Наташа подняла голову, сверкнула темными глазами, улыбнулась.
— Это вы, Кондратий Федорович?
— Наталья Михайловна, я должен с вами поговорить, — срывающимся, каким-то чужим, хриплым голосом сказал Рылеев. — Мне необходимо знать…
— Пожалуйста, Кондратий Федорович. — Девушка отложила вышиванье на скамью. — Я слушаю вас.
Рылеев закусил губу, отвел взгляд в сторону, потом махнул рукой и, глядя прямо в глаза Наташе, которые вдруг повлажнели — никогда ее глаза не казались ему такими красивыми, — заговорил:
— Наталья Михайловна, любите ли вы меня? Согласны ли выйти за меня замуж?
— Да… Я вас… люблю, — не отводя глаз, запинаясь и покрываясь краской, ответила Наташа. — Я пойду за вас, если…
Рылеев взял ее руку, мягкую, покорную.
— Ради вас я сделаю все, что в человеческих силах, и даже больше! Говорите, что за препятствие нашему счастью?
— Если будет согласен папенька.
— Михаил Андреевич — благородный человек, он не станет препятствовать счастию дочери. Я сейчас же иду к нему.
— Идите, — сказала Наташа, быстро обвила руками его шею, поцеловала в уголок рта и легонько оттолкнула. — Идите.
Но Рылеев поймал ее руки, притянул к себе… Время для влюбленных остановилось. Они целовались, отрываясь друг от друга только на самые короткие мгновенья, чтобы сказать ласковое, бессмысленное для всех в мире и полное самого важного и глубочайшего смысла для них слово.
Солнце, обойдя крону яблони, хлынуло в беседку.
Первой очнулась Наташа.
— О боже! Ведь сюда может кто-нибудь прийти, увидеть нас…
— Пусть видят. Мы теперь всегда будем вместе. Я не уйду от Михаила Андреевича, пока не добьюсь его согласия.
— Он говорит, что вы очень молоды и неосновательны…
— Да я уже четвертый год служу!
— Но вид-то у вас все равно… — Наташа склонила головку и, рассмеявшись, достала из-под работы маленькое зеркальце. — Посмотрите на себя, похожи ли вы на мужа или хотя бы на почтенного жениха?
Увы! То, что увидел Рылеев в зеркале, действительно прежде всего свидетельствовало о молодости и неосновательности. Юное румяное лицо от счастливой улыбки казалось еще более юным, мягкие русые кудри спутались и в беспорядке падали на лоб и торчали над ушами, белый отложной воротничок рубашки, открывавший шею, делал его еще более похожим на мальчика — ученика приличного пансиона.
Рылеев весело рассмеялся.
— Ладно, я приму все меры, чтобы выглядеть с подобающей случаю важностью. Явлюсь к Михаилу Андреевичу в мундире, с самым серьезным выражением и буду говорить основательно и деловито, как откупщик.
— Хорошо, милый, и знай, что я в соседней комнате…
— Прощай, любимая, на час, а через час мы будем вместе уже навсегда.
Михаил Андреевич, как обычно в предобеденное время, пребывал в кабинете, на диване, полеживал, покуривал, прислушиваясь к домашним звукам и лениво подумывал о том о сем… Услышав в соседней комнате шаги, он спустил ноги вниз и сел.
Вошел Рылеев.
— Здравствуйте, Михаил Андреевич.
— Здравствуйте, Кондратий Федорович. Что-то вы сегодня при параде, в мундире? Уезжаете в Острогожск?
— Нет, я никуда не уезжаю. Я пришел, чтобы поговорить с вами, Михаил Андреевич, о деле важном для меня и еще для одного близкого вам человека.
— Что же случилось? К чему такая официальность?
— Михаил Андреевич, я люблю вашу дочь Наталью Михайловну и прошу ее руки.
Тевяшов отложил трубку на столик, встал с дивана и, семеня, подошел к Рылееву.
— Голубчик, Кондратий Федорович, да вы садитесь в кресла. Тут дело, прямо сказать, важное, с кондачка не решаемое. Садитесь, садитесь. Трубку желаете? Грицко, трубку Кондратию Федоровичу!
Тевяшов снова взялся за свою трубку, по комнате поплыли клубы дыма.
— Кондратий Федорович, благодарю за честь, оказанную моей дочери. Я бы не желал для нее лучшего мужа, нежели вы. Но ваше сегодняшнее предложение меня, прямо сказать, огорошило. Она ведь еще так молода, мы с Матреной Михайловной и не задумывали о ее замужестве…
— Но выходят и моложе. Когда Матрена Михайловна на вас вышла, ей было меньше лет, чем сейчас Наталье Михайловне. Она сама не раз об этом говорила.
— И то правда. Но зато я тогда был постарше вас годами и отставку уже получил, в имении хозяйничал. А вам еще служить и служить… Да и положение ваше… неопределенное. Когда еще взвод получите…
— Я все обдумал. Я выйду в отставку, у нас есть имение, я поставлю его на рациональную основу.
— Когда-то это еще будет! Ну куда вам спешить в этот хомут лезть? Я о женитьбе говорю. Нет, нет, не советую…
Рылеев встал с кресел. Михаил Андреевич тоже поднялся, полагая, что разговор окончен к обоюдному удовлетворению.
— Я люблю Наталью Михайловну, — заговорил снова Рылеев медленно и глухо, — и решил, что не выйду из этой комнаты, если не получу вашего согласия на брак.
— Что вы этим хотите сказать?
— Что я не выйду отсюда живой.
Рылеев побледнел и достал из кармана пистолет.
— Что вы, что вы, Кондратий Федорович! — Тевяшов схватил Рылеева за руку. — Что вы надумали? Уберите скорее, уберите! — Почти плачущим голосом он быстро продолжал: — Да подумали ли вы о том, что если бы я и согласился на ваш брак, то не могу же я принудить к тому дочь…
В этот самый момент раскрылась дверь, и в комнату вбежала Наташа.
— Папенька, отдайте за Кондратия Федоровича или в монастырь! — она разрыдалась, бросилась на шею отцу, с ней случилась истерика и обморок.
— Эй, кто там! Девки! Матрена! — в испуге кричал Михаил Андреевич.
Наташа между тем пришла в себя. Открыв глаза, она посмотрела на отца, в смущенье закраснелась и отвернулась. Вся ее решительность и смелость пропали.
— Да у вас, я вижу, прямо сказать, все сговорено, — сказал Михаил Андреевич и вздохнул. — Ну что ж… Гляди-ка, Матрена Михайловна, экая оказия вышла… — обратился он к вошедшей жене. — Благословить придется… Но окончательное мое решение, Кондратий Федорович, и согласие на свадьбу последует не ранее того, как вы получите благословение вашей матушки и определится ваше положение.
«Господи, зачем столько препятствий? Как они все не могут понять, что единственное счастье для нас с Наташей быть вместе? А остальные соображения — пустяк, ерунда», — думал Рылеев, возвращаясь домой.
Матушка сначала не соглашалась на женитьбу, выставляя причиной, что он беден, чин невелик, что им с женой не на что будет жить, но в конце концов написала, что нужно: «Милый Кондраша! Если так сильна любовь твоя к Наталье Тевяшовой, даю свое согласие на брак с ней, ибо несчастие твое непереносимо материнскому сердцу… А уж как рада была бы видеть тебя, как занялся бы ты поправлением имения нашего…»
13
Поскольку Рылеев был уверен, что матушка не устоит перед его просьбами и в конце концов согласится и на женитьбу и на отставку, он, не дожидаясь ее формального согласия, подал рапорт об отставке. И пока шла переписка с Настасьей Матвеевной, его рапорт совершал обычный путь казенных бумаг по канцелярским инстанциям. Вопрос об отставке решали в Петербурге, в военном министерстве, и поэтому Рылеев не мог знать, в какой инстанции находится его рапорт и когда ждать ответа; опытные люди говорили, что может решиться быстро, а может и затянуться на долгие месяцы, тут уж остается только ждать.
Рылеев чувствовал себя уже отставным, поэтому особенно неприятным и обидным казалась теперь даже самая минимальная трата сил и времени на дела, связанные с военной службой.
Между тем именно сейчас в бригаде наступило горячее время. Вслед за приказом об изменениях в форме мундиров — теперь положено было иметь однобортный колет и вицмундир по образцу драгунских, с петлицами и красной выпушкой, а также иметь ледунку с золотой перевязью на манер гвардейской конной артиллерии — пришла эстафета, что через полгода царский смотр армии. Затем вдруг новый приказ: с 1 января будущего года бригаде назначено новое место дислокации: Рыльский уезд Курской губернии.
Перемещение батареи на новые квартиры и ликвидация дел на старых являлось довольно сложным и трудным предприятием, требовалось произвести взаимные расчеты с поставщиками и кредиторами, пополнить и обновить конный парк, который на постоянных квартирах бывал ради экономии полковых средств укомплектован только на две трети.
Хотя батарейный командир видел, что Рылеев уже отрезанный ломоть в батарее, он требовал, чтобы тот исполнял службу наравне с другими офицерами, и командировал его в Воронеж улаживать дела в интендантстве.
С шести утра и до наступавших в четвертом часу ранних зимних сумерек Рылеев мерз в комиссариатских лабазах, принимая, проверяя, наблюдая за упаковкой, погрузкой и отправкой обмундирования, фуража, продовольствия, дегтя, колес, упряжи. Только в это время он не то чтобы позабывал, но немного отвлекался от мыслей о Подгорном. В остальное же время он или писал письма в Подгорное, или сочинял стихи, обращенные к Наташе, или просто думал о ней, мечтал о близком счастье.
Каждое утро Рылеев заходил в штаб посмотреть свежий номер «Русского инвалида», в котором публиковались официальные документы военного министерства и в том числе приказы об отставке, и наконец, 14 января, в длинном списке прочел, что приказом государя, отданным 26 декабря в Санкт-Петербурге, конноартиллерийской № 12 роты прапорщик Рылеев увольняется от службы подпоручиком по домашним обстоятельствам.
— Ура! — закричал он. — За это можно выпить рюмку водки!
— Повышение получили? — поинтересовался молоденький прапорщик, оказавшийся рядом с Рылеевым. — Поздравляю!
— Отставку!
Прапорщик удивленно раскрыл рот. Рылеев рассмеялся.
— Не удивляйтесь, товарищ, в жизни бывает и так, что отставка выходит лучше повышения.
Рылеев удвоил рвение, теперь вокруг него все кипело, и через неделю, покончив все дела, он выехал из Воронежа в Белогорье.
В батарейной штаб-квартире уже знали о высочайшем приказе.
Сухозанет поблагодарил Рылеева, что он, несмотря на то что формально мог все бросить, не подвел батарею и выполнил поручение в самом лучшем виде.
Батарея на днях уже выступала в поход.
На какое-то мгновенье дрогнуло у Рылеева сердце при виде всей этой предпоходной суеты: как-никак, а все-таки есть что-то волнующее и манящее в предчувствии дальней дороги, неизвестности, в военной ясной и романтической судьбе, в праве сказать о себе: «Я не поэт, а только воин»… Дрогнуло — и успокоилось.
Как всегда, в самые последние дни обнаружились недоделки, прорехи, поломки, и все были переполнены этими заботами.
— Хорошо тебе, Кондратий, — позавидовал усталый Косовский, — для тебя уже не существует ни селитры смазной, ни фитиля палительного, ни пеньки, ни баклаг для мази, ни оглобель окованных и неокованных, чтобы черт их всех побрал!
— Выходи и ты в отставку, — ответил Рылеев.
— Мне нельзя. Да я, по правде сказать, все же статскую службу не предпочту военной. Послезавтра выступаем, а ты, значит, остаешься здесь, так сказать, на бессрочную гарнизонную службу.
— Я тоже скоро уеду.
— Куда?
— В Петербург.
— Тебе там обещают место?
— Нет. Места никто не обещает, покровителей у меня нет, самому придется добиваться всего.
— Ты же учился в Петербурге, неужели с тех пор никого там у тебя не осталось?
— В корпусе нас не учили обзаводиться полезными знакомствами, поэтому все мои однокашники служат в провинции.
— Зачем же тебе куда-то ехать? Оставайся здесь навсегда. Теперь у тебя через жену половина Воронежской губернии родня и знакомые. Найдут тебе службу. С твоим-то умом ты быстро пойдешь вперед. И протекция обеспечена. А в Петербурге за чужака никто слова не замолвит. Ей-богу, неразумно верное менять на неверное.
— Ах, как ты не понимаешь! Петербург это Петербург!
— А по мне, лучше там служить, где вернее.
— По правде сказать, не столько служба влечет меня в столицу, как некоторые очень важные для меня обстоятельства.
— Опять тайна?
— Пока тайна.
На следующее утро Рылеев пошел в штаб-квартиру прощаться с товарищами.
— Товарищи, прошу разрешения сказать вам на прощание несколько слов.
— Мы слушаем тебя, Рылеев.
— В течение четырех лет я был вашим сослуживцем. Служил я, признаюсь, плохо, но любил вас всех. Я надеюсь, что при встрече со мною никто из вас не откажется подать мне руку как старому товарищу. Мои же объятья всегда отверсты для каждого из вас. Всем сердцем желаю, чтобы вы не забыли, о чем так часто говорили мы и что является залогом будущего счастья отечества, которое для нас дороже всего. В заключение прошу вас послушать, как слушали в былые времена, а теперь в последний раз мои новые стихи. Это послание Косовскому, который советовал мне навсегда остаться на Украине:
Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил!
Нет, нет! тому вовек
Со мною не случиться;
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир младой души —
Она меня, трубою
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собою
На берега Невы!..
Часть третья
ПЕВЕЦ МЛАДОЙ


1
Молодые намеревались выехать в Петербург вскоре после свадьбы. Но, как это всегда бывает, сборы затянулись. То одно мешало, то другое задерживало, и тронулись в путь только в конце августа.
Ехали на своих, в расчете, что так дешевле. Кроме того, Михаил Андреевич весьма рассудительно заметил: в Петербурге все равно придется держать лошадей, так уж лучше привести из Подгорного, чем переплачивать за них барышникам втрое, а может, и вчетверо, так как всем известно, что цены у них бессовестные.
Поскольку езда на своих гораздо медленнее, чем на почтовых, то до места добрались лишь через месяц.
Когда коляска свернула с тракта на проселок, ведущий в Батово, у Рылеева сильнее забилось сердце. Он с волнением оглядывался по сторонам, угадывая в разросшихся перелесках прежние, полузабытые места.
Здесь уже вовсю похозяйничала осень. Деревья стояли голые, лишь кое-где среди серых ветвей желтели два-три оставшихся листа и краснели налитые тяжелые гроздья рябины. От голой глинистой дороги, от мокрой пожухлой травы тянуло холодом. По белесому небу, закрывая его почти целиком, ползли сливающиеся друг с другом низкие облака. Было сумеречно, хотя время едва перевалило за полдень.
Рылеев взял Наташину руку и, пожимая ее, прерывающимся от радостного волнения голосом сказал:
— Сейчас переедем мост через Оредеж, а там и наше Батово.
— Хорошо, — тихо и грустно ответила Наташа.
Рылеев обернулся к жене.
— Не грусти. Конечно, после твоего роскошного юга тебе все кажется более мрачным. Но тут не всегда так.
И в этот момент в южной части неба облака разошлись, и яркие солнечные лучи, вспыхнув, пронизали лес, позолотив стволы деревьев, заиграли на рябине, заблестели в траве.
— Вот видишь, — сказал Рылеев и поцеловал жену.
Она улыбнулась.
— Впрочем, мы долго здесь не задержимся, — продолжал он. — Будем жить в Петербурге.
— Хорошо, милый…
Коляска прогрохотала по бревенчатому мостику. Осталась позади тихая, медленно текущая, почти сплошь заросшая ивняком и осокой река. Дорога от реки пошла вверх, и с холма открылся вид на окрестность.
Слева, в окружении распаханных полей, теперь пустых, стояла небольшая деревушка. Среди десятка старых, почерневших соломенных крыш виднелась только одна изба, крытая новой щепой.
— Вот и Батово, — показал на избы Рылеев.
Справа, на возвышенности, куда вела широкая аллея из лип и тополей, виднелся барский дом — низкий, длинный, в полтора десятка окон по фасаду, покрашенный темной коричневой краской. Был он построен не по-господски, а попросту, по-деревенски — без колонн, фронтона и балконов — и имел вид четырех или пяти изб, подведенных под одну кровлю, и лишь железная красная крыша придавала ему облик господского жилья.
Из всех труб поднимался дым.
— Ждет нас маменька, во всем доме топят…
Настасья Матвеевна за те пять лет, которые Рылеев не видался с ней, совсем поседела, как-никак пошел шестьдесят первый год. Она ревнивым взглядом смотрела на Наташу, пока Рылеев помогал жене сойти с коляски, потом решительно отстранила сына, обняла невестку и расплакалась.
Наташа тоже заплакала.
И хотя причины, вызвавшие слезы у них обеих, и чувства, охватившие их, были разные, эти общие слезы сразу как-то сблизили их.
Вечером, укладываясь спать в лучшей комнате дома — зале, которую Настасья Матвеевна распорядилась отвести под спальню молодым, для чего велела снести сюда лучшую мебель со всего дома: диван красного дерева, обитый красным сафьяном, кресла, треугольник красного дерева, обложенный бронзовыми вензелями, мраморный умывальник, зеркало в позолоченной раме, четыре картины-гравюры (в доме их было около двадцати, но у остальных побиты стекла), Наташа сказала Рылееву:
— Мне твоя матушка понравилась.
— Она добрая, — благодарно ответил Рылеев.
— И дом ваш мне тоже нравится…
— Теперь это и твой дом…
Наутро за завтраком, после того как Настасья Матвеевна расспросила Наташу, хорошо ли ей спалось на новом месте, и после того как снова поговорили о Подгорном, а Настасья Матвеевна рассказала о батовских новостях, она спросила:
— Что же ты думаешь теперь делать, Кондрата?
— Как и хотел, займусь хозяйством, — весело ответил Рылеев.
Настасья Матвеевна вздохнула:
— Конечно, дело твое, но с нашего имения не проживешь. Придется служить. Соседи все служат. Да ты и сам можешь в том убедиться, когда посмотришь бумаги… Только в столице-то трудно хорошее место найти. Вон друг твой, Федор Петрович Миллер, заезжал ко мне, рассказывал, как он в Петербурге мыкался, везде отказ, да и уехал в Псков. Однако решай сам, Кондрата…
Рылеев с удовольствием входил в роль помещика. Поскольку халат еще не был заведен, он облекся в свой старый «светло-кофейный, для смеха сотворенный и странный» сюртук, удалился в кабинет и принялся за разбор бумаг, сложенных в ящиках бюро.
Бумаг было не так уж много, и Настасья Матвеевна держала их в порядке, так что он без особого труда и довольно скоро смог составить себе полное представление как о своем имении, так и о состоянии всех торговых и прочих экономических операций матушки.
Всю жизнь он слышал, что Батово матушка получила в дар от Петра Федоровича, которого она и не называла иначе, как «благодетель», а Батово именовала Петродаром. Теперь же, обнаружив среди бумаг купчую, Рылеев с интересом прочел ее.
Датирована купчая была 16 января 1800 года. «Как раз в то время, когда отец окончательно переселился в Киев, — отметил Рылеев. — Видимо, тогда мать и обратилась за помощью к Петру Федоровичу, который доводился ей какой-то дальней родней». В Батове Малютину принадлежало двенадцать душ крестьян, и двадцать одна — инспектрисе Воспитательного общества Марии Осиповне Дешан. Деревню раздробили в девяносто седьмом году, когда эти земли, принадлежавшие казне, по царским указам раздавали частным владельцам и ровного числа душ (жаловали сотнями) добивались тем, что некоторые деревни делили между несколькими помещиками. Это было неудобно владельцам, и они старались или докупить всю деревню, или продать свою часть. Петр Федорович подарил Настасье Матвеевне свою часть в Батове и уговорил Дешан продать свою.
Результатом этой сделки и явилась купчая, в которой значилось, что «генерал-майор Петр Федорович Малютин, в роде своем не последний, и благородных девиц инспектриса Мария Осиповна Дешан продали свои части в Батове отставного полковника Федора Андреева сына Рылеева жене Анастасии Матвеевне со всею пашней, покосами, лесом, а также и все числящиеся по 5-й ревизии крестьяне мужеска пола с женами и детьми, с братьями и племянниками, со внучаты и приимыши и новорожденными после той 5-й ревизии обоего пола детями ж, с их крестьянскими животы и пожитки, со всяким скотом, с лошадьми и со птицы, с хоромным и погуменным строением, с пашенною и непашенною землею, с лесом, сенными покосами и со всеми принадлежащими на части тем крестьянам угодьями, чем те крестьяне владели и ныне владеют… А за ту продажу оный генерал-майор Малютин получил одну тысячу пятьсот рублей серебром, а оная инспектриса благородных девиц Дешан — три тысячи четыреста рублей».
Из описи Рылеев узнал точные размеры имения: всего было 878 десятин, из них 250 десятин пашни, 69 десятин покосу, остальная земля находилась под лесом, причем половина леса росла по водяному и моховому болоту.
В деревне значилось тринадцать дворов, тридцать три души крестьян мужского пола, двадцать две женского, тридцать семь малолетних.
Затем Рылеев взялся за описи посеянного и собранного — ржи, ячменя, овса, льна, накошенного сена, скотины и птицы — помещичьей и крестьянской. Описи составлялись каждый год, и цифры в них оставались почти одинаковые.
Рылеев стал проверять итоги: все оказалось правильным, да и не могло быть иначе, каждый пуд ржи или ячменя подсчитывался не раз, в надежде выкроить что-нибудь на продажу.
Но итоги — увы! — не радовали: хлеба всегда не хватало до новины, сена тоже было мало, лишь иногда удавалось продать двести — триста пудов овса, что при цене тридцать копеек за пуд приносило самое большее сто рублей доходу.
Пересмотрев копеечные счета и описи, Рылеев почувствовал стыд и угрызения совести за то, что он бывал недоволен, когда матушка присылала ему мало денег. Только теперь он понял, каких трудов стоило ей собрать для него сто — двести рублей. А при выходе его из корпуса, когда потребовалась более крупная сумма, имение было заложено. Конечно, без всякой надежды выкупить: маменька еле-еле справлялась с уплатой процентов. Посылая ему деньги, она отказывала себе в покупных продуктах — в чае, сахаре… «Милая матушка, — думал Рылеев, и на его глаза набежали слезы, — я все, все сделаю для твоего счастья…»
Когда Рылеев вышел из кабинета в гостиную, где Наташа показывала Настасье Матвеевне, каким швом вышивают в Подгорном, и с глазами, полными слез, подошел к матери, обнял и поцеловал ее, она все поняла.
— Сходи в поле, на деревню, на гумно — там сейчас молотят, посмотри, — сказала она. — Но, милый друг, вряд ли ты найдешь где какое упущение: мужики трудолюбивы, не пьяницы, староста не ворует… Земля наша скудна, да и маловато ее… Имение совсем бездоходное. Слава богу, хоть кое-как своим хлебом кормимся, не покупаем…
— Вы, маменька, правы: мне надо скорее ехать в Петербург искать места.
Решительный тон сына испугал Настасью Матвеевну.
— Ну, не нынче же! Поживите здесь, с голоду не пропадем. Да и правду сказать, в этом году были кое-какие доходы, так что и деньги есть.
— Нет, матушка, вы так много для меня сделали, и я не могу более медлить с началом оплаты неоплатного моего сыновнего долга.
Несколько дней спустя, остыв, Рылеев стал более податлив на уговоры матери, и в конце концов было решено, что молодые будут жить пока в Батове, наезжая время от времени в Петербург, потому что, как со вздохом не раз повторяла Настасья Матвеевна, «в нынешние времена хорошее место без покровительства не так-то просто найти, пока устроишься — всласть наждешься и находишься…»
В первый раз поехали в Петербург в ноябре. Рылеев хотел остановиться в гостинице, но матушка в страхе замахала руками и настояла, чтобы они ехали к Малютиным, так как им там приготовлена комната, о чем Екатерина Ивановна, супруга Петра Федоровича, уже неоднократно писала Рылеевой, и ни в коем случае нельзя пренебречь приглашением.
2
Рылеев жадно вглядывался в дома, магазины, толпу на улицах, встречные и обгоняющие их экипажи и ловил себя на мысли, что перед ним, в сущности, незнакомый город: вроде бы те же улицы, те же дома, но в его памяти они представлялись совсем другими.
«Впрочем, это естественно, — размышлял Рылеев, — прежде я смотрел на Петербург глазами кадета, запертого в корпусе, как монах в монастыре, которому весь мир за его стенами рисуется в обличье, более нарисованном его собственной фантазией, чем в действительном своем виде, а теперь я вижу его именно таким, каков он есть».
По пути он называл Наташе улицы, показывал наиболее примечательные здания.
Наташа сидела тихо, и вид у нее был какой-то растерянный. Рылеев отнес это за счет впечатления от шумного великолепия столицы.
Малютины встретили их в достаточной степени радушно: Петр Федорович обнял Рылеева, Екатерина Ивановна расцеловала Наташу. Но Рылееву чудилось, будто этим преувеличенно подчеркиваемым радушием ему дают понять, что он находится у благодетеля, и это было неприятно для самолюбия. Наташа, и всегда-то застенчивая на чужих людях, тут совсем как-то замерла.
— Вы, видно, устали с дороги, — сказала Екатерина Ивановна, глядя на нее.
— Да, — тихо ответила Наташа.
Екатерина Ивановна прищурилась.
— Рано вы что-то начали уставать, милочка.
— Точно сказано: слабый пол, — засмеялся Петр Федорович. — Ты, Наталья, иди приляг, отдохни, а мы тут с Кондратием еще побеседуем.
— Спокойной ночи, — сказала Наташа и ушла.
Вскоре ушла к себе и Екатерина Ивановна.
Петр Федорович, покойно усевшись в кресле и раскурив трубку, начал разговор.
Неторопливо, многословно и дотошно он расспрашивал Рылеева о службе, об отношениях с начальниками, то и дело пускался в воспоминания: «А у нас тоже был подобный случай…» Единственное оправдание всем столкновениям и трениям Рылеева с начальством он находил только в его молодости и неопытности.
— Мало, мало ты служил, — укоризненно говорил Малютин.
— Да уж терпенья не было, Петр Федорович. К тому же необходимость заняться именьем…
Малютин махнул рукой:
— Им занимайся не занимайся — все равно толку ни на грош.
В заключение разговора Петр Федорович пообещал:
— Ладно, я поговорю кое с кем насчет места тебе. Но не ожидай скоро. Нынче все как с цепи сорвались, бегут с военной службы в статскую, поэтому на каждую вакансию десяток претендентов. Иные даже без жалованья служат, только чтобы служить. Прямые чудаки!
Хотя было уже поздно — часы пробили четверть за полночь, — Наташа не спала.
— Кондраша! — шепотом позвала она.
— Что? — так же шепотом ответил Рылеев.
— Я тебе что-то сказать хочу.
— Что?
— Иди сюда поближе.
— Ну? — Кондратий Федорович присел на край кровати.
Наташа приподнялась, обхватила его теплыми мягкими руками и коснулась губами его уха.
— Кондраша, я — тяжелая.
— А не ошибаешься?
— Нет, уже и живот начал расти…
— Наташенька, жена моя! — Он отыскал ее губы и прижался к ним.
Найти место действительно оказалось трудно. В Петербурге существовало и действовало множество различных министерств, департаментов, комитетов, комиссий, чиновники составляли весьма многочисленную и заметную часть населения столицы, в часы послеобеденной прогулки на Невском мундиры всевозможных гражданских ведомств решительно преобладали над военными и фраками неслужащих. Во всех этих министерствах, департаментах, комитетах и комиссиях существовало множество должностей, но получить какую-либо из них можно было только по солидной рекомендации. У Рылеева рекомендателя, кроме Малютина, никого в Петербурге не было.
— Погоди, вот поговорю кое с кем… — все обнадеживал Петр Федорович, но надежды так и оставались надеждами: то ли он не имел случая поговорить, то ли ему отказывали…
Екатерина Ивановна уже несколько раз как бы мимоходом замечала:
— Напрасно вы, Кондратий Федорович, оставили военную службу.
Но странное дело, даже в этом, казалось бы, безвыходном положении Рылеев почему-то был твердо уверен в том, что в конце концов все устроится…
В глубине души у Рылеева еще жило маленькое кадетское тщеславие, ему хотелось бы явиться в корпус увенчанным, как говорится, лаврами. Поэтому он оттягивал визит к старому Бобру, хотя, по нерушимой традиции, каждый бывший кадет, приезжавший в Петербург, неизменно являлся к старому эконому. Но потом все-таки естественное желание человека, оказавшегося рядом с родным домом — а Рылеев в корпусе прожил как-никак более двенадцати лет, и он был для него еще более родным домом, чем Батово, — заглушило пустое тщеславие, и однажды, в обед,
он собрался и пошел в корпус.
Бобров встретил его так, как встречал всех своих прежних воспитанников: сначала вроде бы не узнал, потом расплакался и увел к себе.
Там он достал из шкафа графинчик, два стакана, послал денщика на кухню за обедом.
Андрей Петрович, конечно, сразу же распознал, что дела у Рылеева не очень-то хороши и, наскоро расспросив о нынешнем положении и сказав: «Ну, слава богу, вышел в люди, мошенник», пустился в воспоминания.
Он прекрасно помнил имена кадет многих выпусков и самые незначительные случаи корпусной жизни и, к удивлению Рылеева, знал про такие проделки кадет, в отношении которых сами они были твердо уверены, что, кроме них, об этих проделках никто, а тем более воспитатели и начальство, не знает.
Вспомнили, как Рылеев лег под розги за Чижова.
— Где он теперь, не знаете, Айдрей Петрович?
— Сам о себе весточки не подавал, но был слух, будто служит где-то в Оренбургской губернии.
3
Выйдя из корпуса на улицу, Рылеев увидел стоявшего на тротуаре Геракова. Тот был в потертой шубе и низко надвинутой на лоб обвисшей треуголке. Похоже, что с четырнадцатого года, когда Рылеев видел его последний раз, гардероб его не обновлялся.
— Гавриил Васильевич, здравствуйте! — окликнул учителя Рылеев.
— Здравствуйте, — с некоторым удивлением ответил Гераков.
— Не узнаете меня, Гавриил Васильевич? Я — Рылеев, кадет выпуска четырнадцатого года.
— А-а, Рылеев! Кондратий! Извините, как вас по батюшке, запамятовал.
— Федорович.
— Помню, помню, Кондратий Федорович, вы сочиняли неплохие стихи. В отставку уже вышли?
— Да, военная служба не задалась, думаю искать места в статской.
— А как насчет службы Аполлону? Тоже вышли в отставку?
— Нет, Аполлону я буду служить до последнего вздоха.
— Старому поэту и вашему учителю словесности это весьма приятно слышать. Печатаете вы, видимо, ваши произведения под псевдонимом, так как в журналах вашего имени я не встречал.
— Я еще ничего не печатал в журналах и не знаю, как подступиться к этому делу, хотя напечатать произведения своего пера в столичном журнале, не скрою, моя заветная мечта.
Гераков приложил палец ко лбу и задумался, потом вскинул гордо голову.
— Вы не знакомы с Измайловым, издателем «Благонамеренного»?
— С нашим знаменитым баснописцем?
— Да, знаменитым, — с едва заметной усмешкой ответил Гераков.
— Не имею чести.
— Тогда, значит, так: я отведу вас к нему и отрекомендую.
— Вуду счастлив. Но вы же не знаете, что и как я пишу…
— Полагаю, что не стали же вы писать хуже, чем писали раньше.
— Смею надеяться, что лучше.
— Вот и хорошо. Ну-с, когда навестим Измайлова?
— Хоть сейчас, если вы можете.
— Я-то могу, только далековато шагать…
— Да мы на извозчике! Извозчик! — крикнул Рылеев.
Усаживаясь в сани, Гераков сказал:
— На Екатерининскую, любезный.
Извозчик взмахнул вожжами…
Александр Ефимович Измайлов был заметной фигурой литературного Петербурга: плодовитый и довольно острый баснописец, автор изданного в девяносто девятом году романа «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», который с удовольствием читали грамотеи всех классов, хотя строгие блюстители нравственности и обвиняли его в излишней вольности и грубости картин, издатель литературного журнала «Благонамеренный», председатель Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, над которым витала тень Радищева, поскольку общество это основали поклонники таланта создателя «Путешествия из Петербурга в Москву», и, наконец, приятель всей петербургской пишущей и печатающейся братии. Он водил знакомство со стариками — поэтами прошлого века — Иваном Ивановичем Дмитриевым, Иваном Андреевичем Крыловым, графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым, дружил со своими сверстниками, вступившими на литературный путь в начале века, — Василием Андреевичем Жуковским, Константином Николаевичем Батюшковым (с Батюшковым они совместно сочинили сатиру на Шишкова и его компанию «Певец в беседе любителей русского слова»), привечал молодежь — «лицеистов», как называли их в Петербурге, потому что многие выпускники Царскосельского Лицея — Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и другие — пробовали силы в сочинительстве и, судя по всему, грозили оттеснить всех остальных на второй план. Несмотря на солидный возраст — ему было уже за сорок лет, — Измайлов был человеком в высшей степени несолидным. Высокий, крупный, с довольно большим брюшком, он ходил вприпрыжку, а на его широком лице, на котором как-то смешно и нелепо торчал большой острый нос, все время было такое выражение, как будто он собирается рассмеяться, и он, действительно, готов был в любую минуту отпустить ядреную шутку или посмеяться услышанной.
После многих лет сотрудничества в различных журналах Измайлов с восемнадцатого года стал издавать свой собственный, в котором вполне отразился облик его издателя — «Благонамеренный» был журнал легковесный, открытый для всех авторов, редко-редко печатавший произведения первоклассных писателей, в основном заполнявшийся сочинениями самого издателя, а также начинающих и никому не ведомых творцов, отыскивать которых Измайлов имел такой талант, что Батюшков однажды пошутил: «Если писатели все вдруг пропадут, Измайлов из утробы своей родит новых словесников, которые будут снова писать и печатать». Сотрудникам своим Измайлов, как правило, не платил, печатал «из чести». Правда, надобно сказать, что и доходы издателя были мизерны, журналом он занимался больше из непреодолимой страсти к литературе, чем преследуя выгоду. Средства к существованию он добывал весьма тяготившей его службой в Экспедиции государственных доходов.
Измайлов встретил Геракова и Рылеева, как будто только их ему и не хватало.
— Дорогой Гаврила Васильевич! Милейший Кондратий Федорович! Как я счастлив, что вы пожаловали к бедному труженику, не имеющему возможности даже выйти из дому.
— Журнал собираешь? — спросил Гераков, заваливаясь на диван, который жалобно скрипнул под его тяжестью.
— Да, с рождественскими праздниками совсем не было времени заняться им. На дворе февраль, а подписчики еще январского нумера не получили. Правда, подписчики у меня покладистые, авось простят, когда прочтут мое объяснение задержки. Тем более, что я обращаюсь к ним не прозою, а стихами:
Как русский человек, на праздниках гулял:
Забыл жену, детей, не только что журнал. —
Измайлов засмеялся, тряся брюшком.
— Кондратий Федорович пишет стихи, — сказал Гераков.
— Тогда, Кондратий Федорович, вы мне и друг и собрат. И я жажду услышать ваши произведения.
— Давайте, Кондратий Федорович, начинайте, — проговорил Гераков, устраиваясь поудобнее на диване.
— Как? Сейчас читать?
— Конечно, сейчас.
Он начал с «Путешествия на Парнас», выпустив, конечно, строки, относящиеся к Геракову.
— Браво! Браво! — воскликнул Измайлов.
— Мой ученик, — не без гордости проговорил Гераков. — Давайте еще.
Рылеев прочел «Друзьям в Ретово», «Луну», «Сон», «Романс», «Воспоминание», несколько эпиграмм, и каждая вещь вызывала восхищение и одобрение Измайлова. Правда, он (и Гераков тоже) посоветовали исправить несколько неудачных строк и выражений, но общее мнение было положительное.
— Я напечатаю ваши творения в моем журнале. Завтра же занесите мне для начала одно-два стихотворения и пяток мелочей, — сказал Измайлов не принимающим никаких возражений тоном.
— Вы полагаете, мои стихи достойны печати?
— Конечно! Конечно! — горячо воскликнул Измайлов. — Ваши стихи много лучше иных, печатаемых ныне. Когда вы станете более известны публике, я буду вас рекомендовать в члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, как полгода назад рекомендовал нашего молодого, уже славного, но в будущем обещающего еще больше поэта Александра Сергеевича Пушкина, который ныне является членом нашего общества. Не читали, в седьмом нумере «Благонамеренного» за прошлый год я поместил его надпись: «К портрету Жуковского»? Прелестные стихи.
— В вашем журнале, уважаемый Александр Ефимович, и Пушкин сотрудничает?
— У меня сотрудничают лучшие поэты: Пушкин, Глинка, Милонов, Денис Давыдов… Гаврила Васильевич, мне тут принесли список одной песни новой поэмы Пушкина «Людмила и Руслан», которую он уже дописывает и вскорости опубликует.
Гераков встрепенулся:
— Ну-ка, дай посмотреть. — Получив из рук Измайлова довольно объемистую пачку, он просмотрел несколько страничек и причмокнул. — Тут, брат, чтения на час, я, пожалуй, домой возьму.
— Только никому не показывай, мне под большим секретом дали. Пушкин, естественно, не хочет, чтобы до печати стихи по свету пошли гулять.
— Будь покоен.
— Не позволите ли и мне взглянуть на новое творение замечательного поэта? — робко спросил Рылеев и добавил: — Если возможно… Можете быть уверены в моей скромности.
— Я вам верю, милейший Кондратий Федорович! После Гаврилы Васильевича сей манускрипт будет у вас.
Гераков поднялся с дивана.
— Ладно, мы пойдем, Александр Ефимович. Счастливо оставаться. У тебя еще, чай, дел много, и у нас дела.
Прощаясь и крепко пожимая руку Рылеева, Измайлов приговаривал:
— Значит, завтра жду вас со стихами, после обеда… Выберете, что сами считаете лучшим…
Радостное волнение, в котором Рылеев вернулся от Измайлова, не укрылось от Екатерины Ивановны. Словно бы невзначай она сказала в пространство, ни к кому не обращаясь:
— Хорошими вестями с нами, конечно, делиться не хотят.
— Что ты, душенька? — спросил Петр Федорович, отрываясь от пасьянса, который он в то время раскладывал и в который был полностью погружен. — Ты мне Чего сказала?
— Я так просто. Вон Кондратий Федорович чему-то радуется, а чему — не говорит.
Малютин взглянул на Рылеева вопросительно.
— И впрямь ты нынче сияешь, как солдат после третьей чарки. Неужели выгодную службу нашел?
— Нет, Петр Федорович, не нашел.
— Чему ж тогда радуешься?
— Нынешний день принес мне гораздо большую радость, нежели отыскание хорошего места в службе.
Екатерина Ивановна, скривившись, усмехнулась и произнесла обидчиво:
— Вы, Кондратий Федорович, любите говорить загадками, но мы не имеем никакой охоты их разгадывать.
Рылеев, пропустив мимо ушей иронию, которую Екатерина Ивановна вложила в свои слова, продолжал с тем же подъемом:
— То, чему я сегодня радуюсь, скоро станет известно всем. И когда придет время, вам, Екатерина Ивановна и Петр Федорович, я сообщу первым об этом.
— Мерси, — холодно бросила Екатерина Ивановна.
— Ты, душенька, зря обижаешься, Кондратий весьма разумно поступает, не афишируя своего предприятия. У тебя глаз черный, еще сглазишь, — сказал Петр Федорович и рассмеялся.
Наташа, как всегда тихо, сидела в креслах с вышивкой и за все время этого разговора не произнесла ни слова. Рылеев видел в ее глазах нетерпеливый вопрос и потихоньку показал два сложенные вместе пальца, что означало у них: «Скажу, когда останемся вдвоем», она улыбнулась и снова склонилась над вышиваньем.
Рылеев сам горел нетерпением поделиться своей радостью, и, едва они с Наташей ушли в свою комнату, он бросился обнимать ее, закружил, посадил на стул, сам встал перед ней с простертой правой рукой.
— Скажи, кто я?
— Мой милый Кондраша.
— А еще кто?
— Мой любимый…
— Ты зришь перед собой поэта! — и Рылеев, захлебываясь, рассказал о своем триумфе в «Благонамеренном».
— Как я рада за тебя, милый мой поэт!..
— Ты, Наташенька, ложись спать, а мне надо отобрать и переписать стихи.
Рылеев зажег две свечи и разложил на столе тетради и листки со стихами.
Отобрать из всего написанного два-три стихотворения оказалось не так-то легко. Многие стихи казались ему достойными печати.
— Наташенька, может, дать «Сердце в выборе невольно…»?
— Конечно!
— А может быть, «Людмилу» и «Весну»?
— Их тоже надо. И еще «Романс».
— «Романс» безусловно даю, это лучшее мое произведение. Значит, всех их откладываю к тем, что даю Измайлову.
В конце концов, после долгих перекладываний стихотворений из одной стопы в другую, Рылеев остановился на двух стихотворениях и трех эпиграммах. Зато уж отобранные вещи, по его мнению и мнению Наташи, были безукоризненны. Эпиграммы «Ты знаешь Фирса-чудака?..», «Безделок несколько наш Бавий накропав…» и «Надпись к портрету одного старого воина, умершего от кровопускания» отличались легкостью и остротой выдумки. Элегия «К Делии» — подражание третьей элегии Тибулла — получилась не хуже, чем подобные стихотворения Батюшкова и Милонова. Но гордостью Рылеева был, конечно, «Романс».
Рылеев явился к Измайлову, как тот пригласил, после обеда, в четвертом часу. Но хозяина не оказалось дома. Старик слуга, привыкший к безалаберности барина, сказал Рылееву:
— Ежели у вас есть время, подождите его в кабинете, авось придет, или же соблаговолите сказать, что ему передать. Передам в точности.
— Пожалуй, подожду, — ответил Рылеев.
— Как вам будет угодно. — И слуга проводил его в кабинет.
Рылеев взял со стола, заваленного бумагой, листами корректур, книгами и журналами и посыпанного табаком, лежавшую с краю книгу. Это оказался томик Озерова с «Фингалом». Рылеев раскрыл его на середине и принялся читать.
В передней послышались голоса. Рылеев оторвался от книги, радуясь, что пришлось недолго ждать. Но открылась дверь, и вместо Измайлова в кабинет вошли молодой человек с арапскими чертами лица — толстыми губами и густыми, в мелких завитках, русыми волосами — и совсем юный корнет-конногвардеец.
Молодой человек поклонился Рылееву и спросил:
— Где же нынче пропадает почтенный издатель?
— Не знаю. Он назначил мне прийти, я пришел…
Молодой человек звонко расхохотался и перебил Рылеева:
— И посему вы утешаетесь заржавым стихом Озерова. «Где Бренский? Но Бренского не зрю!» — Со смехом и издевкой он процитировал строку из озеровского «Дмитрия Донского».
Рылеева возмутил этот самонадеянный тон.
— Позвольте вам сказать, что вы ничего не смыслите в поэзии, — вызывающе сказал он.
— Я? — удивился молодой человек. — Вы очень дерзки. Но я не люблю дерзостей. Сегодня четверг. Ровно неделя, как я не стрелялся. Это становится скучным.
— К вашим услугам, отставной подпоручик Рылеев.
— Русский дворянин Пушкин.
— Пушкин? — повторил Рылеев и пристально взглянул на него.
— Да, Пушкин, — раздраженно ответил молодой человек.
— Тогда я беру свои слова назад, ибо кому, как не вам, судить о поэзии. Вчера в этом кабинете я имел счастье слышать стихи из вашей поэмы и восхищен ими!
Пушкин с подозрением, изучающе глядел на Рылеева, потом рассмеялся, легко и свободно.
— Озерова я не люблю не от зависти, но из любви к искусству. Я своих слов об Озерове обратно не беру, по за тон, в котором они были высказаны, прошу извинить, ибо к вам относится собственно тон.
Рылеев поклонился.
Пушкин присел на диван, вскочил.
— Однако Александр Ефимович может отсутствовать до завтра. Бог с ним, зайдем в другой раз.
После ухода Пушкина вскоре пришел Измаилов. Он ничуть не был смущен тем, что его ждали.
— Вы стихи принесли?
— Да. Вот они.
— Отлично. — Измайлов перебрал листки. — Для начала дадим мелочи… Какую поставить подпись?
— Там обозначено.
— Значит, полного имени обозначать не хотите…
— Да, прошу поставить литеры: К. Р — в.
4
Уже почти полгода прошло с тех нор, как Рылеев с Наташей приехали в Петербург. Службы все не было. Рылеев, наконец, понял, что надеяться на протекцию Малютина нечего. Это издали, из Подгорного, да еще в матушкиных глазах Петр Федорович представлялся значительным лицом, а в сущности он нигде и ни в чем не имел никакого веса. Генеральский чин Малютин выслужил в смутные павловские времена, когда друзей и товарищей иметь было опасно, и каждый лез вперед сам по себе, поэтому сейчас, выйдя в отставку, он не имел ни связей, ни возможностей. Поняв это, Рылеев перестал даже спрашивать Петра Федоровича, как идут хлопоты.
Когда стало удобным съехать от Малютиных, Рылеевы вернулись в Батово. Наташа говорила, что в деревне ей лучше и спокойнее, чем в городе, но Кондратий Федорович каждую неделю дня два-три проводил в Петербурге. Он возвращался из столицы, каждый раз полный впечатлений: знакомство с Измайловым становилось все теснее и теснее, Рылеев часто заставал у него кого-нибудь из литераторов, узнавал последние литературные новости. Так он познакомился с шумным, многословным, пылко восторженным Кюхельбекером и прямой противоположностью ему — медлительным ленивцем бароном Дельвигом, с Николаем Ивановичем Гнедичем, трудившимся над переводом «Илиады», общепризнанным законодателем литературного вкуса, с Гречем — острым журналистом и издателем, с полковником Федором Николаевичем Глинкой, окончившим, как и Рылеев, Первый кадетский корпус, а теперь служившим чиновником особых поручений при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче, поэтом, прозаиком, человеком необычайно деятельным, о нем говорили, что он состоит членом всех литературных, просветительных, филантропических и других обществ. Правда, знакомство со всеми ними было весьма поверхностным, иногда удавалось вставить фразу в общий разговор, но само присутствие в обществе литераторов давало богатую пищу для впечатлений и размышлений.
Возвращаясь в Батово, Рылеев пересказывал Наташе все, что видел и слышал. Она выслушивала его с интересом, расспрашивала о подробностях. Но иногда он заставал ее в слезах.
— Ты о чем плачешь?
— Ни о чем…
— Ты не больна?
— Нет…
— Тебе плохо здесь?
— Хорошо…
Тоска сменялась бурными припадками веселья, порой заканчивавшимися нервическими рыданиями. Рылеев ничего не понимал.
Однажды Настасья Матвеевна зазвала его в свою комнату.
— Надо вам, Кондрашенька, собираться в обратный путь, — сказала она со вздохом.
— Зачем?
— Не видишь разве, как Наташенька томится. Страшно ей. Всегда-то рожать страшно, а впервые — и вовсе.
— Но зачем же ехать?
— А затем, что при родной матушке ей спокойнее будет.
— Ну что ж, если надо ради Наташи, придется ехать.
— Жаль мне отпускать вас, сердце изболится думаючи, только надо… — Настасья Матвеевна всхлипнула и утерла краем платка глаза.
Рылеев взял ее руки и поцеловал.
— Матушка, какая вы добрая!.. Мы скоро вернемся, и тогда уж никогда не покинем вас.
— Это как бог даст… Ты иди, скажи Наташеньке, что намерен отвезти ее в Подгорное, порадуй.
Наташа действительно, после того как Рылеев сказал, что матушка советует им ехать в Подгорное, развеселилась.
— А когда едем?
— Сегодня же велю готовить экипаж.
Времени на сборы оставалось мало, торопились, чтобы побольше проехать по зимнему пути, но починка саней должна занять дня три, и Рылеев поскакал в Петербург прощаться.
— Вовремя, вовремя пришли, Кондратий Федорович, мне как раз принесли из типографии пятый нумер «Благонамеренного», — встретил Рылеева Измайлов.
Рылеев взял журнал, взглянул в оглавление. От волнения, перескакивая через строку, никак не мог найти, что искал, — свои стихи.
— В разделе «Мелкие стихотворения» смотрите, — улыбнулся Измайлов.
И тогда Рылеев увидел: «Эпиграмма» К. Р — ва — страница 334, «Надпись к портрету одного старого воина» К. Р — ва — страница 335.
Он раскрыл журнал на этих страницах и, улыбаясь, смотрел на напечатанные стихи.
— Поздравляю с первым приобщением к печатному станку, — сказал Измайлов. — Лиха беда — начало.
— Позвольте и мне вас поздравить, — сказал невысокий господин в мешковатом сюртуке, которого Рылеев по заметил, входя в комнату. — Вы, как я понимаю, дебютант-автор, так примите пожелания успехов от дебютанта-издателя.
— Иван Михайлович Сниткин, магистр этико-политических наук, — представил Измайлов Рылееву господина в сюртуке. Тот поклонился. — Автор весьма любопытных сочинений на темы политической экономии и соиздатель журнала «Невский зритель».
— Очень приятно, рад с вами познакомиться, спасибо за добрые пожелания, — ответил Рылеев и, немного смутясь, добавил: — К сожалению, журнала вашего не имел случая видеть…
— «Невский зритель» действительно пока еще известен в обществе очень мало, мы начали издавать его с нынешнего года, и вышло всего два нумера. Но надеюсь, что при деятельной помощи сотрудников, которые столь же ревностно, как и мы, его издатели, желают быть полезными обществу в распространении знаний, наш журнал заслужит внимание и одобрение читающей публики.
— Каково направление вашего журнала?
— Мы поставили своей задачей дать читателю пищу как для сердца, то есть произведения изящной словесности, и в этом отделе приглашаю вас быть нашим сотрудником…
— Почту за честь.
— …так и для ума — статьи, исследования на исторические, политические и другие занимающие публику темы. Главным предметом раздела «История и политика» будет, например, изображение постепенного образования обществ, состояние гражданского устройства, просвещения и нравственности у знатнейших древних и новых народов. Конечно, по возможности будем касаться нынешней нашей злобы дня.
— Про нашу злобу дня пишется не на журнальных страницах, — усмехнулся Измайлов, — это предмет «карманной» — рукописной литературы. Правда, нынче «карманная» литература, пожалуй, даже более обширна, чем журнальная. Вы слышали, как об этом сказал Денис Васильевич Давыдов, сам немало постаравшийся на ниве «карманной» литературы?
— Нет.
— Он сказал: «Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения».
— Однако многое из того, что ходит в рукописном виде, могло бы быть и напечатано, — заметил Сниткин, — и именно от запрещения его цена удваивается.
— Вы, Иван Михайлович, как неопытный издатель еще мало знаете нашу цензуру, — со вздохом заметил Измайлов, — она как та пуганая ворона, не то что куста, собственной тени боится. Кстати, сегодня я получил список новой эпиграммы Пушкина на Аракчеева. Послушайте:
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? Преданный без лести,
< — > грошевой солдат.
Разве такое напечатают?
— Такое — нет, — сказал Сииткин, — но все затронутые здесь вопросы могут быть высказаны в более, так сказать, ученой форме.
— Нет уж, увольте, — замахал руками Измайлов. — Я дорожу своей головой, а критика Аракчеева, в какой бы форме она ни была высказана, все равно будет распознана, и тотчас воспоследует возмездие. Да и вы, Иван Михайлович, не рискнете напечатать на страницах своего «Невского зрителя», да и цензура не пропустит ничего подобного.
— Кабы удалось обойти цензуру, я бы рискнул.
— Вы, наверное, не имеете полного понятия о том, кто такой Аракчеев…
— Почему же, я знаю, что никто в России еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, что, не имея никакого высокого звания, кроме принятого им самим титла «верного царского слуги», он один, без всякой явной должности, вершит делами государства, что нет министерства или дела, которое не зависело бы от него, что нет места, куда бы не проникли его шпионы, что любые, имеющие смелость или глупость роптать на него, навечно исчезают в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей. Так ведь говорит молва?
— Да, так, — сокрушенно кивнул головой Измайлов.
— Недавно один очевидец рассказывал мне о волнениях в Чугуевских военных поселениях и о жестоком подавлении их, — продолжал Сниткин. — Справедливость требований поселян — а дело разгорелось из-за лугов, которые отобрали у местных крестьян, обрекая их на голод, — была так убедительна, что даже священники тамошние благословляли своих духовных детей, решившихся бесстрашно выдержать мучительные наказания, и проклинали тех, кто обнаружил слабость. Против одного единственного полка были двинуты дивизионы пехоты, артиллерия. Крестьян-поселенцев принудили подчиниться, Аракчеев приказал всех ослушников пересечь. Давали от трех тысяч до двенадцати тысяч ударов шпицрутенами. Многих забили до смерти. Среди наказанных двадцать девять женщин. Когда я слышу о таких ужасах, причиной которых является этот временщик, то готов забыть об осторожности!
Рылеев протянул руки Сниткину и пылко произнес:
— Я счастлив, что познакомился с вами! Честное слово — счастлив!
Кондратий Федорович вернулся в Батово за полночь. В доме не спали. Светились огни. По комнатам ходили.
— Ну, наконец-то! — встретила его восклицанием Настасья Матвеевна. — А у нас уже все готово к отъезду. Мы с Наташей переволновались. Ведь завтра утром ехать назначено, а тебя все нет.
— Завтра и поедем. — Поцеловав мать, Рылеев сбросил шубу и, прижимая к груди номер журнала, быстро пошел в комнаты.
— Матушка! Наташенька! Смотрите, что я вам покажу. Смотрите на триста тридцать четвертой и триста тридцать пятой страницах!
Настасья Матвеевна взяла в руки журнал, раскрыла и передала Наташе.
— Не вижу без очков, взгляни-ка ты, что там на этих страницах. Матрена, свети барыне лучше!
Матрена поднесла свечу к самой книге.
Зашелестели переворачиваемые страницы.
— Вот! Эпиграмма. «Ты знаешь Фирса-чудака?..» И подпись буквенная — три буковки: большое «К», большое «Р» и после тире — маленькое «в».
— Твои стихи?
— Мои! Это я! Александр Ефимович сказал, что эти две эпиграммы для начала, а в следующем номере пойдет «Романс». Итак, начало положено.
Настасья Матвеевна протянула руку за журналом.
— Дайте мне-то посмотреть! Поздравляю тебя, Кондраша. Радуйся, коли радует… Идите спать, хоть немного выспитесь перед дорогой.
Рылеев и Наташа ушли. А Настасья Матвеевна еще долго перекладывала собранные вещи, как бы не забыть чего. И утром она поднялась раньше всех.
Кучер Петр запряг лошадей. Еле-еле начинало светать.
Рылеев усадил в сани закутанную в шубу Наташу, укрыл полстью, уселся сам.
— Ты, Петр, поезжай осторожно, — наставляла Настасья Матвеевна.
— Сами понимаем, не извольте беспокоиться, — отвечал Петр. — Довезу в целости, не растрясу.
— Ну, с богом!
Сани тронулись. Настасья Матвеевна перекрестила отъезжающих.
23 мая Наташа родила девочку, которую в честь бабки назвали Анастасией, Настенькой.
5
За первыми эпиграммами в следующем нумере «Благонамеренного» Измайлов напечатал «Романс» и вместе с журналом прислал письмо, в котором писал, что эпиграммы, а особенно «Романс» многие хвалят, и даже такой строгий критик, как Николай Иванович Гнедич, одобрил их. Измайлов просил выслать еще стихов. Рылеев послал три эпиграммы и элегию «К Делии». Под элегией он просил обозначить его имя полностью: «К. Рылеев».
Теперь уж все острогожские знакомые признали Рылеева поэтом, и те, кто прежде посмеивался над его занятиями стихотворством, переменили свое мнение. Теперь в присутствии Рылеева все считали необходимым вести разговор на литературные темы.
Однажды у Рылеева зашел разговор об эпиграммах с Михаилом Григорьевичем Бедрагой.
Попыхивая трубкой, Бедрага с улыбкой слушал горячую речь Рылеева в восхваление эпиграмм, но не соглашался с ним.
— Пустяки — все эти эпиграммы, ровно как бы комариный укус: минуту спустя и забыл про него.
— А вы знаете эпиграмму Пушкина на Аракчеева «Всей России притеснитель…»? — спросил Рылеев.
— Нет, не слыхал. В наши края эта новинка еще не добралась.
Рылеев с удовольствием прочитал эпиграмму.
Михаил Григорьевич слушал, попыхивал трубкой, одобрительно качая головой на каждую строку. Но при последней строке поднял голову, вынул трубку изо рта и поднял ее вверх, как делал обычно, когда хотел возразить.
— Начало-то хорошо, граф — истинный притеснитель всей России, а конец не годится! Солдаты России славу снискали во всем мире! Разве вы, Кондратий Федорович, или я, да любой честный человек, которому довелось понюхать пороху, откажется от имени солдата? Да никогда! А Пушкин графа-то Аракчеева называет солдатом! Смешно! Кому ж в армии неведомо, каков Аракчеев солдат? Он за всю свою службу ни в одном деле не бывал! Когда при Аустерлице государь предложил было ему принять командование одной из колонн в сражении, он так перепугался, что заболел медвежьей болезнью.
— Однако поэтические достоинства этой эпиграммы вы не можете отрицать.
— Насчет поэтических достоинств вам, Кондратий Федорович, лучше судить. А только и про военные поселения не сказано, и про налоги…
И Бедрага задымил так, что клубы дыма совсем скрыли его.
…Рылеев много думал об Аракчееве, по самым разным поводам мысли и рассуждения неизменно приводили к этому имени.
Граф Алексей Андреевич Аракчеев был самой загадочной личностью России. Всех занимала эта загадка: какой колдовской силой обладает он, что смог в такой степени подчинить себе царя? Жизнь и карьера Аракчеева прямой и ясной линией проходила у всех на виду. Сын бедного дворянина, он учился в артиллерийском и инженерном кадетском корпусе, затем попал в Гатчину к наследнику-цесаревичу Павлу, усердием, с которым он муштровал своих солдат и вымуштровал в такой степени, что на плацу они представлялись не людьми, а автоматическими куклами, приобрел его благоволение, от него получил генеральский чин, графский титул. Наследник Павла Александр I назначил Аракчеева военным министром, поставил осуществлять надзор за Государственным советом, сделал своим докладчиком по важнейшим делам, наконец, поручил устройство военных поселений. И это в то время, когда замечательные государственные умы, взять хотя бы Сперанского, то возвышались на недолгое время, то совсем отстранялись от дел. И лишь Аракчеев неизменно вот уже четверть века, как гений зла, стоял черной тенью возле царя, на вершине власти.
Но устойчивость симпатии и Павла и Александра к Аракчееву объяснялась обидно просто: напрасно самые проницательные домашние политики пытались разгадать, какую дьявольскую цепь интриг плетет Аракчеев, его тайна заключалась в том, что он был верным, пунктуальным и не имеющим своего мнения исполнителем воли и желаний сначала возвысившего его императора, затем его сына. Для исполнения же приказа он спокойно переступал все нравственные и человеческие законы, становился жесток и не жалел ни людей, ни себя.
В Гатчине, ради идеальной выправки, строя и шага, Аракчеев бил солдат, разбивал собственные кулаки в кровь, вырывал у старых гренадеров усы, однажды в гневе даже откусил у солдата ухо. Но вырванные усы и откушенное ухо по сравнению с последующими «подвигами» уже казались невинными шалостями. Учреждая военные поселения и предвидя, что они вызовут сопротивление как выселяемых из своих деревень крестьян, так и поселяемых солдат, Александр I сказал: «Поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова». Аракчеев замучил до смерти столько людей, что их трупов, наверное, хватило бы и на более длинную, чем стоверстную, дорогу от Петербурга до Чудова.
В своем имении Грузино Аракчеев ввел такие же жестокие порядки, как в военных поселениях. Специальными приказами, правилами и регламентами определялись размеры изб, столов, занавесок, метелок, распорядок дня, час подъема и отхода ко сну, обеда и ужина, работы и хождения в церковь, бабам было предписано рожать ежегодно сыновей, за рождение дочери полагался штраф. Вообще система штрафов и телесных наказаний была детально разработана самим Аракчеевым и предусматривала возмездие за любой возможный проступок.
Хотя Рылеев и не был целиком согласен с Бедрагой в критике пушкинской эпиграммы, он тоже считал, что об Аракчееве надо высказаться основательнее. «Тут нужна не эпиграмма, а сатира, — размышлял он. — Бичующая, громозвучная, как величайшие творения славных античных авторов в этом жанре — Ювенала и Горация».
Могучий, жесткий и в то же время неторопливо-величественный ритм этой сатиры Рылеев уже ощущал в себе. Прорезывались отдельные фразы, выражения: «царя коварный льстец», «пронырством вознесенный», «ты мещешь на меня с презрением твой взгляд…».
Рылеев не сразу понял, что ему вспоминались строки из сатиры Милонова «К Рубеллию», читанной в прошлом году. А когда понял, бросился к книжной полке, нашел томик Милонова, раскрыл и перечел.
«К Рубеллию. Сатира Персиева» — называлось стихотворение Милонова. Рылеев не помнил, кто такой Персий, когда жил, что писал. «А-а, не все ли равно!» — весело подумал он, захлопывая книгу. Эта сатира Персия, как кристалл, опущенный в насыщенный раствор, вызывая бурную реакцию, вдруг кристаллизует его, так же вдруг дала форму мыслям и чувствам Рылеева.
«Подражание Персиевой сатире: «К Рубеллию», — размашисто написал он заглавие на чистом листе вверху, ниже — первую строку: «Надменный временщик, и подлый и коварный…», потом поставил заглавие в скобки и над ним написал новое: «К временщику» — и подчеркнул…
Три дня, не выходя никуда из дому, писал Рылеев.
Первоначальный запал не только не проходил, но увеличивался, строки хлестали громко и жестоко, как бич.
Когда Рылеев прочел сатиру Бедраге, тот с восхищением воскликнул:
— Вот это по-нашему! По-гусарски! Так его, сукиного сына! Так! Лихо отделал, Кондратий Федорович!
«К временщику» Рылеев послал в «Невский зритель» Сниткину.
6
В октябре Рылеев выехал в Петербург. Наташа с дочкой оставалась пока у родителей.
В Петербурге он был в начале ноября. Уже выпал скупой снег. По мерзлой мостовой мела поземка. Рылеев сидел в коляске, завернувшись в шубу, но холод проникал и под шубу. В голове не было никаких мыслей, кроме желания поскорее доехать, поскорее очутиться в тепле. Коляска стучала по камням мостовой то дробно и быстро, когда ямщик подхлестывал лошадей, то реже, когда ему надоедало размахивать кнутом. Рылеев не смотрел по сторонам, глубоко надвинув шайку на глаза. Вдруг коляска остановилась.
— Что такое? Почему остановился? Где мы? — недовольно спросил Рылеев.
— На Загородном проспекте, возле Семеновских казарм, — ответил ямщик. — Женок солдатских гонят…
Рылеев сдвинул шапку с глаз.
Посреди улицы, окруженная конвоем хмурых кирасиров, двигалась толпа женщин и детей. Многие женщины несли грудных младенцев. Почти все были одеты не по погоде легко, в юбках и кофтах, в толпе виднелось лишь несколько кафтанов. Сквозь детский плач прорывались истошные рыдания и уже безнадежный вопль:
— Ми-и-ленькие, позвольте хоть одежонку забрать! Миленькие!

Прохожие на тротуарах останавливались и смолкали, провожая это шествие взглядом.
Какая-то баба, сорвав с головы теплый платок, подбежала к идущим, но офицер, командовавший конвоем, наехал на нее конем.
— Пошла прочь!

— Что это? За что? — спросил Рылеев, потрясенный увиденным.
— В Семеновском полку был бунт, — ответил ямщик. — Солдат на прошлой неделе, после заключения в крепости, разослали по дальним полкам. Тоже не дали домой зайти, в теплое одеться. А нынче им вслед жен и детей гонят, ровно арестантов…
Жен семеновцев провели, путь освободился, и ямщик зло хлестнул лошадей.
— Ну, пошли!
Коляска дернулась, Рылеев от неожиданного толчка упал на сиденье, но ничего не сказал…
— Что такое случилось в Семеновском полку? — был первый вопрос Рылеева, едва он вошел в прихожую малютинского дома и увидел вышедших встретить его Петра Федоровича и Екатерину Ивановну.
— Ой, такого ужаса, такого ужаса мы натерпелись здесь! — всплеснула руками Екатерина Ивановна. — Боялись, что взбунтуются холопы!..
— Катрин, — остановил ее Петр Федорович, косясь на слуг, — дай Кондратию раздеться, поговорим в комнатах.
За столом, отослав прислугу, Малютин сказал:
— Да-а, признаюсь, жутковато было в столице. Солдаты Семеновского полка взбунтовались против своего командира полковника Шварца за якобы жестокое его обращение с нижними чинами, хотели его убить, но не удалось, не нашли. Дальше — больше, Васильчиков, Бистром, великий князь Михаил Павлович уговаривали их повиноваться, они — ни в какую…
— А в городе по улицам простонародье в толпы собирается, — перебила его Екатерина Ивановна, — рожи разбойничьи, страшно на улицу показаться! По всему городу бунт затевался. Новая пугачевщина.
— Уж сразу и пугачевщина! — с сомнением проговорил Рылеев. — Недовольство солдат против командира — такое бывало и прежде.
— Нет, нет! — живо возразила Екатерина Ивановна. — Солдатами руководил тайный подстрекатель, это точно известно.
— Откуда?
— Уже после того как государь повелел раскассировать семеновцев по разным полкам вне столицы, в казармах гвардейских полков обнаружили подметные письма, — сказал Петр Федорович. — Тебе-то, Кондратий, конечно, неизвестно, а я помню пугачевские времена, он тогда тоже в своих указах объявлял: «Начинайте, и тогда я явлюсь к вам».
В седьмом часу вечера Рылеев поехал к Сниткину.
— Извините, что без предупреждения…
— Это ничего, но могли бы не застать. Вас, конечно, интересует судьба вашей сатиры?
— Нет, сейчас меня более интересует возмущение в Семеновском полку.
— Кончилось это дело для солдат печально. Шварца, правда, отдали под суд, но вряд ли ему грозит что-либо серьезное, потому что его обвиняют лишь в неумении удержать полк в должном повиновении. Солдаты же теперь на весь срок службы обречены пребывать в подозреваемых, за малейший проступок наказание им будет определяться против следуемого суровее вдвое и втрое. Кстати сказать, уже около сотни солдат-семеновцев умерли во время заключения и по дороге к новым местам службы, поскольку не было пощады ни слабым, ни больным. И с семьями их было поступлено, как с преступниками. Государь, на которого так надеялись семеновцы, не вступился за них. Он сам испугался и подозревает действия какого-то тайного общества. «Внушение, кажется, не военное, — сказал он, — ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял…»
Смешанные, не осознанные до конца чувства волновали Рылеева, когда он слушал рассказ Сниткина, но сильнее всего были чувства возмущения и горести от тревоги за судьбу семеновцев.
— Тысячи людей, исполненных благородства, гибнут из-за одного мерзавца, не достойного даже названия человека! — воскликнул Рылеев. — Где же справедливость?
— Это я тоже хотел бы знать! — со вздохом усмехнулся Сниткин. — А сатира ваша печатается, нынче-завтра журнал выйдет. Но, должен сказать вам, многие удивляются, как цензура пропустила ее…
7
За время отсутствия Рылеева произошел ряд событий, заметно изменивших общую атмосферу в петербургском обществе. Правительство, сочтя, что либералы уж слишком много болтают непозволительного, предприняло против них меры: цензура получила указания более строго подходить к своим обязанностям, министерству просвещения намекнули, чтобы оно поменьше давало разрешений на новые периодические издания, полиция увеличила штаты тайных осведомителей, и для острастки либералов был выслан из Петербурга Пушкин, причем первоначально шел разговор о заключении его в тюрьму Соловецкого монастыря, и лишь потом благодаря заступничеству и просьбам друзей, хлопотам Карамзина и Жуковского дело ограничилось назначением на службу в южный край. Все эти меры возымели свое естественное действие: с одной стороны, тем, кто и ранее не порицал действий правительства, они вообще запечатали рты, а тем, кто осуждал правительство, дали темы для новых толков, эпиграмм, острых слов. В обществе во множестве списков распространилось сочинение под названием «Мысли девятнадцатого века». Списки довольно значительно отличались один от другого — свидетельство того, что сочинителей было много, но каждый из них изображал мрачную картину современного состояния России: «Грех — скончался в имени, а живет в действии; правда — на земле сгорела и вознеслась на небо; искренность — спряталась; правосудие — сбежало; добродетель — ходит по миру; благотворительность — под арестом; помощь — в доме сумасшедших; истина — погребена под развалинами; совесть — сошла с ума; вера — осталась в Святом городе; надежда — с якорем на дне моря; любовь — больна простудою; честность — вышла в отставку; кротость — взята в драке на съезжую; закон — на пуговицах сенаторов; терпение — скоро лопнет». Высказывали удивление, как же при таких условиях все не развалилось в хаос. Повсюду повторяли каламбур известного острослова князя Петра Андреевича Вяземского: «У нас самодержавие значит, что в России все само собою держится». А высылка Пушкина вызвала острый интерес к нему и к тем стихам, из-за которых он был выслан; вокруг его имени складывались легенды, а на его стихи возник такой спрос, что иные переписчики неплохо заработали на них. Расправа с Семеновским полком удивила и многих напугала, жестокость и неразумность распоряжений начальства внесли растерянность в головы даже самых записных умников, обычно все знавших и смело определявших на годы вперед внешнюю и внутреннюю политику всех
государств, а теперь не бравшихся предсказывать даже ближайший шаг правительства. Все находились в состоянии тревожного ожидания. Таким застал Рылеев по своем приезде Петербург.
Поднимаясь к Измайлову, Рылеев повстречался на лестнице с пехотным поручиком Родзянкой, поэтом, которого он уже один раз видел у Александра Ефимовича. Поручик поклонился. Рылеев ответил кивком, и они разошлись. Рылееву показалось, что во взгляде поручика было какое-то смущение. Но в следующее же мгновение и поручик, и его взгляд позабылись, Рылеев вошел в квартиру, снял шубу.
— Кто там? — послышался голос Измайлова из комнат.
— Это я, Александр Ефимович! — отозвался Рылеев и торопливо шагнул из передней. — Вот, принес вам подарочек: вышел «Невский зритель» с «Временщиком»!
Но когда он переступил порог кабинета, то увидел, что Измайлов, стоя возле стола, держит в руках этот же нумер журнала, против него на диване сидят Дельвиг и Сниткин.
— А мы как раз говорили тут про вашу сатиру и про вас, — сказал Измайлов. — В напечатанном-то виде оно представляется еще острее, чем в рукописи…
— Так это и хорошо! — воскликнул Рылеев.
— Кабы передо мной была возможность поразить Нерона или Тита, — проговорил Дельвиг, — то я бы вонзил меч в Тита, а Нерон нашел бы себе смерть и без меня…
— Что ты болтаешь! — с упреком прервал его Измайлов. — Подобные разговоры в настоящее время и глупы, и опасны!
Только после окрика Измайлова Рылеев уловил связь слов Дельвига с предыдущим разговором: Нероном сейчас часто называли Аракчеева, а с Титом — римским императором, по словам древнего историка, «любовью и утешением рода человеческого», во многих верноподданических одах сравнивали императора Александра.
Измайлов повернулся к Рылееву и продолжал с тем же упреком:
— Чего же тут хорошего? Изображение слишком уж верно. Вы понимаете, против кого вы восстали? Младенец против великана!
— С юридической точки зрения, ни в словах барона Антона Антоновича, ни в стихах Кондратия Федоровича никакого преступления найти невозможно, — тихим бесстрастным голосом произнес Сниткин, — поскольку в них не названо по имени никакое конкретное частное или должностное лицо, которое могло бы счесть себя оскорбленным.
Измайлов махнул рукой:
— А-а, что тут говорить! Какая у нас юридическая точка зрения, когда правосудие, — он хмыкнул, — сбежало. У нас все возможно! Может быть, пронесет… Может быть, не заметят…
— Я бы предпочел, чтобы заметили, — сказал Рылеев, — а там по пословице: «Что ни будет, то будет, а будет то, что бог даст».
Аракчеев получил письмо от императора по поводу бунта в Семеновском полку.
«Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами, — писал Александр, — или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всем известен за хорошего и исправного офицера и командовал с честью полком. Отчего же вдруг сделаться ему варваром?»
Граф поднес к губам письмо царя. Это целование всех получаемых от Александра собственноручно писанных бумаг было одним из пунктов ритуала служения государю императору, которые он исполнял истово и неукоснительно, как на людях, так и находясь в одиночестве.
Письмо царя заключало в себе поручение заняться поисками тайных подстрекателей, и Аракчеев тотчас же приступил к исполнению его.
Наиболее толковым агентам было поручено особенно обращать внимание на разговоры о событиях в Семеновском полку, директору петербургского почтамта дано распоряжение перлюстрировать письма и копии с тех, в которых содержится какое-либо упоминание о беспорядках в армии, доставлять прямо Аракчееву. Уже день спустя с почтамта доставили первую пачку писем. Аракчеев тотчас же принялся их читать.
О семеновской истории писали много. Пожалуй, ничто другое не могло дать представление о том, насколько широко затронула эта история Петербург, как письма дворян, учителей, чиновников, военных, мещан, литераторов, докторов, профессоров — людей самого разнообразного чина и звания. Среди них почти никто не был свидетелем самого возмущения, передавали слухи и высказывали собственные соображения. Все это не представляло для Аракчеева никакого интереса, так как ни в коей мере не способствовало поискам тайных зачинщиков и подстрекателей семеновцев.
Выписка из письма какого-то отставного подпоручика Рылеева в Воронежскую губернию отставному полковнику Бедраге тоже не обратила на себя особого внимания.
«В лейб-гвардии Конно-егерском полку была также неприятность против Потапова, — сообщал отставной подпоручик, — офицеры еще в октябре было подали почти все в отставку; но теперь все кончилось благополучно. Любовь к воинским занятиям в крови царей наших столь сильна, что даже и Александр Николаевич по приказанию Михаила Павловича вытягивает уже руки по шву.
Моя сатира «К временщику» уже печатается в 10 книге «Невского зрителя». Многие удивляются, как пропустили ее…»
Первую половину выписки Аракчеев оставил без внимания, вторая же остановила его внимание, и против нее он написал: «Выяснить, чем вызвано удивление пропущением оной сатиры, и ежели имеются поводы к этому, остановить печатанье».
На следующий день Аракчеев, строго следивший за исполнением своих поручений, спросил дежурного чиновника:
— Что выяснено насчет вчерашней сатиры?
— Ваше сиятельство, в копию письма вкралась ошибка: сатира не печатается, а уже две недели как напечатана, и нумер журнала с ней доставлен подписчикам и продается в книжных лавках.
— Ну и что же содержится в сей сатире? Чем вызвано сомнение в пропуске ее?
— Ваше сиятельство, говорят, что в сатире имеются намеки на особу, занимающую высокое положение…
— На кого же?
Чиновник замялся. Аракчеев нахмурился.
— Отвечай на мой вопрос.
— На… вас… — запинаясь, выдавил из себя чиновник.
Аракчеев вздохнул.
— Много про меня говорят глупостей, не понимая. Один государь — мне покров и утешение. Однако снеситесь с министром просвещения и поставьте ему на вид, что он распустил своих цензоров и что если еще раз в печати появится что-либо подобное, то я сам займусь этим делом. Да, а на цензора, пропустившего это сочинение, наложить взыскание.

Министр просвещения и духовных дел князь Голицын, получив отношение из канцелярии ведомства военных поселений о сатире «К временщику», был в затруднении. Правда, он по службе не подчинялся Аракчееву, но, с другой стороны, желание графа лучше было исполнить. Голицын не знал, под каким законным предлогом он мог бы наказать цензора, так как никакого формального повода для этого не было.
Голицын послал сказать Аракчееву, что разберется в этом прискорбном деле и наложит на виновных взыскания. Но, послав, он только оттянул принятие решения, которое надо было все равно принимать. Князь не обладал быстрым умом (при Павле он был однажды выслан царем из города «за глупость», когда не смог сразу ответить на какой-то вопрос); чтобы придумать что-то, ему нужно было время. А времени-то в данном случае как раз и не было.
Когда князь Голицын находился в раздумье, к нему вошел с докладом директор департамента духовных дел Александр Иванович Тургенев.
— Что с вами, Александр Николаевич?
— Да вот, видите, неприятность: до графа Алексея Андреевича дошло, что в «Невском зрителе» пропечатана на него какая-то сатира, и поэтому он требует наказать цензора.
— Но, Александр Николаевич, это всего лишь пустая выдумка. Я читал сатиру, и в ней имя графа не названо. Прежде чем начинать следствие, необходимо узнать, это ли стихотворение граф считает имеющим отношение к нему.
Голицын взял бумагу, присланную из канцелярии Аракчеева, и отдал Тургеневу.
— Составьте, дорогой Александр Иванович, ответ, как вы умеете, мне самому недосуг, а поручить, кроме вас, некому.
Тургенев написал по всем правилам канцелярской формы и вежливости запрос о том, какие именно выражения в напечатанном переводе древнего поэта Персия граф считает относящимися к нему, поскольку в стихотворении прямо имени графа не означено.
Ответа на этот запрос из канцелярии Аракчеева не последовало.
Минул месяц с выхода «Невского зрителя» с «Временщиком». Никаких репрессий не последовало. Стало ясно, что туча пронеслась. Все терялись в догадках, почему не грянул гром, не истребил дерзкого поэта, и в конце концов пришли к мнению, что Аракчеев вынужден был, как говорят французы, «faire le bonne mine au mauvais jeu» — «делать веселую мину при плохой игре», сделать вид, что сатира к нему не относится. Во всей этой истории видели силу общественного мнения, с которой вынужден был считаться даже Аракчеев. Рылеев стал знаменитостью.
Измайлов успокоился и теперь при всяком удобном случае говорил, что он первый напечатал в своем «Благонамеренном» стихи Рылеева. Рылееву он объявил, что тот должен обязательно посетить ближайшее заседание Общества любителей словесности, наук и художеств, так как на нем, по желанию членов Общества, будут зачитаны его стихи.
Это приглашение и обрадовало, и взволновало Рылеева: ведь оно означало, что его признали литератором, волновало и предстоящее публичное чтение его стихов…
Вольное общество любителей словесности, наук и художеств называли также Михайловским, потому что оно проводило свои собрания в Михайловском замке в помещении Медико-филантропического комитета, или же Измайловским по имени его нынешнего председателя. Перед избранием Александра Ефимовича на пост председателя Общество, как говорится, дышало на ладан. В журнале его трудов весьма часто попадались записи вроде таких: «После трехмесячной праздности пришли в собрание», «После полугодовой праздности собрались только для того, чтоб разойтись, ничего не сделавши…» Но когда Измайлов стал председателем, Общество любителей словесности воскресло к жизни, стало регулярно собираться, пополнилось новыми членами за счет знакомых председателя, на его заседания иногда являлись весьма известные литераторы, и заседания порой проходили очень даже бурно.
Не без трепета приближался Рылеев к угрюмому зданию Михайловского замка. Сама мрачная архитектура его как бы была призвана напомнить те зловещие события, которые произошли в нем два десятилетия назад.
И, войдя в вестибюль, отдавая шубу лак, ею и поднимаясь по лестнице, Рылеев думал: «Тут шли заговорщики, судьба Павла Первого уже была решена ими, они шли, зная, что через несколько минут совершится убийство…» Он не знал, где находились комнаты царя, но, проходя второй этаж, уходящий от лестничной площадки темной анфиладой, он представил, что именно сюда, в темноту, сделали последний решительный шаг убийцы…
С третьего, освещенного этажа слышались голоса.
— Кондратий Федорович! — окликнул сверху Измайлов. — Идите к нам!
Измайлов разговаривал с Гнедичем и незнакомым Рылееву молодым чиновником. Рылеев поздоровался с Гнедичем. Молодой чиновник, не ожидая, когда его представят, порывисто протянул ему руку.
— Орест Михайлович Сомов.
— Однако, господа, пора начинать, — сказал Измайлов и, взяв Рылеева за локоть, направился в зал…
Большой длинный стол, накрытый зеленой скатертью, стоял в левой стороне зала, возле камина. У стола и вокруг него были расставлены кресла. Многие из них уже были заняты. Горели свечи на столе, на высоких подставках, в настенных канделябрах.
Измайлов провел Рылеева к столу, позвонил в колокольчик и, когда разговоры утихли, сказал:
— Господа члены и гости, позвольте представить вам моего молодого друга, поэта, напечатавшего в «Благонамеренном» и «Невском зрителе» несколько весьма замечательных пьес, Кондратия Федоровича Рылеева.
Рылеев почувствовал на себе взгляды присутствующих, покраснел и поклонился. Он слышал пронесшийся шепот, легкий говор, уловил слова: «Да, тот самый, что «К временщику»…»
— Позвольте начать заседание чтением произведения нашего уважаемого гостя, которое напечатано в последнем нумере «Невского зрителя».
Рылеев сел в кресло. Сомов раскрыл книжку журнала и начал читать. Читал он увлеченно, вдохновенно, и, если бы Рылеев не был так взволнован, он мог бы заметить, что Сомов читает его сатиру, не заглядывая в книгу, наизусть.
Когда окончилось чтение, раздались громкие аплодисменты и крики:
— Браво, Рылеев!
Затем читался перевод какой-то французской статьи о категориях прекрасного, очередная идиллия Владимира Ивановича Панаева, причем автор долго объяснял, что он написал ее уже тогда, когда предисловие к сборнику было отпечатано и потому там исчислено только двадцать четыре идиллии, а эта является двадцать пятой, и, хотя в предисловии и говорится только о двадцати четырех, ему советуют, несмотря на это, все же поместить ее в сборнике…
Рылеев исподволь рассматривал сидящих вокруг стола и в креслах людей. Всего присутствовало человек двадцать пять — тридцать. Несколько в военных мундирах, несколько во фраках, большинство в вицмундирах разных ведомств. Человек пять знакомых, которых он видел уже у Измайлова и Сниткина: Кюхельбекер, Дельвиг, Родзянко, Глинка…
В перерыве между чтениями Измайлов знакомил Рылеева с присутствовавшими. Кондратий Федорович только успевал кланяться и отвечать на рукопожатия и поздравления.
Кюхельбекер дернул его руку куда-то в сторону и многозначительно сказал:
— Ваша любовь к древней поэзии указала вам верный путь.
Воейков, кривя длинные тонкие губы в улыбке и поблескивая очками, которые скрывали выражение его глаз, осмотрел Рылеева, как будто анатомируя, и загадочно обронил:
— Очень, очень…
Когда Воейков отошел, Измайлов шепнул Рылееву на ухо:
— Может быть, в «Дом сумасшедших» попадете.
«Дом сумасшедших» была бесконечная сатира на литераторов, которую сочинял Воейков. Попасть в его сатиру было патентом на славу, почти то же, что в древности быть увенчанным лавровым венком.
Федор Николаевич Глинка задержал руку Рылеева в своей.
— Я хотел бы сойтись с вами поближе. Может быть, заглянете как-нибудь ко мне? Квартирую я в доме Анненковой на Театральной площади, где Контора адресов. Хотя бы завтра или послезавтра, часов в семь-восемь вечера. Кроме того, приглашаю вас посетить собрания и нашего общества. Мы собираемся по понедельникам, Вознесенский проспект, дом Войводы.
Глинка был председателем Вольного общества любителей российской словесности — самого авторитетного петербургского литературного общества, тон в нем задавали лицеисты.
— Благодарю, — горячо ответил Рылеев. — Обязательно воспользуюсь вашим приглашением.
— Лучше все-таки приходите ко мне домой, там мы сможем поговорить обстоятельнее и без помех.
Николай Иванович Греч — редактор-издатель журнала «Сын отечества», высокий, сухопарый, в круглых очках, сказал Рылееву, четко выговаривая каждое слово, как учитель при диктовке (Греч действительно много лет учительствовал в гимназии):
— Уважаемый Кондратий Федорович, надеюсь, у вас найдется что-либо из стихов или прозы для «Сына отечества». По четвергам у меня собираются литераторы, прошу пожаловать.
Греч кивнул и отошел.
— Нынче Греч неразговорчив, — шепнул Измайлов Рылееву. — Государь почему-то считает его причастным к семеновской истории, поэтому он озабочен придумыванием способа, как бы оправдаться в глазах государя.
Во все время, пока Рылеев разговаривал то с одним, то с другим, он чувствовал на себе взгляд тучного, с одутловатым лицом мужчины лет тридцати. Когда они встречались глазами, мужчина улыбался.
Толстяк подошел к Рылееву после всех:
— Фаддей Венедиктович Булгарин. Позвольте и мне выразить восхищение вашими смелыми стихами. Я сам пишу в сатирическом роде и даже, служа в армии, имел от этого большие неприятности.
— К сожалению, не читал ничего из ваших сочинений.
— Я — поляк и пишу по-польски.
— Стоя в Виленской губернии, я познакомился с польским языком.
— Так я дам вам мою сатиру «Путь к счастию», разговор поэта с богачом. Может быть, переведете ее на русский язык.
— Польщен вашим доверием, любезнейший Фаддей Венедиктович. Однако вы сами очень хорошо говорите по-русски.
— Неудивительно, я с младенчества воспитывался в России, в Первом кадетском корпусе, из которого выпущен в шестом году корнетом в Уланский его величества цесаревича полк.
— Так вы тот Булгарин, что был в корпусе! Я тоже кончал корпус, но в четырнадцатом.
— Значит, мы с тобой питомцы старого Бобра! Дай я тебя обниму, товарищ! — И Булгарин сжал Рылеева в неожиданно крепких объятьях. — К черту церемонии, нам ли, кадетам, считаться чинами и годами! Отныне я обижусь, если ты не будешь говорить мне «ты». Ах, черт, зовут к продолжению заседания! Поговорим после, ей-богу, я тебе смогу быть полезен, пока я тут верчусь, много кое-чего узнал. Вместе мы с тобой скорей пробьемся. Я слышал, тебя Греч приглашал, это очень хорошо, ты приглашением не манкируй: он, если обещал, напечатает. У него многие бывают, заведешь полезные знакомства.
8
До этого вечера Рылеев и не предполагал, что он встретит человека, чьи мысли и чувства оказались бы в такой степени одинаковы с его мыслями и чувствами. Более того, Федор Николаевич Глинка уже знал и обдумал многие вопросы и проблемы, которые, как понимал в ходе разговора Рылеев, неизбежно должны были бы встать перед ним в будущем. В рассуждениях Глинки Рылеев чувствовал убежденность и логику человека, ясно представляющего и свою цель, и путь, ведущий к ее достижению, и это захватывало, убеждало.
Глинка говорил энергично, увлекаясь, вскакивал с места, мелкими скорыми шагами ходил по комнате, взмахивая рукой, как будто рубил саблей. В кабинете на стене висела золотая наградная шпага с надписью «За храбрость» — память двенадцатого года. Глинка пользовался репутацией храброго офицера, а его военная биография была известна Рылееву по его «Письмам русского офицера» и другим сочинениям, и он представлял себе, что таким же энергичным, быстрым и напористым был Глинка и при Аустерлице, и в горящем Смоленске, и под ядрами Бородина, и при штурме Парижа.
Федор Николаевич был выпущен в армию из Первого кадетского корпуса в третьем году, поэтому общих воспоминаний о корпусе у них с Рылеевым, естественно, набралось не так уж много, но и тот и другой с благодарностью вспомнили корпус.
— Общественное воспитание, бесспорно, лучшее из всех видов воспитания, — говорил Глинка. — Оно уравнивает все состояния и приучает воспитанников к братскому союзу, что одно только впоследствии может стать истинной основой крепости общества. Ведь при домашнем воспитании как бывает: какой-нибудь княжеский или графский сын, привыкнув от молодых ногтей слышать беспрестанно, что все с поклонами называют его сиятельным, поневоле вообразит, что он в самом деле земное или, по крайней мере, комнатное солнце!.. Его лелеют няни и мамушки, за ним ухаживают слуги и дядьки, ему поблажает весь дом. Станет беситься — ему говорят: «Ваше сиятельство, не извольте резвиться!» Станет швырять, рассердясь, чем попало и в кого попало — ему говорят: «Ваше сиятельство, не извольте драться!» — и если б сиятельный повеса вздумал пырнуть кого ножом под самое сердце, то едва ли не с такою же снисходительностью сказали бы ему: «Ваше сиятельство, не извольте резать людей!» Напротив, в общественном воспитании все посторонние титулы, все причуды знатности исчезают, при всяком остается одно только звание человека. За худые поступки всем равно грозит наказание, и одни только добрые качества имеют право на награду.
Разговор коснулся стихотворения Глинки «К Пушкину», напечатанного в «Сыне отечества» уже после высылки Пушкина из Петербурга.
— Стихи старые, — пояснил Глинка, — и печатать их я не собирался, но нынче они пришлись ко времени.
— Очень ко времени! Ваши стихи — голос всей честной русской литературы! — воскликнул Рылеев. — А правда ли, что государь намеревался заточить Пушкина в Соловецкий монастырь?
— Да, правда. И знаете, кто подал эту мысль государю? Аракчеев. Пушкин, слава богу, догадался, откуда идет удар и отказался от эпиграммы на Аракчеева. Впрочем, и за ту эпиграмму карать его не следовало бы. Ведь если рассудить, то всякий, кто бы он ни был, проходя мимо дома, под углом которого тлеют угли, имеет право и даже должен, обязан закричать: «Берегитесь пожара!» И также всякий, увидя течь в корабле, имеет право воскликнуть: «Корабль там-то и там-то дал течь!» Эти простые сравнения можно применить ко многому. — Глинка замолк и после мгновенной паузы заговорил снова, глядя Рылееву в глаза: — Почему же любой человек, заметя беспорядок в обществе, не имеет такого же права говорить прямо и гласно, что видит его, и указывать на причину оного?
— Вы правы, конечно, человек должен обладать таким правом. Тем более поэт, который является гласом народа…
— Не только гласом, но также воспитателем нравов и просветителем, — подхватил Глинка. — Тут для литератора открывается обширное поле деятельности: во-первых, распространение своими сочинениями правил нравственности, во-вторых, Боепитание юношества, распространение познаний — три. Своими трудами литератор может обращать умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворять истинное просвещение, его задача поддерживать в словесности истинно изящное и подвергать критике и осмеянию пустые и безнравственные сочинения, он старается изыскать средство изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего.
— Я целиком согласен с вами, Федор Николаевич! Именно таких правил должен придерживаться современный российский поэт!
Русская литература представляла собой бурную реку.
Первоначально сравнение с рекой пришло Рылееву на ум под влиянием сатиры Батюшкова «Видение на берегах Леты»:
К реке подвинулись толпою,
Ныряли всячески в водах…
Но затем, чем больше он думал, тем больше смысла открывалось ему в этом сравнении.
«Что такое литература, как не река, в которую с разных концов обширной области стекаются речки и ручьи мыслей и чувств, источаемые родниками в неведомой, тайной глуши? — размышлял он. — Там, далеко, при рождении своем, они ведомы только двум-трем друзьям-соседям, а влившись в реку, присоединив свою лепту к общему потоку, выносят свои струи в большой мир и становятся всеобщим достоянием».
Если раньше Рылеев мог наблюдать за движением собственно литературы, то теперь перед его глазами развертывалась пестрая жизнь ее создателей. Они были не боги, а люди, а посему, как говорится, ничто человеческое не было им чуждо. Рылеев слышал и о героических подвигах (в Михайловском обществе нет-нет и вспоминали Радищева и Новико́ва), и о мелких, иногда даже постыдных поступках литераторов. Единый образ Поэта раздробился на множество конкретных людей.
Борьба мнений о путях литературы перемешивалась с борьбой самолюбий, большое с малым, величественное со смешным. Эпиграммы, сатиры, эпистолы, оды, трактаты в стихах и прозе отражали ход борьбы, как донесения и сводки отражают ход военных действий во время войны.
Некоторые литераторы создали себе славу и имя внутрилитературной борьбой. Александр Федорович Воейков — тонкогубый, желчный переводчик античных поэм, ученый филолог, получил известность только после того, как написал свой «Дом сумасшедших» и составил сатирический «Парнасский адрес-календарь, или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба», в котором И. И. Дмитриев значился «действительным поэтом 1-го класса», Денис Давыдов — «генерал-адъютантом Аполлона при переписке Вакха с Венерой», граф Хвостов — «обер-дубина Феба в ранге провинциального секретаря» и так далее. Сатира Воейкова, в общем-то, верно намечала разделения литераторов на группы и внутреннюю иерархию в группах.
Разобравшись в расстановке сил, Рылеев примкнул к «лицеистам» — литераторам нового направления, окрепшим и сформировавшимся в борьбе с «Беседой русского слова» — кружком писателей, которые начали писать в прошлом веке, считали высшим достоинством литературы выспренние оды и тот искусственный, полный церковнославянизмов, далекий от разговорного, но казавшийся им возвышенным и истинно поэтическим язык, которым они писались в последние десятилетия XVIII века.
В «Невском зрителе» и в «Сыне отечества», издаваемым Гречем и Воейковым, Рылеев напечатал несколько старых лирических стихотворений, в «Отечественных записках» Свиньина — биографическую заметку о Михаиле Григорьевиче Бедраге, поводом для написания которой послужило письмо Дениса Давыдова, напечатанное в тех же «Отечественных записках», в котором тот, исправляя ошибку какой-то публикации, сообщал, что первым эскадроном Ахтырского гусарского полка командовал не он, а Бедрага, «высокой храбрости и дарований офицер».
Рылеев с радостью и энтузиазмом ринулся в новую для него жизнь литератора; интересы, заботы, взаимоотношения, существовавшие в кругу литераторов и имевшие собственные, специфические черты, как имеет свои специфические черты всякая корпорация — военных, ученых, светских людей, — казались ему и привлекательными, и полными важного значения.
Все новое, что писал Рылеев, почему-то получалось в сатирическом плане. Принялся за прозу — и тут вышла сатира. Он написал и напечатал в «Невском зрителе» несколько нравоописательных картин-очерков: «Провинциал в Петербурге» — описание разорительного визита мужа-тюфяка и жены-мотовки в модную лавку, анекдот «Чудак» про некоего женоненавистника, который отверг любовь одной достойной девушки и влюбился в нее, когда она вышла замуж. Подобно многим, испытавшим свое остроумие на традиционной мишени — графе Хвостове, сочинил ироническую оду «Переводчику Андромахи»:
…твои стихотворенья
В потомстве будут все читать
И слезы сожаленья
За претерпенные гоненья
На мавзолей твой проливать.
Граф Хвостов, прочитав эту оду в «Невском зрителе» на ближайшем заседании Михайловского общества, наставительно заметил Рылееву:
— Спасибо за похвалы, но вы неправы — ополчение зоилов и даже невнимание современников не есть гонение. Гонимы были Тасс, Галилей, но ко мне сие не приложимо.
Он сказал это с таким ясным и незлобивым взглядом, что Рылеев почувствовал в глубине души легкое угрызение совести и подумал, что будет лучше впредь избегать шуток над Хвостовым.
Иван Михайлович Сниткин приглашал Рылеева в соиздатели «Невского зрителя» и даже высказался в том смысле, что он не прочь передать ему все права на журнал.
Рылеев загорелся, стал строить планы будущего журнала, написал в Подгорное, что будет издавать журнал и просил искать подписчиков. Но тут обнаружилось, что журнал находится на грани закрытия. Один из друзей, служивших в министерстве просвещения, доставил Сниткину копию с отношения министра просвещения попечителю санкт-петербургского учебного округа, ведавшему непосредственно цензурой. В отношении говорилось, что в журнале регулярно помещаются «неприличные статьи». «В книжке журнала «Невский зритель», часть первая, март, — писал министр цензору, — помещена опять целая статья под названием «О влиянии правительства на промышленность», в коей делаются замечания правительству в постановлениях и распоряжениях его и делаются наставления, весьма неприличные ни в каком отношении. Такое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае не может быть позволено, посему предписываю ни под каким видом не пропускать никогда подобных сочинений и переводов».
— Мне объяснили в министерстве, — сказал Сниткин Рылееву, — что при таких условиях передача журнала другому издателю, да еще только что доставившему министру неприятные волнения, поведет только к закрытию «Невского зрителя».
Так что от собственного журнала Рылееву приходилось отказаться.
А со службой ничего не получалось.
Федор Николаевич Глинка посоветовал:
— Почему бы вам, Кондратий Федорович, не принять какую-нибудь выборную должность. Дворяне у нас неохотно идут на выборные должности, а напрасно — кому как не первому в государстве сословию служить лучшему устроению общества и искоренению пороков, разъедающих все области правления? Особенно много злоупотреблений у нас в судопроизводстве; крестьянин — увы! — и нынче в законе мертв, хотя и существует немало весьма гуманных постановлений.
Далее Глинка рассказал о нескольких уголовных делах, по которым были осуждены на каторгу невиновные.
— Приговоры были бы иные, если бы в суде оказались честные люди, — говорил Глинка. — Равнодушие к чужой беде, желание услужить начальству, взяточничество — вот самые распространенные пороки наших судейских чиновников! Так неужели должно отдать им на откуп наш народ? Неужели следует пренебречь возможностью оказать благодеяние страждущим?
Рылеев последовал совету Глинки и, когда в январе дворянский съезд предложил ему баллотироваться на одну из выборных должностей, он дал согласие на должность дворянского заседателя Петербургской уголовной палаты, и был на нее избран.
Как-то получилось, что из всех новых знакомых чаще других Рылеев стал видеться с Булгариным. Где бы ни бывал он: на заседании Измайловского общества, на четверге у Греча, на литературном вечере у Глинки, в редакции журнала — он почти везде встречал Булгарина, который, завидя его, бежал навстречу, заключал в объятья. Часто заходил Булгарин к Рылееву в гостиницу то утром, то в обед, то вечером.
— Иду мимо, почему не зайти, не проведать друга, — говорил он.
Рылеев был доверчив и поэтому все излияния Булгарина принимал за чистую монету. Булгарин в душе смеялся над простаком, как он называл Рылеева, но нюхом чувствовал, что этот молодой стихотворец далеко пойдет и высоко занесется — вон какие значительные люди разговаривают с ним, как с равным, — а значит, из знакомства с таким человеком когда-нибудь можно будет извлечь немалую для себя пользу. И Булгарин старался — для будущего, беспрестанно говорил о своих дружеских чувствах, подробно и дотошно расспрашивал Рылеева, входил в его дела, сочувствовал, советовал, вызывался помочь, свести с нужным человеком, похлопотать, хвалил его стихи и прозу.
Пестрая, фантастическая, с падениями и взлетами, метаниями, странными и темными эпизодами, перетолкованная молвой и сплетнями биография Булгарина представляла собою такое противоречие, что давала легкую возможность выбирать из нее факты любого смысла и направления и в соответствии с этим создавать свой образ человека. Именно это и позволяло Булгарину одновременно сходиться и дружиться с людьми, которые между собою даже знакомства не хотели водить.
Отец Фаддея Булгарина — сторонник и почитатель Тадеуша Костюшки, в честь которого назвал сына, был сослан в Сибирь, а восьмилетнего Фаддея матери удалось определить в кадетский корпус. По окончании корпуса он служил в уланах, был изгнан со службы за сатиру на шефа полка великого князя Константина Павловича и разгульную жизнь, бедствовал, доходя до того, что выходил на городской бульвар и в сочиненных тут же стихах просил милостыню. Потом, в 1809 году, вступил в наполеоновскую армию рядовым, в двенадцатом году участвовал в походе на Россию. После окончания войны он оказался в Петербурге в роли ходатая по тяжебному делу какого-то своего родственника, за успешное ведение которого ему была обещана плата.
Вынужденный заискивать перед каждым стряпчим, льстить ему, поддакивать, прощать глупые шуточки, которые тот отпускал по адресу просителя, Булгарин только наедине с Рылеевым позволял себе выплеснуть всю свою ненависть и презрение, которыми он кипел ко всем сутяжникам. Его начинало трясти, он задыхался и, чтобы прекратить припадок бешенства, пускал себе кровь — это было единственным способом успокоиться.
У Тевяшовых тоже разбиралось в Петербургском сенате прошение, и Рылееву поручили хлопоты о нем. После нескольких визитов в Сенат один сенатский секретарь объявил ему, что просьба в Сенате получена, но, вероятно, будет возвращена с надписью, ибо таковых в общем собрании не рассматривают.
Булгарин, выслушав растерянного Рылеева, криво усмехнулся:
— В переводе на общепонятный язык это значит — дай! Из всякого правила есть исключения, в общем собрании прошения рассматривают сплошь и рядом, но без денег — увы! — ничего нельзя, деньги — лучшие стряпчие. По твоему делу требуется не очень много — хватит тысячи рублей. Кому сколько дать, я тебе скажу, а пока посули секретарю подарок и поезжай к обер-секретарю Ушакову просить, чтобы просьба была принята. В общем, дело твое вступило в такую стадию, что уже пора подмазывать. Не вешай, друг, носа, все это — естественный, так сказать, порядок вещей, и не нам его изменить, хотя я бы вот этой рукой, которая привыкла к сабле, с удовольствием разогнал бы их всех.
Булгарин сам писал сатирические стихи и время от времени помещал в журналах небольшие статейки.
— Брошу гнусное ремесло стряпчего, — не раз говорил Булгарин, — займусь литературой. Вон Греч со своего «Сына отечества» имеет хороший доход.
Когда Булгарин заговаривал о чужих доходах, глаза у него загорались, он пристально высчитывал чуть ли не до копейки, сколько получает Греч от того или иного своего литературного предприятия: от журнала, от издания своей грамматики, от чужих учебников, и каждый свой подсчет неизменно заключал:
— Вот какой дорожкой приходят рублики…
И чем дальше, тем чаще становились разговоры о рубликах, вытесняя другие темы, пока Рылеев как-то не сказал ему:
— Кто послушает со стороны, подумает: вот сошлись и толкуют два торговца-алтынщика.
Булгарин засмеялся, но после этого о деньгах стал говорить меньше.
В конце апреля Рылеев прочел свой перевод сатиры Булгарина «Путь к счастию» на очередном собрании Вольного общества российской словесности. За этот перевод он был избран членом-сотрудником общества.
9
Май в 1821 году выдался теплый — настоящее лето. Рылеев собрался ехать в Подгорное и по поводу предстоящего отъезда написал стихотворение:
Давно мне сердце говорило:
Пора, младый певец, пора,
Оставив шумный град Петра,
Лететь к своей подруге милой.
Чтоб оживить и дух унылый,
И смутный сон младой души
На лоне неги и свободы,
И расцветающей природы
Прогнать с заботами в тиши.
В книжную лавку Слёнина, что на Невском проспекте, у Казанского моста, Рылеев зашел в самый день отъезда.
— Получили ли что-нибудь новенькое? — спросил он у хозяина.
— Третий день торгуем девятым томом «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина.
Рылеев взял новый том «Истории», он был толще предыдущих, раскрыл посредине. Вдруг он услышал над ухом:
— И вы увлечены девятым томом?
Рылеев оглянулся.
— А-а, здравствуйте, Александр Ефимович.
— Говорят, что на улицах в Петербурге нынче такая пустота оттого, что все углублены в царствование Иоанна Грозного. — Измайлов рассмеялся.
— А вы уже прочли, Александр Ефимович?
— Посмотрел, так сказать, полистал… Но сразу видно — любопытно, очень любопытно. И написано волшебно… — Он приблизился к Рылееву и понизил голос: — Ходили слухи, что цензура запретила этот том. Вот как.
— За что?
— Напрашиваются кое-какие сравнения с ныне существующим порядком. — Измайлов еще понизил голос, перевел на шепот: — Великий князь Николай Павлович сказал о Карамзине, что он — негодяй, без которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны. А в одном обществе один литератор читал свое сочинение, характеризующее наше время, и в нем утверждал, что некие важные особы государства принадлежат более к царствованию Ивана Васильевича, хотя живут в веке Александра.
В Подгорном Рылеев не сразу принялся за чтение Карамзина, но, начав, уже не мог оторваться.
От первой же фразы, открывающей том: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства», от ее сдержанной эпичности повеяло на него дыханием великих бед и горя и спокойствием свидетеля, пережившего (а Карамзин пережил все это в душе своей) такие страшные времена, страшнее которых ничего не может быть, и поэтому уже не страшившегося ничего…
Читая про изощренные пытки, которым Иван Грозный подвергал ни в чем не повинных перед ним подданных — мужчин, женщин, детей, старцев, читая про массовые казни, при которых людей сотнями вешали, жгли на кострах, рубили, топили в реках, про насилия, чинимые опричниками над женщинами — женами и сестрами казнимых, Рылеев обливался слезами, захлопывал книгу, чтобы не читать больше про это, и опять раскрывал ее — так властно она притягивала к себе…
Рылеев читал страницу за страницей, с надеждой, что вот дочитает до той, где, наконец, историк скажет: «И переполнилось терпение подданных…» Но не было этих слов: подданные покорно несли свои головы на плаху и даже сами способствовали казням: любимец царя Федор Басманов собственноручно убил по приказу Иоанна своего отца, князь Никита Прозоровский — родного брата; когда царь воеводе Титову ножом отрезал ухо, воевода благодарил Иоанна за милостивое наказание и желал ему царствовать счастливо…
— Проклятая рабская покорность! — восклицал Рылеев. — Неужели в то время не нашлось ни одного человека, который бы назвал тирана тираном, а не государем?
И наконец, он нашел то, что так хотел найти: послание князя Андрея Курбского — отважного воеводы, героя штурма Казани и Ливонской войны, который, узнав, что царь уже дал приказ его казнить, бежал в Литву. Из Литвы Курбский прислал послание Иоанну: «Царю, некогда светлому, от бога прославленному, — ныне же, по грехам нашим, омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли…»
Карамзин и в ученом историческом труде оставался художником! Страницы, на которых рассказывалось о судьбе и деяниях князя Курбского, представляли собою как бы повесть о нем. Точными и впечатляющими чертами рисовал автор противоречивый образ героя своего повествования: сначала юного, храброго и удачливого воеводу, любимца царя, покрывшего себя военною славой, потом умного государственного деятеля, «мужа битвы и совета», ради интересов государства смирявшего свою гордость и сносившего от царя выговоры, оскорбления и даже угрозы, затем беглеца и в заключение — ослепленного гневом мстителя за нанесенные ему обиды.
Принятый радушно королем Сигизмундом, Курбский стал его первым советником во всех предприятиях, касающихся военных действий против России, и сам во главе отрядов иноземцев участвовал в набегах на русские земли, в разорении русских городов и деревень… И этим, писал Карамзин, он «возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников», ибо хотя «бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного:
спасаться от мучителя; но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству».
Рылеев все это прочел, но слова
«тиран», «мучитель», соединенные со словом
«царь», действовали на него гипнотически, он видел и слышал только их, и он видел только несправедливый гнев царя и страдания Курбского.
«Не боясь смерти в битвах, — читал Рылеев, — но устрашенный казнию, Курбский спросил у жены своей, чего она желает: видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки? Великодушная с твердостию ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастия. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, ночью тайно вышел из дому, перелез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных ему верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами».
Рылеев так ясно представил себе все это, что как будто все это происходило с ним, чувства гнева и горечи охватили его, и тогда родились первые стихотворные строки:
За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил…
То стихотворение, которое написал Рылеев о Курбском, не походило на обычную историческую балладу, в нем не было рассказа о событиях, описывались только его переживания и мысли, и Рылеев чувствовал, что тут и ни к чему пересказывать историю бурной военной судьбы Курбского, главное в нем мысли — о любви к отчизне, о неправедности тирана, о праве подданного не быть покорным, бессловесным рабом…
Рылеев переписал стихотворение, которое назвал «Курбский», набело и послал в Петербург Булгарину.
В письме он написал: «В своем уединении прочел я девятый том Русской истории… Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита. Вот безделка моя — плод чтения девятого тома.
Если безделка сия будет одобрена почтенным Николаем Ивановичем Гнедичем, то прошу тебя отдать ее Александру Федоровичу в «Сын отечества». Прощай. Свидетельствуй мое почтение всем добрым людям, сиречь: Н. И. Гнедичу, Н. И. Гречу, Барону, также Александру Федоровичу и проч…»
10
Теперь, когда Рылеева крепко-накрепко привязали к Петербургу и служебные, и литературные дела, волей-неволей приходилось обосновываться в столице по-серьезному.
Из Подгорного он вернулся с женой и дочерью, и на то время, пока подыщет квартиру, все поселились в Батове.
Осенью Рылеев нанял дом на
Васильевском острове в 16-й линии, где плата была гораздо умереннее, чем в Адмиралтейской, Литейной или Московской частях. Хотя и тут она была не так уж низка — семьсот пятьдесят рублей в год. Кроме того, владелец потребовал за треть вперед, а денег не было. Пришлось занять у Малютина.
Но, по правде говоря, заботы с наймом дома оказались для Рылеева очень приятными. Этот небольшой деревянный домик после скитаний по углам казался ему почти дворцом: четыре довольно просторных комнаты для жилья в самом доме, во дворе отдельная людская и кухня, конюшня на два стойла, но при необходимости туда же можно поставить и третью лошадь, ледник, дровяной сарай. Прежний жилец особенно хвалил печи — жаркие и дров мало жрут.
Служебные дела не позволяли Рылееву отлучиться из Петербурга, да, честно признаться, не очень-то и нужно было его присутствие при переезде, он знал, что матушка распорядится лучше его. Наняв дом, Рылеев отправил в Батово письма: Наташе — лирическое, матушке — деловое. «Сделайте милость, любезная матушка, — писал он Настасье Матвеевне, — отправляя Наташеньку, пришлите на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что Вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за все платить деньги.
Пусть Наташенька скорей едет, а то чтоб после Нева не задержала…»
Наконец обоз из Батова прибыл: впереди, в коляске, Наташа с Настенькой и няней, за ними две подводы с посудой и провиантом, за одной из них шла привязанная пестрая корова, заключал шествие воз сена.
Уже за квартал от Дома присутственных мест, где находилась и Петербургская уголовная палата, обнаруживалась ее близость. Публика здесь делилась на две разительно отличающиеся одна от другой категории — на просителей и лиц, имеющих отношение к вершению правосудия, как служащих в различных судебных учреждениях, так и частных ходатаев. Просителей можно было безошибочно определить по заискивающему выражению глаз, судейских — по спесивому виду; ничтожный переписчик поглядывал тут на просителя орлиными очами — ну прямо как прусский фельдмаршал Блюхер с картины «Битва под Лейпцигом». Тут на ходу вручались взятки, слышались мольбы, плач и обещания…
Рылеев всегда старался поскорее пройти этот последний квартал, где людское несчастье было отдано на произвол бесстыдному лихоимству.
По своему положению он имел возможность воздействовать на решение суда — подать свой голос за тот или иной приговор и убедить присоединиться к себе других заседателей.
Второе было, пожалуй, главнее первого. Это Рылеев понял при разборе первых же дел.
Заседатели ленились вникать в дела и целиком полагались на секретарей, ведших следствие, писавших экстракты и докладывавших суду. Так что все зависело от того, в каком свете представит дело секретарь. Умелые и опытные секретари подводили изложение к нужному им решению так ловко и незаметно, что суд послушно принимал именно его.
Секретарь был удивлен, когда Рылеев перед рассмотрением очередного дела попросил представить ему не экстракт, а материалы следствия, протоколы допросов и все остальные документы.
— Ничтожное дело-то, Кондратий Федорович, ясное, — пытался отговорить его секретарь. — Стоит ли вам тратить время на чтение. Факт потравы доказан, драка произошла в присутствии свидетелей, членовредительство засвидетельствовано лекарем.
— Я хочу, чтобы моя совесть была чиста при вынесении решения, — сказал Рылеев, — а для этого надобно знать обстоятельства из первых рук.
— Как желаете…
Детальное знакомство с различными судебными делами занимало много времени, приходилось являться в палату чуть ли не каждый день, но зато Рылеев очень скоро разобрался в механике работы секретарей, и в нескольких делах ему удалось склонить мнение суда не в ту сторону куда настойчиво указывал экстракт.
Каждое дело приносило Рылееву заботы и волнения, но особенно много выпало волнений, когда разбирали дело о «неповиновении» крестьян графа Разумовского в Гостилицкой вотчине Ораниенбаумского уезда.
Волнения начались летом двадцать первого года и происходили до весны двадцать второго. Причины обычные: тяжелая пяти-шестидневная барщина, при которой на обработку своих полей оставался один день в неделю, большая подать (такая большая, что даже Александр I посоветовал Разумовскому, чтобы он «понемногу убавлял столь отяготительный оброк»), жестокость и произвол бурмистра.
Неповиновение выразилось в том, что крестьяне отказались до окончания сенокоса на своих наделах косить господские луга и просили сменить бурмистра. Разумовский вызвал воинскую команду.
В деревню прибыл и стал постоем батальон солдат. Крестьяне послали ходоков с жалобой в Петербург, расследование по жалобе производил уездный предводитель дворянства и признал ее неосновательной. Тогда крестьяне решили на сходе идти в Петербург всем миром и жаловаться царю. Воинская команда часть крестьян задержала и посадила под арест, но многие все же ушли. Их ловили, хватали, арестовывали, при этом, конечно, происходили стычки между мужиками и солдатами. Около ста крестьян было высечено.

Одновременно дело разбиралось в Петербургской уголовной палате. Окончательный приговор по нему гласил: десять человек бунтовщиков-крестьян наказать кнутом и сослать в каторжные работы в Нерчинск в кандалах; десять — наказать плетьми по сорока ударов и предоставить помещику решить: оставит ли он их у себя в вотчине или удалит, отдав годных в рекруты, а непригодных отправив в ссылку на поселение.
Приговор тотчас же был послан в Комитет министров и утвержден царем.
При вынесении приговора палата руководствовалась показаниями бурмистра и полицеймейстера. Самих крестьян даже не допрашивали.
Разумовский торопил вынесение приговора, генерал-губернатор Милорадович настаивал на быстрейшем приведении приговора в исполнение, ссылаясь на прошлогодний циркуляр министра внутренних дел, который, выражая волю самого царя, прежде всего требовал подавлять неповиновения, «какой бы ни был источник их».
Рылеев дважды выступал, доказывая, что суд не может приступить к обвинению, не проведя следствия, но суд не решился пойти против столь определенно высказанных пожеланий высшей власти. А уж после утверждения приговора императором тем более.
Рылеев понимал, что его протест ничего не изменит, и единственно, чего он добьется, — это того, что вызовет неудовольствие людей, которым лучше не противоречить. Но тем не менее он настоял, чтобы в «Журнал Комитета министров» было занесено его особое мнение, и там было записано: «Дворянский заседатель палаты уголовного суда Рылеев остался при особом мнении, что как дело подсудимых основалось только на донесениях управляющего вотчиной гр. Разумовского и на предположении обер-полицеймейстера и что из показаний подсудимых не видно ни причины возмущения, ни виновников и главных зачинщиков оного, то и не может он приступить к обвинению кого-либо из подсудимых».
Когда же приговор был утвержден, Рылеев подал еще одно «особое мнение», в котором недвусмысленно назвал действительным виновником произошедших беспорядков самого Разумовского: «Почитаю необходимым для предупреждения могущего вновь возникнуть неповиновения крестьян в вотчине гр. Разумовского послать по избранию правительства благонадежного чиновника для исследования на месте, действительно ли бурмистр Николай Егоров делает крестьянам притеснения, как то показывают некоторые из подсудимых, и если делает, то в чем оные состоят; а также как из первоначально производившегося в палате дела видно, что бурмистр действует не сам собою, а по установлениям, издавна в вотчинной конторе существующим, то исследовать: нет ли чего отяготительного в сих установлениях».
11
«Курбский» получил полное одобрение петербургских друзей, и в июле, когда Рылеев еще находился в Подгорном, был напечатан в «Сыне отечества».
Девятый том «Истории государства Российского» попался в счастливую минуту. Все, что Рылеев писал прежде, теперь перестало удовлетворять его, элегии и сатиры писались как бы по инерции, ум и душа были заняты другим. Он даже мог сказать, когда произошла в нем эта перемена. Случилось это весной. Николай Иванович Гнедич готовил речь о задачах литературы для прочтения в Обществе любителей российской словесности, отрывки из нее, по мере написания — Гнедич надо всем работал медленно, — читал знакомым. Рылеева поразила одна мысль его речи, в общем-то не новая, скорее банальная, но в то утро она вдруг открылась Рылееву своей глубокой и тревожащей истинностью. «Каждый из нас, — говорил Гнедич глуховатым голосом, — есть или быть должен виновником или светлой мысли, или благородного чувства в душе юной, которые, может быть, глубоко пустив корни свои, сделают вдохнувшего их, так сказать, творцом нравственного бытия человеческого».
Слова Гнедича перекликались с тем, что написал Юлиан Немцевич в предисловии к сборнику своих стихотворений «Исторические песни», который Рылеев впервые прочел еще в шестнадцатом году, когда его батарея стояла в Виленской губернии. По нему он совершенствовался в польском языке и до сих пор время от времени перечитывал его. «Напоминать юношеству о подвигах предков, — утверждал Немцевич в предисловии к «Историческим песням», — знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета».
«Курбский» вовсе был не похож на «Исторические песни» Немцевича, хотя сам Рылеев неоднократно говорил, что именно они послужили для него образцом. Но образцом для Рылеева послужили не форма, не содержание, не главная идея «Исторических песен» — у Немцевича совершенно отсутствовали и тема противоборства угнетенных и угнетателей — народа и шляхты, и тема тираноборчества. Рылеева привлекало священное и возвышенное намерение польского поэта — возбуждать любовь к отечеству, ведь этим же желанием был полон и он сам.
За «Курбским» последовали стихотворения о Святополке, Ермаке, Дмитрии Донском, Иване Сусанине, песнопевце древних времен Бояне… Теперь Рылееву стало ясно, что они не только отличны от песен Немцевича, но представляют собой новую тропу в русской поэзии, новый жанр. Он не сразу нашел название для этого жанра, прежде всего он отверг песню, балладу, элегию, ближе казалось наименование «гимны исторические», но и оно не удовлетворяло, и в конце концов было найдено настоящее название — дума. Такого жанра русская литература еще не знала, хотя в народной поэзии он известен издавна: так в старину русские называли песни — повествования о былых временах, сложенные во славу прежних героев и в поучение нынешним и будущим поколениям. А на Украине до сих пор поют думы о народных героях: Дорошенке, Нечае, Сагайдачном, Палее… Не раз слышал их и сам Рылеев.
Название стихотворений думами оказалось чрезвычайно удачным: его сразу приняли безо всяких споров и сомнений.
А сами думы собирали обильную жатву похвал и восторгов, хвалили за чистый и легкий язык, за благородные мысли и чувства.
Ироничный Вяземский, блестя стеклами очков, сказал:
— Ваши думы, Кондратий Федорович, имеют печать отличительную, столь необыкновенную посреди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших.
Дороже всего было, что поняли его главную цель, ради чего он, собственно, брал в руки перо, искал, изобретал, мучился, его стихи исполняли свою задачу — описаниями подвигов предков они возбуждали в читателях гражданские чувства.
Но и чисто литературный успех был большой. Имевший острый нюх в литературных делах, заранее предчувствовавший взлеты и падения, ядовитейший Александр Федорович Воейков, печатая в своем журнале думу «Смерть Ермака», снабдил ее таким примечанием: «Сочинение молодого поэта, еще мало известного, но который скоро станет рядом с старыми и славными», и потом старался заполучить каждую новую думу для себя.
Александр Александрович Бестужев — веселый, шумный, самоуверенный драгунский подпоручик с адъютантскими аксельбантами (он служил адъютантом у генерал-лейтенанта Бетанкура — главноуправляющего путями сообщения в империи) — сразу понравился Рылееву. Впервые Рылеев увидел его в Вольном обществе любителей российской словесности в тот вечер, когда представлял на суд собрания перевод булгаринской сатиры. Бестужев, уже член Общества, читал свой перевод чьей-то статьи о романтизме. Тогда их представили друг другу, и этим знакомство ограничилось, потому что после семеновской истории большинство гвардии, и в том числе драгунский полк, в котором служил Бестужев, было выведено из Петербурга в западные губернии. Но год спустя друзья, и не в последнюю очередь Федор Николаевич Глинка, вытащили Бестужева в столицу, выхлопотав ему адъютантское место, и он снова появился в Обществе.
Однажды по окончании заседаний Рылеев с Бестужевым вышли вместе на улицу, и случайно им оказалось по пути, завязался разговор, интересный для обоих. Вспоминали семеновскую историю.
Бестужев рассказал, что у него в старом Семеновском полку были друзья — Сергей Муравьев-Апостол, поручик Арсеньев, полковой адъютант Бибиков, поэтому в те дни, услышав, что какой-то батальон из расформированного полка отправлен в Кронштадт, Бестужев взял отпуск на двое суток и поехал туда на рейсовом пароходе. Семеновцев держали на старом полузатонувшем бриге «Память Евстафия». Решался вопрос, куда их дальше отправлять, говорили, как будто в Свеаборг. Батальонный командир полковник Вадковский находился с солдатами на «Евстафии». Семеновцам не отпускали провианта, они были без теплого обмундирования. Вадковский сказал Бестужеву: «Видимо, там надеются, что мы затонем. Ведь по регламенту Петра Первого запрещено даже выходить кораблям в это время года из гавани. Нашу же посудину и кораблем назвать нельзя…»
У Рылеева с Бестужевым обнаружилось удивительное совпадение интересов и мыслей, и они со смехом отыскивали всё новые и новые совпадения — литературные пристрастия, житейские привычки, симпатии и антипатии. Рылеев сказал, что он много раз перечитывал «Исторические песни» Немцевича, Бестужев подхватил:
— А я одно время просто не расставался с этой книгой и, ложась спать, клал ее под подушку.
Когда в Обществе шло обсуждение какого-нибудь произведения, то их выступления, без всякого предварительного сговора, били в одну точку.
Вообще на литературу разговор сворачивал постоянно, о чем бы они ни говорили до этого.
Бестужев еще в девятнадцатом году хотел издавать журнал. Подал прошение в цензурный комитет. В разрешении на журнал ему отказали, мотивируя его молодостью. Но, как полагал он сам и считали друзья, истинной причиной отказа послужило то, что он перевел отрывок из книги шведского историка Брея «Опыт критической истории Лифляндии», где говорилось о крепостном праве в России, но печатать который цензура запретила.
Рылеев и Бестужев не могли пожаловаться на издателей: все, что они писали, появлялось в печати, но в то же время их сочинения в журналах терялись среди множества всякого печатного хлама — безделок, графоманских писаний или — того хуже — верноподданнических и холуйских восторгов в виршах и в прозе. Но они понимали, что разрешения на свой журнал им не получить.
— Может, нам предпринять издание альманаха? — сказал Рылеев.
— На него не нужно разрешения, — подхватил Бестужев.
Теперь они ежедневно сходились в домике Рылеева на Васильевском острове и в квартире Бестужева возле Юсупова сада.
Говорили только об альманахе. Открыть его решили статьей о современной русской литературе, написать которую взялся Бестужев. Условились печатать только настоящих литераторов — и никаких любителей, балующихся от нечего делать стишками. За помещенные материалы платить гонорар, чего обычно издатели не делали, и авторы, приобретая литературную славу и известность, тем не менее вынуждены были добывать средства к жизни чем угодно, только не литературным трудом, что, как рассудили Рылеев с Бестужевым, не способствовало повышению достоинств литературных произведений.
Рылеев и Бестужев, используя каждый свои возможности и знакомства, переговорили с петербургскими литераторами — Жуковский, Дельвиг, Глинка и многие другие дали свое согласие участвовать в альманахе.
Бестужев написал в Москву Денису Давыдову, тот ответил: «Гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятия, и потому стыдно мне было бы отказаться от вашего приглашения».
Написал Бестужев и Пушкину в Кишинев. Рылеев приписал две строчки с приветом и напоминанием о встрече у Измайлова.
Пушкин прислал стихи и советовал проводить их через цензуру, скрыв его имя, поскольку цензура хотя и глупа, но ее так настращали его именем, что она может запретить и совершенно безобидные вещи.
В ответном письме Пушкина были строки, адресованные Рылееву: «С живейшим удовольствием увидел я в письме Вашем несколько строк К. Ф. Рылеева, они порука мне в его дружестве и воспоминании. Обнимите его за меня, любезный Александр Александрович».
Долго придумывали название для альманаха, перебрали все атрибуты поэзии, но ничто не нравилось.
Однажды в начале лета в двенадцатом часу ночи Рылеев с Бестужевым возвращались из Общества. Стояла тихая теплая ночь. Небо сияло звездами.
Говорили всё о том же, об альманахе: о том, что надо просить у Дельвига побольше песен, что Хвостова надо бы поместить, но как можно меньше и короче.
— Самое короткое его сочинение — его визитная карточка: «Граф Хвостов» — и всё, — засмеялся Бестужев. — Правда, и краткость эта заимствованная: с надписи на могиле Суворова: «Здесь лежит Суворов».
Рылеев не отозвался.
— Ты что? — окликнул его Бестужев.
Рылеев поднял руку, показал на небо:
— Вот название нашему альманаху: «Полярная звезда».
Бестужев остановился.
— А ведь это замечательно — «Полярная звезда». И бездна смысла — конечно, для того, кто понимает!
«Полярная звезда». Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым», как было обозначено на титуле, поступила в книжные лавки перед Новым годом и менее чем за неделю была распродана. Такого успеха не имела еще ни одна русская книга.
12
По случаю десятилетия издания «Сына отечества» Греч давал обед. Он постарался обставить юбилей так, чтобы о нем говорили. Приглашенных было более сотни: литераторы, чиновники разных министерств — некоторые в больших чинах, военные. Пенилось шампанское, звучали тосты.
Застольный разговор довольно скоро, как и вообще все разговоры в те дни, повернули на греческий вопрос и на упорные слухи о том, что государь вызвал генерала Ермолова с Кавказа, чтобы поставить его командующим русской армией, направляемой в помощь восставшим грекам.
Имя Ермолова произносили с восторгом. Воспетый еще Жуковским в «Певце во стане русских воинов», Ермолов всегда был одним из самых популярных и любимых героев войны с Наполеоном.
Стихи Жуковского, конечно, тут же вспомнили, на что Василий Андреевич сказал:
— Я воздал славу тогдашним ратным подвигам Алексея Петровича, нынешние — воспевать нынешним поэтам.
У Рылеева было написано стихотворное послание Ермолову, которое он уже читал некоторым знакомым и в том числе Гречу. Настроение, царившее за столом, требовало стихов. Греч это чувствовал и, переведя взгляд с Рылеева на Жуковского, громко проговорил:
— Сегодня я уже имел счастье читать стихи нынешнего поэта о новой славе Алексея Петровича Ермолова. Может, попросим автора прочесть их?
— Да, пусть прочтет, — кивнул Жуковский.
Рылеев поднялся и начал читать:
— Наперсник Марса и Паллады!
Надежда сограждан, России верный сын,
Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады,
Ты, гений северных дружин!..
Потом пили за Грецию, за Ермолова, за Жуковского, за Рылеева…
Устав от шума, Рылеев вышел из зала в маленькую гостиную, где для желающих были приготовлены трубки.
В гостиной на диванчике сидел Николай Иванович Тургенев.
Их познакомили еще год назад в Обществе любителей российской словесности, куда Тургенев иногда, очень редко, заходил. «Весьма рад», — с подчеркнуто учтивой и холодной улыбкой, как бы сразу ставя между собою и Рылеевым границу, которую он не намерен переступать при знакомстве, сказал тогда Тургенев. Рылеев сразу узнал в нем того прихрамывающего молодого человека, чей разговор он невольно подслушал в пятнадцатом году в саду Тюльери и который произвел на него такое сильное впечатление. Потом они случайно встречались еще несколько раз и только раскланивались, разговора не получалось.
Тургенев принадлежал к тому узкому кругу людей, которые находились и действовали в самых высоких государственных сферах. Он занимал должность помощника статс-секретаря Государственного совета и не менее важную должность в министерстве финансов, имел репутацию крупнейшего знатока государственного и финансового законодательства, составлял важнейшие правительственные документы, и именно ему три года назад было поручено написать для царя Записку по вопросу о крепостном праве в России и его реформе. Перед Тургеневым лежал верный путь к министерскому посту. Рылеев понимал, что ему, скорее всего, навсегда останется недоступным и чуждым этот мир, поэтому он тоже не делал никаких попыток к сближению с Тургеневым.
Тургенев заговорил первым.
— Вы очень горячо выступали в защиту греков, — сказал он обычным его тоном — с холодной иронией.
Рылеев резко ответил:
— Ныне каждый порядочный человек сочувствует их борьбе за свободу.
Тургенев грустно усмехнулся:
— Простите, проклятая манера, как часто она подводит меня. Позвольте уверить вас, в моих словах не заключается никакой насмешки, никакого подвоха. Я хотел поделиться с вами своими мыслями, которые приходят мне часто на ум в теперешнее время.
Тургенев раскурил трубку и, когда она раскурилась, заговорил снова:
— Да, надобно заступиться за греков. Но это заступничество имеет и другую сторону, на которую никто как-то не обращает внимания. Все — и дипломаты, и министры, и публика — принимают участие в греках. Это хорошо, благородно трогаться несчастиями ближних. Но скажите, кто из всех этих господ сочувствователей принимает хоть какое-нибудь участие в судьбе наших крестьян? Положим, о военных поселениях они говорить и мыслить не смеют, но о собственных мужиках, об иге, их тяготящем, можно говорить без опаски. А тут долг более святой, нежели в отношении к грекам. Лучше ли жить многим из наших крестьян под своими помещиками, нежели грекам под турками? Нет ли между крестьянами жертв варварства, мучеников совершенных, не говоря уже о жертвах корыстолюбия? Сколько изнемогающих страдальцев! Сколько разоренных, томящихся в голоде! На греков собирают пожертвования, а подписку для прокормления голодающих жителей Рославльского уезда запретили делать…
Такое сопоставление, такой взгляд на энтузиазм публики к греческим делам был нов и неожидан для Рылеева.
— Чтобы воевать, нужны новые рекруты, — продолжал Тургенев, — а вы знаете, какое горе для народа — рекрутчина. Когда я думаю об этом, то, несмотря ни на что, не могу желать этой войны…
Рылеев молчал.
Конечно, он мог бы возразить, и слова для возражения — свобода, жертва, помощь — так и вертелись на языке, но в рассуждениях Тургенева содержалась такая суровая, тяжелая правда, что даже эти слова никли перед нею…
13
Если бы Рылеева спросили, что он считает главным — службу или внеслужебные свои занятия: сочинение стихов, посещение литературных собраний, то он, наверное, назвал бы, отдавая дань традиционному мнению, службу. Но душа, сердце его принадлежали литературе.
Год жизни был отдан думам. Они составили цикл, в котором освещалась история России от десятого века — от Вещего Олега до конца восемнадцатого — последняя дума посвящена Державину.
Рылеев составил план нового цикла дум: «Вадим», «Марфа Посадница», «Миних», «Царевна Софья», «Меншиков в Березове», «Наталья Долгорукая», «Петр Первый в Острогожске». Но большинство из них не пошли дальше нескольких начальных строф. Этот жанр был уже тесен для него, он чувствовал, что наступила пора браться за большое произведение — за поэму. Он начал было писать поэму о древнескандинавском витязе, но оставил ее. Потом как будто развивалась в поэму дума о Меншикове, но и она подвигалась туго. Рассказ о славе и деяниях храброго витязя Ольбровна выливался в обычную волшебную сказку. Не годился в герои и сверженный временщик.
Рылеев искал героя.
Ему виделся образ сильного, решительного борца против самовластия, дерзнувшего восстать против могущественного властителя.
Тревожная, наполненная борьбой против иноземных врагов история Украины привлекала его все больше и больше. Вспоминалось Подгорное, Киев, многокрасочные, яркие, шумные ярмарки, слепцы-бандуристы, неторопливо и торжественно поющие духовные стихи или старинные думы, и внимающие им в благоговейном молчании слушатели…
Застав Рылеева за чтением очередной книги об Украине, Сомов сказал ему:
— Видно, заговорил в вас, Кондратий Федорович, голос крови.
— Вы ошибаетесь, я не украинец, а северянин, — ответил Рылеев, — если не считать того, что мой отец управлял, и управлял весьма плохо, украинскими имениями князей Голицыных.
— А фамилия?
— Что фамилия?
— Фамилия выдает. Ведь рылеем украинцы называют лиру — тот инструмент вроде шарманки, с которым ходят нищие певцы-лирники, которых также именуют рыльниками.
Рылеев рассмеялся.
— Ну что ж, твое толкование вселяет в меня гордость, я согласен быть потомком неведомого певца-поэта, бродившего некогда по шляхам прекрасной Украины со своим сладкозвучным рылеем.
Не раз и не два обращался Рылеев мыслями к Мазепе — проклинаемому с церковных амвонов гетману-изменнику. «Да, он изменил Петру Великому, нарушил договор, — размышлял Рылеев, — но, с другой стороны, нарушил потому, что не захотел быть вассалом…» Однако Рылеев все же не мог проникнуться симпатией к Мазепе: как ни толкуй его замыслы, во всех его поступках проявлялся расчетливый, жестокий интриган. Нет, и он не подходил на роль свободолюбивого героя…
Но однажды, раскрыв «Историю Малой России» Бантыша-Каменского, Рылеев наткнулся на страницу, где автор рассказывал о судьбе ближайшего сподвижника Мазепы, его племянника Андрея Войнаровского.
«Во время путешествия государя арестован был по его приказанию в Гамбурге племянник Мазепы Войнаровский, — читал Рылеев. — Сей молодой человек везде жил роскошно и имел знакомство с знатнейшими особами… Многие, не знавшие его происхождения, называли его графом. Оставив турецкие владения, он жил в Вене и Бреславле, потом прибыл в Гамбург для получения от короля должных ему денег.
Государь, узнав в Копенгагене о месте пребывания Войнаровского, велел своему резиденту в Гамбурге истребовать его от тамошнего магистрата. Войнаровский был взят под стражу на улице 12 сентября 1716 года и после краткого допроса препровожден в Москву, откуда государь сослал его в Сибирь, с дозволением жить на свободе вместе с женою и детьми.
Известный ученому свету историограф Миллер в 1736 и 1737 годах видел Войнаровского в Якутске, но уже одичавшего и забывшего языки и светское обращение».
Рылеев остановился, пораженный: как же раньше он не замечал этого места? Твердым ногтем он несколько раз отчеркнул страницу по полю от верху до низу и особо подчеркнул последнюю фразу: «Миллер в 1736 и 1737 годах видел Войнаровского в Якутске».
О чем же ином мог расспрашивать Миллер Войнаровского, как не о Мазепе и о его заговоре против Петра? И как же иначе, как не с симпатией и благожелательностью должен был повествовать о жизни и деяниях гетмана его родственник и ближайший сподвижник?
Даже из довольно скупых сведений о Войнаровском, разбросанных в «Истории Малой России», вырисовывался яркий и привлекательный образ. Войнаровский обладал решительным характером, был отважен, красноречив, ловок. Правда, и он все же был причастен к измене Мазепы…
Когда Рылеев сообщил Бестужеву, что намерен писать о Войнаровском, тот сначала отнесся к этому скептически, но взял «Историю Малой России» и еще несколько книг, в которых содержались сведения о племяннике Мазепы. На следующее утро он прибежал к Рылееву возбужденный.
— Ты прав, Кондрат! — крикнул он с порога. — Твой Войнаровский — находка для романтической поэмы. Сама судьба, подвергнув его многочисленным превратностям, сделала его жизнь богаче всякого вымысла самого отъявленного романтика!
После этого Рылеев окончательно утвердился в том, что наконец нашел именно тот сюжет, который он так мучительно искал последние полгода.
Мысль начала работать. Еще туманно, мало-помалу приобретая более определенные черты, возникал план поэмы: Якутск, глушь, тайга, встреча с Миллером, темная изба, рассказ Войнаровского о своей жизни — о Мазепе, о битвах и, конечно, о любви, о романтической любви к простой казачке…
Где-то в подсознании, без слов, пришел ритм стиха, верный и точный, который, словно из забытья, вызвал давно уже знакомые образы.
Рылеев макнул перо и на обороте первого попавшегося листа (это оказался листок белового текста «Меншиков в Березове») почти без помарок написал несколько строф будущей поэмы:
Я помню радость девы нежной,
Когда в хранительную сень
Был я, страдалец безнадежный,
Снесен к отцу ее в курень.
Томим болезнию жестокой,
Как цвет в степи, я увядал,
Уж встать с одра я не мечтал;
Но мне в казачке черноокой
Творец спасителя послал…
«Сын отечества», «Северный архив», «Сибирский вестник», «Благонамеренный» — все издания, где только были помещены какие-либо известия о Якутии, были просмотрены. Бестужев и Глинка то и дело приносили попадавшиеся им попутно во время их собственных занятий разные сведения, которые могли бы понадобиться Рылееву для поэмы. Бестужев увлекся Войнаровским, пожалуй, не меньше друга.
Поэма писалась легко. Закрыв глаза, Рылеев представлял себе широкую Лену и черные бревенчатые юрты, затерявшиеся среди белых снежных равнин на ее берегах, слышал бесконечный заунывный шум дремучего бора и видел своего героя, заброшенного судьбой в ссылку в «край метели и снегов». Но чтобы проверить себя и свои ощущения, он просил знакомых отыскать в Петербурге человека, который сам бывал бы в Якутске и мог бы рассказать о нем. И тут опять помог Бестужев с его многочисленными знакомствами: один из сослуживцев его старшего брата Николая, морского офицера, сообщил ему, что из Москвы приехал по своим делам отставной подполковник барон Штейнгель, долгие годы проживший в Сибири, плававший по северным морям.
— Но как мне найти его? — спросил Рылеев.
— Барон пописывает статейки, печатая их под разными псевдонимами, а посему не минует книжных лавок. Справься о нем у Смирдина и Слёнина, — посоветовал Бестужев…
В книжной лавке Слёнина в ранний предобеденный час было пустынно. Единственный покупатель — невысокий, немодно, но опрятно одетый господин лет сорока, в маленьких круглых очках на мясистом широком носу, перелистывал у прилавка старые номера «Невского зрителя».
— Что-то я не найду нумера с переводом Персиевой сатиры, — сказал господин.
— Выпуска со стихами Кондратия Федоровича, к сожалению, не осталось ни одного, — ответил Слёнин.
Господин сложил журналы в стопу, аккуратно выровнял стопу и повернулся к хозяину лавки:
— А что, любезнейший Иван Васильевич, бывает ли в вашей лавке господин Рылеев?
— Захаживает. Как раз недавно спрашивал меня о вас, не будете ли, мол, вы, господин барон, сюда.
— Это как? — удивленно воскликнул господин, но тут в лавку вошел Рылеев.
— Кондратий Федорович Рылеев, — представил Слёнин вошедшего.
— Барон Владимир Иванович Штейнгель, — отрекомендовался господин, обмениваясь с Рылеевым рукопожатием, и, поклонившись, продолжал: — Не удивительно, что мне было интересно познакомиться с вами, но чем я мог вас заинтересовать — ума приложить не могу.
— Очень просто, — живо, с легкой улыбкой, веселой и теплой искоркой сверкнувшей в глазах и поднявшей уголки губ, ответил Рылеев, — я пишу поэму, в ней есть сцена у Якутска, а так как вы были там, то мне хотелось просить вас прослушать это место поэмы и сказать, нет ли в нем погрешностей.
— К вашим услугам, — церемонно поклонился барон.
— Тогда, может быть, вы пожалуете ко мне сегодня вечером?
— С удовольствием.
Беседа со Штейнгелем окончательно убедила Рылеева в том, что ему удалось не только передать общее впечатление, которое вызывает северная якутская природа, но и описать вполне правдиво быт ее обитателей. По совету барона он исключил лишь около двух десятков строк в описании ярмарки и картины зимы.
Неожиданно и резко прервались дружеские отношения с Булгариным.
Воейков получил аренду на редактирование газеты военного ведомства «Русский инвалид». Булгарин проведал, что у «Русского инвалида» много подписчиков и это сулит большую прибыль, тотчас же написал в военное ведомство прошение, в котором предлагал за аренду плату вдвое большую, чем платит Воейков. Действия Булгарина вызвали общее возмущение, редакторство для Воейкова было единственным источником заработка, поэтому получалось, что Булгарин лишает его хлёба насущного.
Рылеев был возмущен низким поступком Булгарина.
— Ты закормлен обедами Воейкова! — взорвался Булгарин, когда Рылеев упрекнул его и посоветовал отступиться. — Ты еще молод учить меня! Да если бы я вздумал просить у кого-нибудь в Петербурге советов, то к тебе обратился бы последнему!
Булгарин кричал, наливаясь кровью. Рылеев, не дослушав его, ушел.
Дома он тотчас же написал Булгарину письмо: «Благодарю тебя за преподанный урок; я молод — но сие может послужить мне на предыдущее время в пользу, и я прошу тебя забыть о моем существовании, как я забываю о твоем: по разному образу чувствования и мыслей нам скорее можно быть врагами, нежели приятелями».
14
— Кондрат, только сейчас я слышал про тебя чудесную историю, настоящий анекдот! Ты понимаешь, что это такое? Это — слава! — входя в комнату, возбужденно говорил Александр Бестужев.
— Прямо-таки и слава? — улыбнулся Рылеев.
— Слушай, Катон. Не каждому дано услышать о себе такое. Недавно был схвачен полицией какой-то мещанин по подозрению не то в грабеже, не то в убийстве. Ввиду важности дела его допрашивал сам военный губернатор граф Милорадович. Мещанин стоял на своем: «Невинен-де и не желаю возводить на себя напраслины». Милорадовичу все это надоело и, зная, что наши простолюдины боятся суда, как огня, он объявил, что передаст дело в Уголовную палату. Он рассчитывал, что мещанин, испугавшись суда, во всем повинится, а тот вдруг упал ему в ноги и со слезами на глазах принялся благодарить за оказанную милость. «Какую же милость я оказал тебе?» — удивленно спрашивает Милорадович. «Вы меня отдали под суд, и теперь я знаю, что кончены мои муки и я буду оправдан, — ответил мещанин. — В суде есть Рылеев: он не даст погибнуть невинному!»

Рылеев молча и сосредоточенно смотрел в сторону.
— Ну как? — спросил Бестужев. — После дела разумовских крестьян твое имя и твоя честность между простым народом вошли в пословицу.
— Но что может поделать какой-то заседатель, хотя бы и с собственным «особым мнением»? — задумчиво проговорил Рылеев.
— Не говори так. Если хотя бы на четверть суды будут состоять из Рылеевых, то в России уничтожится половина зла, — горячо возразил Бестужев. — А знаешь, я слышал, что по твоему примеру поступил в суд Иван Иванович Пущин — лицейский друг нашего Дельрига и Пушкина.
15
21 декабря 1822 года подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии Иван Иванович Пущин был произведен в поручики. Десять дней спустя он присутствовал во дворце на царском выходе по случаю Нового года.
Пущин стоял вместе с другими вновь произведенными офицерами в общей группе. Вдруг, отделившись от царской свиты, бряцая шпорами, подошел и остановился против него командующий гвардейским артиллерийским корпусом великий князь Михаил Павлович. Прищурившись, он осмотрел Пущина с ног до головы презрительным взглядом и громко сказал:
— Видимо, рано вам дан чин, поручик, когда вы не умеете даже повязать темляк на сабле по форме.
Пущин схватился за темляк, он висел большой петлей: видимо, узел развязался, случайно задев обо что-нибудь.
Пущин вспыхнул.
Любуясь его смущением, великий князь засмеялся и добавил:
— Вы молоды, авось вас еще научат соблюдать форму до производства в следующий чин.
Пущин был на год старше великого князя.
В этот же день, вернувшись с выхода, Пущин написал рапорт с просьбой об отставке по домашним обстоятельствам. Другой возможности ответить на оскорбление он не имел. Если бы он мог вызвать великого князя на дуэль!
Менее чем через месяц отставка была получена.
Когда дед-адмирал спросил, куда же он думает теперь определиться на службу, Пущин ответил, что намерен служить в полиции квартальным надзирателем.
Это объявление Ивана Ивановича вызвало целую бурю в доме адмирала Пущина на Мойке.
— Разбирать пьяные ссоры мужиков, возиться с нищими и дворниками… Бог мой, какой ужас!
— В любом присутственном месте всякий честный человек может быть полезен другим, — ответил Пущин.
— Но ведь есть же иные, более благородные должности в статской службе, — возражал дед.
— Не место красит человека. И полицейская должность по важности своей для народа может пользоваться уважением, если ее занимает не вор.
Дед сердился, сестры плакали. Слез Пущин не выдержал и решил хлопотать о месте в судебном ведомстве.
В Петербургской уголовной палате Пущин сразу же сошелся с Рылеевым.
— Вы были героем детства моего младшего брата Михаила, — сказал он Рылееву. — Он часто рассказывал, как вы вступились за его одноклассника Чижова…

— Я понимаю и одобряю ваш поступок, Иван Иванович, — вскоре после знакомства говорил Рылеев. — Когда я оставил службу, я только чувствовал тягость и бессмысленность военной службы. Ныне же, после размышлений и после семеновской истории, когда в гвардии, кажется, удалось погасить последнюю искру рассуждения, я твердо полагаю, что служить в армии — недостойно честного человека и гражданина. Тысячи солдат беспрестанно заняты и ничего не делают, угнетены бесполезными трудами и лишены надежды видеть когда-нибудь сему конец. Зачем этот миллион войска, которое само страждет и изнуряет государство людьми и деньгами, когда государство в мире и столь сильно, что опасаться нечего?
Пущин слушал молча, согласно кивая головой. Рылеев продолжал:
— Ужасно положение солдат. Но офицеры, может быть, еще несчастнее. Ведь всякий из них получил образование, готовился употребить оное в свою и общую пользу, а теперь лишены всякого упражнения, удалены от людей рассуждающих, разделены между собою, обречены составлять часть огромной машины и отданы в жертву скуке и разврату. Вот положение цветущего юношества в России! Спросите: для чего же они служат в военной службе? Отвечать не мудрено. Недостаток просвещения, молодость начинающих службу, презрение ко всякому другому сословию и большие выгоды, предоставляющие право тем, которые выбьются, быть деспотом всего, что нас ниже.
— Приблизительно те же самые соображения руководствовали и мною, Кондратий Федорович, когда я решил выйти в отставку. Конечно, неуместное замечание Михаила Павловича было только поводом, а само решение созрело гораздо раньше, и я даже рад, что исполнение его ускорилось не по моей воле. Но позвольте в одном пункте вам возразить: для честного человека и гражданина, как вы выразились, в армии тоже при некоторых условиях служить не только не постыдно, но составляет долг. Нигде в России мы, дворяне, не можем быть так близки к простому народу, как в армии. Общая опасность и общее дело воспитывают взаимное понимание и взаимное доверие. Примеры этому: дивизия Михаила Федоровича Орлова, старый Семеновский полк. Это самые известные примеры, а есть еще и другие. Если бы я имел часть, я бы не подал в отставку.
Рылеев, вскинув голову, смотрел на Пущина ясным доброжелательным взглядом.
— Вы правы, Иван Иванович, я несколько увлекся в своем обобщении. И извиняет меня лишь то, что условия, про которые вы говорите, в наше время встречаются весьма, весьма редко.
Высочайшее повеление, которым Пущин был зачислен на статскую службу, гласило, что он определен в Петербургскую уголовную палату сверхштатным членом для узнания хода дел.
Лицейские лекции Александра Петровича Куницына по нравственной философии и по юридическим наукам, в том числе по российскому гражданскому и уголовному праву, запавшие в ум и память лицеистов более, чем другие науки, и живой интерес к делу способствовали тому, что Пущин всего несколько месяцев спустя уже достаточно хорошо знал и порядок судопроизводства, и наиболее часто встречающиеся казусы, и права и возможности различных служащих Уголовной палаты и надзора.
С Рылеевым у них чаще всего разговор переходил на общие проблемы, поскольку они оба ясно осознавали, что все недостатки судебного ведомства
порождены отрицательными сторонами самого государственного устройства России. Либерализм был, что называется, в моде, критику действий министров и порицание правительственных постановлений можно было услышать повсюду, но Пущин с Рылеевым в своих логических построениях доходили до последней границы, которую застольные либералы не смели переступить, — до признания источником бед государства самого принципа монархического правления.
Как-то, во второй половине октября, Рылеев и Пущин должны были присутствовать на очередном судебном заседании, но заседание не состоялось из-за болезни нескольких членов палаты. Стояла промозглая, с дождем и снегом, погода, и многие болели простудой.
— Может быть, зайдем ко мне? — предложил Пущин Рылееву. — Выпьем рому. По такой погоде это просто необходимо.
— Что ж, пойдемте, — согласился Рылеев.
На квартире у Пущина разговор зашел о крепостном праве, бесчеловечности его и невыгодности крепостного труда.
— Свобода крестьян есть одно из первейших условий прогресса нашего общества, — сказал Пущин, — и обязанность каждого здравомыслящего человека, понявшего это, склонять умы в пользу освобождения крестьян от крепостной зависимости.
— Жди, пока умы наших крепостников склонятся, — усмехнулся Рылеев. — Тут надо не только говорить, но и действовать.
Пущин ничего не ответил. Он пристально смотрел на Рылеева, и, когда после затянувшейся паузы заговорил снова, его слова прозвучали как-то особенно значительно.
— В России существует тайное общество, цель которого восстановить попранные ныне права людей, и я — член его, — сказал Пущин. — Я открываю вам это, потому что вижу: вы пламенно любите Россию и готовы на любое самоотвержение для блага ее. Ваш образ мыслей и все ваши поступки показывают, что вы наш единомышленник. Сейчас я не смогу открыть вам всего, но со временем я постараюсь дать достаточное понятие об устройстве общества. Я предлагаю вам вступить в его члены.
Глаза Рылеева подернулись влагой и заблестели, как обычно блестели в минуты большого волнения.
— Я счастлив вашим доверием, Иван Иванович, — с волнением ответил Рылеев. — Я принимаю ваше предложение и готов дать любую, самую страшную клятву. Возьмите с меня клятву!
— Нет, Кондратий Федорович, достаточно одного вашего честного слова. Бесчестный человек и клятву преступит, а честный сдержит и простое слово. В наш союз мы принимаем честных людей, поэтому брать клятвы не в нашем обычае.
— Что я должен сделать, чтобы заслужить большее доверие членов союза?
— К тому, что вы делаете сейчас, прибавляется обязанность стараться о привлечении новых членов. Естественно, соблюдая осторожность; о каждом лице, кого вы сочтете возможным привлечь в общество, вы прежде сообщаете через меня Думе, верховному органу общества, и открываете вашему кандидату о существовании общества только после согласия Думы.
— Скажите, если можно, Иван Иванович, Пушкин тоже состоит в тайном обществе?
Пущин задумчиво посмотрел на Рылеева и ответил после паузы:
— Нет, не состоит. Признаюсь, когда я в семнадцатом году стал членом общества, новая, высокая цель жизни резко и глубоко проникла в душу мою, я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах. И первой моей мыслью было открыться Пушкину: он всегда мыслил одинаково со мною, проповедовал изустно и письменно, стихами и прозой в нашем смысле. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, но тогда его не было в Петербурге, а то, возможно, что в первом порыве, по исключительной моей дружбе к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда мне приходила мысль открыться ему, я уже не решился вверить ему тайну, не мне одному принадлежащую. Пушкин замечал произошедшую во мне перемену, он догадывался о тайном обществе, спрашивая, действительно ли я член его? Я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели, что его стихи «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет…» и другие в том же духе везде ходят по рукам, переписываются, читаются наизусть, что нет в России живого человека, который не знал бы его стихов… Ныне, когда правительство подозревает о существовании тайного общества, осмотрительность наша простирается так далеко, что, несмотря на то, что я всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей, за все это время я решился присоединить к нашему союзу, Кондратий Федорович, только одного вас.
Часть четвертая
ГРАЖДАНИН


1
После знаменательного разговора с Пущиным Рылеев в полной мере ощутил волнующую радость важных и глубоких перемен, произошедших в нем в ту минуту, когда он дал согласие на вступление в тайное общество. Изменился он сам: он мог бы повторить вместе с Пущиным, что будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах; изменился взгляд на людей: он смотрел на знакомых, слушал их речи и пытался определить, не член ли тайного общества его собеседник.
Федор Николаевич Глинка, оказавшись возле рылеевского дома, обязательно заходил к нему по пути. Он приносил Настеньке конфеты и игрушки, с удовольствием толковал с Наташей о хозяйственных делах, о домашних заботах. Как многих старых холостяков, его тянуло к семейному очагу, хотя бы и чужому. Для Наташи Федор Николаевич стал неопровержимым авторитетом, и она то и дело говорила: «А Федор Николаевич сказал… А Федор Николаевич посоветовал…», поэтому, завидя приближающегося Глинку в окно, Рылеев знал, что до него он дойдет нескоро.
Но на этот раз Федор Николаевич прошел сразу к Рылееву.
— Я принес стихи для «Полярной звезды», — сказал он, — кажется, они мне удались. На тему стиха из псалма восемьдесят шестого.
Рылеев сразу начал читать. Глинка, поставив эпиграфом стих псалма: «И воста яко спя господь!», развивал в стихотворении мысль о том, что человек должен восставать против неправды, не ожидая, пока ее поразит бог.
— Как я понимаю, — сказал Рылеев, — вы полагаете, что человек сам за себя мститель?
— В определенных случаях — да. Когда зло очевидно и усиление оного весьма ощутительно, жалобные восклицания бесплодны, и тогда деятельное противоборствие злу есть необходимая для каждого гражданина обязанность.
Рылеев был почти уверен, что Глинка принадлежит к тайному обществу, и в этом он был прав, он чуть было не признался, что он тоже член этого же общества, но все же удержался.
Также члена тайного общества он подозревал в Грече, который своими язвительными замечаниями насчет правительства заслужил прозвище «первого либерала Петербурга». И еще некоторые знакомые, по мнению Рылеева, могли быть в тайном обществе…
С новым интересом, уже как к делу, к которому он и сам имеет отношение, Рылеев читал и выискивал сообщения и сведения об испанской революции двадцатого года, о восстании в Неаполе в том же году, о событиях двадцать первого года в Пьемонте и греческом восстании. Тот «дух времени», дух борьбы за свободу против самовластия и угнетения, который клокотал в Европе, теперь он ощущал и в России.
Рылеев всегда томился, если приходилось пребывать в вынужденном бездействии. Теперь же его бездеятельность как члена общества стала ему просто невыносима.
— Что я должен делать? — спрашивал он несколько раз Пущина. — Поручите мне что-нибудь.
— Подождите, — останавливал его Пущин. — Скоро вы узнаете больше, и тогда будет для вас дело.
Наконец Пущин сказал многозначительно:
— Завтра ввечеру будьте дома, я заеду за вами.
Пущин заехал за Рылеевым в пятом часу вечера. Они ехали на извозчике по сумеречным белым улицам. Пущин молчал.
— Меня ждет обряд приема? Как у масонов? — спросил Рылеев.
— У нас нет обрядов, подобных масонским, — ответил Пущин.
— Но как это все будет? Что я должен отвечать?
— Вас никто ни о чем не будет спрашивать, у нас нет ничего похожего на масонский ритуал, никаких клятв, мы удовлетворяемся честным словом. Впрочем, вот мы и приехали.
Через несколько кварталов сани остановились у большого дома на углу Восемнадцатой линии и Большого проспекта.
— Здесь снимает квартиру полковник Финляндского полка Митьков, член общества. У него будут еще несколько человек, кое-кто из них вам знаком, — сказал Пущин.
— О Митькове я тоже слышал.
В передней слуга принял шубы. Из комнат в переднюю вышел мужчина лет около тридцати, во фраке.
— Кондратий Федорович Рылеев, — представил Пущин ему Рылеева.

— Митьков, Михаил Фотиевич, — ответил мужчина. — Прошу в комнаты.
Рылеев обратил внимание на его мягкий, чуть задумчивый взгляд, не вязавшийся с представлением о человеке, известном своей воинской храбростью, участнике почти всех крупных сражений наполеоновских войн с 1807 года: Гудштадта, Фридланда, Бородина, Тарутина, Дрездена, Кульма, Лейпцига, взятия Парижа.
Впереди, в комнатах, слышался говор нескольких голосов, смех.
Рылеев вошел в комнату и остановился.
— Кондратий Федорович Рылеев, — громко объявил Митьков.
Рылеев жадно вглядывался в лица присутствующих. Он сам не знал, кого и что ожидал и хотел увидеть здесь, но ему представлялось, что в собрании членов тайного общества должно быть что-то особенное, таинственное…
В просторном кабинете Митькова, ярко освещенном лампами и свечами, на креслах и стульях, сдвинутых со своих мест от стола и стен и поставленных кое-как, расположились несколько офицеров, куривших трубки. Возле стола, на котором лежала стопка бумаг и небольшой желтый портфель, в кресле сидел штатский во фраке — Николай Иванович Тургенев.

Кое-кого из присутствующих Рылеев знал: кроме Тургенева, он был знаком с капитаном генерального штаба Никитой Михайловичем Муравьевым, пользовавшимся славой одного из самых образованных офицеров армии, и полковником лейб-гвардии Московского полка Михаилом Михайловичем Нарышкиным. Остальные ему представились: адъютант Второй пехотной дивизии поручик князь Евгений Петрович Оболенский, майор Александр Викторович Поджио, отставной подполковник Матвей Иванович Муравьев-Апостол, полковник Преображенского полка князь Сергей Петрович Трубецкой.
Тургенев кивнул Рылееву; Никита Михайлович Муравьев, пожимая ему руку своей маленькой крепкой и горячей рукой, сказал:
— Я очень рад, что вы с нами, Кондратий Федорович. По решению Думы вы приняты в общество сразу в качестве «убежденного».
Рылеев сел в одно из кресел в стороне. Прерванный разговор возобновился. Обсуждали, как понял Рылеев, пункты устава о внутреннем устройстве общества.
Главным докладчиком был Тургенев, поэтому все обращались в основном к нему, и он, вступая в обсуждение, соглашался или возражал.
Рылеев узнал, что во главе общества стояла Дума, остальные члены делились на «убежденных» и «согласных». В число «убежденных» входили основатели и старейшие члены, они имели право избирать Думу, принимать в общество новых членов, требовать отчета от Думы о делах общества, без их разрешения Дума не могла принимать никаких решительных мер. «Согласные» проходили как бы испытание перед переходом в «убежденные», они знали только одного члена общества, принявшего их, но сами не имели права приема.
Рылеев, слушая разговор, пытался понять: не ограничивается ли этим десятком человек все тайное общество? Но присутствие Тургенева заставляло предполагать, по его чину и должности, что общество серьезно и сильно, а присутствие Муравьева и Трубецкого, состоявших в родстве и знакомстве с знатнейшими лицами государства, — что оно имеет обширные и высокие связи. «Видимо, они-то и поддерживают сношения с высшими отраслями общества», — подумал он.
— Необходимо рассмотреть и такой важный пункт: как поступать с членами, которые перестанут действовать в его пользу и будут высказывать намерение отойти от него, — сказал Тургенев.
Поджио патетически начал:
— Изменникам наша месть…
— Оставьте, майор, мы не шайка разбойников, — поморщился Муравьев.
— Насилие общества над членами ненужно, да и несбыточно, — сказал Тургенев. — Полагаю, что в том случае, если будет замечено охлаждение к делам общества какого-либо члена, то, прежде всего, известить об этом всех прочих, чтобы с этих пор никто из них уже не говорил с ним о делах общества, в то же время всем продолжать оставаться с ним в прежних дружеских отношениях и стараться убедить его, что и все общество, подобно ему, за недостатком средств и невозможности достичь своей цели дремлет и распадается. Таким образом не раздражается самолюбие, человек становится совершенно чуждым обществу и не имеет ни причины, ни возможности вредить ему. Не станет же он доносить на общество, которого, возможно, и не существует уже вовсе.
— А как же с обязанностью членов общества говорить о свободе крестьян при всяком удобном случае? — спросил Митьков. — Я думаю, его нельзя исключать из новых правил. Нынче в деревне я проделывал это частенько и видел, что подобные разговоры производят большое действие. Сейчас в обществе то и дело ведутся разговоры на эту тему, так что мне даже не требовалось вызывать их нарочно. Я просто вступал в беседу и рассуждал в том смысле, что помещики получали бы вернее доходы со своих земель, если бы крестьяне были свободны, а сами крестьяне жили бы лучше, потому что, работая для себя и имея неотъемлемую собственность, они были бы трудолюбивее. И должен сказать, помещики весьма не чуждались таких высказываний и многие были с ними согласны. А если при разговоре случались помещичьи люди, то и они прислушивались очень внимательно.
Рылеев, до того молчавший, поскольку разговор касался дел общества, ему пока еще не известных, теперь, когда заговорили на общие темы, счел себя вправе высказаться.
— Подобные высказывания, господа, безусловно, падают на благодатную почву, — сказал он, — и повсюду можно надеяться встретить им сочувствие.
— Изничтожение рабства и введение представительного правления — требование времени, — проговорил Тургенев, — и каждый разумный человек, в каком бы состоянии и на какой бы ступени государственной он ни находился, должен понимать это. — Он взглянул на Муравьева и спросил: — А как твой «Любопытный разговор»? — Обращаясь к Рылееву, Тургенев пояснил: — Никита Михайлович пишет под таким названием сочинение в народном роде с изложением идей общества.
— Я за него более не брался, — ответил Муравьев.
— Жаль, начат он у тебя удачно.
— Нельзя ли познакомиться с этим вашим сочинением, Никита Михайлович? — спросил Рылеев.
— Пожалуйста, — Никита Муравьев, перебрав бумаги в портфеле, достал несколько листков.
«Любопытный разговор» был написан в распространенной в изданиях для народа катехизисной форме вопросов и ответов, поскольку такая форма считалась наиболее понятной и доходчивой.
«…Вопрос: Что есть Свобода?
Ответ: Жизнь по Воле.
В. Откуда проистекает Свобода?
О. Всякое благо от бога. Создав человека по подобию своему и определив добрым делать вечные награды, а злым вечные муки, он даровал человеку Свободу! Иначе несправедливо было бы награждать за доброе, по принуждению сделанное, или наказывать за невольное зло.
В. Всё ли я свободен делать?
О. Ты свободен делать все то, что не вредно другому. Это твое право.
В. А если кто будет меня притеснять?
О. Это будет тебе насилие, противу коего ты имеешь право сопротивляться.
В. Стало быть, все люди должны быть свободными?
О. Без сумнения.
В. А все ли люди свободны?
О. Нет. Малое число людей поработило большее.
В. Почему же малое число поработило большее?
О. Одним пришла несправедливая мысль господствовать, а другим подлая мысль отказаться от природных прав человеческих, дарованных самим богом.
В. Надобно ли добывать свободы?
О. Надобно.
В. Каким способом?
О. Надлежит утвердить постоянные правила, или Законы, как — бывало в старину на Руси.
В. Как же бывало в старину?
О. Не было самодержавных государей!
В. Что значит — государь самодержавный?
О. Государь самодержавный, или самовластный, тот, который сам по себе держит землю, не признает власти рассудка, законов божиих и человеческих; сам от себя, то есть без причины по прихоти своей властвует.
В. Кто же установил государей самовластных?
О. Никто. Отцы наши говорили: «Поищем себе князя, который бы рядил по праву, а не самовластью, своевольству и прихотям». Но государи мало-помалу всяким обманом присвоили себе власть беспредельную, подражая ханам татарским и султану турецкому.
В. Не сам ли бог учредил самодержавие?
О. Бог в благости своей никогда не учреждал зла».
— Напрасно вы, Никита Михайлович, не окончите этот замечательный катехизис вольного человека! — воскликнул Рылеев.
Никита Муравьев улыбнулся.
— Недосуг.
— Конечно, я понимаю, сочинение Конституции требует много времени, но это ведь тоже необходимо!
— Но я, право, не знаю, когда смогу вернуться к «Любопытному разговору»… Может быть, вы, Кондратий Федорович, возьмете на себя труд закончить его? Возьмите. Вы это сделаете лучше меня, поскольку тут нужны не только познания законоведа, но и литературный талант.
— Хорошо, я возьму, попробую… Господа, на умы народа в нужном нам направлении можно также воздействовать и по-другому, например, сочинением песен. Мысли, заключенные в песне, получают самое широкое распространение. В песнях, которые сейчас поет народ, встречаются соображения, близкие тому, о чем мы здесь говорим. Каждый из нас слышал подобные народные сочинения!.. Я попробую и песню в народном духе…
Когда возвращались от Митькова, Рылеев не вытерпел, спросил Пущина:
— Иван Иванович, велико ли все общество?
— Количества нынешних членов я не знаю, да и никто не знает. Я ведь не с самого начала в обществе, но прежде оно было гораздо многочисленнее и сильнее.
Пущин рассказал Рылееву, что было ему известно.
История тайного общества не насчитывала и десяти лет, но уже была полна драматических событий.
Вскоре после завершения отечественной войны и возвращения армии на родину его основали несколько офицеров. Среди основателей и старейших членов — Никита Муравьев, князь Сергей Трубецкой, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Павел Пестель. Первоначально общество составляло тесный кружок, затем его расширили, приняли новых членов. Но в общество проникли шпионы. Таким образом правительству стало известно о его существовании. Тогда руководители постановили закрыть общество, что и было сделано два года назад.
О закрытии общества было объявлено всем членам. Но в то же время наиболее преданные делу не отошли от общества и образовали свои управы, существующие под покровом тайны. Петербургские члены общество сохранили, но, надобно сказать, оно почти бездействует. Как будто более сильная управа существует на юге, на Украине, во главе ее стоит полковник Павел Иванович Пестель — сын Сибирского генерал-губернатора.
— Все члены тайного общества единодушны в том, что необходимо ввести в России новый порядок, — заключил Пущин свой рассказ, — но насчет средств, которыми можно это достичь, и образа нового правления, которым следует заменить нынешнее, существуют самые разные мнения. Поэтому сейчас перед нами стоить цель прийти к единому мнению и оживить деятельность общества.

Никита Михайлович Муравьев соединял в себе, казалось бы, несоединимое: поэтическую мечтательность и восторженность со страстью к математике и строгой логичности мышления. Его отец — Михаил Никитич — известный поэт, поклонник и последователь Карамзина, служивший попечителем Московского университета, сам руководил воспитанием и образованием сына, давая с первых его сознательных лет пищу его чувству и разуму. На примерах великих исторических деятелей прошлого воспитывались и укреплялись в мальчике гражданские и нравственные убеждения: его героем стал Катон — республиканец, непримиримый противник императора Юлия Цезаря. Катон настолько овладел его воображением, что однажды, на детском балу, когда мать посылала его танцевать, он спросил: «Матушка, а Катон танцевал?» Мать ответила: «Не знаю, но думаю, что, будучи на балу, танцевал». «Хорошо, тогда и я пойду танцевать». Но, беря уроки нравственности у Катона, мальчик мечтал посвятить себя служению отечеству. Любовь к родине сживала его. В 1812 году ему было шестнадцать лет, и он учился в университете. Он хотел поступить в армию, мать не разрешала, тогда он тайком убежал из дому, захватив карту России, и из Москвы пошел пешком на запад, туда, где шли сражения. В одной из деревень за кусок хлеба и кружку молока он заплатил золотой, крестьяне поняли, что юноша не знает цены русских денег, приняли его за французского шпиона, связали и доставили в полицию. Только после допроса мнимого шпиона московским военным генерал-губернатором Ростопчиным недоразумение разъяснилось. Об этой истории много тогда говорили, но она же способствовала тому, что мать согласилась на вступление Никиты Михайловича в военную службу.
Уже в шестнадцатом году, при начале тайного общества, Муравьев начал работу над сочинением о государственном устройстве будущего общества, того общества, ради которого молодые офицеры решились на неравную борьбу против российского самодержавия. С годами его сочинение развивалось, усовершенствовалось, впитывало в себя идеи современных политических учений или полемизировало с ними. Эту работу — сочинение Конституции для будущей свободной России — Муравьев считал главным своим делом. И хотя Конституция уже не раз дополнялась и перерабатывалась, Никита Михайлович не считал работу над ней оконченной и теперь представил ее новый вариант на обсуждение членам общества.
Читая Конституцию Никиты Михайловича Муравьева, Рылеев вспомнил его слова про литературный талант и подумал, что сам Никита Михайлович, безусловно, обладал им, потому что пункты его Конституции звучали, как исполненные самой высокой поэзии стихи.
«…Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства…
…Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя…
…Крепостное состояние и рабство отменяются; раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным…»
Разбитая на главы, разделы, статьи, Конституция Никиты Муравьева подробно и пунктуально определила государственное устройство будущей России.
Во главе государства оставался император, власть которого ограничивалась законами. По поводу этого Муравьев, правда, предупредил Рылеева: «Монархический строй — для вновь вступающих членов, для которых республика — слишком уж непривычное новшество; за этой завесой мы построим свои колонны».
Далее, перечисляя государственные выборные учреждения, Муравьев ставил непременным условием для избрания в них обладание определенным, довольно высоким имущественным цензом. Это вызывало ожесточенную критику большинства членов тайного общества.
Рылеев понимал, почему Муравьев ввел имущественный ценз: в России издавна любая должность включала в себя право пользоваться ею для собственного обогащения путем взяток и казнокрадства, подобное отношение к должности можно было изменить только устранением необходимости брать взятки и воровать, а необходимость отпадет лишь в том случае, если должностное лицо не будет нуждаться в побочных доходах. Так-то оно так, но Рылееву приходилось навсегда отказаться от мечты быть избранным во все высшие органы будущего государства и на все более или менее значительные посты и должности — в Верховную Думу, в Правители Держав, в советники, в тысяцкие — настолько богат, чтобы иметь право занять их, он, скорее всего, никогда не будет…
2
Рылеев подготавливал думы к изданию отдельной книжкой. Он сочинял предисловие.
Александр Бестужев, как всегда куда-то торопящийся, забежал в квартиру, что-то сказал Наталье Михайловне — наверное, смешное, потому что та рассмеялась, пробежал, топая, по комнате, наперегонки с Настенькой, ворвался в кабинет.

— Что пишешь, Кондрат?
Рылеев, у которого предисловие не ладилось, откинулся на спинку кресла и показал концом обгрызенного пера на стол с измаранными черновиками:
— Чертово предисловие! И как только люди ухитряются целые трактаты сочинять!
Бестужев подхватил лежавший сверху листок, прочел:
— «С некоторого времени встречаем мы людей, утверждающих, что народное просвещение есть гибель для благосостояния государственного. Здесь не место опровергать сие странное мнение; к тому ж оно, к счастью, не может в наш век иметь многочисленных приверженцев, ибо источник его и подпора — деспотизм — даже в самой Турции уже не имеет прежней силы своей. За полезное, однако ж, сказать почитаю, что один деспотизм боится просвещения, ибо знает, что лучшая подпора его — невежество… Цель моя… — распространить между простым народом нашим посредством дум сих хотя некоторые познания о знаменитых деяниях предков, заставить его гордиться славным своим происхождением и еще более любить родину свою. Счастливым почту себя, когда хотя несколько успею в своем предмете; еще счастливейшим, когда люди благомыслящие одобрят мое намерение — пролить в наш народ хотя каплю света».
Кончив читать, Бестужев сказал:
— Все, что ты написал, справедливо и написано с чувством и силою. Но какой цензор пропустит все это?
— Никакой, — согласился Рылеев.
— Тогда зачем же ты писал?
Рылеев не отвечал довольно долго. Потом встал с кресла, подошел к Бестужеву, взял его за руку и пристально поглядел в глаза.
— Когда между друзьями есть тайна — это не дружба, — проговорил он тихо. — Я должен тебе признаться, Александр…
— В чем?
— Я вступил в тайное общество, которое поставило своей целью перемену нынешнего правления в России. Ты знаешь мой образ мыслей. Знаешь, чего я желаю для отечества и нашего народа. Прежде это были слова и мечты, ныне они становятся делом. Как только я услышал об обществе, я подумал о тебе. Если ты тоже пожелаешь войти в него…
— Конечно! — перебил Рылеева Бестужев.
— Цель общества ты знаешь. Более же я, по правилам общества, сообщить тебе не могу. Не имею права открыть имена других членов, но все они люди в высшей степени достойные.
— Мне достаточно знать, что ты в этом обществе. Это для меня — самая верная порука.
— Итак, Александр, с этой самой минуты ты — член тайного общества. Я сообщу о тебе верховным правителям, и они решат, какая степень тайны будет тебе открыта. — Рылеев взял в руку положенный во время разговора Бестужевым листок с набросками предисловия к думам. — Теперь весь я и мой поэтический дар принадлежат обществу. Здесь я постарался выразить те идеи, которые оно преследует.
— Идеи ты выразил, но толку-то что: такое предисловие всю книгу загубит. Цензор, предупрежденный самим же автором, в каждом слове будет искать что-либо подозрительное. Уж если писать в духе общества, то уж тут прежде всего надо думать, как обойти цензуру.
— Есть у меня такая мысль: пустить сочинение в народ, минуя цензуру.
— Ни один типографщик не согласится рисковать типографией, да и собой тоже. Радищева и Новикова до сих пор помнят.
— А я — без типографии!
— Рукописи? В век типографских машин просто обидно скрипеть перышком.
— Понимаешь, я намереваюсь сочинить специальные песни для распространения в народе. Лучше всего переделки на известные мелодии. Читают только грамотные, а поют все. К тому же цензура властна над книгой, а песню — поди попробуй процензуруй!
— Что же, вроде «Пуссель»? — спросил Бестужев, имея в виду популярную шуточную песенку, в которой упоминалась сатирическая поэма Вольтера «Pucelle d'Orléans» — «Орлеанская девственница».
— Да, но народным языком. Сочинить про народную неволю, про неправедные суды, про поселения. Такие песни будут петь.
— Будут, — уверенно согласился Бестужев.
— Вот если взять и спародировать песенку Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого «Ох, тошно мне на чужой стороне…»:
Ах, тошно мне
И в родной стороне…
Это говорит мужик-крепостной.
— А дальше, пожалуй, так, — подхватил Бестужев и закончил строфу:
Всё в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать.
Бестужев легко импровизировал стихами, он был привычен к этой старинной забаве гостиных, Рылеев же не умел импровизировать, даже альбомный мадригал требовал черновика. Но сейчас роли как будто даже переменились: у Рылеева сразу рождались целые строфы:
— Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?
…А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Бестужев развивал тему:
— Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за всё, про всё давай!
Рылеев заканчивал:
— Там же каждая душа
Покривится из гроша:
Заседатель,
Председатель
Заодно с секретарем.
Бестужев начал о военных поселениях:
— Чтобы нас наказать,
Господь вздумал ниспослать
Поселенье
В разоренье,
Православным на беду.
Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.
Рылеев заключил:
— Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой!
— А ведь неплохо получилось, — сказал Бестужев. Рылеев бросился к столу:
— Надо записать, забудем.
— Пиши, — и Бестужев заговорил снова:
— Ах, тошно мне
И в родной стороне…
Песня была записана. Бестужев ушел, но минут через десять вернулся.
— Еще один куплет! — объявил он с порога.
— А до бога высоко,
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.
— Так мотай себе на ус! — повторил Рылеев. — Молодец, Саша!
3
Для Рылеева началась новая, деятельная жизнь. Совещания общества шли одно за другим: у Митькова, у Пущина, у Тургенева. Конституция Никиты Муравьева вызывала ожесточенные споры; конституционная монархия не устраивала своей половинчатостью, к тому же некоторые считали, что нечего заниматься сочинением проектов будущего государства, надо все силы направить на то, чтобы свергнуть самодержавие.
Рылеев сблизился с братьями Бестужева: старшим, Николаем, морским офицером, рассудительным, спокойным, обладавшим глубокими познаниями в точных науках и истории, средним, Михаилом, поручиком Московского полка. Николая Рылеев принял в тайное общество.
Считая Греча причастным к тайному обществу, Рылеев ошибался, а вскоре уверился и в том, что «вольнодумство» Греча — лишь бравада и мода, и, как только острословить стало опасно, тот поспешил стать благонамереннейшим обывателем.
Однажды днем, когда Рылеев надеялся найти Греча одного, он зашел к нему.
— Рад вас видеть, любезный Кондратий Федорович!
Дела у Греча шли хорошо. Доходы от изданий увеличивались; с цензурой он ладил, и от спокойной жизни под кремовым жилетом с недешевой золотой пуговицей заметно округлилось брюшко. Во время бесед с короткими приятелями, когда можно было расстегнуть сюртук и развалиться, Греч машинально долго и ласково оглаживал брюшко и пуговицу.
Рылеев начал разговор издалека: обычный — в меру интересный для собеседников, в меру скучный — о цензуре, журнале, предстоящем заседании любителей русской словесности.
Неожиданно Рылеев сказал:
— Удивительно, как иногда можно очутиться в неловком положении, не зная, как поступить.
— Точно, — подхватил Греч, — мало ли что бывает.
— А что, по-вашему, было бы вам решить затруднительнее всего?
Греч перестал поглаживать себя по брюшку и закатил глаза вверх.
— Всего неприятнее для меня было бы, — протяжно проговорил он, — если бы вдруг мне следовало завтра заплатить три тысячи рублей, взятых под честное слово, а у меня в это время д’аржан — ни копейки!
Рылеев поморщился:
— Это пустяки, есть случаи гораздо труднее.
— А какие, например?
— Вот, например, если бы вам открыли… — Рылеев пристально взглянул в глаза Гречу, и тот, не имея силы отвести глаза в сторону, сморгнул. — Если бы вам открыли, что существует заговор против правительства, и пригласили бы в него вступить? А? Что бы вы сделали?
— Это решить нетрудно, — с неестественным натужным смешком ответил Греч. — Я поступил бы с таким приятелем, как советовал граф Ростопчин поступить с французским шпионом: за хохол да на съезжую!
— А если заговор составлен для блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого?
— Нет, Кондратий Федорович, заговоры составляются не для блага государства, а для удовлетворения тщеславия или корыстолюбия частных лиц. Да уж если на то пошло, — продолжал Греч с наигранным воодушевлением, — я гораздо скорее желал бы быть на месте камер-гусара Саблина, которому заговорщики изрубили голову, когда он закричал Павлу: «Государь! Спасайся!», чем, как Платон Зубов, шататься по свету Каином с клеймом цареубийцы на лбу.
— Что же вас так привязывает к царям? — с досадой проговорил Рылеев.
— Положим, что вы ни во что ставите присягу, — уже совсем овладев собой, учительским размеренным тоном, каким он в Петровской школе объяснял мальчишкам уроки, заговорил Греч. — Но между царем и мною есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать фонари, а с меня требует только одно: сиди тихо. — Греч прижался в угол дивана, вновь погладил пухлой ладошкой золотую жилетную пуговицу и закончил свою длинную тираду, улыбаясь и поблескивая золотой оправой очков: — Вот я и сижу.
Рылеев перевел разговор на другое. Подали чай. Напившись чаю, Рылеев собрался домой.
Греч, провожая его, приговаривал:
— Дорогой мой друг, Кондратий Федорович, всегда рад видеть вас…
Много времени занимали и литературные дела: они с Бестужевым собирали «Полярную звезду» на следующий, двадцать четвертый год, вели переписку и переговоры с авторами, проводили полученные произведения через цензуру, что не всегда проходило гладко: цензор Бируков не пропускал стихотворений Пушкина — в одном он придрался к слову «боготворить», ибо, как он утверждал, этот глагол может относиться только к богу, а не женщине, в стихотворении «Приятелю» нашел ненравственную цель: «двое за одной волочатся», но, несмотря ни на что, дело подвигалось, и новый том «Полярной звезды» обещал быть не хуже прежнего. Завершалась работа и над «Войнаровским». Напечатанные отрывки вызывали много похвал.
У Рылеева в квартире почти всегда были люди. Приходили товарищи по тайному обществу: Бестужевы, Оболенский, Пущин, просто знакомые — офицеры, литераторы, сослуживцы по Уголовной палате.
В марте из Батова в Петербург приехала Настасья Матвеевна. С ее приездом ни сборища, ни споры в тесной рылеевской квартире не прекратились. Кондратий Федорович не скрывался от матери, принимая ее природную мягкость и жалостливость за убеждения, близкие к своим. Но она с испугом наблюдала за тем, что творилось в квартире сына, со страхом прислушивалась к громким и откровенным порицаниям действий правительства, а когда заговаривал сын, иной раз в отчаянье закрывала глаза.
Месяц спустя Настасья Матвеевна собралась в обратный путь.
Несколько дней перед отъездом она ходила задумчивая, расстроенная, то и дело глаза ее наполнялись слезами.
— Что с вами, матушка? — спрашивал Рылеев.
— Ничего, Кондраша, — отвечала Настасья Матвеевна, но в самый день отъезда она не выдержала.
Уже стояла у крыльца коляска, были вынесены и уложены вещи, и Наталья Михайловна одевала Настеньку, которую бабушка брала с собой в Батово.
Настасья Матвеевна прощалась с сыном.
— Кондраша, ради бога, побереги себя. Ты так неосторожен. Повсюду шпионы правительства, а ты как будто нарочно стараешься привлечь к себе их внимание своими словами и поступками…
— Вы напрасно думаете, матушка, что я везде и со всеми таков же, как перед вами. Я вовсе не намерен дразнить правительство и доставлять работу его шпионам. Напротив, я очень осторожен и скрытен с чужими. С друзьями я откровенен — так у нас общее дело, не скрываюсь от вас — так это потому, что вы сами разделяете мои чувствования.
— Милый Кондраша, эта откровенность и убивает меня: я вижу, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собой и важные, может быть, роковые для тебя последствия.
Настасья Матвеевна оглянулась вокруг, как бы ища поддержки, и подошла к сидевшему на стуле у окна Николаю Бестужеву. Бестужев встал ей навстречу.
— Вы друг его, — проговорила она, взяв Бестужева за руку, — вы рассудительнее и пользуетесь его расположением убедите его, он вам поверит, что он убьет меня, ежели с ним что случится… Конечно, бог волен взять его у меня каждую минуту… но накликать беду самому… Лет, он не любит меня…
Бестужев, склонив голову, тихо стал утешать ее, но Настасья Матвеевна слушала, недоверчиво качая головой.
Рылеев подошел к матери, взял ее другую руку и поцеловал.
— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили об образе моих мыслей, и не таил их от вас, но не хотел тревожить, открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу — вы угадываете, чего я ищу, чего хочу… Поэтому я должен сказать вам, что я член тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей…
Настасья Матвеевна побледнела, Рылеев обнял ее за плечи и подвел к дивану. Усадив мать, он сел рядом с ней и, не выпуская ее рук из своих, глядя ей в глаза, тихо и ласково продолжал:
— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас. Но вы должны по-иному, ближе рассматривать поступки своего сына. Если вы отдали меня в военную службу на жертву всем ее трудностям, опасностям, самой смерти, могшей меня постичь на каждом шагу, для чего вы жертвовали мною? Вы хотели, чтобы я служил отечеству, чтоб я исполнил долг мой, а между тем материнское сердце, разделяясь между страхом и надеждой, втайне желало, чтобы я отличился, возвышался между другими. Мог ли я искать того и другого, не встречая беспрестанно смерти? Нет. Но вы тогда столько не боялись, как теперь. Неужели отличия могли уменьшить страх вашей потери? Ежели нет, то я скажу вам, для чего вы можете достойно пожертвовать мною. Я служил отечеству, пока оно нуждалось в моей военной службе, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластия. Я желал лучше служить человечеству, избрал звание судьи, и вы благословили меня. В военной службе меня ожидала, может быть, военная слава, может быть, безвестная смерть. Но в наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев, приобретаемой не за благородное дело помощи страждущему человечеству, но для его угнетения… Должен ли был я, думая так, оставаться в военной службе? Нет, матушка, ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше — я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастие россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в этой борьбе с самодержавной властью и если современники не сумеют понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений. Может быть, потомство отдаст мне справедливость, и история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева — итак, благословите меня!..
Внутренний огонь, которым горел Рылеев, передался Настасье Матвеевне. Она любовалась сыном сквозь застилавшие глаза слезы.
Настасья Матвеевна наклонила его голову, перекрестила, и Рылеев вместе с легким поцелуем почувствовал быстро пробежавшую через лоб горячую материнскую слезу.
4
В начале марта 1824 года Пущин получил назначение на должность судьи в Москву. Между тем в самом ближайшем времени ожидался приезд в Петербург Пестеля. Петербургские члены тайного общества, называвшие себя Северным обществом в отличие от Южного — руководимых Пестелем управ на Украине, — понимали, что на этой встрече им предстоит принять решения, которые, видимо, определят дальнейшую судьбу всего движения.
О предстоящих переговорах с главой Южного общества возникал разговор при каждой встрече. Наиболее осведомленный в делах южан Трубецкой утверждал, что Пестель недоволен медленностью действий общества.
— Он едет, чтобы предложить новые правила организации общества, — сказал Трубецкой. — Они заключаются в том, чтобы объединить северян и южан под общим правлением одного директора, которому все члены должны беспрекословно повиноваться. На роль директора, можно предположить, метит он сам.
— Ввериться слепо одному человеку — опасно, — заметил Пущин. — Как вы полагаете, Кондратий Федорович?
— Я с вами согласен. Но в то же время соединение обществ, по-моему, полезно и необходимо, — ответил Рылеев, — об этом надобно вести переговоры, и этого надо искать.
— Но кроме того, Конституция Муравьева по духу своему прямо противоположна Конституции Пестеля, и ни один, ни другой не желают переделывать свои сочинения, — вздохнул Пущин.
— Нельзя же находить препятствие в авторском самолюбии! — возразил Рылеев. — Мы, по моему мнению, вправе только разрушить то правление, которое почитаем неудобным для своего отечества, а потом представить Конституции на рассмотрение Великого Собора как проект… Насильное же введение любого проекта я почитаю нарушением прав народа.
— Очень жаль, что мне приходится уезжать, не дождавшись Пестеля, — с сожалением проговорил Пущин. — Но остаться никак нельзя, поскольку для дальнейшего промедления нет никакого явного повода, и оно вызовет только лишние подозрения. Впрочем, главную линию Северного общества в переговорах мы определили, а конкретные вопросы станут ясны, когда определеннее узнаем намерения Пестеля. Видимо, он привезет свою Конституцию в последней редакции.
Пестель, как и Никита Муравьев, считал вопросом первостепенной важности до переворота разработать государственное и социальное устройство будущей свободной России и занимался сочинением своего конституционного проекта давно и постоянно. По аналогии с названием свода древнерусских законов он назвал его «Русская правда».
«Русская правда» Пестеля включала в себя как общие положения, так и мельчайшие подробности устройства низших учреждений.
По проекту Пестеля Россия объявлялась республикой. В противоположность муравьевскому плану федеративного устройства, Пестель утверждал, что «Россия есть государство единое и неразделимое». Административно Россия делилась на ряд губерний и областей, те, в свою очередь, делились на уезды, а уезды — на волости. Каждый год жители волости должны собираться на земские народные собрания; там предполагалось избирать волостные, уездные и губернские «наместные» собрания. Эти собрания и должны были быть органами власти своего административного района.
Каждый житель или жительница России, достигшие пятнадцатилетнего возраста, обязаны принести присягу отечеству. Этим ограничивались гражданские обязанности женщин, ни в каких выборах они не должны участвовать. Мужчины же могут получить гражданские права по достижении двадцати лет. Для того чтобы быть избранными в наместные собрания, никакого имущественного ценза не требовалось. «Наместные собрания будут сим способом весь народ и всех оного граждан в полной мере без изъятия представлять. Никто не будет зловластно от участия в государственных делах исключен». Верховным законодательным органом должно быть Народное вече — однопалатный парламент, депутаты которого избираются наместными собраниями административных округов. Избираются депутаты на пять лет. Каждый год переизбирается пятая часть депутатов. Из депутатов, заседающих в Народном вече последний год, избирается председатель веча.
Верховный исполнительный орган — Державная дума — состоит из пяти членов. Глава ее именуется председателем Державной думы.
Орган, надзирающий за точным исполнением конституционных законов наместными собраниями, Народным вечем и Державной думой, — Верховный Собор. Сто двадцать членов Верховного Собора, «бояре», избираются пожизненно.
Пестель не закрывал глаз на то, что новый порядок вещей встретит сопротивление со стороны бывших крепостников, и он предусматривал меры борьбы с контрреволюцией. По проекту Пестеля объявлялась «свобода книгопечатанья», «свобода вероисповеданий и духовных действий», но категорически воспрещались какие бы то ни было политические общества. Пестель являлся сторонником длительной диктатуры временного правительства, которое вводило бы конституцию в стране диктаторской властью.
Совершенно иначе, чем у Муравьева, решался Пестелем вопрос землеустройства и освобождения крестьян. О том, чтобы освободить крестьян без земли и обречь их тем самым на кабалу у прежних хозяев, не могло быть и речи.
Он предложил в каждой волости землю поделить на две части: одну распределить безвозмездно между всеми гражданами, приписанными к этой волости (ни продавать, ни завещать, ни закладывать эту землю нельзя), — это так называемая общественная часть земли; вторая часть земли отходила к казне, участки ее каждый гражданин мог купить, и она становилась его собственностью.
Пестелю казалось, что таким образом он избавит людей от угрозы нищеты. Действительно, ведь «каждый россиянин будет совершенно уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, который ему пропитание доставит…», но в то же время дает возможность умножить свое благосостояние, разрешая приобретать казенную землю в собственность.
Сам процесс освобождения крестьян должен был продолжаться не менее десяти лет. Первое время бывшие крепостные должны еще платить своим помещикам оброк (если они оброчные) или работать на помещичьих полях (если они барщинные), но по истечении установленного срока они становились совершенно свободными по отношению к своим прежним владельцам.
Помещичьи имения, сильно сокращенные после разделения земли, сохранялись только в казенной ее половине, где разрешалось частное землевладение.
По мнению Пестеля, постепенность в переходе от старого состояния к новому, свободному, гарантировала Россию от ненужных потрясений, от «кровопролитий и междуусобий». Но крестьяне и в этот переходный период пользуются теми же правами, что и остальные российские граждане: могут избирать и быть избранными в любой орган власти.
Сословный вопрос решался просто. «Гибельный обычай даровать некоторым людям привилегии за исключением массы народной будет совершенно уничтожен», — писал Пестель. Но дворянство в России все же сохранялось. Это было не «благородное» сословие, пользующееся наследственными привилегиями, а «люди, оказавшие отечеству большие услуги». Пестель называл их «отличными гражданами». Им даровались от правительства некоторые льготы вроде освобождения от налогов, но эти льготы отнюдь не передавались по наследству.
В числе «отличных граждан» могли оказаться выдающиеся государственные деятели, полководцы, ученые и писатели, но основная масса дворян в их число никогда бы не попала. Пестель прямо противопоставляет свое «дворянство» прежнему привилегированному сословию, утверждая, что его дворяне непременно «должны быть отличены от тех, которые только о себе думали и только о частном своем благе помышляли».
«Русская правда» была принята членами Южного общества, а конституционный проект Никиты Муравьева решительно отвергнут. Но Пестель понимал, что это полдела: надо было убедить Муравьева и выработать единую программу Северного и Южного обществ, так как объединение без этого невозможно.
Пестель приехал в Петербург несколько дней спустя после отъезда Пущина и, как обычно, остановился у брата, офицера-кавалергарда, в кавалергардских казармах.
На следующий день он встретился с Матвеем Муравьевым-Апостолом.
— Мы здесь собираемся довольно часто, — рассказал ему Матвей Муравьев-Апостол. — В октябре было интересное совещание на квартире у Ивана Ивановича Пущина. Никита Михайлович Муравьев объяснял свою Конституцию и убеждал всех в необходимости ее принятия. Но это ему не удалось. Здешние члены сделали много критических замечаний, и ему придется еще раз ее переделать. Избрали трех директоров Северного общества: Никиту Муравьева, Трубецкого и Оболенского. Пущин ввел в общество Рылеева, автора послания «К временщику». Рылеев, надо сказать, в полном революционном духе, и его нам следует иметь в виду. Все, конечно, согласились на его принятие. Никита Муравьев предложил Рылееву кончить начатый им «Любопытный разговор», и Рылеев собирается переработать по-своему этот, как он называет, «Катехизис свободного человека». По всему видно, что это будет посильнее «Любопытного разговора».
— Что ж, — сказал Пестель, — следует серьезно поговорить с Рылеевым и выяснить, на что он действительно способен. А сейчас едем к Оболенскому.
План Пестеля был таков: ориентировавшись в ходе дел в Северном обществе, побеседовать отдельно с каждым из видных северян. Первым он выбрал Оболенского, считая его наиболее близким по духу к южанам. Далее, ведя переговоры с умеренными Никитой Муравьевым и Трубецким — в их готовности принять его предложения он сильно сомневался, — попутно создать, опираясь на Оболенского и, может быть, Рылеева, группу более решительных северян, с помощью которой и заставить умеренных принять условия, выработанные на юге.
Оболенский не обманул расчетов Пестеля. Он согласился с ним, что соединить оба общества необходимо, и готов был согласиться даже на принятие пестелевской Конституции.
Итак, первый шаг был сделан удачно.
Свидание с Никитой Муравьевым откладывалось на неопределенное время: он не отходил от постели тяжело больной жены… Но с Трубецким Пестель встретился на следующий день после беседы с Оболенским. В разговоре с Пестелем Трубецкой колебался: он то соглашался, то отвергал его предложения, то был за временное правление, то против него. Но для Пестеля не было тайной, что Трубецкой был одним из самых убежденных противников его Конституции.
Теперь, прежде чем встречаться с другими членами Северного общества, Пестель решил увидеться с Рылеевым.
— Воистину тихое обиталище поэта! — шутливо заметил Пестель, оглядывая скромный рылесвский кабинет с окнами, выходящими в сад. Рылеев улыбнулся краем губ и ничего не ответил, темные глаза его смотрели испытующе.
Заметив внимательный взгляд хозяина, Пестель рассмеялся.
— Держу пари, Кондратий Федорович, — сказал он, — что знаю, о чем вы сейчас думаете: сознайтесь, что Трубецкой расписал меня опасным честолюбцем, метящим в Бонапарты. — И, помолчав, серьезно добавил: — Оправдываться не стану, давайте говорить о деле, решайте сами, насколько прав Трубецкой.
Сначала разговор шел на общие темы: о причинах, о характере нынешнего времени, о возникновении тайного общества. Рылеев слушал ясные, убедительные, логически стройные рассуждения Пестеля и внутренне был целиком согласен с ним.
— Политические книги у всех в руках, политические науки везде преподаются, политические известия повсюду распространяются, — говорил Пестель, — а это научает всех судить о действиях и поступках правительства: хвалить одно, хулить другое. Происшествия двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все эти происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. К тому же каждый век имеет отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, этих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах.
Что же касается до распространения духа преобразования по России, то нельзя приписать сие нашему обществу, ибо оно еще слишком малочисленно, но должно сие приписать общим причинам, действовавшим на все прочие умы точно так же, как и на умы членов общества. Может быть, к тому содействовал также и дух неудовольствия, возникший и существующий совершенно независимо от тайного общества…

Затем говорили о разных формах правления, обсуждали достоинства и недостатки республики и конституционной монархии. Прямой переход от самодержавия к республике Рылееву, как и остальным северянам, представлялся в условиях России чреватым трагическими событиями междоусобной гражданской войны, поэтому он склонялся к введению конституционной монархии как к переходному периоду. Пестель полагал, что беспорядки и междоусобия сможет устранить Временное правительство с диктаторскими полномочиями.
— Цели у нас общие, — заключил Пестель, — разногласия только в средствах и способах их достижения.
— У нас — да, но решающее слово о форме правления принадлежит самому народу.
— Конечна! — сказал Пестель. — Я считаю, что любую конституцию должно начать с благородных слов конституции испанской: «Нация не есть и не может быть наследием никакой фамилии и никакого лица, она обладает верховной властью. Ей исключительно принадлежит право устанавливать основные законы».
Пестель увлекся, он читал на память статьи испанской конституции о свободе печати, о всеобщем обязательном обучении, о равенстве перед судом и тут же говорил, что и каким образом можно будет ввести в России.
— Все это хорошо, но что касается меня, — проговорил Рылеев, — то я покорюсь большинству голосов членов общества. Устав, который будет принят нами, должен быть представлен великому Народному собранию как проект, и отнюдь не следует вводить его насильно. Я придерживаюсь твердого мнения: никакое общество не имеет права вводить насильно в своем отечестве нового образа правления, сколь бы он ни казался превосходным. Это дело должно предоставить выбранным от народа представителям, и решению их повиноваться беспрекословно есть обязанность каждого гражданина.
— Как же вы, такой противник насилия, думаете влиять на народ? — с заметной иронией спросил Пестель. — Уговорами? И вы полагаете, что противники ваши тоже ограничатся словами?
— Я не враг насилия только потому, что оно насилие, — ответил Рылеев. — Больше скажу: я за истребление всей царской фамилии, а не одного только царя, тогда все партии поневоле объединятся или, по крайней мере, легче их будет успокоить. Но навязывать свою волю Народному собранию то же насилие, что и при самодержавии.
— Вовсе нет! — горячо возразил Пестель. — И я надеюсь, что в будущем вы придете к тому же мнению. В революции неизбежно насилие, причем свершение ее, главная роль в ней ложится на вас, на Северное общество, на Петербург. Перед нами пример испанской революции: восстание, поднятое Риего и Квирогой на окраине страны, хотя по размерам Испанию с Россией и сравнить невозможно, было бессильно одолеть правительство, пока не восстала столица — Мадрид. У нас, на юге, твердое убеждение — без Петербурга ничего нельзя сделать.
Встреча директоров Северного общества с Пестелем состоялась у Оболенского.
Потом Оболенский рассказал Рылееву, как она происходила.
Северяне горячились. Пестель же, наоборот, держался подчеркнуто сдержанно и спокойно.
— Я никогда не соглашусь слепо повиноваться кому бы то ни было, — объявил Никита Муравьев.
— Но я же не требую от северных членов слепого повиновения одному директору, — говорил Пестель, — а предлагаю составить одну общую Директорию. Тем более, что у нас не один, а два директора, третий будет от вас.
Всем было ясно, что за спором об общем руководстве обществом скрываются не только личные отношения, главное заключается в том, что еще слишком многие вопросы о цели и методах действия оставались нерешенными.
В конце концов постановили держать постоянную связь, обмениваться документами, конституционными проектами и подготовиться к объединению и, если удастся, к общему выступлению через два года.
— Никита Михайлович хотел бы еще более отдалить срок, но Пестель настоял, что в двадцать шестом году надо выступать и для выступления объединение необходимо, — сказал Оболенский.
— Объединение необходимо… — проговорил Рылеев. — Но так же важно, на каких основаниях оно произойдет… Мы, на севере, должны усилиться, искать и найти новых членов, расширить сферу влияния на армию и на государственные учреждения, повсюду мы должны иметь своих людей. Я вполне согласен с Никитой Муравьевым, когда он говорит: «Лучше разойтись, чем рисковать и ничего не делать». А поскольку мы расходиться не собираемся, надо делать.
В конце лета на юг, в свои украинские имения, уезжал Матвей Муравьев-Апостол. Он должен был увидеться с Пестелем. Делая прощальные визиты, Муравьев-Апостол зашел к Рылееву.
— Зная о вашем отъезде, я приготовил для распространения среди членов Южного общества два моих сочинения, — сказал Рылеев и дал Муравьеву два листка со стихами.
Матвей Иванович взглянул на них. На первом была переписана уже известная ему песня «Ах, тошно мне…», на другом — новые стихи:
Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.
5
Рылеев не был бы поэтом, если бы его стихи не отразили того, что так занимало и волновало его. Он был полон идеей гражданского мужества и писал оду, воспевающую его:
Одушевленные тобой,
Презрев врагов, презрев обиды,
От бед спасали край родной,
Сияя славой, Аристиды…
Но — увы! — исторических примеров Рылеев мог привести совсем мало, хотя сам жанр оды требовал их: из русской истории припоминались — да и то с натяжкой — только Яков Долгорукий, дерзнувший оспаривать Петра Великого, и граф Никита Иванович Панин, канцлер Екатерины II, порицавший неограниченную самодержавную власть и желавший ограничить ее конституцией.
Где славных не было вождей,
К вреду законов и свободы?
От древних лет до наших дней
Гордились ими все народы;
Под их убийственным мечом
Везде лилася кровь ручьем.
Увы, Аттил, Наполеонов
Зрел каждый век своей чредой:
Они являлися толпой…
Но много ль было Цицеронов?..
Федор Николаевич Глинка, которому Рылеев прочел эти стихи, вскочил со стула и воскликнул:
— Кондратий Федорович! Ваши мысли почти слово в слово совпадают с тем, что несколько дней назад я слышал от Николая Семеновича. Дай бог памяти поточнее вспомнить. Говорили об исторических сочинениях и героях, прославляемых в них. И Николай Семенович по этому случаю сказал: «Занимаясь историческими сочинениями, я заметил, что в них прославляют храбрых завоевателей как великих людей, но я назвал бы их разбойниками. Защищать свое отечество — война законная, но идти вдаль с корыстолюбивыми замыслами, проходить пространство земель и морей, разорять жилища мирных людей, проливать кровь невинную, чтобы завладеть их богатством, — такими завоеваниями никакая просвещенная нация не должна гордиться».
— Я счастлив, что мои мысли совпали с мыслями самого замечательного государственного ума нашего времени, — проговорил Рылеев. — Спасибо вам, Федор Николаевич!
— За что ж мне-то спасибо? Ведь не я это сказал, а Мордвинов.
— Спасибо за то, что вы, как всегда, являетесь ангелом добра и вдохновляющей музой…
— Хороша муза в эполетах! — засмеялся Глинка.
Рылеев тоже рассмеялся.
— Нет, Федор Николаевич, ей-богу, нынче именно муза поэзии через вас дает мне знак. Какая же ода может обойтись без обращения к нынешним временам? А моя как раз страдала этим. Аристид, Катон, Долгорукий, Панин жили давно, читатель может сказать: «Все это хорошо, но тогда были иные времена, чем теперь, а другие времена — другие и песни». Как мне самому не пришло в голову имя Мордвинова! Моей оде недостает строф именно о нем!
Николай Семенович Мордвинов — один из первых вельмож России, адмирал, председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, член Комитета министров и Финансового комитета — представлял собой странную и необычную фигуру в правительстве русской империи.
Потомок заложника-аманата, взятого от племени буйной мордвы в царствование Ивана Грозного, он олицетворял в себе сам аристократизм. Правда, за минувшие два с половиной века только фамилия осталась напоминанием о его происхождении. Поколения Мордвиновых, усердно и честно служа в царской службе, приближались ко двору, и уже при Екатерине II, когда из числа детей знатнейших петербургских дворян выбирали товарищей для наследника престола, выбор пал на сына адмирала Мордвинова, Николая. Воспитываясь во дворце, Николай Мордвинов приобрел дружбу наследника, но при этом не поддался дворцовой атмосфере лести, был самостоятелен и в необходимых случаях даже дрался с великим князем, как дрался бы с любым другим мальчишкой, и, бывало, поколачивал его.
По окончании образования великого князя Мордвинова послали в Англию для совершенствования в морском деле.
Три года он плавал на английских судах, побывал в Америке. Тогда же он прочел труд великого английского экономиста Адама Смита «Исследование о природе и причине богатства народов» и стал ярым его поклонником. Англия вообще произвела на него огромное впечатление, ее политические и экономические учреждения, английский быт стали для него идеалом.
По возвращении в Россию Мордвинов попал под начало всесильного Потемкина, но, поспорив с ним, вышел в отставку. Только после смерти Потемкина он вернулся на службу.
Мордвинов был убежден в необходимости государственного и экономического преобразования России и последовательно придерживался своих взглядов. Русская государственная система, еще не изжившая неповоротливое, путаное наследие средневековых приказов, где дела решались «по преданию», «по совести», «по уважению» и прочим подобным обстоятельствам, а не по единым законам, постоянно входила в противоречие с проектами Мордвинова, и тогда его отвергнутое Сенатом или Советом «мнение» во множестве копий расходилось в Петербурге и провинции.
Николай Иванович Тургенев как-то передал Рылееву свой разговор с Мордвиновым о самодержавной власти.
— Пока крестьяне не освобождены, я готов мириться с этой властью, — сказал Тургенев Мордвинову, — лишь бы только она была употреблена для освобождения страны от чудовищного угнетения человека человеком.
— Надо начать с трона, а не с крепостных. Пословица говорит, что лестницу метут сверху, — возразил ему Мордвинов.
Рылеев прочел Глинке новые строки оды о гражданском мужестве:
Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов?
. . . . . . . .
Уже полвека он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит —
Он наступил ему на выю…
— Теперь ваша ода приобрела художественную законченность, — согласился Глинка, — и ваша мысль высказана вполне. Если вы согласитесь, Кондратий Федорович, я бы взял на себя миссию познакомить с вашей одой Николая Семеновича.
— Сочту за честь.
Через Глинку же Мордвинов передал Рылееву, что будет рад видеть его у себя.
Особняк Мордвинова на Театральной площади не отличался показной роскошью. Ничто в нем не бросалось в глаза, не пестрило, но на всем лежала печать той особой подлинной ценности, которая не нуждается в блеске и украшениях. Здесь все как будто говорило, что в этом доме не скрывают медь позолотой, а предпочитают натуральность: золото так золото, мрамор так мрамор, бронза так бронза. Но от всей этой чопорной простоты и подчеркнутой порядочности веяло холодноватой скукой.
Мордвинов встретил Рылеева в дверях кабинета, подал руку, Рылеев, принимая во внимание почтенный возраст Мордвинова, слегка пожал его руку, но старик ответил неожиданно крепким и энергичным рукопожатием.
— То, что Федор Николаевич рассказал мне о вас, вызывает у меня к вам самое искреннее расположение и уважение. Благодарю вас и за лестные слова, посвященные мне в вашей оде.
— Ваше высокопревосходительство, я сожалею о том, что мое перо слишком неискусно, а талант мал, чтобы создать нечто достойное вас…
Мордвинов выслушал Рылеева с серьезным, почти безразличным видом. На его бритом, вытянутом лице, похожем на лицо англиканского пастора, не дрогнул ни один мускул. Длинные прямые седые волосы усиливали сходство с пастором. И только глаза — умные, по-мужицки, по-русски хитроватые — дисгармонировали со всем его обликом.
Выдержав паузу, Мордвинов сказал, показывая на мягкие кресла, обитые кожей:
— Теперь, Кондратий Федорович, давайте поговорим.
Беседа продолжалась около двух часов. Большие каминные часы меланхолично вызванивали каждую четверть, как бы сожалея о протекшем времени.
Говорить больше пришлось Рылееву. Мордвинова интересовали взгляды молодого собеседника на различные вопросы политики, этики, политической экономии, попутно он высказывал свои сомнения.
— Вам следует расширить область деятельности, — сказал Мордвинов. — Ваши знания, способности и таланты настоятельно требуют использования их в полной мере. Я позволю себе напомнить вам евангельскую притчу о господине и рабе, зарывшем в землю оставленное ему господином серебро.
Мордвинов, который был официальным шефом самого крупного русского акционерного общества, ведавшего торговлей с Америкой, Российско-Американской компании, предложил Рылееву занять должность правителя канцелярии компании.
— Торговля вообще имеет огромное значение для государства, — сказал Мордвинов, — дела же Российско-Американской компании связаны с освоением Севера, что особенно важно для России.
Рылеев дал свое согласие. Но, начав работать в компании, он должен был также продолжать и службу в Уголовной палате до новых выборов.
6
Однажды Измайлов затащил Рылеева на среду в салон Пономаревой. Рылеев сел в заднем ряду и исподволь разглядывал присутствующих.
Он встретился взглядом с Гречем, видимо давно уже смотревшим на него, так как, перехватив взгляд Рылеева, он засуетился, закивал, задергал головой в правую сторону и как будто даже подмигнул. Рылеев догадался, что Николай Иванович хочет обратить его внимание на кого-то из присутствующих.
Рылеев посмотрел туда, куда указывал Греч, и увидел молодую красивую женщину в темном платье, которая сидела в кресле, скромно опустив глаза. Рылееву она показалась печальной.
Он удивленно пожал плечами, давая этим Гречу знак, что не понимает. Греч задергался энергичнее, но потом махнул с досадой рукой и отвернулся.
После чтения он подскочил к Рылееву.
— Кондратий Федорович, какова она вам? Ведь прекрасна?
— Ну и что из этого? Разве мало в Петербурге красивых женщин? Мне-то что до нее?
— Зато у нее до вас есть дело. Она приехала в Петербург искать правды, у нее какая-то сложная тяжба. Ее обманул муж-подлец и выгнал из дому чуть ли не нагой. Хотя, честно говоря, я хотел бы присутствовать при том, как она выходит из дому в таком виде! А? У нее в Петербурге есть друзья, но все — светские люди, в юриспруденции ни уха ни рыла, посоветовать некому. Стряпчие наши, сами знаете, не в суть дела, а в руки смотрят, а муж постарается купить кого надо. Возьмитесь, пожалуйста, за ее дело. На вас одна надежда.
— Но я же не ходатай, никогда этим не занимался, да и неспособен к этому.
— Тут не ходатай нужен, к вам в палату оно поступило, как это говорится по-вашему, в порядке надзора. Там нарушения как будто были допущены в самой низшей инстанции, под давлением мужа, разумеется. Ах, как она хороша! Зовут ее Теофания Станиславовна.
Рылеев взялся за дело Теофании Станиславовны, поскольку это, кроме всего, входило и в круг его обязанностей. Греч советовал ему посетить ее, но Рылеев посещения старался всячески избегать, так как считал, что неловко знакомиться с теми, чьи дела находятся в его руках. К тому же он в обществе женщин всегда чувствовал неловкость и застенчивость. Но все же он был вынужден увидеться с клиенткой: надо было узнать от нее некоторые обстоятельства, потому что дело тянулось давно, было слушано низшими инстанциями, бумаг накопилось очень много, почти все они писаны на польском языке, которого Рылеев не знал с той доскональностью, которая требуется в данных обстоятельствах.
При более близком знакомстве Рылеев увидел, что Теофания Станиславовна не только молода и красива, но умна и совершенно беспомощна в постигшем ее несчастье. После первого посещения Рылеев ушел от нее с горячим желанием помочь ей.
В последующие свидания слезы Теофании Станиславовны мало-помалу осушились, их сменила манящая томность, милая рассеянность, о делах было почти позабыто, все ее внимание было отдано Рылееву. Наконец, ее внимание перешло прямо-таки в какое-то угождение. Она желала руководствоваться только его советами, его мнение было всегда самое справедливое, его образ мыслей самый благородный. Рылеев встречал у нее полное понимание: она порицала деспотизм царского правительства, злоупотребления администрации, считала, что народы должны бороться за свободу, боготворила Байрона — одним словом, Рылеев видел в ней, как в зеркале, собственные мысли, чувства, пристрастия. Достаточно ему было упомянуть о какой-нибудь вещи или книге, то и другое являлось у нее на столе. Она читала сообразно с его вкусом и восхищалась тем, что нравилось ему. Но все это делалось с такой деликатностью и осторожностью, что самая бдительная щекотливость не могла бы почувствовать неловкости. И все ее восторженные отзывы о себе Рылеев слышал от других.
Он начал находить удовольствие в ее обществе, при ней исчезала его обычная неловкость, и, в конце концов, он должен был признаться себе, что увлекся ею.
Николай Бестужев написал повесть о некоем влюбленном молодом человеке, страсть которого оставалась неразделенной, он описывал его переживания, страдания, отчаянье, приводящие его к невыносимым мучениям и мыслям о самоубийстве. Поскольку все свои литературные сочинения братья Бестужевы и Рылеев, прежде чем отдать в печать, читали друг другу и обсуждали, то Николай Бестужев и решил по окончании повести прочесть ее Рылееву.
Был вечер жаркого, душного дня. В открытые окна вливался остывающий воздух. Рылеев жил в городе один, жена с дочерью находились в деревне.
Бестужев начал читать повесть. Рылеев слушал, опустив голову. Но когда повесть уже близилась к концу и герой ее, раздираемый противоречивыми чувствами, в бессонную ночь готов был покуситься на самоубийство, Рылеев вдруг проговорил дрожащим голосом:
— Довольно, довольно…
Бестужев взглянул на него. Глаза Рылеева были полны слез, слезы текли по щекам.
— Что с тобой? — спросил Бестужев. Он замечал, что в последние месяц-полтора Кондратий Федорович стал особенно беспокоен и нервен, но поскольку сам Рылеев ничего не говорил о причинах беспокойства, то Бестужев не считал себя вправе расспрашивать его.
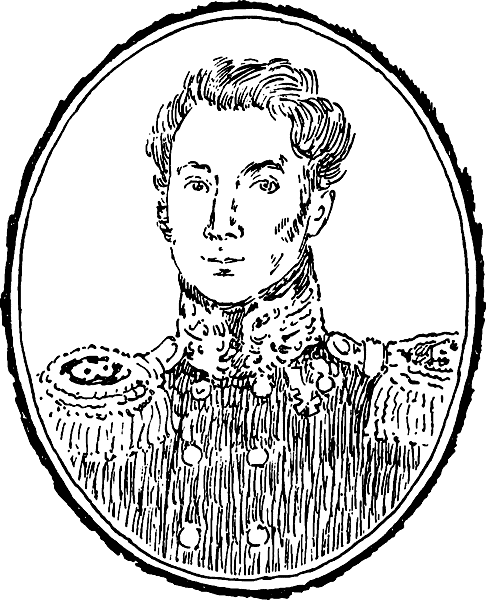
— Дай мне опомниться немного, и я тебе все расскажу, — сказал Рылеев, встал со стула и заходил по комнате. Пройдя несколько раз из конца в конец, он сел на диван рядом с Бестужевым.
— Состояние героя твоей повести, столь правдиво изображенное, так близко к нынешнему моему положению, что я не могу, я должен тебе открыться. Ты не поверишь, какие мучительные часы провожу я иногда, не знаешь, до какой степени мучит меня бессонница, как часто говорю вслух с самим собой, вскакиваю с постели, как безумный, плачу и страдаю. Я изнемогаю от борьбы со страстью. — Рылеев вздохнул и добавил тихим прерывающимся голосом: — И собственной совестью.
Николай Бестужев сделал вопросительное движение, но Рылеев не дал ему произнести ни слова:
— Не говори пока ничего. Просто выслушай мое повествование. Ты знаешь, я никогда не искал романтических приключений, поэтому все случилось помимо моей воли.
Рассказ Рылеева не был полной неожиданностью для Бестужева. Он вполне допускал, что такой пылкий человек, как Кондратий Федорович, к тому же поэт, может увлечься красивой женщиной, но поведение Теофании Станиславовны вызывало недоумение. Аналитический ум Бестужева требовал объяснения этому феномену.
— Но все ее поступки, может быть, с ее стороны одно только желание понравиться, желание, свойственное всем женщинам, — проговорил Бестужев. — Может быть, и ты обманываешься в своих чувствах, и удовольствие, которое испытываешь оттого, что находишься в обществе умной красивой женщины, принимаешь за другое чувство?
— Нет! Как я ни неопытен, но отличить любовь от иного чувства могу. — Рылеев оживился. — Я вижу, каким огнем горят ее глаза, когда наш разговор касается чувств. Не могу же я не видеть того предпочтения, которое она оказывает мне перед всеми в обществе и, так ловко умеет найти способ, чтобы оказать его. Когда же мы бываем одни, она задумчива, рассеянна, разговор наш прерывается. Я теряюсь, берусь за шляпу, хочу уйти, и один взгляд ее приковывает меня к стулу. Одним словом, она постоянно дает мне знать о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моем…
— Мне странно, что все это случилось с тобой, — задумчиво проговорил Бестужев. — О тебе не скажешь, что ты красив, ловок или имеешь дар любезничать с женщинами. Узнав тебя короче, верю, что можно полюбить, полюбить очень. Но такая быстрая победа над светской женщиной, можно сказать, с первого взгляда, невероятна. Для этого надобен внешний светский блеск, которым ты не обладаешь. Стихи, добродетель, правдивость, прямодушие любят, но в них не влюбляются. Вот если это с ее стороны кокетство, которым она старается подкупить своего судью, то…
— Нет, нет, она не кокетка! — с чувством прервал Рылеев рассуждения Бестужева. — Нет ничего естественнее ее слов, движений, действий! Все в ней так просто и так мило!
Бестужев внутренне усмехнулся, поняв, что доводы логики сейчас не для Рылеева. Тогда он решил пустить в ход последнее решительное средство:
— В таком случае, в чем же дело? Ты любишь ее, она — тебя, и — будьте счастливы вместе.
Рылеев отшатнулся. Гримаса страдания отразилась на его лице.
— Боже меня от этого сохрани! Уж даже оставя то, что я обожаю свою жену и не понимаю, как могло закрасться в мое сердце чувство к другой женщине, оставя нравственные приличия семейного человека, я не сделаю этого как честный человек! Я не хочу воспользоваться ее слабостью и вовлечь в грех. Сверх того, я не сделаю этого как судья. Ежели дело ее справедливо, на совесть мою ляжет, что я, пользуясь ее несчастным положением, взял такую преступную взятку. Ежели же ее дело несправедливо, мне надобно будет или решить его против совести, или, решив его по правде, обмануть ее надежды.
— Странный человек ты, Кондратий! Чего же ты хочешь! Ты не желаешь пользоваться благосклонностью женщины, намерен оставаться верным своим правилам и одновременно хочешь продолжать свои посещения ее, тогда как еще один шаг по этой дороге может ниспровергнуть все твои принципы. Чего же ты желаешь добиться, подвергаясь беспрестанно искушению? Видно, ты потому и не велишь жене приезжать сюда, чтобы продлить время самообмана.
— Твой упрек жесток, но ты имеешь право так думать. Нет, не ради собственной свободы я удерживаю жену в деревне, а только для того, чтобы она не видела моих страданий, моей борьбы с совестью. Впрочем, я писал уже ей, чтобы она возвращалась, но не настаивал на быстром приезде… Может быть, мне удастся совладать с собой…
— Что ж, дай бог тебе сил. А я теперь со всей пристальностью буду приглядываться к твоей Теофании Станиславовне.
— И ты убедишься, что это за очаровательная женщина!
Рылеев очень удивился, увидев Николая Бестужева: тот никогда не приходил в Российско-Американскую компанию к Кондратию Федоровичу в служебное время.
— Что случилось, Николай?
— Есть разгадка к твоей тайне.
Рылеев побледнел.
— Погоди.
Он подошел к двери кабинета, повернул вставленный в нее ключ и вынул его из скважины.
— Теперь говори.
— Она просто шпионит за тобой.
— Не может быть! Ты мне друг, но за такое подозрение я буду с тобой стреляться.
— Ты хочешь доказательств?
— Требую.
— Хорошо. Я их тебе представлю сегодня же. — Бестужев достал из кармана часы, щелкнул крышкой, взглянул на циферблат: — Через два часа пятнадцать минут. Ты, надеюсь, сможешь уделить на это час своего времени? Ты сегодня не идешь к Теофании Станиславовне?
— Она предупредила меня, что сегодня не будет дома. Сегодняшний день она вынуждена посвятить какой-то родственнице мужа — классной даме Смольного института, у которой нынче именины, и она едет к ней в институт на весь день.
— Ну ладно, тем лучше.
Около пяти часов Бестужев привел Рылеева в Михайловский сад и, кивнув в сторону большого дома на Фонтанке, спросил:
— Тебе известно, какая замечательная личность живет в этом доме?
— Ты имеешь в виду Пукалову?
— Ее. Смотри, налицо и причина ее знаменитости.
К дому Голашевской, в котором бельэтаж снимал синодский обер-секретарь Пукалов, подъехала и остановилась коляска, из нее вышел артиллерийский генерал в старом, потертом мундире — граф Алексей Андреевич Аракчеев. Выбежавший из подворотни унтер-офицер подбежал к Аракчееву, что-то отрапортовал, граф, выслушав, прошел в дом.
Пукалова была любовницей Аракчеева. Это знал весь Петербург, многие, действуя через нее, добивались успешного решения своих дел, так как она с большой охотой вмешивалась в служебные интриги и умело воздействовала на графа в желаемом просителю направлении.
— Не вижу ничего интересного в том, что, оскорбляя общественную нравственность, вельможа смеет открыто являться к любовнице, — сказал Рылеев и отвернулся.
— А вот второе явление. Оно тебя заинтересует более.
Коляску Аракчеева у дверей дома сменила закрытая карета. Из нее вышла женщина в темном шелковом простом рединготе и черной шляпке с широкими полями, которые почти скрывали лицо.
— Теофания! — почти беззвучно воскликнул Рылеев и сжал руку Бестужева. — Или же эта женщина необычайно похожа на нее…
Женщина скрылась в доме.
— Это она, — сказал Бестужев, — и не успокаивай себя обманом. А я тебе открою, как мне все это стало известно.
Открылось все совершенно случайно. Один кавалергард, светский и недалекий юноша, хвастаясь, что был на балу у Лаваля, рассказал маленький анекдот, случившийся там. Кто-то прошелся насчет Пукаловой, что-де, видать, ей скоро будет отставка, так как видели, что к Аракчееву приезжала несколько раз молодая красивая дама. Слышавший это отставной сибирский генерал-губернатор Пестель, сам держащийся в милости у Аракчеева благодаря Пукаловой, ринулся на защиту своей покровительницы. «Посещающая графа Алексея Андреевича дама, — сказал он, — вовсе не соперница Варваре Петровне, в своих чувствах граф Алексей Андреевич отменно постоянен; эта дама по его поручению наблюдает за каким-то писакой, который составил заговор против государя. Мне сие известно совершенно точно, ибо свидания графа с дамой происходят в квартире Варвары Петровны». Пестель жил в одном доме с Пукаловой и по-соседски частенько заглядывал к ней, поэтому его свидетельству нельзя было не поверить.
Беседа с полицейским, дежурившим возле дома аракчеевской любовницы, подкрепленная рублем на водку, позволила узнать время посещений неизвестной дамы. Как и во всем, и здесь граф был пунктуален: посещения происходили в определенные дни и часы.
Далее оставалось только установить, кто она такая, эта дама. Я пришел в известный мне час и посмотрел на нее.
— Господи! — в отчаянье воскликнул Рылеев. — Какое вероломство! Я завтра же поеду к ней, выскажу ей
все свое презрение, я укажу ей на всю низость принятой ею на себя роли!
— Вот этого тебе как раз не следует делать. Если станет известно, что она разоблачена, за тобой постараются шпионить каким-нибудь другим способом, а тут ты знаешь, кого надо опасаться.
— Ты прав, Николай. — Рылеев крепко пожал ему руку.
— Она сейчас выйдет, — сказал Бестужев, открыв часы. — Да вот она. Ты можешь к ней подойти. Не опасайся ее смутить, она найдется сказать тебе что-нибудь естественное…
— Не испытываю никакого желания. Жестоким способом, но я исцелен.
7
7-го ноября 1824 года Петербург постигло столь памятное в истории столицы наводнение. Рылеев находился тогда в Подгорном. Раскрыв только что привезенный из Острогожска свежий нумер «Русского инвалида» и просматривая его, на последней странице он нашел короткое сообщение.
— Наташа, Матрена Михайловна, Михаил Андреевич, идите сюда, в Петербурге наводнение! — позвал он и, когда все сбежались, прочитал вслух: — «В прошедшую пятницу, 7-го числа сего месяца, здешняя столица посещена была бедствием…»
— Почему же целую неделю ничего не сообщали о наводнении? — удивленно спросила Матрена Михайловна.
— Видимо, потому что оно произошло без дозволения начальства, — усмехнулся Михаил Андреевич, — и ждали указаний, в каком духе о нем сообщать. Читай дальше, Кондратий Федорович.
— «…посещена была бедствием, коему уже около пятидесяти лет не было примера. Река Нева, которой воды беспрестанно возрастали от сильного морского ветра, вышла из берегов своих в одиннадцатом часу утра. В несколько минут большая часть города была наводнена. Ужас объял жителей. Не прежде, как в два с четвертью часа пополудни, вода начала убывать, а в ночь река вступила в обыкновенные берега свои. Невозможно описать все опустошения и потери, произведенные сим наводнением. Все набережные, многие мосты и значительное число публичных и частных зданий более или менее повреждены. Убыток, понесенный здешним купечеством, весьма велик. Жители всех сословий с благородною неустрашимостью подвергали опасности собственную жизнь свою для спасения утопающих и их имущества. Сии черты мужества, великодушия и преданности столь многочисленны, что с каждым почти днем узнаём мы новые. Государь император сам изволил осматривать все места, наиболее пострадавшие…»
— Господи, страсть-то какая!.. — вздохнула Матрена Михайловна.
— Да, бедствие, видать, большое, — проговорил Рылеев. — Как-то там наши пережили его…
На следующий день пришло письмо от Александра Бестужева, он писал, что квартира Рылеева, — а после перехода на службу в Российско-Американскую компанию он получил казенную квартиру в доме компании на Мойке возле Синего моста, — была залита выше полутора аршин, что можно было, спасли; но все же часть обстановки и вещей попорчена, разрушены печи, стены отмокли и вряд ли скоро просохнут…
Служебные обязанности требовали присутствия Рылеева в Петербурге, надо было ехать.
— Тебе с Настенькой лучше остаться здесь, — сказал Рылеев жене, — пока я приведу в порядок квартиру. Может быть, там и вовсе нельзя жить, придется искать новую.
— Конечно, тебе лучше остаться. Кондратий Федорович рассудил совершенно справедливо, — поддержала зятя Матрена Михайловна. — Куда ты там денешься с Настенькой, застудишь, не дай бог.
Выехал из Подгорного Рылеев в коляске, но в Воронеже пришлось пересесть в сани: выпал снег, началась зима. А неделю спустя, когда он въезжал в Москву, первопрестольная красовалась в полном зимнем наряде.
Под полозьями весело поскрипывал снег. Белые улицы, белые крыши, припорошенные белым снежком и оттого еще более блестящие золотые церковные купола, опушенные снегом ветви в садах, словно обведенный легкими бельем и штрихами и оттого ставший еще более воздушным и устремленным ввысь Кремль — все это сразу настроило Рылеева на какой-то празднично-радостный лад. Он ехал к Штейнгелю в Гагаринский переулок.
После первой встречи со Штейнгелем у Рылеева установились с ним доверительные отношения, они питали друг к другу взаимную симпатию. Штейнгель был старше Рылеева на двенадцать лет — разница весьма значительная, прошел трудный служебный путь без знакомств и покровителей, в войну воевал, служил в статской службе, бывало, обходили чинами, бывало, бедствовал в такой степени, что хоть выходи с протянутой рукой; но сейчас он служил управляющим канцелярией московского генерал-губернатора и впервые в жизни имел более или менее достаточный заработок и даже построил собственный дом. Наезжая в Петербург по делам, Штейнгель останавливался у старого своего знакомого — директора Российско-Американской компании Прокофьева, имевшего квартиру в том же доме, в котором жил и Рылеев. Каждый раз он встречался и с Рылеевым. Несмотря на возраст и служебные неурядицы, Штейнгель сохранил совершенно юношескую способность возмущаться злом и стремление бороться против него: в комитет, занимавшийся вопросами наказания кнутом и вырывания ноздрей и руководимый самым горячим сторонником телесных наказаний Аракчеевым, подал «Рассуждения о наказаниях», в которых восставал против кнута как меры варварской и человечеству противной; затем написал и тоже отправил Аракчееву для передачи царю сочинение, в котором предлагал уравнять в правах сословия дворян, купцов и мещан; подобные же соображения высказывал он разным государственным чиновникам и в устных беседах. С Рылеевым они говорили о компанейских, им обоим хорошо известных делах, затем естественно перешли к неурядицам и злоупотреблениям в государстве вообще, и когда Штейнгель в возмущении воскликнул: «И никто этого не видит, неужели нет людей, которых бы интересовало общее благо!» — Рылеев ему сказал, что такие люди есть, и спросил, не хочет ли он вступить в их число. Штейнгель стал членом тайного общества. Рылеев дал ему письмо к Пущину, и уже Пущин в Москве приобщил его к деятельности общества.
Штейнгель настоятельно приглашал Рылеева, когда тот будет в Москве, остановиться только у него.
Когда Рылеев подъехал к уютному и ладному дому Штейнгеля, построенному в том милом и скромном стиле, который получил название московского ампира, едва сани остановились у ворот, двери растворились, и на крыльцо выбежал Пущин и сам хозяин. Рылеев был препровожден в приготовленную ему комнату, обласкан, ему сказали, что не сядут обедать и подождут, когда он отдохнет и сможет выйти к столу.
Рылееву не терпелось узнать новости.
— В Москве членов общества немного: Нарышкин, Штейнгель, я, есть несколько человек, прежде состоявших в «Союзе благоденствия», — рассказывал Пущин. — Общество бездействует, но я уже слышал от нескольких прежних членов пожелания вновь начать действовать. Твой приезд, безусловно, всех подвигнет на более смелые и решительные мысли и поступки. Твои думы в Москве производят, пожалуй, даже большее впечатление, чем в Петербурге. Ты приготовься, москвичи тебя заставят читать стихи.
— А я не стану отказываться.
За обедом хозяйка начала рассказывать Рылееву о том, что теперь занимает москвичей.
Москва еще жила толками о петербургском наводнении, еще появлялись все новые и новые ужасные подробности бедствия, но уже сменяли их, по человеческому свойству привычки и забвения, разные анекдоты. Рассказывали, как государь, посетив развалины деревни Волынкиной, расположенной на Петергофском шоссе и целиком разрушенной, милостиво беседовал со стариком — жителем деревни. Государь расспрашивал о том, кто какой понес ущерб. Старик слово «этого» произносил на свой лад — «афтова»: «У афтова пропала лошадка, у афтова — коровушка». Государь принял это слово за фамилию и сказал: «Ну, это все у Афтова, а что же у других?»
Но в самые последние дни все разговоры о наводнении вытеснило новое событие: намечавшаяся скандальная дуэль каких-то Черновых с флигель-адъютантом Новосильцевым, ради которой два брата Чернова приехали в Москву. Дуэль не состоялась, но говорили о ней много.
— Черновы еще в Москве? — спросил Рылеев.
— Кажется, в Москве, — ответил Пущин. — Я с ними незнаком, но могу узнать.
— Иван Иванович, будь добр, вели найти их, пусть зайдут завтра ко мне.
— Ты их знаешь?
— Более того, они мне родня.
— Если бы я это знал, приготовил бы тебе подробный отчет об их деле! Но если они не уехали, завтра будут у тебя.
Черновы доводились Рылееву двоюродными братьями по материнской линии, их небольшое имение находилось неподалеку от Батова. Черновых было три брата, все офицеры. Рылеев иногда встречал старшего — Константина, поручика Семеновского полка, переведенного в этот полк из армии после расформирования старого состава в двадцатом году, но близких отношений между ними не было. О событиях, чуть было не приведших к дуэли, Рылеев по московским толкам мог составить себе довольно ясное представление.
Отец Черновых — Пахом Кондратьевич — генерал-майор, служил аудитором в Первой армии, стоявшей в Могилевской губернии. Кроме сыновей-офицеров, он имел дочь Екатерину — красивую, веселую девушку. В провинциальной глуши небогатый, но гостеприимный дом Черновых привлекал штабных офицеров, хотя там к обеду подавались щи да каша с графинчиком водки и с присказкой, что-де пища проста, зато здорова. Попал к Черновым и адъютант графа Сакена — Новосильцев, молодой аристократ, внук графа Орлова, красавец, богач, единственный сын у матери, не чаявшей в нем души, для которого пребывание в армии было лишь кратким эпизодом, первой ступенькой к карьере. Но случилось так, что Новосильцев безумно влюбился в Екатерину Чернову, она отвечала ему взаимностью. Он сделал формальное предложение, которое было принято. Как раз в это время Новосильцев был сделан флигель-адъютантом и должен был уехать в Петербург. Екатерина с матерью тоже выехали в столицу, там, в августе, состоялись сговор и обручение.
Но влюбленный адъютант совсем забыл о том, что для женитьбы ему необходимо согласие матери и деда. Когда же он написал матери о своем намерении и просил благословения на брак, то получил отказ и строгое приказание немедленно прекратить всякие сношения с семейством Черновых.
Новосильцев поскакал в Москву, чтобы упросить мать. В Москве же мать заставила его прекратить переписку с невестой, в Петербург к назначенному для свадьбы сроку он не вернулся. Между тем пошли сплетни, порочащие Екатерину Чернову. Ее братья, считая честь сестры оскорбленной, решили потребовать от оскорбителя удовлетворения и для этого приехали в Москву…
Константин Чернов и его младший брат Сергей пришли к Рылееву утром.
Сергей был возбужден пережитым волнением и еще кипел негодованием и решимостью стреляться. Он даже как будто был несколько разочарован, что поединок не состоялся. Константин, наоборот, чувствовал удовлетворение мирным исходом.
— Новосильцев, — говорил он, — любит сестру, и я уверен, что счастлив жениться на ней, но он слишком слабохарактерен и подвержен влияниям, а мать его прямо помешана на своем аристократизме. Сейчас все кончено: она, видимо, испугалась за жизнь сына, послала нашим родителям письменное согласие на брак своего сына с их дочерью, Новосильцев обязался совершить свадьбу в течение шести месяцев. Он говорит, что рад жениться хоть завтра, да боится дать повод говорить, будто его вынудили к женитьбе угрозами. Он нам объявил, что никогда не оставлял намерения жениться на нашей сестре, я извинился за то, что сомневался в его честности. Однако один бог знает, что наговорят и насоветуют ему за эти шесть месяцев…
Впервые Рылеев серьезно разговаривал со своими двоюродными братьями и пожалел, что прежде они, в общем-то, не знали друг друга.
— Вы долго еще пробудете в Москве? — спросил Рылеев. — Может быть, поедем в Петербург вместе? Я здесь всего на неделю.
— Нет, Кондратий Федорович, мы не можем остаться, — ответил Константин, — у меня послезавтра кончается отпуск, у брата тоже. Мы сегодня уезжаем.
Рылеев крепко пожал руки Черновым и сказал Константину:
— В Петербурге, надеюсь, теперь мы будем видеться.
Пущин оказался прав: в Москве рылеевские думы пользовались и известностью и любовью. Денис Давыдов, которому Рылеев передал привет от Бедраги, осведомившись о здоровье и занятиях боевого товарища и сказав, чтобы Рылеев, как будет писать, кланялся бы и от него, потом заговорил о думах и очень хвалил их. Вяземский сказал несколько комплиментов.
В Москве Рылеев встретил штабс-капитана Петра Александровича Муханова, с которым познакомился еще три года назад на собраниях Вольного общества любителей российской словесности, которое тот посещал, так как сам писал статьи и очерки. Много воды утекло с тех пор: Муханов ушел из гвардейского Измайловского полка, служил на Украине адъютантом генерала Раевского, а теперь жил в Москве в отпуску. Внешне он почти не изменился: высокий, широкоплечий, с большими рыжими усами — шутники утверждали, что у него самые длинные усы в русской армии. За все эти годы они обменялись несколькими письмами.
Муханов крепко обнял Рылеева, сжав так, что Рылеев охнул, а отпустив, заговорил:
— Хоть ты и не мне прислал рукопись твоей поэмы, она все равно меня не минула. «Войнаровский» твой, ей-богу, отлично хорош! Все хвалят, но находят, что описания могли бы быть пространнее: сейчас эпизоды в моде, а ты со своим сильным чувством мог бы изобразить их оригинальными красками. Пушкин, которого я встречал в Одессе, очень восхищался строчкой: «И в плащ широкий завернулся». «Эта строка, — сказал он, — выражает совершенное познание сердца человеческого и борение великой души с несчастьем».
— А еще что он говорил?
— Еще… Ну, слово в слово не помню, но, поверь мне, он любовался поэмой, как и я. Почему ты не издашь «Войнаровского» книгой?
— Опасаюсь придирок цензуры.
— В Москве цензура покладистее, чем в Петербурге, давай рукопись, я здесь проведу ее поскорее, — предложил Муханов.
— И типографа здесь найдем, — сказал Штейнгель, — рекомендую Селивановского, человек весьма почтенный и издатель опытный. Из бывших крепостных. Достиг настоящего своего состояния собственным разумом и трудом.
В конце концов решили, что Рылеев издаст в Москве две книги: «Думы» и «Войнаровский».
Всюду, где бы ни бывал Рылеев, — а его каждый день знакомые и незнакомые приглашали на завтраки, обеды, ужины, как будто Москва поставила своею целью показать ему, что ее прославленное хлебосольство отнюдь не выдумка, — он всюду читал стихи. Особенно восторженно принимали его у Нарышкина, где собрались все те, на кого надеялся Пущин. Потом, конечно, был шумный общий разговор с обычным для любого либерального разговора выводом: пора кончать с этим правительством.
С Пущиным удавалось поговорить лишь урывками, но о главном все же условились: не смущаясь бездействием старых членов общества, стараться вновь вернуть их к деятельности, искать и принимать новых. Рылеев имел намерение привлечь к обществу сослуживца Николая Бестужева, капитан-лейтенанта Торсона, и через них образовать морскую управу общества в Кронштадте, эта мысль получила полное одобрение Пущина. Говорили и о том, что Пестель прав: надо от рассуждений переходить к делу, определить срок выступления и что, конечно, самым удобным временем для этого была бы смена монархов на престоле, пока еще не принесена новому присяга. Пущин открыл Рылееву, что Александр Булатов, на днях получивший полк в Пензенской губернии, является давним членом общества.
Провожая Рылеева, Пущин сказал:
— Я тоже в скором времени, наверное, буду в Петербурге. Есть у меня желание исполнить один заветный замысел. Но так как боюсь сглазу, пока и тебе не скажу о нем, пока это тайна.
8
Новый, тысяча восемьсот двадцать пятый год Рылеев встречал дома. За столом сидели только он, Александр Бестужев и высланный из Вильны за участие в тайном студенческом кружке поэт Адам Мицкевич. Пили за Новый год, за будущее, за счастье, за свободу…
Московские чтения стихов, разговоры об издании книг, сама поэтическая литературная атмосфера, в которой Рылеев оказался в Москве, разбудили в нем вдохновение. Вернувшись из канцелярии, он бросался к письменному столу — и писал.
Перед ним лежал план «Наливайки».
Он не мог писать без плана.
Кто-то пустил полунасмешливое прозвище «планщик», года два-три назад он бы наверняка оскорбился, но сейчас только посмеялся, услышав, что его так называют. Теперь он знал, что вдохновение — это вовсе не бессознательное, стихийное состояние. Оно приходит не вдруг, а лишь как вознаграждение многих предварительных душевных трудов. Как не может, положим, русский человек, специально не изучавший индейского языка, говорить по-индейски, так и поэт, не думавший прежде о предмете, о котором пишет, не разобравший и не оценивший его со всех сторон, не понявший его внутреннего смысла, не способен написать о нем ничего, кроме какой-нибудь галиматьи.
Каждый составляет план своего сочинения: один составляет в голове, другой на бумаге, только многие скрывают это в угоду публике, создавшей представление о поэте как о ленивце, на которого иногда нисходит божественное вдохновение и которому муза диктует строки и строфы. Посмотрели бы они на черновые рукописи этих «ленивцев»!
Как-то Измайлов показал Рылееву черновые «Оды на рождение порфирородного отрока» Гаврилы Романовича Державина. Кондратий Федорович с удивлением рассматривал листы, исписанные старинным старческим угловатым почерком. Листов было довольно много, но стихотворных строк, как ни искал, не нашел.
Видя его удивление, Измайлов сказал:
— Наш великий лирик прежде, чем написать оду или даже стихотворение, составлял вот такой план, писанный прозою, а уж затем перелагал его в стихи.
В прозаических пунктах Державина Рылеев нашел не только мысли, но почти все образы и выражения, вошедшие потом в оду, которая, как представляется всем, вылилась из души поэта в едином порыве вдохновения…
Планов поэмы о Наливайке Рылеев составил много, пока наконец вырисовалось построение поэмы. Настроение, чувство и главная мысль поэмы родились давно, задолго до того, как появились первые наброски плана, и лишь отдельные отрывочные строчки, понятные лишь ему одному, тогда же. Теперь же поэма выстроилась. Рылеев переписал вчерашний, дополненный и поэтому ставший черновиком, план набело.
«Сельская картина. Нравы малороссиян.
Киев. Чувства Наливайки. Картина Украйны. Униаты. Евреи. Поляки. Притеснения и жестокость поляков. Смерть Косиненко.
Смерть старосты. Восстание народа. Наливайко — гетман. Новые жестокости поляков.
Поход. Сражение. Тризна. Мир. Лобода и Наливайко в Варшаве. Казнь их. Эпилог».
Рука машинально дописывала план, но в мыслях возникали новые эпизоды поэмы, и на том же листке он записал их: «Церковь. Пещеры. Поход казаков. Молитва Наливайки. Он может и не хочет бежать. Эпилог. Наливайко в темнице».
И опять мысль обгоняет руку: перед тем как принять решение о походе, Наливайко должен исповедаться. Исповедь Наливайки — вот где он выскажет заветные мысли и чувства, надежды и сомнения, которыми он не смеет или не хочет делиться даже с ближайшими соратниками!
Как ясно представил Рылеев себе эту сцену: пещерная церковь, горит лишь одинокая свеча перед образом Спасителя и неугасимые лампады, они не могут разогнать мрака, старик-иеромонах, Наливайко… Рылеев слышит их голоса: смущенный — монаха и убежденный, страстный — гетмана.
Появилась первая стихотворная строка. Не начальная, а из середины, когда Наливайко уже открыл свои мысли священнику, и тот ужаснулся его кровавым замыслам.
«Не говори, отец святой,
Что это грех! Слова напрасны:
Пусть грех жестокий, грех ужасный…
. . . . . . . .
Итак, уж не стирайся боле
Меня страшить. Не убеждай!
Мне ад — Украйну зреть в неволе,
Ее свободной видеть — рай!..»
Рылеев писал, как Наливайко рассказывает монаху о том, что привело его к решению поднять восстание: о том, что с младенчества он слышал песни о героях старых времен, о прежней свободе, украинцев, но, возросши, увидел повсюду, как захватившие край поляки угнетают народ.
«Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует, как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых.
«Пора! — мне шепчет голос тайный,—
Пора губить врагов Украйны!»
Необычайное волнение охватило Рылеева, пропала грань между созданием его фантазии гетманом Наливайкой, жившим в шестнадцатом веке, и им, сегодняшним, живущим в девятнадцатом веке. Он писал и не знал: то ли это слова Наливайки, то ли его собственные.
Рылеев написал последнюю строку. Но чувство вдохновения, подъема не проходило. Сейчас, когда он нашел слова для выражения идеи святого самопожертвования своей заветнейшей идеи, Рылеев не мог, просто физически не мог не высказать их вслух, не поделиться переживаемым.
В эти дни у Рылеева жил средний брат Бестужевых Михаил. Кондратий Федорович прислушался: из комнаты, где находился Михаил Бестужев, слышался шелест переворачиваемых страниц.
— Мишель, ты не спишь?
— Нет.
— Я тебе прочту стихи, которые только что написал.
Рылеев прошел к Бестужеву.
— Это отрывок. Перед тем как поднять восстание, Наливайко идет на исповедь к печерскому схимнику. Между ними происходит разговор, монах говорит, что кровавое предприятие, которое задумал Наливайко, грех. Наливайко ему возражает.
Рылеев прочел стихи:
— «Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю…
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»
Михаил Бестужев после окончания чтения несколько мгновений задумчиво молчал. Потом тихо и медленно проговорил:
— Знаешь ли ты, что ты написал предсказание самому себе и нам с тобою? В этих стихах ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий…
Рылеев тотчас же ответил:
— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера пробуждения спящих россиян.
9
Зайдя к Федору Николаевичу Глинке, Рылеев застал у него странного молодого человека в потертом фраке, с большим пышным галстуком. Молодой человек бросил взгляд на Рылеева, в котором одновременно отразились вызов, тревога, тоска и напускная беззаботность. Он был похож на какую-то большую птицу, вырвавшуюся из переделки и теперь, собрав последние оставшиеся силы, приводившую себя в порядок.
— Мой земляк и дальний родственник, — представил молодого человека Глинка. — Петр Григорьевич Каховский, поручик в отставке.
Каховский порывисто протянул руку Рылееву.
— Вам нет нужды называть свое имя, Кондратий Федорович, ваше имя известно каждому русскому патриоту, к числу которых смею причислять и себя.
— Спасибо, — растерявшись, ответил Рылеев.
Каховский так же порывисто поклонился, отошел в угол, сел на стул и, не говоря ни слова, смотрел на Рылеева, пока тот разговаривал с Глинкой. Этот взгляд незнакомого человека смущал, и Кондратий Федорович стал прощаться.
Каховский вскочил со стула.
— Я тоже пойду, мне пора. Если позволите, Кондратий Федорович, мне с вами по пути…
Они вышли вместе на Театральную площадь, с нее мимо Гостиного двора прошли на Екатерининский канал сзади Казанского собора, где был кратчайший путь к Исаакиевской площади.
— Вы постоянно живете в имении? — спросил Рылеев.
— После отставки — да, но последние полтора года вынужден был по болезни провести за границей, где проходил курс лечения.
— В Петербурге находитесь, чтобы вновь поступить на службу?
— «Служить бы рад, прислуживаться тошно».
— Вы интересуетесь русской литературой и знаете комедию Грибоедова?
— Она принадлежит к тому роду сочинений, которые необходимо знать, как сочинения Пушкина.
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть,—
или ваше «К временщику»… Я проезжал Россию от севера до юга, видел бедствия людей и не могу не сочувствовать им.
— Направление ваших мыслей делает вам честь. Конечно, в глазах определенного круга общества.
— Я дорожу мнением только этих людей. Каховские всегда были вольных мыслей: один из них при Екатерине был за это заключен в крепость.
Рылеев взглянул на Каховского. Глаза Каховского, устремленные в пространство, сверкали. Он вдруг остановился и взял Рылеева за руку.
— Я решился на всё.
— На что? — спросил Рылеев удивленно.
— На всё. Вы давеча спросили, зачем я приехал в Петербург. Вам я открою мою тайну. Я скоро уеду из Петербурга. Я еду в Грецию, к Ипсиланти. Ну, здесь я вынужден проститься с вами, счастлив был познакомиться…
— Если вы имеете досуг, может быть, навестите как-нибудь меня до отъезда, буду рад вас видеть. Квартирую я в доме Российско-Американской компании.
— Благодарю за приглашение! Завтра же… — Каховский тряхнул руку Рылеева. По тому, как он обрадовался, Рылеев понял, что ему, видимо, некуда деться, но Каховский оборвал себя; его радость была явно неприлична, и он продолжал уже другим тоном: — Завтра я не могу, если позволите, послезавтра ввечеру…
— Пожалуйста, жду вас…
Каховский стал посещать Рылеева. Действительно, в Петербурге у него не было ни родных, ни близких знакомых, он приходил почти каждый день.
Взгляды и высказывания Каховского совпадали с теми воззрениями, которых придерживались, и разговорами, которые велись в доме Рылеева. Может быть, только у Каховского все это было более обдуманно и более систематизированно, чем у многих посетителей рылеевского дома. Правда, Каховский и не претендовал на оригинальность, как-то он сказал Рылееву:
— Из большого числа моих знакомых очень немногие были противного со мной мнения…
Когда Рылеев предложил Каховскому вступить в тайное общество, то сказал прямо, что цель общества — свержение императора и введение в России народного правления.
— Согласен, — ответил Каховский и продекламировал из Пушкина:
— Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды…
Еще в прихожей Рылеев услышал громкий самоуверенный бас, доносившийся из комнат. Рылеев прислушался.
— Начался экзамен. Особенно удивили всех мои познания в математике.
Рылеев вошел в гостиную. Напротив дивана, на котором сидела Наталья Михайловна и прильнувшая к ней Настенька, на стуле сидел невысокий, но ладный морской офицер в щегольской форме.
— Вот Дмитрий Иринархович рассказывает Настеньке, как он учился в корпусе, — сказала Наталья Михайловна.
— Завалишин, лейтенант Восьмого флотского экипажа, — встав со стула, представился офицер.
За обедом Завалишин продолжал рассказывать истории из корпусной жизни: как был им посрамлен учитель географии, как во время учебного плаванья, будучи в Копенгагене, он подружился с наследным принцем и про другие свои успехи.
После обеда Рылеев и Завалишин прошли в кабинет.
— Итак, Дмитрий Иринархович, я вас слушаю, — сказал Рылеев, закуривая трубку и давая понять гостю этими словами, что намерен переменить тон разговора, уместный в обществе дам и детей, но неприемлемый между серьезными мужчинами.
Завалишин принял условия.
— Я писал государю о некоторых своих соображениях, поскольку считаю, что нынешняя политика ошибочна, и для дачи объяснений был вызван в Петербург из плаванья из Америки. Перед рождеством мне официально через министра просвещения адмирала Шишкова было объявлено, что государь хотя и отдает должное проницательности моих идей, находит в настоящее время их неосуществимыми. Однако я был произведен за отличие в лейтенанты, а граф Мордвинов, как он сам выразился, пораженный моим знанием дела и дальновидной предусмотрительностью, посоветовал Российско-Американской компании воспользоваться моими идеями в организации американских колоний. Николай Семенович намекнул мне, что посоветует компании предложить мне должность главного правителя колоний.
— И давно у вас был подобный разговор с Николаем Семеновичем? — спросил Рылеев.
— Да недели две, три…
Рылеев подумал: «Странно, почему Мордвинов, которого я вижу почти каждое утро, ничего не сказал мне о таком важном деле, как возможная перемена главного правителя колоний».
И тут, словно бы угадав его вопрос, Завалишин сказал:
— Свое предложение обо мне Мордвинов направил государю, так как счел, что для назначения меня на какую-либо должность надобно заручиться согласием его величества.
После первого визита Завалишин еще несколько раз заходил к Рылееву, несколько раз удалось поговорить с ним в Российско-Американской компании, куда Завалишин заходил почти каждый день. От разговора к разговору лейтенант становился все радикальнее и решительнее. Рылеев подумывал о том, что, возможно, со временем его можно будет привлечь в тайное общество.
Кондратия Федоровича удивляло, что Мордвинов никогда даже не упоминает имени Завалишина, и однажды, закончив доклад и убрав бумаги в папку, Рылеев спросил:
— Николай Семенович, я хочу спросить, на что вы намерены употребить лейтенанта Завалишина?
— Он был у вас? Как вы его находите?
— По-моему, интересный, энергичный человек, с мыслями, планами.
— Да, планов и идей у него много. На мой взгляд, даже слишком много, чтобы их можно было осуществить. Чего, например, стоит одна эта идея — об каком-то тайном союзе, всемирном рыцарском обществе… Впрочем, Кондратий Федорович, я для того и направил его к вам, чтобы вы присмотрелись, к чему он годен.
Рылеев раскланялся и вышел. Мимоходное замечание Мордвинова об обществе насторожило его.
Трубецкой получил назначение дежурным штаб-офицером Четвертого пехотного корпуса и уезжал в Киев. Вместо него третьим директором Северного общества был избран Рылеев. Его избрание состоялось в тот день, когда произошел разговор о Завалишине с Мордвиновым.
— Я имею намерение привлечь к обществу лейтенанта Завалишина, — сказал Рылеев, — но сегодня от Николая Семеновича узнал некоторые любопытные обстоятельства, касающиеся и Завалишина, и нас: в России действует еще одно тайное общество.
Известие было важное. Конечно, общество Завалишина могло представлять собой остатки масонства, запрещенного официально правительством два года назад, но могло быть и чем-либо иным. Поэтому Рылееву поручили, прежде чем принимать Завалишина, выяснить, что за общество, к которому он принадлежит, какова его цель и кто из известных лиц в него входит.
Когда несколько дней спустя Завалишин начал свои обычные рассуждения, Рылеев вдруг сказал:
— Я знаю, о чем вы писали государю и знаю про общество, к которому принадлежите.
Завалишин смутился. Он долго молчал, потом сказал:
— Меня можно обвинить, но, право, я имел чистые намерения.
Рылеев молчал.
— Хорошо, я все расскажу вам, — после затянувшейся паузы продолжал Завалишин. — Действительно, я состою в обществе, которое носит название Орден Восстановления. Общество это действует по всей Европе. Его цель — восстановление прав народных, отнятых деспотами. Принят я был в Лондоне, где находится управление Ордена. Члены его имеются во всех странах, в том числе и в России.
— Хорошо, доверие за доверие, — сказал Рылеев, — у нас здесь тоже есть общество.
Завалишин воскликнул:
— Я согласен вступить в ваше общество! Но прежде я желаю знать, кто еще входит в него.
— Это невозможно: принятый знает только того, кто его принял. Мера, предохраняющая общество от провала. Правда, при определенных условиях вы сможете знать больше.
— Каковы же условия?
— Вы открываете имена главных членов вашего Ордена, мы вступаем с ними в сношения и, при сходстве целей, действуем в согласии друг с другом.
— Я связан клятвой молчания. Я должен прежде снестись с вышестоящими лицами, — не отказывая и не соглашаясь сразу на предложение Рылеева, ответил Завалишин.
— Хорошо, я подожду, — заключил разговор Рылеев.
Фамилия капитана Якубовича обрела громкую известность с 1817 года, с дуэли Шереметева и Завадовского из-за танцовщицы Истоминой, в которой он, приятель и секундант Шереметева, тогда еще лейб-уланский корнет, предложил двойную дуэль, то есть чтобы стрелялись и секунданты. Дуэль окончилась смертью Шереметева. Якубовича в наказание, по распоряжению царя, перевели из гвардии в армию, на Кавказ. Там он проявил отчаянную храбрость, постоянно рисковал, играя со смертью, о его военных подвигах рассказывали легенды.

Летом двадцать пятого года Якубович, уже в капитанском чине, возвратился в Петербург, куда ему разрешили въезд для излечения раны. С черной повязкой на лбу, в мундире, носимом с щегольской небрежностью, на которую ему давала право слава боевого офицера, он появлялся на балах, в гостиных, на холостяцких пирушках, возбуждая всюду к себе интерес. Он был восторженно принят прежними сослуживцами по гвардии, познакомился с теми, кого не знавал прежде, близко сошелся с Александром Бестужевым, чему способствовало и то, что Якубович был не чужд литературе и описывал свои кавказские наблюдения в записках, отрывки из которых печатались в петербургских журналах. Через Бестужева он попал к Рылееву; восхищенный решительностью высказываний Якубовича, Рылеев во время одного шумного общего разговора предложил ему вступить в тайное общество, которое существует в Петербурге. Расчет был прост: если он согласится, общество приобретет деятельного члена, если же нет, то можно все обратить в шутку.
Якубович поднялся и мрачно, исподлобья обвел всех тяжелым взглядом. Все замолкли. Он заговорил, сначала тихо, затем все громче и громче:
— Господа, признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ. По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я знаю, с кем говорю, и поэтому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем. — Он рывком достал из внутреннего кармана потертый лист бумаги и бросил на стол. — Это приказ обо мне по гвардии. Вот пилюля, которую я ношу у ретивого, восемь лет жажду мщения. — Якубович поднял руку к голове и сорвал повязку, на лбу показалась кровь. — Эту рану можно было залечить и на Кавказе, но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И наконец, я здесь и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем, делайте что хотите. Созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта!
Слова и весь вид Якубовича произвели большое впечатление.
— Я знаю только две страсти, — продолжал Якубович, — которые движут мир: это благодарность и мщение. Все остальное — страстишки. И слов своих на ветер не пускаю. Задуманное совершу непременно, у меня для этого уже назначены два срока, маневры или петергофский праздник.
Посреди молчания Якубович повязал повязку и убрал обратно в карман полуистлевший приказ.
Когда опять завязался общий разговор, прерванный речью Якубовича, Рылеев попросил его выйти с ним в другую комнату.
— Якубович, мы с Александром просим тебя, заклинаем дружбой отложить свое предприятие. Общество не может в столь короткое время подготовиться, чтобы воспользоваться им.
— Сколько вам нужно времени? — мрачно спросил Якубович.
— Хотя бы год.
— Год. Двенадцать месяцев. Ладно, год жду. Но более — ни дня.
То ли под влиянием выходки Якубовича, то ли в связи с тем, что молодые, вновь принятые члены общества, были склонны к решительным действиям и на теоретические рассуждения отвечали: «Нам действовать не перьями, а штыками», — это настроение захватило и Каховского.
…Однажды утром Рылеев дома лежал на софе у окна и читал. Утро было пасмурное, углы комнаты тонули в призрачной мгле. Вдруг, как призрак, возник в дверях Каховский. Он быстро пробежал через комнату и остановился возле Рылеева.
— Послушай, Рылеев, я пришел тебе сказать, что решился убить царя. Объяви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок.
Рылеев вскочил с софы, уронил книгу на пол.
— Сумасшедший! Ты хочешь погубить общество! Как ты мог подумать, что Дума одобрит твое намерение?
— Я намерен убить тирана.
— Но сейчас в планы общества не входит покушение на царя, ты можешь только испортить все, обнаружить общество.
— Насчет общества не беспокойся, я никого не выдам, но я решился и намерение свое исполню непременно.
— Послушай, Каховский…
— Я решился и исполню.

Рылеев не на шутку испугался. Каховский просто не слышал разумных доводов; его собственные аргументы, доказывающие необходимость убийства императора Александра, видимо, представлялись ему такими убедительными и неопровержимыми, что он был уже не в состоянии воспринимать какие-либо другие. «Ведь пойдет!» — думал Рылеев, а память лихорадочно подсказывала не раз возникавшую в разговорах фразу: «Нет ничего легче, как убить на выходе во дворце…» Но если Каховский сейчас не способен воспринимать доводы разума, оставалось воздействовать на чувства.
— Каховский, подумай хорошенько о своем намерении. Схватят тебя, схватят и меня, потому что ты у меня часто бывал. Я общества не открою, но вспомни: я же отец семейства. За что ты хочешь погубить мою бедную жену и дочь?
Каховский вскинул голову, в смятении посмотрел на Рылеева, глаза его повлажнели, по щеке сбежала слеза.
— Этого я не могу допустить. Ну, делать нечего, ты убедил меня. Я отказываюсь от своего решения.
— Дай же мне честное слово, что ты не исполнишь своего намерения.
— Честное слово, клянусь, Рылеев.
Рылеев почувствовал облегчение, но, после того как Каховский ушел, до вечера его била нервная дрожь, и он снова и снова переживал ощущение надвигающейся катастрофы, на грани которой стояли все они.
Когда же вечером он заговорил о Каховском и Якубовиче с Бестужевым, тот сказал:
— А я думаю, что именно такие люди нам нужны в обществе. Ты все хлопочешь о привлечении в общество купцов, канцеляристов, но зачем они нам? Перевороты нужно делать вооруженной рукой.
— Прекрасное мнение! — насмешливо возразил Рылеев.
— Конечно, только вооруженной, — продолжал настаивать Бестужев. — Решительность, натиск, быстрота — и победа.
— А чем обернется эта победа?
— Как чем? — Бестужев запнулся.
— Вот, сам не знаешь! — воскликнул Рылеев. — Как ты не хочешь понять, что если переворот сделан военной силой, то власть останется в ее руках. А такая власть очень непрочная, против нее сейчас же организуется военная контрреволюция. Конечно, надлежит иметь военную силу на своей стороне, но переворот должен быть совершен гражданской частью общества, только тогда он будет прочен.
— Да, но дожидаться, когда общество будет готово для переворота, слишком уж долго.
Рылеев вспыхнул:
— Все говорят: долго, долго! В жизни народа десять лет — миг. Дело не в скорости, а в прочности. Какая прибыль совершить революцию, которая сейчас же будет ниспровергнута! Да и нельзя особенно полагаться на военных, ибо те, кого прельщает военная служба, подвержены многим предрассудкам, они часто полагают, что мундир возвышает их над соотечественниками и дает власть над ними. Власть в руках военных, соединенная с силою, опасна для граждан…
10
История Черновых и Новосильцева не окончилась объяснением в Москве. Новосильцев продолжал под разными предлогами оттягивать свадьбу. Товарищи по полку подсмеивались над ним: намекали, что-де какой-то Чернов принудил его, офицера лейб-гвардии, гусара, флигель-адъютанта, жениться, а жена у него, аристократа, будет — Пахомовна… Рылеев понимал, что ничего хорошего из этого брака, даже если он будет заключен, не выйдет. Оставался единственный выход — отказаться от брака. Нужно было только найти форму, которая позволила бы осуществить это, не нанося урона чести ни той, ни другой стороне. Рылеев взялся поговорить об этом с Новосильцевым.
— У вас нет формального согласия отца невесты. Вы едете в Могилев за этим согласием и получаете формальный отказ. После этого вы свободны от всех прежде данных обещаний, — сказал Рылеев Новосильцеву.
— Хорошо, — сразу согласился тот.
Возвратившись от Новосильцева домой, Рылеев застал у себя Константина Чернова.
— Он едет в Могилев, — сказал Рылеев.
— В этом уже нет надобности, — ответил Чернов. — Отец сам выслал Новосильцеву письмо с освобождением от принятых тем обязательств.
— Почему?
— Прочти, что пишет отец.
Рылеев развернул письмо. Пахом Кондратьевич путано, повторяя по нескольку раз одно и то же и прося у сына извинения за свой поступок, писал, что не мог
поступить иначе. Главнокомандующий Первой армии граф Сакен по жалобе Екатерины Владимировны Новосильцевой вызвал его, упрекал в том, что, мол, он воспользовался неопытностью и благородством молодого человека, грозил большими неприятностями по службе, если он будет продолжать домогаться брака дочери с Новосильцевым, и заставил при себе написать Новосильцеву отказ.
— Это меняет положение дела, — сказал Рылеев, сворачивая письмо.
— К оскорблению чести сестры теперь прибавилось оскорбление, нанесенное отцу. Мы должны драться.
— Да, надо драться. Аристократы все еще продолжают относиться к нам с презрением и отказываются видеть в нас людей, равных себе, но они жестоко заблуждаются: теперь и в среднем классе есть люди, высоко дорожащие честью и своим добрым именем. Я буду твоим секундантом.
— Только поставьте такие условия, чтобы на мне все кончилось. Ведь если он убьет меня, а сам останется жив, с ним будут стреляться братья. Пусть уж лучше я один паду жертвой.
— Хорошо, я исполню твою просьбу.
Все понимали, что эта дуэль должна окончиться трагедией, но не было такой силы, которая могла бы ее предотвратить. Дуэль утратила характер спора частных лиц и приобрела черты столкновения общественных групп.
У Рылеева на Чернова смотрели как на героя.
— Я в отчаянье, что моя жизнь уже обещана другому, — сказал Якубович, — не то почел бы за счастье быть вашим секундантом в двойной дуэли.
Секунданты (со стороны Чернова — полковник Герман и Рылеев, со стороны Новосильцева — ротмистр Реад и подпоручик Шипов) встретились в Семеновских казармах для составления условий дуэли.
Совещание было коротко, условия определили, по желанию дравшихся, самые суровые, всего четыре пункта.
«1) Стреляться на барьер, дистанция восемь шагов, с расходом по пяти.
2) Дуэль кончается первою раною при четном выстреле, в противном случае, если раненый сохранил заряд, то имеет право стрелять хотя лежащий; если же того сделать будет не в силах, то поединок полагается вовсе и навсегда прекращенным.
3) Вспышка не в счет, равно осечка. Секунданты обязаны в таком случае оправить кремень и подсыпать пороху.
4) Тот, кто сохранил последний выстрел, имеет право подойти сам и подозвать своего противника к назначенному барьеру».
Оба противника были смертельно ранены. Новосильцев умер через четыре дня после дуэли, Чернов — две недели спустя.
Гроб Чернова на кладбище провожала длинная процессия.
— Это все наши единомышленники, — сказал Рылеев Бестужеву. — Мы их не знаем по именам, не знаем в лицо, но, когда позовем, они придут к нам…
Среди провожавших ходили списки прощального письма Чернова: «Бог волей в жизни; по дело чести, на которое теперь отправляюсь, по всей вероятности, обещает мне смерть, и потому прошу господ секундантов моих объявить всем родным и людям благомыслящим, которых мнением дорожил я, что предлог теперешней дуэли нашей существовал только в клевете злоязычия и в воображении Новосильцева… который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть падет и он в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души».
Над могилой Кюхельбекер пытался прочесть стихи:
— Клянемся честью и Черновым,—
и не мог продолжать, спазмы перехватили горло.
Стихи эти написал Рылеев в ночь смерти Константина.
Клянемся честью и Черновым —
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым!
11
Литературные замыслы переполняли Рылеева; стихи, поэмы, драмы звучали в нем то какой-то отдельной строкой, то громкой репликой, то общим, необыкновенно стройным великолепным планом, но додумать подробности встающих перед ним призрачных картин и связь между ними, а тем более сесть за стол и записать — не находилось и часа времени.
Вышли «Думы», «Войнаровский», очередной том «Полярной звезды», но альманахом на следующий год заниматься было некогда.
Как-то незаметно Рылеев стал центром деятельности тайного общества: все обращались к нему, от него требовали решения сомнений и споров…
В ясный, солнечный день в начале сентября Рылеев с Оболенским шли по Михайловскому саду. Было безветренно, и опадающие с деревьев листья меланхолично ложились на землю.
— Последнее время я постоянно спрашиваю самого себя, — вдруг заговорил Оболенский, — имеем ли мы право как честные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; если же ищут и стремятся к лучшему, то иным путем?
Рылеев тогда не обратил особого внимания на высказывание Оболенского. Но затем, когда несколько дней спустя Оболенский вновь вернулся к той же теме, Рылеев понял, что высказанное им в Михайловском саду — не случайное настроение, порожденное минутой, его сомнения — плод серьезных размышлений, от которых просто не отказываются и которые можно опровергнуть только такими же серьезными доводами.
Внутренне Рылеев не принимал сомнений Оболенского. Но он не мог противопоставить им лишь одно свое чувство, неопределенное, неоформленное, не выраженное словами, пунктами, силлогизмами — этими определенными и понятными всем внешними выражениями мысли, он должен был убедить друга в том, что он ошибается, обращаясь не только к его чувствованиям, но и к разуму.
Рылеев был уверен, что разговор с Оболенским на ту же тему возникнет вновь, и теперь был готов к нему.
Действительно, несколько дней спустя Оболенский опять заговорил о моральном праве заговорщиков.

Рылеев, ожидавший этого момента, вскочил со стула (беседа происходила с глазу на глаз в рылеевском кабинете после ужина) и заговорил горячо, в самом развитии мысли все более увлекаясь и убеждая собеседника и себя. Пожалуй, даже себя больше, чем Оболенского.
Рылеев говорил:
— Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе. Но главные идеи эпохи, то есть то, что составляет дух времени, бывают сходны у большинства. Если идеи и чувствования хотя бы нескольких лиц клонятся к общей пользе, если они не порождения чувства себялюбивого и своекорыстного, то они являются лишь выражением того, что большинство чувствует и мыслит, но не может еще выразить. Цели нашего союза принадлежат именно к такого рода идеям. Не буду говорить о том, что они встречают сочувствие большинства общества, ты это сам знаешь. Каждый день мы слышим со всех сторон сетования на притеснения и несправедливости, проистекающие от высших властей. Наконец, даже у людей, никак не общающихся с членами нашего союза, совершенно самостоятельно и независимо развиваются идеи свободолюбия. Мне по службе приходится часто сталкиваться с лицами купеческого и мещанского сословия: основные пайщики и деятели пашей компании — как раз они, поэтому я знаю, что думают в России. Вся Россия жаждет свободы, свобода нужна ей, как воздух, как непременное условие для дальнейшего существования. Поэтому мы имеем полное право говорить и действовать в смысле цели союза, как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, но притом быть в полпой уверенности в том, что едва эти идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением.
— Твои возражения справедливы, — согласился Оболенский, — идеи истины, свободы, правосудия составляют необходимую принадлежность всякого мыслящего существа и потому доступны и понятны каждому. Но форма их выражения или выражение их в поступке тоже должно подчиняться общей идее. Идея справедливости великолепна и законна. Бедняк, по идее справедливости, может сказать богатому: «Удели мне часть своего богатства». Но, получив отказ, он решится отнять у него эту часть силой, своим поступком нарушив идею справедливости и став насильником. В республиках мы видим угнетения и несправедливости, как и в монархиях. Я понимаю, государственное устройство есть осуществление идей свободы, истины и правды, но форма государственного устройства зависит не от теоретического воззрения, а от исторического развития народа, глубоко лежащего в общем сознании, в общем народном сочувствии. Кроме законов уголовных, гражданских и государственных, как выражения идей свободы, истины и правды, в государственном устройстве должно быть выражение идеи любви высшей, связующей всех в одну общую семью.
— Каково же, по твоему представлению, это государственное устройство с идеей общей любви?
— Сейчас не знаю…
— Значит, ты полагаешь, что, видя все несправедливости, творящиеся вокруг, мы должны ничего не предпринимать из опасения, что, избавя одних от тиранства других, как-нибудь не допустить нарушения справедливости в отношении тирана? Так?
— Я не знаю…
После разговора с Оболенским Рылеев особенно почувствовал, что если не начать действовать в ближайшее время, то тайное общество разрушится…
«Во всяком деле есть начало, высшая точка и спад, и эта последовательность закономерно неизбежна, — думал он. — Решительность членов общества достигла высшей точки, далее будут сомнения, разброд — и он уже начинается… Если ничего не предпринять, то дело просто увянет, не принеся плода, пропадут многолетние усилия. Надо действовать».
В октябре приехал в Петербург в отпуск Трубецкой. За эти полгода, которые он пробыл в Киеве, он очень изменился. В нем появилась глубокая, какая-то основательная уверенность.
Рылеева, естественно, прежде всего интересовали дела Южной управы.
— Дела Южного общества, — говорил Трубецкой, — в самом хорошем положении, корпуса Щербатова и генерала Рота целиком наши. К тому же не только офицеры, но и нижние чины. Южане готовы начать хоть сейчас.
С двойственным чувством слушал Рылеев Трубецкого: то, что общество на юге так сильно, и радовало и беспокоило, и было обидно, что в Петербурге общество еще слишком слабо.
Трубецкой спрашивал:
— Что может сделать Северное общество для содействия Южному?
Рылеев вздохнул.
— Я со своей отраслью готов подняться, но нас мало, и мы будем лишь верными и бесполезными жертвами.
— М-да… Трубецкой помолчал немного, вскинул голову и, глядя мимо Рылеева, сказал: — Мне думается, что вы, Кондратий Федорович, слишком пессимистично оцениваете положение в Петербурге.
И Рылеев опять подумал: «Конечно, в столице есть и другие, кроме моей, отрасли общества, и, видимо, даже более крупные и высшие».
— В Киев я намерен возвращаться через Москву, — продолжал Трубецкой, — чтобы посмотреть, что там сделал Пущин.
— Его отрасль, как мне известно, увеличивается, — сказал Рылеев.
— Расширение общества, столь необходимое, принесло с собой и опасности, — продолжал Трубецкой. — О Южном обществе известно правительству, правда, мы не знаем о степени его осведомленности, но можно полагать, что пока известно немного, иначе нас бы уже взяли.
— Почему вы думаете, что известно?
— Во-первых, отобрали полк у одного из членов Южного общества, Швейковского, во-вторых, отмена смотра в Белой Церкви, во время которого, как полагали многие члены общества, удобно будет начать действовать и захватить царя. Эти случаи наводят на такую мысль. Кроме того, незадолго до моего отъезда Волконский сообщил, что начальник штаба Киселев позвал его к себе и сделал очень странное предостережение: «Послушай, друг Сергей, у тебя и у многих твоих близких друзей бродит на уме бог весть что, ведь это поведет вас в Сибирь; помни, что ты имеешь жену, и она беременна; уклонись от всех этих пустячных бредней».
Рылеев рассказал о своих подозрениях насчет Завалишина.
— Может быть, он и шпион, — согласился Трубецкой.
— А ведь Завалишин постоянно бывает у меня. Я потребую решительного и прямого ответа, и, если он опять откажется, прерву с ним всякие отношения.
Требование Рылеева поставило Завалишина в затруднительное положение. Орден Восстановления, членом которого он себя объявил, существовал только в его воображении, поэтому назвать его членов он, естественно, не мог.
По натуре своей Завалишин был мечтателем. Он был беден, незнатен, но мечтал о богатстве, высоких чинах, мечтал оказать какую-нибудь важную услугу царю, тем приблизиться к нему и стать его главным советником, как граф Аракчеев. Зная, что главная забота императора Александра — обуздание революционных сил в Европе, ради чего и был создан Священный союз — союз монархов против революции, Завалишин подал царю проект, как избавиться разом от всех революционеров в Европе. Он предложил образовать рыцарский орден, цель которого была бы распространение истины и веры христианской в Америке, и буйные революционеры, как убеждал Завалишин царя, устремятся из Европы в Америку, и тем самым Европа освободится от них. Сам Завалишин претендовал на должность Магистра Ордена, что давало бы возможность использовать Орден в интересах России. Царь нашел проект этой великой провокации «неудобоисполнимым» и не выразил его автору даже обычного благоволения. В угнетенном душевном состоянии, с разбитыми надеждами Завалишин встретился с Рылеевым, и тут его снова поманила мечта — стать одним из руководителей могущественного, как утверждала молва, тайного общества, в члены которого входили будто бы первые сановники государства.
Конечно, можно было бы назвать членом Ордена Восстановления какого-нибудь министра, но Завалишин боялся случайно попасть на члена рылеевского общества — тогда бы раскрылся его обман, и он решил представить доказательства существования Ордена другим способом: показать его документы. Он сел за сочинение Устава Ордена. Написав Устав, сделал документ, удостоверяющий его собственное высокое положение в Ордене — Благодарственный лист, выданный Управой Ордена своему Командору Завалишину в том, что он, ревностно трудясь ко благу Ордена, исполнял важные поручения, в том числе вступил в сношение с императором России Александром, и что выдан сей лист для сведения других членов и для ободрения его самого.
Рылеев и Бестужев заподозрили подделку, другие члены общества тоже выразили сомнение в достоверности Устава и особенно Благодарственного листа.
— Кто же он — шпион, провокатор? — размышлял Рылеев.
— По-моему, скорее всего, бойкая особа с чересчур заносчивым воображением, — сказал Бестужев.
Рылеев снова предложил Завалишину назвать имена членов Ордена, тот снова отказался, тогда Рылеев объявил, что все дальнейшие разговоры об обществе он с Завалишиным прекращает. После этого решительного объяснения Рылеев почувствовал облегчение, но в душе осталась тревога — ведь Завалишин, хотя и не был принят в члены общества, бывая у Рылеева, узнал многих и о многом мог догадываться.
Опасения Рылеева оправдались: потеряв возможность войти в тайное общество, Завалишин решил выдать его царю. Он написал письмо императору, сообщая, что его величеству угрожает опасность, и для сообщения о ней просил лично принять его. В виду важности письма он сам намеревался отнести его во дворец. Собираясь, раскрыл газету и в ярости бросил ее на пол: в газете сообщалось о том, что государь выехал из столицы в Таганрог…
Ни с кем не попрощавшись и никому не сказавшись, Завалишин в два дня оформил отпуск и уехал в Казанскую губернию к мачехе, которая писала, что нашла ему невесту с хорошим приданым.
12
Заветный замысел, о котором Пущин говорил Рылееву в Москве, заключался в том, что Иван Иванович намеревался навестить Пушкина в его ссылке в Михайловском. В начале января он его осуществил. По возвращении Пущина в Петербург Рылеев забросал его вопросами:
— Как он там? Что пишет? Привез ли ты что-нибудь для нас?
— Ссылка, конечно, ссылка и есть. Деревенская жизнь не для него. Но, правда, он сказал, что теперь несколько примирился со своим положением, а вначале было очень тягостно. Тут, говорит, хотя невольно, но все-таки отдыхаешь от прежнего шума и волнения. Работает много, с охотой и с толком, читал отрывки из разных новых сочинений. Для «Полярной звезды» я привез начало из поэмы «Цыганы», которое он продиктовал, а я записал. Ты его получишь, когда разберу вещи. И о тебе говорили, он просил, обнявши тебя крепко, благодарить за «Думы».
Рылеев счастливо улыбнулся.
— Многое бы я отдал за то, чтобы поговорить с ним!
— Тем для разговора нашлось бы достаточно. Мы говорили с ним и насчет общества. Как умный человек, он, конечно, все понимает. Я признался ему, что член общества, но большего сказать не мог. Он опять взволновался, потом, немного успокоившись, сказал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Вероятно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям».
— А что, большие притеснения он терпит от местного начальства? Проехать к нему можно?
— Перед поездкой меня предостерегали: «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским, и духовным?» Пугали, что меня не пустят к Пушкину чуть ли не силой. Но я проехал без всяких препятствий. Правда, в самый разгар нашей беседы явился монах, настоятель Святогорского монастыря, которому поручен духовный надзор за Пушкиным, но, выпив чаю с ромом, до которого — до рому, а не до чаю, — как я успел заметить, он большой охотник, монах отбыл, извиняясь, что прервал нашу товарищескую беседу. А по его уходе мы подняли бокалы — за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее — за Свободу.
— Знаешь, Пущин, я буду ему писать. К черту условности. Я думаю, имею на это право.
— Конечно, Кондратий.
РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ
Петербург, январь, 1825
«Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыганами». Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе: ты, потому что холодное вы не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям… Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?»
ПУШКИН — РЫЛЕЕВУ
25 января 1825 г. Михайловское
«Благодарю тебя за ты и за письмо… Жду «Полярной звезды» с нетерпением, знаешь, для чего? для «Войнаровского». Эта поэма нужна была для нашей словесности».
РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ
С.-Петербург. 12 февраля 1825
«Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал вполне первой песни «Онегина». Теперь я слышал всю: она прекрасна; ты схватил все, что только подобный предмет представляет… Очень рад, что «Войнаровский» понравился тебе. В этом же роде я начал «Наливайку» и составляю план для «Хмельницкого». Последнего хочу сделать в 6 песнях: иначе не все выскажешь. Сейчас получено Бестужевым последнее письмо твое. Хорошо делаешь, что хочешь поспешить изданием «Цыган»: все шумят об ней и все ее ждут с нетерпением. Прощай, Чародей».
РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ
Петербург. Марта 10 дня 1825
«Думаю, что ты получил уже из Москвы «Войнаровского». По некоторым местам ты догадаешься, что он несколько ощипан. Делать нечего. Суди, но не кляни. Знаю, что ты не жалуешь мои «Думы»; несмотря на то, я просил Пущина и их переслать тебе. Чувствую сам, что некоторые так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном собрании. Но зато убежден душевно, что «Ермак», «Матвеев», «Волынский», «Годунов» и им подобное — хороши и могут быть полезны не для одних детей…
Рылеев
Чуть не забыл о конце твоего письма. Ты великий льстец — вот все, что могу сказать тебе на твое мнение о моих поэмах. Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном…»
ПУШКИН — БЕСТУЖЕВУ
Михайловское. 24 марта 1825 г.
«Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? мнение свое о его «Думах» я сказал вслух и ясно; о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай — да черт его знал. Жду с нетерпением «Войнаровского» и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа! чтоб он писал — да более, более!»
ПУШКИН — РЫЛЕЕВУ
Май 1825 г. Михайловское
«Думаю, ты уже получил замечания мои на «Войнаровского». Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя.
Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы «Петра в Острогожске» чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю «Ивана Сусанина», первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант). Ты напрасно не поправил в «Олеге» герба России. Древний герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III, не прежде. Летописец просто говорит: Таже повеси щит свой на вратех на показание победы.
Об «Исповеди Наливайки» скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут, конечно, наложил ты свою печать.
Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть. Прощай, поэт — когда-то свидимся?»
РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ
Петербург. Июнь 1825 г.
«Благодарю тебя, милый чародей, за твои прямодушные замечания на «Войнаровского». Ты во многом прав совершенно; особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего Великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова».
РЫЛЕЕВ — ПУШКИНУ
Петербург. Ноябрь 1825
«…На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и Гражданин. — Мы опять собираемся с «Полярною». Она будет последняя; так по крайней мере мы решились. Желаем распроститься с публикою хорошо, и потому просим тебя подарить нас чем-нибудь подобным твоему последнему нам подарку…
Твой Рылеев
На днях будет напечатана в «Сыне отечества» моя статья о поэзии, желаю узнать об ней твои мысли».
13
Первого сентября император Александр выехал из Петербурга на юг. О том, что он намерен предпринять это путешествие, было известно еще весной. В Таганроге к его приезду перестраивали дом под маленький дворец.
В начале ноября в Петербурге получили сообщение, что император заболел. Появились официальные бюллетени о состоянии его здоровья; сообщения, с множеством медицинских терминов, хотя и говорили о серьезном положении, но тревоги за жизнь императора не вызывали.
27 ноября Рылеев был во дворце графа Лаваля на именинах Трубецкого. Трубецкой тихо сказал ему:
— Говорят, государь опасен. Нам надо съехаться где-нибудь.
— Давайте завтра у Оболенского.
Но наутро к Рылееву в кабинет ворвался Якубович. Рылееву нездоровилось, он лежал на диване. Якубович заметался по комнате, размахивая руками, скрежеща зубами.
— Царь умер! Это вы — ты и Бестужев — вырвали его у меня!
— Откуда ты это узнал?
— Известие верное. Великий князь Николай уже присягнул Константину Павловичу. Прощай, мне некогда. Вырвали, вырвали его у меня, проклятье!
Едва убежал Якубович, пришли Николай Бестужев и Торсон. Они были взволнованы.
Бестужев, всегда столь немногословный и сдержанный, засыпал Рылеева вопросами, и в самом его голосе звучали и упрек, и обида, и недоумение, и надежда.
— Где же общество, о котором ты столько рассказывал? Где действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, каковы планы? Почему это общество, если оно сильно, не знало о том, что царь умирает, хотя во дворец более недели приходили бюллетени как раз об этом? Если общество намерено что-то предпринять, скажи нам об этих намерениях, и мы приступим к их исполнению. Говори!
На лице Рылеева отразилось такое страдание, что Бестужев отвел взгляд. Рылеев опустил голову в руки и долго молчал. Наконец он сказал медленно, с трудом выговаривая слова:
— Мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико. Я поеду собирать сведения, а вы, сколько можете, разузнайте расположение умов в городе и войске.
Вечером собрались у Рылеева. Все уже знали, что гвардейские и армейские полки присягнули Константину. Нигде не выказали даже малейшего сомнения в законности его права на престол.
— Теперь все кончено, — сказал Трубецкой, — солдат склонить к возмущению не удастся никакой силой.
— Да, — согласился Оболенский, — нам остается только разойтись. Константин Павлович либерализма не потерпит, а наши имена ему прекрасно известны.
— Видимо, вы правы, — вздохнув, проговорил Рылеев, — настоящее общество придется уничтожить и несколько лет присмотреться к тому, каково будет новое правление. И уж потом в соответствии с обстоятельствами, может быть, представится какая-нибудь иная возможность для введения конституции. А в течение всего этого времени надобно всем нам послужить со всевозможным усердием, чтобы быть на хорошем счету у правительства и добиваться высоких мест в службе.
На этом совещание кончилось. Разошлись тихо и грустно.
Но на следующий день к Рылееву приехал Трубецкой.
— Не все потеряно! — воскликнул он. — Во дворце неспокойно, должна быть переприсяга: оказывается, Константин отрекся от престола еще при жизни Александра, и царем должен стать Николай. Соответствующие манифесты императора Александра об этом хранятся в Государственном совете, в Сенате и в Московском Успенском соборе. Поскольку манифесты держались в тайне, Милорадович не знал о них и заставил войска присягнуть Константину. Теперь предстоит выпутываться из этого положения: Константин должен отречься в пользу Николая, но, кажется, он не намерен делать этого. А действия Николая, понуждающего Константина, выглядят со стороны, как намерение свергнуть брата и занять престол.
Рылеев взволнованно заходил по комнате.
— Если мы не были готовы к кончине государя, то теперь сама судьба дает нам возможность для выступления, — сказал он. — Отречение — вещь у нас небывалая. Солдаты не поверят в добровольность отречения, особенно если государь цесаревич не приедет сам из Варшавы, а пришлет только письменное послание. Общество сейчас усилилось, за последние дни принято около десяти офицеров, которые ручаются за свои роты. Мы можем рассчитывать на Московский гренадерский полк, Измайловский и Морской экипаж. Воспользовавшись отказом войск присягать, мы вынудим Николая принять конституцию.
— Но требуется занять дворец, Сенат и Синод одновременно, — проговорил Трубецкой, в уме уже представляя всю операцию.
— Сколько же, вы полагаете, надобно войска, чтобы успешно совершить все это? — спросил Рылеев.
— Довольно одного полка, — ответил Трубецкой.
— Тогда нечего больше и хлопотать: можно ручаться за три, а уж за два-то — наверняка.
— Сколько сейчас в Петербурге членов общества и кто они?
Увы, как раз те, кто мог бы и должен был бы встать сейчас во главе общества, руководить его действиями, были далеко от Петербурга: Николай Иванович Тургенев уже год как лечился за границей, на Карлсбадских водах; Никита Михайлович Муравьев, взяв осенью отпуск, уехал в свое имение в Орловскую губернию; генерал Михаил Федорович Орлов — популярный в армии герой отечественной войны, подписавший капитуляцию Парижа, жил в Москве; в Москве же был и Пущин…
— Директора вам известны, — заговорил Рылеев, — это Оболенский и я, вы займете место Муравьева — третьего директора. В конной гвардии — член общества князь Одоевский, в лейб-гренадерском полку — поручики Панов и Сутгоф, у кавалергардов — ротмистр Чернышев, полковник Кологривов, в Московском полку — Михаил Бестужев, князь Щепин-Ростовский, в Финляндском — полковники Моллер и Тулубьев, штабс-капитан Корнилович, в Гвардейском морском экипаже — лейтенант Арбузов, лейтенанты Чижов, Бодиско, капитан Бестужев. Кроме того, член общества подполковник Батенков, служащий в Отдельном корпусе военных поселений. Сейчас в Петербурге находится также член Московской управы — барон Штейнгель.
— Если строевые офицеры смогут вывести свои части, то успех вполне возможен. Он был бы еще вероятнее, если бы среди наших оказался кто-нибудь из офицеров, более известный в армии, чем названные вами, — сказал Трубецкой. — И можно ли положиться на солдат?
— Почти все офицеры ручаются за свои роты.
— Необходимо сегодня же собраться всем нам.
В нашем распоряжении неделя, ранее этого времени Константин в Петербург не приедет.
Рылеев быстро ответил:
— Вечером, около десяти, почти все находящиеся в Петербурге члены могут быть собраны у меня.
По уходе Трубецкого Рылеев снова припомнил весь ход разговора, вопросы Трубецкого, свои ответы, и, припоминая и обдумывая их, находя новые аргументы, он все более и более уверялся в возможности успеха выступления. Трубецкой, безусловно, обладал талантом стратега, он мог бы стать достойным руководителем военных действий, но, к сожалению, в армии его не знают, солдатам его имя ничего не говорит, и он прав в том, что необходим человек, известный среди солдат и любимый ими. И вдруг Рылеева осенило: Александр Булатов! Его гренадеры пойдут за ним в огонь и в воду. Из Пензенской губернии он успеет доскакать до Петербурга прежде, чем Константин доберется сюда из Варшавы. Рылеев написал две записки: одну в Москву — Пущину, другую в Керенск — Булатову, срочно вызывая их в Петербург.
Вечернее совещание встряхнуло всех.
— Если полковник Моллер решится, то поднимется весь наш Финляндский полк, — сказал капитан Репин.
— Да чтобы поднять нижних чинов, достаточно одного решительного капитана! — воскликнул Рылеев. — Они же все полны негодования против начальства.
Трубецкой предложил план действия. Возмутившиеся полки сходятся вместе, встают лагерем. Правительство и царь вынуждены будут вступить с ними в переговоры, и тут депутация, в которую войдут члены общества, выставит свои требования, на которые правительство опять-таки вынуждено будет согласиться.
— Для успеха военных действий необходим единовластный руководитель-диктатор, — сказал Рылеев. — Им по справедливости должен быть Трубецкой.
Все согласились с Рылеевым, и Трубецкой был избран диктатором.
Разошлись за полночь. Остались только Бестужевы.
— Но поверят ли нам солдаты? — задумчиво проговорил Николай Бестужев.
— Это мы узнаем при самом выступлении, — сказал Рылеев.
— Можно заранее написать прокламации к войску, как во время Семеновского бунта, подкинуть в казармы, и потом увидим, каков будет результат, — вступил в разговор Александр Бестужев.
— Можно, — согласился Николай Бестужев.
Стали писать прокламации, но дело двигалось медленно, после второй прокламации Александр Бестужев, рассматривая написанное, сказал с сомнением:
— Почерк у нас у всех для непривычного к нему человека не очень-то разборчив, да и грамотеев среди солдат не очень-то много. Вот если бы с речью на разводе перед всем полком выступить…
— Ты скажи одному, а он всем перескажет. Дело проверенное.
— А правда, — загорелся Рылеев, — пойдемте сейчас по городу и будем каждого встречного солдата останавливать.
Быстро, оделись, вышли из дому и разошлись в разные стороны.
Первого солдата Рылеев встретил на Петровской площади, возле строящегося собора.
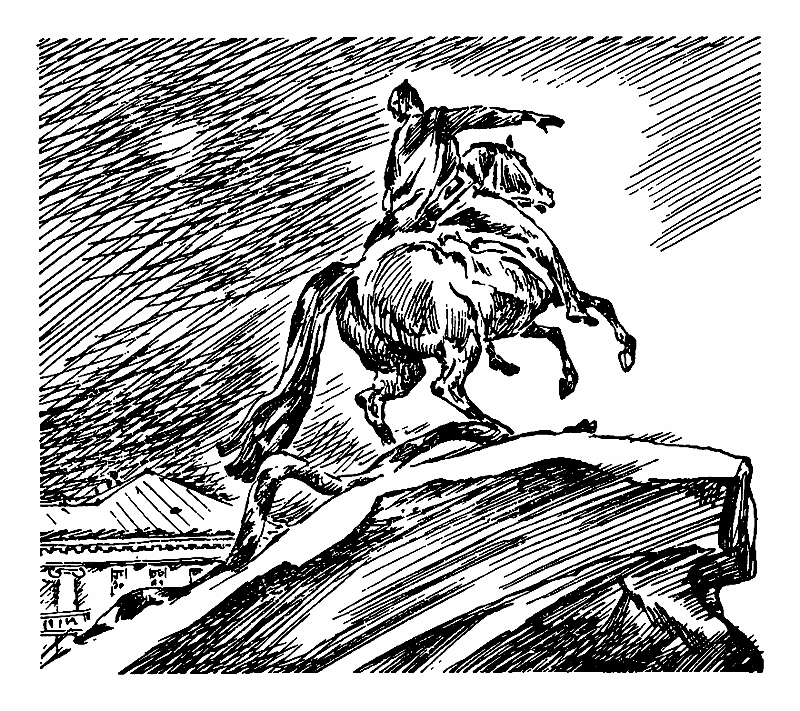
— В казарму спешишь, служивый? — начал он разговор.
— В казарму, ваше благородие.
— Новому государю присягали уже?
— Присягали.
— А завещание покойного императора вам прочитали?
— Никак нет.
— Скрыли, значит. А ведь покойный государь император в своем завещании распорядился крестьянам дать свободу, а солдатскую службу убавить до пятнадцати лет. Так в нем и написано: мол, моему народу за великие заслуги перед царем и отечеством в благодарность. Он помнил, с кем француза побил.
— Ну, спасибо, ваше благородие, глаза открыл. А то и нам присяга подозрительной показалась, больно торопили присягать. Потому, значит, чтоб про завещание не вспомнили.

На следующий день Арбузов сказал Рылееву:
— Солдаты только и толкуют про какое-то завещание.
Рылеев улыбнулся: пошла молва, теперь не остановишь.
14
Пушкин получил от Пущина из Москвы странное письмо. Оно было помечено 28 ноября. Пущин писал, что едет в Петербург и надеется там встретиться с ним.
Сначала Пушкин подумал: «Неужели помилование?» Но в следующий же миг сообразил, что официальная бумага из Петербурга пришла бы раньше, чем частное письмо из Москвы, к тому же сейчас не такие времена, чтобы во дворце вспомнили про него: царь лежал в тяжкой болезни и газеты публиковали сообщения о его здоровье.
Пушкин развернул газету. Вместо обычного сообщения о ходе болезни, в ней было напечатано объявление начальника главного штаба его императорского величества барона Дибича о том, что больной император находится в опасном положении.
Кучер Петр, который привез почту, стоял у двери.
— Что тебе? — спросил Пушкин.
— Александр Сергеевич, беда-то какая: в городе говорят, государь император скончался, только народу об этом не объявляют…
— Чушь! Если бы скончался, в газетах напечатали бы, а тут сказано «в опасном положении»… Ты от кого слышал это?
— Да, говорят, в Новоржев солдат один отпускной из Петербурга приехал, он сказывал…
— Вот что, Петр, скачи в Новоржев, разыщи солдата, разузнай все доподлинно, до слова запомни!
— Отпускной солдат сказал в точности так: «В Петербурге объявлено, что государь император Александр Павлович минувшего ноября девятнадцатого дня волею божею помре».
Сомнений не было. Так вот с чем связана надежда Пущина на их встречу в Петербурге! Так вот ради чего он едет в Петербург!
Два-три года назад Пушкин, не задумываясь, ринулся бы в столицу. Теперь он стал рассудительнее и осмотрительнее, теперь он был склонен предпринять меры предосторожности.
Прежде всего, нужно доехать до Петербурга так, чтобы не задержали здесь, поблизости, где-нибудь возле Пскова. Можно, конечно, окольными проселками, но и там есть риск наскочить на заставу.
Но чем больше возникало препятствий, тем больше захватывала Пушкина мысль о поездке в Петербург. Собственно, даже это была уже не мысль, а решение.
Для беспрепятственного проезда Пушкин решил ехать под видом крепостного мужика, который на себя ничье внимание по пути не обращает и с которого спроса меньше. Он написал себе отпускной билет, в котором именовал себя человеком Осиповой, Алексеем Хохловым.
Десятого декабря Пушкин окончательно решился ехать.
В уме он проделал весь путь: до Петербурга вряд ли может произойти какая оказия, в Петербурге в гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорт; у друзей — у Карамзина, у Жуковского — опасно: в свете новости распространяются так же быстро, как в деревне; поэтому с заставы, решил он, поедет прямо на квартиру к Рылееву, тот ведет жизнь не светскую, ни ночных балов, ни вечеров не устраивает, вероятности кого-нибудь встретить у него очень мало. Быть в Петербурге Пушкин рассчитывал тринадцатого декабря поздно вечером.
Только выехали со двора, навстречу поп отец Ларивон, а по-деревенски — Шкода. Пушкин закусил губу: дурная примета.
Въехали в лес. Вдруг через дорогу метнулся заяц-русак. Архип оглянулся на Пушкина, тот молчал.
Через версту второй заяц перебежал дорогу.
— Александр Сергеевич, — сказал Архип, — я — человек подневольный, что велят, то и делаю, а у вас — своя воля, значит, вам знак. Зайцев-то видели?
— Видел. Молчи.
— А вон и третий норовит! — воскликнул Архип.
Заяц метнулся под ноги лошадям. Лошади сбились с ноги.
— Поворачивай, Архип, — сказал Пушкин хриплым и тусклым голосом. — Видно, не судьба быть мне в Петербурге в ночь на четырнадцатое декабря. Видно, надо еще ждать…
15
Между тем Петербург охватило неопределенное беспокойство. Новый царь продолжал сидеть в Варшаве и не торопился в столицу. Всем это представлялось странным. Великий князь Николай перебрался в Зимний дворец. Пошли слухи, что он намерен свергнуть брата и занять царский престол. Назревали смутные времена. Потом стали говорить об отречении, но в добровольность отречения не верили. Все это было на руку тайному обществу.
Второго декабря прискакали в Петербург Булатов и Пущин. Подготовка к выступлению шла по всем направлениям. Члены общества вели агитацию среди солдат, искали единомышленников среди товарищей: за неделю было принято в общество новых членов более, чем за предыдущие три года. Разрабатывались планы действий.
С военной точки зрения победа восстания представлялась Трубецкому почти верной. Неожиданное занятие дворца, пленение или убийство Николая, ввод войск в Сенат, занятие Петропавловской крепости — и история России переменит свое течение.
Были расписаны роли членов общества и полков. Составлен Манифест, который должен быть предъявлен Сенату и затем опубликован от его имени.
«МАНИФЕСТ
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!
В Манифесте Сената объявляется.
1. Уничтожение бывшего Правления.
2. Установление временного до установления постоянного, выборными.
3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.
4. Свободное отправление богослужения всем верам.
5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей.
6. Равенство всех сословий пред Законом…
7. Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин — все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу…
8. Сложение подушных податей и недоимок по оным.
9. Уничтожение монополий…
10. Уничтожение рекрутства и военных поселений.
11. Убавление срока службы военной для нижних чинов…
12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.
13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначаемых.
14. Гласность судов.
15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские…»
Двенадцатого декабря прибыла эстафета из Варшавы с официальным манифестом об отречении Константина. На четырнадцатое была назначена присяга Николаю.
Весь день тринадцатого квартира Рылеева кипела от народа. Люди приходили, уходили, возвращались снова.
Трубецкой подтвердил свой план: Якубович должен вести измайловцев и Морской экипаж на дворец и арестовать царскую семью, полковник Булатов с гренадерами занимает Петропавловскую крепость, остальные приводят своих солдат на Петровскую площадь к Сенату. Когда же Сенат соберется для присяги, то к сенаторам выйдут Рылеев и Пущин и предложат не присягать Николаю, а издать Манифест к русскому народу о созыве депутатов от народа, которые решат, какова должна быть в России форма государственного правления.
Большие споры вызвал вопрос о судьбе царя: многие склонялись к тому, что для предупреждения междоусобий необходимо убить царя, тогда контрреволюция лишится знамени. Другие считали, что начать с убийства — запятнать преступлением все дело, и убийца должен быть исторгнут из общества и, может быть, даже судим и казнен. Но смерть Николая Павловича облегчала обществу победу.
Рылеев подошел к Каховскому и сказал:
— Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для общества, убей завтра императора.
— Я согласен, — ответил Каховский.
Рылеев поцеловал его, за ним обняли Каховского Бестужев, Пущин и Оболенский.
На Петровскую площадь все должны были собраться к восьми часам.
16
Уже был второй час ночи. Наступило четырнадцатое декабря.
Рылеев лег на диване в кабинете. Впервые за последние три недели ему не нужно было спешить, бежать, обдумывать ответы, возражения, искать варианты, убеждать себя и других — все было решено. И этот ночной час покоя как бы ложился границей между вчерашним и сегодняшним. Да, именно вчерашним. Не позавчерашним, не последними тремя неделями, а
именно вчерашним, потому что эти последние три недели слились в один день — со множеством встреч, событий, разговоров, мельканием людей, со слившимися воедино и не разделенными календарными датами.
Рылеев даже не понял, что он спал, так быстро оказалось пробуждение.
Александр Бестужев тряс его за плечо.
— У меня сейчас Каховский был, он просит тебя извинить его, но он не может сделать того, что обещал. Он будет со всеми на площади.
Рылеев открыл глаза.
— Ты в парадном мундире?
— День-то какой важный.
— Сколько же времени?
— Шестой час. Ну, я в Московский полк.
Рылеев, кажется, опять задремал, но проснулся в тот самый момент, когда в комнату входил Трубецкой.
— Наши планы разрушены. Николай Павлович привел к присяге Сенат в полночь. Присягнули конная гвардия и артиллерия.
Рылеев встал, крикнул слуге, чтобы дал умыться.
За умыванием его застал Якубович.
— Рылеев, я дышал мщением против прежнего государя, но я не хладнокровный убийца и на великого князя поднять руку не в состоянии. Я не могу вести солдат на дворец.
Полковник Булатов забежал, торопясь в полк:
— Если войска будет мало, одних своих гренадер на верную смерть я не поведу. Но я исполню свой долг и сам на площадь выйду.
Все рушилось, разрастаясь, как лавина, и не оставляя надежды; но тут, как спасение, пришли Пущин и Николай Бестужев.
Они уже знали о присяге.
— Отступать поздно, — сказал Пущин. — Надо спасти, что можно.
Спокойствие и уверенность Пущина передались Рылееву.
— Ты, Николай, иди в Морской экипаж, примешь командование вместо Якубовича, мы с Пущиным пойдем в Финляндский и лейб-гренадерские полки. Если кто-нибудь выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с ружьем.
— Во фраке? — невольно улыбнулся Бестужев.
— Я думаю надеть русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.
— Не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и тебя скорее прикладами выгонят из строя, чтоб не мешался, чем выразят восторг твоему благородному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.
Рылеев на мгновенье задумался.
— В самом деле, это слишком романтически. Лучше попросту, без затей. Ну, пошли.
Они вышли из кабинета в гостиную. Рылеев замешкался в дверях, Бестужев остановился, его поджидая. Вдруг распахнулась дверь спальни, в гостиную вбежала Наталья Михайловна.
— Здравствуйте… — начал было Бестужев, но она схватила его за руку и быстро, горячо заговорила:
— Оставьте мне моего мужа, не уводите его! Я знаю, он идет на погибель!
Она заглядывала Бестужеву в глаза, и он чувствовал, что еще немного — и она, не выдержав, упадет на колени.
— Оставьте! Не уводите!
— Ваш муж идет сам. Нас ожидает великое дело, ради которого, может быть, мы живем. — Бестужев понимал, что говорит совсем не то, не те слова, что женщину, которая сердцем предчувствует страшное, что ожидает самого дорогого ей человека, не убедят и не успокоят никакие слова.
— Я скоро возвращусь; в том, что мы намерены делать, нет ничего опасного, — стараясь скрыть волнение, сказал Рылеев. — Не бойся за меня.
Наталья Михайловна замолчала и остановившимся, испытующим взглядом посмотрела на мужа, перевела взгляд на Пущина, на Бестужева. Бестужев не выдержал этого взгляда и отвел глаза.
Наталья Михайловна закричала, отчаянно и страшно:
— Настенька, проси отца за себя и за меня!
Настенька выбежала из спальни, рыдая, обхватила колени отца. Наталья Михайловна покачнулась и в обмороке упала на грудь мужа. Рылеев положил ее на диван, снял ее руки со своей шеи, оторвав от колен, посадил рядом, на диван, дочку и выбежал из комнаты.
Рылеев и Пущин подошли к полковому двору Финляндского полка, здесь было тихо. У ворот стояли часовые.
— Не удалось поднять, — вздохнул Рылеев. — Может, у гренадер…
Но и в гренадерских казармах не было заметно никакого движения. У Зимнего дворца, кроме обычного караула, тоже не было никаких войск.
— Пойдем на площадь.
По Петровской площади, с памятником Петра посредине, пронизывающий ветер крутил поземку. Площадь была пуста.
— Теперь куда?
— К Трубецкому.
Трубецкой показал Рылееву и Пущину только что полученный из сенатской типографии манифест о восшествии на престол Николая и о приведении к присяге.
— Не может быть, чтобы все не выполнили своих обещаний, — сказал Рылеев. — Как быть с теми, кто придет на площадь?
— Не думаю, чтобы кто-нибудь пришел, — сказал Трубецкой.
— Николай Павлович тоже в этом, видимо, уверен: Зимний без охраны, его занять не представит особой трудности…
— Да, если в нашем распоряжении будет хотя бы три роты, — сказал Трубецкой.
— Вы выйдете на площадь, если кто-нибудь придет? — спросил Пущин. — И примете командование?
— Если придут… — замявшись и глядя в сторону, ответил Трубецкой.
— Мы на вас надеемся, — сказал Пущин.
Рылеев и Пущин вновь вышли на улицу.
— Нам нет пути назад, — сказал Рылеев, — мы должны действовать. Лучше быть взятыми на площади, чем в постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибли, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали. К тому же еще у нас все-таки есть шанс принудить государя к принятию конституции. Я верю Трубецкому, что есть шанс.
Они с Английской набережной свернули на Петровскую площадь. Войск на ней не было. Прохожие бежали по тротуарам, пересекали площадь. На Рылеева с Пущиным никто не обращал внимания.
Серая мгла окутывала город. Едва светлеющее небо было бессильно не только рассеять эту мглу, но само заволакивалось темнотой. Словно это было не утро, словно не рассветало, а, наоборот, наступала ночь.
У Синего моста Рылеев и Пущин лицом к лицу столкнулись с Якубовичем.
— Московский полк возмутился! — крикнул он.
Рылеев вскинул голову, в глазах вопрос: правда ли? — и боязнь поверить.
— Московцы пошли к Сенату!
Якубович шагал быстро, размашисто, Пущин и Рылеев невольно прибавляли шаги, потом не выдержали, побежали.
Впереди на фоне вдруг посветлевшего неба вырисовался вздыбленный конь памятника Петру. Светлело с каждым мигом, и когда, обойдя строившийся собор, они попали на Петровскую, или, как ее еще называли, Сенатскую, площадь, стало совсем светло, и они увидели солдат, стоявших в несколько шеренг возле памятника.
Рылеев подался вперед, вытянул шею.
— Сколько же их там?
Он не разобрал, что ответил Пущин, да и ни к чему тут был ответ, он сам видел, что мало. Эти недлинные шеренги под черным царственным всадником на черном коне казались еще малочисленнее и короче на фоне возвышавшейся справа многооконной громады Сената и раскинувшейся вокруг них огромной и просторной площади, к тому же еще продолженной вдаль серо-белой равниной замерзшей Невы, за которой далеко-далеко еле виднелись маленькие, как игрушечные, здания Первого кадетского корпуса… Но чувство тревоги и отчаянья, накатившееся было снова, тут же, ослабев, пропало; неотступная до этого мысль о будущем, о гибели уже не пугала, она, конечно, не ушла совсем, но стушевалась, скрылась в тень, и на первый план — необычайно ярко и отчетливо — выступило то, что было перед его глазами сейчас, в эту минуту, и оно было сейчас главным в жизни. Как ни мал был военный опыт Рылеева, но в четырнадцатом и пятнадцатом годах и он несколько раз испытал ту перемену душевного состояния, которая происходит в человеке в момент, когда начинается сам бой, когда уже нет выбора, все решено и требуется только как можно лучше исполнить то, что необходимо исполнить.
Солдаты были в парадной форме. Качнулись и застыли четкие ряды киверов и сверкающих над ними металлическим суровым блеском штыков. Лица солдат были серьезны и спокойны, вдоль фронта прохаживались офицеры. В Рылееве, вытесня остальные ощущения, поднимался и охватывал все его существо высокий восторг. На память пришли строчки его собственного стихотворения:
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла…
— Что ты сказал? — спросил Пущин.
— Так, стихи, — ответил Рылеев.
— Поэт всегда поэт, — улыбнулся Пущин.
Из-за угла Адмиралтейства как-то робко и неуверенно, шеренгами по три, выехали конногвардейцы — первые показавшиеся на площади войска, верные Николаю…
Рылеев, увидя их, подумал: «Атакуют нас или не решатся?..» И то, и другое было одинаково возможно… Но в одном он был уверен: этот день — 14 декабря 1825 года — войдет в историю, и с ним войдут в историю их имена, а то, что произойдет здесь, на белой Сенатской площади, далекие потомки будут знать и помнить во всех подробностях, минуту за минутой, так же, как они, пришедшие сюда сегодня, знают и помнят славные дни русской истории: сражение Александра Невского на льду Чудского озера, Куликовскую битву, Бородино… Сегодня же История избрала их…
На противоположной от выстраивающихся конногвардейцев стороне Сенатской площади, с Почтамтской улицы, выходили на площадь матросы Гвардейского экипажа. Среди ведущих их офицеров Рылеев увидел Николая Бестужева, побежал ему навстречу, обнял.
— Поцелуемся первым целованием свободы!
Потом, отведя в сторону, тихо и радостно сказал:
— Сознаешь ли ты, что сейчас мы впервые дышим воздухом свободы. Может быть, мы погибнем, но последние наши минуты — это минуты свободы, и я охотно отдам за них жизнь…



Оглавление
Часть первая
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
1
2
3
4
5
6
7
8
Часть вторая
КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ ПРАПОРЩИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Часть третья
ПЕВЕЦ МЛАДОЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Часть четвертая
ГРАЖДАНИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16