ALAIN DAMASIO
LA HORDE DU CONTREVENT




Перевод с французского:
Дина Мартен-Буйе
Москва
Издательство АСТ


(обратно)
В память о Мамю, моей бабушке,
оставившей в моем сердце и в моих легких
пылающий жаром уголек чистой любви,
что я пытаюсь разжечь снова
всеми доступными мне средствами
на каждом вдохе.
—
(обратно)
Эта книга по полному праву посвящается тебе, Оливье.
Она посвящается твоему умению выслушать,
безукоризненной поддержке,
авианосцу дружбы, что скрывается в арматуре
твоих плеч,
твоей неумолимой щедрости,
уму во всем, что ты мне преподнес,
будь то в литературе или в дружбе,
твоему присутствию рядом и уместности
твоих слов,
когда мне случалось тонуть в пучинах книги,
твоему умению молчать,
когда меня бывает не остановить,
твоему благородству, что многие считают
простой порядочностью души,
но мне известно, что это не что иное,
как тайное имя редчайшей формы мужества.

(обратно)
—
Только мы никогда не уверены в том,
что у нас достаточно сил,
ибо у нас нет системы,
у нас есть только линии и движения.
Жиль Делёз и Феликс Гваттари.
Тысяча плато

(обратно)
(орда)

Строй контра в форме капли воды

 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)
 Голгот, трассер
Голгот, трассер
 Пьетро делла Рокка, князь
Пьетро делла Рокка, князь
 Сов Строчнис, скриб
Сов Строчнис, скриб
 Караколь, трубадур
Караколь, трубадур
 Эрг Махаон, боец-защитник
Эрг Махаон, боец-защитник
781
 Тальвег Арсиппе, геомастер
Тальвег Арсиппе, геомастер
 Фирост де Торож, столп
Фирост де Торож, столп
 Ястребник, птичник-ловчий
Ястребник, птичник-ловчий
 Степп Форехис, флерон
Степп Форехис, флерон
 Арваль Редхамай, разведчик
Арваль Редхамай, разведчик
 Сокольник, птичник-ловчий
Сокольник, птичник-ловчий
 Горст и Карст Дубка, фланговики
Горст и Карст Дубка, фланговики
 Ороси Меликерт, аэромастер
Ороси Меликерт, аэромастер
 Альма Капис, сестричка
Альма Капис, сестричка
780
 Аои Нан, сборщица и лозоходка
Аои Нан, сборщица и лозоходка
 Ларко Скарса, небесный браконьер
Ларко Скарса, небесный браконьер
 Леарх Фюнглер, ремесленник по металлу
Леарх Фюнглер, ремесленник по металлу
 Каллироя Дейкун, огница
Каллироя Дейкун, огница
 Боскаво Силамфр, ремесленник по дереву
Боскаво Силамфр, ремесленник по дереву
 Кориолис, фаркопщик
Кориолис, фаркопщик
 Свезьест, фаркопщик
Свезьест, фаркопщик
 Барбак
Барбак,
фаркопщик
 (обратно)
От книгодела
(обратно)
От книгодела: Вот портреты части героев открытой вами книги. Их нет в русском печатном издании, но они сразу встречают французского читателя. Итак, знакомьтесь с Ордой! (перевод описаний портретной галереи — любительский)

 Голгот
Голгот

Трассёр — одновременно и организатор, и проводник, и лидер орды. Он встает во главе Клинка и обеспечивает острие атаки, от него зависит весь темп группы. В силу своего положения, следовательно, Голгот принимает решение на Трассу, то есть выбирает маршрут, по какому пути следовать, где возможен обход — в зависимости от рельефа, местности и ветра. Эта изначальная роль объясняет, почему Трассёр обычно также бывает естественным вожаком и за такового повсюду считается.
Что делает Голгота уникальным — так это то, что ему безразлична организация жизни Орды, зато он сосредоточен исключительно на Трассе и равномерном ритме хода против ветра, который он задает. Он определяет когда и где остановиться, как долго оставаться в деревне, устанавливает момент выступления и привала.
Решения Голгота не обсуждаются. Только у Пьетро есть право голоса.
Заметим: именно Голгот — тот, кто решает, следует ли и когда именно вытатуировать на теле фаркопщика эмблему Орды (этот фундаментальный ритуал подтверждает, что фаркопщик вписался в Орду, снимает его с саней и зачисляет в Пак: своего рода вольная грамота).
 Пьетро делла Рокка
Пьетро делла Рокка

Роль Князя традиционно была церемониальной. Он занимался внешним представительством Орды и шел против ветра, прикрытый со всех сторон массой Пака. Через несколько поколений князья уже вовсю потели, контря во втором ряду, сразу за Трассёром. Это только добавило им уважения.
Пьетро — кульминация этой тенденции. Он превратил статус князя в реальную роль в организации и структурировании Орды. Он улаживает напряженности, поддерживает в трудную минуту, разрешает конфликты, дисциплинирует и при необходимости делает перестановки в группе. Он служит буфером между Голготом и Паком и выступает в защиту фаркопщиков, которым лично помогает — когда это необходимо.
Короче говоря, в каркасе коллектива Пьетро — главная несущая балка.
 Сов Строчнис
Сов Строчнис

Скриб — это тот, кто ведет летопись Трассы и путешествия для последующих орд. В юности он получает доступ ко всем записям «Контржурналов» — дневников тех прежних орд, которые не были уничтожены, и тем, копии которых удалось восстановить. Он изучает их с 10 до 20 лет, заучивает их (запоминание — базовый навык Скриба) и составляет компактный требник, который берет с собой и будет хранить всю свою жизнь.
Помимо Трассы, «Контржурнал» сводит в себе встретившиеся трудности, события, деревни, оказанный прием, совершённые ошибки, которых следует избегать, а также советы на будущее.
Таким образом, это настоящий роман, у которого будет всего один читатель, но он будет полезен сыновьям и дочерям нынешней Орды и последующим участникам. Еще он включает философские размышления, максимы, послания и сомнения. Он — память Орды, опора их легенды.
Помимо работы скрибом Сов — правая рука Пьетро в организации повседневной жизни.
 Караколь
Караколь

Функции трубадура никогда не существовало в орде. Ее придумал и привнес в своем лице Караколь.
Очевидно, что в группе он — глоток воздуха, ее кислородная подушка, ее кусочек лазури среди серости изматывающего похода. Его каждодневные байки, интригующие своей оригинальностью, наполняют удовольствием вечера. Его проделки, его безрассудства, его причудливый и непредсказуемый характер, его вспыхивающий огонь оживляет затертые кодексы и ритуалы орды.
Не менее важную роль он играет по отношению к внешнему миру, поскольку в лицах и звуках представляет в нем похождения орды и многое добавляет в легенды о ней.
 Эрг Махаон
Эрг Махаон

Роль воина-защитника чрезвычайно проста: защищать орду от нападений извне — будь то люди или животные. Эрг — отличный охотник и в совершенстве изучил опасных животных, иметь дело с которыми его учили с шести лет.
Эрг обучался около двадцати лет у мастеров боевых искусств, засчитывая сюда кое-какие деревни, по которым проходила Орда, справился с множеством подготовленных ей засад. Он опытен в большинстве боевых искусств, сложившихся на земле, и овладел воздушным боем (практиковался в схватках на арене с прикрепленным парапланом). В дополнение к техникам защиты, составляющим суть его искусства, Эрг разработал уникальный стиль атаки, отчасти взятый из древних сводов орд, который хранится в секрете (а именно, скажем напоследок, это старинный стиль, который использует несущий воздушный змей и пару острых трехлопастных пропеллеров, прикрепленных к подошвам — атаки выполняются ногами, пропеллеры служат как рубящим оружием, так и помогают сохранить равновесие).
Крепко сложенный и широкоплечий Эрг играет заодно в походном строю роль столпа.
 Тальвег Арсиппе
Тальвег Арсиппе

Геомастер сочетает обязанности и познания геолога и географа. Он обучался геоморфологии, геодинамике, минералогии, и так далее.
То, как он предугадывает рельеф и характер скал по частицам, принесенным ветром, неоценимо при выработке Трассы. Вместе с Ороси они — главные советники Голгота на маршруте.
В частности, он может определить характер местности, с которой столкнется Орда, тип эрозии, сильнейшие из поддающихся предсказанию эффектов ветра, расположение рек или источников… Также он может работать с камнем, распознавать типы конструкций, оценивать их прочность.
Дополняя флерона и аэромастера, геомастер замыкает треугольник геофизических знаний.
 Фирост де Торож
Фирост де Торож

У Клинка есть три столпа: Эрг, Талвег и Фирост, роль которых заключается в том, чтобы служить поддержкой ветролому (Голгот, Сов, Пьетро), когда ветер крепнет. Как и в регби, они обеспечивают сцепление всего Пака и предотвращают откат Клинка к Паку.
Ну, все понятно: Фирост — это здоровяк, который защищает с тыла и подпирает идущих навстречу ветру.
Помимо этого он неплохо мечет диски и пропеллеры, и несравненный добытчик дичи.
 Ястребник
Ястребник

По традиции в каждой Орде есть два человека, охотящихся с птицами: один — с низколетящей (ястребом), другой — с высотной (соколом).
Их роль прозрачна: добывать с помощью своих охотничьих птиц дичь (зайцев, кроликов, куропаток, разных птиц…) для Орды.
Ястребник охотится с двумя ястребами-тетеревятниками и обеспечивает больше добычи, чем сокольник.
 Арваль Редхамай
Арваль Редхамай

Разведчик — это тот, кого отправляют вверх против ветра, чтобы проверить предполагаемую трассу и, возможно, ее подправить. Его высылают эпизодически — при выходе на пересеченный рельеф, при обходе озер, переходе рек. Иногда — на поиски деревни, которая затерялась где-то выше по ветру (проблема ориентирования).
Разведчик должен обладать двумя ценными качествами: скоростью и интуицией. Он должен уметь расчищать дорогу и пробираться, карабкаться, проходить опасные области в одиночку и быстро возвращаться, чтобы доложиться в Орду, которая зачастую продолжает продвигаться. Иногда, при появлении развилки, с разведкой альтернатив (пройти слева или справа от горы?) Арвалю помогает Караколь.
Разведчика могут попросить встать пораньше, чтобы провести аван-трассировку и не дать Орде сбиться с пути по сложным тропам. Он может разведать место для вечернего лагеря, или направить сборщиков к богатым местам. Во всех таких случаях он использует визуальные (стрелки, пирамиды из камней, огни, привязанный воздушный змей) или звуковые сигналы (сирены-фареолы).
 Братья Дубкá
Братья Дубкá

С их внушительными широкими плечами быть бы им столпами, но происхождение определило их во фланговые, которые почти не прикрыты с тыла. Встав на свои места, Дубка образуют удобную ветрозащиту для Фаркопа. В дополнение к этому они обладают незаурядной грузоподъемностью, что скрашивает долю фаркопщиков и позволяет время от времени перегружать на братьев излишки (дичи, фруктов и так далее). Наконец, у них так развита эмпатия с животными, что они обучились приручать зверей: они нередко приспосабливают под поклажу буйволов, лошадей, диких ослов или горсов (Кодекс Орды запрещает животных запрягать или седлать, но разрешает перевозить на них грузы).
Близнецы так добры, что часто помогают и сильно облегчают жизнь другим: они и сборщики, они и охотники, они носят сумки, они ищут деревяшки для Силамфра, они таскают руду для Леарха, они служат Махаону спарринг-партнерами и прочее. Они чуточку мастера на все руки.
 Ороси Меликерт
Ороси Меликерт

Ранг аэромастера — самый высокий в иерархии эолистов. Он подразумевает очень глубокие познания, эмпирические и теоретические, в аэродинамике и механике жидкостей, применительно к конструкциям, а также к движущимся объектам и существам, к растительности, к рельефу.
Быть аэромастером по праву считается элитной функцией, требующей исключительных интуитивных и интеллектуальных качеств. Испытания на присвоение ранга проходят при ярветре и с крайне ограниченными подручными средствами в пустынной местности, и на каждых экзаменах (раз в три года) погибают три четверти соискателей, а выжившим даже не гарантируется получение статуса! Количество ныне живущих аэромастеров оценивается в двадцать человек, из которых только двое — женщины.
На практике Ороси конструирует все ветряные турбинки и приводы Орды, предсказывает ветры и хроны, дает советы Голготу относительно Трассы, подгоняет обмундирование и корректирует построение в Орде, приглядывает за кильватерными эффектами воздушного потока и за тем, как переносят турбулентность фаркопщики, профилирует сани и бумеранги… Она читает ветер куда лучше Голгота, хотя ему никогда об этом не узнать. Ее пост — единственный, который нельзя продублировать. Однако она понемногу тренирует Арваля на тот случай, если сама погибнет.
 Аои Нан
Аои Нан

Функция сборщицы стара как орда, но никогда не считалась привилегированной. Ее не передают от матери к дочери, и сборщицы часто набираются из простонародья. Множество девочек мечтают присоединиться к Орде, и множество родителей их в этом поддерживают, поскольку пристроенная дочь гарантирует, что родные будут избавлены от нужды до конца их дней (по иронии судьбы неблагодарная семья Аои извлекла выгоду из этого шанса, будучи ни при чем).
Сборщица всегда укрыта на марше внутри Пака и развивает бурную деятельность во время привалов и вечернего отдыха, когда она старательно ищет зерна, съедобные растения, фрукты, воду для всей Орды, и в особенности для Клинка. В этом ей помогают флерон и Альма, Каллироя, а иногда и Ороси; время от времени — и Дубки.
Ее роль жизненно важна. Количество и разнообразие собранного влияет на боевой дух отряда и его здоровье. Грязная вода может придержать орду на несколько дней. Ядовитый фрукт может уложить ордийца и так замедлить всю группу.
В каком-то смысле эта роль напряженная и довольно щекотливая в пустынных местностях, где Аои обязана нарвать полную корзину плодов, не говоря уже о продолжительности дня на ногах: Аои начинает работать тогда, когда остальные наконец устраиваются на отдых.
 Ларко Скарса
Ларко Скарса

Если описать роль Ларко в двух словах, выходит довольно обтекаемо: просеиватель небес, воздушный браконьер, облачный рыбак, охотник за мясом, зверолов — таких терминов предостаточно. Скажем так: вооружившись воздушным змеем с прицепленной плетеной клеткой с дверцей, он отлавливает все, что в нее попадает на высоте десяти метров. Поэтому во время перехода он тянет над собой свою летающую клетку и тащит ее вниз, как только чувствует резкий рывок. В зависимости от ветра он еще может ловить на шар с иглами, сеткой, на клей, помещая в клетку живую или неживую приманку (насекомые, цветы, мед…)
В основном его улов составляют птицы, но также могут в летающую ловушку попадаться ветряные медузы, легкие зверьки, оторванные ветром от земли, предметы (листья для разжигания огня, семена, фрукты, разные материалы и так далее).
Улов Ларко, зачастую скромный, скрашивает обычный рацион, а иногда оказывается бесценным в пустынных районах. Тем более, что с вечера он ставит дюжину клеток, а ночью ловится лучше. На следующее утро завтраком часто угощает Ларко (ловушки на земле он тоже ставит, но давайте продолжим).
 Каллироя Дейкун
Каллироя Дейкун

Огница — мастерица огня и огненных искусств.
Прежде всего она должна уметь зажечь походный костер где угодно, когда угодно и так, чтобы он продержался всю ночь. Затем, ей следует обеспечивать годные костры для приготовления пищи, для копчения, для кузнечных дел Леарха и закалки кое-каких пород древесины для Силамфра. Она сама готовит посуду и дичь, а также фаянс, который может понадобиться для мастеровых. Заодно она и сушит одежду.
Каллироя знакома со всякими видами древесины, их процессом горения, природой получаемых углей, способами использования ветра для разжигания или притушивания, температурой, которой следует достичь для нужд мастеров, а также превращениями материалов, связанными с теплом. Она знает, как избежать пожара в прерии и как его устроить.
 Кориолис
Кориолис

Фаркопщик, также известный как тягловая собака, берет на себя самую неблагодарную роль в Орде: буксировать сани в хвосте Стаи. В этих санях, замечательно обтекаемых и стоящих на трех колесах из стали и дерева, содержатся личные вещи ордийцев, в частности — оборудование, необходимое для их работы.
Саней трое, они весят от 30 до 40 килограммов каждые.
Фаркопщик надевает обвязку, от которой отходят две веревки, зацепленные за передок саней.
Благодаря Ороси, которая во многом доработала сани, уже шесть лет как к задней части этих повозок прикрепили осевые ветряные турбины, обеспечивающие тягу скромную, но облегчающую фаркопщикам жизнь.
Конечно, фаркопщики всегда защищены, а во время отдыха и лагерной стоянки они освобождаются от любых работ.
На подъемах, особенно длинных, нередко можно увидеть, как Пьетро, Сов, Эрг или Фирост отходят назад, чтобы помочь фаркопщикам. Для Кориолис это большое подспорье…
На спуске эффективное торможение обеспечивается регулируемым крылом.


 (обратно)
(обратно)



, « - ». , . ,
, , .



а ско — , лови , «я» , при сть, мос. лен в ир , жизни,
до спеш , стал рости.



на але бы а лько скорость — но , неулови же , «ветер- о н ». , обрет и плот , стал космос. от нас медление, мир обит , жизни, вас.
, добро , неспеш пут оков и у , стал пле сти.



начале олько скорость — сплош , уловимо и , «в -молния». тем, прио очертан плотно , различи космос. лишь ст заме ние, дел при дным дл итания, я жи , в .
Итак, пожаловать, спеш путник в узах, летел скорости.


778

Вначале была только скорость — сплошное, неуловимое движение, «ветер-молния». Затем, приобретая очертания и плотность, стал различим космос. И лишь потом настало замедление, сделав этот мир пригодным для обитания, для жизни, для вас.
Итак, добро пожаловать, неспешный путник в оковах и узах, усталый плетельщик скорости.




 ¿'
¿' 
, .


Мы созданы , котор



материи,



из сотканы



даны из , ветра.


 ¿'
¿' 
Мы созданы из материи, из которой сотканы ветра




 (обратно)
(обратно)
I
ФАРЕОЛ
) 
На пятом залпе ударной волной проломило ребро заградительной стены, и сквозь зияющие стыки гранита деревню вмиг занесло песком. Я как можно ближе пригнулся к Пьетро, кварцевые стрелки его контрмаски трещали, от жуткого звука скрежещущего камня шлем пробивало до дрожи в зубах. Мы укрылись в переулке. Рядом с нами, прямо на земле, лежали два насмерть изрешеченных песком старика, — бедолаги наверняка замешкались, заколачивая ставни. Чуть поодаль, на перекрестке, всего пару минут назад хорохорилась ватага мальчишек — корчили из себя смельчаков, носились по улице без шлемов, бросали ветру свои ребяческие вызовы, да такие, на которые при подобной мощности и вязкости ветра не отважились бы даже мы сами. Теперь я тщетно вглядывался вперед, пытаясь отыскать их, но на перекрестке было пусто. Вся Орда прижалась к западному фасаду какой-то постройки, которая показалась нам не столь жалко сколоченной, как все остальные; мы ждали отката волны, короткой паузы в ускорении, когда можно будет проконтровать в лабиринте улиц вплоть до стены и уже оттуда выдвигаться дальше. Если, конечно, мы вообще решимся выйти за заградительный вал. В затишье было слышно, как стонал изогнутый металл куполов, как скрипел захлебывающийся песком ве-
775
тряк, то застревая, то снова раскручиваясь на полный ход. Лопасти трещали под металлической крошкой, сливались с общим ревом. Слева от меня, вытянувшись во всю длину, пытался забиться в слишком узкий для него уголок взъерошенный кот; по земле проскребли какие-то лавки, с крыш срывало черепицу из обожженной глины, подхватывало в струю поломанные игрушки, калебасы, и все это кубарем неслось мимо. Теперь уже было ясно наверняка — на нас шел ярветер. А значит, в запасе было не больше часа. Судя по напору, понятно было, что он пронесется квинтетом и сотрет эту чертову дыру в порошок. Да и чего еще было ждать от подобного захолустья со сквозными улицами и глинобитными постройками? О нем в контржурналах даже не упоминалось ни разу. Кому вообще пришло в голову разлиновать здесь улицы по квадратам? Ороси бы еще девчонкой в ужас пришла от такого плана застройки.
— Где Арваль?
— На разведке! Ищет проход в заслоне.
— А Караколь?
— Вместе с ним.
— Куда его понесло из Пака? Что за дерьмо? Зови его назад!
— Звать назад? Да я Сова в четырех метрах от себя не слышу.
— Что? Что случилось?
— Карак взял и выскочил из алмаза, чертенок такой. Кориолис сзади санями из-за него протащило.
— Он ее прикрывал?
— Как бы да.
— Чтоб его…
— Пьетро! Что будем делать?
— Поставить Горста на замену Кориолис. Возьмите ее в центр Пака, пусть Альма глянет, как она там.
774
— А вместо Горста кого?
— Леарха. Он сам предложил.
— А дальше что? Может, в воздушного кота еще поиграть предложишь?
— Дальше отката будем ждать, Фирост.
¿' 
Друзья просторов и широт, мое вам вновь и вновь почтенье! Пожалуй же и к нам, старик-ярветер, наш неуемный папаша-свистун, как же мне мило предвкушать твое парящее на крыльях приближенье, сумбурное, конечно, но хотя?!. Ах, разумеется, пожалуйте и вы, молодые песочные глифы, хроны и антихроны! О, вы заявите о себе без лишних церемоний. Но я того лишь только и хочу, я жажду встречи с вами! Польщен и окрылен!
Я не представился? Не может быть! Прошу простить, но миг сей вдохновляет на лиризм, позвольте, мы… да, здравствуйте, а вы? Да-да, я Караколь, итак, о чем я? Ах да, он самый, трубадур, рассказчик, стало быть. Для чьих ушей? 34-й Орды, господа, Встречного Ветра, само собой, а как иначе? Ведет же нас не кто иной, как свирепейший и почтеннейший из всех, от одного лишь имени его у вас сейчас же перехватит дух, да здравствует Голгот IX, наш Трассер. Бок о бок с ним — боец-защитник, да будет вам знаком, — Эрг Махаон, рубильщик ветров и врагов; с ним рядом — столп, которому нет равных, оплот на двух ногах, Фирост де Торож. Будьте любезны с ним, прекрасные сударыни, так как не более чем через час вы будете счастливы укрыться за его спиной, когда мои отцы и матери извергнут вам в лицо песочной крошки из своего нутра. Так! Но кто же выступает вслед за неукротимой тройкой? Кто ободряет и дает совет? Конечно же князь Пьетро, из рода делла Рокка, из благороднейшей семьи, да его верный спутник, всегда по левое плечо, сын оборванца, но с
773
пером наизготове, — мой друг, Сов Глубочайший, скриб, как величают его здесь, но для меня — «филосов». А промеж них, влюбленный в камни, уляжется на землю и корпит, Тальвег, наш геомастер, а за ними… но поспеваете ли вы за мной, не сбавить ли мне ход? За этими шестью вышеуказанными чудесами, что именуются Клинком, в три плотных ряда расположился, будьте в том покойны, Пак, а в нем — два непримиримых птичника, да с ними сборщица с огницей, загадочный разведчик и два ремесленника-лоботряса — здорово, Ларко! — А затем… Кто же еще, как не три фаркопщика, что, изволите заметить, тянут груз! Что, позвольте, сколько нас всего? Двадцать три. Без ястребов и соколов, учтите. Все на ногах, по стойке смирно, все во фронт? Ох, несомненно. Но много ль живости осталось в нас еще? Право, не знаю…
— Караколь!
—
Дербидил?
— Я нашел портик. Можно спускаться за остальными!
π 
Я ждал, что скажет Голгот, — ясно было, что вся эта деревенька была ему по меньшей мере отвратительна, но он молчал, только покачивал головой, то и дело пинал ботинком глинобитку. В конце переулка виднелась заградительная стена. В проулках между домами вовсю свирепствовал эффект Лассини. Посеревшую от пыли и утрамбованную бесконечным ветром землю накрыло полотном латерита. Небо сделалось цвета моего метательного диска, превратилось в один сплошной поток металла и неслось над нами, неумолимо набирая скорость. Улицы наконец совсем опустели. Некоторые семьи все-таки вышли забрать своих стариков в укрытие. Все двери и ставни захлопнулись — ни взгляда, ни слова в нашу сторону. Самые опытные спустились в шурфы, тщательно заперев за
772
собой люки. Все разбежались по своим укрытиям и сидят богу молятся, а может, даже сразу всем богам, на всякий случай.
— По моему сигналу группируемся! Контралмаз! Фаркопщики, приклеиться к Паку с прицепом в заднице, руку на поручень, забить дыры в строю! Срываемся отсюда по-быстрому, контруем прямо к укреплению, оттуда все уваливаемся под ветер до самого портика. Там остановимся и разберемся, что дальше!
— А почему не постучать по люкам? Можно же где-то спрятаться, пересидеть бурю!
< > 
Как ты бесхитростно права, милая Кориолис, но, думаешь, хоть кто-то из Клинка тебя послушает? Ты всего-навсего фаркопщица, контруешь себе в самом конце строя, тянешься у других за спинами и понятия не имеешь, что такое лицевой ветер. Ты в Орде еще слишком новенькая. Сколько ты с нами, восемь месяцев? Меня они хоть и уважают как сборщицу и лозоходку, но и мне, заикнись я спорить, просто посмеялись бы в ответ: «Ну так иди, Аои, вперед, девочка, прикрой нас, раз тебе так хочется…». Но разве нам с тобой это под силу…
Если уж умирать с животом, пробитым куском бревна, то они уж точно предпочтут, чтоб это случилось на равнине, на открытом ветру, а не в колодце под завалами, с перебитыми под тяжестью балок позвонками. В этих вещах нет ничего рационального. Там, снаружи, опасность будет запредельной. Здесь же ее можно приручить — достаточно выбрать стену понадежнее и привязаться к ней. Но нет, мы все сделаем иначе. Сначала все переругаемся, но так, не всерьез, на лету: одни проголосуют за, другие против. Силамфр с Ларко вряд ли захотят идти, и Альма тоже, а Свезьест и так в ужасе от ран Кориолис. Затем
771
Голгот скажет: «Вперед!», и мы пойдем, потому что он — наш Трассер, потому что за тридцать лет контра он еще ни разу не ошибся под ярветром. Только вот на этот раз мне действительно страшно.
Ω 
Я, как только унюхал блааст, по запаху холода сразу понял, что сейчас шибанет. Нахлобучил пониже кожаный шлем, затянул ремни на камзоле. Жестко. По самое рыло. Пригнул голову и нырнул. Прямиком в шни. В переулке по щекам клевало так, что хоть наотмашь руками отбивай. Уложил поток плечом, слева, справа, кадрированный, опорный. Мне каким-то стулом по колену шибануло будь здоров. Черепицу с крыш у нас над головами разметало, только пригибаться успевай. Лучше было держаться подальше от лачуг, там прицепленные за крюк буера в стены лупили как ненормальные. Насчет Кориолис я сразу просек. Она в штаны наложит, понятное дело, — это ее первый ярветер. Девственница еще, ляжки сжимает. Но мать твою, мы же и так ее все время прикрываем! По максимуму. Даже телегу у нее забрали, чтоб шла налегке. Да, заботимся мы о ней. Они так уж точно. Девчонка еще, конечно, но ничего, вопль выучит. Затрава у нее хватит. Я крикнул «Стоп!», и все сбились в кучу, спиной к укрепительной стене. Оставшиеся позади хибары разнесло в щепки. Деревню накрыло красным брюшным потопом. Горы песка хлестали с неба так, будто его оттуда нам на голову мойщицы ведрами хлобыстали.
< > 
Чтобы хоть немного унять нервы, я села и положила голову на плечо Ороси — так удобнее было наблюдать, как силуэты продвигаются вперед и выходят через отверстие в укреплении. В паре метров к верховью от портика каменный навес пресекал основной поток, и сквозь
770
дыры, пробитые в нем ветром, просачивались струйки пыли. У нас по ногам прокатывались, извиваясь как куница, тоненькие турбулентные потоки. Здесь разглагольствования и споры были ни к чему, все было ясно и без слов, достаточно просто взглянуть на нас, чтобы понять, кто во что горазд. Одни были спокойны, и в каждом их жесте чувствовалась решительность, другие же заглядывали за заслон робко, со сведенным судорогой страха лицом. Тальвег надолго задержался, как врезанный в амбразуру, с воздухозаборником поверх шапки и с молотком на поясе, потом исчез на какое-то время из виду и снова возвратился с суровым лицом и порыжелой бородой, высыпав себе под ноги горку мельчайшего и словно дымящегося пылью песка.
— Я снял пробы. Песок на чистом латерите! Ни кварца, ни слюды. Крупинки, которые нам до этого попались, были отсюда, с укреплений. Это значит, вокруг нет ничего на целые лье к верховью. Сплошная пустыня!
— Ботаник, подтверждаешь? Степп? — крикнула Ороси, и я почувствовала тепло ее дыхания.
— Ага. Обычный буш, ничего нового: эвкалипт, пара карликовых дубов, да шары спинифекса повсюду, хоть пастись иди. Две недели уже один и тот же букет. Так и привыкнуть можно.
— Значит, не опасно, если особо к эвкалипту не приближаться?
— Не опасно, если каждый из нас себе найдет по дыре с пучком спинифекса, за который зубами зацепиться можно, да так, чтоб еще при этом повезло песка не сожрать по самое горло к концу увеселительной программы! Нет, Ороси, это очень рискованно. Спинифекс низкорослый, это тебе не самшит, он нас не прикроет.
— И что вы оба советуете в таком случае?
769
— Залечь ничком, здесь, вдоль стены, достать канаты и хорошенько привязаться.
— А если треснет по стыкам? Вы эту стену видели вообще, она же как решето! А если нас в вихрь с тяжеловесными отходами затянет?..
— Мы в курсе. Но это все равно не так рискованно, как пойти прогуляться голяком по равнине. Или тебе охота пойти поискать спасительный перелесок, который и волну удержит, и напор напополам рассечет так, чтоб нас не задело и чтоб без круговоротов и вихрей, да? Прям чудо, а не куст!
— На равнине, вдали от построек, столкновения с предметами случаются реже, Степп. Нужно только найти подходящее место и знать, когда входить в апноэ при волне.
— Ороси, никто здесь не ставит под сомнение твой анализ ярветра. У тебя больше шансов, чем у кого-либо из нас, выжить в этой завывающей дряни. Но проблема в фаркопщиках, ты Кориолис видела? Если б Ларко за ней не бросился, от нее бы мокрого места не осталось!
π 
В этом шквале я почти не слышал разговора Ороси и Степпа. Но я точно знал, что ярветер неизбежен. Что если пойдем дальше вверх, Свезьеста в два счета снесет вместе с его прицепом. Но еще больше меня беспокоили девочки. Мы прекрасно понимали, что случится в самый разгар: Пак развалится. Его продырявит порывами ветра. В прошлый раз именно так и было. И я решил взять слово, стараясь кричать симметрично вдоль стены, так, чтобы вся Орда меня услышала:
— Благоразумнее всего было бы остаться здесь! Свезьест вряд ли выберется живым. Каллироя и Аои тоже. Нам предстоит встреча с самым мощным ярветром, который мы когда-либо видели. Латерит, утяжеленный
768
дождем! Сверху поток песка будет бить в лицо, а опорные снизу будут тонуть в грязи!
— Серьезно, народ, Пьетро прав.
— Пьетро — не аэромастер, насколько я знаю!
— И что с того?
— Только Ороси может оценить всю степень риска!
— Тут аэромастером быть не нужно, чтоб понять, что нас на куски разорвет, если выйдем на пустырь!
¿' 
Э-эй, Голгот, ты что, решил дать ордище волю поконфабулировать, как на торгах, по парочкам, чтоб на всех хватило — дебаты, ссора, спор? Чего ты им не влепишь? А нет, смотри-ка, наконец все-таки встал да потащил к нам свою длиннющую и широченную физиономию, не нос, а сопло с раздутыми ноздрями, модель исходная, без изощрений, с такой удобно сопли вышибать. Проходит мимо нас, верзила с нависшим лбом, бурлит, бушует, впрочем, как всегда, а как деликатно расплевывается во все стороны, давай его, ату! Как ты прекрасен, элегантен! Вот вытирает струйку слюны, потекшую по порыжевшей бороде. Подходит к Степпу, возвращается к Тальвегу, кидает пару слов Ороси, смотрит на Пьетро — один сплошной балет, весь гибок, бороздит. Дает нам знак, чтоб выстроились полукругом. Все исполняют, я — первее всех, да поживей. Сейчас он будет говорить!
— Помните последний ярветер, который мы отгребли? Когда это было, два года назад? Могу вам целиком выгрузить, как все было. И как Верваля санями сорвало. И как Ди Неббе потеряли, хотя крепкий был фланговик. Он столько песка сожрал за один-единственный зашквал, что даже встать не смог, а когда на колени перекатился, чтоб выблевать, его скосило куском забора, который снесло вместе с Карстом и Фиростом верхом.
767
Эти еще здесь, слава Ветру! А ему горло перерезало этой долбаной оградой. Мы даже тело его на следующий день найти не смогли. Ярветер, который сейчас рыло свое показывает, как два шквала похож на тот, что мы тогда пережили. Такая же гребаная полупустыня, такая же дерьмовая почва под ногами — будет выскальзывать прямо из-под шипов, если не трассировать по песчаному бару. Хотел вам сегодня утром сказать, но не смог. Так что сейчас все вывалю.
< > 
Начался откат, и в этой нависшей, почти успокаивающей тишине слова Голгота как будто рикошетили о гранитную стену:
— Вы — лучший Блок, который я когда-либо тянул. Не самый крепкий физически, это да, но самый ударный в контре. Самый компактный. Мы с вами связаны, народ, не могу вам лучше этого объяснить…
— Узлом…
— Узлом, да, Сов, завязаны одним узлом из собственных кишок. Я знаю, что с вами смогу протрассировать дальше, чем когда-либо доберется мой папаша. Знаю, что с вами дойду
до упора. Я не хочу потерять ни одну каменюку из нашего Блока. Даже того же Свезьеста, хоть он еще и малость легковат для контра, даже Альму и Каллирою, хотя они как две занозы в заднице. Да даже этого клоуна Караколя, который ни черта не понимает, что такое Пак, но каким-то макаром чует все зашквалы. Я вам вот что скажу: если нас все равно размажет, так пусть уж лучше всех вместе и по ту сторону стены, чем в этом селе у крыжовников за пазухой, тут даже флаг присобачить некуда! Лучше сразу выйти, и нечего тут об этом часами кудахтать, так и досидеться можно… Ни один Трассер, у которого шарики за ролики не задуло, не взял бы на себя такой риск.
766
А я возьму. Даже если придется в одиночку протащиться через всю пургу в одном нагруднике! Я никого не заставляю со мной идти. Поэтому так, если вы сами готовы, то вперед!
Он высморкался одной ноздрей, шмыгнул носом и добавил:
— В общем так, кто за то, чтоб тут залечь, — руку вверх!
π
Голгот спрашивал наше мнение! Это было настолько невероятно, что меня это даже порядком озадачило… Он впервые так выговорился. Впервые говорил с
нами, а не со своим умершим братом, не с ненавидимым отцом, а с нами. Не могло быть и речи, чтоб я дал ему уйти одному. Он отлично это знал. Но уже то, что он предоставлял нам право выбора, пусть даже чисто теоретически, для меня и этого было вполне достаточно. С его стороны этим все было сказано — уважение, которое он к нам таким образом проявил, пусть и скупое на слова, было оттого только трогательнее. Я стал считать поднятые вокруг себя руки: Альма, Аои и Каллироя, Кориолис, Свезьест, Силамфр, ястребник, Ларко, Тальвег и Степп… Чувствовалось колебание. Десять ордийцев за то, чтобы остаться в укрытии. Наверняка недостаточно.
— Теперь кто за то, чтобы выйти? Поднимите кулак!
Десять кулаков взметнулось вверх! Мой — последний, я не хотел ни на кого повлиять своим решением. Оставались Караколь и братья Дубка, которые, по всей вероятности, не хотели никого огорчить. Сов спросил Караколя, который, пользуясь откатом, запустил свой бум. Небезопасно.
— Караколь, можно узнать, что ты думаешь?
— Да, разумеется!
— И что же?
765
— Я не знаю, что будет, если мы останемся здесь. Но знаю, что выше есть полноветровой порт. Недалеко, можно дойти.
) 
Это что, очередное видение? Такое с ним иногда случалось, всегда очень точно, как наяву, но, как правило, он доверял их только мне, опасаясь вызвать беспокойство…
— Откуда ты знаешь?
— Помню. Из будущего.
Никто толком не понял, рассмеяться в ответ или обругать его. Время поджимало. Тальвег решил отнестись к нему всерьез:
— На какой долготе твой порт, Карак?
— Десять градусов на юг.
— Придется контровать немного наискось.
— Ты серьезно, трубадур? Это не шутки, — настаивал Пьетро.
< > 
Тело Караколя, обыкновенно такое гибкое, слегка напряглось, утратив свою естественную грациозность. Светлые курчавые волосы, прибитые шквалами ветра, падали ему на лицо. На плечах — рубаха арлекина (сшитая из мириад лоскутков ткани, взятых с одежд несчетного множества людей: мужчин, женщин, ребятишек, с которыми он, как он сам говорил, «немало повидал»), слегка побагровела и топорщилась во все стороны.
— Совершенно серьезно. Порт в получасе контра, в десяти градусах к югу, с двумя драккаэро-крюками, ржавыми, но крепкими.
— Никто там не пришвартован?
— Нет, пустой. Только для нас.
— Откуда ты знаешь? — повторила Кориолис, морщась от боли, пока Альма перевязывала ей руку.
764
— Не могу вам этого объяснить. Но я прожил эту сцену. Мы там будем ждать волну, все вместе.
) 
Голгот сам помог подняться и Кориолис, и всем остальным девочкам по очереди. Поправил шлем из профилированной кожи, — настоящее чудо техники, — и повернулся к нам:
— Все, выходим, дождь скоро начнется. Слушайте сюда: контровать будем каплей! Горст и Карст, вы на прицепах вместе с Барбаком. По флангам: Леарх слева, Степп — справа. Если мы впереди рухнем, Эрг, Тальвег и Фирост — вы подпираете! Если Клинок застрянет, Пак поджимает сзади и блокирует отступ. И живо! Пока мы силенок не наберемся, чтоб снова рвануть вперед. Если Пак разнесет — лечь и ползком назад в строй, пока не заору: «Встать!». Фаркопщики, вам совет: когда хлынет первая волна, сработает рефлекс открыть рот. Мы все это уже схавали, вы точно так же вляпаетесь. Если хотите сдохнуть на месте, то идея хорошая. Если нет, закройте глотку. Это вам продлит жизнь до второй волны. Усекли?
— Да.
— И не вздумайте пытаться дышать. Апноэ, апноэ, апноэ! Начиная с секунды, как выйдем за портик, слушать только двоих: меня и Ороси!
< > 
Ороси вышла вперед. Она была стройна и красива, а жесты ее точны и изящны. Она развязала свой хаик, распустила его по ветру и затем снова завязала на ногах и руках, на животе и на груди, до самой головы; затянула маково-красные шелковые ремешки на местах, где разлеталась бежевая ткань. Она была готова. Ее волосы цвета темного каштана были причудливо забраны в гульку, в которой привольно крутилась бабеолька — шпилька с
763
крохотной ветряной мельничкой на кончике. Ороси казалась совершенно спокойной, обращаясь к нам, и только тембр ее голоса звучал непривычно жестко:
— Затяните до крови пояса и ремни: лодыжки, запястья, подмышки, вдоль бедер и по рукам, везде, где будет хлестать ткань. Шапки и шлемы — до бровей. Отрегулируйте защиту на бедрах и на голенях. Потом не будет времени поправлять. Оставьте зазор под нагрудником, чтоб не сдавливало дыхание. Пристегните рюкзаки к плечам. Закрепите все так, чтоб ничто нигде не болталось. Ярветер как сервал, он с удовольствием всадит в вас свои когти. Каждая клеточка вашего тела, что останется не прикрыта, взвоет на ветру. У кого есть — наденьте перчатки, остальные бегом к Альме, чтобы она забинтовала вам руки. Ни в коем случае не вдыхайте напрямую, только через ткань или к ветру спиной, если сможете. У нас будет восемь секунд, пока волна докатится и обрушится на нас. Описывать не буду, вы сами ее узнаете. Когда это случится, если, конечно, мы успеем к тому моменту привязаться, постарайтесь защитить голову и молитесь, кому захотите, если еще будете в сознании. У нас в запасе полчаса сламино, потом снова начнутся шквалы, будут нарастать короткими залпами, крещендо. Ветер поднимается невыносимый, по позицию нужно будет держать все время! Волна ярветра, как правило, накатывает после легкого замедления. По моим подсчетам и наблюдениям, их всего будет три. Вторая будет самая жесткая.
— Что делать, если окажешься один? — отважился спросить Свезьест.
— Ложись.
— Ногами к верховью или нет?
— Зависит от бугристости почвы, от уклона, от твоего веса, от волны… Всего существует четырнадцать типов
762
точно классифицированных волн. Ламинарные, рваные, катящиеся, пенящиеся, циклонические, засасывающие, с воронкой или без, вращательные или линейные, с эффектом спина или всасывания…
— И с чем мы… рискуем столкнуться?
— По идее, с худшей, с пенящейся. С ярко проявленной циклонической турбулентностью, уймой воронок и наверняка с хронами.
— И что это значит… для нас?
— Ничего, Свез. Тебе физиономию скрутит, как белье на выкрутке. Шучу! Это все не точно.
) 
Альма как раз заканчивала перевязывать руку Кориолис, у которой лицо побелело от услышанного. Мне хотелось ее как-то успокоить, но ничего не приходило на ум. Этот ярветер мне сильно не нравился. Земля никуда не годится, судя по физиономии нашего геомастера Тальвега, а это ничего хорошего не предвещало, да и от шума у меня уши скручивало, а Силамфра, нашего меломана, всего прям морщило. Он даже решил достать свой кожаный фиксирующий воротник и еще один дал Свезьесту. К тому же мы запаздывали. Я начинал бояться, что мы выйдем слишком поздно… Все мешкали… Наконец Кориолис поднялась, бледность немного сошла с ее лица, и она решилась на последний бой:
— Здесь у всех сегодня цель отправиться на тот свет? Вы слышали, что сказала Ороси? Нас ждет самое худшее! Так почему не остаться здесь? Почему? Вы что хотите доказать? А?! Кому? Вы мое плечо видели? Мы сдохнем все!
Ω 
Тебя уж точно девственности лишит, красивая моя…

761
x 
Я подошла к Кориолис и обняла ее. Ларко посмотрел на меня с завистью. На расстоянии можно было почувствовать, как сильно он хотел бы оказаться на моем месте.
— Почему не остаться здесь, за стеной, Ороси? — повторила она.
— Потому что стена рухнет под ударной волной раньше, чем сам вал докатится сюда.
— А деревня позади нас?
— Деревня, которая была позади нас. Нет больше деревни.
— Ее снесет? Все эти люди, они…
— Все циклонические признаки налицо. Там посрывает крыши, дома затянет турбулентным вихрем в центрифугу. Ты должна быть готова. Я сама тебе перевяжу голову, когда пора будет выходить. Будешь контровать прямо за мной, в Паке. Не надо бояться раньше времени. Просто делай то, что я тебе скажу, ровно в тот момент, когда я тебе скажу.
) 
Снаружи нас ждал буш, опустошенный и прекрасный, в своем наряде из красного латерита. Несколько пустынных дубов слегка прочерчивали курс контра. В остальном царил хаос. Холмы вокруг были хилые, дюны ненадежные. Их подорвет ярветром, как на мине. Равнина изрезана бороздами, по которым в более милосердную погоду идти было бы легче. Сегодня же они были смертельно опасны и вскоре превратятся в русла песочных рек. Голгот двинулся решительно, почти бегом, выбрал осевой гребень хребта и потрассировал. Почва под опорными была достаточно твердая, но слишком холмистая, и фаркопщикам несладко приходилось на буграх. Пьетро и Эрг время от времени отделялись от строя и отходили назад помочь им, но еще немного, и продолжать так станет
760
невозможно. Нужно было действовать быстро, постараться пройти как можно большее расстояние, пока еще дует сламино. Эвкалипты гнуло пополам так, что страшно было смотреть, некоторые верхушки разрывало на части под порывами ветра. Арваль, наш разведчик, который шел в сотне метров впереди, сделал знак, и Голгот резко нырнул в овраг, потянув нас за собой…
— Держаться правого борта! Труп по курсу! — заорал он через пятьдесят метров контра.
— Правый борт!
— Не останавливаться, он уже мертвый!
Какой-то человек лежал на боку. Я с полувзгляда понял, что он еще был в сознании: у него еще не потух взгляд. Но это ненадолго: чуть повыше колен у него хлестала кровь, на плечах и бедрах искромсало кожу, а свежие раны уже залепил песок. Эрг, который шел позади меня, — недаром он был нашим бойцом-защитником, — отцепился от строя, чтобы его перевернуть, прощупать кости и соскоблить ножом песок с ран.
— Ну что? — крикнул Голгот через плечо, ни на секунду не приостановившись и не сомневаясь, что получит ответ.
— Это Диагональщик, пират скорее всего! Наверно, вышвырнуло из буера, а потом протащило блаастом. Они на своих двоих и шагу продержаться не могут, если колеса отобрать. Судя по татуировке, он из банды, можем наткнуться на других! Обрубить его?
Вопрос был чисто формальный. Я сделал несколько шагов вперед, чтобы проложить хотя бы мысленную дистанцию между звуком, который сейчас раздастся, и собственными ушами. Но недостаточно быстро. Глухой удар молотка ровно по гребню затылочной кости пригвоздил реальность: Эрг его обрубил.
759
— Нужно будет поосторожнее с самой тележкой, она, скорее всего, застряла где-то в овраге…
— Если ее еще не унесло…
— Ложись!
π 
Вся Орда вмиг бросилась наземь. Из-за поворота выскочила тележка велесницы и понеслась прямо на нас, перекашиваясь с борта на борт, осколки свистящих камней разлетались во все стороны, она влетала то слева, то справа в стенки оврага, пока не врезалась в выступ скалы, и десяти метрах от нас. От удара подлетела на метр вверх и приземлилась прямо за прицепом. Нам чертовски повезло… Мы отдышались пару секунд и снова встали на ноги.
— Арваль! Предтрассировка! Арваль!
— Что?
— Оставайся впереди в поле зрения! Выкинешь белую тряпку, если что опасное!
< > 
Как только Арваль вышел из Пака, я сразу лишилась защиты, то и дело оказываясь в воле полного ветра. Было холодно, мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что меня постепенно протыкают наголо, прошивают волокна моего тела. Штаны полоскались на голенях, ткань стягивало на рукавах, вокруг шеи — для такой скорости ветра одежда вообще никогда не бывает достаточно плотной, достаточно непроницаемой. Я завидовала кустарникам, тому, как они отводили между ветвей пространство, чтобы пропускать особенно крупные хлопья воздуха… С самого детства меня преследовала одна и та же дурацкая мысль: в такие моменты мне всегда хотелось стать самшитовой изгородью, а не этим парусником из кожи, что трепещет поперек потока, этим распластавшимся голым
758
стволом, у которого даже корней нет, которыми можно было бы привязать себя к земле…
Дождь, которого мы так боялись, обрушился на овраг внезапно. Я чувствовала, как шары воды взрываются на лбу и оставляют темные круги на одежде… Почти тотчас ливень превратился в потоп, капли стали настолько плотными, а ветер мощным, что на несколько секунд я застряла на месте, словно камень на дне реки, что соскальзывает под напором воды. Тело сносило назад, внутри все сводило от страха, что меня сейчас вышвырнет…
—
Ривек Дар, Арваль!
По команде Голгота Арваль вернулся в Пак, я опустила голову, все сжались вместе, не сговариваясь, без криков и ненужной болтовни, простой животный рефлекс стада в упряжке. В одиночку никто из нас не справился бы, даже Гот, мы были всего-навсего передвигающейся кучкой хрупкой плоти, спаянные вместе как попало, готовые развалиться в любой момент, отколовшийся брусок дерева, что вот-вот расщепится от порыва ветра, горсть опилок, на которую чуть дунь — и она разлетится. И всем это было ясно, особенно Пьетро и Сову, которые большую часть времени контровали спиной к дождю, повернувшись к нам лицом, чтобы голосом и жестом как можно лучше скрепить и сам Клинок, и Клинок с Паком, и Блок с фаркопщиками, задать позицию, ритм, — и для этого достаточно было простого взгляда, доброго слова, капли любви.
π 
Все превратилось в сплошное месиво. Латеритная глина ничего не впитывала. Голгот вытащил нас из оврага и снова отправил Арваля на разведку. Он лавировал, забирал как можно шире, но ничего не мог сделать с грязью, что налипала на шипы обуви. Дождь усиливался. Ветер ускорялся. Мы ругались в куче мокрой глины. Насквозь
757
промокшая одежда липла к коже. Время от времени мне еще удавалось открыть глаза, и я с трудом разглядел рельеф: зеленые шары спинифекса кое-как материализовали пространство вокруг. Мы врезались в них, извивались между ними, натыкаясь на их иглы. Светлые пучки, четко различимые на порыжевшей земле, поблескивали, прибитые порывами ветра… Вокруг все было серо, туманно. Голгот трассировал приблизительно на восток-юго-восток, вел нас по кромке хребта, по склону бархана, искал проход навстречу ветру…
— Бродяга на 9 часов!
— Эрг, приготовиться!
— Пусть подойдет поближе, Эрг. Он ранен!
) 
Показался силуэт, согнутый почти вдвое, исполосованный дождем. Его шатало, ливень раскачивал человека из стороны в сторону долгими шлепками и ударами… Он рухнул, с трудом приподнялся на одно колено и снова тяжело повалился наземь, головой вперед, оглушенный, как пьянчуга к концу попойки. Попытался было ползти, но, находясь к ветру спиной, естественно, никак не мог предугадать, когда налетит порыв, крытень несчастный… Повернись лицом! Голгот ни на йоту не отклонился от курса, но сделал мне знак выйти из Пака, глянуть, что с бродягой. Тем временем парень нашел себе полоску грязи и, счастливый, влез в нее весь целиком… Увидев, что я приближаюсь, он потянулся к поясу за бумерангом, но я успокоил его, разведя руки. От плотности ливня я толком не мог выговорить ни слова и заикался:
— Вы так далеко не уйдете, повернитесь лицом к ветру!
— У меня сломалась мачта на велеснице… у всей эскадры переломались…
— Вы из Диагональщиков?
756
— Да… Но не из грабителей… Мы кочевые золотоискатели… шли ставить сети на ось Беллини… Попали в самую бурю…
Парень отвечал мне, стоя на коленях. По его волосам текла жирная грязь, дождь смывал с него кровь, светло-красные струйки стекали вниз от локтей.
— Вы ищете деревню?
Он качнул головой:
— Вы знаете, где она? — спросил он так, словно у него комок из горла выскочил.
— В получасе книзу.
Парень вытаращил обрамленные грязью глаза. Несколько долгих секунд он смотрел то по направлению к низовью, то на Орду, которая продвигалась к верховью, таща за собой по мокрой глине сани, исчезавшие в потоках ливня, по мере того как… Он заставил меня повторить «книзу» дважды. Он явно ничего не понимал. Да и кто бы понял?
— Но, а вы? Вы-то куда идете?
— Выше.
Парень снова замолчал, не в состоянии подняться.
— Да вы вообще кто, черт возьми?
— Орда.
— Орда Встречного Ветра? Орда девятого Голгота?
— Да.
Он задумался, насколько это в принципе было возможно в его состоянии. Потряс головой, совершенно сбитый с толку, наскоро перекрестился, хотел снова переспросить, — это было слишком для него, он никак не мог въехать, но потом все же сообразил:
— Я могу пойти с вами?
— Держись плотно за мной, как можно ближе. Когда вклинимся, я вернусь вперед, на свою позицию в Клинке,
755
сразу за Голготом. А ты станешь между фаркопщиками, сзади. Но смотри: услышишь «Ложись!» — не тормози, ныряй на землю. Ясно?
— Спасибо.
Мы с трудом догнали остальных: мне не раз пришлось тянуть его за собой, то тащить на холм, то спускать, у него были неправильные опорные, плохая интуиция на залпы, и он, по всей видимости, был уже на пределе сил. Когда я вернулся на свое место в Клинке, то пожалел о своем решении: он будет мешать фаркопщикам, которым и без того тяжело. Ни братья Дубка, ни Барбак не произнесли ни звука, когда золотоискатель стал в строй… Мы теперь шли вдоль линейного леса, под сбивающим с курса ветром, теряя равновесие от бесконечных закручивающих и боковых порывов. Интенсивность потока была такая, что Голгот чуть ли не каждые полминуты орал: «В цепь!». «В цепь!» — и мы тотчас же сжимались, цепляясь друг за друга руками и поясами. «В цепь!» — и сплоченный фундамент делал свое дело: порыв проносился над нами, не найдя прорехи, через которую можно было бы нас разъединить. Мы сливались в один единый блок. Мы были единым блоком. Неприступным. Неустранимым. Уцелевший, там, сзади, наверняка ничего не понимал в происходящем, но он следовал за остальными, держался, протягивал руки, орал вместе с нами «Блок!», когда слышал «В цепь!». И…
— Ложись!
… взрыв: холм впереди нас разнесло в воздухе на песчинки ударом блааста. Смесь песка-латерита оросила плечи и спины. Когда я, весь в земле, наконец нашел в себе силы подняться, то констатировал две вещи: фаркопщиков отбуксировало санями назад на несколько метров, но они были целы. А вот Диагональщик не лег, во всяком случае не вовремя…
754
— Сов, оставь его!
Но я не мог его оставить, теперь или в принципе — не знаю, но не мог. Я вернулся на добрую сотню метров назад. Ветер дул в спину, вмиг промокшую от дрянного горизонтального дождя. До исподнего, до самой кожи. Разлетевшийся от взрыва песок снова образовался в холм, плоский и длинный, растянувшийся на несколько десятков метров, на этот раз уже в низовье. Я добрался до холма и стал высматривать, не выступает ли что-то из пригорка. И нашел. Парень был теперь просто куском земли, ни более ни менее того. Все горло и рот у него были забиты кусками…
— Брось! — послышалось откуда-то. — Ты сделал все, что мог.
Голос прошумел в нескольких шагах от меня: Пьетро, разумеется.
— Возвращайся назад в Клинок. Нужно трассировать дальше.
… горло, забитое кусками подбородка.
И это был не последний из их банды, кого мы встретили. Навскидку, всего человек пятнадцать, в поисках деревни или укрытия, захваченные врасплох, сброшенные с перевернутых велесниц, вынужденные с ходу противостоять тому, чему недостаточно было бы посвятить целую жизнь. Мы, в общем-то, не были физически сильнее их, но мы были блоком, на каждой позиции у нас стояли самые лучшие, ну или почти, по крайней мере самые крепкие морально, не говоря уж об опыте и о повседневной жизни, настолько безраздельно отданной ветру и остервенелому контру, что отдать концы из-за какого-то там порыва больше не маячило на горизонте наших планов. Да, я видел, как они проходят мимо, но, несмотря на расплывавшиеся пятна крови на их коже, золотоискатели не вызывали у меня особых эмоций, настолько они себе более
753
не принадлежали. Под равнодушными взглядами наших полузакрытых глаз они шли куда ветром занесет, истекая по дороге кровью, как куклы, у которых через дыры высыпаются опилки, а коленки вот-вот вывернутся наизнанку. Некоторых мы окликали, многих других — нет. В любом случае ни один из них и десяти минут не продержался бы в наших рядах, в нашем темпе, не смог бы встроиться в дисциплину, ставшую инстинктом, стать частью силы… Силы? Но что эта сила по сравнению с тем, что нас ожидало? Ее было достаточно, чтобы пустить пыль в глаза какому-нибудь неофиту, продержаться при нынешней скорости, с которой мы еще в состоянии были совладать, когда хорошего сцепления и мгновенных «Ложись!» хватало, чтобы предотвратить опасность. Но что потом?
— В пешей доступности, говоришь, Караколь?
— Ага! Мили две, наверное.
— Скоро вплавь придется, если так и дальше пойдет.
— По моему компасу, курс верный.
— Девочки, вы как?
— Нормально, Ларко!
— Кориолис? Как рука?
— Промокает. Больно.
— Мне тоже больно: но это когда я вижу, как ты улыбаешься.
— Придурок, иди давай!
— Осторожно!
π 
Сокольник сорвался, сбив с ног Степпа и Аои, но молча поднялся и вернулся на свое место в крыле. Его искусно скроенная одежда была вся покрыта глиной. Это оказалось не последнее падение в строю, пока Голгот, дико сосредоточенный, натянутый как трос, не учуял наконец выход на ровную поверхность, отчего нам всем сразу
752
стало легче. Особенно фаркопщикам, которым доставалось больше других, но они даже не заикались жаловаться. Кориолис и Свезьест в жизни бы с такой задачей не справились: тянуть промокшие сани, в таком темпе да по такой местности, было под силу только нашим близнецам Дубка — невероятной все-таки мощи ребята. Да и Барбак был на уровне, теперь всем в полной мере стало ясно, насколько незаменим его опыт буксировщика.
) 
«Связанные», сказал Голгот. «Связанные собственными кишками». Нет, это я ему это сказал не так давно. Удивительно, как некоторые слова пробивают панцирь и вклиниваются внутрь, чтобы некоторое время спустя выйти наружу уже присвоенными. «Сцепленные». Мы никогда не поймем, на чем это зиждилось. Я то и дело оборачивался, ища глазами Аои, мою маленькую капельку, такую легкую, подрагивающую от дождя; высматривал поверх плеча Каллирою, рыжеватое пятнышко, такую же хрупкую, похожую на огонек пламени, который вот-вот задует от малейшего порыва ветра; просил, чтобы присмотрели за Свезьестом, который шагал так далеко позади, что мне его было не разглядеть. Я все время что-то говорил, подхватывал за Пьетро, когда тот подбадривал всю группу. Он, как всегда, был безукоризнен, он никогда и ни при каких обстоятельствах не выходил из себя и без малейшего бахвальства всегда оставался для нас князем. И на словах, и на деле. Благодаря ему наша Орда и держалась, да и сдерживалась тоже, невзирая на Голгота и его вспышки гнева.
π 
Дождь совсем прекратился. Песок высыхал с немыслимой скоростью. Куда ни глянь, ни единого следа порта. Я начинал сомневаться. Я действительно начинал сомневаться, что нам стоило верить Караколю. Я опасался
751
худшего. С неба упали первые медузы: мы наткнулись на нескольких огромных, развороченных, прямо на земле, — значит, ветер уплотнялся и на высоте. Но Голгота это не заставило проявить ни малейшего колебания. Он сказал нам привязаться друг к другу шеренгами и строго по компасу следовал по курсу за видением Караколя. Он больше не осторожничал, все равно не было видно, куда трассировать. Воздух вокруг был оранжевый, тягучий. Поток крупинок потрескивал, ударяя по торсу, молотил по голове. Мы натянули кожаные подшлемники и приоткрывали глаза, только когда напор немного стихал. Нужно быть готовым нырнуть в любой момент, если пойдет волна. Я отыскивал глазами малейшие выступы скал, любую впадину, в которую можно залечь. Быть начеку, быть готовым, если рванет… ничком на землю.
— Можно отсидеться здесь!
— Где здесь?
— Тут, справа, за камнем!
— Да тут и втроем не поместишься!
— Нужно идти вперед!
— Все будет хорошо, камыши. Порт уже совсем близко!
— Да в жопу его! Мы до него все равно вовремя не доберемся! Нужно залечь!
— Всем оставаться в строю! Плотнее давайте, забейте дыры.
— Аои на грани… держите ее хорошенько…
— Вот еще углубление! Это подойдет! Голгот!
— Да он тебя не слышит, Леарх! Он тебя вообще никогда не слышит.
— Заткнитесь там, в Паке!
) 
Мой голос их по итогу все же успокоил. Немного. В контржурналах, которые мне доводилось читать во
750
время учебы на скриба, ярветер всегда занимал особое место. Он являл собой активный и непредсказуемый образ смерти. Все Орды сталкивалась с ярветром, некоторые по семь, а то и по восемь раз, и каждый скриб, в меру своих возможностей и знаний, старался извлечь из этого урок, который мог бы спасти последующие Орды. Уроки эти были странные, порой безумные, но чаще — глубокие и здравые. И все они так трогательно протягивали в будущее эту тонкую нить, этот дар на кончиках пальцев. Так, словно даже будучи уничтоженной, раздробленной на части, Орда все равно хранила в себе надежду, вросшую в собственную веру, надежду, что хоть одна из них, когда-нибудь, однажды, потом, дальше — быть может? — на целые столетия вперед в будущее, благодаря совместным подвигам всех Орд, достигнет наконец Верхнего Предела и что тем самым оправдает навсегда их общий путь, чем бы ни закончилась история каждой из них. Ни одному застеночнику, ни одному Фреольцу не понять силы этой связи. Именно она заставляла нас вставать каждое сотворенное Ветром утро. Благодаря ей мы выстаивали под градом, под обдирающим кожу дождем, под струями стеши, не покачнувшись, не разомкнув цепь. Именно она никогда не даст нам отступиться, чего бы нам это ни стоило, потому как мы не одни, за нами всегда идут наши почтенные, ушедшие в небытие предшественники, которых мы будем чтить до самого конца, не потому что их настигла смерть, пусть даже как героев, а потому что в них жил этот дар, эта безумная вера в нас, которой они наградили потомков, не зная, кто мы, не представляя наших лиц, не ведая, каков будет наш личный путь. Но одно они знали наверняка, как знаем это и мы: умереть может только сам ордиец, но не его дух борьбы. Нам достаточно будет взглянуть на высунувшуюся по ветру морду горса, увидеть, как
749
куст выстаивает под порывом ветра, и нам тотчас, инстинктивно, станет ясно, откуда дует отвага. «Жив только тот, кто встает и идет навстречу. Никогда не стой к ветру спиной, разве только, чтобы отлить» — гласил контржурнал 19-й Орды. Мы вышли из Аберлааса, Нижнего Предела, двадцать семь лет назад. Нам было всего одиннадцать. И с тех пор мы ни разу не возвращались назад.
< > 
На нас обрушилась настоящая песочная река. Мы отсюда не выберемся! Никаких шансов, слишком поздно. Даже если порт в ста метрах, даже если в десяти, мы его все равно не найдем. Может, мы вообще его уже прошли… Может, он остался позади. Справа, мне показалось… А может слева, кто его знает? Как мы его найдем, во имя Святого Дуновения? Паника неудержимо разрасталась, у меня в животе все сводило, я прижалась к девочкам, оперлась на Альму…
— Сомкнуть Клинок!
— Что?
— Держать! Держать!
— Резче! Блок! Блооооок!
x 
Клинок увалило под ветер от напора. Ускорение было настолько мощное, что фланговиков механически прибило в середину Пака, но они старались держать ряд, чтобы защитить заднюю часть строя. Сов одним рывком встроился на место и весь выгнулся дугой. Пак зафиксировал опорные и весь подтянулся, сомкнув ряды. Но надолго ли? Плотность воздуха перешла от жидкого к полутвердому состоянию. Каждое колыхание било по блоку, как кувалдой. Расшатывало его. Сокольника снова выбросило. Он ползком вернулся назад, встал и снова повалился.
— Дарбон, цепляйся!
748
Сзади сани оторвало от земли и стало швырять во все стороны: било друг о друга, перекручивало, колотило вовсю…
— Отцепите сани! Бросайте все!
— Нет!
— Бросайте!
— Нет! На них шлемы и птицы!
Братья Дубка зацепили сани карабинами прямиком за свои ремни, и теперь все тридцать килограмм снаряжения болтались у них за спинами.
— Помогите Леарху! Подстрахуйте его сзади!
— Он держится!
— Держите, его кренит! Его сейчас оторвет!
) 
К этому моменту сама земля стала подниматься пластами. То, что на нас неслось, больше не имело никакой формы, только цвет — краснокирпичный, и звук — звук ледяной горной реки в разливе. Четырежды Голгот давал команду лечь. Четырежды поднимал нас на ноги. Никто из Пака не в силах был контровать дальше, но его голос, его ярость тянули нас вперед. Можете сколько угодно поносить Голгота, если хотите, но никогда не делайте этого в моем присутствии. Он без устали следил, не сбились ли мы с курса. И мы не сбились. Наступил предел, когда оставаться на ногах долее было невозможно, и мы стали пробираться на четвереньках, оглушенные песком и осколками камней, ослепшие под кожаными шлемами и шапками, с обмотанными головами, в джутовых подшлемниках, которых хватало, чтоб амортизировать абразив, но не ударный шок от блааста.
Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша в свирепствовавшем линейном
747
потоке, близившемся к апогею; ветви гнулись сквозь кирпичную занавесь, немыслимые предметы продырявливали завесу пыли: из ниоткуда выныривали воздушные винты, ведра, разорванные сети, какие-то мешки. Все то, что считало себя в силах противостоять ветру, лишь теперь понимало тщетность этой попытки; все то, что было уверено в тяжести своего веса и что на поверку всегда оказывалось недостаточно тяжелым — будь то каркас аэроглиссера, который сдвигало метр за метром, или призрачная велесница без пилота, с заклинившим парусом, что промчалась в двух шагах от Леарха и теперь безразлично неслась к низовью.
— Там!
— Что?
— Там, справа!
— Кто-то что-то сказал?
— Силамфр говорит, что там по правому борту!
— Что по правому борту? Не видно ни черта!
— Слушайте! Внимание!
Я сначала подумал, что Силамфр бредит, настолько рев метели снова заполнил все слышимое пространство. Но какой-то короткий стон, тонкая мелодическая жилка, едва ли различимая на кромке слуховой чувствительности, как извилистый шлейф уходящего сна, вырвался изнутри ревущего столпа. Это была не музыка, не шум, не голос, ничего подобного, но оно становилось то громче, то тише, перемешиваясь с невыносимым, ужасным рокотом, разрезая его, всплывая на поверхность и вновь ныряя.
— Силамфр, что это?
— Вы слышите?
— Еле-еле. Что это?
У меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло, когда до меня дошло, и я охнул: да это же фареол! Фареол порта!
746
Ветряная сирена, которая указывает судам путь в непогоду!
— Точно он!
— Твою мать!
— Контруй крабом! Забирай правее! По земле! Сов, Пьетро, Степп, Тальвег, Эрг — на ребро атаки со мной! Пак — за нами! Подстроимся под фронтальную волну и будем скользить!
Под напором ветра мы все рухнули, но снова поднялись и немного проскользили, совсем чуть-чуть, пока нас не разметало в разные стороны. Но мы ползли изо всех сил, — наполовину увязшая в песке бродячая вереница, мы все равно оставались вместе.
С большим трудом, но нам с Голготом и Пьетро все-таки удалось разглядеть что-то наподобие канала, через каждые пятьдесят метров размеченного продырявленными скалами. Это были звуковые керны! Те из них, которые еще не совсем забило землей, свистели, прокладывая путь к фареолу. Мало-помалу, как потерпевший крушение корабль в поисках дороги к порту, мы продвигались на юг, левым галсом, карабкаясь на локтях в открытых местах, пускаясь бегом на защищенных от ветра участках, цепляясь за уханье вешек, как за ночного проводника, что несет затухающий огонек.
Когда канал кончился, перед нами предстала сирена фареола. Одинокий, никем не чаянный рожок посреди тумана, играющий для самого себя в необъятной пустоте буша, он манил нас к себе, и пусть в нем не было ничего живого, но в этот миг он стал для нас роднее матери, дороже всего на свете. Мы не знали, в какой порт попадем, но бросились навстречу этому зову, этому тоскливому и неотложному запеву, когда шквалом нас отбросило на склон.

745
x 
Я на ощупь отыскала стену дамбы, присела, опершись о нее спиной, и приоткрыла глазную повязку, чтобы как можно точнее проанализировать местность. По легкому затишью поняла, что до волны оставалось всего две минуты. Дамба, в четыре метра высотой и в десять шириной, была построена из нагроможденных друг на друга гранитных блоков, посреди которых — Караколь оказался прав — торчали два швартовых крюка. Котловину, в которую вписывался порт, очерчивал острый хребет, метрах в шести от нас. Под ногами были плиты, покрытые толстым слоем песка. Сомнений не оставалось: это полноветровой порт, недостроенный и едва ли защищенный от потока.
— Достать шлемы и канаты! Заблокировать сани, закрепить их за крюки.
Впадина была овальной формы, с небольшим уклоном кверху и резким книзу. Я наблюдала за течением ветра. Время от времени катабатический поток нырял, отскакивал от плит, долетал до заднего холма и вырывался из дамбы. С волной будет совсем по-друтому. Отражение от ударной волны сначала отбросит нас на дамбу, а затем нас засосет вверх круговоротом.
— Построиться в каплю, семь рядов! Отступить пятнадцать метров от дамбы и привязать к ней Голгота.
— Какие на фиг пятнадцать метров? Мы же выйдем из защищенной зоны. Я не хочу получить волной по морде! Нужно приклеиться к самой дамбе, иначе не выберемся!
π 
В реакции Ороси не проскользнуло даже намека на раздражение. Эрг повернулся к ней спиной и натянул свой стальной шлем. Когда он обернулся, то вид его впечатлял
744
еще сильнее, чем обычно. Снова раздался голос Ороси. Она была по-прежнему сдержанна и красива:
— Пятнадцать метров, Эрг. Иначе тебя о дамбу размажет.
— Как бы не так!
— Ответная волна, Эрг.
x 
Канаты размотаны. Я проверила дистанцию: пятнадцать метров, все в порядке.
— Восемь канатов, по четыре на каждое кольцо. Прямое крепление: Голгот двумя канатами, затем Сов и Пьетро, Эрг и Фирост, Горст и Карст. Каждый цепляется за своего соседа карабином, сначала по рядам, затем спереди и сзади. По две точки крепления спереди. Держитесь на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Почему не сомкнуто? Чтобы оставить место для потока, он будет гранулярный.
Напор ветра чуть стих: скоро волна. Я бегом заняла свое место в середине Пака. Карабины наготове. Карст слева и Альма справа пристегнули меня к своим поясам. Я схватила концы ремней ястребника и Степпа впереди себя и завинтила кольцо. Затем услышала, как за мой ремень сзади защелкнулся Ларко. Но не Караколь…
— Караколь? Зацепись!
— Караколь, ты куда?!
— Он с ума сошел!
— Держите его!
) 
В то время как Орда геометрически, нервными маленькими шажками выстраивала свои ряды, как тяжелые, полностью закрывающие лицо деревянные и стальные шлемы надевались на головы тех, кому каркас позволял выдержать вес не согнувшись, Караколь вытворил нечто
743
неслыханное: он выскочил из Пака. Онемев от такого безумства, я только смотрел, как он разбежался, мигом вскарабкался по стене дамбы, буквально взлетев наверх, подпрыгнул на верхнем бортике и приземлился на колени, воздев руки в контражуре, с физиономией, расплющенной под потоком несущейся на него земли. На мгновение он показался мне совершенно прозрачным под этой струей. Я хотел ему что-то крикнуть, но было слишком страшно, слишком много ужаса в легких, чтобы… Да он уже и сам обернулся… соскользнул по склону, одним коленом вперед, изображая реверанс… После чего открыл рот, выталкивая из живота достаточное количество воздуха, чтобы продекламировать фразу, смысл которой теперь, с оглядкой на прошлое, кажется мне бесконечно прекраснее, нежели в тот самый миг:
— Ярветер, идущие мудреть приветствуют тебя!
Спрыгнул на землю, словно кот, занял свое место и зацепился…
x 
Канаты заскрипели, и вся Орда разом отпрянула назад. Было слышно, как идет волна. Восемь секунд.
) 
Можно было четко различить момент, когда ветер перестал свистеть и перешел на совершенно нечеловеческую скорость, невыносимую даже для камней и кустов. Звук лишился своей острой чеканности, вышел из пятой формы и превратился в то, что, однажды услышав, ни один ордиец не сможет стереть из физической памяти, этот жуткий факел из соскобленной земли, что назывался ярветром. По прокатившемуся грому ударную волну слышно было за сотню километров к верховью. И, хоть я и не был новичком, хоть это и был пятый ярветер на моем счету, холодный ужас разлился по моему позвоночнику и в
742
тот же миг, — моментальный рефлекс, с которым невозможно совладать, который невозможно приобрести…
— Осторожно!
— Твою мать…
 (обратно)
(обратно)
II
ХРОНЫ
¬ 
Те, кто вам скажет «я во время волны думал о том-то и о сем-то», — соврут. Во время волны не думаешь. Во время волны не помнишь, чего хотел, о чем мечтал, на что считал себя способным. Одно только тело дает отпор. Как может. Оно испражняется, мочится в штаны. Проглатывает собственный рот, вместе с зубами, как кусок мяса. Сжигает в судорогах сухожилия, пытаясь удержаться за ремень. Обливается слюной. После каждый может рассказывать, что захочет, рассусоливать, толковать, раскалывать словами эту глыбу неотесанного страха… Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками, сейчас или через недельку, но я вас вижу насквозь, вас, отсидевшихся в удобненьких укрытиях, с порозовевшими под конец вечера личиками, под краснощеким солнцем, поблескивающим в ваших стаканах, в ожидании, пока вам расскажут, пока отполируют перед вами груду подвигов, что я хотел бы вам сказать о ярветре… Но хватит трепа. В ярветре не говорят. В ярветре пытаются выжить, пока он молотит тебя в самый лоб, потому что он не обволакивает и не «поглощает» или каких вы там еще слащавых словечек понапридумывали, он бьет как убойный молот,
740
в самые трещины костей. И здесь одно дело — держаться, когда ударом голову срывает с плеч. Держаться и больше ничего. Именно это я и сделал, все. Меня чуть не перерезало ремнем напополам.
— Вы как?
— Уфррр…
— Все целы? Есть раненые? Отвечайте!
x 
Изо всех щелей раздавался фыркающий рокот. Мы, словно звери, извивались и отряхивали после ливня свои шкуры. Впадину еще время от времени промывало дождем, раскидывая песок; пара красных вихрей свистели на бровках котловины, опадали и растрепывались на новые, поменьше, но самые крупные воронки были уже позади. Близилась передышка, где-то на полчаса, главное только, чтобы хроны не стали формироваться в турбулентности кильватера. В общей сложности все прошло, как я и предполагала. Всегда есть надежда на лучшее, как говорится, хотя пронесло на волосок. Но худшее впереди, его принесет со вторым валом.
— Ороси… Ороси! Что это было?
Аои легонько потрясла меня за плечо. Лицо у нее было светло-зеленое. Она размотала свой тюрбан, чтобы вдохнуть немного воздуха, но краски еще не отважились вернуться на ее лицо, омыть прелестную кожу, мягкую и свежую, как ни у кого в Орде. Даже в этом полном помешательстве Аои удавалось сохранить присущую ей грациозность и детскую легкость.
— Ты правда хочешь знать?
— Да, я хочу понять, что с нами произошло.
— Видишь выступающий гребень, там, на хребте?
— Да.
— Поток отскочил от ребра гребня и ударил в самую середину Пака, как раз там, где были мы. Впереди давление
739
было относительно низкое, и их засосало к дамбе, в то время как для задних рядов давление было максимальное. Волна отбилась от земли, поднялась и врезалась со всего размаха в заднюю стенку котловины.
— Я слышала взрыв…
— Это ударная волна, она отразилась сзади за нами, с вращательным эффектом из-за округлой формы впадины. Из-за перепада
давлений мы к тому моменту уже не касались ногами земли, и контрволна катапультировала нас в воздух. Если бы не канаты, нас бы унесло прямиком в облака!
— А потом что случилось? Нас битый час крутило в воздухе, я чуть сознание не потеряла! Что это было?
— Нас болтало между ярветром и турбулентным буруном ответной волны. Судя по канатам, весь треугольник Орды повернулся вокруг собственной оси дважды, а затем рухнул вниз.
< > 
Она все предусмотрела. Как же я ею восхищалась.
— Ты знала, что так будет. Это благодаря тебе мы все еще живы.
x 
Она поцеловала меня в щеку. Да ничего я не знала, Аои. Я эмпирически постаралась уравновесить основную и ответную волну, недооценив разницу в давлении, и, что самое страшное, я даже представить себе не могла, что наша двухтонная гроздь из человеческой плоти будет парить в облаках, как воздушный змей на веревочке. Что бы сказал на это мой учитель? Аэроси, есть ли в таланте доля удачи? И затем, с подводящей итог улыбкой, добавил бы: «Удача — союзник мимолетный и смертоносный. Он может убить тебя с той же легкостью, что и спасти. Умей свести этого хищника до размеров котенка. Очерчивай
738
турбулентность. Лучшие аэромастера гладят котенка и играют с ним клубочком ниток. С котенком, Аэроси, не с тигром».
— Есть раненые? — прорычал Голгот.
— У Кориолис сломана лодыжка.
— Вывихнута или сломана?
— Сломана.
— Дерьмо собачье…
— Нужно ее привязать прямиком к кольцу вместе с санями. Кто еще?
— У близнецов кровь хлещет во все стороны!
— Мы в порядке, все нормально, это просто песок!
π 
Близнецы смеялись. Эти двое и с переломанными ногами хохотали бы. Они мерились ранами, метили в них песком. Они вообще никогда не унывали, ничего не боялись. Горст и Карст. Карст и Горст. Ка-Го. Два щекастых детины. Неотделимые, неразъемные, лучшие фланговики, которых только можно себе представить.
— Кто-нибудь еще?
— У Свезьеста плечо вывихнуто. У Ларко бедро разодрано!
— И Силамфр!
— Что с ним?
— Предплечье сломано!
— У Леарха деревянные осколки в груди.
— Легкие задеты?
— Нет, но ему сильно досталось.
— Аои, займись им! Альмы на всех не хватит. Это все, остальные в порядке?
) 
Да, это все. Почти все мы были в состоянии шока. Я был совершенно разжиженный, оглушенный, ключи-
737
ца изодрана кремнеземом прямо через толщу одежды, шейные позвонки скрежетали, как галька под кожей. Но я молчал. Поразительно, насколько наши страдания порой упираются в неспособность ими поделиться. Как бы близок я ни был по состоянию к Силамфру, я бы ни за что не осмелился поднять руку, пожаловаться (я чувствовал себя почти уютно в своих ранах, не так уж сильно мне досталось, можно считать повезло, остался почти цел). Никто здесь до старости не доживет, можете мне поверить, позвонки в первую очередь сдадут, если их и дальше так гнуть и вертеть со всей дури. Я в какой-то момент подумал, что у меня сейчас тело повернется вокруг позвоночника. Нужно будет снова состыковать Силамфра, сделать ему деревянную руку, еще не самый худший вариант. А вот Кориолис…
x 
Тут без трупов не обойдется! Или убьет, или покалечит так, что Орду с ее контром придется бросить, если еще в живых останутся после переломов и внутренних кровотечений, которые я не смогу остановить… Кориолис сломала лодыжку, когда рухнула на камни. Сухожилия не затронуло, но кость треснула. Не все обладают такой же ловкостью, как Арваль или Караколь, этих хоть в небо забрось, они все равно приземлятся на свои две! У одних заложен инстинкт самосохранения, другие ровным счетом ничего не смыслят в собственном теле. Хоть тресни.
Остаться здесь умирать, когда можно было без малейшего стыда выпросить у кого-нибудь местечко в укрытии и переждать? Я даже не пыталась никого лечить, я только облегчала им мучения. Все. Тебе конец, Альма. Как орешек расплющит о плиты волной, бах — и открытая черепная коробка. Хорошо, быстро. Я больше не паниковала, не
736
чувствовала спазмов во всем теле, я больше была не здесь. Я знала, что это конец.
Ω 
Крепкое дерьмо этот ярветер, суп с камнями. Лет в тридцать меня б такое даже позабавило. Хоть на одной ходуле. Двумя пальцами за крюк. Если по чистяку, то спереди, конечно, не так жестко хлопнуло: так, хорошая затрещина, девчачий пук, отрыгон обычный, ничего особенного. А вот сзади долбануло конкретно, жестяково их вздернуло; они там хорошенько шлифанули себе ноги-руки, обтесали нагрудники. С другой стороны, они там все привыкли сидеть как под наседкой в Паке, от малейшего блааста у них, понимаешь ли, кровь из носа льет! Повытирайте сопли, щенячья банда, скоро накроет по полной! Ороси, она, конечно, не может так, чтоб свои пять копеек не вставить, ходит, дотошничает по всякой дребедени, но без ее башки с системой самонаведения и ветряком в гульке мы бы все булыжников нажрались. Я в первую очередь. Хоть в шлеме, хоть без. Контрволна как в колокол проколотила по всей котловине. А Эрг еще хотел стать поближе, в двух метрах от колец. Давай, боец, покажи нам! Шмяк! Чтоб всю Орду размазало о гранит. Нефигово бы смотрелось в нашей легенде: «34-я Орда, под предводительством девятого Голгота. Многообещающая, отличная трассировка. Погибла по-идиотски, раздавленная о стену из-за погрешности в считывании данных промоины. Похоронена со всеми собранными частями тела». Да здравствует 35-я, верховье ждет вас!
) 
Ороси подошла ко мне, поправляя флюгер на плече, ее бабеолька вертелась во все стороны.
— Они на подходе, что будем делать?
735
Она прекрасно понимала, что Голгот не сдвинется с места, что Пьетро отказывается воспринимать реальность, а остальные либо боятся их, ни разу не видев, либо ищут встречи с ними, не понимая, насколько это опасно.
— Сколько их? Ты успела подняться на фареол посмотреть?
— Ну, скажем, десятки.
— Какого размера?
— Самые маленькие хроны размером с горса. Большие — на всю впадину…
— Яйцевидные?
— Да. Некоторые чуть круглее, но они вытягиваются но мере движения.
— Какая скорость?
— Достаточно медленная, чтобы от них уклониться, если они пройдут через порт. Но я не хочу пугать Альму, она еще от раненых не оправилась. И Аои тоже.
— Нужно с Караколем поговорить.
— Уже. Он говорит, что может некоторые из них расшифровать по цвету. Некоторые по запаху или звуку.
— А ты?
— Мой учитель научил меня определять некоторые часто встречающиеся глифы по их оболочке, но ничто не заменит опыт… А ты?..
— Да я же просто скриб.
— Сов…
— Все, что я знаю, известно мне по контржурналам. Нет ни одной Орды, которая бы о них не говорила, сама понимаешь. У каждой своя теория, понимание, советы… Только вот нет журналов Орд, которые в них сгинули! А это сильно ограничивает пользу от моих познаний. Я могу определить хроны чисто физические, самые простые, да и то…
734
— Смотри, началось…
Оставив других их заботам, мы поднялись на самый обвод воронки. Оттуда было видно, как по равнине, в ореоле красной пыли, среди дюн и впадин, по всей линии горизонта постепенно всплывали хроны, вразброс, без какого-либо вразумительного порядка, похожие на кучевые облака, выплывающие из затерявшегося шлейфа ветра. Серебристые точки, размером не больше шарика, то формировались, то растворялись в воздухе…
— Как будто армия идет…
— Орда, но не сплоченная Голготом…
— Скорее, без тебя и Пьетро… Это вы сплачиваете нас вместе.
Хотя ветер снова начал усиливаться, похоже было, что он никоим образом не влиял на ход хрона, приближавшегося к нам со скоростью человеческого шага, не более того. Он был в сотне метров. Дикое чувство тревоги нарастало по мере того, как он беззвучно скользил в нашем направлении, вытянутый, продолговатый кокон с плавающей, поглощающей свет оболочкой… Вокруг хрона ветер словно замолкал, звук рассеивался, затихал. На нас ползла густая тишина, некое присутствие без лица, без морфы, но чья мощь ощущалась физически.
— Пусть подойдет поближе…
Когда он оказался всего в десяти метрах от нас, я отошел в сторону; Ороси была смелее, она подождала еще немного. Вихри песка проносились через его панцирь, и с обратной его стороны появлялись маленькие блестящие мокрые шарики, липнущие к земле. У нас с Ороси сработал один и тот же ребяческий рефлекс: мы стали бросать горсти песка на оболочку хрона. Песчинки кристаллизовывались и таяли. Вблизи поверхность хрона вовсе не выглядела органической, она скорее походила на струящееся
733
полотно текучего металла, вроде того, что Леарх иногда плавил в своем горне. Хрон не вызывал никого желания дотронуться до него и уж тем более запустить внутрь руку.
— Бросить камень? — спросила Ороси, хотя это вовсе и не было вопросом.
Камень рассек хрон, словно воздух, и упал на землю как был. Как был? Точнее сказать, словно его только достали из ручья.
— Верни назад, подождем, пока хрон его ассимилирует.
Ороси расположила камень на траектории движения хрона. Похожий на грузного призрака, на текучий цилиндр, тот проплыл перед нами… Метров пять в высоту, шесть в ширину и не менее тридцати в длину. Если уметь внимательно всматриваться, знать, на что обратить взор, можно было увидеть, что он весь покрыт глифами, подвижными, словно только начертанными, которые мне, естественно, не удалось отнести хоть к какому-либо из известных видов письменности. Обрывки дуг, сегменты черт, то закручивающиеся, то слитные, стремящиеся что-то высказать, если только… Если только не впрыскивать в них смысл, которого в них нет, не усматривать узор из случайных царапин и насечек, как это свойственно делать человеку… Как только хрон прошел, мы бросились взглянуть на камень. Результат привел нас в замешательство.
— Преобразователь царств?
— Минерально-растительный?
— Минерально-животный, скорее.
— Почему?
— Потому. Посмотри на шлейф за ним…
x 
Я наклонилась к земле. Песок шуршал. Мне сделалось неспокойно. Если бы Альма это увидела…
732
— Нужно вернуться назад, Сов. Если хрон погрузится, нужно быть рядом с остальными.
¿' 
Эй, здорово, братишки! Длиннющая орава малышни, что высидел папочка Ветроворот, топайте сюда, разводите ваше волшебство по всей округе, давайте, заворожите нас! Цикроны и психроны, хротали в полном сборе, навалом, по пять штук зараз, кучками по дюжине, металлически-серые, мареново-красные, тыквенно-синие, не бегите от нас, побудьте с нами еще миг! Пока не испытаете на нас свои таланты! На что способны, пускай пыль в глаза! Пусть дружище Сов, и наша элегантность с флюгером, Аэрофифи, измеряют и анализируют, сколь пожелают — тут все равно придется собственной кожей занырнуть поглубже да глянуть хорошенько, кто там где, во что все это превратится, поскольку хрон, да-да, приближает будущее, ускоряет блуждание, но жребий ваш, тяните карту… Наука вас не успокоит на их счет, лишь интуиция, тронь свет, иль запах, уж лучше следуйте за моим даром, я трубадур, ну а скорее, молодой метатель, чего же? Судеб и причуд, открою голос и кричу:
— Хрон идет! Полный порт! Отвязать стадо! Овечки на склоне! Беееее!
) 
Ни я, ни Ороси его не заметили. Только Караколь. Почти идеальной формы яйцо, десять метров в длину, с шероховатой кожурой. Не подсказка ли это? Ордийцы отвязались, отщелкнули карабины, часть группы подошла поближе с крайней осмотрительностью, хотя никто не стал так близко, как Караколь, который поглаживал хрон ладонью, не осмеливаясь, однако, на большее. Безотчетно для самих себя Пьетро и Голгот обернулись к нам, Альма отошла вглубь впадины, Аои и еще несколько человек с
731
ней: ястребник, братья Дубка, Свезьест… Не задумываясь, Караколь запустил свой бум в середину хрона. Бум влетел и вылетел, прочертил букву П, снова пересек поперек всю массу и упокоился в руках трубадура. Тот принялся изучать отполированное дерево с жадностью настоящего исследователя. Вся внутренняя сосредоточенность собралась на его фавновском лице, заиграла разлетающимися прядями и мимикой. Он сначала будто удивился, отказываясь во что-то верить, и вдруг радость озарила его всего целиком:
— Я знаю! Кажется, знаю.
— Ну так скажи!
— Отгадайте!
Ω 
Хренов труба-дур! Я тебя сейчас в хрон запихаю, а потом отгадывать буду!
π 
Он вообще может понять, я уж не говорю согласиться, просто понять, что есть моменты, когда шутки уместны, а когда…нет?
x 
Глифы были как застывшие, как выгравированные на оболочке хрона.
≈ 
Я его просто обожала. Он меня завораживал. Совершенно сумасшедший, сплошной ветер в голове. Если уж мне суждено сегодня отправиться на тот свет, то я хотя бы смогу унести с собой этот образ, его вольную жизнь, его смех. Он был так не похож на остальных.
— Три… Два… Один… Проиграли! Это петрификатор!
x 
Он был прав. Верно подмечено.

730
) 
Я уже раньше видел такой хрон. В контржурнале, на рисунке. Та Орда потеряла двоих прямо посреди ночи: окаменели в спальных мешках. У этого та же текстура поверхности, тот же тип глифов, иератический, резкий.
— Кориолис! Силамфр! Юхууу! Вы спасены! Идите быстрее!
≈ 
Я бы с радостью его послушалась, но я не могла наступить на ногу.
— Разойдись! Пусть подойдут у кого лапы переломанные! Восстановление безотлагательное и безболезненное! Запетрифицирован, или деньги назад!
— Что ты несешь?
— Пусть Силамфр сунет руку внутрь хрона, у него кость срастется!
) 
Как обычно с Караколем, никто не знал, где начинается фарс и начинается ли, и если да, то где его конец. Серьезность у него переплетена с игрой, соткана из той же ткани слов и жестов, того же неуловимого лукавства. Он являл собой наипрекраснейшее из воплощений трубадура, чистейший блеск исполнения изо дня в день, неутомим… и утомителен. Земля — подмостки его сцены, а небесный занавес для него всегда распахнут. И чем серьезнее происходящее, тем причудливей его размах, тем легкомысленнее выходки.
— Ты снова шутишь или…
— Можете не сомневаться! Посмотрите на бум! Волокна заминерализовались!
— А если это не оно? Если это что-то другое? Ты что, бум запустил — и хлоп, все готово, можно делать выводы?
x 
Альма бросилась к нам, пересилив панику.
729
— И речи быть не может, чтоб засунуть раненых в эту… штуку! Это же самоубийство!
— Альма, у них кости срастутся…
— Да сейчас! Рука целиком окаменеет, вот что будет! Кожа, сухожилия, плоть, нервы — все! Сплошной камень! Навсегда!
≈ 
Караколь то улыбался во всю ширь, то хмурился, то снова расплывался в улыбке. Я бы рискнула, если бы он попросил. Учитывая мое состояние, из второй волны мне все равно было не выбраться.
— Не думаю. Хроны, как правило, селективны. Они сначала влияют на то, что им ближе по структуре, и лишь затем на все остальное, как по спирали, ослабляя эффект. Этот закон почти всегда доказывается на практике…
— «Почти всегда…», Ороси? Как нам «почти всегда» везло под ярветром? А сегодня? Вы хотите избавиться от Кориолис и Силамфра? Сделать из них груду камней?
— Хрон в первую очередь подействует на кости…
— Мы понятия не имеем, Альма права, — вмешался 11ьетро.
— Да это безумие какое-то, Кориолис, не делай этого!
— Караколь несет какую-то чушь, развел тут цирк, как всегда.
— Какую-то чушь? Это я несу какую-то чушь?
π 
Трубадур обошел Тальвега сзади и свистнул у него молоток, присмотрел плоский камень, присел, положил на него руку и протянул молоток Эргу.
— Давай бей.
Эрг озадаченно посмотрел на него и рефлекторно взял молоток.
— Ну, давай, раз я несу чушь.
728
— Хватит дурака валять. Я тебе руку расквашу.
— Так давай! Если я сам это сделаю, еще решите, что я прикидываюсь!
— Да не могу я, Карак.
— Значит, дай молоток кому-нибудь другому. Ну, быстрее давайте, хрон сносит, скоро накроет второй вал.
Все переглядывались, не зная, что делать. Тальвег, за ним Сов постарались вразумить Караколя. Но все зря. Мы теряли время, это становилось опасно. Мы уже давно должны были бы пришвартоваться. Свет вокруг поглощала тьма. Хрон шел вдоль обода воронки…
— Так, у меня от вас уже все мозги всмятку. Дай сюда молоток!
— Голгот, не ведись ты на его спектакль.
— А я не ведусь. Я ему сейчас занавес как опущу.
Голгот почти вырвал молоток у Эрга из рук, растолкал толпу и присел рядом с Караколем, ровно держащим руку на камне.
— Какую кость?
— Фалангу среднего и указательного, Голготина.
— Да вы с ума сошли!
∂ 
Звук был глухой и очень чистый. Голгот и на полмеры не затормозил. Перебил Караколю пальцы. Трубадур скорчился в песке от боли.
— Придурки! Да вы двинутые все!
Караколь встал и проковылял прямо к хрону. С видимым усилием зажал неповрежденные пальцы и погрузил указательный и средний в оболочку хрона. Полминуты спустя он достал руку, улыбаясь, четко выговорил «смотрите!» и разогнул два пальца в знак победы. Сомневаться больше было не в чем, я подошел и сунул руку по локоть в хрон.
727
— Силамфр, подожди!
— Да заткнитесь вы, это не ваша рука!
Это было словно сунуть руку в ледяную дыру. Мне большим трудом удавалось удерживать ее прямо. Мне помогал Сов. Он вспотел не меньше моего. Оболочка хрона перекатывалась волнами, скользила у меня на глазах. Какая тишина! Даже слова Сова, приглушенные, доносились до меня как сквозь бархатную завесу. «Осторожно… смотри не… локоть», настаивал он. Внутри хрона моя конечность была не видна, но мою плоть словно насквозь протыкало морозными иглами. Я хотел достать руку. «Рано», повторял Сов. Я больше не мог пошевелить локтем, перелом перестал стрелять, бросать свои копья, подкорье руки крепчало, будто в него засунули стальной прут…
— Вытаскивай давай!
Я достал руку. Моя кожа была покрыта блестящими чешуйками. Я машинально стал трясти рукой, чтобы отогреть ее. Ощупал. Кровь потихоньку разливалась по руслам вен.
— Ну что?
— Кажется срослась!..
x 
Затем четверо хлопотливых самцов поднесли к хрону Кориолис, чтобы закальцифицировать ее лодыжку. Отлично: она снова держалась на ногах, достаточно крепко, чтобы встретить вторую волну стоя. Разумеется, мы были совершенно не готовы к этой встрече морально. Я тщетно анализировала нашу воронку, вымеряла размеры, интерполировала уровни наклона и точки перелома профиля склонов, моделировала сток ветра, я никак не могла определить, какова будет амплитуда вихря, в который нас засосет. По какой оси вращения? С каким числом
726
оборотов? Все ждали моих указаний, надеялись на меня, Голгот полностью передал мне контр, но в глубине души я прекрасно понимала до какой степени мои решения были не более чем подвесным мостиком на трех воображаемых канатах, переброшенным через хаос. То, что мы нашли этот порт, было чудом, несомненно. Но и серьезной ловушкой тоже.
— Все по местам! Приготовиться! Полная смена построения. Леарх, можешь достать нам два железных кола? Эрг, помоги ему забить их как можно глубже здесь и здесь. Остальные, приготовить десять канатов, заменить испорченные. Построиться рогаткой.
— Как?
— Рогаткой! Вас где учили вообще? В Аберлаасе или в глуши какой-то? Постараемся ограничить эффект маятника и штопора!
) 
В конечном счете хроны устроили нам неплохую диверсию: перехитрили страх и рассеяли тревогу. Но теперь, когда мы снова стояли в ожидании вала, утробный ужас опять расползался по телу. Стратегия Ороси, несомненно лучшая для группы в целом, для нас, Клинка, была самым худшим вариантом. Я догадывался, на что она надеялась: рогатка, благодаря своей у-образной форме, должна канализировать поток в направлении Голгота, поместить Пак под давление и, таким образом, ограничить боковой размах. Допустим… Но в тридцати метрах от дамбы, без какого-либо заслона, волна нас попросту разнесет на куски. Мне страшно было думать о том, что нас ждало. Невозможно представить себе свою собственную смерть. Мысленно я перенесся в «после ярветра». Я видел, как завтра мы станем на привал в очередном селе, как рядом будут Аои и Кориолис. Я думал о них, об этой крохотной
725
капельке, живой, блестящей слезинке; о голубом огоньке факела, что иногда так мило дуется, но чьи движения столь полны тепла.
Альма принесла кожаные стеганые шапки, натянула на меня сразу две, одну поверх другой, перемотала мне туловище хаиком, закладывая в витки ткани деревянные пластинки. Пьетро вытащил из рукавов переломанные рейки и попросил себе четыре новых. Закрепил на израненной шее фиксирующий воротник. Я обернулся: в глубине рогатки, на самом конце каната, Голгот пристегнул шлем к своей кирасе из кожи горса, пропустив ремни под мышками. Альма подошла к нему, но он оттолкнул ее, что-то буркнув. Он прекрасно знал, что его ждало: предусмотрительно вырыл дыры для опор под ногами, потянул шею во все стороны, размял плечи и бедра. Мне страшно даже представить, что будет, если мы потеряем Голгота. Столь велика его воля, столь невероятно он сосредоточен на нашем пути. Он был самой Трассой. Он, Голгот, девятый в своем роду, по всеобщему мнению (всех ордонаторов, которые его обучали, и старцев, которые видели, как контровали его отец и дед), он был лучшим из лучших. У кого еще в крови бурлил Дух Орды? Кто еще нес в себе такую дикую веру? Никто, и он это знал. И в то же время одно сомнение, как хищный зверь, раздирало его изнутри: как могло случиться так, что его родной сверходаренный старший брат умер всего шести лет от роду. Я был частью Орды, я, Сов, сын фаркопщика, и Пьетро, Эрг, Фирост, Свезьест — все мы были частью Орды. Но он, Голгот, был не частью Орды. Нет. Он был самой Ордой.
— Волна идет!
— Я вас люблю, — раздался голос Кориолис.
724
 Ω
Ω 
Смысл тут что-то рассказывать? Вы, крытни, все равно ни черта не поймете. Разводите свой базар о наших жизнях в ваших чистеньких хибарах с ветряками. Отвяжитесь уже от нас. Блааст взорвался. Я еще по звуку понял, что будет полная жопа. Поток камней прямо в рожу. Не песок, не щебень врубит по нагруднику: каменища. Крепко вжарят. Альма сопли распустила, смотрит на меня. Мне на себя смотреть нечего. У меня кровь хлещет из ушей, стою на коленях, прибитый, стараюсь дышать, глотать кирпич воздуха за кирпичом… Без кожаной брони, без шлема, лучшего за всю историю Орд, заякорите себе на лбу, всем шлемам шлем, монстр отпора и амортизации, без набедренников, ракушек, деревянных налокотников, разломанных вдребезги, я бы в живых не остался. Железные колы повырывало и закрутило вместе с нами, два каната спереди рвануло, нас шарахнуло о край впадины, перепахало по оси, перевернуло, ослепило… Мы все чуть не сдохли, я в том числе. Я чувствовал, как эта огромная сенокосилка дубасила меня прямо в грудину и говорила: все, Гого, приехали, снимай шлем, я за тобой… Отправишься к своему брательнику, вам там обоим место. Этот сопляк тебя там уже тридцать четыре года ждет не дождется…

723
x 
«С котенком, Ороси, не с тигром». Вся впадина была забрызгана кровью. Без песочного матраса нас бы раздробило на куски откидными волнами. Построение рогаткой уберегло от худшего. Ламинарный поток, слава Петру, прошел в доминантной позиции над турбулентными. Это нас спасло. Но какой ценой для Голгота… Фироста, Сова, Пьетро… Они отцепили свои карабины и корчились от боли, лежа на земле. Сову раздробило весь правый бок, раны забило песком и осколками. Его врачевала Аои. У Пьетро было вывихнуто правое плечо. Он, наверное, налетел на какой-то пень во время маятника. Но Альма вправит его на место, как у Свезьеста после первой волны. Только первые три ряда относительно пронесло, но это было ожидаемо. Их я теперь поставлю на передовую под третью волну.
∫ 
Снова появились хроны, поприветствовали и удалились (втихомолку), но я не узнал ни одного приятеля. Одни деревья снова зацвели, другие выплюнуло полностью засохшими, третьи окотило котами, кактусовые повылазили прямо из песка, показались буера, какие-то животные, из юрких, неуловимых, оставили за собой немыслимые следы. И как бы вас это все не эпатировало, все это было ничто по сравнению с тем, что они там наверху (лучшие из них) умели делать. Слово Ларко! Они, марева, умеют создавать из ничего, из чистого ветра, капли воздуха и воды (из света), ткут из звезд и лун, запрятавшихся в небосводе, кроят погоду как хотят, выращивают леса на толщах тумана, строят корабли (без парусов, со всеми удобствами), подбрасывают нам с них немного дичи, когда знают, что мы с охоты бредем без улова.
Прошла третья волна (не такая свирепая), мы выстояли ее аркой: Сов, Пьетро и Голгот, зацепленные за крюки
722
(как куски свежего мяса). Бедолаги, их нехило отлупило, целый гербарий из ран. Ороси, но тут и растолковывать нечего (Да? Ну тогда попросите!), доказала (раз и навсегда) то, что и так было ясно: аэромастер — это искусство, которое нужно смастерить в той же степени, сколь и освоить, и что она бесконечно достойна своего ранга (по крайней мере, насколько я в этом разбираюсь… Я это так, чтоб поважничать). Вам там наверху плевать, а, марева, вы там зеваете туманами? Хотите, чтоб я вам отсюда все изобразил? Пожалуйста:
 (обратно)
(обратно)
III
КОСМОС — МОЕ ПРИСТАНИЩЕ
) 
Я все это бесконечно любил, что уж тут скрывать, все эти просторы послеволновых руин: деревни, лишенные всякого заслона, открытые всем ветрам, груды крепостей, вмиг утратившие всю свою претенциозность, словно состарившиеся за ночь, их разложенные на песочном ковре, как на прилавке, за бесценок, камни — точь-в-точь разбросанные драгоценности. Я упивался ощущением того, что был человеком, устоявшим на ногах, был лезвием из плоти, что рассекает ветер наперекор всему угоризонталенному миру; я стоял перед полем боя, где не было врага, готового дать отпор, не было побежденных, где омытая шквалами земля была нетронута, вновь первозданна, она давала нам право сделать новый шаг, готовая принять наш путь. Эта упрямая мечта, верх глупости, химера — в один прекрасный день достичь края Земли, дойти до самого верховья, до Верхнего Предела, испить глоток чистого ветра из самого источника — вот он, конец наших исканий, или начало? Да, я все это обожал. А может, просто сегодня утром, в столь непривычно ярком, плавном, кристальном свете, мы лучше понимали, какое это чудо — жить? Небо было вопиюще прозрачно, равнина еще дымилась, мерцала развеянною дымкой, свежайше припорошенные поля словно ждали наших
720
стоп, и каждый шаг, по мере контра, будто созидал перед собою землю. Голгот не дал никаких распоряжений: свободный контр, каждый в своем темпе, по своему маршруту, навстречу радости находок после бури: кто натолкнется на уцелевшую бутылку, кто на нетронутую лопасть винта, а может, кто добудет нам на вертел сервала или зайца.
Ветер пробудился, в своей первоначальной форме — зефирине — хлестнув нас на заре самой благожелательной и мягкой из своих пощечин, и мы не стали лишний час влачить свои увечья, рассиживаясь в порту при такой погоде. Раны напоминали о себе при каждом шаге, но я этого не замечал, я втягивал в себя краснеющую даль, я рисовал свой путь стопами ног, как будто принц-кочевник, ступающий по краю, полному надежд и обещаний, впивался в каждый глоток воздуха с трепещущею полнотой, всей грудью, не веря в то, что я по-прежнему могу дышать, что данный мне жизнью шанс продлен, ощущая, насколько он пронзителен.
— Арваль, ты сходишь? Может, там вода есть или, может, людям помощь нужна?
— Сам ты сходишь. В прошлый раз меня в деревне приняли за фреольского грабителя.
— Да у тебя же даже оружия нет никакого! Ни аэроглиссера, ни тележки, ты ж пешком, они там сбрендили, что ли?
¬ 
По правой стороне, в трехстах метрах от нас, была деревня, вернее просто кучка дюн. Засевшие по сточным ямам на время бури жители стали единственными выжившими, которых мы за сегодня встретили, но они были настолько не в себе после случившегося, что даже не взяли в толк, кто мы такие и чего хотим: глоток чистой воды, куда
719
присесть, уцелевший кусок стены, чтоб опереть наши раны на привале. Но их можно было понять. Они понесли огромные потери: дома разрушены вместе с мебелью, велесницами, ветряками… У некоторых унесло ветром иго, что было. Пару детишек, кое-какой скот. Весь урожай запружен песком. Работы на месяцы вперед: откапывать, высвобождать, отстраивать все наново, под шквальным не гром, в надежде все закончить перед очередной сечей, года через два, может три, и на этот раз быть жестче, устоять. К тому же придется ждать, пока стая медуз не соизволит попасться в верхний невод, или пытаться пузыри им продырявить воздушным змеем. Потому что без медузного клея штукатурки не будет, тут мечтать не приходится, а без нее ни одна стена не выстоит больше трех месяцев: известняк размоет, по стыкам пойдут трещины… Арваль, конечно, интересный:
— Кто разведчик? Я или ты? Могу тебе отдать мой молоток, и будешь геомастером. Я не хочу, чтоб мне бумом горло перерезали.
— Можно подумать, я хочу!
— Ну, тогда все, пролетели. Кроме того, ты глянь вообще на эту кучу дерьма: ни одной вертикали не осталось! Еще одна чертова дыра из глинобитки. Такое ощущение, что они вообще не догоняют, крытни эти безмозглые. Бурю за бурей одно и то же: выкапывают из земли то же говно. Не могут себе нормально окантовать пару блоков известняка, чтоб держалось…
— Их ветроводит за нос!
— Ну, в этом тоже есть своя логика. Чему не суждено выстоять — падет. Никто не понимает, от чего это зависит. Бывает иногда, стоят два каплевидных дома на одном и том же уровне, на одной и той же высоте, отлично спрофилированных, только один уцелеет, а второй разнесет на
718
куски. Как будто есть какой-то секрет, как будто сама земля заботится о первом, в то время как второй…
— Второй она просто-напросто терпит.
π 
В лучах солнца деревушки ясно просматривались на горизонте. Темные холмы на медной отмели. Бурей замело большинство впадин, сровняло дюны. Не могло быть выбора однозначнее: обойти все деревушки одну за другой, протянуть руку помощи, откопать трупы, быть может, спасти чью-то жизнь. Или же пройти мимо, оставить все на произвол судьбы. Те, из Орды, кто шел передо мной, свой выбор сделали: они все прошли мимо. И что же следовало сделать? Да, оставить все как есть, на произвол судьбы. Но не своей.
< > 
Какая-то старушка отчаянно рыдала в три ручья. Из колодцев вылезали дети, покрытые летучей золой, щелевой пылью. Они мотали головами, хлопали себя по рукам и ногам, вытряхивали ее из волос. Мало-помалу приходили в себя, силились понять, что с ними случилось… Это я услышала удары о крышку трапа. А Альма нашла вход в колодец, заваленный песком и грудой камней. В колодце, как это чаще всего и бывает в заброшенных деревеньках, сидела вся местная ребятня: с два десятка малышей, с мамами и бабушками. В восьми метрах под землей, в обычной дыре. Из-за нехватки места мужчины укрылись в хижинах, на поверхности. Ни один из них уже не расскажет, как все было. Деревню рассеяло на три километра к низовью, словно пронесло комету из обломков. Если бы мы сюда не зашли, кто бы разобрал завал над колодцем? Лучше об этом не думать, трап был открыт, и они живы, по крайней мере эти.
Старушка продолжала плакать. Она долго-долго держала нас за руки, благодарила. Затем присела на бортик фон-
717
тана, до краев заполненного песком, по ее набеленным песочным налетом щекам слезы проложили бороздки и продолжали неумолимо катиться вниз. Альма говорила с женщинами, поднимавшимися на поверхность уже вдовами, с детворой, что не бросалась со всех ног к дому с раздирающим криком — «Папа!», неизменно крики, крики, крики… «Папа!»
Она утешала, произносила какие-то неведомые мне слова, прокладывала их, словно ступень за ступенью в этой отвесной лестнице, которую создавала между «теперь» и тем ужасом там, внизу. В этом обрыве. Она говорила не для того, чтобы что-то сказать, она лишь тихонько разрывала своим криком тишину; вопреки смерти, которая раз и навсегда лишала голоса. Я была на это неспособна, меня не обучали врачевать и ухаживать с раннего возраста, я была всего-навсего сборщицей, иногда лозоходкой, когда мне удавалось отыскать воду. Я не обладала таким опытом и печалях и невзгодах и, еще менее того, такой отвагой и умением быть кстати. Я могла предложить только свои объятия. Прижать к сердцу как можно сильнее.
— Так, трубадур, повторяю еще раз: для обозначения замедления ветра используется всего три знака. Запятая при простом падении скорости, точка с запятой при падении скорости с турбулентностью и просто точка при остановке, нулевом ветре. Ясно?
— Лучше скажи это Кориолис, мне основы повторять не надо!
— Хорошо. Кориолис, как ты запишешь залпы и шквалы?
— То, что вы называете залпом, это легкий шквал? Небольшое ускорение? Да?
— Естественно.
— Тогда залп обозначается бреве, как над «й», а шквал кавычками.
716
— Допустим. А сильный шквал, утяжеленный песком или землей?
— Циркумфлексом.
— А у нее хорошая память!
— Уж получше, чем у тебя, трубадур. Я тебе десять раз показывал, как записывается ярветер, а ты все равно умудряешься перепутать вихри, воронки и смерчи!
— Отнюдь, учитель! Вихрь это °, смерч о, а воронка О!
— А контрволна?
— Вопросительный знак!
— Видел, она быстрее тебя отвечает? Ладно, закончу объяснения, и сделаем транспозицию. Идет?
) 
Кориолис была на седьмом небе. До тех пор, пока восемь месяцев назад Орда не зашла в ее село, она влачила существование весьма никчемное, между девичьими мечтами и рутиной золотоискателя. Ее работа заключалась в том, чтобы ставить сети на равнинах, в краю, где за целый день фильтрации не заполнить зерном и двух тарелок. И вот вчера она пережила свой первый ярветер, увидела свой первый хрон; сегодня открыла для себя статус скриба, узнала, как обозначается поток и, кто знает, может, встретила свою первую любовь, этого шалопая Караколя, чьи шутки выбивали у нее почву из-под ног, поднимали ввысь и уносили вдаль. Без малейшего труда. Мы не знали, где остальные — сзади или впереди? — но сделать передышку посреди дня, здесь на лугу, на этом, вероятно, возникшем вчера из хрона островке — была такая роскошь для бродяги.
Вне группы Кориолис чувствовала себя уверенней: спрашивала о вещах, для нас элементарных, но о которых ей было бы стыдно спросить при Голготе и других. И я не без удовольствия расстилал перед ней свои познания…

715
π 
Крыша в форме купола рухнула, но стены уцелели. Это был добротный особняк: у архитектора вышла красивая капля, с мягкими изгибами, без изломов. Два небольших свода перед центральным куполом прежде напоминали дворец. Сегодня же это сходство скорее нагоняло тоску.
— Он был под южным сводом, когда ударила волна… Если он жив, то должен быть там…
— Почему вы сами туда не пошли?
То, что осталось от женщины, которая наверняка приходилась ему женой или любовницей, пристально посмотрело на меня, ничего не отвечая. Она оглядела улицу: чистильщики, вооруженные лопатами, перебрасывались указаниями, раскапывали завалы. Без особого рвения. Заводили к соседям, тоже из знатных. На чем процветала эта деревня? Похоже, тут не бедствовали.
— Я не хочу увидеть его мертвым.
— Проводите меня до входа в зал. Дальше я сам разберусь.
Больше не было никаких винтовых ворот, двойных дверей: ярветер облегчил правила этикета. Без привычных церемоний мы попали в зал. От вида вторжения бедствия в это прекраснейшее, каплевидной формы без единого угла помещение щемило сердце. Высокий потолок зиял дырой прямо в небо. Купол обрушился на инкрустированную мебель, кресла из профилированной кожи, овальный ковер. Черепица искорежила ветровой орган, и его трубы больше не возвышались над сводом. По-прежнему тактично моя спутница предупредила мой вопрос:
— Вся система ветряного распределения разрушена. Фрикционная плита, камин с принудительной системой вентиляции, паровой двигатель для ванной. Даже стол с воздушной подушкой, на котором мы играли в шайбу.
— Куда идти?
714
— Туда, в конец коридора. Я буду ждать вас здесь. Гувернантка оставила лопату перед дверью.
Мне вдруг стало крайне неуютно. Гувернантка? Я почувствовал себя здесь совершенно неуместно, словно любопытный зритель. Угодивший в ловушку? Зачем я вообще сюда явился? Что хотел себе доказать? Свой благородный титул, не так ли, всегда одно и то же? Быть благородным, помогать. Князь, конечно, но какой любезный. Кто в Орде смог бы понять, почему я здесь оказался? Сов? Да, он бы понял. Делла Рокка берется за лопату, не готовый довольствоваться, как повелось среди его предков, одним лишь дворянским титулом, былыми благородными свершениями. Делла Рокка, который хочет заслужить ту репутацию, что полагается ему по статусу.
Я всегда держался в стороне от возможностей, что открывал передо мной мой статус. Чтобы слиться с Ордой, стать обычным ордийцем? Нет, скорее, чтобы вернуться к истокам благородства, на которое указывал мой род и которым он, увы, пренебрег, предпочтя ему помпезность и игру чинов. Достичь его и воплотить. Сдержанно, без блеска, в будничных вещах. Я взял лопату и открыл дверь. Помещение под южным сводом, по всей видимости, ранее походило на основной зал, но было богаче и уютнее. Теперь же оно было выворочено и засыпано песком. Я закричал, стал звать, но безрезультатно. Начал осторожно приподнимать лопатой глыбы камней и кучи хлама. В обувь набилась куча песка. Я нащупал ногами место понадежнее и принялся копать.
Что я здесь делаю?
) 
Итак, еще раз:
— Если говорить фундаментально, то ветер это: 1 — скорость, 2 — коэффициент вариаций — ускорение-
713
замедление и 3 — переменная степени колебаний и турбулентность. Система записи также включает обозначение субстанций: ветра, насыщенного дождем или частицами; форм, что касается вихрей и контрволн, и эффектов — например, эффект Лассини, который записывается при помощи тире. В общей сложности используется двадцать один символ, все они заимствованы из обычной формы письма, и их вполне достаточно, чтобы дать исчерпывающее описание ветра.
— Кто придумал эту систему?
— Скриб 8-й Орды, Фокк Нониаг. Она почти не изменилась с тех пор.
— То есть мы пользуемся этой дурацкой системой уже пять веков?
— Да. Но вы взгляните на экономичность средств: скорость никогда не записывается как таковая; обозначаются только вариации этой скорости, на основании доминирующего ветра, который указывается в начале строки, как нотный ключ. Зефирин записывается а, стеш ã, шун â, блиццард ä и ярветер å…
— Это первые шесть форм ветра. А три последние?
— Мы их не знаем, балда!
— Я в курсе, Маэстро, но мы могли бы заранее подготовить для них символы.
— Ладно, насчет колебаний, маленькое напоминание для Кориолис. Слово «порыв» имеет очень точное значение у скрибов. Оно обозначает скачкообразный, прерывистый, эрратический характер ветра при шквале. Когда колебание не так ярко выражено, менее отрывисто, или когда поток колеблется совсем легонько, то речь идет о «турбуле». Турбула обозначается точкой, как над ё, только одной, вот так «˙», или двумя, «¨», если вибрация посильнее. Порыв обозначается тупым ударением «`». Понятно?
712
— Да!
— И напоследок, пару слов о блаасте. Это дикий шквал, почти взрыв, с которым мы вчера несколько раз столкнулись…
— На равнине, когда Голгот нас еле поднял на ноги?
— Да… Он обозначается «!».
— Буран, это же двоеточие «:»?
— Не подлизывайся, принцесса!
— Я просто пытаюсь запомнить.
Она снова улыбнулась. Красота ее была заразительна, она разливалась, как ликер, одурманивала. Кориолис… Я понимал, почему Ларко так пылал к ней. Эта девчонка порою вызывала неудержимое желание. Перед ее глазами еще можно было кое-как устоять, хотя они, как ты сам и говоришь, Ларко, «переливаются из синевы ночи в синеву тучи», в зависимости от освещения: но вот ее губы. Караколь обнимал ее за талию, целовал в шею, тихонько отнимал у нее перо, она шла на поводу, протестовала, дрожала. Мерзавец.
π 
Прошло минут пятнадцать. Меньше? Мне все же удалось найти подходящую точку опоры, и, стоя на какой-то квадратной доске, я методично стал окапывать завал вокруг себя. Тщетно.
Песок размеренно стекал с амбразуры крыши. Он ниспадал тонким занавесом, то желтым, то красным. Я присел на корточки, сдвинулся на шаг в сторону по доске и… И мне послышался какой-то хрип. Дыхание, где-то совсем рядом. Я поднял доску из песка и переставил ее на новое место, чтобы продолжить копать с другой платформы. Ровно в том месте, откуда я убрал доску, показалось что-то синее, засыпанное песком. Ткань. Рубашка. Я стал раскапывать руками… Торс. Холодный.
711
Моя рука тут же нырнула под рубашку. Нужно было его ощупать. Меня всего передернуло. Я стал рыть неистово, лишь бы откопать голову, вытащить его. Скорее! Скорее! Еще чуть-чуть, вот он, я вытащил его! Глаза его были широко распахнуты, и я готов был поклясться, что он сейчас заговорит. Кто-то стал трясти его, стал трясти его прямо у меня на глазах, еще и еще. Этот кто-то был я. Я истошно кричал, сам того не замечая. Но он был холоден. Мой взгляд метнулся к доске. Это я уложил ее ему на грудь, я ходил по ней, это я ходил по нему. Это я его задушил.
— Вы его…
Женщина стояла на пороге и смотрела на меня. Паника. Она посмотрела на доску, на тело своего то ли мужа, то ли любовника, на меня.
— Вы его…
— Да…
— Нашли.
— Да.
— Теперь ступайте.
) 
Поскольку начинать все равно нужно было с основ, то для транспозиции я выбрал зефирин. Воспоминания. Когда мне было восемь, ордонатор, который обучал новичков-скрибов, сказал нам выйти из Дырявого Зала и и порядке исключения подняться на самый верх башни. Там, в сорока метрах над Аберлаасом, он рассадил нас по одному, с глиняной табличкой и стилосом в руках, на самом краю башни, ноги наши свисали над пропастью. «Закройте глаза и транспонируйте ветер, который на вас дует. Кто не отметит турбулы, полетит вниз». И не добавил больше ни звука. Ордонаторы вообще никогда не говорили ничего лишнего. Это были мрачные, мелоподобные
710
куклы. Я никогда не забуду этот зачитанный самим ветром диктант. Первая фраза была:

Залп, замедление, застой. Залп и турбула, замедление, залп, застой.
Справа от меня сидел мой лучший друг, Антон Бергкамп. Он был сыном скриба 33-й, Фица Бергкампа, и, согласно всеобщему мнению, ввиду неоспоримого таланта, его прямым преемником. Когда я открыл глаза, меня всего заколотило от вида пропасти, и я в ту же секунду отвернулся, чтобы взглянуть на табличку Антона. Тот исправил турбулу в середине фразы, на тупое ударение: порыв. Порыв?
Запись ветра по самой своей природе дифференциальна, она не имеет ничего общего с точной наукой, это всем известно. Способность верно определять время между залпами, размах турбулентности, различать короткое замедление с последующим повторным залпом и простую турбулу — все это очень тонко, иногда почти неуловимо. Скрибов не учат фундаментальной точности, на манер геомастеров. Нас учат точности куда более обостренной архитектуре отклонений — этому так хорошо развитому у лучших из нас чувству синтаксиса, что есть чистейшее искусство ритма инфлексий и переломов. Писать словами после этого становится задачей пустяковой настолько, что уроки повествования, обучение изложению как таковому начинаются лишь год спустя и допускаются до них только те, кто сумел уловить в переплетении ритмов фразировку ветра.
Антон Бергкамп, как и все семеро из нас, отдал свой глиняный прямоугольник ордонатору. Меловое лицо учителя исказилось, словно треснуло, в то же время раз-
709
билась и дощечка. Ошибка Антона была слишком очевидна. Ордонатор не простил ему этой осечки, не оправдал ее ни пережитым стрессом, ни страхом упасть, который заставил ученика гипертрофировать турбулу в порыв. Нет, для ордонатора дело было в самой архитектура зефирина, при его минорной замедленной тональности, модуляциях без размаха и нажима порыв был просто немыслим в сердце этой фразы. Допустить такой бедлам. Речь шла не об искажении размера, нет, это было нечто бесконечно худшее: качественное непонимание соотношений, ошибка непростительная, обличающая отсутствие вкуса.
Вскоре последовал второй диктант, в таких же условиях. Но Антон Бергкамп не принял в нем участие. Он поскользнулся и упал с башни. Случайность.
Я так никогда и не простил себе своей трусости. Я не протянул ему руку в момент, когда почувствовал, что эта «случайность» сейчас произойдет. Руку помощи, связь, которая удержала бы его. Я стал скрибом не потому, что был лучшим. Напротив, я не был блестящим учеником. Но я был упрям. Я стал скрибом, чтобы понять, почему у меня не хватило смелости ему помочь, поддержать его. Чтобы через меня хоть небольшая частица того, кто этого, несомненно, заслуживал больше меня, могла прикоснуться к предназначенной ему цели. Я и по сей день не могу записать порыв так, чтоб не защемило сердце, не увидев перед собой легкой тени. Антон Бергкамп, знай, что если Ветер даст мне дожить до этого дня, если однажды я дойду до Верхнего Предела, то одно из трех желаний я сберегу для тебя. Это будет моим искуплением. Долгожданным. Я спрашивал у всех Фреольцев, встречавшихся мне на пути, но ни один их них не смог сказать мне, жив ли твой отец, контровавший в нескольких десятилетиях впереди нас, знал ли он, что случилось с его сыном.
708
Рано или поздно я все равно его прикончу, этого индивидуалиста, в которого они хотели меня превратить… Эту легендопишущую машинку о наших «подвигах», которые послужат им кормом для мечтаний черни. Если бы они только знали в этом своем Аберлаасе, на Нижнем Пределе, среди этой кучки башен с вышками да серых хижин, на которых осела вся грязь и пыль этого мира, если бы миллионы его жителей имели хоть малейшее представление о том, на что похожа наша жизнь! Годы рутинной работы, монотонного контра — ради чего, пары геройских подвигов, нескольких блестящих выходок, очередного ярветра на счету? Для чего все это? Чтобы сдохнуть от жажды, потому что Аои третий день кряду не может раздобыть воды?
— Замечтался, поэт? Я закончил транспозицию.
— Я тоже! Но у меня не получилось все записать, очень сложно.
У Кориолис типичные для новичка ошибки. Она путала мощность и турбулентность, ставила замедление вместо ускорения, обозначала шквалом залп, слишком увлекалась игрой модуляций вместо того, чтобы записывать периоды движения. И, конечно, сильно перегружала линии, не отличая основной темы от орнаментаций. Да, ей сначала нужно было хорошенько выучить основные темы. Я взял табличку Караколя.
— Ты издеваешься, что ли?
— Нет, это моя транспозиция.
— «Лей воду, мерно и ровно. Залей в округе всё, на что упал твой взор». Ты это называешь транспозицией?
— Разумеется!
— И где твои запятые, бреве, залпы?
— Перед тобой. Прочти.

707
≈ 
Неужели Караколь вдруг выдал что-то серьезное, бум! И Сов стоит, и голову ломает, застыл в недоумении… но нет, уже заулыбался, глаза блестят, и смотрит то на Караколя, то на текст.
— Нужно убрать буквы, да? Читать только пунктуацию и диакритику? Так, что ли: «Лей воду, мерно и ровно. Милей в округе всё, на что упал твой взор»?
Караколь дал ему время проверить. Сов в восхищении кивал головой. Я не все поняла, но они, похоже, оба были очень довольны.
— Все верно, надо же. Отлично, Караколь. Разве только длительности, здесь ты начудил, но ты никогда толком не умел их определять…
— Тебе не кажется, что так симпатичнее? Если немного постараться, то можно было бы одновременно записывать саму структуру ветра символами, а атмосферу передавать словами. Или рассказывать как историю…
— Карак, ты вообще понимаешь зачем придумали эту систему? Чтобы упростить запись, не наоборот. Описывать ветер словами, передавать «атмосферу», именно так раньше и делали. Вплоть до 8-й Орды и даже позже, пока транспозиция не устоялась. Систему придумали для эффективности. Это тебе не игрушка!
— Почему нет?
) 
Кориолис была в восторге. Ее красные губки, в которые так и хотелось впиться, были слегка приоткрыты. Она не просто слушала его, она пила из его уст, глотала его слова.
— Почему нет, Сов? Вместо того чтобы просто рисовать эти твои черточки, точки, запятые, почему не воспользоваться этой же структурой и не наложить на нее настоящую фразу, которая будет содержать нужную
706
тебе пунктуацию? Это было бы гениально! Как шифровка!
— Ты что, считаешь, что я быстрее ветра? Это, конечно, мило с твоей стороны… Но чтобы подобрать подходящие слова с нужными буквами, потребовалась бы уйма времени! От одних только «ё» сколько бы турбул повсюду добавилось…
— Их бы не добавилось, они и так повсюду. Просто ни один из вас этого не чувствует…
— Я чувствую, и что с того, смысл их записывать? Это просто дребедень…
— Эта дребедень, дорогой мой, — тайная жизнь ветра, его привольная душа…
Кар, но не все ль равно, мой друг, мне лучше улыбнись и унеси меня на своих крыльях!
Ω 
Где их там носит? Я и так тащусь, как муха навозная, волоку свою кучу гноя, тушу свою продырявленную, и ни один паршивец не встроился в мою борозду. Одним придуркам вздумалось, что они на ярмарке, суют по карманам всякое дерьмо, что под ногами валяется, отогревают задницы на солнышке, шаромыжники несчастные, другие вообразили, что их ждут в каждой дыре из глинобитки, вы только посмотрите на них, герои нашлись, решили мир спасать своими руками из жопы и лыбой во всю рожу, с такими только зоопарк открывать можно! Орда, называется! Стадо слюнтяев. Где Пьетро, мать его? Ударился в общественную деятельность, ходит руки всем старухам пожимает, князя из себя корчит? А Сов? Каракули свои малюет на случай, если мы и в самом деле окочуримся, чтоб им там в низовье было чем повеселить мелюзгу деревенскую, 35-ю, которую они там нам на смену дрессируют? Еще одну широкозадую готовят? Быстрее нас пойдет? Ага, разбежались. Орава блондинчиков из колодцев повылазила и
705
туда же. Курам на смех. Детвора! Слушайте сюда, забейте себе это в свои коробки с тремя извилинами. Вам нас никогда не обойти. Потому что у вас нет и никогда не будет настоящего Трассера. Не будет никакого десятого Голгота. Не дождетесь вы от меня детей, понятно? Потому что я не позволю, чтоб эта кучка палачей, как только мальцу стукнет пять, закинула его на корабль и отгрузила (как кусок мяса) в Аберлаас. Я не хочу, чтоб его пинали, колотили, дубасили, пока все слезы не выплачет, пока не добьют до состояния, когда уже не можешь ни плакать, ни звать на помощь, когда остается только впиться шипами в стены. Когда стервенеет кровь. Когда стоишь в Дырявом Зале, а перед тобой мелькают лопасти больше тебя в четыре раза, а с потолка на голову швыряют кварц, специально, чтоб до тебя «быстрее дошло». А вокруг самоубийства сплошняком, целыми сериями, или убийства, о которых не можешь не догадываться. Которые видишь. Которые вынужден принять. Ну что, охота попытать счастья, а? Вы уже в курсе? Фигня дело! Еще одна деталька, совсем мелочь, — реки липкого навоза под ногами, чтоб приятнее жилось. Не будет никаких Орд после нас! Все, можете расходиться по домам! Мы последние! Орда, после которой точка. Предел, финиш. Мы та, на которую вы все молились испокон веков на этой чертовой земле, вы, жалкие застеночники, только и умеете, что захламлять нам линию Контра своими халупами, потому что, видите ли, здесь меньше дует, чем на обледенелых берегах. 34-я, набейте себе на лбу. Что, не ожидали? Ничего, привыкнете. Я кто такой? А ну, повтори! Голгот, говорят тебе, девятый, именно… Смотри-ка, лучше заходит, если хорошенько вколотить…
— Так, а теперь попробуйте по памяти. Запишите вчерашний ярветер, первый вал! У вас тридцать секунд!

704
) 
Но они меня даже не слушали. Переглядывались себе, толкались локтями, повторяли друг за дружкой, веселились точь-в-точь как дети. Кориолис зарывалась в песок, перекатывалась из стороны в сторону. Темные, волнистые пряди то скрывали, то обнажали ее губы. Она снова и снова заливалась смехом. Обворожительно. Но старалась держаться с достоинством:
— А я-то думала, что быть скрибом это дело суровое!
— Это и есть суровое дело, если рядом не околачивается этот полоумный трубадуришка! Возьми линейку времени, Карак! Ты ставишь пробелы где ни попадя.
— Не сбивай меня, я считаю! А хроны ты как изображаешь?
— Никак я их не изображаю.
— Но это же формы ветра!
— Нет.
— Да!
— И чем ты это докажешь?
— Они выходят из воронок, Сов, это же очевидно! Это все знают!
— Ну, может, ты и знаешь, а я нет! Хроны — это сопутствующее явление при появлении воронок, не спорю, но с научной точки зрения ничто не доказывает подобного происхождения.
— Я не могу транспонировать ярветер без хронов!
Он снова хохотал, ставил кляксы на своем листе, размазывал их, пачкал лицо Кориолис, она злилась. Для вида.
— Хватит разводить балаган, Карак! Давай серьезнее, если хочешь стать скрибом во второй позиции, и ты тоже, Кориолис, если хочешь быть в третьей. Это вам не шутки. Если я умру, ведение контржурнала перейдет Караколю, вы это хорошо понимаете?
— Ты не умрешь!
703
— Да? И почему же?
— Потому что ты герой журнала!
≈ 
Сов весь подрагивал, как стебелек на ветру. Бедняга! Он такой милый, такой добрый ко всем. Всегда выслушает, пожалеет, защитит, если Голгот разбушуется, всегда готов помочь Свезьесту, подбодрить всех нас. Они вчера с Пьетро были на высоте. Я их очень уважаю. Сов, конечно, не красавец, слишком худощавый, суховатый, но в нем есть что-то трогательное, что-то очень настоящее. И еще он очень умный, но это скорее пугает.
— Герой — это сама Орда, ученичок! Контржурнал повествует нашу общую историю.
— Она повествует историю того, кто ее пишет. Твой грядущий путь. В этом ее единственная ценность, писака!
— А я думала, что нашим героем будет Караколь…
— Наш герой — ветер, принцесса, это ради него мы учимся писать. Только ради него.
— Но к чему все это? У каждого ветра свои выкрутасы, невозможно все зашифровать! Можно целыми днями заниматься этим бумагомарательством, рисовать точки, запятые, апострофы, кто больше, тот и молодец, и что с того? Мы станем счастливее?
— Сейчас ты его раздраконишь, нашего бумагокропателя.
) 
Я, конечно, не злился, но вот только что ей ответить? Что потребовалось восемь веков и тридцать три Орды, чтобы скриб за скрибом, благодаря (в первую очередь!) деревенским эрудитам, человечество начало осознавать, что ветер обладает глубинной структурой? Что это не чистый хаос в движении, не высвистанная наугад разноголосица, не полнейшая бестолковщина? Что существует невероят-
702
но сложная, вполне возможно и вовсе не имеющая границ аэроритмика, которая выстраивается вокруг девяти форм ветра, и что по итогам бесконечных дебатов только шесть из них были признаны архитектурными и различимыми? Что теперь оставалось найти еще три, и многие считают, что только Орда способна встретить их на своем пути? Объяснить ей, что вокруг этих канонических тем, подразделенных в свою очередь на мажорные и минорные, развертывались сотни орнаментаций, тончайших вариаций, каденций и периодов, темпов и размеров, исполняемых
ad libitum? Что не проходило и ночи без того, чтобы какой-нибудь ветровед на этой земле не открывал нового мотива, не принимался бы заново исследовать уже давно установленные связи между залпами и турбулами, не выявлял бы систолярного упорядочивания шквалов на 17, 29, 40 долей, которого никто ранее не уловил? Что, одним словом, в плане необъятности возможностей ветер был столь же богат, как и музыка или литература, с той разницей, что нам до сих пор не известен композитор — полупрозрачный грубый гений, сочинявший симфонии почти за гранью нам доступного, бросавший нас в недоумении под ливнем этого диктанта, с нашим набором из жалких двадцати значков, одним-единственным пробелом для меры времени и разжиженными мозгами на прицепе, в телеге из костей, нас, способных в лучшем случае на несколько сомнительных соединений, на некое подобие местной алгебры соотношений да на растительную интуицию несчастной горстки структурных взаимосвязей, которые лучшим из нас удавалось почерпнуть из математики или теории деревьев?
— Сколько тебе, Кориолис?
— Двадцать пять.
— Кажешься моложе.
701
— Физически?
— Физически тебе через полгода будет тридцать. Ветер любит женщин. Помогает им созреть побыстрее. Кроме воздухосеятельного дела что ты еще знаешь?
— Я же говорил, что он на тебя разозлится!
— В смысле — что еще?
— Чему тебя учили в твоем селе, о ветре например?
— Много чему… Как ставить по две сети для лучшей фильтрации. Как узнать, что ветер несет хороший урожай… Ну, такого плана вещи.
— Ты знала, что существует девять форм ветра?
— Знала, конечно.
— Ты знаешь, куда мы идем?
— К Верхнему Пределу.
— А ты знаешь, зачем мы туда идем?
— Чтобы найти источник ветра.
Караколь прыснул со смеху, но быстро успокоился и снова стал слушать, не спуская своих живых глаз с Кориолис, которая вся незаметно ежилась под его взглядом. Зефирин ласкал лицо, трава под ногами была свежа, игрива. Я и сам не знал, почему был так строг и резок.
— Что, с твоей точки зрения, важнее: отыскать происхождение ветра или понять все девять форм?
— Не знаю.
— Для тебя, скажи, что важнее для тебя.
— Найти происхождение. Тогда все наши желания будут исполнены. Мы окажемся в раю, повсюду деревья будут полны фруктов, вокруг станут ходить милые и ласковые звери, и мы сможем спасти нашу землю, может, даже остановить ветер, разложить по сумкам и бурдюкам, приручить его!
Кориолис, конечно, специально несла чепуху. Но в то же время в глубине души она в это верила. Да я и сам
700
немного верил. Хотя бывали вечера, когда мне больше ни во что не верилось.
— Это Караколь тебе таких глупостей наговорил?
— Ничего подобного я ей не говорил, ваше высочество! Эта бесстыдница насмехается и городит бог весть что! Подобный вздор, мой господин, вовеки не сорвался бы с уст Караколя!
— А я хотел бы узнать девятую форму ветра, конечную. И умереть с этим знанием. Происхождение ветра — все равно что исток реки: когда наконец находишь его, всегда разочаровываешься. Ветер вырывается из земли, как лава из вулкана. И каков будет наш мир, когда мы замуруем его проход, если таковое вообще возможно? Мир без ветра? Мертвенная, удушающая безмятежность.
— Мы оставим небольшое отверстие для зефирина. Деревенщики будут счастливы, они смогут выращивать урожай без застенков и котлованов, в чистом поле, на равнинах! Можно будет строить дома любой формы, какой захотим, с окнами со всех сторон, и больше никаких крепостей! Пффюит!
— Дитя дитем!
Она снова была прекрасна, наивна. Она, конечно, прикидывалась маленькой девочкой, но это ей было так к лицу. Невинность. Я вдруг понял, что мне бы не хотелось ее отпускать, из Орды, я имею в виду. Что-то в ней было для нас жизненно необходимое, я не знал, что именно, но это несомненно было очень важно, я это чувствовал. Что-то связующее, свежее, искреннее, оно дополняло ни с чем не сравнимую нежность Аои, тепло Каллирои, поддержку Альмы, изящность Ороси. Ее женская сила, прорывавшаяся во всех жестах, в каждом брошенном слове, заключалась не только во влечении, которое она заставляла к себе
699
испытывать, это было нечто большее, может любовь, да, нет? Пылкость?
Ω 
И тут придурок нашелся, посреди равнины. «Пжалста, говорит, ну пжалста!» Помощи хотел. Лет двенадцать, ну десять с мелочью, морда гладкая, откормленная, типичный крытень. «Папа под бревном, поднять не могу, поможите», — замямлил мне тут, за руку меня тянет. Я не стал сморить с откормышем. Снял нагрудник и влепил его носом прям в плечо, в свою шкуру горса с наколкой «Голгот» и цифрой 9. Тот обалдел. Не от герба, от моих ран. Сплошные куски тухлятины, шея гноится, дерьмо вонючее. Он снова за свое взялся. Сопли распустил. Ноет как девчонка, сосунок застеночный. Жопой к ветру стоит, одежонку свою боится запачкать. Я ему подкосил опорную. «Вали отсюда, харчок! Пшел!» Но нет, снова заскулил про папашу своего: «Быстро надо, живой еще». Я бы даже сходил, в конце концов. Серьезно. Клянусь. Чтоб посмотреть, как он там подыхает. Как я хотел бы своего собственного отца увидать. Как он сдохнет.
) 
— Предлагаю напоследок немного почитать. Я вам дам прочесть несколько транспозиций, и вы по каждой скажете, о какой форме ветра идет речь.
Я достал контржурнал из сумки и положил на колени. Загнул тонкие листики до вчерашней страницы и открыл. Я чувствовал, как кожа Кориолис касалась моего обнаженного плеча.

— Это ярветер!
698
— Правильно, со всеми этими восклицательными знаками трудно не понять… Можете запомнить заодно, что волна обозначается « ! - ! », за ней контрволна «?» и воронка «О». Так, давайте теперь посложнее:

— Легкотня! Но пусть наша муза поищет…
— Кориолис, мы тебя слушаем… Что ты здесь видишь, в общих чертах?
— Э-э-э… Достаточно мягко, равномерно. Это должен быть ветер не очень мощный…
— По чему ты это видишь?
— Нет циркумфлекса, значит, не должно волочить пыль; и шлейфа за шквалом тоже нет…
— Что еще бросается в глаза? Что скажешь о ритме?
— Мало турбуленций. Тройная структура, если не ошибаюсь, сначала залп, потом небольшой спад и затем шквал. И так три раза.
— Отличный анализ. Так что?
— Думаю, что сламино.
— Бравиисссссимооооо!!!
— Не глупа наша фаркопщица… Ладно, последний. Небольшая ловушка:
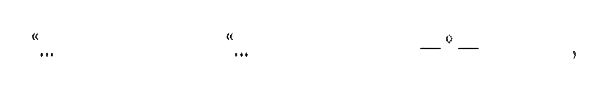
— Мерзкая штуковина… Шквал со шлейфом, дважды… потом эффект Лассини, вихрь, снова эффект Лассини… и дождевой поток? Что это? Конец ярветра?
— Нет, сосредоточьтесь на потоке.
— Шун?
697
— Точно. Шун, проходящий через перевал. Две недели назад такой был, помните?
— Нет. Терпеть не могу шун, от него вся одежда плесневеет.
— Ладно, думаю, с вас на сегодня хватит. Пойдем. Пора догонять остальных, они нас там заждались.
∫ 
Когда небо развиднелось, их по-прежнему не было видно на горизонте, ни одного из них. Я понимал, что они наверняка были вместе, втроем: Кориолис с Караколем и Сов с ними. (Вывели тебя из игры, а, Ларко?) Тем лучше, я предпочитал не видеть их вместе, не слышать, как она смеется, едва он откроет рот, чтоб рассказать очередную небылицу, изобразит какой-то фокус или затеет одну из своих игр (порой без малого дуэль). Я на него не злился, если уж честно говорить, то и на нее тоже. Пусть себе жеманничает, как только он показывается рядом, задевает его грудью, будто случайно. Этот парень, в своем арлекинском наряде, с вечно подвижным лицом, всегда таким осмысленным, был самой жизнью. А как не втюриться в саму жизнь? Я восхищался им (до одури), как и все остальные. Его ловкость меня поражала. Но еще более того, коль скоро я сам был рассказчиком и развлекателем толпы, до тех пор пока (пять лет назад) он не явился и не затмил меня в мгновенье ока, еще более меня восхищала его способность никогда не размусоливать один и тот же соус. Бесконечно выдумывать что-то новое. Караколь (я это признаю) был для меня моделью, маревом в человеческом обличье, которым я и сам хотел бы стать, хоть чуточку. Постыдно, я подбирал за ним все его каламбуры, крохи явленного из ниоткуда хлеба. Изо дня в день я получал урок, как получал пощечину. И всегда, стоило мне только у него спросить, он на лету давал мне объяснения,
696
показывал, раскладывал сюжет, выдавал без ужимок свои монтажи, свою простецкую или королевскую кухню, все свои секреты, короче говоря. Это мне очень помогало (но и отнюдь не помогало).
Я наконец заметил силуэт, крохотный, тончайший, который стремительно приближался ко мне. Это был Арваль. Он то здесь, то там, раскладывал разметочные фареолы. (Они вяло ухали в этих затянувшихся сумерках). Мне хотелось бы быть разведчиком (иногда), уходить в одиночку, искать трассу, отыскивать место для лагеря, как это делал он. Я стал ловцом на клетку по воле случая (чтоб оказать услугу) и, главным образом, чтоб меня приняли. Арваль был очень славный малый, всегда в немыслимо веселом расположении духа. Он как смог обозначил путь для нашего трио: при помощи привязанных воздушных змеев, дымящихся огней, вешек и наскоро сколоченных портиков. На своем непростом посту, где столь часто случаются ляпы и промахи, он настолько редко нарывался на хай от Голгота, что Пьетро называл его лучшим разведчиком за всю историю Орд. Дитя приволья, Арваль, как дикорос, жил на просторах вельда, чуть кверху от Аберлааса, пока его не заприметил один из ордонаторов, во время загона горсов. Нюх, врожденное чувство ориентации в пространстве, инстинкт встречных ветров, скорость и выносливость — все это было у него в крови. К тому же у него была уникальная манера считывать пейзажи, он запоминал их, проводя ассоциации (и это вообще с ума сойти) с историями битв фавнов с хронами, медуз и хищных птиц, воображал целые легенды на бегу, нам они изрядно облегчали запоминание маршрута.
— Фареолам ветра не хватает…
— Еле мяукают, Ларко-Коко, старые совсем!
— Иди съешь что-нибудь, я их подожду…
695
— Я еще там не сделал разметку, я пошел! Мало ли, а то вдруг сойдут с оси.
— Отдохни, Светлячок. Давай сюда своих змеев, я схожу…
— Пролетели, Ларко, мне нужно побегать, а то голод потеряю.
π 
Лет десять назад Голгот бросил организовывать наш быт. Вместо этого он предпочитал то побеседовать с Ороси о предстоящей трассе, то уточнить что-то у Тальвега про рельеф, то у Степпа про растительность. Он никогда не останавливался. Ввиду отсутствия Сова мне самому пришлось выбрать место, где разбить лагерь. Что-то наподобие небольшого природного цирка, в который можно было попасть, пройдя через ущелье. Там даже уцелело несколько деревьев, земля была устлана полотном оранжевого песка. Три конусообразных скальных выступа нависали над этим покоем. Хотелось умыться. Смыть с себя засохшую хлябь. Изнутри. Забыть о человеке, которого я мог спасти… Я распределил задачи: Аои и Степпа за хворостом, Леарха на вертел. Каллирою попросил позаботиться о расстановке ветряков и запустить позиционные сигналы, по которым можно определить исходную точку огня. Тальвег, с присущим ему одному талантом, нагромоздил несколько холмиков из земли и камня так, чтобы создать преграду и обеспечить сток воздушных масс по лагерю. Силамфр обтесал деревянные щепки и сделал нам из них новые приборы к ужину. Братья резались в бум. При каждом броске бум пролетал вдоль стенок цирка. Кто первый сделает полный круг?.. Как они были беспечны… На каждом шагу мне мерещилось, что я вот-вот кого-то раздавлю в песке.
— Слышите фареол?
694
— Мы неслабо задержались. Но, кажется, уже недалеко. Сов?
— Да?
— Пока мы не пришли, я хотела бы задать один вопрос. Насчет Голгота. Я слышала кое-что, но хотела бы… В общем, я хотела бы услышать твою версию.
— О смерти его брата?
— Нет, о том, что случилось в Аберлаасе. Мне рассказывали, что в конце его обучения, когда осталось всего трое детей… Я слышала о последнем испытании, чтобы определить лучшего…
— О Страссе?
— Да, что это? Можешь объяснить?
— Это известное испытание, даже деревенские его знают. Смысл в том, чтобы перехватить четырехметровую механическую трассировщицу, которая движется по сламино со скоростью около шестнадцати километров в час. На самом деле это устройство — ветряк на четырех колесах, установленный против ветра, с чугунным балластом. Чертовски устойчивая штуковина при контре. Сначала нужно ее догнать, а затем, если сможешь, остановить.
— Любым способом?
— На этот счет нет правил, никаких запретов. Ты просто должен ее остановить раньше, чем она проложит пять километров. Кандидаты начинают с отставанием в пятьсот метров — это очень много. У каждого в распоряжении отдельный коридор двадцати метров в ширину, канат и трассировщица на линии огня…
— Я слышала, что Голгот устранил…
— Голгот никогда не отличался быстротой, он это знал. Он уже в то время был чрезвычайно коренастый, со всеми вытекающими из этого недостатками, сама понимаешь. Когда в день испытания послали за детьми, явился только
693
один из трех: Голгот. Второго нашли дома, в спальне, изуродованного ударами булыжника, с методически проломленной грудной клеткой. А третий, по официальной версии, повесился. Но испытание не отменили. Атмосфеpа была полярная, можешь мне поверить, я наблюдал за гонкой из скрибского аэроглиссера. Тишина… Никто, собственно говоря, не думал и не надеялся, что у Голгота получится догнать трассировщицу. Он провалил все восемь пробных испытаний! Раздался сигнал. Голгот выдвинулся тяжеловато, но перекрыл свой отрыв по ходу, через три с половиной километра. Как только ему удалось нагнать машину, он бросился на нее. Ударами ног постарался разбить механизм, который соединяет вращательную систему с колесами, затем принялся за ступицы и оси. Но ничего не помогало, машина по-прежнему неслась вперед. Оставалось менее километра до линии дисквалификации. Тогда он взял канат, завязал один конец за поручень ветряка, так высоко, как только смог дотянуться, обвязался другим концом и спрыгнул с трассировщицы…
— Идиот, что ли?
— Те, кто следовал за ним на велеснице, потом рассказывали, что он упал ничком и что его так и протащило метров триста, пока ему все-таки не удалось перевернуться. Он орал как резаный. Когда наконец смог коснуться пятками земли, то весь выгнулся, что есть мочи, сжимая канат изо всех своих детских силенок, но трассировщица не тормозила, она неслась во всю железку, отрывала его от земли, тащила за собой, как кусок мяса, чистая механика, безжалостная. Ему грозила дисквалификация, весь курс обучения аннулировали бы и запустили заново с нуля, без него. Он это понимал и тянул, тянул рывками, бессильно. Ом был всего в четырехстах метрах от финиша, как вдруг ему в голову пришла одна мысль… Сам я этого не видел,
692
но мне рассказывали, что ордонаторы
плакали. Мне это, конечно, кажется невероятным, но это правда. Они умоляли его все бросить, он был весь в крови, с ног до головы, ребенок же еще, но он не бросил, он издавал жуткие мучительные вопли, вой ошкуренного зверя, но у него возникла одна
идея.
— Слушай Сова внимательно, принцесса. Мне никогда не выдумать ничего подобного. Настолько его история нага, как есть.
— Вместо того чтобы пытаться пересилить сверхмощную тягу трассировщицы, Голгот решил воспользоваться скоростью, которую она ему придавала… Он снова бросился бежать, словно букашка на фоне этой махины, погнал во весь опор, используя эффект маятника, забрал вправо… Следовавшие за ним велесницы разлетелись в стороны от неожиданности. На полном ходу Голгот перебросил канат через плечо, сделал два мертвых витка вокруг себя и отчаянно рванул что было сил, всем своим весом и всей скоростью, в направлении, перпендикулярном линии движения машины. Ты хорошо слышишь? Не назад, чтобы затормозить: в сторону! Чтобы опрокинуть машину! Канат хлопнул под силой рывка. Голгота как напополам разрубило от броска. Он не поднимался. По другую сторону левые колеса ветряка оторвались от земли. Машина замерла в таком положении, у него за спиной, я очень хорошо все это помню, мы все как приклеились к ней глазами, все орали, хотели, чтоб она упала, это был общий вопль из самого нутра: «Падай!». Это было что-то, чего не понять тому, кто не знает Аберлаас, все дети ревели во все горло, один сплоченный хор: «Пааадааай!»…
— И она упала?
— Да. Упала. В тридцати семи метрах от линии дисквалификации.
691
— А… другие кандидаты… удалось выяснить…
— Вот как Голгот стал нашим Трассером. Можете думать что угодно после этого. Что он убийца, сумасшедшим, что хотите. Но я его уважаю. Меня не обучали в Кер Дербане, меня не отрывали от родителей в пятилетнем возрасте, мне не укрепляли мышцы ног, колотя по ним железной палкой. Я не видел, как на моих глазах умирает родной брат из-за бессмысленной суровости моего собственного отца. Я не знаю, кем бы стал на его месте. Был бы я вообще еще жив. Я его не прошу похлопать меня по плечу, когда еле плетусь за ним. Я вообще его никогда ни о чем не попрошу. Мне хватает того, что он жив.
∫ 
Притащились наконец. У всех троих мины кислые, а мне от этого только снова паруса надуло. Ужин уже давно в разгаре: сервал на вертеле, фрукты и зерна, немного горячего хлеба, который испекла Каллироя. И главное — вино, бутылками, кувшинами, штофами, целые ведра вина, которые мы понатаскивали из деревушек. Крепкое вино, настоящее пиршество. Это был приятный вечер, светлый, усеянный звездами, он просто не мог закончиться иначе, чем сказкой трубадура. Караколь дал себя поуговаривать (слишком долго, как обычно), затем пошел к саням и принес пару инструментов. Отчертил на земле место для представления, разворошил горящие поленья, раздвинул их по сторонам, чтоб лучше было видно, и сел. Мы, как всегда, расселись вокруг центрального костра подковой, напротив него. Кориолис украдкой подвинула Степпа, чтобы сесть рядом со мной, затем устроилась между моих ног, опершись спиной мне о грудь, сомкнула руки на моих руках, ничего не говоря, тихонько вжалась в мои объятия. (Ее локоны пахли костром.) И меня унесло куда-то вверх, я воспарил над цирком, наполненный ею (делая в воздухе
690
всякие выкрутасы), заливаясь внутри смехом, не в состоянии поверить в свое счастье.
— Все, что есть в этом мире, сделано из ветра… Твердое состоит из медленно текущего жидкого. Да-да! Жидкое — из плотного воздуха, более густого, вязкого… Кровь образуется из свернувшегося огня, а огонь из фёна, скрутившегося клубочком в вихрь, завивающийся спиралькой меж поленьев… Вся наша вселенная существует лишь благодаря размеренности и протяжности, по воле
медлеветра… Но, чтобы вы могли меня понять, придется мне вернуться на зарю времен…
) 
Караколь поднял свой ветровой посох и завертел им над головой, точно то был воздушный винт. Дерево угрожающе засвистело в его руках. Всего две фразы, и вот он уже в игре:
— Вначале была скорость — полотно из тончайшей молнии, без цвета и текстуры. Она разрасталась, стремясь из сердцевины вдаль, по расстилающемуся под ее полетом простору. Имя ее было
чистветер!
Чистветер не имел никакой формы: то была скорость, сплошной неумолимый бег. Ничто было не в силах выжить в этом ветре. Но настал момент, когда от натяженья полотнище лопнуло, открыв тем самым эру полноты и пустоты, мир разрозненных ветров. Ветры неотвратимо сталкивались, состязаясь в своей мощи, порою суммируя ее, порой взаимоуклоняясь и взаимоукрощаясь… Так появились первые вихри, так началась эпоха замедления. Из этого хаоса тягучей материи, замешиваемой лопастями воронок, стали выделяться завитки медлеветра, стал образовываться космос пригодных для жизни скоростей, из которого мы все берем начало. Из медлеветра, столь многообразного по своему генезису, из несметного количества наслоившихся
689
друг на друга медлеветров, вышли те формы, которые так пропивают нашу жизнь: почва под ногами, скалистая твердь, безупречный овал куриных яиц!
Караколь, по своему обыкновению, замолк на несколько мгновений. Он смерил взглядом убаюканную его словами Орду, вслушался в степенность тишины и подбросил в костер пучок травы. Наши лица на миг осветились, и рассказ продолжился:
— Но нет, нам слишком мало того чуда, что мы просто можем жить. Что для того, чтоб уберечь наши кости, нам дан довольно неплохой мешок из кожи, что он дышит, что в нем бьется сердце, не разрываясь от каждого удара! Так чем же мы так недовольны? Тем, что наш мир еще слегка кружится, что не вполне затихли бури меж холмами, служащие нам укрытием? И на кого мы ропщем? На ветер, надо же, на медлеветер, который весь и так на издыхании, ослабший, еще слегка метет равнины, поднимая в воздух горсть песка… Мы ропщем, не понимая того, что этот самый ветер в начале всех начал был быстрее света! Чистейшая молния! Невыносимый. Так будьте же почтительнее к шквалам. Они есть ваши отцы и матери. Не забывайте, земля, что кажется вам столь надежной под ногами, была здесь не всегда, а проказник-ветерок, что так любит тормошить вас спящих, пришел сюда не сразу, баламут. Вам следует запомнить и научиться чувствовать, что ветер был началом. А земля и вместе с ней все то, что мыслит себя здесь сегодня самородным, все было соткано из его порывов. Движение
создает материю. Ручей
творит свой берег. Своей водой он точит камень! А рыба, уж поверьте мне, не что иное, как простая горсть воды, замотанная в тюрбан…
Вокруг костра утяжеленный вином сон наделал темных дыр во внемлющем цилиндре. Над скоплением лежащих
688
тел, однако, возвышались отдельные еще бодрствующие фигуры, в вечерней свежести мерцали радужки открытых глаз. Почти одновременно со мной поднялись Пьетро и Голгот, предчувствуя, что Караколь задумал очередную загадочную паузу. Голгота больше остальных злил этот вечно изломанный ритм, и он нередко покидал нас посреди рассказа, чтобы пойти размять ноги. Но сегодня он был не настроен позволять Караколю говорить что вздумается, а потому при каждой высказанной вольности он, качая головой, ругался, но речь не прерывал. Ему, видимо, и самому не меньше нашего было интересно, какое продолжение придумает наш трубадур для своей карнавальной космогонии… Однако запрятанное внутрь чувство гнева, разгоряченное вином, казалось, все же брало верх. Голгот несколько раз пнул ногой по кучке песка и, не дожидаясь, пока Караколь возобновит рассказ, спросил:
— Ты тут голосишь, что все произошло из ветра. Ну и откуда этот ветер взялся? Куда его несет?
— Из ниоткуда и в никуда. Он проходит. Он раздувается в средине космоса, он веет через звезды и сдувает Млечный Путь!
— И что тогда на Верхнем Пределе? Голая девка с вентилятором в руках? Дыра небытия с лопатой внутри и надписью «Копай!»?
— Ничего. Там ничего нет. Нет Верхнего Предела. Нет начала ветра. Земля не имеет конца. Ветер никогда не начинался. Все течет, продолжается…
— Ты что, правда идиот, что ли?! — заорал Голгот в сильнейшем приступе бешенства и швырнул ему в лицо песком.
Но Караколь лишь закрыл глаза, улыбнувшись, и продолжил свою болтовню под заинтригованное молчание фаркопщиков. Мы совершенно опьянели от вина и
687
нежности, так что для прирожденного рассказчика, каковым был Караколь, не составляло никакого труда удержать нас у костра:
— Видите этот огонь? Обломки скал вокруг, которые его оберегают? Так вот, все это пронизано одним потоком, одной невидимой, подвижною струей, что разгоняет корабли и истощает наше терпение и веру в мечту. Камень есть свернутое пламя, попавшееся в оболочку тени. Само же пламя подобно ветру в том, как безмерны его скорости, как поглощает и присваивает все то, что на его пути, чем движет и чему дает покой, поскольку ни одной жизни — и и этом весь секрет — ни одной жизни не удержаться там, где нет покоя форм и постоянства почвы. Степп прекрасно это знает: даже куст пылает втайне. А камни, если только внимательно на них посмотреть, вибрируют. А, Тальвег?
— Особенно под молотком!
— Свои ветра они держат на короткой узде, чтоб те крутились и сплетались туго внутри, не задевая неизменной, заботливо выбранной формы. Какая битва в каждом камне! Как тяжело не перелиться, не стать водой, не запылать! Кому под силу будет выжить, скажите мне?! Кто из людей сможет дышать, если в один прекрасный миг вдруг загорятся камни, просто так, из хитрости, где вздумается, без правил и приличий? И здесь, и там, хоть в этом самом цирке, под деревьями, под нашими ногами! Ппппшшшшш! Но этот день придет. Быть может, завтра. Как мы гордимся присвоенными себе формами, взгляните только на наши каплевидные дворцы! Как мы напыщенны, как превозносим свои контуры, очертания, телосложение, собственные шкуры! А ведь все это сделано из одной плоти, внутри все та же жизнь и тот же ветер. Меняется лишь скорость, порою плотность, где-то там, в бесконечной радуге текстур. И что весомее всего, конечно,
686
направление, выбор движенья противоборствующих сил, ветер-на-ветер, лицом к лицу, приятель-неприятель. Вот и все! Поднять паруса! Пред вами целый мир
и бескрайность его форм. Все его разнообразие в своем многообразии… Но, чую я, меня влечет блуждающий мой огонек, за ним иду на поводу.
∫ 
Да-да, вот сейчас его действительно унесет… В этом ему нет равных.
— Слушайте и внимайте: страхом овладевайте! В вас он царит и рыщет, укрывшись под кожей, свищет: «Остаться собой, остаться собой». Но птица безумья Морфнус, несется прямиком в твой разум, присвистывая «Метаморфоза» раз за разом! И песнь ее плавна и ловка — синева земная, трель из песка, сироп из меди… «Форма не норма, она проворна, не для проформы, трансформируй мир! Плещет пламя, пылает земля, струится небо, излей и ты себя…» — насвистывает она. Не слушай страх, не слушай птицу! Страх обводит и чертит, ставит крест и проводит раздел, ему бы лишь только оставить смерть не у дел. Но птица моя быстра, изгонит тебя из себя, из женщины сделает волка, из полка — пламя огня, пронесется по жизни летя, душу в ней не щадя, отправит ее на пожарище…
) 
Караколь поднялся, взял крумгорн и заиграл. Лихая мелодия постепенно смягчилась, стала более благозвучной и затихла. Караколь сел, тихо положил инструмент и серьезно посмотрел на нас. Когда он снова заговорил, голос его был прям и спокоен:
— Не позволяй другим вершить, кем и где тебе быть. Под звездами мой ночлег. Я сам выбираю вино, которое буду пить, мои губы — мой виноградник. Будь
685
соучастником жизни, признайся себе, беги! Только не мимо жизни. Резко и веско решай: помогай или отвергай. Ищи того, кто не близок, далек порою тот дом, что станет твоим гербом.
Еще одна пауза, последняя. Караколь словно прикован глазами к нашим глазам, пытаясь отыскать в них эхо, братство созвучия, но никому из нас не было дано откликнуться с высоты его грез. Он поднялся, и, ритмично выщелкивая каждый слог, окончил:
— Космос — мое пристанище.
(обратно)
IV
КРЕПОСТЬ ОСТОВА
— Сов! Вставай!
) 
Я повертелся в спальном мешке под звуки ветровой арфы, не открывая глаз. Залп, долгое шуршание материи, высокое, резкое звучание, затем легкое затишье, полное ласки, обволакивающее, мягкое, почти вязкое. Нарастающий порыв, новый залп, отрывистый, хлесткий. Снова затишье, протяжное, тягучее, уносящее вместе с собой к низине. Третий залп раздался форте, но сразу пошел на диминуэндо, постепенно превратившись в тихие перекаты оттенков бриза.

Сламино. Вторая форма ветра, в одной из своих простейших вариаций, называемой Мальвини, часто встречается посреди дюн, в краю упитанных песчаных холмов. Такой ветер нужно контровать между хребтов, в провалах между залпами, в третьем темпе и без скачков. Я открыл глаза. День обещал быть прекрасным. Все уже свернули навесы и сложили спальные мешки. Остаток чая грелся на еще не остывших углях. Пришлось проглотить его залпом,
683
так как фаркопщики уже прицепили сани, Голгот, готовый к контру, раскачивался на ногах, словно гигантская кегля, Караколь убежал раньше остальных и Орда просто-напросто ждала, пока ее скриб наконец займет место в Клинке, чтобы выдвинуться в путь.
— Свободный ряд. Контруем нитью!
Ветер был довольно тихий, и Голгот, конечно, был прав: не было смысла продвигаться блоком и загораживать другим пейзаж. Растянувшись в линию, мы быстро пробирались через долину, которая укрывала нас от ветра, петляя между ее косматыми холмами, чтобы извлечь самую максимальную выгоду из встречных ветров. Прошли перешеек, затем еще одну долину, но уже не столь холодную и утопающую в песках, снова перешеек, и за ним заново долину… Со дня ярветра минуло чуть более месяца. Мы постепенно выбрались из песков, соляных равнин и барханов, карабкаться на которые было просто убийственно, и дошли до пустоши, места куда более милосердного. Огромные прерии ускользали при нашем приближении, улепетывали от нас, проскальзывали между ногами, как озорные длиннохвостые сурки…
∫ 
Тоскливый день под сламино. Кориолис отдалилась от меня сегодня сразу поутру, моя прекрасная гончая, идущая по следу, вот только чьему? Караколя. Я контровал по прерии впереди остальных, и в какой-то момент обернулся посмотреть на нашу кучку сумасшедших. Странно. С каждым годом мы все больше приобретали цвет того, через что нам приходилось проходить. Мы пожинали высевки плохо смолотой жатвы, пыль расслаивающихся стен, стирающихся дорог, переносили дожди, которые больше не лились с небес, а текли так, словно горизонт проливал на нас свои слезы. Ветер нас пробуждал, бодрил, успокаивал,
682
убаюкивал и купал. Он бесцеремонно касался наших голов, давал пощечины, пускал кровь, ласкал и лелеял. Никто из Орды вам бы не сказал, что любит ветер. Но никто не сказал бы и обратного. Существуют миры (только вчера закидывал Караколь), где ветер рождается и умирает, приходит и исчезает, согласно дням или часам. Если подобный мир и существует, то в нем, естественно, имеет смысл любить (или не любить) ветер, ведь есть с чем сравнивать. Но здесь? Стал бы кто-нибудь жаловаться на то, что на небе облака, а под ногами земля? Так всегда было, есть и будет вечно. Так же и ветер, вот он, здесь. А потому мне остается только заткнуться и продолжать мой путь.
∂ 
Вдали послышался какой-то свист, но не бумеранга и не метательного диска, что-то массивное, тяжелое, несущееся во весь опор… Внезапно раздался гудок трубы… земля в верховье равнины задрожала, глухо разрываясь.
π 
Когда это случилось, впереди меня никого не было, даже Голгот и тот остановился где-то позади посмотреть на горса. Я искал лучшую трассу. Покатая равнина стелилась вперед, насколько хватало глаз, нежно-зеленая, с металлическими отблесками. По левую сторону тянулся, задавая направление для трассы, линейный лес в три дерева толщиной. По правую ему вторила местами продырявленная кустарниковая изгородь. Контровать ближе к изгороди представлялось мне наилучшим решением: она вернее разобьет нижний поток ветра, нежели лес, где турбулентность порой бывала весьма жесткая. И я стал скашивать по диагонали.
¿' 
Они затормозили так, как никто другой этого сделать бы не смог,
ши-рек-рам, не сворачивая парусов,
681
дерзко, пусть хоть мачты сломаются. Запустив в противоположном направлении лопасти винта на носу корабля и создав таким образом обратный отдув, они резко прибили корпус к земле, прошабрив днищем по песку.
) 
Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта. Через восемь секунд он был уже перед нами. То там, то здесь над корпусом, прихлестывавшим траву к земле, были подвешены велесницы и парапланы, крылья которых перекрещивались высоко над рангоутом. Не знаю, как они нас заметили, как затормозили, знаю только, что корабль пронесся в десяти шагах от меня, пробороздил всю Орду и никого не задел. Когда земля перестала содрогаться, они убрали боковые элероны, подняли лемеха и дали судну спокойно замереть. Дерево заревело на травяном ковре, и я услышал скрип колес буксировочных телег, дребезжание крыльев и шелест парусины тормозных воздушных змеев. Затем тишина вокруг нас будто заколыхалась, и вдруг раздались три звучных и протяжных гудка валторны. Чтобы у нас не осталось сомнений, кто перед нами.
¿'  Легкая эскадра
Легкая эскадра, как они сами любили себя величать, была самой маневренной и неуловимой во всем фреольском братстве. Она всегда появлялась внезапно, никогда не швартовалась позади деревень и не становилась на якорь в убогих толстостенных портах. Благодаря несущим винтам чертовка держалась на ветру где угодно, хоть посреди пустыни! Юхууу! Планеристы! Чего только стоит их контр-адмирал Шарав да его альтер эго Элкин, коммодор низовья, который перенимает на себя управление, когда нужно исчезнуть гладко, курсом на запад, ветер в корму! Этих ребят я знаю лично! Знаком с ними в моем качестве
680
Караколя. Лучшие воздушные стрелки всего флота! Пролетчики, жаждущие все увидеть, все познать! Поглотители пространств, идущие без карты, читающие азимут по ветролябии и звездам, рассекающие просторы даже ночью, по холодку.
) 
Мы уже года три как не видели ни одного судна, спускающегося с верховья. Буера — да, частенько; малокалиберные аэроглиссеры; крепкие
контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали, но вот драккаэро такого масштаба — ни одного. У нас за это время даже сложилось убеждение, что помимо нескольких наиболее продвинутых городов, названия которых были набиты заглавными буквами вдоль позвоночника Тальвега, мы более почти ни с кем и не пересечемся, и уж точно не с Фреольцами. Это нас, конечно, немного беспокоило, но, откровенно говоря, также придавало сердцам чувство глубочайшей гордости, сглаживая тем самым ощущение изношенности и одиночества, въевшиеся в каждого. Как только корабль остановился и прошло охватившее нас оцепенение, я понял три вещи: во-первых, за три прошедших года Фреольцы развили ветряные технологии сильнее, чем мы могли себе представить; во-вторых, чтобы забраться так далеко в верховье — а шли они теперь как раз обратным курсом нам навстречу, — они должны были в совершенстве владеть техникой лавирования по встречному ветру; и, в-третьих, мы, по всей очевидности, были еще очень далеко от Верхнего Предела, а значит, вероятнее всего, не сможем до него добраться раньше них. Я долго стоял, ошарашенный, вместе с остальными ордийцами, застывшими то там, то тут в высокой траве. Потом стал искать Голгота. Каркас его тела весь согнулся под турбулентно-
679
стью кильватера. Он стоял ко мне спиной, как завороженный глядя на фреольский корабль. Я его окликнул. Он не спеша обернулся ко мне, понял по моему выражению лица все, что я думал, и немного взял себя в руки:
— Достать знамена! Контралмаз! Построение для парада! Салютовать Фреольцам!

Он выкрикнул эти слова в пустоту, ни на кого не глядя, как будто обращаясь к самому себе. Орда механически стала в строй. Пьетро приблизился ко мне, мы посмотрели друг на друга, его обыкновенно столь ровный и благородный остов словно осел, опорная станина плеч покосилась: «Теперь мы ничто, Сов. Свергнутое сословие, смехотворное, отсталое. Наше время вышло», — говорила вся его поза. Затем он стал в Клинок, и мы направились к фреольскому кораблю.
— Не напрягайтесь, пешеходики! Послушайте, что говорит вам Папаколь! Их фланговики сейчас развернут судно на полвольта и ладненько подкатят прямо к нам, достанут парадный трап, и на борт выйдут нас встречать самые сверкающие из женщин, которых им удалось
678
соблазнить за десять последних квадратных месяцев вокруг!
π 
Их было около сотни, и по меньшей мере половина — женщины невиданной красоты. Матросы были одеты в хищно-рыжие расцветки: от темно-фиолетового до желтого, в соответствии с неопределенными фреольскими званиями. Женщины облачены в бесконечные оттенки синего. Все, от корпуса до рангоута, было сделано из дерева. Перед нами развернулся трап. Духовики, выстроившись на парадном мостике, настраивали инструменты.
) 
Фреольские фанфары зазвучали плавно, едва уловимо в увертюре, залпы сламино отбивались от корпуса. Вступил крумгорн, подхватили валторны, ворвались трубачи. Двое мужчин, один немолодой, в фиолетовом камзоле, другой в темно-фиалковом, спустились по трапу к нам навстречу без особых церемоний. Голгот и Пьетро, еще слегка одеревенелые, все же вышли вперед, немного приосанившись.
— Впереди контр-адмирал Шарав. За ним — Элкин, коммодор. Они оба капитаны. Шарав управляет при контре, Элкин — во время навигации по ветру.
— Ты их всех знаешь, Карак?
— С доброй полусотней на этом корабле знаком. Я с ними два года плавал. Перед вами авангард фреольских технологий. Они могут любой маневр сделать на одном шквале. Могут кверху пойти под ярветром.
Караколь все это сказал как будто между делом, спокойно… Под ярветром!
Пойти кверху под ярветром! Как в такое вообще можно поверить? Снова сказки, вечные выдумки!
677
— Если глаза мои не врут мне, то передо мной 34-я Орда, застигнутая на полном контре, среди степей. Друзья мои, добро пожаловать на борт
Физалиса! Для нас огромная честь встретить вас и пригласить вас разделить с нами нашу скромную эскападу. Ваша репутация блистательна от Дальнего Низовья до Дальнего Верховья. Согласно нашим источникам, у вас преимущество более чем в три года по отношению к предыдущей Орде, Орде ваших родителей, которых мы, кстати сказать, повстречали у подножия Норски. Они приветствуют и ждут вас.
Пьетро, взволнованный, каким я редко его видел, нарушая весь протокол, робко спросил:
— Как… Как мой отец?
— Прекрасно. Он наслаждается счастливой старостью и мечтает лишь об одном в этой жизни: увидеть вас живыми! В трюме у нас несколько подарков, для вас и для ордийцев по имени Тальвег Арсиппе, Сов Севченко Строчнис и Ороси Меликерт. Прошу простить, если я исковеркал ваши имена, говорю по памяти. Эти подарки передали нам ваши родители на случай, если мы вдруг встретим вас. И этот случай только что представился, чему я безмерно рад!
У меня на глаза накатились слезы радости. Пьетро был не в состоянии вымолвить ни слова. У Тальвега горло свело. Целых пятнадцать месяцев у нас не было никаких хоть более-менее надежных новостей о наших семьях, и вдруг наткнуться на Легкую эскадру, которая спускается прямиком с верховья!
— Но не стойте же на ветру, поднимайтесь скорее на борт!
— Как далеко находится деревня, о которой вы говорите?
— Норска?
676
— Да.
— На корабле или пешком? На корабле при сламино примерно месяца четыре.
— Пешком.
Контр-адмирал повернулся к заметно удивленному коммодору, и тот неуверенно ответил:
— Право, как знать, мы никогда не видели вас в контре. Но пешком… Четыре года, может меньше, даже не знаю.
Мы поднялись на палубу, забыв представиться от волнения. Нас приняли великолепно, с криками «виват», с подарками. Мужчины и женщины подхватывали нас на радостях от того, что могли прикоснуться к живому мифу, которым мы, по их мнению, были, тогда как я чувствовал себя всего лишь простым любителем прогулок на природе, жалким пешеходом бытия…
— Трубооо! Жонглер светил, метатель фраз, непревзойденный сказочник! Я думал, ты на краю ветра, глотаешь аберлааскую пыль на утешенье дамочек с нежно-прозрачной кожей!
— Зови меня отныне Караколь, мой старый добрый Балевр! Под этим именем, в упрямой Орде, я был перерожден. Я бросил все, оставил тишь да гладь, да ветра благодать! И в черепашьем темпе мчусь сегодня к Верхнему Пределу, чтобы оттуда сверху плюнуть в спину вам!
— Боюсь, что, когда ты пройдешь Норску, на костях твоих не останется известняка. Но я желаю тебе просторной жизни и мягкого ветра! Пойдем, я угощу тебя в своей каюте вином из солнечных долин!
π 
Я не смог удержаться, чтобы не подойти к рулевому и не попросить его показать мне трассу к Норске, не расспросить про ветра, что дуют в каждом краю, где нам придется контровать. Я в том числе хотел оценить расстояние.
675
Он показал мне трехлопастные винты, ременные передачи и сложнейшую систему сцеплений. Продемонстрировал тройной набор винтов: гребные кормовые, плоские килевые, создающие эффект воздушной подушки, и маленькие носовые для проходки судна. Корабль постоянно находился в воздушной оболочке, что упрощало проходимость при высокой скорости.
Физалис использовал вплоть до семидесяти из ста проходящих по кораблю ветров. Аэродинамическая эффективность эскадры не имела аналогов во всей фреольской туманности.
— У нас ушло двадцать лет на то, чтобы устранить турбулентность в кильватере, в частности при нестационарных, обособленных или рециркуляционных оттоках.
Я не понял ни слова, но закивал в ответ.
— Нам удалось улучшить несущую способность корабля благодаря ряду боковых лопастей вдоль корпуса. Сзади турбины делают все необходимое: обеспечивают передачу энергии, накопленной ветряками на мачтах. Мы идем кверху со скоростью двенадцать узлов при встречном ветре, и даже галс менять не надо!
< > 
«Как ты себя чувствуешь?» — спросила меня Ороси, вся сияя от радости. Она была счастлива узнать, что ее мать жива, что их Орда всего в нескольких годах контра, к тому же ей явно было приятно видеть, как нами все восхищаются несмотря на то, что в некоторых взглядах поблескивала, даже не знаю, как именно это назвать… Некая ирония? «Как ты себя чувствуешь?» Как свеча, которую зажгли и с легкостью задули, свеча, которая позабыла о своем собственном тепле и не в силах понять, что и зачем ей освещать. Мы так старались скрыть свою изношенность, но сегодня она вывернулась наизнанку, будто кожа. У меня в груди все сжималось и ныло от этого чувства, которое появлялось каждый раз, когда мы встречали других
674
людей, от ощущения того, что мы проходим мимо наших жизней. Я смотрела на сияющих Фреольцев, на то, как привольно разгуливают они по жизни, со своим руном радости, которое мы тщетно старались отыскать в Орде. Но у кого из нас его найти? Пожалуй, разве что у Караколя, который, похоже, носил его на себе один за всех. Ну и у Арваля, может быть. Нам незнакомы были звуки музыки, которую они для нас играли, смех в наших рядах не раздавался просто так, его необходимо было вызвать, спровоцировать. Ничто не пробуждало нас от механического контра. По вечерам мы ждали историй Караколя, словно притоков свежего воздуха в затхлой лачуге, его рассказы трубили о том, что другой мир возможен, мир, где существует праздник, где любовь правит повседневностью. Фреольцы так радовались встрече с нами, но понятия не имели, что каждый момент, проведенный с ними, оставлял в нас глубокие следы, долгие шрамы, ссадины, мечты. Чуть ли не каждый новый день их ждали десятки, сотни новых встреч, о которых они вскоре позабудут. Фреольцы могли жить настоящим, распахнуть ставни своих век, впустить и отпустить. Мы же, как бы это сказать? Мы допивали наши бокалы, осушали винную чашу не ради опьянения, а просто для того, чтобы заполнить собственный сосуд. Я никогда толком не умела пить до дна и вести остроумную беседу. Все диалоги я окончу после, одна, в тоске бесчисленных холмов, так как никогда не знаю, что ответить или что стоящего сказать. Я окончу эти разговоры потом, среди песочных равнин, в тишине. А пока просто слушай, Аои, кивай, поддакивай и наполняйся. Слушай, что говорят другие на фуршете, прислушивайся к их словам, пронеси по всему залу свой сосудик, собери пальцем взбитые сливки смеха, просто слушай, раз ни на что другое не годишься. Слушай, чтобы потом вспоминать их все по капле, родничок.
673
— Говорят, что вы чаровница.
— Просто
травница… я собираю травы и плоды, я…
— Восхитительно! Как вы это делаете? Боароно, иди скорее сюда, я здесь нашла чаровницу из Орды!
— Какая она маленькая!
) 
Захваченный фреольской эйфорией, я всю оставшуюсяя часть дня рассказывал о себе, о нас, о нашей повседневной жизни, сколь банальной для нас, столь невероятной для них, воображая, что лица их трепещут от восторга из-за моих рассказов о том, как мы разбиваем лагерь для ночлега, как Ларко рыбачит в чистом небе, как пьем росу, что иногда едим, о бурях. Меня облепили со всех сторон, пока я рассказывал про Страссу и наш первый катастрофический ярветер, в который мы попали, когда нам было по пятнадцать; про семь месяцев, проведенных в Аливанской пустыне в полнейшей автаркии, и про ту ночь, когда Аои вдруг встала и пошла прямиком к колодцу, скрытому под четырьмя метрами соляного нароста, и никто из нас нас и не понял, как она о нем узнала. Утопая в вопросах, я не заметил, как сильно рассосалась наша Орда по широченному кораблю, и спустя три часа непрерывных рассказов, когда настал момент удалиться в туалет — действие для меня крайне непривычное, — я вдруг почувствовал пустоту. Я неожиданно для себя понял, что чертовски нуждаюсь в нашей группе. Начал искать глазами Ороси, Пьетро, но никого не находил. Мне стало очевидно, что многим из нас было просто жизненно необходимо проветриться благодаря свежим встречам и хоть ненадолго сбежать из тисков Пака. В первую очередь для Караколя. Что же касается меня, мне всегда хотелось всем делиться с Ордой, вернее открывать все новое для нас вместе. «Тебе никогда не хочется побыть одному?» — спросила у меня
672
вчера Ороси, когда я откровенно затянул с пожеланиями «спокойной ночи». Нет, почти никогда. Мне была нужна энергия группы, переливающаяся от одного к другому, напряжение или же чувство полного единения, которые охватывали каждого из нас. Мне необходимо было чувствовать себя завязанным в клубке наших нитей.
Мне все-таки удалось найти Пьетро, тот беседовал с коммодором об организации праздника. В качестве благодарности за прием с нашей стороны и в присущей нам манере Пьетро предложил, чтобы перед ужином Караколь представил всех членов Орды и выполняемые каждым из нас обязанности. Он послал меня предупредить трубадура. Караколь обрадовался. Он обожал театрализованное представление нашего сдержанного и сурового Блока, который отнюдь не соответствовал подобной театральщине, такому звуковому и зрительному изобличению того, кем мы являлись. В назначенное время он все еще продолжал балагурить с приглашенными Диагональщиками.
— Караколь, Фреольцы ждут! Они хотят, чтоб ты представил Орду, пока факелы еще высоко. Ты как, в духе?
— Конечно, в духе. Только в чьем?
— Пьетро решил, что лучше провести представление на поле для игры в плато, на верхней палубе, там трибуны. Ты только не сильно дурачься. Голгот хочет, чтобы все было торжественно. Тебя ждут с нетерпением, слышишь?
— Разочаровывать, какое удовольствие…
π 
Мы надели сменную одежду и как смогли подстригли бороды. Девочки омыли лица и руки в расставленных для них чашах. Мы, разумеется, не стали выглядеть ухоженно, но, по крайней мере, были достаточно опрятны для парада. Поле для плато находилось в самом центре верхней палубы, в углублении, как и полагается, овальной формы,
671
метров сорок на двадцать, с трибунами из полированного дерева, опоясывающими поле по бокам. По безукоризненно навощенному паркету так и хотелось запустить рикошетом диск для плато. Ворота были сооружены из перпендикулярно установленных мачт и реек и завешены пеньковым волокном. Я выбрал это место, потому что оно позволяло расположить все семь рядов Орды на отдельных уровнях трибуны, а Фреольцев усадить на противоположной трибуне, обеспечив им таким образом полный обзор. Караколь будет вести представление с паркета.
< > 
Как забавно было на них смотреть, на наших храбрецов, такие все серьезные, как священники на службе. Тальвег себе щеку порезал, когда брился, на чистенькой рубахе Арваля красовалась крестообразная складочка, а Ларко надел свою самшитовую сережку, которая мне очень нравилась. Как бы мы ни старались, никто из нас не был так уверен в себе, как Караколь. Мы завидовали его раскрепощенности, присущей ему женственности, позволявшей, как, например, сейчас, элегантно надеть фетровую шляпку, которую он стащил неизвестно у кого. Кориолис просто обволакивала его желанием, не отходила от него ни на минуту с тех пор, как мы поднялись на корабль. Он же почти не обращал на нее внимания, подыгрывал ей время от времени, но по большей части избегал… Это только еще больше распаляло ее желание, она выпячивала грудь, старалась, как могла, привлечь его. Она хоть убей не понимала, хочет он ее или нет. Но я прекрасно знала. Я знала, что он ни к кому никогда не привязывается, наш трубадур, наш вертлявый котенок, он жил только настоящим, ничего не ожидая, не откладывая на потом, он лишь заскакивал в наши гнездышки, чтобы украсть у нас по перышку. Он не старался нас поцарапать, навредить. Он никогда ни о чем нас не просил, разве
670
что о самом трудном, о самом возвышенном: быть живыми, подвижными и игривыми, непрестанно готовыми подпрыгнуть, унестись вдаль, стать другими, тогда как я всегда была просто-напросто собой, Аои, «податливым ручейком», «водицей», как он меня называл. Это было еще в то время, когда он иногда захаживал ко мне по ночам, до того, как узнал про Сова. С тех пор его визиты стали реже, он не хотел сделать ему больно. Он все это забудет, Кориолис. Он всегда так восхитительно легко все забывал.
π 
Я всегда придавал очень большое значение представлению Орды. Зачастую это была единственная четкая картинка, которая оставалась в памяти людей после встречи с нами: Клинок, Пак, Блок; разнообразные контрпостроения, которые мы использовали в зависимости от ветра; разъяснение обязанностей каждого, к которым трубадур приплетал килограммы украшательств. Но люди приходили в полное изумление даже и без этого спектакля, просто так, от самого нашего вида. Благодаря признанной за нами скорости наша репутация всегда опережала нас. Никогда прежде, за исключением, возможно, 26-й первого Голгота, которая ошеломила всех своей прямой трассой через массив Гоббарт, ни одна Орда не вселяла в людей такую надежду дойти до Верхнего Предела. К тридцати восьми годам обойти предыдущую трассу на целых три года было просто неслыханно. Мы дорого за это заплатили. Мы контровали от рассвета до заката, останавливались в поселках лишь изредка и ненадолго, всегда придерживались прямой трассировки, которую Голгот сделал законом нашего пути.
) 
Фреольцы встретили появление трубадура аплодисментами. Едва он показался на поле, как сразу бросился ничком на паркет, немного проскользив по полу, затем
669
подпрыгнул в воздух, упал и снова подскочил… Развеселившиеся Фреольцы догадались быстрее нас, что он имитировал то, как рикошетит диск на плато! Это было отличное начало:
— Добро пожаловать, господа Массовщики! Коль скоро со многими из вас мы хорошо знакомы, позвольте поубавить пестроты и приглушить волненье скрипок! Сегодня перед вами свежайше выбриты, наряд торчком и волосы ершом, стоят стойком кто в чем: в лохмотьях лучшие, в отрепьях остальные, пустыни пыль, верней сказать, сгущение ее частиц… Они — идущая гроза, замедленная молния. Блестят как двадцать три осколка с горизонта, синеющая стружка, эолита, — встречайте наших птичек и орлов, знаменоносцев и почтеннейших эологов! Пред вашими глазами легенда сей земли:
Орда Встречного Ветра.
> 
Умеет он все-таки говорить, придурок этот, меня всегда прям пробирает от его представлений. А этим только дай, колотят в ладоши со всей дури, на спектакль пришли.
π 
Когда нам поприветствовать публику? Сейчас?
— Для начала небольшое напоминание для тех, кого только сегодня извлекли из трюма на поверхность. Да будет вам известно, что Орда состоит из следующих частей: Клинок, те шестеро верзил, что перед вами в самом низу трибун, Пак — шестнадцать пешеходов, наше стадо, растянулись на четырех рядах повыше и Фаркоп — три силуэта, те полуграмотные, в самом верху. Итак, по нытью почет, начнем с конца, чтоб постепенно, будьте внимательны, тут поворот сюжета, перейти к началу!
) 
Фреольцы — публика благодарная. Они вошли во вкус, и вот уже вместо улыбок звонкий смех. Сгрудив-
668
шись на своей трибуне, они почувствовали себя как на матче: по рядам загуляли штофы и фляги, они показывали пальцем то на одного, то на другого из нас.
— Они заслуживают отдельного представления! Их подбирают в селах и пускают по ветру. Их прячут сзади и вверяют им тащить весь груз… Наши упряжные собаки, наши бульдоги на узде, наши пахари, без которых у нас не было бы ни одежды, ни утвари, ни инструментов, ни достойного ночлега, ни самогона бурдюками, ни воды бочками. Их имя — недоля, их бремя — как сталь. Для наших
фаркопщиков нам пыли не жаль!
π 
Барбак первым вытащил свой огромный каркас на середину зала. Он наполовину закрывал раскрасневшегося от таких почестей Свезьеста и Кориолис, чье появление на паркете взорвало публику свистом восхищения.
— Они по крайней мере умеют кое-что выжимать из своих женщин! — раздался голос какого-то Фреольца, между двумя глотками хмеля.
— Ты еще аэромастерицу не видел!
— Перед ними, дамы и господа, в шестом ряду, но в первом по таланту, укрылись наши четверо ремесленников. Первый орудует железом, второй деревом, третья огнем. Их имена? Леарх, Силамфр, Каллироя. А кто четвертый, спросит зал? Четвертый ловит на свою удочку удачу. Красавец и ловкач, рыбак, чья удочка повисла у вас над головами, он тот, чья рыба — это облака, для кого море в небе. Не раз спасал он нас, когда привычная охота бывала невозможна иль скудна. Ему обязаны мы лучшими из яств, когда, под звездным сводом, он запускает в облака свои ловушки из воздушных змеев и оставляет там парить, чтобы с утра на завтрак их спустить к столу. Под настроение он для нас то браконьер туч, то лазури попрошайка, то дел
667
воздушных мастер. Примите же его, как надлежит:
Ларко Эоло Скарса!
¬ 
Ларко вышел весь взволнованный, держа за веревку свою клетку, воспарившую над мачтами. Фреольцы были к изумлении от этой должности, которая не существовала и предыдущих Ордах, а следовательно, Ларко не обучался имеете с нами в Аберлаасе. До этого он был Диагональщиком, но присоединился к нам и нашел себе применение в Орде. За ним вышла моя Каллироюшка.
— Наша огница, по части обжига, стряпни, гончарства мастерица, — объяснил Караколь.
«И наш кузнец. Скует в два счета все, что в руки попадет», — последовало за приветствием Леарха. «Наш дровосек», — за радостно машущим Силамфром, который стал доставать из сумки чаши, бумеранги, резные лопасти винтов, трассировщицы, флюгера…
— Но перейдем к пятому ряду, в котором, как и полагается…
— Пятеро ордийцев!
— Верно. А в четвертом?
— Четверо!
— В третьем?
— Трое!
— Вижу, вы искусно ведете счет… Так вот, наш пятый ряд. Не просто братья, близнецы! С оледенелых берегов, что тянутся вдоль Контра. Они росли одни и выросли получше остальных: и вверх, и вширь, и вкось! Они нужны нам в Орде по трем причинам. Во-первых, чтобы тянуть вперед наш груз, во-вторых, чтобы тянуть на себе тех, кто должен был его тянуть да не потянул, а в-третьих, чтобы получать по самой роже боковыми зашквалами и закрывать своими шкурами хвост строя… Они несъемная часть
666
Орды, так и знайте, Горст слева и Карст справа, наши красавцы фланговики:
братья Дубка!
Хороший замес — эти двое! Вышли к фреольской публике враскачку, обнявшись за плечи. Отважные физиономии, два вечных бутуза три метра в высоту. Не из придир, к тому же добряки до мозга костей. Очень я их люблю, этих двоих! Если бы каждый раз, когда они нас выручают, им давали по камню, у них бы уже давно была башня до небес.
— Свернувшись клубочком между близнецами, в самом сердце Пака, под опекой, хрупкие, нежно укрытые, наше самое драгоценное сокровище — три женщины. И первая из них не просто женщина, о нет, наш чистый ручеек, наша травница и лозоходка, единственная, без которой нам не обойтись, единственная, которую я так бережно люблю:
Аои Нан!
< > 
Я была настолько удивлена, что чуть не упала, постаравшись сделать реверанс. Фреольцы только пуще захлопали, засвистели высокими нотами, раздевая меня глазами… Для них я обрела существование ровно четыре секунды назад…
— Та, что по левую от нее сторону, друзья мои, — она для вас. Те, кто с текущим носом, у кого горло першит не от стихов, — все к ней, мы вам ее дадим по выгодной цене…
— Даром, она все равно ничего не стоит! — проревел Голгот.
— Целительница наших тел и душ, психолог, врачеватель, ветеринар нашей упряжки, утешительница в трудный час. Для нас, сирот, она совсем как мама:
Альма Капис!
Ω 
Мертвый груз стада, вот она кто. Хуже груженых саней эта Капис. Дойная корова, в лучшем случае. Без молока.
665
Еще и уродина. Зачем она вообще нужна? Понять не могу, на кой черт ордонаторы ее на нас повесили. Кого тут лечить? От чего? Заболел — значит, борись, а не хныкать беги к мамке, в юбку зарываться, чтоб тебе тарелку супчика налили, вербовых листиков до усрачки, чтоб всю ночь через ноздри блевалось зеленой тиной! Крутится тут перед матросами, мешок картошки, думает, что на нее смотреть приятно… Уберите уже кто-нибудь отсюда это грузило…
< > 
Какая она сегодня красивая… Искупана, свежа, ее еще не до конца просохшие светло-каштановые кудри вьются в свете масляных фонарей. Длинное нефритово-зеленое платье подчеркивает глаза и формы. Она смеется в ответ фреольским шуткам: «Мама, мне плохо!», «Я палец поцарапал, помоги!». Степп смотрит на нее (как это забавно), как будто только сейчас заметил, что она, оказывается, хороша.
— Пятая и последняя женщина, которую я буду иметь честь и преимущество представить вам сегодня. Сейчас пред вами засверкает та, чье имя всем из вас известно. Ее мать знаменита на весь контровый мир, вплоть до самых глубин колодцев, а ее бабушка — самая что ни на есть легенда. Втроем они дали начало роду Меликерт, чья задача в Орде по части интеллекта была не менее престижна, а может, даже и превосходила обязанности скриба. Когда ей было всего десять, она выжила в ярветре, ставшем ее посвящением. Не раз она спасала нас от смерти, по дружбе! Она в списке элиты двадцати лучших аэромастеров, что высечен на мраморной доске Ордера. К тому же ей присуща элегантность, благородство, чутье потоков, которые кого угодно ошеломят и очаруют. Встречайте же с почетом, внучка Мацукадзе:
Ороси Меликерт!

664
) 
Аплодисменты, последовавшие за словами Караколя, зазвучали совсем в другом регистре, не так небрежно, как до этого. Сначала некая торжественность приглушила суматоху, затем вверх поднялись кулаки и руки в знак уважения. Глубочайшего уважения. Ороси медленно спустилась по ступеням своей неизменно царской поступью, с блеском в глазах, который за все тридцать проведенных вместе лет я никогда не видел хоть слегка угасшим. Она всегда искала и неустанно будет искать, пока нас всех не скосит, смысл всего того, что происходит в этом мире. Как и я. Мы связаны не титулами и не умом, но несгибаемым желанием понять. Больше других, мы бесконечно мучаемся все теми же вопросами: откуда берется ветер, где его исток? Но нет, это не так. Это ордонаторы хотят, чтобы мы задавались этим вопросом, посылают нас за ним как верных псов, думают, что мы притащим им ответ. (А может, зароем его где-нибудь? Вместе с собой. Чтобы оставить нетронутой надежду? Если, разумеется, они на самом деле до сих пор еще не знают. Или знают? Что, если они знают, что там, в конце, но все же посылают Орды испокон веков?..) Нет, вопрос скорей другой, он жестче и шершавей: зачем мы контруем? Для чего гробим наши жизни в поисках того, чего никто и никогда не мог достичь? Думаем, что именно у нас получится? Неправильный ответ! Хуже того, это даже неправильный вопрос. Продолжай искать, Сов, иди по следу, молодой щенок, ищи…
≈ 
Всегда из себя строит, не бог весть что, эта Ороси, нашлась принцесса, тоже мне. Смотрит все время свысока, улыбается холодно, вертит своими бабеольками. Может, конечно, она и из элиты аэромастеров, только попроще надо быть все равно. Посмотрела бы я на нее, если б ее поставили на мое место, в самый зад Орды, сани тащить!
663
Слишком уж Караколь тут распинается на ее счет. В Орде все незаменимы. Аои и Свезьест не меньше нее. Все мы просто делаем свою работу, и она в том числе!
π 
В ее изысканной прическе крутились три золото-медных флюгера. Бело-кремовый хаик нежно впитывал теплый свет фонарей. Мне очень нравилось то чувство, которое она вызывала, то, что бросалось в глаза даже быстрее всех ее соблазнов, то, чем от нее веяло: уважение.
— Раз уж мы подобрались к четвертому ряду нашей Орды, и я вижу, что вы по-прежнему внимательны, конечно, но жаждете теперь немного действия, задора, я незаметно удалюсь, оставив свое место тем, кто, можете не сомневаться, займет его куда достойнее. Один из них воспитывает соколов, другой ястребов. Один предпочитает суровость дрессировки, неукоснительное следование правилам и кодам ремесла, второй же доверяет своей птице, направляет ее, не давая приказов, ищет скорее соучастия, чем послушания. Оба они прекрасные дрессировщики, а в доказательство встречайте нашего сокольника и его собрата ястребника! Место нашим ловчим!
Разумеется, это была затея трубадура. Мы успешно опробовали ее во многих деревнях. Она, бесспорно, освежила представление, которое раньше граничило с монотонностью обычного дефиле. Наш сокольник вышел первым. Он попросил Караколя поднять воздушного змея, на крыло которого привязал куропатку.
— Кому-нибудь из вас доставит удовольствие управлять куропаткой? — спросил Дарбон у столпившихся Фреольцев.
— Пускай Сервиччио возьмет управление! Это наш лучший пилот, — сказал коммодор.

662
) 
Молодой, слегка подвыпивший матрос, с нагловатым видом нехотя поднялся под выкрики «Сервиччио! Сервиччио! Сервиччио!». С недовольной миной он взял из рук Караколя ручки катушки и, резко махнув головой, отбросил назад свои черные пряди. И в тот же миг что-то произошло. В его руках бобина оловянной нити в одну секунду размоталась на несколько метров, и воздушный змей взмыл над сценой. Несколько юнг вскарабкались на стеньгу и стали фиксировать на ней факелы и фонари, чтобы как можно лучше осветить полет змея. Несговорчивый ветер позвякивал канатами, полоскал расправленные паруса, раскручивал толчками стабилизационные ветряки, но ничто из этого не смущало молодого, крутящего лесой пилота. Он передвигался по всей поверхности поля для плато невероятными стежками, выполняя то па шассе, то глиссе. Караколь многозначно подмигнул мне и ни с того ни с сего посерьезнел, обернулся к сокольнику, чтобы подбодрить его к действию. Дарбон снял клобучок со своего любимого кречета с белоснежным оперением и, держа его за ремешки, связывавшие птице лапы, показал Фреольцам. Те восхищенно зашептались, оценив красоту самца. Воздушный змей продолжал со свистом просверливать воздух, то ныряя, то снова взметаясь вверх, готовый ринуться в бой. На кону, казалось бы, ничего не было, кроме, пожалуй, самого ценного: уважения Легкой эскадры, самой фреольской элиты, по отношению к нам или же нашего к ним.
^ 
Дарбон напустил птицу, даже не дав ей никакой поклевки, и кречет взлетел стрелой прямиком в самый ветер. Он так высоко взмыл над мачтами и облаками в своем уверенном и горделивом полете, что я даже засомневался, заметил ли он вообще наживку, привязанную к крылу змея.
661
Молодой Фреолец в своих удобных сафьяновых туфлях исполнил несколько фарандол, не упуская из виду воздушное состязание, главным образом в ловкости, в котором мы предлагали ему поучаствовать. Слегка занервничав, Дарбон хотел уж было дернуть за вабило, чтобы приманить птицу назад, как вдруг в небе что-то забелело, он узнал своего сокола, и указал на него публике. Кречет летел по ветру, под небольшим углом, в нескольких десятках метров над белым трапециевидным фреольским змеем, с куропаткой на крыле. Не делая лишних виражей, сокол резко сложил крылья и дротиком понесся на свою добычу. Если до того Фреолец удерживал змея в более-менее фиксированном положении, скорее чтоб покрасоваться, то здесь у него была лишь доля секунды, чтоб избежать атаки, с чем он блестяще справился, исполнив вертикальный разворот и тотчас сухо амортизировав завертевшиеся вихрики. Сцена схватки была словно очерчена двумя центральными мачтами и реями, что придавало еще больше зрелищности происходящему. Белоснежный кречет был прекрасной ловчей птицей и, разумеется, не упал духом из-за какой-то> там увертки. Он бросился в новую атаку, через
встречный ветер, взлетев высоко над кораблем и правя, как ему и полагалось, сферой всех возможностей. Вторая, третья и даже четвертая атаки были ничуть не более успешны, но он по полной использовал способность, которой обладают соколиные: дать ставку, спикировать на полном ходу, распахнув крылья, чтобы ударить добычу, а затем плавно подняться на тот уровень, с которого началась атака. Эта техника позволила ему, без дополнительных усилий, стремглав спикировать на змея добрый десяток раз, впрочем безрезультатно, лишь разок он зацепил крыло воздушного змея. Однако же кречет сделал пару настолько эффектных ставок, что сам Дарбон подумал, что птица
660
наконец поймала добычу. Проловы накапливались. Фреолец выказывал невиданную ловкость рук, вызывая оной азартную воодушевленность своих собратьев и озлобленность Дарбона, который, как я предполагал, метал, должно быть, громы и молнии, накручивая себя при виде того, как его чудо-птица, мнилось ему, унижала своего хозяина. Но все же гордость матроса уступила его здравомыслию, и он тихонько положил конец своему превосходству (украдкой, незаметно), замедлив уклоны от атак, так что неутомимому соколу все же удалось искромсать змея и прибить свою добычу к земле под бурное одобрение Фреольцев, которые, несомненно, были лучшими игроками, чем мы сами. Дарбон неловко отказал соколу в традиционной любезности, чувствуя наверняка, что этой победой обязан снисходительности противника, и поднялся назад на трибуну, дав птице лишь часть положенной поклевки.
Настал мой черед выходить на сцену.
— Наш великий мастер ястребник и его зайцы!
) 
Из двух наших птицеводов мне куда ближе был ястребник! Вышел он с очень простым номером: выпустил зайцев, и те разбежались по мосту, стараясь как можно быстрее спрятаться в куче разбросанных канатов. Пока зайцы отчаянно скакали кто куда, спасая свои шкуры, ястреб хватал их когтями и леденящими кровь ударами клюва добивал попавшихся под крики женщин. Мне очень нравилась жизнерадостность ястребника, его непретенциозный и открытый юмор, его привычка разделять с другими свой энтузиазм и любовь к птицам, но еще больше он нравился мне своим видением мира, столь близким во многих отношениях моему собственному. В соколиной дрессировке, как и в любом другом ремесле, первоочередным всегда был серьезный подход к вещам, и выбор птиц
659
не менее важен, чем сама выучка. Соколы — птицы высокого полета, очаровывают тех, если говорить вкратце, кто предпочитает вертикальность отношений, иерархию и превосходство. Их способности идти вверх спиралью, становиться на лету основаны на силе. Их манера обрушиваться на добычу подобно мстительному богу делала из них неоспоримый символ власти. Ястреб же птица совершенно иная. Они летают низко, порой почти что у земли, бороздят небо, словно парусники, им нет равных в преследовании жертв сквозь лесную поросль, чтобы схватить добычу прямо среди ветвей. Ястреб — птица имманентных порывов, горизонтальная молния, способная на восходящие скачки, на полуобороты в воздухе, немыслимо проворная. Охота ястреба пронзительна, он может продырявить, пролететь, пересечь пространство, почти касаясь земли, в три взмаха крыльями он набирает скорость, без груда может взмыть ввысь по ветру. Сокол на все это просто неспособен. У него есть
сила, но он не ищет власти, именно потому, что она ему
под силу.
— Теперь же прикоснемся к тайне… Человек, которого я едва ли буду способен вам представить, выжил при встрече с хроном. С тех пор на голове его раскинулась прерия из низкорослого кустарника, поля дикой травы вместо волос. Его мы больше не причесываем, отныне мы ухаживаем за его садом. Он нашей Орды крест и цвет, а может, просто крестоцвет, а стало быть, флерон. Одновременно ботаник, сборщик посевов и друид, эфемерный плантатор, кочевой крестьянин, залетный земледелец… Он тот, кто чует, что растет в верховье. Кто знает, чем накормить, чем сдобрить, чем лечить и чем убить. О его матери, Сифаэ Форехис, я скажу лишь то, что она обучила его всему, кроме терпенья. Встречайте пампу, вельд и тундру, пред вами
Йоль Степп Форехис!
658
< > 
Я не стригла его уже пару недель. Он отказывается, говорит, что «точнее ощущает мир», когда на голове лес. Он красивее Караколя, мужественнее, но такой же чувственный. Караколь, он ненасытный, неутомимый, блуждающий огонек, его фавновское лицо всегда искрится, движется, смеется, он скользит по паркету, кружится в танце, так скор и ловок, не делает ни пауз, ни передышек, он ведет, за ним всегда и шаг, и слово, что теперь?
— Все мы охотно верим, что Орда — это прежде всего отличный Трассер и крепкий Клинок. Так и есть, конечно… Но, не нужно забывать, что всякой трассировке предшествует предтрассировка. Невысокий, худощавого телосложения парнишка, который отправляется вперед, он рыщет по следам, травит любой проход, всегда один, как будто хочет убежать, но неизменно возвращается назад. Пейзажи для него — живые мифы, чей сюжет необходимо разгадать. На месте насыпей песка, надутых ветром, он видит старого дремлющего горса, вместо каньонов, вымытых дождем, — след змеиного пути и свидетельства ее боев вдоль стен ущелья. Для него не существует даже ветра, но лишь хищветры, что хватают землю и уносят в своих лапах. Чтобы остановить их, мы вынуждены за ними гнаться, не поспевая за их прытью, не выдерживая их бега. Он дикий ребенок, выживший благодаря своей невероятной интуиции и воображению, чью глубину и последовательность в безумии мы можем себе лишь вообразить. В душе мы окрестили его Светлячком, а в сердце он для нас
Арваль Редхамай, наш разведчик!
π 
Он выскочил из своего ряда и тут же вошел в роль под шум рукоплесканий. Степень симпатии зрителей к нему мгновенно возросла. Он достал из сумки щепки, камушки, ветроуказатели, знамена, в два счета разметил маршрут по
657
полю до самих канатов. С десяток Фреольцев в янтарных одеждах (матросы) следовали за ним по пятам. Дойдя до мотков канатов, он присел, одним движеньем лапы достал из-под снастей перепуганного зайчонка и под фреольские возгласы подарил его какой-то девушке. За все время не сказал ни слова. Общался только жестами. Арваль.
— И вот пришел… Кто? Момент. Момент, который мог бы никогда не наступить для вас. Окажись вы на пару сотен метров правее или левее от оси контра, и вы бы все прошляпили. Их шестеро. Теперь вы это знаете наверняка. Стоят ударным треугольником на самом форштевне и, будто топором, рассекают несущийся на нас поток. Без и их я не находился бы здесь и не выкидывал перед вами свои арлекинады. Без них бы просто-напросто не было Орды. Те, кто видел, как они контруют, обращаются к ним исключительно на «вы». Отвага для них перестала быть словом, превратилась в своего рода состав крови, будничный жест, стала опорой их костяка, крепостью их остова, особым свойством их костей:
Клинок!
) 
Больше ни одного Фреольца не было видно ни в воздухе, ни на реях. Все они оказались здесь. Повара и их помощники, как были с руками в масле и с половниками, так и сбежались на трибуны, столпившись на последних рядах. Машинисты побросали свои машины. Какая-то женщина стоя кормила грудью ребенка, даже не глядя на него. Внезапно голос Караколя изменился, оставил свою величавость и стал очень искренним — техника, не что иное, как очередной прием, но с таким эффектом, с которым, тем не менее, никому было не совладать.
— Во главе Клинка, рассмотрите его внимательно, не торопитесь, проникнитесь… Во главе тот, о котором вы слышали так много, что, возможно, для себя решили, что
656
он и не существует вовсе, в том смысле, в котором существуем мы с вами. Что он и не был человеком или перестал им быть, что он создан из других мускулов, не таких, как у вас, из иных волокон плоти. И вот он перед вами. Но не ждите от него улыбки, не спрашивайте, в чем его секрет. Он тот, кто сможет выстоять даже тогда, когда дубы согнут свои верхушки и падут ниц. Я видел, как он устоял под двумя ярветрами. Он никогда не жалуется. Его этому не учили. Его невозможно в конце концов не полюбить вопреки ему самому, вопреки даже самому себе, и не потому, что он лучший в своем роду, пусть это и так, а потому что ему неведомо, что значит
смухлевать. Запомните его как девятого, запомните его и как последнего, потому что он не даст этому миру сына. Я хочу, чтобы вы встали, хочу наконец услышать вас.
Наш Трассер! Голгот!
Ω 
Давайте, давайте, колотите вашими гребаными ручонками, бейте одну о другую, сильнее, дааааа, сильнее, чем вы там себе привыкли на своих спектаклях. Вы понятия не имеете, кто я. Ни вы, ни кто-либо другой. Орите-орите, надрывайте глотки! Это у вас машины, техника всякая. У нас ничего этого нет, от нас несет дерьмом, у нас есть только наши собственные кишки и кости, вы ни черта в этом не понимаете. Ни черта!
) 
Нас Караколь представил сразу за Голготом. «Сов, наш скриб», «Пьетро делла Рокка, князь», «Тальвег, геомастер», «Фирост де Торож, столп Орды и охотник». Но, после выхода Голгота реакция толпы резко сникла, и нам не оставалось ничего другого, как просто достойно поприветствовать Фреольцев, не пытаясь состязаться с тем громом эмоций, с той бурей, которая разразилась при виде Голгота. Он вышел с поднятым вверх кулаком и с не под-
655
дающимся описанию выражением лица, которое наиболее оптимистичные из зрителей восприняли как улыбку, остальные же как гримасу. Без каких-либо на то причин наш трубадур решил переменить привычный порядок представления, свел на нет нарастание внимания и вдруг решил, что закончит наш спектакль Эрг. Почему Эрг? «Потому что он
сразит нашу публику, малыш!» — небрежно бросил мне в ответ Караколь, унося ноги с арены. Продолжение, стоит признать, не опровергло сказанного…
—
Азъ есмь живой,
Ты еси жив, и он, мы
есмы живы, еси фарфаль! Но благодаря кому? Кто нас спасает от смертоносных нападений, кто защищает? Ах, вы, может быть, решили, что на нас, в наших-то прекрасных лохмотьях, с легендарными татуировками на спинах, на плечах, да с нашей репутацией, о которой любой и всякий может прочесть у нас на лбу, написанной светящимися буквами, вы, может, думаете, что никто не дерзнет на нас напасть иль, хуже того, постараться нас убить? Ну, продолжайте тогда верить в ваши сказки. Этот верзила слева от меня, вы, конечно, правы, умеет лишь размахивать руками. И раз на то пошло, я предлагаю вам в этом лично убедиться. Не сыграть ли нам в одну игру?
— Давай! — возликовала фреольская публика.
— Пусть двенадцать ваших смельчаков выйдут на поле с оружием, ножами, дисками, бросковыми копьями, чем угодно… Ну же, выходите, удальцы, что ж вы сдуваетесь как шарики, вот так… як… еще трое… отлично! Игра очень простая. Итак, вы, Фреольцы, становитесь у тех ворот. Хорошо. Теперь Орда. Встаем, ребята, да, все без исключения, и становимся у ворот на другом конце поля! Молодцы! Теперь замрите! Никто не двигается, ясно? Запрещено. На время всей игры вы просто статуи. Эрг будет вас защищать. Эрг, давай на середину поля…
654
— Есть!
— Суть игры, для вас, Фреольцев, — детская забава. Вы должны задеть любого из ордийцев, неважно кого именно, чем захотите: рукой, диском, пулей, палкой… вам решать!
— Без проблем!
— Эрг здесь для того, чтобы вам в этом помешать в роли бойца-защитника Орды. Эрг, ты готов?
— Валяй!
— Начали!
Почти одновременно в нашем направлении по безупречной траектории полетел диск для плато и бумеранг. Последний, впрочем, даже не пересек срединной линии, Эрг схватил его и перезапустил во Фреольца, который его забросил. Прямиком в солнечное сплетение. Фреолец рухнул. Диск же отрикошетил от паркета, но Эрг отбил его ударом локтя.
π 
Откуда-то с высоты засвистела пуля. Выстрел по кривой. Неотразимый. Эрг дернул за ручку свой рюкзак, и в одну секунду, откуда ни возьмись, в воздух поднялся тяговый воздушный змей, размером не больше полотенца, унося с собою Эрга. Еще секунда, и Эрг был уже в четырех метрах над землей. Вытянувшись, он резко смэшировал пулю прямо на трибуну…
) 
У ворот Фреольцев повисло секундное замешательство, им нужно было понять, что произошло, и выбрать тактику, придумать выигрышный жест. Этой секунды Эргу было достаточно, чтобы перегруппироваться в балансировочный полет в двух метрах над паркетом и одним движением локтя привести в действие свой механический арбалет. Он зарядил барабан (насколько я понимаю)
653
стрелами с чилибухой и спустил курок. Десять раз. Мгновение спустя у фреольских ворот уже не было никакого «замешательства». Только один парень остался стоять на мигах. У него за поясом был остроконечный винт, который он наверняка планировал запустить в нас. Но Эрг был уже и воротах. Одним рывком воздух-земля, по встречному ветру, воткнув гарпун в паркет и резко дернув за канат, Эрг приземлился и атаковал. Я толком ничего не рассмотрел, но голова Фреольца глухо ударила о перекладину ворот и он рухнул. Остальные Фреольцы лежали вповалку у ворот, хватаясь за живот. Их выворачивало наизнанку в рвотных спазмах.
π 
По всей логике оставался еще один, двенадцатый. И Эрг всегда отлично умел считать. Он был с другими на полу, но у него в ноге не торчала арбалетная стрела, пропитанная ядом чилибухи. Он снял ботинок (похвальная идея!) и запустил его по паркету в нашу сторону. Ботинок заскользил по навощенному полу…
— Осторожно!
Возможно потому, что стрелять в движущуюся цель без точного угла для прицела было непросто, но скорее даже просто по привычке Эрг обернулся, одновременно отстегнув трос от гарпуна, и взлетел на попутном ветре. Первая стрела вонзилась в пол. Вторая пригвоздила ботинок к паркету. Все. Занавес.
— Эрг Махаон, господа смотрители! Боец-защитник по своему призванию, фланговик Клинка и на досуге мастер бабеолек!
x 
Лично меня этот Махаон вгонял в ужас. Я не могла не присоединиться к возмущению Фреольцев. Настойка из рвотного ореха, подумать только! Организму понадо-
652
бится дня три, не меньше, чтоб от нее избавиться. Я уж не говорю о самих порезах. Мне за нас было стыдно. Я, разумеется, предложила свою помощь раненым матросам, но фреольский главврач тактично дал понять, что не доверяет мне. Теплота взаимоотношений между нашими кланами порядком охладела.
π 
Да, это однозначно было слишком, в рамках дружеской игры. На худой конец, Эрг мог просто подойти поближе и оглушить пару матросов, но не обстреливать их из механического арбалета! Можно подумать, от этого зависела наша жизнь! Коммодор и контр-адмирал выразили мне понимание ситуации. Они признают, что Эрг, разумеется, просто не мог действовать иначе, и более охотно выражают негодование по отношению к Караколю, который предложил этот неравный бой, зная, чем тот может обернуться. Но праздник все же состоится. Он позволит слегка смягчить возникшую натянутость. Фонари были развешаны по всему рангоуту с бесспорным мастерством по части создания уютного освещения. Местами разливы света перемежались с темными пятнами, в которых весьма приятно было вести более личную беседу. Камерная музыка прекрасно сочеталась с деревянным обрамлением палубы. Не подавая вида, я слушал, как ровно за моей спиной Фирост беседовал с каким-то человеком. Я уже где-то видел его раньше, но никак не мог припомнить где. И все же был почти уверен, что он не был членом экипажа корабля… у него были глубоко посаженные желтые глаза, лицо почти как треугольник.
— Слушай, неслабый у вас такой воин-защитник. Впечатляет!
— Боец-защитник.
— Он всегда такой? Всегда так всерьез, шутить не умеет?
651
— Не в этом дело. Эрга не учили драться, его учили убивать. Это разные вещи.
— Еще бы…
— Знаешь, что я тебе скажу, я, как столповик Орды, раз сто с ним бок о бок участвовал в потасовках. Против банд всякого отребья, равнинных разбойников, пеших Диагональщиков, которые за нами хвостом тащились целыми неделями, перед тем как напасть посреди ночи. С воздушнозмейными пилотами, винтометателями, которые тебе одним броском могут всю рожу распороть, метальщиками заточенных бумов, короче таких, которые в тебя запустят без проблем зазубренным диском в упор и глаз не дернется. Мы повидали всяких сумасшедших, серьезно двинутых. Однажды, года четыре назад, мы оказались перед целим эскадроном из восьми штурмовых велесниц, вообще невесело было, у них даже копьеметатели были.
— И что вы?
— Я тебе так скажу, я не помню ни одного боя, который бы продлился дольше пяти минут.
— Серьезно?
— Эрг никогда не делает ненужных движений. Врубаешься? И дело даже не в скорости. Какой-нибудь там Караколь быстрее, например. Но Эрг всегда окажется быстрее тебя. Когда он запускает свой бум, противник просто падает. И все. И ты еще думаешь,
кабер, сейчас поднимется, осторожно… Но никто никогда не поднимается. Если он достанет диск, или винт, или еще что в этом духе, то он его запустит, и можешь ты себе бежать, подпрыгивать, можешь забиться в какую-нибудь дыру. Можешь спасать свою шкуру как хочешь, имеешь право. Но как только добежишь, тебя все равно приколотит. Он знает все смертельные точки, все недостатки человеческого каркаса, куда ударить, куда треснуть так, чтоб хряснуло и привет:
650
по позвонкам, по сплетению. Он тебе артерию на глотке ногтем перережет, и оружия никакого не надо. Он никогда не сражается. Он ликвидирует врага. Его так обучили. Так что не надо его просить развлекаться. Он не умеет.
— Почему вы его тогда зовете «боец-защитник»? Зовите «убийца»!
— Послушай… в Кер Дербане защитников обучают в первую очередь технике самозащиты: как отразить атаку, как защитить Пак, который драться не умеет, за исключением двух-трех ребят, как я, например, Голгот или наш кузнец Леарх… Это обучение — чистый разводняк, любой пират не лыком шитый может все это выучить.
— Но есть же еще техника нападения…
— Вот. Именно. И тут, как бы тебе это объяснить, тут совсем другой космос. И тут никто и ничего не знает. Ордонаторы работают над личными качествами будущего бойца, над тем, что в нем есть исключительного, отличного ото всех остальных. Они поощряют его личную тактику, заставляют развивать свои собственные приемы, подгонять все под себя, подбирать свои удары, совершенствовать свое оружие, свою логику ведения боя. Все детство, вплоть до девятнадцати лет, благодаря целой цепочке людей Ордана, от села к селу, боец вырабатывает настоящую и совершенно секретную систему атаки, чистейшее изобретение, штуковину, которая возникла из ниоткуда, против которой нет никаких известных приемов отражения. Он тестирует ее в действии, в натуральную величину. Затем убирает всех свидетелей и напарников, кроме стукачей Ордана, само собой. В итоге получается военная машина, которая принадлежит одному-единственному человеку на этой земле. Который и есть сама машина, система-Эрг!
— Ну раз ты из тех немногих, кто видел, как он сражается, что в его системе такого особенного, как считаешь?
649
Что он изобрел необычного? Если, конечно, ты можешь об этом говорить…
— Он использует третье измерение. Лучше, чем кто бы то ни было.
— Воздушный бой?
— Он умножает возможные углы обстрела благодаря системе передвижения на тяговом воздушном змее, он может вести обстрел из любой точки в пространстве. V него сферический охват. Это просто огненный шар. Он настоящий монстр, когда ведет бой в воздухе…
— Еще какой, это уж мы заметили! А что еще?
— Он очень сдержанный и не из тех, кто станет хвастать и рассказывать о своих боях, — прервал я их слегка встревоженно.
Но Фироста понесло. Он сделал вид, что не услышал меня.
— Был однажды бой, когда я подумал, что ему конец. И всем нам вместе с ним. Банда грабителей, контровых пиратов, человек пятьдесят, хорошо организованных, с пусковыми установками во втором заслоне, под прикрытом глиссеров. Эрг оторвался от земли (за леер его я держал) и начал обстрел из арбамата. Это был настоящий ливень из отравленных стрел, в рядах врага пробивало целые дыры. Они дали отпор винтами: четырехлопастные модели, хорошо заточенные, размером с тарелку, не больше. Эрг уклонился, но залпом ему разорвало змея, и он рухнул на землю, так и остался лежать, как мертвый. Нас тогда сильно трухануло. На нас шло три десятка исполосованных Эргом мародеров. Клинок не распался, Леарх и Гот не отступали, но без Эрга… короче, у нас по штанам только так текло! Он просто-напросто применил технику хорька. Это он нам потом объяснил, после боя. Распластавшись, вне линии обстрела, он только выгнул немного
648
спину и, перекатываясь, открыл непрерывную стрельбу, левой рукой на вытяжке из арбамата, а правой запускал винты, пропитанные стрихнином, по косой. Пять минут, серьезно! Кто успел, удрал на глиссерах. Остальные теперь в воздушного змея играют, там, наверху.
Этот человек знал куда больше, чем казалось, но не выдавал себя. А Фирост слишком разговорился. Описывать бой Эрга, какой бы он ни был, уже само по себе значило сдать его тактику. Фирост выпил за ужином. У него хмельная болтливость, чуток фанфаронская. Я его потом отведу в сторонку на пару слов. А вот что касается его собеседника, то здесь лучше предупредить Ороси, пускай проследит за ним, выяснит, кто он такой. У него вид как у Преследователя.
(обратно)
V
ЛЕГКАЯ ЭСКАДРА
¿' 
Фейерверки! Фривольная фреольская феерия! Фанфары тут в фаворе, пронзительные духовые! Похоже, что мой маленький спектакль с раздачей почестей для Орды был всего-навсего преамбулой, чудаческим сигналом к началу кутежа. Пусть бьет ключом пирушка! Ах, вы все те же, планеристы! Не изменились ни чуть-чуть! Все та же жажда в вас бурлит, та же неистовая тяга взвиться вверх, умчаться вдаль на крыльях ваших змеев, раздуть знамена и где-то там, за облаками, швырять куда попало бум. И ни один из вас не может смирно усидеть на палубе и насладиться гуляющей по ней изящной синевой. А ваши женщины тем временем тешатся тем, что наконец нашли в нашем лице (а нам какая манна с неба!) тех, кто почтет за счастье завести с ними разговор и на их смех ответит смехом. Над крюйселем кружит настоящий кавардак из крыльев, бутылки и фляги из рук в руки, как мяч в игре. Хоп! И давай все цепляться за реи, карабкаться на фок-мачту, как в омут с головой! Веселье, извергающееся в небеса. Кто заберется выше, кто кому перережет канат, кто кого спровадит по ветру. Давай! Вперед! И я тащу краснеющей девице пучок асфоделей, сорванных в степи! Лью воду и вино по головам и припеваю во всю глотку. Нет, ничего не изменилось! Соблазн и флирт здесь правят бал, и с палубы
646
разгул сей перейдет к костру, что скоро запылает в прерии. Но на вечернюю игру отправятся одни скромняги — те молодые дебоширы, у которых, несмотря на их стояк во весь опор, средь бела дня не хватит духу сойти на палубу и поучаствовать в галантном состязании по поиску любви. А потому они пока взлетают вверх и фанфаронят меж собой, таращатся и всячески сбивают с толку тех бывалых донжуанов, что стратегически торчат на палубе в ожидании награды за труды… Ах, сколько чувств! Фреольские забавы всегда славились тем, что были вертикальны и небесны, в отличие от плоскости гуляний городских подветренников, что вертятся в спирали вожделений.
Но что вдруг за серьезность, Каракольчик? Неужто у тебя в горле пересохло? Решил теорию теоретизировать? Будешь тут целый вечер все а-нализировать и ба-нализировать? Из своего угла о праздничке дискутировать? Давай-ка мигом колесить и куролесить!
) 
Три прелестных исполнительницы бамбэолы подарили нам незабываемый спектакль. Бамбэола, насколько этот танец был известен мне прежде, исполнялась при помощи двухметрового бамбукового стебля, с проделанными в нем отверстиями, который располагался по ветру в серии разнообразных танцевальных фигур так, чтобы струйка ветра, попавшая в бамбуковую трость, издавала приятный звук. В лучшем случае это, как правило, представляло собой своего рода концерт игры на флейте, со звуком слегка изломанным, отрывистым, под ряд жестикуляций, более или менее хорошо вписывающихся в общую картину произведения. Но то, что я увидел в этот раз, меня просто поразило. Это было самодвижущееся выражение искусства, в котором музыка, рождающаяся из движения трости, а следовательно из жеста, а значит
645
из самого танца, который создает жест, порождала танец, который за ней последует, и, естественно, вновь заводила запев ветра, порождая тем самое себя в бесконечности переплетений звуков и жестов, не имеющих начала и конца и не ложащихся витками по спирали. Но меня поразила не только скорость самого балета. Танцовщицы, с обезоруживающей чувственностью, непрерывно исполняли меланхолическую мелодию, приостанавливаясь лишь в паузах сообразно с темпом произведения. Бамбук, который был бы помехой для любой обычной хореографии, здесь обретал иную зрительную силу образа, становясь то шестом знамени, то острием клинка, то древом или фаллосом и зависимости от переливов звуков. После представления я не сдержался, чтобы не пойти и лично не поблагодарить танцовщицу, чье исполнение меня особенно впечатлило.
Она обратила на меня густую синеву своих глаз, она очень рада, даже немного польщена, она конечно же узнает во мне скриба, от моих комплиментов щеки ее пылают, губы блестят, такие красные на белоснежной коже. У нее черты, как у Кориолис, только очень живые! Она сама из Равена, деревеньки, через которую мы прошли лет пять назад. Она ушла оттуда с Легкой эскадрой, потому что хотела жить настоящей жизнью. Теперь она танцовщица и исполнительница бамбэолы. У нее такой милый акцент, она произносит «Софф», как будто шепчет мое имя мне на ухо. Она мне ужасно нравится. Мне так и хочется ее поцеловать в дышащую свежестью головку. Пряди ее скользят по щеке с невинною изящностью, игриво разлетаются на порывах ветра, отливают цветом древесной коры, каштаном, прикрывают, словно вуалью, ее губы… Она говорит со мною голосом глубоким, нежным, выбивая из седла мою застенчивость, и подзадоривает ответить на лету, без раздумий, невпопад. Облокотившись о перила, мы смотрим,
644
как, рыжея, восходит первая луна. Бриз разметал вдали сгустившиеся облака, и в лунном свете разбросанные по равнине кусты самшита словно занимаются огнем. Внизу члены Орды вперемешку с экипажем укладывают для костра дрова в преддверии долгой ночи. Беседа наша разливается и катит свои воды над коммодором, над Голготом, Караколем и его проделками. Я чувствую, как ласковая, нарастающая эйфория накатывает на меня. Конечно, я стараюсь небрежно глядеть вдаль, ровно держать голову, силюсь унять свою цветущую всеми соцветиями душу и не отводить глаз от травинок, легко подрагивающих на горизонте. Но я ничего не могу с собой поделать. До дерзости нежнейше кровь разливается в венах, пьяня меня от радости. И охмелевший ею, ее кожей, манящей, как свежая постель, не в силах устоять, я вновь и вновь смотрю в ее лицо и каждый раз тону и таю, рассеиваюсь туманом. Я испит до дна. Она не говорит и не делает ничего особенного — как это глупо, как все просто — она всего лишь поправляет прядь волос, слегка наклоняется вперед, передразнивает ворчливого кабанчика, но для меня все это выглядит так, словно весь мир озаряется под чарами ее жестов, а громкие аккорды духовых, разлаженные волею порывов ветра, доносятся до нас как под сурдинку и только вторят ее дыханию.
— Дамы и господа, любезнейше прошу вас ныне же сойти с корабля и собраться в поле, у костра. Сегодняшний праздник пройдет под знаком состязания! Воздушно-змеиные бои, метанье бумерангов вслепую и эфемерное письмо горящим змеем по ночному небу! За поединками вас ждет еще один балет под бамбэолу.
∫ 
Большинство девчонок отправились писать горящими змеями на ночном небе эти нескончаемые, одна другой длиннее, труверские тирады. Ну и я, значит, пошел (такой
643
весь уверенный в себе…). Занятие для малышни, говорят. Не раз такое слышал. Ничего себе, для малышни, как по мне, так очень даже непростая задача (можете мне поверить) — управиться с траекторией змея в полете, не загасив пламя. Я написал только первую фразу, «Орда, добро пожаловать!», да еще и «Д» не получилось, жалкое зрелище, одним словом. Эти Фреольцы необычайно ловкие (или натренированные?). Некоторые из них так быстро ведут змея, что кажется, будто слово написано одним взмахом (огонь вместо чернил!). Мне бы очень хотелось тоже так научиться. Ну хотя бы, чтоб перед Кориолис покрасоваться, писать ей потом своей клеткой в небе (а идея-то неплохая…) так, чтоб никто другой не мог понять, что я делаю. Это был бы наш с ней секрет!
π 
Я для себя выбрал воздушно-змеиный бой. Мне нужно было спустить пар после слишком насыщенного дня. Прибить к земле летательные аппараты, обрезать им леера, остаться в небе одному, это было именно то, что нужно… Какой все-таки прием нам подготовили Фреольцы! Да даже не «подготовили», потому что они понятия не имели, что встретят нас в глухой степи! Неожиданный прием и при этом столь естественный для них. Нужно будет обдумать с Совом и Голготом, как мы могли бы их отблагодарить. Вопрос принципа и чести. Но Сов совершенно неузнаваем после знакомства со своей танцовщицей. Я никогда прежде его таким не видел. Он просто ослеплен ею, своей Нушкой, барышней немного легкомысленной, но без ножа за спиной, как отозвался о ней контр-адмирал в ответ на мои расспросы. Альма и Аои над ним слегка подшучивали, хоть и не вмешивались. Ужаленная ревность? Они и сами сегодня оставались не без внимания кавалеров. Ороси тоже, но только ее воздыхатели были
642
иного ранга, разумеется. Этот праздник для всех нас был крайне благотворен.
) 
После поединков наш разговор возобновился. На этот раз мне было еще трудней вести беседу. Я трепыхался, словно плохо надутый парус на ветру. Я нуждался в ней, одно ее присутствие разгоняло кровь по моим венам. Глаза у нее цвета грозовой синевы, настолько глубокой, что мне думалось, когда она плачет, круги небесной лазури должны расплываться по платку, которым она утирает слезы. Но еще больше меня сводили с ума ее губы, манящие ароматом густого, дурманящего вина, которое пьют стоя, залпом, потеряв голову. Мне так хотелось коснуться ее рта, погладить его бархат, провести пальцем по влажному изгибу, смотреть, как ее губы трепещут и подрагивают в ожидании, хотел бы приоткрыть ее жаждущий рот на вдохе, медленно раздвинуть ее губы, чтобы она затаила дыхание, пока я стану испивать сок ее языка, розовеющего при каждом сказанном слоге, он словно облизывал драгоценные каменья звуков. Меня всего качало от желания впиться в ее губы, вонзиться в красно-ягодную мякоть, изведать текущей из них вкус, коснувшись шеи, позволить своей руке заключить в ладони ее груди, почувствовать, как набухают и твердеют на кончиках соски… уложить ее на пол, здесь, на палубе, прочувствовать контраст меж гибким, нежным телом и твердостью половиц, завладеть ее ртом, держа одной рукою за затылок, чтоб защитить голову от ударов палубы, другой рукой лаская грудь, и пусть кошачье безумие, что кроется под ее платьем, извивается, пока она вся не нальется соками. И тогда почувствовать, как все ее тело целиком вдруг уступает, ослабляет натяжение своих пут, как тонет в волнах платья. Вдохнуть запах, провести языком по ее телу, пунцовому от чувств, открыть ее и, оди-
641
чав, вылакать, как пьют на банкете вина, впиться в абрикосовую мякоть грудей, в оголенную лопатку. Затем войти в мое, по знаку синевы и по согласию улыбки. Проникнуть в свежесть тела. Прочувствовать сполна, как она пускает меня в себя. Это медленное покачивание, соитие, слияние.
¿' 
Труба туда! Труба сюда! Без Трубадура никуда! Какое множество воспоминаний позвякивает в колоколе моего имени… Меня хватают и тащат сразу во все стороны. Все как прежде. Репутация моя ничуть не изменилась, осталась нетронута в зените и даже укрепилась долгой отлучкой и тоннами легенд. Столько людей хотят со мной поговорить. Все те, кто был со мной знаком шесть лет назад. Еще вчера. Все, кто мне и по сей день так близок. Ух! И все-таки, однако же, невзирая, тем не менее… И вместе с тем я знаю, что больше здесь не свой. Я чувствую прозрачную на вид грань, что разделяет нас теперь, но о которой им неведомо. Я становлюсь истинным номадом. Они же остаются верными себе пролетчиками в этом мире.
Это что, все, Караколишка? Накараколился? Остановишься на этом и будешь пасовать? Рикошет о поле, удар на лету, штанга, гол? Решил заделаться «истинным номадом», так, значит? Ты, рожденный новехоньким прямо из самого движения? Ты уплотнился изнутри, запекся, скис, ты даже с Совом сблизился, да ты даже Ларко стал почти понимать, когда он ноет о своей любви к Кориолис! Ты начал ощущать вашу связь, эту прочную нить, что всего тянет за прожилки, когда тебе еще приходит в голову бросить Орду, вернуть свою дорогушу-свободу, свою утраченную проказницу любовь. Утраченную? Э-э-э, может, обретенную? Быть свободным! Да ты начинаешь задаваться вопросом, не с ними ли, не в Паке ли, среди Блока твоя свобода, чего доброго, может, еще скажешь с Голготом, а?
640
Ты что это надумал, Караколь?! Это что за новости, трубадуришка? К роду человеческому прилип? Закостенел, заматерел? Но ты меня своими шуточками о всяких там связях не запугаешь, Какаду. Оставайся собой, будь скоростью, ты весь сплошная скорость и побег!
— То есть, если я вас правильно понял, до входа в ущелье Норски четыре года контра?
— Согласно подсчетам нашего сигнальщика и князя делла Рокка, да.
π 
Голгот покачал головой. Я улыбнулся, когда услышал, что меня назвали «князь». Никто в Орде меня так больше не называл. Мы собрались на задней палубе с двумя капитанами, рулевыми и картографами. Все были максимально сосредоточены, хотя у некоторых голова раскалывалась от вчерашнего и от недосыпа. Корабль покачивало. Для нас это было очень непривычно. Деревянный пол, на котором мы устроились, был действительно великолепен. Солнце уже высоко, и оттого оранжевые паруса, свернутые на мачтах, казались еще ярче.
— Что из себя представляет это дефиле? Вы говорите, что проход местами слишком узок для
Физалиса и что вы вынуждены были отказаться от этой идеи? Но вы же могли воспользоваться шлюпкой?
— Мы так и сделали, само собой разумеется. Насколько мы понимаем, нам удалось подняться примерно до середины ущелья. Весь корпус заледенел и покрылся снегом. Винты на таком морозе еле крутились. В этом месте как раз излучина, и сразу за ней начинается дичайший блиццард, он дует почти вертикально, и подъем резко увеличивается, там очень опасно.
— К тому же склон совершенно гладкий и заледенелый. Он снегом отшлифован до блеска, как этот паркет.
639
— Мы сделали неверный выбор и решили продолжать любой ценой. Нашу шлюпку прибило к земле, и от холода блокировочные шипы треснули. Экипаж ничего не смог сделать. Судно сорвало и отшвырнуло назад, оно проскользило, как стакан по мраморному столу, и разбилось на повороте вдребезги. Ни одного матроса в живых не осталось.
На наших лицах тревога смешалась с не слишком похвальной формой удовлетворения от мысли, что фреольские технологии, какими бы блестящими ни были, тоже могли потерпеть неудачу…
— Как вы считаете, контровать пешком реально?
Коммодор улыбнулся.
— Мы об этом думали. Хорошо сгруппированная Орда, вероятно, сможет дойти до излучины. Но затем, если говорить откровенно, я не представляю себе ни одного человека, пусть даже с вашей подготовкой, который смог бы пойти по ледяному склону при такой скорости ветра…
Голгот вскипел, задетый за живое, как будто это лично его возможности подвергали сомнению.
— Откуда вы можете знать?! Вы никогда не видели, как мы контруем! Мы под блаастом выстаиваем! Мы должны пройти!
Коммодор опустил глаза и слегка задумался, но все же решил продолжить:
— Осмелюсь вам напомнить, что даже ваш отец, восьмой Голгот, чья репутация вам известна лучше, чем мне самому, так и не смог пройти излучину. Он потерял половину Орды от
одного-единственного шквала.
x 
Не знаю почему, но ровно в этот момент я почувствовала, что он нам врет. Может, от какого-то странного изгиба его внутренней живости, не знаю, но я была в этом совершенно уверена.

638
π 
Голгот подскочил. Он был вне себя. Он почти набросился на коммодора с обвинениями:
— Я — не мой отец! Я девятый Голгот! Каждое новое поколение сильнее предыдущего! У меня лучшая Орда. У меня Клинок, который понятия не имеет, что значит винт поставить на попятную! Мы пройдем! Что бы вы там ни говорили! Вы обычные эологи, вы ни черта не смыслите в настоящем контре, который прокладывается собственными
костями!
Воспитанность коммодора не позволила ему ответить в том же тоне. Он принял атаку мудро, не стараясь противоречить нашему Трассеру.
— Я нисколько не сомневаюсь в известных всем нам способностях Орды. Я всего лишь хочу вас предостеречь, как наверняка сделают и ваши родители. Мы измерили анемометрами скорость блиццарда в излучине. Мы даже можем
воспроизвести на наших винтах эту скорость, наша техника это позволяет. Таким образом можно сделать своего рода симуляцию того, что ждет вас в дефиле, если вам это интересно. Могу сказать экипажу расставить ветряки, если хотите. Нужно будет развернуть паруса, чтобы уравновесить толчковую силу и удержать судно, пока будут крутиться задние винты. Можете стать на землю сразу за кормой, и посмотрим, как вы продержитесь на таком ветру…
Он это предложил без задней мысли, не столько чтобы нас на самом деле испытать, сколько чтобы покончить с разногласиями, проверив все на деле. Голгот окинул нас взглядом. Ничем себя не выдавая, все мы боялись унижения, которое могло нас постигнуть, но жаждали в то же время снять с себя всякий груз сомнений. Да и сбить с них спесь заодно. В конце концов, один ярветер мог оторвать нас от земли.
637
— Ну так ставьте ваши ветряки! Мы вам покажем, что такое Орда!
— С радостью!
) 
Сказано — сделано. Мы спустились по трапу и стали и степи за кораблем, напротив киля. Три огромных винта по три метра в диаметре были установлены в специально прорезанных для них круговых отверстиях в самом корпусе корабля, в метре над землей. Идеальная высота для симулятора. Мы надели защитные шлемы и прочее снаряжение, закрепили шипы по 25 под заинтригованными взглядами Фреольцев, столпившихся посмотреть на нас с задней палубы, перегнувшись через борт, в десяти метрах над нашими головами. В тени корабля свежесть воздуха сразу опустилась на наши плечи и покрыла траву росой. Пьетро стал готовить нас к контру.
— Так, шутки кончились, теперь всерьез, не для хвастовства! Контровать будем как при подходе ярветра: в полусгибе, латерально, с опорой на заднюю ногу. Всем подобраться. Голова, локти, колени в одну линию…
— Вы въехали, что к чему? — оборвал его Голгот. — Они сначала запустят первый винт, это будет как бы вход в дефиле. Теоретически, у нас все должно остаться цело. Это даст нам время запаять опорные. Потом, по гудку, вкрутят нторой винт, тут нужно будет заколотить колодки в Клинке и забиться за него. Остроугольный ромб. Плечом к плечу, в месиво. Пак, вы сзади подпираете того, кто вас прикрывает. Чтоб стояли мне как несущие балки! Нас может выбросить в любой момент. Вас труханет не так сильно, но вам нужно удержать основной упор. Будете фундаментом, понятно вам, раздолбаи! Если вы обделаетесь, весь Клинок из-за вас дерьма наестся! Всем все ясно? Чтоб я не слышал ни одного бздоха. Ясняк?
636
— Ясняк!!
— По третьему гудку влепят последний винт. Вот на этом, как они думают, мы и сломаемся! Действуем так: мы в Клинке сложимся пополам, затылок на сломе, головой в ботинки, будем запихиваться потоком, пока до отвала не набьет. Это нам прибьет опорные. Вы, там, сзади, засунете башку свою нам в задницы. Чтоб мы были сплошным блоком из плоти. Каменюка из костей. Нам три минуты нужно продержаться. Это вам не в змея резаться. Это значит, что вы тут даже не зверье, вы камень! Камень не дышит, не страдает, не делает в штаны. Будете держать блок, пока гудок не заорет, что у Орды яйца на месте! По местам!
— По местам!
Послышались крики матросов и гул раскручивающихся винтов. Корабль мощно загудел. Коммодор и один из трубачей, который должен был давать сигнал гудком, расположились с краю корабля, по ту сторону винтов, там они были в безопасности, и мы могли отлично их видеть.
— Дорогие друзья, настал час правды! Я желаю вам удачи, и, что бы ни случилось, вас ждут лучшие из наших вин для торжества по окончании испытания. Внимание! Трубач! Первый винт!
Первый протяжный гудок прокатился, перемежаемый криками ободрения и веселым свистом. Голгот занял место впереди, не дрогнув. Он переломил свое круглое тело пополам, вбил ярым ударом ногу в землю и заорал: «Сомкнуть ряды!». Первый винт начал рубить воздух, загудел, зарокотал, люто захрипел на всю катушку. Воздушная масса, которая неслась нам в лицо, по мощности была как хороший стеш: одежда хлестала, как флаг на ветру, ткань сухо стягивала шею, руки, голени. От толчковой волны корабль отнесло вперед на пару метров, но он тут же затормозил и закрепился. Правым плечом я касался спины
635
Голгота, а мое колено почти врезалось сзади в ложбину его согнутого колена. Моя левая нога слегка выступала, чтобы защитить Эрга и амортизировать наш треугольник. Пьетро занял строго идентичную позицию справа от меня, как симметричный сиамский близнец. Опорные были в порядке. Выдув винта оказался неровный, и нас немного раскачивало на залпах. Но можно было держаться без проблем.
— Крепче, ребята! Стоим! Фаркопщики, компактнее!
π 
Второй гудок. Скачок адреналина. Фреольские женщины смеются у нас над головами. Центральный винт тронулся, лопасти пришли в движение. Ветер усиливается так быстро, что мне кажется, я сейчас упаду как кегля. Сзади, в хвосте строя, кого-то выбросило. Скорость лопастей ошеломительная, а звук почти такой же беспощадный, как и сам поток. Вжимаюсь поближе к Голготу и Сову. Так близко, как только могу. Эрг, Тальвег и Фирост зажали свои тиски. Их масса фиксирует наш Блок. Клинок на месте. Ощущения опорные. Хотя ноги дрожат, как мачты в шторм. Несущаяся на нас волна такая мощная, настолько ощутимая, что у меня щеки вдавливает в лицо. Правая рука, заанкеренная на колене, вибрирует под напором. Икры болят до слез. Не выдержу, сейчас отпущу! Держи строй, делла Рокка, ты князь! Князь! Держу. Шипы съезжают на рыхлой почве. Ветер стабилизируется. Стоять скалой. Скалой. Я знаю, что нижняя половина нашего ромба сорвалась, я ничего не видел и не слышал, но чувствую это по обратному затягу к винтам. Клинок остался целиком. Плюс ряд за нами. Рек. Кого-то снесло с моей стороны, справа. Это слетели Арваль и сокольник.
Третий гудок. Не знаю, как это можно выдержать. Я сорвусь. Голгот успел только крикнуть: «Блок! Блок!». Моя голова упирается в его ягодицы. Четвертый ряд сорвало.
634
Остался один Клинок: Эрг-Тальвег-Фирост, три опорных столба сзади нас. Голгот расплющен волной ярветра, практически на корточках, с головой, прижатой к ударному колену. Колени его трещат под чудовищной мощью фронтального напора. Норска. Вот как будет на Норске. Ветер обжигает. Шквалы бьют, как камни. Я беспрестанно корректирую положение головы с точностью до градуса. Затылок твердеет. При каждом скачке потока мне по ногам колотит топором лесоруба. Кромсает меня.
) 
Не знаю, как именно это произошло, но в какой-то момент я почувствовал, что ветер ослаб, потому что наш славно известный Голгот Девятый, озверелый сын своего королевского рода, в жутком приступе гордости решил подняться и идти вперед! Не понимаю, как он это сделал. Помню только, как он выбросил руки вперед, словно опираясь о поток, ровно так, будто хотел перекатить огромную каменную глыбу. С немыслимым усилием он сменил опорную на выпаде, чтобы ударить ветер в сам живот, выпустить ему кишки через горло. Я постарался пойти за ним, сохранить тягу, сделать шаг, который бы меня снова к нему припаял.
— Толкай! — взвыл Эрг.
Я встал с колен слишком поздно и самую малость нескладно, но ветру этого было достаточно. Он раздирал мои ключицы, мой торс был уже слишком прям, под неправильным углом, голову сносило назад, позвоночник выгибался дугой, но я держался. Сзади меня Эрг старался выпрямить меня ударом каски по хребту. Секунды на четыре я замер, опершись о стену его твердейших мускулов. «Срывайся!», «Больше не могу. Срывайся!». Я послушался, чтобы уберечь Эрга, не утащить его с собой, дать ему шанс продолжить. Прыжком вбок я выскочил из Клинка, поток скосил меня одним ударом и отбросил на пять
633
метров назад, я катился кубарем потраве, пока меня не затормозили сгруппировавшиеся фаркопщики и остальные ордийцы, которые тоже бросили строй.
—
Фастик! Фастик!
—
Шрим, Голгот,
шриииим!
Мне было стыдно, но никому до этого не было дела, откровенно говоря. Эрг по-прежнему остался в строю, в идеальной позиции капли, чудовищно впиваясь опорными по всей шипованной поверхности — он присоединился к Готу. Собравшаяся Орда не сводила глаз с тех, кто продолжал защищать нашу честь, на трио Голгот-Пьетро-Эрг. Они, спаянные в один блок, стояли всего в двух метрах от оглушительно свирепствовавших лопастей фреольского корабля. Все три винта громыхали на максимальной мощности. Они больше не продвигались вперед, это было просто-напросто неподвластно человеку. Пьетро развевался, словно флажок из кожи. Он должен был бросить строй.
И он бросил. Он постарался лечь на землю, но ветер подхватил его и закрутил в воздухе, зацепив заодно Эрга и безвозвратно выбив того из равновесия.
Оставался один Голгот и впечатляющая толпа Фреольцев над ним. Хотя в гуле винтов нам ничего не было слышно, но мы видели, как они кричали и поднимали вверх кулаки, подбадривая его безумие.
Наконец раздался третий гудок, объявляющий, что три минуты истекли и что Голгот, и только он один, победил! Но, может, он был слишком близко к винтам, а потому не услышал, или
не захотел услышать, или, может, он уже был в дефиле, в самом сердце лютующей Норски, цепляясь шипами за жизнь, за лед, с голенями, ввинченными в две ледяные дыры, но Голгот в порыве неистовой ярости нанес удар коленом, кулаком, снова коленом и опять кулаком, так, словно ветер был живым существом, с
632
конечностями из плоти и крови, стоял лицом к лицу перед ним, и Голгот дошел до деревянного проема в корпусе корабля, выемки, в которой размещался центральный винт, и вцепился в дерево обеими руками. Вся земля за ним была вырвана шквалом, оставалось сплошное перепаханное поле. Кожа щек накрывала его уши, он кричал.
Винты стали крутиться медленнее, затем лопасти заворковали в последнем рывке и остановились. Раскатился длинный гудок трубы, и повисла оглушительная тишина. Голгот покачнулся, повалившись животом на корпус корабля, готовый вот-вот рухнуть, но затем поднялся, оттолкнувшись от бортика проема, и поднял смотровой щиток шлема к палубе, где столпились Фреольцы. Зазвучали редкие, нерешительные аплодисменты, а затем полился настоящий поток, овации неудержимой свежести и восхищения.
π 
Обед прошел как на облаке. Гордость за то, что продержались на третьем винте? Разумеется. Но еще более того нас радовало внутреннее осознание того, что мы были готовы для Норски. Вторая половина дня протекала в безмятежности. Это был наш первый настоящий отдых за последнее время, страшно даже подумать, когда мы последний раз отдыхали. Я осведомился о новостях из Аберлааса и Ордана. Ничего принципиально нового, все те же трения между тремя группами: Хронистами, Верховенцами и Прагмой. Прагма считала, что целью Орды должно быть достижение Верхнего Предела любыми средствами и способами, в том числе моторизированным. Она, разумеется, пользовалась безусловной поддержкой Фреольцев, которые предлагали перевезти тридцать пятую прямо к подножью Норски. Полнейший абсурд, как по мне. Какой в этом смысл? Вся ценность Орды заключалась в ее контре,
631
в ее схватке врукопашную с землей и ветром. Лишить ее Трассы значило помешать ей достичь зрелости, знания, понимания. Значило отправить на Верхний Предел, если он вообще существует, Орду невежественную, незавершеннную, слабоумную. Которая, соответственно, окажется не на высоте поставленной перед ней задачи. Верховенцы до нынешних пор были в большинстве. Они верили в нас, поддерживали и способствовали нашему продвижению, благодаря своим связям вдоль линии Контра. Что же касается Хронистов, то они ничуть не отступали от своей изначальной цели. Они продолжали искать ядро зарождения ветра в хронах и проводили многочисленные эксперименты, не придавая их широкой огласке. По словам коммодора, влияние их крепло. Что не было для нас неблагоприятно, поскольку Ороси сохраняла в их рядах поддержку аэромастеров, главенствующих в этой ветви.
Вечером планировался большой праздник, еще один, на этот раз в прерии. У Эрга был озабоченный вид. Он недоверчиво относился к такого рода легкости в атмосфере, считая ее крайне удобной для нападения. Добрая часть Пака провела время пополудни, рассекая на буерах и на аэроглиссерах. Сов был влюблен. Альма почти влюблена, а Кориолис еще не определилась. Голгот с Фиростом проторчали два часа в воздуходувке, в трюме. Они меня порою очень утомляли.
) 
Ах, Нушка, моя Нушка! Во все время приготовлений к празднику я не переставал следовать за ней, благоговея, весь возбужденный, словно в лихорадке, не зная, как продолжить то, что между нами произошло, где найти силы, чтобы пойти дальше, заклиная себя вести себя естественно и просто и прекрасно понимая, что тот, кто высматривал ее отражение в начищенных поверхностях, был на
630
это просто не способен. Я выжидал Нушку в надежде, что она пальцами поправит заросли моих волос. Когда ее не было поблизости, я без особого труда обретал ощущение единства собственного тела, связности моих мускулов и конечностей, которое придавало мне уверенности в том, что я был отдельным блоком плоти в этом мире. Но как только она появлялась, меня начинало трусить изнутри, меня расшатывало, мачта позвоночника гнулась как подрубленная, из всех дощечек и реек корабля словно бесшумно вытягивали гвозди и их закручивало в воздухе так же легко, как если бы это была охапка прутиков. После приветственной части мне кое-как удавалось взять себя в руки, но исключительно потому, что она выказала такую несказанную радость от встречи со мной, одарила меня таким многообещающим залогом успеха! Затем началось долгое головокружение от ее присутствия, чувство столь отчетливое, размывающее все, что было вокруг, столь редкое, что я ни за что не пожелал бы оказаться где-либо в другом месте, в другое время или с другим человеком, нежели с ней здесь и сейчас.
Праздник поглотил нас, меня и Нушку, как только мы ступили в круг скошенной аэрокосилкой травы. Нас завертело среди хохочущей толпы, руки тянулись к нам со всех сторон, удлиненные бокалами, наполненными прямиком из бочек, в которых, системой флюгеров под колпаками, если я все верно понимал, удерживалось шипучее игристое давление. Опрокинув пару бокалов и поймав несколько искренних улыбок, я влился в праздник. Теперь я был не боязливым наблюдателем, а действующим лицом, в центре внимания и радости, прямодушных и обходительных вопросов, многочисленных попыток соблазна, на которые я не мог сполна ответить, как не мог и решительно отклонить. Я был окружен старыми матросами, которые
629
хотели прихлебнуть немного моего престижа, и женщинами, и большинстве достаточно зрелыми, которые истолковывали мою застенчивость как знак согласия на разговор.
И вскоре потерял из виду Нушку и остальных. Вдалеке, в вельде, я видел пятна света, откуда залпами выплескивалась музыка и крики — арену или, может быть, площадку для игр?
π 
Я расспросил коммодора о человеке с желтыми глазами и треугольным лицом, который допытывался у Фироста про технику боя Эрга, и мои подозрения подтвердились: он не был членом экипажа Легкой эскадры. Он представился контр-адмиралу как Силен во время захода в порт какой-то непримечательной деревушки. Ороси, осторожно понаблюдав за ним на празднике и даже немного с ним поговорив, сделала мне знак, и мы незаметно вышли из освещенного круга. Разойдясь в разных направлениях, мы обошли праздничную поляну каждый по своей стороне и встретились за ней, в низовье, укрывшись в небольшой впадине. Ороси села, поджав под себя ноги, с прямой осанкой и непроницаемым лицом. В свете неполной луны травинки поблескивали металлическим цветом. Резко повернувшись ко мне, она спросила:
— Коммодор избавил тебя от сомнений?
— Да. Силен не член экипажа, он попросил коммодора взять его во внешний эскорт
Физалиса.
— Да, он мне сказал. Что такое этот эскорт?
— Это та куча буеров, аэроглиссеров и контрасов, которые идут впереди или за кораблем, по ситуации. Они служат своего рода первым защитным пластом против атак наемников.
— Кто их атакует?
628
— Обычный пиратский сброд.
Физалис и сам по себе ценный корабль, к тому же еще и груженый. Они занимаются срочной перегонкой, благодаря их скорости…
— И что они перегоняют? Слитки?
— Да, много прутковой стали, олова, мрамора, камня, для укрепления сел, легкового транспорта…
— Оружие?
— И еще сколько! По большей части неокантованные винты, механические арбалеты. У них в трюме даже налажено производство пневматических пуль, настоящий цех. К тому же у них мощнейшая компрессия. В общем, завистников у них немало.
) 
Мне пришлось согласиться не на один танец, уступая зазывающему, словно вырывающемуся из ночи оркестру и приглашению дам. Несмотря на то что партнерши всячески старались мне помочь и вели танец, я путался в слишком сложных для меня танцевальных па, чем вызывал шуточки в свой адрес, в особенности от Караколя, который прохаживался меж вальсирующих, изображая ревнивого супруга, то и дело разбивал пары, чтобы поволочиться за фреольскими красотками в длинных платьях, серьгах и звенящих браслетах, которые в моих непривычных к такому зрелищу глазах еще пуще распаляли пламя костра. Что еще меня поразило, так это присущая Фреольцам элегантность, которая проявилась, когда упала завеса небрежности и разгильдяйства. Как естественно они расширяли круг, чтобы принять в него нового танцора, как выказывали почтение красоте той или иной девицы, как ненавязчиво пытались приударить! По сравнению с деревенскими того же уровня воспитания они обладали таким природным
обаянием, что ни одна из их выходок не выглядела грубостью, несмотря на резкую вспыльчивость, привычку устраивать бои или
627
метать (как любил это делать Караколь) цветные диски с бумерангами куда ни попадя, не заботясь о том, что могут их потерять или что-нибудь разбить. В них было нечто такое, что, постарайся я объединить в одно слово все их манеры, производившие на меня такое впечатление, я бы сказал, что они были ребята
со вкусом, хотя порой бывали чрезмерно экспрессивны, а иногда, прямо сказать, выделывались.
— Здорово, мудрая Сова! — крикнул мне Караколь, проходя мимо. — Вокруг кого кружится по орбите твоя Венера? — добавил он, снова промелькнув в танце, крепко сжимая в объятиях партнершу…
Это была она! Нушка! Я искал ее глазами целый вечер. А она смеялась в его объятиях, вся раскрасневшись, мне показалось, что она даже пожалела о своей насмешке надо мной. А может, вовсе нет. Может, она была просто счастлива? Я почувствовал, как вдруг обмякли мои плечи, как ссутулилось все мое естество, влюбленно-ревниво я, необъяснимо для себя, проследовал за ними взглядом до самого окончания танца. Нет, вру. Я не выдержал и вышел из круга, стараясь сохранять самообладание, и отправился хлебнуть немного этой ночи.
— Как этого типа взяли в эскорт?
— Шарав сказал, что после Норски они остались без пилота. Они там потеряли четыре велесницы… И, естественно, протестировали его перед тем, как нанять. И он их не разочаровал. Говорят, он показал себя блестяще. У него очень необычный буер, уникальная модель, прототип. Четыре колеса, очень компактный, с квадратной рамой, поворотный парусинт и сиденье, вращающееся на 360°, копьеметатели, установленные по осям всех четырех колес, с наводкой отдельного ветряка.
— Парусинт? Ты уверен? У него настоящий парусный винт? С лопастями тонкими, как лезвие, плотно состыко-
626
ванными, в форме треугольника при полной остановке, который можно использовать как парус?
— Да, именно так. У него парусинт. Я всего раз такой видел, но я хорошо себе представляю, что это!
— Ты знаешь, что существует только один цех по производству парусинтов? Есть только одно место…
— И оно в Аберлаасе.
— В Кер Дербане, если точнее.
— Это значит, что этот Силен с Дальнего Низовья… Сколько ты ему дашь на вид?
— Нашего возраста: лет тридцать пять — сорок. Но его не так сильно пощебенило, как нас.
— Как бы ты его охарактеризовала? Осмотрительный, опасный?
— Умный. Рассказал мне ровно то, что должно было меня успокоить: рад стать частью эскадры, новая цель в жизни, знакомства, друзья… Всю необходимую правдоподобную чепуху. С большой убедительностью, сдержанно. Идеально.
— Ты не думаешь, что нас затянуло в паранойю, Ороси? Нет никаких формальных доказательств того, что Преследователи существуют. Ни в одном контржурнале — а мы с Совом сотню раз об этом говорили, — нигде не говорится ни об Ордах, которые бы подверглись преследованию или уничтожению, ни о связанной с этим опасностью.
— Да, но все же имеются огромные подозрения на этот счет, как ни крути, Пьетро! Вспомни хотя бы двадцать восьмую, они сначала застряли в селе, потом на них четыре раза напали всего за одну неделю, потом у них боец-защитник водой из источника отравился. А после этого еще одно нападение. Окончательное. Мы никогда не видели контржурналы Орд, которые так или иначе были ликвидированы, а значит, мы по определению не можем утверждать ничего наверняка.
625
— Что тебя насторожило в его поведении?
— Пока мы разговаривали, Караколь бросал в нас всеми летающими игрушками, которые ему под руку попадали. Фас, профиль, со спины. Мне только пару раз удалось уклониться от летушек. А он увернулся ото всех, не выпустив бокала из рук. Я даже не могу тебе объяснить, как он это сделал. Он невероятно быстро движется, точнейшие, мельчайшие движения. Грудь, затылок, поворот плеча, полушаги. Я никогда такого не видела.
— Он поймал летушки?
— Некоторые поймал. И перезапустил их.
π 
Ороси сделала паузу. Она заметно подрагивала. Ее серебряные флюгера в волосах поблескивали.
— И что скажешь?
— Что мне не часто доводилось видеть, чтобы так сухо метали. Как удар хлыста. Он даже виду не подал, просто ответный жест. У него очень сухой бросок.
— В кого он целился?
— В Караколя. И попал.
— Ветер небесный! Это очень плохой знак. Ты предупредила Эрга?
— Он его заметил, когда мы только поднялись на корабль. Эргу знакомо его лицо. А потом Фирост позвал Силена выпить по стаканчику и много рассказывал ему про Эрга. Только на этот раз он все выдумывал. Эрг готовится. Он думает, что, во-первых, этот тип как раз из Преследователей, а во-вторых, что он, скорее всего, тоже прошел Кер Дербан. Только его, вероятно, готовила Прагма.
— Это было бы самой плохой гипотезой.
— Это и есть
самая плохая гипотеза, друзья.
x 
У меня сердце встало на четыре секунды, пока я не убедилась, что это голос Эрга. Он не сразу показался, но
624
это точно был он. Он подобрался очень близко к нам, замаскировавшись в высокой траве, и подслушивал наш разговор. Он был невидим и бесшумен. Потом показался шершавый плавник его волос, впалые глаза, изогнутые крылья носа. Ровно на миг, чтобы нас совсем успокоить, затем он снова нырнул в траву, совершенно неразличимый для глаз.
— Что ты советуешь делать, Эрг?
— Ничего. Ждать, пока он себя проявит.
∂ 
Жалковатый на первом ходу, оркестр был в духе самой крикливой фреольской прогрессивности — фанфара, брызгающая гуашью. Они ворвались с вертотрубными силами, контрабасинами, натянутыми воздушными змеями, аккордеолами и арфами, все это было подкреплено время от времени фальшивившим ветряным органом, который громоздился в самом центре танцплощадки со своими пятиметровыми трубами, отверстия которых фреольские фланговики частенько забивали тряпками, видимо, воспринимая музыкальный разнобой как эхо собственной жажды разлада. Отчасти из любопытства, отчасти бросая вызов, мне предложили присоединить ресурсы моего свистяка к общему, не особо стройному гаму их композиций, и я, к своему собственному удивлению, согласился. Меня посадили в корзину воздушного шара, пришвартованного в нескольких метрах перед органом, в месте, где ветер был наиболее стабильным. И я не без удовольствия возвысился над праздником, наблюдая за необузданностью танцоров и за непрекращающимися метаниями бумов и льющимся с небес на головы вином, короче говоря, доброй частью того, что делало слегка несносным этот в остальном весьма добродушный праздник жизни. Добавьте к этому еще то, что меня регулярно снабжали хмелем и в промежутки относительного покоя пару раз дали затянуть долгое сви-
623
стящее соло, которое я модулировал, прокручивая свой самшитовый конусный барабан, вводя танцующих в состояние меланхолии, которое было мне весьма по душе. Композиций через шесть коммодор потребовал тишины.
— Дамы и господа. Почтеннейшие господа ордийцы! Покорнейше прошу вашего внимания! В начале нашего торжества было заявлено, что вас ждет нечто необычайное. Теперь же, когда с приготовлениями покончено, мы можем объявить начало нашей знаменитой
игры в факел.
Радостные фреольские вопли сначала зазвучали угловато, но потом слились в гладкую, обтекаемую массу.
— Кратко напомню правила игры для наших друзей из Орды. Вокруг танцпола расставляется около сорока факелов. К ним незаметно добавляется еще три, их можно будет отличить по голубому пламени. Сигналом послужит гудок в свистяк нашего почетного музыканта, Боскаво Силамфра. По этому сигналу самые проворные из вас смогут, завладев голубым факелом, передать его тому, на кого падет их выбор — той или тому, кому они захотят выразить огонь своей любви. У счастливого избранника будет выбор: передать факел кому-нибудь другому или же вернуть его назад и тогда…
Сочное «ааааааххххх» разнеслось среди присутствующих.
— И тогда двое, таким образом нашедшие друг друга, объявляются парой. Их сопроводят наверх, в одно из трех установленных по случаю летающих гнездышек, в двадцати метрах над землей, с перинами, свежайшими простынями и покрытым бархатом балдахином, который будет оберегать их нежнейшую близость.
) 
Я поднял голову и вместе с остальными обнаружил, что команда матросов и впрямь установила на достаточном
622
расстоянии друг от друга три розовых воздушных шара, под которыми были подвешены кровати с балдахином, в колыбели из ивовой лозы. Специальная система крыльев и заслонов стабилизировала сооружение и обеспечивала подвеску с экономичностью средств, которая многое говорила о мастерстве фреольских аэромастеров. Подошедшая ко мне Ороси оценила конструкцию по праву эксперта.
— Игра закончится, когда сложатся три пары. Не выдавайте себя сразу, пускайте факелы гулять по кругу! Будьте терпеливы и хладнокровны, достопочтенные ордийцы! Вы вскоре убедитесь, что наша невинная забава — это более тонкая игра, чем может показаться на первый взгляд…
¿' 
Игра в факел, черт подери! Как забыть тебя я мог? Трубадурик, Трубаумник, неужто я повесил память болтаться у себя на поясе? Но верх предела, поверьте, состоит в том, чтоб первым схватить факел, ведь тогда, тогда что? Тогда все так, как будто сам огонь протягивает вам свой факел и вам ответно объясняется в любви, и это, это, это, это настоящая история любви. Да что я такое говорю? Это история души, чей пыл не угасает, и потом вы ощущаете себя любимым каждый раз, как возгорается новое пламя, поскольку — и все это неспроста, запомните! — первое пламя вам дано самим огнем. Я, впрочем, лучше покажу…
∫ 
Ага, вот я бы, например, расположился рядом с факелами (по ободу танцпола), в ажиотаже молодых фреольских задир… Устроил бы раздачу тумаков локтем (не по-злому), выслеживая, когда Силамфр крутанет свой барабан, и прыгнул бы в аккурат, схватив (одним ударом лапы) факел с подставки под изумленное ликование толпы. Тогда я подошел бы к Кориолис (не стыдясь и не хитря, не играя в отстраненность) и протянул бы ей факел.
621
Первым. Она бы покраснела под свист оравы воображал, посмотрела бы, как пламя факела потрескивает и трепещет на ветру, и отдала бы его мне (просто), оборвав столь ожидаемую другими цепь из бесконечных перебрасываний надежд. И толпа бы нас освистала или одобрила рукоплесканьями (нехотя). Но мы бы подняли глаза к маревам и увидели бы, как к нам нисходят белые крылья парапланов, чтобы унести нас отсюда…
Ну да ладно. Все вышло
не совсем так. Караколь разработал с Силамфром специальный сигнальный код. Он прыгнул (за полсоломинки) до сигнала, в самую гущу Фреольских удальцов. Он первым выхватил факел. Матросы ухватили два оставшихся.
) 
Что там ни говори, а Караколь был, есть и всегда будет Караколем, то есть чем-то фундаментально непредсказуемым. То, что он, смухлевав само собой, схватил первый факел из-под носа и едва пробивающихся пушком бородок молодых матросов, что начал потом театрально расхаживать, размахивая факелом вместо меча, изображая, будто его штормит, и проглотил целую флягу алкоголя, чтобы потом все это выплеснуть на факел, разбрызгивая облака пламени, все это оставалось для меня в пределах вероятного. Но явно не то, что он учудил после. Со временем одним из моих секретных развлечений стало пытаться угадать, что он
собирается вытворить, зная, насколько его отвращала предсказуемость, незамысловатый или ожидаемый фарс, и в какой мере ему была присуща требовательность, столь редкая даже среди самых плодовитых трубадуров, к самобытной изобретательности, превращавшая в движущееся произведение искусства не его самого, я подразумеваю его тело и душу, но всю совокупность множащихся экспромтов, повадок и выходок, кото-
620
рые делали Караколя для моего сердца столь однозначно дорогим и столь полноценно живым.
Он стал прохаживаться по рядам, сплоченным хмелем, прокладывая себе путь, выдувая длинные струи огня. Он множил ставки, протягивая свой факел, и тут же отводил его назад, заигрывал с целой плеядой прехорошеньких Фреолок, и некоторые из них, судя по тому, как они на него смотрели, готовы были без раздумий
удвоить, как они это называли на игровом жаргоне, что значило принять любовь, пусть даже всего на один вечер, которую наш трубадур им якобы предлагал. Я предполагал, что он, возможно, вручит факел одной из зачарованных девчушек, которых родителям не удалось отправить спать и которые теперь в чрезмерном возбуждении следили за этим в высшей степени ребяческим спектаклем. Или же, мне подумалось, он сейчас зашвырнет факел в поле и крикнет: «Ветер — моя любовь!». Или, чего доброго, станет совать его в морду какому-нибудь барану из фреольского стада, или…
Но нет, ничего подобного он делать не стал.
А что же он сделал? Он отдал факел мне. Я принял его, однако опасаясь, что за этим кроется какая-нибудь шутка, но никаких шуток не последовало, точнее, вверить мне факел и было его шуткой. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но взрывы смеха понеслись каскадами, в то время как Караколь, извиваясь вокруг меня, изображал влюбленного, а я так и застыл с факелом в руке, не зная, что мне теперь с ним делать. Толпа кричала: «Отдай ему назад», «Удвой, дорогуша!», что только усугубляло, насколько это еще было возможно, неловкость ситуации, в которой я оказался. Я стал передвигаться, сначала бесцельно, а затем в надежде срочно отыскать ту единственную, которая могла прийти мне на ум в этот момент, Нушку. Но повсюду, куда бы я ни протиснулся, как чертик из коробочки
619
выскакивал Караколь и как последняя истеричка бросался мне в ноги, протягивая руки к факелу, практически вырывая его у меня из рук, и все это под неудержимый хохот. Наконец я заметил ее посреди какой-то группы людей, и, когда почти к ней подошел, мне снова помешал Караколь. Несносный, он стал передо мной живым щитом. Почувствовав, что я в бешенстве, он все же отвернулся и изобразил уязвленную гордость в пронзительных стенаниях. Нушка протянула руку, чтобы взять у меня факел.
И что? А ничего. Она взяла и небрежно передала его своему соседу справа. В ее голубых глазах промелькнуло еле заметное «спасибо», хотя я даже не уверен. И праздник продолжился.
x 
Ветер мой, как быстро все завертелось! Факелы мечутся из рук в руки, повсюду смех, никто не решается удвоить. Кориолис протягивает факел Караколю, который потешается над ней и передает его Аои, она — какому-то Фреольцу, тот — Каллирое, а она бросает его вверх Силамфру, который передает девчонке из фланговиков, а та бросает его какому-то матросу, который отдает его обиженной Кориолис, а та возвращает факел назад… Нет, она все еще не решается. А может быть, не хочет перед Ларко? Я не смогла переговорить с Совом о Силене. Он сейчас не в форме для таких разговоров. Он пьян, он сознательно и упорно продолжает напиваться. Вот он получает факел от Аои. Сурово смотрит ей в лицо, а она мягко улыбается ему в ответ, с такой трогательной застенчивостью, лицо ее пылает. Непонятно, всерьез ли она, но очень на то похоже. Сов не знает, что делать, по нему видно, как он колеблется, не отдать ли ей факел назад — давай же, черт возьми, сделай это для нее, для вас. Осмельтесь в конце концов, пусть даже и перед такой толпой. Но он отворачивается и во второй раз ищет
618
свою голубоглазую брюнетку, эту Нушку, которую обступили еще плотнее прежнего, она снова отметает его предложение, передает факел наугад, вся из себя горделивая принцесса. Напряжение усиливается, страсть накаляется, нависает над игрой, чувствуется, что первое удваивание не за горами, но все никак… В центре поля Эрг влился в гурьбу. Он пропустил пару стаканчиков, чтобы ввести в заблуждение расслабившегося Силена. Я начинаю думать, не преувеличила ли я опасность, которую тот из себя представляет.
π 
Расставленные по контуру танцпола факелы постепенно стали тухнуть. Атмосфера от этого переменилась, сделавшись более странной и менее беспокойной. Чернота ночи наплывала кругами. В ней еще яснее проступали три мятежных факела с синеющим ореолом. Я не спускал глаз с Эрга и Силена. Я предупредил Голгота, который был занят тем, что договаривался с коммодором о девчонке на ночь. Тот выбрал ему из всех ночных бабочек самую красивую на корабле, Оранж. Но он к ней не притронется. По крайней мере, пока не…
Факел очутился в руках у Эрга. Его могучие плечи на секунду осветились, и он передал факел дальше. Послышались возгласы. Я испугался и бросился в толпу. Эрг, совершенно оторопелый, снова держал факел в руках. Девушка, которой он его только что отдал, удвоила! В небе я увидел белые паруса. Фланговики взяли его под руки хоть и с некоторыми предосторожностями, когда узнали в нем нашего бойца. Он не сопротивлялся. Немыслимо было поступить иначе. Рыжеволосая девушка, лица которой я не видел, прижалась к нему, и их обоих стали поднимать на розовый воздушный шар под ободряющий аккомпанемент духовиков. Коммодор объявил:
— Итак, у нас совпала первая пара! Это, мои дорогие неудачники, известный всем вам боец-защитник Орды,
617
Эрг Махаон, которого вы имели честь наблюдать в деле вчера, и Ифена Деш, ветровница нашего экипажа. Пожелайте же им сладкой ночи!
Как только он спустился с эстрады, я отвел его в сторону:
— Простите мне мою неучтивость, коммодор, я беспокою вас во время праздника.
— Прошу вас, вы наши гости!
— Мой статус князя возлагает на меня обязанность следить и обеспечивать безопасность нашей Орды.
— Разумеется.
— Могли бы вы мне рассказать об этой Ифене Деш? Кто она, помимо должности, которую вы только что назвали?
— Я вас прекрасно понимаю. Но не стоит беспокоиться, вашему защитнику нечего опасаться в ее присутствии. Эта очаровательная девушка не состоит ни с кем в паре и пользуется репутацией весьма приветливой, здравой телом и духом молодой особы.
— Как давно она числится в рядах Легкой эскадры?
— Она работает с нами вот уже пятнадцать лет. Это отличная ветровница, чья работа нас полностью удовлетворяет. Будьте покойны, князь, она не представляет для вас никакой угрозы. Мы отлично ее знаем.
— Я благодарю вас и снова приношу вам свои извинения.
— Они излишни. Мы в вашем распоряжении.
— Я вас больше не побеспокою.
— Наслаждайтесь же праздником!
Немного сбитый с толку, я не прошел и тридцати метров, как мне на шею бросилась Ороси и, обвив меня руками, как возлюбленного, зашептала мне на ухо:
— Что ты выяснил?
— Ничего такого, что давало бы повод беспокоиться. А ты?
616
— Девушка, которая сейчас с Эргом, это девушка Силена.
) 
Что бы я ни делал, ища с ней встречи или, напротив, избегая ее, она все время появлялась из какой-нибудь группы людей, обрушиваясь на меня весенним проливным дождем, и исчезала так же быстро и внезапно, унося с собой свой климат и смеющийся ручей своего лица, и берег неба в своих глазах, и гавань своих губ, алеющих под каплями дождя, и свой манящий рот как бездонный колодец, в котором тонули все мои надежды. Там, наверху, висел воздушный шар, на котором я сам не прочь был бы оказаться с Нушкой. Его озаряли четыре фонаря, подвешенные к балдахину, и хоть освещение было неярким, его хватало, чтобы угадать в небе парящее уютное гнездышко, где нашему счастливчику Эргу повезло предаться любви. Внизу какой-то парень — это было очень странно! — обрубил швартовый канат, и шар стало сносить к низовью, совсем легонько, — все-таки система крыльев, оснащенных винтами, установленных по обе стороны корзины, отлично обеспечивала зависание монгольфьера.
— Где Силен?
— Ушел спать.
— Кто тебе это сказал? Фирост?
— Он сам. Он пожелал мне спокойной ночи.
— Святые Ветра!
— Вам не кажется, что вы тут раздули шум из ничего? Вы бы видели ваши рожи, можно подумать, что я вам на завтра ярветер объявил. Эргу как раз совсем неплохо с его подружкой под балдахинчиком, а вы тут колотитесь непонятно чего. Спокуха.
— Эрг в смертельной опасности.

615
Δ 
Волосы рыжие. Крашеные. Шатенка на самом деле. Ощупываю ее. Оружия нет. Ногти чистые. Под ними тоже ничего. В шевелюре тоже пусто, на ощупь. На запах тоже ничего. Раздеваю ее. Она со мной говорит, лепечет все, что нужно, чтобы меня возбудить. Срабатывает. Обнюхиваю ее. Нужно проверить зубы. Все ямки, впадинки. Вульву тоже. На клапан. В Кер Дербане на испытании со шлюхами одному так головку оттяпало движением вагины. Прием амазонок. Раздвигает ноги, входишь в нее, и клац, сжимает мышцы, и все. Самосжимающееся кольцо. Можно всю кровяку потерять. Кто-то внизу рубанул канат. Чувствую по стабильности полета. Давление поднялось. Зависаем. Эта продолжает мурлыкать. Отбросил ее одежду подальше. Голая, липнет ко мне, хочет погладить. Заламываю ей руки. Отбивается. Пробует контрприем. Недурно. Делаю захват на ключ, переворачиваю ее, блокирую обе руки и привязываю к изголовью кровати. Резкий рывок снизу. Несильный, но я точно почувствовал. Что-то или кто-то дернул снизу за волочащийся канат. Теперь поднимается по нему. Нет. Смена направления. Приоткрываю занавески и выхожу на платформу корзины. Кто-то усилил снос к низовью. С высоты танцплощадка выглядит размером с метательный диск. Нас уносит.
— Трахни меня!
— Заткнись…
— Ну давай, засади поглубже, я сейчас сдохну, так тебя хочу.
Обыскиваю ей вагину и анус горлышком бутылки. Все чисто. Привязываю вдоль кровати. Руки к стойкам по обе стороны, колени согнуты, лодыжки связаны. Всаживаю ей в ее дырку. Не такая мокрая, как она тут стонет. Ломает комедию. Тут явно какая-то засада.

614
π 
Я предупредил Тальвега, Леарха, Степпа и Барбака. Потряс Сова, который немного протрезвел, сунув два пальца в рот и проглотив литр воды. Голгот выслушал меня, не переставая зубоскалить, а потом сказал:
— Ты за двадцать пять лет так и не въехал, кто такой наш Махаон. Ты же с ним четыре месяца в Кер Дербане проторчал. Ты сколько раз его видел. Никто, ни живой, ни мертвый, ни молодняк, ни старичье, никто не может с ним тягаться. Не существует никого его калибра. Откуда бы он там не был, этот твой тип, хоть Преследователь, хоть сто раз буеровый ас, наемник, кто угодно, это ничего не меняет. Эрг его уложит.
— Может, нужно ему помочь. Он выпил, он…
— Ничего он не пил. И не нуждается он в твоей помощи, Пьетро. Никто не может ему помочь. Просто скажешь мне, когда он закончит. Девятая каюта. Там Оранж меня ждет.
) 
Как бы странно это для нас не было, но праздник, очевидно, только начинался. Два оставшихся факела продолжали передаваться из рук в руки, и по нарастающим взрывам смеха, сопровождающим каждый пас, я понимал, что основная часть фреольских тонкостей от нас ускользала. По всей видимости, игра подошла к стадии «насмешек», когда факел намеренно передавался самым непривлекательным участникам, вероятно, с сознательным риском получить его назад. Фанфары гремели вовсю, группки танцовщиц принимали замысловатые позы с резными бамбуковыми стеблями в руках. Кверху от танцпола чувствовалась свежесть, и я стал лицом к ветру, чтобы окончательно протрезветь, глубоко вдыхая ночную свежесть.
Розовый монгольфьер продолжало медленно относить к низовью. Теперь виднелись только три светящиеся точечки, мерцающие в темном небе. Мы понятия не имели,
613
что там происходит, не знали, в чем заключается стратегия Силена и каков на самом деле риск. Еще хуже того мы представляли себе роль, которую могли бы в этом всем сыграть сами, кроме роли зрителей. Мы с Пьетро решили, что лучше не вмешивать сюда Фреольцев и ничего им не говорить. Если будет схватка, то пускай лучше все будет в отдалении, один на один. И что сами мы вмешаемся только в случае группового нападения, чего мы не исключали. Я выпил еще немного воды и когда мельком столкнулся взглядом с Нушкой, мне стало мутно. Она порхала между тремя Фреольцами, один из которых, смеясь, касался ее груди. Она не возражала. Она была пьяна и томна, вела себя как настоящая дрянь. Она была красива, но теперь я видел ее красоту иначе, она больше не походила на тот идеал, который я себе нафантазировал. Теперь ее красота вызывала чувства только у меня между ног, я ощутил, как плоть моя стала твердеть, как нарастало во мне негодование и разочарование. Я пересек площадку и вышел внизу, удаляясь по прибитой траве в густеющую черноту вельда, в решительности следовать своему единственному инстинкту в этот момент: идти за воздушным шаром.
Метров через сто я услышал шорохи, которые ветер разносил у меня за спиной: за мной шли Степп и Леарх. И руках у них были охотничьи бумеранги. Появился Барбак с арбалетом наперевес. Километром ниже, куда звуки фанфары долетали лишь обрывками, в воздухе висел шар, швартовый канат свисал у нас над головами. Мы посмотрели наверх и увидели, что все четыре фонаря погашены.
— Эрг, это мы!
— Бегите!
Фастик! Дербелен!
Я в панике завертелся во все стороны. С низовья на нас с немыслимой скоростью летел болид. Засвистел град
612
пуль, не то с шара, не то с земли. Затем раздался ледяной металлический скрежет гиперскоростных винтов —
Я лежал на спине. Серп луны показался среди искромсанных облаков и коротко осветил корзину шара, во всяком случае то, что от нее осталось. Эрга видно не было. Ни один из нас четверых не решался встать. Барбак лежал на своем арбалете, уткнувшись лбом в землю. Прогремел второй залп, на этот раз точно с земли, затем ответный удар сверху: бумеранги с двойной петлей вращения, было слышно, как бум сначала нырял вниз, поднимался и снова летел к земле. С корзины рухнул плетеный стул в нескольких метрах от нас. Рядом со мной присевший на корточки Леарх прохрипел «хана», и я тоже приподнялся посмотреть. Метрах в пятидесяти к низовью я увидел несущийся в нашем направлении буер, который, судя по тому, как отблескивала на нем луна, был полностью металлическим. Я не мог определить, что это за модель: по форме это был тетраэдр, с винтом из черных лезвий-лопастей, вертевшимся так быстро, что походил скорее на диск. В кабине буера не было пилота, и тем не менее из него шел автоматический обстрел, регулируемый гироскопом. Я не мог понять, чем он стрелял: какими-то мелкими шариками. Я посмотрел наверх и увидел пилота буера. Тот находился как раз над монгольфьером в атакующем полете на трапециевидном компактном параплане, похожем на черное крыло, которое позволяло ему невероятно быстро передвигаться зигзагами. Заградительный огонь из буера прекратился. Повисла густая тишина. Эрга не было видно, по крайней мере с нашей позиции. Разбитая почти в щепки платформа болталась в воздухе вместе с вертикально повисшей кроватью с балдахином. Система стабилизации полета вышла из строя, шар отнесло еще дальше, что было нам только на руку, поскольку
мы таким образом
611
оказались вне зоны непосредственного риска. Силен, а это мог быть только он, искал подходящий угол обстрела. Он изрешетил балдахин в несколько заходов, и вдруг занавес сорвался, кровать повернулась по оси, и я в ужасе подпрыгнул, увидев распятую на матрасе голую девушку.
— В нее целился? — прогремел голос Эрга.
Вместо ответа из буера засвистел шквальный огонь. Продырявленный со всех сторон шар полетел вниз и рухнул на землю всей своей массой. Несколько долгих секунд я вглядывался попеременно то в небо, то в траву, но все произошло так быстро, у Эрга просто не было времени достать свое крыло и вырваться из этой западни! В десятке метров над ним Силен нервно описывал в воздухе восьмерки, готовый к новому обстрелу, и его нервозность, его до предела напряженная бдительность меня в каком-то смысле успокаивали, говоря подсознанию, что Эрг, возможно, жив, что, по мнению Преследователя, было в какой-то степени вероятно, что противник подобного закала и опыта мог спастись в таком крушении, что даже в каком-то смысле это могло быть уловкой со стороны нашего бойца… Но прошла минута. Вторая. Затем пять, и десять. И ничего не происходило.
— Он мертв.
— Это невозможно.
— Да не может он быть жив!
Через четверть часа Силен спикировал к своему буеру, сел в кабину, резко рванул с места и, прокатив двадцать метров в нашем направлении, остановился. Когда он заговорил, меня как пришибло:
— Сов Строчнис, Степп Форехис, Леарх Фюнглер и буксировщик Барбак! Вы в траве, в тридцати метрах от буера, ось обстрела на двенадцать часов. Отвечайте, или я открою огонь!
610
Степп вытаращил глаза в полном изумлении:
— Откуда он знает, мы же даже не шевелились!
— Ползите, придурки вы, нужно выбраться из оси обстрела, — прошептал Барбак.
— Вы отползаете по оси на два часа. Ось обстрела скорректирована. Отвечайте, или я запущу ротационный обстрел. У вас есть десять секунд. Десять… девять… восемь… семь
— МЫ ЗДЕСЬ! Сов Строчнис к переговорам!
— Строчнис! Бросьте ваши бумеранги и арбалет. Вы вне боя! Этот бой ведется по Военному кодексу Кер Дербана. Это дуэль. Один на один. Бой должен проходить без постороннего вмешательства. Бросьте оружие, или мне придется вас ликвидировать!
Я обернулся к Степпу и Леарху, чтобы оценить их реакцию, но они, не дожидаясь моего вопроса, одновременно зашвырнули изо всех сил свои бумеранги в сторону Силена. Оба бума метнулись по своей изогнутой траектории на врага, но тот не сдвинулся с места. Послышалось что-то наподобие выброса газа при высоком давлении, и бумы отскочили от буера. Барбак зарядил свой арбамат и выпустил из него все стрелы, но буер уже успел развернуться на месте и теперь несся прямо на нас. Силен остановился, вышел из кабины и скачкообразными движениями быстро приблизился к нам. Он набросился на Барбака, потом на Степпа, на Леарха. Я не понял, что он с ними сделал, но те рухнули наземь. Когда он добрался до меня, я даже не стал пытаться бежать. Я ждал смерти. Он протянул мне руку.
— Вы — скриб.
— Даа…
— Силен. Как я вам уже сказал, этот бой ведется по Военному кодексу Кер Дербана. Не пытайтесь вмешиваться. Я буду вынужден вас убить.
609
— О каком бое вы говорите? Эрг мертв! Вы сбили его шар.
— Эрг жив.
— Откуда вы знаете?
— Знаю.
— Он мертв!
— Я достаточно хорошо его изучил, скриб. В воздушном бою он может упасть с тридцати метров и не разбиться, а главное, никак себя при этом не выдать.
— Где он?
— Под холстом шара. Собирается с силами. Итак, вы даете мне слово скриба? Никакого вмешательства!
— Даю слово.
Он рассматривал меня своими желтыми глазами. Я протянул ему руку, и он пожал ее. Он уже уходил, когда у меня вырвалось:
— Так, значит, Преследователи существуют?
Он усмехнулся, снова внимательно на меня посмотрел:
— Преследователей не существует, Строчнис. Существует только Преследование.
— Кто им управляет? Кто во главе?
— Страх. Ваш
собственный страх.
Возможно потому, что подсознательно я надеялся его задержать, но, вероятнее всего, из внезапно одолевшего меня необъяснимого любопытства, я бросил ему вдогонку:
— В каком войске вы служите?
— Движение.
— В каком звании?
— Молния.
— Значит, вас невозможно сбить…
— Теоретически.
(обратно)
VI
БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО СБИЛ…
) 
Он запрыгнул назад в буер — я так и не понял, был тот парусным, винтовым, змейковым или воздушным, — и одним махом настроил целую кучу небольших треугольных парусов, вдавил обе педали, винты загудели, завертелись, буер подскочил, резко развернулся на месте и рванул, сначала зигзагами, дриблингом, а потом понесся прямо на шар, вычерчивая на траве такую арабеску, что похоже было, будто Силен ставит подпись. Собственно говоря, это и была его подпись.
∫ 
(Украдкой, тишком) я бы присоединился к кому-нибудь на огонек, подобрался к одному из костров, дырявящих (тут и там) черную прерию. Я был пьян и в острой фазе ностальгического
Ларкоза, голова в маревах. Что указало бы мне путь (помимо желания сбежать от тела Кориолис, опрокинувшегося в руки какому-то матросу)? Голос Караколя. Он донесся до меня, подобрал, повлек за собой, и я отыскал его источник (как раз у такого вот костра, он сидел, скрестив ноги лотосом, рядом с каким-то плотным, загорелым и бородатым мужчиной). По их взгляду я понял, что мое присутствие было не слишком желанным, однако же они меня приняли, не прервав тем не менее разговора,
607
тон которого (непривычно серьезный, даже тяжелый для Караколя) сразу меня заинтриговал:
— Тебя обожали и тобою восхищались, как мало кем из нынешних сказителей. Ты перескакивал с корабля на корабль, из деревень во дворцы, ты держал путь и вниз, и вверх, чертил диагонали, ты насыщался женщинами, праздниками, пейзажами… Знатные господа со всех округ просили тебя к своему двору, и ты никогда не отвечал отказом. Но в один прекрасный день ты вдруг встречаешь Орду и сбегаешь с корабля. И вот ты снова здесь, весь непривычно ординарно упорядоченный. Сколько лет прошло с тех пор?
— Пять.
— И ты планируешь остаться с ними?
— С ними я пойду на край земли, если такова воля ветра.
— Почему?
Караколь ответил не сразу, он повернулся ко мне, пристально и молча посмотрел в глаза и сказал:
— Ларко, раз уж тебя ветром занесло в наш удел, в котором гостей никто не ждал, я приму тебя у нашего огня. Знай же, однако, что рядом со мной мой старый фреольский друг и философ Лердоан. Наша беседа коснется аспектов моей жизни, неведомых для Орды, которые таковыми должны оставаться и впредь. Готов ли ты услышать о них и сохранить их в тайне?
— Думаю, да.
— Клянешься ли ты утаить от остальных безумства, о которых тебе доведется здесь узнать?
— Клянусь маревами.
— Летать в маревах тебе как раз по летам…
Философ вслед за Караколем смерил меня долгим взглядом и кивнул головой в знак (я, по крайней мере,
606
понял это так) того, что можно говорить. Караколь сорвал пару пучков травы и подбросил их в костер. (Они затрещали.) Все в его поведении, как правило очень валком, показывало, что данный разговор был для него критически важным:
— Долгое время, Лердоан, я, подобно тебе, воспринимал жизнь как необходимость преодоления определенного пути, а потому ничто не было для меня так ценно, как возможность путешествовать. От своих странствий я жаждал бьющей ключом новизны, девственной чистоты, неслыханности. Мне нужно было куда больше привычного человеческого мира. Я хотел Разнообразия. В течение многих лет я упивался обилием несхожестей. Затем постепенно начал замечать, что моя свежесть стала увядать. Происходило это по мере того, как на моем пути все реже стали встречаться люди, поистине задевающие меня за живое. Но это также было связано и с тем, что глубоко внутри я начал ощущать, как стали костенеть прорывы за пределы моего собственного я, которые составляли мой шарм в глазах других людей. И теперь я ждал, чтобы другие удивляли или очаровывали меня, в то время как я сам будто заглох, я еле волочился, словно какое-то отродье, ожидающее лишь толчка судьбы, я утратил саму жажду постигать новое, иное. Я был странником, это верно, им и остаюсь. Я выставлял на всеобщее обозрение доказательства своего кочевничества в виде лоскутов моего арлекинского одеяния. В ложбине моих губ всегда было припасено несколько украденных то там, то здесь историй. Но в своем собственном сознании я замер, моему путешествию пришел конец. Я стал повторяться. Я многословил, не выискивая сути. Я стал похожим на бурдюк, что ждет, когда его наполнят, лишь бы излить содержимое к ногам первого господина, который примет его в руки.
605
— Тебе хотелось расти вширь, ты, верно, помнишь это сам. Ты хотел сделать просторной землю твоего собственного я, населить ее, набрать вес мудрости и опыта. Понять людей, узнать, кто мы такие.
— Да, я сделался просторным, Лердоан. Я стал широк как эта вот рубаха, скроенная из лоскутов, вобравших пылкость жизни тех, кто помогал мне ее шить. Но она вся расползается по швам. Ты только посмотри!
— Прекрасная рубаха! Она не только многое о тебе говорит, она тебя очеловечивает.
— Тебе это покажется странным, но я только в Орде начал понимать, что такое ветер. Не то чтобы им это было известно лучше, чем вам, Фреольцам. Ларко не даст соврать: их технические познания просто смехотворны, они до всего доходят чисто эмпирически. Даже ветряком обычным толком пользоваться не умеют. Они понятия не имеют, какую скорость полета может развить тот же летательный буер. Зато по земле контруют так, что даже с горсом могут потягаться в этом деле. Меня сначала забавляла их мужланская манера. Но потом я стал контровать вместе ними, днями напролет получать ветром по морде. И я понял, Лердоан, я осознал то, что, мне
казалось, я и так раньше знал. Только понимание пришло через неспешность, через тягучесть ветровой массы, через ее плотность. Сначала ты перестаешь есть, ты не голоден, ты досыта накормлен порывами ветра. У них нет никаких приборов, даже анемографом и тем не пользуются, понимаешь? Втыкают и землю колышки, развешивают на них свои флажки, чтобы немного определиться с предстоящим контром, и все! Но на самом деле им достаточно просто встать и ощутить ветер, чтобы
определить поток, скорость, периоды, амплитуду залпов, природу турбулентностей! Они все это делают без какой-либо техники! Могут даже сказать, что
604
там вверху, у нас над головами, и все это по вязкости воздуха, по его плоти.
— Да, у Орды всегда было другое отношение к ветру. Их подход наверняка позволит выявить все девять форм ветра, тогда как Фреольцы могут исследовать всю землю вдоль и поперек, и так ничего и не откроют.
— У них и к скорости другое отношение. И к пространству тоже. Когда я был Фреольцем, мы летали из одного города в другой по секстанту. Помню, в перелетах между городами мы любовались пейзажем, это правда, но мы его воспринимали всего лишь как пустоту между двумя городами. Мы, конечно, были номадами, но очень организованными, упорядоченными в пространстве, мы всегда отлично знали, где находимся и куда направляемся. Мы прочерчивали четкие диагонали по предварительно размеченной сетке. В Орде же вместо карты есть только трасса, вытатуированная на спинах у Степпа, Пьетро, Сова, Голгота… У каждого по отрезку.
— Да, но, по сути, вы не нуждаетесь в этой Трассе. Что действительно важно — это то, что находится между точками Трассы, то пространство, где ни одна карта не смогла бы указать вам путь.
— Да, эти точки не более чем переходные пункты между двумя пустынями, между двумя вельдами, между двумя мирами. Для Орды они не являются целью пути, в отличие от Фреольцев. Каждый день мы преодолеваем расстояние мелкими, но упорными шагами, пройденный путь ощущаем собственным телом, мы продвигаемся шаг за шагом, без какой-либо предопределенности, но ориентируясь по почве, по рельефу, по ветру. У нас нет никаких перспектив, видимость практически нулевая. Мы прокладываем путь через пространство, заполненное звуками и запахами, идем по нюху, по чутью.
603
— Как ты выносишь эту медлительность, эту монотонность контра, тебе же всегда без конца нужно было двигаться, меняться?
π 
Совершенно оглушенные Леарх, Степп и Барбак с трудом поднялись на ноги. Я стоял рядом с Совом, объяснявшим мне то, что я и так уже знал: дуэль началась. Бой проходил согласно Кодексу Кер Дербана. Вельд весь был прочесан и примят усиливающимся ветром, время от времени полная луна показывалась из-за облаков, и тогда можно было разглядеть бугры и ложбины в серебрившейся перед нами высокотравной прерии. Эрг неожиданно выскочил из сбившегося в кучу купола бывшего монгольфьера, и засевший в буере Силен тотчас же открыл обстрел из гарпунометателя. Он словно вальсировал на своем буере: раз, два, три… Вылетающие стрелой гарпуны щелкали своими тросами, как натянутой тетивой, и сматывались назад под аккомпанемент несущего винта. В Эрга ни один не попал, но ответный огонь он открывать не стал. Не с земли.
— Взлетай давай, пока небо чистое… — шептал про себя Степп.
∫ 
Караколь снова замолчал. Он слегка поворошил огонь своим бумерангом, а затем медленно провел по лицу ладонями (словно хотел вслепую ощупать его бугристости и шероховатости или убедиться, что оно по-прежнему на месте):
— Монотонности не существует как таковой. Она не более чем симптом усталости. Каждый может узреть разнообразие прямо у себя под ногами, если только ему достанет силы и проницательности. Так говорил Лердоан, не правда ли? Именно это я для себя и уяснил. В опреде-
602
ленном смысле, физическое усилие, напряжение тела, противостоящего ветру, порождает эту силу, даже если она и остается по большей части ментальной или даже сентиментальной. Я тебе скажу, что во мне на самом деле изменилось, я стал активен, начал действовать. Когда каждый пройденный тобою шаг предъявляет тебе свои требования, взимает плату, когда более ничто не подпитывает тебя пассивно, не дается без особого труда, тебе становится просто необходимо поднять повыше голову, пошире открыть ноздри, научиться улавливать все оттенки зелени монохромного простора, почувствовать, где проскользнуть между этими пластами. Новые встречи — здесь большая редкость, а потому, подобно золотоискателю, ты должен отзолотить, просеять богатство тех, кто с тобой рядом каждый день, пусть даже это и такие тягомоты, как Ларко…
— Сочту за комплимент, Карак…
— Ах да, «отзолотить», конечно же, одно из важнейших для меня слов, мой лозунг. Вижу, что от наших былых бесед у тебя остались некие крупицы. Отзолотить и сохранить в себе. Создать свой мир внутри, свою память.
— Это дается мне сложнее всего. Я чувствую себя порой, как сборщик жемчуга в горах. Я, по примеру того, как они ставят свое железное решето, все пытаюсь поместить свое сознание в самую гущу проходящего тумана. Молю о том, чтоб на поверхности его металла образовались капельки воды, чтобы затем тихонько дать им стечь в мой водосточный желоб. Мне бы хотелось научиться сгущать и бережно хранить все эти моросящие мгновения, беречь их, но при этом не укрываться от новых, что прольются на меня. Мне трудно разгонять в себе кругами жизнь так, чтобы она при этом не вырывалась то из уха, то из другой дыры похуже.
601
— Она и не вырывается, не сбегает от тебя. Все и всегда остается при тебе. В любой момент сегодняшнего дня ты владеешь полнотой своего прошлого, все оно непрерывно скапливается и уплотняется. Иначе ты бы давно сошел с ума. Твое понимание памяти заражено здравым смыслом, трубадур. Память не из тех свойств, которыми мы можем пользоваться или забрасывать по желанию. Мы запоминаем все без исключения. Но суть заключается не в этом, а и том, что нам дано многое забывать…
— Вот именно! Я забываю все!
— Нам себя не переделать, трубадур…
— Да, но мы же можем сделать себя сами!
— Я бы скорей сказал, что мы лишь можем сами от себя сбежать. В этом и есть вся тонкость: мы создаем себя, сбегая от себя. И дар забвения позволяет нам совершать то бесконечное бегство, помогает отделаться от того, из чего нас пытается сформировать наша неумолимая память. Нам необходимо уметь от нее
удирать!
π 
Наконец Эрг достал свой боевой параплан: короткое крыло, позволяющее не сбиваться с курса даже при стеше, которое специально для него разработала Ороси. На подошвах он зафиксировал по горизонтальному винту и быстро оторвался от земли, повернувшись к ветру спиной и поджав в полете ноги. Ветер привел винты в движение: они служили одновременно и для коротких, резких толчков при уклонах от атак, и как щит. Силен беспрестанно перемещался, его буер, слегка задевая под собой траву, перескакивал рывками с места на место. Он продолжал обстрел из гарпунометателя, но слишком короткие тросы не долетали до цели. Затем последовал шквальный огонь, дробь, камни, вырывающиеся из одной из труб. Эрг явно не справлялся с такой скоростью. Ему не удавалось
600
открыть ответный огонь, он только успевал увертываться от свистящих пуль. Было очевидно, Силен намеренно взял такой немыслимый темп, чтобы толкнуть Эрга на неверный шаг.
∫ 
— Я хотел тебя кое о чем спросить, Лердоан. С недавних пор я все чаще и чаще думаю об этом.
— Спрашивай.
— Ты видел, как я представлял Орду. У тебя было время внимательно понаблюдать за мной со стороны.
— Да, верно.
— Как ты считаешь, я так же быстр, как и раньше, настолько же легок в движениях?
Старик раскрыл перед собой в воздухе ладонь и сжал, словно зажимая в кулак турбулу ветра (или же фильтруя ее?). Голос его звучал удивительно ясно для такого возраста:
— Это разные вопросы, если позволишь заметить. Здесь все как при нотации ветра или узлов боя: скорость может быть очень высокой в количественном отношении, но при этом она не будет отличаться особой быстротой. И наоборот, движение может быть поразительно медленным и при этом оказаться молниеносным.
— Не уверен, что я тебя понимаю.
— Я видел, как ты бросал бумеранг в человека по имени Силен. Если оценивать скорость, с которой при этом двигалась твоя рука, то броски были очень быстрыми. Но ты не вложил в них ровным счетом никакого движения. Просто забавлялся. Поэтому Силену хватило пары легких поворотов головы, чтобы увернуться от атак. Он был жив. Ты был скор.
— В чем разница?
— Это непросто объяснить. Представь себе, что у скорости есть три измерения. И что они также являются
599
измерительными величинами жизни. Или ветра. Первое измерение весьма банально, суть его в том, что быстрым считается то, что быстро передвигается. Это скорость транспорта, винтов, сламино. Она количественна, относительна к координатам пространства и времени и развертывается в предположительно бесконечном пространстве. Назовем эту относительную скорость
быстротой. Второе измерение скорости есть движение, в том виде, в котором его можно наблюдать у мастера искусства молнии такого уровня ремесла, каким владеет Силен например. Движение — это наша непосредственная способность меняться, заложенная в нас предрасположенность к перелому, к перемене состояния, стратегии, к смене действий, стремление к
Сдвигу, как они сами это называют. Она неотделима от личной внутренней подвижности, от бесконечных вариаций, происходящих на уровне сознания у бойцов, трубадуров, мыслителей. Если соотнести движение с ветровыми категориями, то его можно считать порывом. Здесь важно не количество воздуха, проходящего за определенный промежуток времени, или средняя скорость его движения, а то, что при этом искривляется сам поток, то есть важен сам
изгиб, ускорение, турбулентность, все то, что влияет на поток
качественно. Заметь, что между сламино и стешем, например, нет разницы в скорости, зато есть огромная разница в движении. В жизненном плане движение же можно описать как постоянную способность обновляться,
становиться другим — это второе имя свободы действия и, несомненно, смелости. Понятно ли я изъясняюсь?
— Насколько это в принципе возможно в столь поздний час, Лердоан…
) 
Для Эрга дела шли хуже некуда. Он уже больше четверти часа извивался в небе, как мечущаяся в безысход-
598
ности цапля, попавшая под прицел охотника. Внизу Силен на своем буере передвигался с такой невероятной скоростью, что у Эрга не было ни единого шанса попасть в него, он без труда оказывался в десятке метров каждый раз, когда Эргу удавался ответный выстрел в промежутке между шквалами, которые обрушивал на него Силен. В отличие от Пьетро я никогда раньше не видел в бою мастера искусства молнии, и то, что сейчас передо мной происходило, разительно отличалось от слышанных рассказов. Я впервые осознал, что Эрг мог проиграть. И чем дольше смотрел на это полиморфное неистовство военной машины под названием «Преследователь», тем больше на меня накатывало чувство ужаса. Я представлял себя на месте Эрга, я вместе с ним был весь охвачен Силеном, тонул в нескончаемых ударах, уклонах, стремительных атаках, которые не соответствовали ни одному из известных мне приемов. Силен срезал утлы прицела, делая невозможной любую попытку упредить атаку, лишая Эрга какой-либо надежды нанести ответный удар. Но в то же время я, пожалуй, никогда раньше так не восхищался Эргом, и поразила меня не его стратегия, которая была практически откровенным самоубийством, а отвага перед лицом ледяных борозд, прокладываемых лопастями винтов и невыносимой пронзительностью серпов. Только по звуку и можно было на самом деле оценить скорость бросков. Он отбивал такт ярости боя. Черт возьми, да я и сам не раз запускал винты, я прекрасно знал, как они свистят, рассекая воздух, но эти! Это была просто нечеловеческая скорость, свист заходил за крайнюю точку звуковых высот.
— Ему нужно сесть, его сейчас раздробит!
— Ты с ума сошел, что ли?! Если он сейчас сядет, буер его изрешетит в два счета.
— А сейчас он его не решетит, можно подумать!
597
— Да замолчите вы! Эрг действует по единственно возможной стратегии в бою с воином Движения: он ждет, пока в буере закончатся боеприпасы. Если он сейчас спустится на землю, Силен его уложит по двум измерениям сразу, как на шахматной доске. Эрг не сможет ни одного хода сделать так, чтобы Силен его не прикончил.
— Откуда ты знаешь?
— Я в Кер Дербане провел четыре месяца. Видел, как проходит их подготовка.
— Ветра небесные, смотрите! Это еще что такое?
—
Барнак, аэробомбы!
Из буера вылетела дюжина черных шаров, похожих на ночных медуз, — из самого брюха у них, словно щупальца, свисал балласт. Я был не вполне уверен в том, чем это чревато, но по лицу Пьетро понял, что все очень серьезно. Эрг среагировал великолепно. Он выпалил из арбамата и со ста метров пробил два еще только отрывавшихся от буера шара. Я решил, что все! бою конец — буер подбросило в воздух волной двойного взрыва, как пороховую бочку, и и тот же миг, в километре от нас, с корабля в небо запалили фейерверк.
— Все, он мертв, Эрг его сделал!
— Ага, так сильно мертв, что аж душа на небо улетела. Наверх посмотрите, олухи вы! — проворчал Леарх.
π 
Силен катапультировался из буера, и теперь его черное крыло сливалось с парящими в десятке метров над землей шарами аэробомб. Эрг отлично вел бой. Он позволял Силену атаковать, расходовать снаряды, давал ему возможность двигаться, изучая при этом его технику. Он ясно понимал, что маневры Силена подчиняются определенным правилам, траектории, особому ритму. Для любого неофита мастер искусства молнии был совершен-
596
но непредсказуем. Спонтанный гений. Мало кто знает, что в человеке биологически заложено стремление к побегу, а значит, оно неизбежно и его можно предугадать. Следовательно, Армия Движения должна была разработать некие концепты траекторий побега, схемы уклонов, сложнейшие циклы увиливания. Всему этому можно обучиться. Существует определенная грамматика. Есть целый синтаксис движения, как и у ветра. Естественно, в самой крайней точке срабатывает импровизация, которую освоить невозможно, но с опытом можно научиться распознавать особые схемы и повторяющиеся траектории. А значит, можно их предвосхитить.
∫ 
— Третье измерение скорости самое неуловимое. С его воплощениями редко можно столкнуться. Ты, Караколь, на мой взгляд, один из тех немногих, кого я встречал в этой жизни, в ком оно время от времени прорывается, вспыхивает, проносится как стрела. Это измерение скорости я называю
живостью,
вихрем. Она тайком пристраивается рядом со смертью, орудующей в каждом, она предотвращает ее и отдаляет от нас. Живость не имеет отношения ни к пространству, ни к протяженности во времени. Она не совершает никаких изгибов или расколов в заранее намеченном переплетении осей, как это делает движение. Внезапность ее проявления абсолютна и безусловна. Она привносит в поток ветра, в жизнь, в мысль,
мельчайшее отклонение, делает свой крохотный вклад, подбрасывает едва заметную крупицу, и все разлетается вдребезги… Нужно понимать, что
Сдвиг создает перелом поверхностный, заметный человеку, а следовательно, ограниченный его восприятием. Строго говоря, он всегда пребывает в состоянии непрерывной трансформации.
— Живость — это нечто совсем иное…
595
— Живость — это то, из чего ты создан, из чего сотканы нити твоей плоти, Караколь. Это инаковость в чистом виде. Это извержение.
Дерзкий фортель. Когда живость прорывается сквозь тебя, тогда и только тогда наконец
происходит что-то настоящее…
— В таком случае блааст, в каком-то смысле, — живость в жизни ветра?
— Блааст — внезапный взрыв ветрового потока. Ничем не более примечательный, чем обычный порыв ветра, разве что только мощнее.
— То, что ты называешь движением, так?
— Да. Мне бы не стоило этого говорить, и уж тем более перед твоим другом Ларко… Но вы пока ни разу не встречались с живостью.
Старик замолчал, очевидно не решаясь продолжить сказанное, но, сонный, я уже навострил уши:
— Живость — это восьмая форма ветра.
— А какая девятая? — не удержался я.
— Не торопитесь, Ларко, она придет довольно скоро и нашепчет вам всю правду о себе…
π 
В течение нескольких минут ни Эрг, ни Силен не отрывали огонь. Они кружили среди аэробомб и тщательно присматривались друг к другу. Эрг закрепил по винту на обеих руках, чуть пониже локтя, в специальных выемках в броне. Он был в защитном отступлении. Чтобы обеспечить винтам непрерывное вращение, он скрещивал руки в полете, когда оказывался лицом к ветру, и раскрывал крестом, когда находился с подветренной стороны. Луна то светила, то угасала за облаками. Аэробомбы были надуты сжатым воздухом и наполнены дробью. Одного взрыва хватило бы, чтобы спровоцировать цепную реакцию. Хотя, может, и нет. Силен вдруг словно сорвался с
594
невидимого помоста и нырнул на землю. Засвистели метательные винты. Первый полетел по круговой траектории, в самую гущу шаров… Второй винт, запущенный четверной петлей, устремился в Эрга и заставил его сдвинуться… к аэробомбам…
— Неееет!
Крепко стоя на земле, Силен запустил третий винт. Это был совершенно непревзойденный бросок. Винт на лету обрубил балласт почти на всех шарах, и они стали подниматься вверх, к Эргу, который от безысходности рванул еще выше, к луне. Шары стали взрываться один за другим, засыпая все вокруг металлическим градом. Эрг отбивался одновременно четырьмя винтами — на ногах и на руках — в позиции круговой обороны. Крыло его было все продырявлено, и он начал терять высоту, пришлось достать запасное и снова подняться на позицию. Прямо у него под ногами, метрах в пяти, не более, взорвалось сразу несколько шаров. Он снова попытался парировать напор свистящей свинцовой массы, которая продолжала решетить его крыло и броню.
) 
Бомбы взрывались, как черные луны. У меня духу недоставало взглянуть в сторону Эрга. Я боялся увидеть, что вместо человека под лохмотьями параплана висит кусок изрубленного мяса.
— Он жив! — проревел в конце концов Степп.
И в самом деле, в небе показалось крыло, небезопасно лавировавшее между двумя медузами. Эрг, аккуратно притрагиваясь к шарам, столкнул их вниз, и когда они уже вот-вот должны были коснуться земли, взорвал их, выстрелив из арбамата. Но напрасно: Силен сделал скачок, взлетев на пятнадцать метров вверх, и совершенно наглым образом полетел прямо на Эрга, применив технику
593
дрожащего полета, всего в двадцати метрах от него! Раздавшийся вслед за этим взаимный обстрел прогремел, как гром. Все произошло настолько молниеносно, что мы ничего не поняли. За металлическим грохотом последовала тишина, не было слышно ничего, кроме звука разогнанных до предела крыльев. Когда снова вышла луна, стало ясно, что у обоих бойцов кончились патроны. Или осталось всего по одному, самому эффективному, не раскрываемому перед противником раньше времени? Теперь бой разворачивался в тридцати метрах над землей, крыло на крыло. Силен остался с голыми руками. У Эрга было еще четыре погнутых метательных винта, что, конечно же, можно было считать преимуществом, если бы против него не сражался самый непредсказуемый фланговик, который когда-либо появлялся на свет по всей линии Контра. По мнению специалистов, Эрг Махаон единодушно признавался асом параплана, опаснейшим из членов
Аэроэлиты, неприступным в полете бойцом. Вся Орда восхищалась им, но никто и представить себе не мог… В общем… Он нашел себе противника под стать, это уж точно, иначе не скажешь. На первом же выпаде Эрга — тот исполнил сверхскоростной вихревой факел с последующим восходящим рывком, с выброшенными кверху ногами и вкрученными на полную винтами — по фантастической сдержанности при отражении удара стало совершенно ясно, что Силен считывал намерения Эрга с поразительной легкостью. Фуэте в исполнении Эрга пронеслось над головой Силена так близко, что ветровая струя винта явно должна была полоснуть его по лицу, но он даже не посчитал нужным сдвинуться с места. На три последующие атаки Эрга Силен ответил с такой же леденящей бесстрастностью. Он неподвижно зависал в небе. Ждал. Уклонялся от удара. Снова занимал позицию и не двигался. После
592
el rollo, двух «бурунов» и одного «правого плие» и того, что изумленный Пьетро назвал тройным синкопированным клабо грабом, Эрг тоже остановился. Вам любой новичок скажет, что зависающий полет при сламино — дело немыслимое. Только не для этих двоих. Они застыли в небе, переглядываясь, совершенно неподвижные, как будто стояли на невидимом в темноте полу.
— Не нравится мне все это…
— Эрг хорош только в движении.
— Он не знает, что делать… он испробовал все свои приемы.
— Он в ловушке!
— Заткнитесь вы! Он ведет бой, у него все под контролем!
— Да ни черта у него не под контролем. Причем с самого начала! На этот раз они наслали на нас сам ветер… Этот парень, он же не человек вообще!
Так они и провисели в небе чертовски толстенный слой времени. Никто из нас не воспринял это как перемирие, настолько напряжение их нервов ощущалось даже на земле. В контржурнале я как-то читал об инерции, что она содержит в себе энергию в своей высшей точке, что это сильнейшая вибрация, доведенная до такого предела, что ее колебание перестает быть заметно, когда достигает максимума. Именно такое ощущение у меня и осталось от передышки.
Затем Силен начал двигаться, и это было что-то неимоверное. Его атака не продлилась и пятнадцати секунд, но за это время он прочертил в моем сознании такой ослепительно яркий глиф, что мое понимание самой силы движения, самого
Сдвига, останется навечно в долгу перед этим моментом. Все началось с почти небрежного латерального пролета, но то, что последовало потом, казалось
591
какой-то фантастикой: Силен резко рванул вниз с тридцатиметровой высоты и, оттолкнувшись от земли, взлетел вверх на сорок метров и начал свой вихревой факел, ритмизованный молниеносными разгибами, резкими сумм и зигзагами, скачками,
вывертами и дико хаотичной игрой штопоров и маятникообразных спазмов. У меня и голове не укладывалось, как при этом при всем у него даже крыло не разорвалось. Затем все пошло скоросмещениями, краткосдвигами, высота, скорость, смена галсов, темп. Происходящее развивалось наперекор всем законам естественной последовательности движения, это было немыслимо, прекрасно, он перемежал ничтожное с огромнейшим, топор и серп, это не походило ни на что виденное мною прежде, неслыханный синтаксис движения, нечто, чего никогда не достичь ни одной птице, не выполнить ветру, поскольку Силен… да потому что Силен вдруг изогнулся в открытом плие и угодил краем подошвы Эргу прямо в лицо и перешиб ему нос. Крыло Эрга задребезжало от мощного фронтального удара. У него не было — да и как иначе? — ни единого — Силен атаковал во второй раз, исполнив выпад под углом, очень рубленый, от которого наш защитник отклонился, сделав солнышко назад —
∫ 
— Возвращаясь к твоему вопросу, Караколь, скажу, что ты больше не обладаешь такой скоростью, как раньше. Ни в действиях, ни в мыслях. Ты больше не перескакиваешь от одной идеи к другой, от шутки к фарсу, с той виртуозностью, с какой ты делал это прежде.
— Почему так, Лердоан?
— Ты сам знаешь почему. Потому что становишься человеком из плоти, потому что привязываешься к другим. Потому что все больше и больше понимаешь, что такое
590
быть связанным с другими, и эта связь выстраивает тебя, упорядочивает и замедляет. Потому что помимо чистого сознания, твоего природного абсолютного восприятия настоящего момента, ты начинаешь приобретать память. И это создает в тебе более сложные соединения, ты подсознательно начинаешь сравнивать события, хотя это почти незаметно, все это мельчайшие колебания. Присущая тебе естественная рассеянность начинает плотнеть, ты «загустеваешь», как ты сам заметил.
— А что скажешь насчет движения?
— Ты никогда не был настолько в движении, как сейчас. Внутренне, разумеется. Сегодня ты на самом деле
создаешь. Ты больше не довольствуешься тем, что можешь просто нанизывать чужие находки, словно жемчужины, на свое собственное ожерелье, тебе стало недостаточно отталкиваться от чьих-то слов, оттенков, выкриков толпы. Ты развертываешь в утробе свою собственную основу и наполнение. Твоя переменчивость, твоя разветвленность в душевных состояниях и увеселительных затеях — все это становится по-настоящему
активным. Это чувствуется. Ты импровизируешь изнутри.
— Раньше я реагировал на импульсы извне, так?
— Да, исключительно. Но делал ты это виртуозно. Теперь же ты достаточно полон внутри, чтобы выдумывать, использовать собственную материю, играя ее различиями. Мне кажется, что теперь ты перестал быть движим, ты стал двигаться сам по себе.
— А живость?
— Живость невозможно приобрести. Но невозможно и утратить. Загадка остается в том, что мы не знаем, почему она присуща одним и не дана другим. Ты обладаешь ею сполна. Она всегда будет в тебе. И даже твоей способностью к движению ты бесконечно обязан живости.
589
Караколь улыбнулся глубокой, проникновенной, нечастой для него улыбкой, и мне показалось, что-то в нем успокоилось, он весь преобразился. Последние минут десять я практически не въезжал, о чем шла речь, и уже собирался встать и отправиться спать, когда Караколь вдруг перевел разговор (уж не знаю каким Святым Сдвигом, можете даже не спрашивать…):
— Силен может победить Эрга?
π 
Хотя звук от удара Силена был, конечно, жесткий, нос у Эрга, кажется, остался относительно целым. Эрг проделал одну за другой три мертвых петли головой назад, затем поднялся вверх ровно по вертикали и затерялся в рваных облаках, прикрывающих луну. Силен погнался за ним: зиг — ломаная линия, заг — неуловимо и гладко. Вдалеке по-прежнему был в разгаре фреольский праздник. В доносившихся до нас звуках духовых даже было что-то успокаивающее. Эргу не справиться с Силеном в рукопашном, это ясно. Лучше бы он достал один из своих винтов. Нужно, чтобы он вывел Силена на метательный бой, в этом Эрг — ас. А если не получится, нужно постараться свести к ничьей. Устроить пат. Продержаться до рассвета. Мне было страшно. Мы всегда видели превосходство нашего защитника в бою, он неизменно и безусловно одерживал победу. В считаные минуты. Мы думали, что он непобедим…
Да, они не первого встречного Преследователя на нас натравили. И его не случайно обучили в Кер Дербане. И не кто попало, а кто-то, отлично знавший Эрга. Противостоять воину Движения было для него самым трудным. Он терпеть не мог долгих боев. Вся его система нападения строилась на бросках средней дистанции и на полнообъемной защите той зоны, которую позволяла прикрывать
588
его подвеска. Он привык действовать в пространстве относительно беспрепятственном, в рамках которого одним своим броском мог, совершенно внезапно для врага, попасть в любую точку. Воспользовавшись тем, что Эрг набрал большую высоту, Силен спикировал к своему буеру и достал оттуда двухметровый штык. Концы его были четко очерчены мгновенно разгоревшимися на ветру языками пламени. Огневые сверла. Это, Пьетро, может быть только утечка в самой Орде, не иначе. Да еще и на не слабом уровне. Кто-то выдал все секреты системы-Эрг. Кто-то вполне сознательно хочет устранить нашего защитника. Кто-то не желает, чтобы наша Орда дошла до цели.
— Если он владеет этой штуковиной так же, как своим крылом, то это конец…
Эрг приблизился, открепил два винта от нарукавников и, зажав их в руке, стал прицениваться к ветру. Бросок. Силен зафиксировал свой штык поперек спины и взлетел. Винты Эрга лишь слегка задели его за ноги, прочесали по траве и взлетели на вторую петлю. Но Силен этого ждал — хрясь свой палкой и простым и ловким движением отправил один из винтов назад в Эрга. Тот еле увернулся. Мы только молча проследили за винтом, который упал куда-то в траву. Силен, не мешкая, прыгнул на Эрга со штыком в руке и попытался его уколоть. Эрг извернулся, сложился и нанес ответный удар ногой с винтом. Они были в двадцати метрах над нами и всего в метре друг от друга. Глядя на жестокость ближнего боя и быстроту ударов, мы совершенно онемели от ужаса. Силен не переставал делать вольты и наносить удары, его штык сверкал и бил, как молния. Эрг отражал удары предплечьями, бедрами и в особенности стопами. Металл на металл. Лезвие на лезвие. Нас забрызгало каплями крови. Боже милостивый…
— Держись, Эрг!
587
— Давай! Сделай его! Давай!
Ярость схватки раскалилась до предела. В ней было все, чему они научились в Кер Дербане. И не только. Ответ и контрответ, защита, уклон, укол, удар — коленями, локтями, головой. Эрг вдруг схватил штык Силена и постарался выдернуть, но тот не выпустил его из рук. Эрг стал пробовать косые боковые удары ногой — сначала Силен, танцуя, уклонялся, а потом вдруг неожиданно бросил штык и запрыгнул на крыло Эрга. Одним жестом обрубил все стропы, и Эрг камнем полетел на землю, прямо на нас. Мы бросились в сторону.
) 
Возможно, благодаря отдаленной позиции я был единственным свидетелем хладнокровия, которое проявил наш боец. Чисто рефлекторно он зацепил парусину своего крыла концом палки и, воспользовавшись скоростью падения, раскрутил винты на ногах. В пяти метрах от земли одним рывком он вдруг перевернулся вверх ногами и, широко разведя ноги, опустился на ножных винтах на землю, подстелив на вытянутых руках парусину вместо матраса. Прокатившись по земле кувырком, он схватил штык и стал ждать Силена. Он был всего в нескольких шагах от меня:
— В сторону, Сов! Вы в зоне боя. Он сейчас заминирует поле!
— Что?
— Выйти из зоны боя!
Дербелен!
Я никогда не испытывал теплых чувств к Эргу Махаону, ни мне всегда казался слишком мрачным собеседником и к тому же немного параноиком. Но в этот миг я увидел его таким, каким должен был видеть всегда: единственным человеком, который положит свою жизнь на защиту наших шкур. Его горсовые доспехи были глубоко изрублены
586
на ногах, животе, груди; раздробленные в край, одни обмотки. Он весь был покрыт кровью — своей? Силена? — все лицо, расквашенный нос, шея, руки. Ему отрезало один палец, и тот теперь беспомощно болтался на руке, но я даже не был уверен, что Эрг это заметил. Мы стояли невдалеке, одичалые, обезумевшие, бессильные, мы не могли ни помочь ему, ни подбодрить, мы могли только молиться. Только верить. Я видел, как он сделал глубокий вдох, проверил опорные и, следя глазами за Силеном, стал ждать его приземления. Преследователь опустился четко на потерявшийся недавно винт и прямым броском запустил его в Эрга, который молниеносно выбросил руки вперед, и винт угодил прямо в штык, разломав его напополам. Эрг тут же бросился к буеру, с целью отрезать Силена от боеприпасов, но тот снова оказался проворнее. В ноге у Силена торчала стрела из арбамата, но он сломал ее на корню, не вытаскивая. Как из сундука с атрибутами черной магии, из буера вылетел очередной толстобрюхий шар и поднялся у нас над головами…
— Назад, Орда! НАЗАД!
Мы
отступили. Силен выстрелил, шар вяло лопнул, и из него, словно охапка мертвых листьев, разлетелись и рассыпались по земле светлые маленькие диски. Барбак, который на пару с Фиростом был лучшим другом Эрга, не выдержал и подошел поближе.
— Барбак, не трогай! Вернись! — закричал ему Фирост.
Понимая, насколько это опасно, Эрг кинулся к Барбаку, чтобы отстранить буксировщика, и вдруг повалился в траву. Силен не двигался. Замер как мертвый. В ужасе Барбак бросился, ни о чем не думая, к нашему бойцу-защитнику, и мы услышали, как Эрг заорал: «Стой, не надо!». Но было слишком поздно, Барбак по неосторожности уже наступил на один из дисков, наполненных сжатым воздухом и
585
напичканных осколками. Мина взорвалась, разорвав ему обе ноги.
∫ 
Я явно был не в теме сегодня вечером, ни здесь, ни там, ни на празднике. Мозг разжижался в черепной коринке каждый раз, как в нее встревал образ Кориолис. Мне хотелось разреветься. Время от времени я все-таки поднимал голову, но просто так, для вида. На самом деле мне просто было лень отсюда уходить. А потом вдруг стало чертовски интересно, и я зацепился за разговор:
— А я как раз думал, ощущаешь ли ты бой…
— Более чем. Он очень явный.
— Структура ветра резаная вплоть досюда из-за пробоев Силена. Он стал выдающимся мастером искусства молнии. Ты боишься за Эрга, не так ли?
— Откровенно говоря, да.
— Да, я тебя понимаю. Ему придется нелегко. Как и в любом бою, это будет схватка скоростей по трем измерениям: скорость, движение и мощность живости. Победу одержит тот, кто сумеет заманить другого в измерение, которым владеет лучше всего.
— У Эрга хорошо со скоростью, особенно в метании. Я бы сказал, что под грубым и неотесанным наростом у него припрятана определенная гибкость, подвижность души. Он не зацикливается на первоначальной стратегии, он без конца ее модулирует, движется, адаптируется…
— Я немного знаю Силена. Он иногда как ударом молнии достигает той точки, когда движение становится настолько быстрым, что, кажется, сливается с выплеском самой живости. У него для этого есть особые приемы мышечной релаксации, инерционных движений, они превышают возможности тела, движущегося динамически. Помимо этого он использует скорость стихий. Признаюсь, мне
584
Силен очень нравится. Бой, который сейчас идет, прекрасен. Он выводит наружу то, что разыгрывается внутри нас…
— Каким образом?
— Каждому измерению скорости соответствует определенная протяжность или неподвижность. Скорости противоположна тяжеловесность; движению противодействует повторение; живости противостоит непрерывность. В определенном смысле для того, чтобы быть живым, необходимо вести тройную борьбу: против силы тяжести внутри нас — лени, усталости, стремления к покою; против инстинкта повторения — уже сделанного, известного, дающего безопасность и уверенность; и, наконец, против соблазнов непрерывности — любой устойчивости в развитии, реформизма или даже столь присущей Фреольцам тяги к приятной переменчивости, к этому постукиванию по клавишам вокруг занимательной мелодии.
— Что будет, если Эрг потерпит поражение? — осмелился спросить я (почти захлебнувшись вопросом).
— Силен — всего лишь фрагмент Преследователей. Согласно их закону любой, кто убьет бойца-защитника в честном бою, получает также право уничтожить всю Орду. Всех, кроме Трассера.
— Что именно ты хочешь этим сказать, Лердоан?
— Что если Эрг проиграет, то всех вас, кроме вашего Трассера, ждет смерть.
— Но мы будем защищаться!
— Разумеется, вы будете защищаться. Но на уровне, на котором ведет бой мастер искусства молнии, у вас не будет ни единой возможности его обезвредить. Он ликвидирует вас за день. Или за ночь. По одному или всех вместе. По своему усмотрению.

583
π 
Одним взмахом крыла Силен очутился рядом с Барбаком, подхватил его и перенес прямо к нам. Вне заминированной зоны. Вместо ног у буксировщика было сплошное кровавое месиво. Я боялся, что он не выживет. Но он был в сознании. Оставаясь верным кодексу Кер Дербана, Эрг не воспользовался этим временем ни для того, чтобы занять более выгодную позицию, ни чтобы выстрелить. Его крыло погибло, и он был обречен вести дальнейший бой в двух оставшихся измерениях. Из всех боеприпасов у него оставалось всего-навсего три погнутых винта, которыми он отбивался от ударов Силена в воздухе и которые теперь зафиксировал на спине, плюс арбамат, прикрепленный ремнем к левому предплечью, да, может, пара стрел, несколько широких дисков, похожих на глубокие блюдца, и три выпускных троса, те запускались в ротационном режиме на очень высокой скорости, а потому назывались вертотросами.
Стратегия Силена была весьма очевидна. Взяв контроль над воздушным пространством, он таким образом получал контроль и над земным. Со своей позиции он считывал расположение мин без малейшего труда, тогда как Эргу в зарослях травы было далеко не просто определить минированные места. Преследователь мог запросто навести нашего защитника на мину. Мог и сам взорвать любую из них одним выстрелом. Вся земля была перепахана, воздушное же пространство — беспрепятственно. Первый принцип Движения соблюден. Прерия превратились в смертоносную шахматную доску, что очень затрудняло передвижения Эрга, тогда как у Силена сохранялась полная свобода удара-уклона. Эрг это знал. Он отыскивал мины, с высочайшей осторожностью перемещал некоторые из них, расчищая поле. Но Силен не давал ему ни секунды передышки, запускал в воздух пикирующие диски,
582
которые сначала взлетали в зенит, а потом обрушивались дождем по окружности заминированного поля, пресекая возможность вырваться из зоны. Эрг был в ловушке радиусом сто метров. Как только он совершал попытку вырваться из круга, Силен проносился мимо него в бреющем полете и окатывал камнями и бумерангами вперемешку. Хотел вымотать Эрга, заставить его отступить, допустить ошибку. Эрг контратаковал винтами. Он попросту не знал, что еще делать. Противник был всего в нескольких десятках метров, не более. С такого расстояния Эргу, как правило, достаточно было одного броска, чтобы прикончить врага, но только не в этот раз. Силен по-прежнему был обескураживающе скор и подвижен. Молния, так и есть. Неуловимая молния. В которую невозможно попасть, от которой невозможно укрыться, разящая прямо в цель.
Δ 
Давай, макака, делай вид, что выдохся. Пусть подойдет поближе. Еще ближе. У меня все мины в башке записаны, все поле целиком. «Молния расслабляется, когда доминирует. Пускай атакует, пока уверенность не зашкалит. Ждать, пока на ударе не сосредоточится, который должен тебя прикончить, пока не забудет сменить очередную, сто первую траекторию уклона». Я снова, как тогда, в свои тринадцать, слышу голос Тэ Джеркка, слышу его смех, у меня перед глазами всплывает тот бой. «Всегда момент, когда ты знать повторять. Повторять, повторять. Бить один удар, макака, ты больше не варьировать, ты вводить его в рутину твою… Снова, снова. Он истощаться. Траектории-уклоны не бесконечны. Присматриваться. Ты узнаешь одну. Одной достаточно. Одной! И тогда, Эрго, бей, и конец…». Я снова вижу его лицом к лицу с тем Диагональщиком, четвертным по молнии, который на меня тогда нехилое впечатление произвел. Тэ Джеркка в воздухе завис.
581
Не срежешь. А тот дебил все палил в него из арбамата. Тэ Джеркка уже старик был, без доспехов, без скорости. Отбивался обычной доской! Говорил со мной. Показывал. А потом, в какой-то ничем не примечательный момент, просто выпустил свой винт. Спокойно, без лишних усилий. Четвертной рухнул на землю замертво. А Тэ Джеркка еще и извинился передо мной: «Старость, макака, промазал бедро. Солнечное сплетение всегда плохо».
Прижать к земле его надо. Крылья обрезать. Двигайся резвее, макака! Не дай ему отъюлить латерально. Откадрируй его винтами, левой-правой, двойным квадратным. Так, чтоб он на третий винт нырнул. Сам-то он защитится. А вот парусина его — нет.
) 
Тут не нужно было заканчивать никакой Кер Дербан, чтобы понять: силы у Эрга на исходе. Он больше даже не пытался вырваться из этой ловушки, просто продолжал получать камнями по телу. Терпел, пошатывался… Отбивался, периодически отстреливался только от самых жестких ударов. Был, как раненый лев, который своим ревом пытается отсрочить момент, когда в него вопьются роковые клыки торжествующих гиен. Облака разошлись, и в свете раздетой луны Силен рассекал по небу со своей неизменно чудовищной скоростью, со своей манерой переноситься из одной точки земли или неба в другую, так что невозможно было даже примерно угадать его траекторию, когда он свернет, когда спикирует, когда и чем нанесет удар — бумом, винтом, камнями?
— Нужно ему помочь! Мы же не можем вот так просто дать Эргу сдохнуть у нас на глазах!
— Нужно всем вместе атаковать. Должен же этот ублюдок когда-то окочуриться.
— Давайте заслоном!
580
— Да бросьте это!
— Эрг на пределе!
— Оставьте его в покое, черт возьми! — закричал Фирост. — Эрг никогда не проигрывал!
Фирост заорал так громко, что было совершенно очевидно: он это сказал в первую очередь самому себе. Пьетро молчал. Я стал всматриваться ему в лицо, по нему пробегали тени, и вдруг на долю секунды мне показалось, что он улыбнулся. А там, на этом участке прерии, под раздачей ветряных шквалов, разница в скорости между нашим защитником и Силеном становилась трагически несопоставимой, все равно как старость против юношеской прыти. В очередной, неизвестно какой по счету раз Силен рвано спикировал и запустил в Эрга камнем, который угодил тому прямо в лоб, Эрг покачнулся и повалился на землю. В тот же миг Силен перевернулся, зафиксировался на подвесках и зарядил свою руку. Сейчас начнется забой.
π 
Три! Сразу три винта одним броском! Вырвались из якобы поврежденной руки Эрга. Чудесная уловка! Крыло Силена разорвалось в клочья, и он рухнул на землю. Жестко, на полной скорости.
—
Барнак!
— Ха!
— Это еще не конец, не конец…
— Осторожно!
) 
Силен поднялся. Но медленно… Впервые за все это время — медленно! Мы все подошли поближе, чтобы как можно лучше увидеть, несмотря на мины, несмотря на официальный запрет, несмотря на Кер Дербан и этот их идиотский кодекс, увидеть, что он… Всей своей мышечной массой Эрг напрягся и встал, черный гребень волос, как
579
агрессивный плавник, торчал на голове. Он достал свой охотничий бумеранг, его любимое оружие, и стал подбираться к Силену с вытянутой рукой. Их разделял едва ли десяток метров. Впервые за весь бой они обменялись сломами:
—
Бласт эрк?
—
Неморк бласт.
—
Пат акцерпт?
—
Нек!
Пьетро схватил меня за руку, чтобы удержать на месте. Он был мертвенно-бледен.
— Он предлагает пат!
— Кто?
— Эрг! Эрг только что предложил Силену пат. Ничью.
— Зачем? Силен же теперь полностью в его власти.
— Этого требует кодекс Кер Дербана. Это значит, что Силен тяжело ранен. Ты не можешь вести бой с раненым, — раздался голос за моей спиной.
Пьетро посмотрел на Фироста, это был его голос. Князь раздосадованно, почти гневно покачал головой и повелительно сказал нам отойти назад.
— Слушайте меня внимательно, особенно ты, Фирост, Силен не ранен. Эрг предложил пат, так как понимает: ему не выиграть бой.
— Ты видел, с какой высоты упал Силен? Чертовы ветра! Он должен был вдребезги разбиться, кто такое может выдержать!
— Он мастер искусства молнии, Леарх, ты до сих пор не понял, что это значит?
Между бойцами повисла далеко не обнадеживающая пауза. Эрг находился в пяти шагах от Силена, с бумом наготове. Силен был с голыми руками и держался ровно, в профиль, на носочках, весь натянутый как струна…
578
— Что ответил Силен про пат? — спросил Степп, единственный, кто въехал в происходящее.
— Он отказался.
Хотите — можете поверить мне на слово, хотите — можете слушать, что вам другие расскажут. С расстояния, на котором Эрг находился от Преследователя, он мог проткнуть его насквозь. Но, вместо того чтобы запустить бум ровно перед собой — со скольких, с четырех шагов? — он опустил руку до самого бедра и с силой бросил бум назад. В ту же секунду в сверхскоростном броске закинул поверх левого плеча два вертотроса. Не знаю, можно ли сказать, что он сделал это предусмотрительно. Не знаю, на сколько можно поверить в то, что он просто угадал, как он сам нам впоследствии объяснил, какую траекторию побега выберет мастер молнии, среди необъятных возможностей, которые открывались перед тем, кто мог с места подскочить на десяток метров в любом направлении. Так или иначе, но секунду спустя Силен был метрах в пятнадцати позади Эрга с бумом, врубившимся ему в лопатку, и с перерезанной вертотросом аортой.
∫ 
— Я чувствую сильное волнение в структуре Ветра, Лердоан… Что-то очень мощное.
— Это сжимается вихрь. Я тоже его ощущаю. Очень грустно и прекрасно одновременно. Кто-то только что умер. Кто-то необычайно сильный, кто-то, уже переживший себя.
Так, ладно, в общем, вы поняли… Я очутился в самом стремном месте на всем фреольском празднике, с похмельем и в компании Караколя, тусклого, как безмаревый день, и какого-то старика, который возомнил себя ветровым шаманом и который (позволю себе сказать) вряд ли устоял бы на ногах даже под зефирином. Но я все-таки слушал (на всякий случай). Но их послушать, так они обо
577
всем были в курсе, не отрывая задницы от травы, и что, и как, и кто кому:
— Силен?
— Да, Силен. Ваш боец-защитник все-таки одержал победу.
— Тебя это, кажется, удивляет?
— И еще как, трубадур. Тут что-то не в порядке. Возможно, еще чье-то присутствие. Хотя на самом деле я считаю, что Силен еще с самого начала боя достиг своей цели, что сделало его менее агрессивным… Для Эрга на кону были ваши жизни. Он соткан из вас. А Силену нужно было отстоять честь дорогого ему человека. И даже сам тот факт, что бой состоялся, само по себе отдавало должное этому человеку и исчерпывало долг Силена. Победа бы ему все равно ничего не дала, по сравнению с местью, которую он хотел бы совершить, поскольку так или иначе она невозможна…
— Я за тобой не успеваю…
— В идеале Силен должен был убить Голгота. Его месть относится именно к нему. Но Кер Дербан запрещает убивать Трассера напрямую. До него можно добраться, только ликвидировав всех остальных членов Орды. Но все это чистая теория.
— Армия Движения будет огорчена таким исходом.
— Откровенно говоря, я не думаю, что Силен и в самом деле потерпел сегодня поражение. Я бы даже сказал, что те, кто его обучал, могут гордиться им. Он держал верх над вашим защитником в течение всего боя. Движение доказало свое онтологическое превосходство. Только вот…
— Только что?
) 
Пьетро отправил Степпа за Голготом и остальными, кого найдет. Первой прибежала Альма, с помятым ото сна
576
лицом, аптечкой и врачевательным опытом. Мне стало холодно. У наших ног лежал труп Силена, с его звериным лицом и желтыми распахнутыми глазами, устремленными на луну, — Эрг попросил оставить их открытыми. Мы наложили Барбаку жгуты под коленями, но никто не решался трогать его искромсанные осколками ноги. Я не испытывал ни капли гордости, скорее чувство полнейшей напрасности всего случившегося. Рядом со мной перевозбужденный Фирост проговаривал весь увиденный бой, обращаясь к молчаливому, оглушенному от усталости и изрешеченному ранами Эргу. Добравшись до нас, Альма в первую очередь взялась за Барбака. Она долго и добросовестно вытаскивала по одному осколки, засевшие в голенях фаркопщика. От боли он вскоре потерял сознание. Затем заставила Эрга лечь, не дожидаясь, пока братья Дубка принесут носилки, сняла с него горсовые доспехи и стала осматривать раны. Весь его торс и ноги напоминали небо, усеянное ранами. У него действительно был сломан нос, не хватало одного пальца. Дышал он с трудом…
Немного посовещавшись с Ороси, Пьетро подошел к нашему бойцу-защитнику и, присев рядом с ним на корточки, спросил голосом, в котором ему не слишком удалось скрыть охватившую его тревогу:
— Эрг, как ты считаешь, следуют ли за нами другие Преследователи такого уровня?
Эрг с трудом повернул голову, чтобы ответить. Он хрипел.
— По моим источникам… личным… около двадцати. Силен был из самых опасных. Остальные слабее. Кроме одного…
— Кто это?
— Его имя тебе ни о чем не скажет. Он родом с обледенелых краев линии Контра. Он не учился в Кер Дербане.
575
Он сделал себя сам. В мире бойцов мы зовем его
Дубильщик.
—
Дубильщик? Каким оружием он владеет?
— Никаким, точнее сказать, его Оружие — это отражение и время. Его бои длятся по восемь, по девять часов, иногда даже целую ночь напролет… Никому и никогда не удавалось его победить. У некоторых получилось сбежать. Но рано или поздно он всегда находит свою жертву, пусть даже годы спустя, в какой-нибудь глинобитной дыре, все равно где. Он всегда оканчивает свои бои. Он не признает пат. Даже в чужих боях. Сегодня это лишний раз подтвердилось…
— Что в нем такого особенного?
Эрг сплюнул немного крови и, тяжело дыша, ответил:
— Его система защиты.
— В чем именно, ты можешь объяснить?
— Тут нечего объяснять. У этого парня лучшая система защиты, которая когда-либо была разработана на этой чертовой земле. Никто не знает почему. Никто не знает как. Редкие свидетели, которые видели его в бою, поговаривают о каких-то немыслимых приемах, базирующихся на круглых камнях, на пучках травы, ветках. Он использует все, что есть под рукой. Он даже особо скоростью не отличается. И броски у него паршивые. Но у него есть одно качество, которому в нашем деле можно только позавидовать: он не умирает.
— Ты что, хочешь сказать, боишься этого полуотморозка? — вклинился в разговор Фирост.
— Я никого не боюсь, Фирост. Просто имей в виду, что когда он заявится, у вашего бойца-защитника свернется вихрь…
— Ты чего сопли распустил? Ты лучший боец в мире, макака! И сегодня ты в очередной раз это доказал!
574
— Сегодня вечером я доказал только то, что старею. Мне тяжело падать. Я стал хуже двигаться. Я выдаю себя. Дубильщику это уже известно.
— Ну это уж однозначно нет, — отрезал Пьетро. — Этот бой хранится в строжайшем секрете! Только Орда в курсе. Мы проследили за тем, чтобы ни один Фреолец ничего не узнал.
Эрг поперхнулся от смеха:
— Извините, ребята, но помимо вас здесь сегодня было еще пятеро свидетелей, которых никто не звал. И Дубильщик вместе с ними.
Пьетро подскочил и выкрикнул одновременно со мной:
— Как это?
Эрг прохрипел от того, что Альма извлекла из него щипцами свинцовую пулю. Он был весь желтый в лунном свете. Ухмыльнулся, как ребенок, слишком долго скрывавший очень сочный секрет от остальных:
— Вы и впрямь артисты, нечего сказать… Не бывает секретных боев. И уж тем более, когда дело касается элиты Кер Дербана. Где-то поблизости всегда засядет ордановский докладчик, чей-нибудь агент, другие бойцы, Преследователи.
— И где все они были, неладен ветер?
— Один проторчал весь бой в двухстах метрах отсюда, на входе в зону, в черном воздушном шаре. Другой засел на дереве в линейном лесу. Этого я, кстати, зацепил на обратном круге винта. Остальные были в камуфляже, в траве.
— А Дубильщик?
— Это он перерезал Силену горло…
— Что? Дубильщик?
Тут я серьезно начал подозревать, что у Эрга начался горячечный бред или что он решил над нами чуток по-
573
издеваться. У меня челюсть отпала от оторопи. Эрг спокойно продолжил:
— Он залег среди комьев земли, прикрытый травой, прямо посередине зоны боя. И похоже, что с самого начала. Когда я запустил вертотрос, я перерезал Силену ось побега, но у него получилось увернуться. Он бросился на землю. И больше не встал.
Фирост нашелся первым:
— Да мы сами все видели! Мы были в пятидесяти метрах. Ни черта Силен не увернулся, Эрг! Ты ему вертотросом горло полоснул, и он рухнул. Ты его на полном ходу сбил!
— Ну, будем считать, что сбил, раз тебе так хочется.
Повисло долгое, хрупкое, мучительное молчание, весь смысл которого словно разорвался изнутри черной медузой. Эрг снова опустил голову и осторожно улегся по требованию Альмы. Он закрыл глаза и сжал правую руку на металлическом изгибе бумеранга. Губы его едва заметно зашевелились:
—
Трубинаст…
Я повернулся к Пьетро, взглядом спрашивая, что означало это слово. Я бы не сказал, что выражение лица у него было как у человека, которого уверили и успокоили насчет грядущей доли. Мне показалось, что он был где-то очень далеко отсюда, когда наконец ответил:
— Это значит «поэт».
∫ 
Караколя (и меня вместе с ним) немного вывели намеки его дружка Лердоана. Только что? Эрг победил, что тут неясного? В чем это кучка придурков из Движения ныла лучше нас?
— Кто-то вмешался в бой. Кто-то, кто обладает вихрем, живостью. Кто, вполне возможно, даже черпает из нее
572
силы. Скорость Эрга, его способность просчитывать ходы, всего этого было бы недостаточно, чтобы противостоять Движению. Ему бы потребовалось умение применять технику наименьшего разрыва, а не только обычные уклоны, пусть даже и сверхскоростные. В бою с молнией преимущество может дать только живость. Только она способна превзойти относительные скорости и молниеносные вариации. Только она может иметь превосходство в скорости за счет своей способности актуализировать прерывистость. Скорость и движение остаются измерениями пространства-времени. Живость же сама по себе чистейшее проявление
несвоевременности. Она прорывается из самой структуры ветра-времени или протекания времени. Она приносит с собой свою темпоральность. Когда она вырывается наружу, действие больше не относится к категориям высокой или низкой скорости, оно проходит не быстрее и не медленнее, чем действие противника, оно просто-напросто оказывается
в другом времени.
— На нее нет контрприема, не так ли? Она свершается еще до того, как ты успеешь ее прожить?
— Почему же, на нее есть ответ, Караколь, — другая живость. Это называется
полихронным боем, каждый из противников наносит ответный удар посредством временных проломов.
— Но разве кто-то в состоянии вести бой на таких оборотах?
— Среди людей нет, насколько мне известно. А вот автохроны могут, и наверняка некоторые животные тоже, такие как ежели, ибо, поскольку… Ну и глифы, разумеется.
На этом я решительно встал и откланялся. Ежели, ибо, поскольку? Для него это все звери? Что он еще придумает горсам на смех? Глифы? Не знаю, чего он там налакался
571
или накурился, но пили мы с ним явно не вместе, ну или не в одной и той же петле пространства-времени. Его приходы идиотизма меня, во всяком случае, явно не прошибли (такое только Караколю не на свежую голову могло понравиться).
π 
Когда пришел Голгот, наш круг расступился, чтобы он миг поближе подойти к трупу. Он на него посмотрел как ни в чем не бывало и просто заметил вслух:
— Из Движения чел.
— Это что, по лицу видно?
— По ранам. Чтоб после такого боя с макакой в противниках у чувака кровь не хлестала изо всех дыр, такое не частяк случается. Я этого типа знаю.
— Кто это?
— Брательник его.
— Чей его?
— Брат пацана, с которым у меня должно было быть состязание по трассировщице, когда мне на счетчик десяток лет накапало. Того, который утром не проснулся. Они были близнецы. Настоящие. Как вода друг с другом связанные.
Голгот присел, взял обеими руками за уши то, что осталось от Силена, притянул его лицо к своему и пристально посмотрел ему в глаза. Жестом попросил нас оставить его одного, и мы отошли в сторону. И тогда он стал с ним говорить. Он говорил и говорил. Протяжный рокот с криками и даже с резкими, сумасшедшими жестами. Не знаю, сколько времени это все длилось. В конце концов Голгот опустил труп и вернулся к нам. Лицо у него было опустошенное. Он подошел к Эргу, у которого из плеча кровь сочилась прямо через повязку, и крикнул:
—
Кер Варак!
570
—
Арлек!
—
Кер Дебарак!
—
Паракерт!
—
Я лек дер гаст пар сулпати. Силен кар филек дор. Тер ерк ниварм дер Дубщилар.
— Спасибо.
Затем он положил ему на лоб ладонь с растопыренными пальцами, в ответ на что Эрг не двинулся ни на йоту. Гот сказал нам отправляться спать. На лице его проступили глубокие морщины, а нос стал больше обычного походить на пятак с раздутыми ноздрями, тревожно внюхивающийся во влажность ночного воздуха. Мы только услышали, как он сказал, ни к кому из нас не обращаясь.
Как и обычно:
— На один вихрь больше на наши шквалы… скоро самого ветра пора будет бояться…
(обратно)
VII
ПОСЛЕДНЯЯ ОРДА?
) 
На следующий день все как-то не клеилось. Фреольцы, еще не отошедшие от вчерашних гуляний, вели себя бесцеремонно и непринужденно, хотя при этом вполне активно управлялись с маневрами судна. А мы после случившегося были совершенно разбиты, бродили, как тени, с ввалившимися глазами после бессонной ночи. Если б не этот голем из окаменевшего мха, мы бы вообще вряд ли и живых остались, так что еще радоваться нужно было, что он таки соизволил перерезать горло Преследователю и положил конец неминуемой агонии Эрга. В общем, разница между нами была весьма ощутимая.
За двадцать восемь лет контра, всякого рода боев и и схваток мы натерпелись порядочно, это факт. Но все это стало для нас почти рутиной. Когда ты уверен в без сбоев работающей механике побед, чувство страха со временем притупляется и ты уже не приходишь в ужас, как когда тебе всего пятнадцать, а тебе с низовья наперерез идут контровые пираты. Эрг очень быстро, да что там быстро, моментально, достиг уровня, который от него требовался для роли защитника. Где бы мы ни были, что бы ни происходило, будь он наготове или застигнут врасплох, он всегда побеждал в бою. Он мог сражаться прочив кого угодно: грабителей, крытней, золотоискателей,
568
банд Диагональщиков, диких зверей; хоть днем, хоть посреди ночи, уставший, да хоть даже безоружный, он всегда побеждал. Окажись мы в селе, на промозглой равнине, в степи, посреди озера, один или с помощью Фироста, Леарха, Степпа он всегда брал верх. И вот вчера впервые потерпел поражение.
Не думаю, что все в Орде так же хорошо отдавали себе отчет в случившемся, как я, Пьетро и Ороси. Для многих был ясен только сам очевидный результат: Эрг Махаон остался в живых после боя, его противник — нет. Они не верили ни в какого Дубильщика, ну или во всяком случае не вполне, или же верили, но с некой отстраненностью от факта, как верят в фей или в ларковские марева. Откровенно говоря, я и сам вначале отреагировал так же, вплоть до того момента, пока сегодня днем, с подачи Ороси, мы не пошли поговорить с Эргом. С нашим блоком, нашей горой. Он был весь изрублен, исполосован со всех сторон; винт прошелся вокруг него опоясывающим хлыстом, отовсюду сочилась кровь, но даже вся эта картина впечатляла не так сильно, как его взгляд. В нем пропало нечто совершенно незаменимое: его самоуверенность. Напрасно он нам в сотый раз пересказывал всю дуэль, разжевывал свою тактику, свои промахи, снова и снова объяснял, как ни с того ни с сего появился Дубильщик, как вдруг исчез, напрасно пытался развеселить своими ироничными, жесткими, как прут, шуточками — он так и не смог нас успокоить. Эрг вообще не умел врать ни другим, ни уж тем более самому себе. В своих собственных глазах он проиграл битву, и проиграл дважды: мало того что Силену, с которым он так и не смог разделаться, так еще и Дубильщику, который, прикончив противника, унизил его, и теперь Эрг был вынужден, согласно кодексу Кер Дербана, принять в качестве долга чести вызов на новый
567
бой. А право выбора времени, места и оружия оставалось за Дубильщиком, что звучало в наших ушах и отбивало такт в его собственных, как приговор гонга. Никто, кроме Тэ Джеркка, ордонатора, который обучил всему Эрга, не мог бы себе даже представить, каким образом взяться за этого Дубильщика. Какую секретную тактику для этого применить, как подобрать синтаксис, да и существует ли вообще такая секущая плоскость в его реальности, где можно было бы в принципе вести бой. Спустя четверть часа, которую мы просверлили паузами, Эрг выдавил из себя:
— Мне нужен Тэ Джеркка. Я сдал, сильно… Я потерял скорость. Слишком много легких боев. Мне нужно заново переучиться.
— Тэ Джеркка вернулся в Кер Дербан. До него добираться года три на фреольском ходу, Эрг.
— Не уверена, Сов, — вмешалась Ороси. — Наставник бойца-защитника никогда слишком сильно не отдаляется от своего ученика. Он никого больше не сможет обучить тому, чему научил Эрга, у него может быть только один ученик, один
сын, как они говорят. Его наверняка можно найти.
Ороси как всегда держалась исключительно ровно, она сидела, поджав под себя ноги, на столе рядом с Эргом, и тот время от времени протягивал руку, чтобы схватить флягу воды. Мимо трапециевидного иллюминатора проплыла низенькая деревушка с круглыми сводами крыш. Один за другим проследовали углубленные и обнесенные защитными заборами каплевидные поля. Кое-где виднелись гроздья приземистых хижин, кучковавшихся в вельде за тройными щитами из плотно засаженных деревьев и кустов. Легкая эскадра неслась по диагонали, перпендикулярно линии Контра и слегка в направлении
566
низовья. «Доставка слитков», — объяснил нам коммодор. Это к тому же был еще и отличный способ дать нам понять, как велики возможности
Физалиса пройти по диагонали, затем к низовью, а потом прямиком к верховью за один день, чтобы добраться до нашей точки отправления. Несмотря на все усилия Фироста, Эрг так толком и не поспал — он знал, что в своем нынешнем состоянии легкая мишень, и остерегался злоумышленников. Он снова облокотился и сказал:
— Тэ Джеркка придет. Он уже в курсе о вчерашней ночи. Он точно был где-то недалеко. Может даже…
— Он был тут?
— Нет, я бы узнал его дыхание. Он с возрастом заглатывает все больше воздуха. Поток искажается на его пути.
— Сколько ему уже?
Эрг обернулся к Ороси и не смог удержаться, чтоб не отпустить шуточку:
— По ламинарному или в вихрях?
— По ламинарному. Лет восемьдесят?
— Даже больше, Ороси. Но если в вихрях, то последний раз, когда я его видел, ему было в районе сорока.
— Может, объясните? — не выдержал я.
Ороси вытянула из шиньона крохотный ветрячок и принялась в него дуть. Она подождала, чтобы Эрг ответил, но видя, что тот не решается, подняла на меня глаза:
— У тебя слишком рациональное образование, Сов, тебе сложно будет понять то, что я сейчас скажу. Для тебя существует только одно возможное время, только одно возможное толкование продолжительности, действующее для всего живого. В твоем мире коту пять лет, горсу — пятнадцать, а дереву пятьдесят… Но эти возрастные понятия ничего не стоят.
— Почему?
565
— Потому что продолжительность зависит от твоей внутренней скорости. У каждого живого существа своя собственная скорость. Иногда она может быть значительна нише, чем у человека. Иногда — наоборот. Чем выше внутренняя скорость, тем сильнее пространство сжимается в направлении движения и тем больше растягивается, размывается время, как, например, промежуток между двумя ударами сердца.
— Это я все знаю, и что? Какое отношение это имеет к возрасту Тэ Джеркка?
— Внутренняя скорость исходит из дыхания, хоть и не исключительно, конечно, но в какой-то мере — я имею в виду из твоей манеры вдыхать и выдыхать воздух, из того, как ветер заныривает внутрь и циркулирует по телу, с ускорением или эффектом центрифуги или, наоборот, в замедленном темпе. Некоторым удается увеличить исходную скорость раз в десять, они могут согнуть ламинарный поток, свернуть его в воронку внутри себя. Это называется силой изгиба траектории, или попросту
эффектом воронки. Если одаренному мастеру, такому как Тэ Джеркка, например, удается освоить эту технику достаточно рано, то его биологическое время начинает протекать медленное по сравнению с другими людьми. Его костям, органам, мускулам может быть не больше сорока в вихрях, но выглядит он при этом на восемьдесят… Потому что кожа все равно стареет по-ламинарному.
— Ты пойми, Сов, если чувак умеет сворачивать воронку, значит, он и в бою может сдвинуть свои движения относительно нормальной скорости. Он не только живее и своем внутреннем движении, он еще и двигается в замедленном времени, как если бы его секунда была длиннее твоей. Со стороны, для обыкновенного наблюдателя, который дышит обычно, как все, кажется, что он просто
564
очень быстро движется. А на самом деле ему удается нанести больше ударов в секунду благодаря тому, что его время длится дольше.
— То есть он
обманывает время в каком-то смысле?
— Да, он определенным образом сжимает пространство, чтобы сократить дистанцию удара. Вот ровно как Силен вчера. Думаешь, отчего Эрг с ним так намучился, а?
— Так, а ты сам этой техникой не владеешь, Эрг?
Наш защитник медленно приподнялся, посмотрел на свои руки и как-то странно забрюзжал перед тем, как ответить:
— Тэ Джеркка хотел меня научить дыханию как у бойцов Движения, но как-то…
— Но как-то что?
— Не мое это было. Я не захотел идти по этому пути. Не смог. Я для себя выбрал ударный стиль, перекрытие зоны боя.
— Почему?
— Движение — это идеальный вариант для схваток один на один. С молнией ни один нормальный человек справиться не может. Но я — защитник. Вы все у меня за спиной. Вас двадцать, и вы все ценные, вас всех нужно прикрывать. Для меня смысл не в том, чтобы спасти свою собственную шкуру. В девяти случаях из десяти я стараюсь спасти именно
вашу. Когда мне исполнилось тринадцать, Тэ Джеркка мне сказал: если выберешь Движение, будешь непобедим. Но если выберешь крыло и удары, тактику объемного щита, которой я могу тебя обучить, сможешь почти в любом бою защитить Орду. «Это вопрос тактики», — сказал ему я. А он мне ответил: «Это вопрос этики, макака. Твоя Орда — лучшая в истории, помни об этом отныне и впредь».
— Отныне и впредь?
653
— Да, «отныне и впредь». Он все время так говорит. У него свой жаргон, и он часто слова глотает. И он тогда еще сказал: «Твоя Орда последняя. Защищай хорошо. Дай шанс им дойти… наконец понять»
— Почему последняя? С чего он это взял? Тридцать четвертая уже наготове. Они как раз в этом году выходят из Аберлааса!
— Не знаю. Он видит какие-то вещи. Как Караколь. У него случаются проблески вот такие.
Эрг замолчал и уставился в пустоту, что на него было совсем не похоже.
— Ты еще что-то хочешь сказать, Эрг?
— Да, но только вы пообещайте…
— Никому не говорить?
— Ни Пьетро, ни Голготу, ни даже Фиросту. Никому.
Мы с Ороси тут же, не сговариваясь, плюнули в знак подтверждения. Когда Эрг начал говорить, было видно, что он пожалел, что доверяет нам свой секрет, но все-таки продолжил, решил удалить слова из памяти, как опухоль:
— В день моего посвящения Тэ Джеркка сказал мне, что я не лучший боец-защитник. И что никогда им не стану. Но что именно поэтому он меня и выбрал: потому что во мне есть
стрерф, внутренний поединок того, кто знает, что он не лучший. «Лучшим ты станешь, потому что ты он не есть, и оттого, что бороться сам с собой будешь, потому что сам знаешь это». Он, конечно, появлялся потом на разных этапах пути, хоть раз в год, но виделись. Но я его слова не забыл. Не лучший. Два года, как не видел его. Мне его не хватает.
— И как он был в последний раз?
— С каждым разом только лучше. Пусть даже и стареет. Он начал складываться пополам. Он сворачивается, становится меньше под эффектом своего внутреннего
562
ветра, от своей собственной прогрессии. У него удивительное дыхание. Он вдыхает порывы…
— Я тоже его видела года три назад. Он хотел познакомиться с «аэромастерицей ветра», как он сам сказал. Он человек невероятно проницательный и крепкий, я им искренне восхищаюсь. Я думаю, что если бы у людей не была такая вязкая плоть по природе, то у такого человека, как Тэ Джеркка, уже бы наверняка не было тела, он бы весь превратился в спираль, в воздушное колесо в непрерывном невидимом вращении. Мы бы видели в чистом виде его внутренний ветер, его вихрь, а он у него прекрасен, абсолютной чистоты.
Ω 
Вся фреольская мелюзга развалилась на своих шелковых замызганных подушечках, всех искусанных, изорванных и затоптанных на переменах. Расселись слюнтяи полукругом и уши развесили, слушают не налюбуются, как их шлюшка учительница расстилается перед ними, устроила развлекуху, как на карнавале, рисуночки им рисует, сказочки рассказывает, игры тупоголовые устраивает… Может, еще пойдет пооблизывает их, раз она такая любвеобильная? Я в их возрасте тоже на корабле торчал, только он меня из верховья в Аберлаас тащил. Я в их возрасте учился стоять против ветра, с вентилятором в рыло. Не было у меня никаких игрушечек, подушечек, рисуночков и шалав-училочек. И учился я лучше и быстрее, чем вся эта розовощекая мелочь, я руку в хрон готов засунуть, если кто не верит. Это коммодор попросил, а ему я отказать не мог, чтоб я, Пьетро и еще кто-нибудь из ордийцев — я Каллирою с собой взял, чтоб не таскалась там с матросами, — пришли к малышне на урок морды свои показать да объяснить, на кой мы тут скребемся по свинарнику этому, чтоб пойти схватить за шиворот шквальный ветер в
561
верховье. «На наших занятиях мы стараемся никогда не упускать удобный случай пригласить людей, с которыми встречаемся на нашем пути. Ваше присутствие — исключительная и ценнейшая возможность для нас объяснить детям принципы и ценности Орды. Я уверен, что вам понравится отвечать на их вопросы», — вот так все преподнес этот удод бородатый, попробуй отвертись. Я, конечно, так не думал, но был за мной один оранжевый должок. Вот я и потащился в класс. Я как только вошел, понеслось шушуканье. Ребятня обалдела от радости, что мы пришли, у них аж сливки заблестели. Повскакивали сразу с мест и давай нас поливать вопросами, как из шланга…
π 
Кругообразный зал был освещен через иллюминатор, проделанный в верхней палубе. Учительница, молодая лучезарная девушка, вела урок из центра зала. Она попросила нас сесть на пуфы напротив ребятишек. Но Голгот остался стоять со скрещенными за спиной руками. Весь насупленный. Учительница нарисовала прямо на паркете длинную полоску земли, тянущуюся с востока на запад. На самой западной точке написала «Нижний Предел». Слегка пожирнее нарисовала Краевую скалу — низовой барьер нашего мира, а чуть перед ней написали «Аберлаас». На другом конце она написала «Верхний Предел» и за ним большой вопросительный знак. А между ними расположились самые крупные города вдоль линии Контра. Вплоть до Норски. Далее, разумеется, царила неизвестность. Слева и справа она заштриховала белым мелом выступы, подписанные «Ледники». А затем расставили на линии Контра фигурки, примерно на второй трети пути… Это было как-то странно. А почему не на первой трети? Или на полпути, или на третьей четверти? Откуда мы знали, какая дистанция отделяет нас от Верхнего
560
Предела? А что, если этот путь вообще бесконечен? На доске была прикреплена схема Орды в позиции контра, со всеми нашими двадцатью тремя именами, должностными обязанностями и гербами. Дети были очень милые и слушали вовсю с полным воодушевлением. Видно было, что к нашему визиту подготовились заранее и с умом, чтобы позволить их естественной любознательности проявить себя в полной мере. После презентации, которую Караколь устроил накануне на площадке для игры в плато, мы были для них сродни живым легендам. Грабители, разбойники и контровые пираты отошли в их воображении на второй план. Их место заняла Орда. Когда я усаживался, то заметил одну деталь, которая мне это подтвердила наверняка: у одного из заводил класса на плече красовалась татуировка голготской омеги!
Здесь, как и в любом другом поселении подветренников, в которых нас принимали, для меня всегда было крайне важно то, какой след мы оставим в памяти местной детворы. Я, пожалуй, менее остальных был уверен, что наша жизнь имеет смысл. Но зато я знал лучше, чем кто бы то ни было, что она имеет ценность. Сама по себе, без условий, вне зависимости от успеха или поражения. Эта ценность заключалась в борьбе. Она исходила из того глубоко физического контакта, который мы имели с ветром. Лицом к лицу. Она заключалась в немыслимой силе нашего Клинка, нашего Пака. В уму непостижимой толще знаний и опыта, которую унаследовали наши кости. Она была в том благородстве сердца и в неистовом стремлении, которое мы с Голготом несли впереди всего прочего. В представлении подветренников благородство как будто расслаивалось на отдельные ценности. Для них оно было набором символов: элегантность, неброское богатство, подкрепленное определенным регистром жестов и
559
оборотами речи, манеры, знамена… Без всей этой символики они не могли узреть в человеке достоинства. Что же касается меня, долгое время я думал, будто благородство состоит в следовании трем основополагающим принципам: великодушию, самосовершенствованию и мужеству. Что если я буду равняться на этот курс при любом
ветре, то не собьюсь с пути. Все так… Но с возрастом я понял, что благородство требует бдительности, острого понимании происходящего, бесконечного нащупывания рыцарского поведения. Порядочности. Требует отказа от многочисленных проявлений лени. Я часто вспоминал тот день после ярветра. Вспоминал эту зажиточную деревушку, рухнувший дом. Человека, которого я раздавил собственными ногами, сам того не заметив.
Перед детьми я старался держаться как можно скромнее и проще. В словах, в движениях, в голосе. Я не хотел покрыть нашу и без того лощеную репутацию еще одним слоем блеска, который так легко на нее ложился. Легкая эскадра, как мне казалось, в этом не нуждалась. Аура бахвальства и так витала за плечами местных фланговиков. Их же сдержанность, когда ей случалось внезапно проявиться, тоже была маской: приветливой, небрежной, породистой, но все же маской, не лицом из плоти и крови. Я же боролся с собой, чтобы шаг за шагом обрести свое собственное лицо. Лицо, которое было бы моей собственной душой, обретшей нос и рот, душой, у которой есть лоб и подбородок, щеки и скулы, у которой есть свой собственный взгляд. Ни более ни менее. Но это лицо не могло быть дано мне просто так. Его нельзя было унаследовать от родителей. Его можно было только завоевать в самом конце контра, пройдя через контр и благодаря ему. Теперь, когда меня спрашивали, что я надеялся найти на Верхнем Пределе, на этот банальный вопрос, заданный тысячи раз,
558
я отвечал: «Я надеюсь найти свое собственное лицо. Кто-то там, наверху, вытачивает его тяжелыми залпами. Каждое мое действие меняет его, прорисовывает черты. Мои ошибки оставляют на нем рубцы. Но как бы там ни было, оно обретает форму, оно ждет меня на пьедестале. И я смогу его увидеть, как вижу вас перед собой, как видишь свое собственное отражение в неискажающем картинку зеркале. Я, наконец, увижу свое лицо, которое создавал всю свою жизнь, увижу перед тем, как умереть. Это и будет моей наградой».
— А Трассер — это кто такой?
— Тот, кто трассу прокладывает, хомяк…
~ 
Последовавшая тишина была совершенно голготская — сплошная, без попыток повторить вопрос. Мальчишка получил ответом, как пощечиной по лицу. Стал пятиться, бедняга, покраснел. По классу шепотом поползли смешки. Учительница неловко улыбнулась. Я хотела было вмешаться в разговор, но все-таки сказала себе: не лезь, Каллироя, дорогая, начальство на месте, они и без тебя разберутся, доверься такту Пьетро, он все уладит…
— Трассер, как очень просто объяснил наш Голгот, это тот, кто прокладывает трассу, который выбирает путь. Трасса — это самый лучший путь, по которому можно идти против ветра. Так вот Трассер, он идет впереди всех, и это он решает, по какому пути мы пойдем. За каким холмом обойти, через какой лес, на какую гору влезть и тому подобное. Ему в этом помогает разведчик, который забегает вперед всех, ищет лучший проход, так, чтобы мы не попали туда, где ветер слишком сильный. А еще ему помогает аэромастер, это специалист по ветру.
— А как Трассером можно сделаться?
— Прокладывая трассу…
557
— Стать Трассером сложнее всего на свете. Нужно начинать учиться с шести лет, а то и раньше. Сотню ребят специально отбирают и учат по очень трудной программе целых пять лет. Каждый год двадцать из них дисквалифицируют. А на последнем году устраивают экзамен, который называется «Страсса», чтобы выбрать одного из трех самых лучших.
— Как называется?
— Суровая трасса. Это испытание на скорость, выносливость, ум. Речь идет о…
— Это испытание на то, достаточно ли крепкие у тебя ища! Чего ты им пургу втираешь, Пьетро?
Стоило Голготу только рот открыть, как ребятишки сразу на него уставились и глаз не сводили. Харизмы у него, как всегда, хоть отбавляй. Что-то буркнет, и готово. От него воняло за четыре метра. Забыть о том, что он здесь, было просто невозможно, даже когда он молчал, особенно если молчал. Я Голготу никогда не нравилась, хотя может ли ему вообще хоть кто-то нравиться? Он уважает Пьетро, Сова уважает, ребят из Клинка, короче, фланговиков, фаркопщиков. Но только не девчонок, естественно. Сейчас начнет, как обычно, свой выпендреж, будет бесцеремонно пялиться на всех, на пол плеваться, высморкается и рукав. Ему все хоть бы что. У него только одно на уме — трасса, трасса, трасса! Пьетро, как всегда, был верен себе, аккуратно одетый, сидит с присущей ему по природе безукоризненной осанкой, говорит красиво, все так четко произносит, весь серьезный, приятный, участливый. И такой красивый. У нас с девчонками любимая игра угадывать, кто из нас ему больше нравится — Альма, Аои, Ороси, может я? А если Кориолис его соблазнит, то он, наверное, так и не решится ни на что. Он всегда такой спокойный, выдержанный, такой галантный, даже после тяжелого дня.
556
А после трудного контра даже еще больше, как будто хочет своей благородностью сгладить всю его тяжесть. Мы, конечно, все мечтали о Пьетро, но скорее как об отце и уютном домике на Верхнем Пределе, не как о любовнике. Он был слишком уравновешенный, слишком предсказуемый, как для нас, но зато какой стан, какая личность! Он так спокойно, так терпеливо объяснял детям, как устроена Орда, кто что, как и зачем делает. Вот и до меня дошел, расхваливает меня. И детишки наконец ко мне обернулись…
— Огница, она как волшебница огня. Она может развести пламя под дождем, в воде, во льду! Она может все что хочешь приготовить: и горса, и ветряных медуз, и тромпюшона может… Умеет обжигать и землю, и стекло… Делает вазы, разные емкости, крепчайшие острия для арбалетов. Она даже может остановить пожар в степи. И по углям горящим ходить умеет.
— А почему она не впереди, если такая сильная?
— А она может съесть горящие угли?
— А что такое гница?
— Огница!
— А чего вы на машинах не ездиете?
— Так а горящие угли она может съесть?
— А другая волшебница, нам говорили, что она тоже очень сильная…
— Травница, Фанетти, не волшебница. Она собирает травы и ищет источники воды!
) 
Она сама ко мне пришла. То ли из-за престижа, которым я мог похвастаться как скриб, то ли из любопытства, а может, и вообще случайно, во всяком случае явно ни по одному из тех поводов, которые могли бы меня этим визитом обрадовать. У Нушки на лице и во всем теле было что-то такое, что легкой ли вмятинкой на щеке, томной
555
ли усталостью движений выдавало того, кто провел ночь и поисках удовольствия. Я ничего себе особо не пытался вообразить. К тому же у меня не было ни опыта, ни даже о той доли плацдарма прожитого, которое могло бы мне подсказать, что такое она могла пережить и с кем. Я только чувствовал, посредством своей бедной экстраполяции, всю мощь счастья, от которого она еще подрагивала, как от приглушенного резонанса, почти продолжавшегося у меня на глазах. Она оставила свое мастерское обольщение, в котором больше не нуждалась, поскольку отлично знала, насколько я и без того в ее власти и что ее естественного шарма будет вполне достаточно, чтобы окончательно меня добить. Я на нее не злился, я не имел на это никакого права (ни собственности, ни даже одноразовой близости), я мог лишь довольствоваться тем, что она сама готова была мне предложить, и любовался этим непроницаемым потоком податливых и плавных жестов, от которого у меня пересыхало в горле.
Она стояла, облокотившись на планшир, и во всем ее присутствии больше не было того ощущения порога, открытой двери, ведущей в открытое море, каким веяло от нее вчера. Я больше не представлял нашего совместного будущего, знамя моей мечты обвисло на древке. Она больше ничего передо мной не открывала, кроме физической уверенности в полном отказе. Она была любезна, походили на зеркало, в котором я видел лишь свое отражение согнутого, посеревшего, обнаженного лезвия. Неважно, что она говорила, какую тему выбирала, меня больше не существовало. Я подрагивал, как угольки на рассвете, которые Калли умеет разжигать заново, терпеливо дуя на них, но которые больше никогда не дадут тепла.
И все же она снова попыталась распалить наш разговор.
554
— Я слышала, вчера была схватка…
— Не знаю, может быть…
— Да-да, я знаю, все это должно оставаться в секрете, нельзя об этом говорить…
— Откуда это известно?
— Слухи. Здесь обо всем узнают по слухам.
— Ты была знакома с Силеном?
— Он не так давно был моим любовником. Очень хорошим любовником. Мне грустно, что его…
— У тебя было много любовников?
— Любовников? Да, немало, пожалуй, даже слишком… А у тебя было много любовниц?
Я не нашелся, что ответить. Она спросила не в насмешку, бесхитростно, глядя куда-то вдаль, ее волосы спутались на лице, которое мне вдруг показалось таким хрупким, беззащитным под охватившей ее ностальгией, такой ощутимой грустью. Там, вдалеке, время текло печально и беспросветно, в серой пустынной степи. После нашего разговора с Эргом Ороси ушла спать. Полуразрушенные города-привидения трепыхались под скоростью корабля. Косые капли дождя падали с неба, как холодные слезы, никого кроме нас на палубе больше не было, только мы одни оставались под дождем, продолжая разговор. Мне хотелось обнять ее, сжать в горячих до смерти объятиях и сбежать вместе с ней прямо сейчас, стащить какой-нибудь буер, и поминай как звали. Стану Диагональщиком. Не знаю, что в ней толкало меня на такие мысли, что такого глубоко во мне зарытого она ворошила, но мне хотелось все бросить, оставить Орду. Мне все надоело. Осточертело признаваться в этом себе с такой леденящей ясностью. Мне больше всего этого не хотелось. Все теряло смысл. Мне опостылел этот контровский маскарад, вся эта псевдоблагородная пешеходная спесь, которой мы
553
так кичились. Мы — Орда? Тоже мне радость, какая там по смету? 32-я, 33-я, 34-я? И что с того? Что мы ищем? Кому хотим доставить удовольствие? Ордану, который подкидывал нам сверхнатренированных Преследователей, чтоб мам ноги переломать? Я себя чувствовал просто смешным рядом с этой девчонкой, которая за всю жизнь и трех шагов при восьмиузловом стеше не сделала, но зато на своем корабле побывала там, куда мы вовек не дотащимся… Зачем все это? К чему эта собачья жизнь, прозябание извечного аскета-монаха, напыщенного, как индюк, от своих титулов и знамен. «Мы лучшие!» Да, это нам успели в головы втолочь. Ага, лучше обученные подчиняться, контровать, пока не сдохнем, пока не забудем, зачем идем… Антон Бергкамп был лучше меня. Эрга выбрали потому, что ом не был звездой. Даже Голгот, так и тот до своего брата не дотягивал. Пускай контруют, все равно не дойдут, так, что ли? Почему выбрали именно нас? Да потому, что у нас никогда не получится. Давайте, ребята, контруйте! Что бы ни случилось — вперед в контр! Да, в деревеньках мы, конечно, могли наделать немного шуму. А здесь что? Вежливость, сплошной политес и ничего больше! Я смотрел, как корабль тихо шел против ветра без каких-либо усилий. На какой скорости? В пять, в десять раз быстрее, чем мы пешком?
И эта девочка, подрагивающая на ветру в своем голубеньком свитерке, которая, может, ждала, что я заключу с в объятия… «А у тебя много было любовниц?» У меня была Аои, пару десятков ночей; охмелевшая Ороси пару раз, года три назад. Я хотел с ней чего-то серьезного, но они ничего не хотела. Каллироя еще, когда мы были подростками, ну так она с кем только не ходила. Я даже запал на Кориолис, как Ларко, как многие другие, за неимением лучшего, она мне быстренько дала понять, что я ее не
552
интересую. Ну и еще немного из подветренных, у которых я даже лиц вспомнить не мог, они покрывались пылью в заколоченном углу моего черепа…
— Никого у меня не было, Нушка. Ничего я не знаю про любовь. Я понятия не имею, что значит любить кого-то, кто любит тебя в ответ. Каково это — просыпаться рядом с кем-то, как ты. У меня никогда не было такого шанса. Я так никогда и не смог им воспользоваться.
Я не знаю, почему она это сделала, но она вдруг схватила мое лицо ладонями и поцеловала меня. Поцелуй был долгий, ее язык касался меня легко и нежно, и я больше не ощущал стекающие по мне капли дождя, палуба ушла у меня из-под ног. Ее губы были на вкус как сюрприз или фрукт, ее руки скользили по моим плечам так восхитительно сладко.
— Эй, вы, влюбленные, мы будем поворачивать по диагонали! Будьте так добры покинуть палубу!
— Уже уходим, Сервиччио, — ответила Нушка, не закончив поцелуй.
Матрос посмотрел на нее и игриво съязвил:
— Смотри-ка, скриб… Мадмуазель у нас теперь по элите специализируется!
Нушка только улыбнулась и, взяв меня за руку, прошептала:
— Пойдем, Софф.
π 
— Так-так, дети, давайте сосредоточимся и подведем итог: почему Орда должна пройти весь путь пешком, а не на корабле, как мы?
— Я! Можно я?
— Да, Ниначчиа.
— Потому что тогда они не встретят все девять форм ветра, и их Орда… ну не засчитается!
551
— Их Орду не
зачтут, правильно. И к тому же эти знания будут им необходимы на Верхнем Пределе, чтобы и кончить миссию. Так сказано мудрецами. А кто может мне сказать, сколько форм ветра Орда уже повстречала на своем пути?
— Пять!
— Шесть!
— Правильно, шесть. А можете их назвать в порядке возрастания?
— Зефирин, сламино, шун, стеш… и… кривец и ярветер!
— Очень хорошо. Умница, Ниначчиа! А теперь конкурс на скорость! Кто первый ответит — получит крылатый бумеранг с автографом Голгота.
— Ураааааа!!!
Учительница еще даже вопрос задать не успела, а детвора уже вскочила с мест. Голгот наконец расслабился. Думаю, этот нескрываемый детский энтузиазм даже и на него подействовал. Да и вообще всем нам это было как бальзам на душу.
— Какой ветер самый… сухой?
— Стеш! — молниеносно выкрикнул тот самый заводила, которого я недавно заприметил.
— Молодец, Антон!
— Какой ветер самый… влажный?
— Шун!
— Верно, Пирлути!
— Так, теперь посложнее. Как по-другому называется кривец?
— Стикин!
— Блиццард!
— Правильно, можно и так и так.
— И наконец, кто назовет три вида построения Орды, получит бросковый бумеранг с автографом Караколя.
550
Наступила мертвая тишина. Голгот подошел поближе к детям и подмигнул одному круглощекому мальчишке, который ждал вопроса, как я бы ждал ярветра…
— Когда Орда идет против очень сильного ветра, какие три типа контрового построения может выбрать Трассер для Пака?
Голгот незаметно стал рядом с кругляшом. Тот сначала выкрикнул «Капля», потом «Дельта», а потом вдруг замолчал…
— Очень хорошо, Романи. А последний?
— Диамант!
— Молодец, Романи! Отлично! Существует три основных контровых построения: контр каплей, дельтой или контровым диамантом.
— Но это нечестно! Ему дядя Голгот подсказал! — застонал какой-то мальчуган, но урок уже подошел к концу, шум и гам перекрыл его жалобу.
— На завтра вам задание на воображение. Слушайте внимательно! Тишина! Постарайтесь представить
три оставшиеся формы ветра, с которыми должна столкнуться Орда. Писать ничего не нужно. Это устно. Я выберу пятерых из вас, нужно будет рассказать перед классом, как вы себе их представляете. Хорошего всем дня и до завтра.
~ 
Ребятишки зааплодировали учительнице, а Голгот и Пьетро замерли как зачарованные. Урок был выше всяких похвал и в плане педагогики, и в плане душевной теплоты. Если бы меня учили с такой же любовью в Аберлаасе! Я не помню, чтоб меня когда-нибудь хвалили, подбадривали. «Каллироя! А ну бегом руки в угли!», вот это я помню, или как нас запускали в полдень в сухую, как стог сена, прерию, и пускали на нас огненную стену, а в руках одно негодное ведро, тоже помню. «Так, давайте не робейте!»…
549
Не будь со мной тогда рядом Ороси, не будь нашего с ней маленького сиротского кокона, который нам с таким трудом удалось сплести на корабле, что вез нас в Аберлаас; если бы не ее несгибаемая сила, которая всегда меня защищала, не давала мне плакать перед другими, если бы не ее необычайный и столь рано проявившийся ум, я бы сегодня тоже была как эти куски потухшего угля, которые бродят по Аберлаасу, одной из девчонок, вышвырнутых из элиты, которые так никогда и не придут в себя после провала. Большую часть из того, чему научил меня мой мастер огня, я так или иначе уже знала, по большей части потому, что с младенчества видела, как работает мой отец. Менелас Дейкун. Мне всю жизнь о нем говорят, куда бы я ни пришла: «А вы, должно быть, дочь Менеласа…». Да-да, я его дочь. Но я здесь
не благодаря ему! Я здесь благодаря маме, которая всегда поддерживала меня против воли отца и за его спиной. Для него всегда было немыслимым, чтоб ему на смену пришла девчонка. «Да что вы вообще в огне понимаете? Женское дело — вода!». Я в огне достаточно разбираюсь, папа, уж поверь. Я, может, сегодня знаю об огне побольше твоего. Благодаря Ороси, которая обучила меня ветру так мастерски, что тебе и не снилось. Благодаря Степпу, который открыл передо мной империю растений. У меня нет никаких точных знаний, абсолютной уверенности в чем-то. Я едва ли уловила необходимые жесты по части керамики и кухни. Я отказываюсь от звания мастера огня. Я — огница. Никто не может быть мастером огня, разве что какой-нибудь придурок, у которого яйца больше мозгов, из тех, которые себе рано или поздно сошмалят всю шкуру до костей. Ордонаторы меня все-таки кое-чему научили, стоит отдать им должное, они научили меня дисциплине, выдержке в беде и сопротивлению худшему. Вот чему. И это служит мне добрую службу.
548
Пусть раз в год, но служит. Хотя бы потому, что я до сих пор жива.
) 
«Сов, пойдем, там уже все собрались. Нужно определить Трассу, выяснить, что нас ждет дальше. Весь летный экипаж уже на месте», — настаивал Пьетро. «А мне что с того?» — отчеканил я в ответ. Нушка без труда заполняла всю мою душу, и ничего другого не могло в нее проникнуть в этот момент. Но ноги сами меня туда отвели… Я гулял по верхней палубе и, словно ведомый звуком голосов, оказался в маленьком амфитеатре. Он был как бы врезан в палубу, спуск в него шел под легким уклоном, и предназначался он главным образом для музыкальных мероприятий. Человек сорок расселись по рядам из полированного дерева. Коммодор изложил ряд трудностей, с которыми нам предстояло столкнуться, мало-помалу ему удалось подцепить меня на крючок, а потом и вовсе утащить за своей удочкой, и вот уже через каких-то полчаса от моего сплина не осталось и следа и я с головой нырнул в собрание.
— Сколько времени потребуется, чтобы обойти эту лужу? — спросил Тальвег.
— Согласно подсчетам контр-адмирала — месяцев четырнадцать-пятнадцать в обход по южному берегу.
— Болото не очень глубокое, но оно невероятных размеров.
— Мне кажется, я не совсем понимаю, — сказал Пьетро. — То вы говорите о болоте, то о какой-то луже… Если речь идет о простой луже, так почему не…
— Все не так просто, — взял слово коммодор и наконец развернул перед нами карту, которую до сих пор, по малопонятным мне соображениям, держал в стороне. — Вот, видите эту точку в низовье лужи? Это Порт-Шун.
547
А напротив, на другом берегу, — Шавондаси, более чем в 400 милях. Между ними проходит Прямая Дорога, с запада на восток, ровно по линии контра. Это самый короткий маршрут, когда есть самонесущее судно. Корпусные же парусники проходят севернее, в обход песчаных баров, на глубине, по Обычной Дороге. Она-то как раз и идет по озеру. А Прямая Дорога проходит по так называемой луже, которая редко где превышает несколько метров в глубину.
— Там много где проступает суша, иловые перекаты, наносы, островки, но все утопает в воде. И как только идет дождь, то любой намек на сушу полностью уходит под воду.
— Какую часть пути занимает суша? Половину?
— Около того.
— Сложно сказать. Лапсанская лужа — это действительно нечто очень необычное. Такой себе прототип «водозема», как говорят наши геомастера.
— Это что еще за водозем? — выплюнул Голгот.
∫ 
Я подмигнул посмеивающемуся Караколю. Тальвег нахмурил свои и без того глубокие морщины.
— Вода и земля. Вода повсюду, она обволакивает все земли, показывающиеся на поверхности, но ни вода, ни земля при этом не преобладают друг над другом. Это зона затопленная, но не подводная, слегка утопленная, если так понятнее. Достаточно трех солнечных дней, и сразу проступают целые острова суши, но только отдельными участками, суша никогда не показывается целиком, только кусочки архипелага повсюду. Это зрелище даже завораживает при полной луне. — Контр-адмирал на секунду замолчал, из его бороды показалась лукавая улыбка.
— Но вам не доведется испытать на себе центральное одиночество этого места. Вы пойдете по южному берегу
546
вдоль большого озера, место поприятнее, хотя и более заурядное…
¿' 
Как обычно, эта бесконечная фреольская надменность, пораздували тут свои паруса, это их вечное чувство превосходства, из любви поиграть на публику, из чувства сознательной свободы, которое сегодня меня скорее веселит, нежели питает: я слишком долго был таким же… Что эти Фрелики из себя вообще представляют? Да ребятня просто, хоть и подвижные, конечно, ловкие, никто не спорит, насколько ветер позволяет. Фанфароны средней элегантности, не могут удержаться, чтоб не взбаламутить своей иронией воду в ведре ордийской неосведомленности.
— Вы, конечно, решите, что я чокнутый, уважаемый контр-адмирал, — прозвучал вдруг голос Голгота. Он как раз встал и подошел к борту посмотреть на поле ветряков, повернувшись, намеренно то было или нет, спиной ко всем присутствующим.
— Я вас слушаю.
— Сколько миль, говорите, от Порт-Шуна до Шавондаси?
— Четыре сотни.
— Три месяца. С участками, где нужно идти вплавь, включительно…
) 
Он это произнес не поворачиваясь, но с явной силой в голосе.
— Следует ли понимать, что вы имеете в виду…
— Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.

545
π 
Это не было провокацией со стороны Голгота. Во всяком случае судя по интонации. Голос его не дрогнул. Я так и застыл от невероятности услышанного. Я перевел взгляд на Тальвега, тот смотрел на Степпа. Все мы были ошарашены, как от удара молнии.
Взять слово наконец решил коммодор:
— Не сочтите за неуважение, девятый Голгот, но вы не отдаете себе отчет в том, что говорите. Чтобы пересечь лужу, необходимо месяцами идти по пояс в воде, по волнам, и это если не придется плыть в полный шторм. При сильном ветре волны там могут достигать трех метров! А питаться чем вы будете? А как прицеп тащить собираетесь?
— Будем рыбу ловить.
— Вы когда-нибудь пробовали плыть в шторм?
— Мы не пробовали, мы плыли.
— Вы себе отдаете отчет в том, что там могут быть лагуны в двадцать миль шириной, плюс шторм, постоянный шторм, который вас все время будет сносить в низовье! Как вы рассчитываете это переплыть?
— Вплавь.
— Без отдыха, без еды, плыть днями напролет?
) 
Контр-адмирал подошел к Голготу поближе, словно намереваясь удержать его, чтобы тот не прыгнул через борт. И продолжил вместо коммодора:
— Я думаю, вы не вполне представляете себе Лапсанское болото, что совершенно естественно. Это пустыня, пустыня из воды и земли! Почти никакой растительности, лишь изредка попадаются илистые островки, на которые обрушивается то ветер, то дождь, то снова ветер и так до бесконечности. Мы пробовали пришвартоваться, чтоб немного пройти по островам, но в большинстве случаев там песок настолько влажный, что в нем вязнешь, как в иле.
544
Ботинки потом не достать! Одного из наших матросов, Тиасму, пришлось веревкой вытаскивать, его по грудь засосало в зыбучие пески, еще бы пять минут — и не было бы матроса. Это проклятое место!
— Если только вы не планируете пересечь его на плоту или на лодке. Тогда, может… — добавил коммодор.
— Это невозможно, — отрезал Голгот.
— Почему невозможно?
— Потому что мы не имеем права использовать какие-либо средства передвижения на нашем пути, вы прекрасно это знаете. Таков Кодекс Орды. В контре может участвовать только тело. На ногах, на руках, ползком, вплавь, да как угодно, но только при помощи собственного тела.
— Разумеется.
Повисла тишина. Контр-адмирал и коммодор явно больше не знали, какие еще доводы привести. Они смотрели на нас в поисках поддержки.
В разговор вступил Пьетро:
— Должен признать, твоя идея совершенно… внезапна. (Пауза) Но если она осуществима, то мы выиграем год времени. Уже хотя бы поэтому ее стоит рассмотреть.
— Что здесь рассматривать? — взорвался коммодор. — Вы утопиться хотите? Хотите пойти на дно от голода и усталости или чтоб вас живьем в пески засосало? Вперед! Давайте, прыгайте с борта в первую лужу и контруйте себе на здоровье! Да из вас ни один живым не останется, вы и мили пройти не успеете.
— Мне помнится, намедни вы говорили об островах, что тянутся по болоту, — вдруг вставил Караколь с улыбкой. — Да и дно все одно. Иль скажешь, что оно камнями поросло, да так быть вроде не должно, коль помню хорошо. Так вдоль архипелагов не сможем ли просеменить, чтоб нам не плыть?
543
На этом терпение хозяев корабля лопнуло:
— Послушайте, мне кажется, нам пора вернуться к подготовке праздника. Мне очень жаль, что мы не можем более продолжить наш разговор, но я надеюсь, сытный ужин вернет вас на более реалистичный путь.
Коммодор и контр-адмирал поспешно попрощались и вышли, оставив нас в амфитеатре. Голгот продолжал нарезать круги, потом поднялся на полубак и облокотился на борт, подставив лицо ветру. Вся Орда последовала его примеру, ведомые, как всегда, этим назойливым впечатлением, что нам как будто не хватало воздуха всякий раз, когда мы слишком долго оказывались в укрытии. К несчастью, ветер стих так же быстро, как опустилась ночь, и только трава шелестела по корпусу корабля. Сокольник выпрямился и крикнул назад своего кречета.
— Да это же просто безумие, — наконец выговорил Ларко, подтягиваясь к нам.
Судно слегка раскачивалось влево-вправо. Он размотал свой веревочный пояс, обмотал им столб. На другой конец привязал свою летающую клетку и стал поднимать ее в воздух.
— Год мы, конечно, выиграть можем, — продолжил он, — но если это чтобы половину Орды потерять…
— На Норске нам понадобятся все, весь Блок, — поддержал ястребник.
— А ты что думаешь, Карак? Ты один это болото видел.
Караколь, ни секунды не думая, принял тон беззаботно серьезный, отчего все сразу расслабились:
— Я думаю, что Фреольцы, как обычно, преувеличивают. Если нас не подведет удача и чутье, господа, то можно будет нанизать архипелаги в цепь и не шлепать особо по болоту. Особенно по краю озера. А вот что касается центральной части, то тут, однако, дело выглядит иначе… Там омут тянется больше чем сотню миль…
542
— А суши совсем нет?
— Есть только отроги и выступающие из воды скалы. Главная проблема в волнах,
натурляк. Придется лезть на скалы, по возможности не покалечившись, и отсиживаться там, пока не натанцуется бурун.
— Ты себе примерно представляешь, с какой скоростью мы сможем плыть? — поинтересовался Пьетро.
Я тоже хотел задать этот вопрос.
— Плыть по волнам — дело не столь сложное, как вы себе решили, по крайней мере до восьмерки, ну а там-с, когда начнут на вас катиться горы с моря, уж лучше будет заземлиться и залечь…
— Карак, ну хватит уже!
— Ладно. Нас будет все время штормить на волнах, так что морской болезни нам не избежать, но к этому тоже можно адаптироваться. Так вам больше нравится? В общем, если срезать волны по кромке, то, думаю, милю в час можно проплыть, при нормальном ветре. Но плыть сможем не более четырех-пяти часов в день, потолок! Ясняк?
Голгот, который уж никак не рассчитывал на такую поддержку, пусть даже ироническую, а со стороны Караколя так и подавно, не смог не добить вслед:
— Если в худшем случае представить себе двести миль вплавь, то получается пятьдесят дней в воде. Ну и плюс часть по суше…
— Плюс дни на застрять, на заболеть, на прийти в чувство…
— Три месяца. Я так и сказал.
π 
Три месяца! Да он в своем уме? Три месяца в воде! Я окинул взглядом лица остальных ордийцев и понял, что должен что-то сделать, хотя бы попытаться:
541
— Что скажут фаркопщики? — переведя разговор, обращаясь к Свезьесту, Барбаку, Кориолис, те стояли бок о бок, словно сбились в клубок на куче тросов. — Вы плавать умеете?
— Немного, как все.
На их лицах был страх, каждый ждал, что другой что-то скажет. Ветер метал по лицу Кориолис прядь волос, прикрывая то голубизну ее глаз, то красные полуоткрытые губы. Вырвавшийся из них голос старался быть невозмутимым:
— Сани нужно будет тащить тоже вплавь?
) 
Все обернулись к Голготу, стоявшему к нам спиной. Он бросал охотничий бум по кромке травы, короткой дугой, хватая его резко, сухо. И снова Караколь взялся за дело:
— Ну так что, Гот? Кто потащит сани?
— Никто. Мы все оставим здесь.
— А как же подарки, письма, личные вещи? — запротестовал чуток не в тему наш добродушный старина Силамфр. Но было слишком поздно.
— Да что вы заладили как девчонки, елы-палы. Зафигачите ваши безделушки в ящик, и отправим в Шавондаси на первой посудине, что будет по пути! С собой тащить ничего не будем, ясно?! Каждый берет свой бум, нож, миску, да по спальнику. Все. Точка. Все это дело в гермоведро и вплавь за собой на веревке. Вы что решили? Что мы год сэкономим, по полям гуляя? По лагунам плескаясь? Будем отпахивать как никогда! Будем как покрытые плесенью водяные мешки, подыхать от холода, спать на кучке камней, пожираемой волнами. Все будет мокрое, вонючее, на солнце молиться будем. А сверху будет лить беспросветно, в труселя вам заливать, пока задницы ваши отогретые не
540
продырявит! Три месяца! Даже сопли пускать побоитесь, чтоб еще больше воды в воду не добавить. Это Лапсанское болото, а не голубой залив, вы, кучка носильщиков. И вы мне еще про
комфорт говорить будете? Мне отец об этом болоте рассказывал, когда мне три горшка от вершка было. Акваль, говорил. В моем роду мы знаем каждый чертов клочок этой чертовой плоской земли. Никто из вас никогда больше часа за раз не плыл. У нас руки слабые, мы дышать в воде не умеем, и вы еще хотите тащить с собой по волнам плот, набитый побрякушками, дурацкими письмами и какими-то книжонками?
π 
Я постарался продолжить обсуждение по кругу.
— Близнецы, вы почему ничего не говорите?
Горст и Карст одновременно подняли головы. Они играли горсткой камушков, разложенных на паркете, поглощенные своим детским миром, счастливые, как всегда, и, как всегда, согласные.
— Без проблем, Пьетро. Мы воду любим, правда, Карст?
— А то.
— Чем раньше доберемся до Норского перевала, тем лучше.
— Птичники, а вы что скажете?
— Прошу прощения, что против течения, друзья, но лично я против. Лапсанское болото — это без меня.
— Из-за птиц?
— Из-за всего. Нашего трубадура послушать, так можно подумать, мы на пляж собираемся. Немного поплаваем, потом отдохнем, потом еще пройдемся и — оп! — через три месяца мы уже в Шавондаси! Не хочу тут светить своими и так небогатыми знаниями в истории, но кто-нибудь здесь знает, сколько Орд прошло через болото? Сколько осмелилось его пересечь? А, Голгот?
539
— Ну было немного… у кого яйца покрепче…
— А в живых сколько осталось?
Голгот как будто плавал в своей праздничной рубахе. Он убрал бум за спину и облокотился на фальшборт, делая вид, что у него все под контролем:
— Не знаю. Не так много.
— Ни одной, — просто ответил на это ястребник.
И принялся перечислять со всей последовательностью и строгостью, присущей ему в суровых обстоятельствах:
— Первую Орду, которая рискнула пойти на переправу, нашли на дне высохшей лагуны, почти в полном составе, милях в десяти отсюда. Она вся кишела червями. Это было четыре столетия назад. Вторую, поосторожнее, если верить сказителям, видел какой-то рыбак в пятидесяти милях от Шавондаси. Он пытался их предупредить, что на них идут две островомедузы. Но они, по всей видимости, были совершенно обессилены, плыли уже несколько часов, а может и дней, как бы там ни было, рыбака они не услышали. О третьей ничего неизвестно, просто испарилась. Что с ними случилось? Погибли от истощения, от голода, от холода? А может, на них напали? Кто это знает? Четвертой повезло не больше — если на Лапсане вообще можно говорить о везении, — эта напоролась на акваль в центральной зоне. Это по официальной версии, но можно подумать, это кто-то пойдет проверять.
— Аква… что?
— Пятая Орда, которая решилась на прямую переправу, достаточно известна, ее все знают, Орда первого Голгота. Им хватило сообразительности дождаться сухого сезона. Они прошли три четверти пути и потеряли семерых, несмотря на так сказать благоприятные условия, а потом поднялся ярветер. Говорят, что рядом с ними оказался достаточно высокий песчаный остров. Им удалось к нему
538
подобраться, они хотели спрятаться, но ветряные валы были настолько сильные, что остров пробивало насквозь. Тогда Голгот Первый решил спуститься в воду с пятью привязанными ордийцами. Он посчитал, что в воде будет все же проще выжить. Те, кто остался на острове, погибли. Наверняка захлебнулись песком. Голгота и его ребят отнесло валами на три сотни миль, ровно к нижнему берегу. В живых остались только Голгот, Арриго делла Рокка — предок Пьетро — и Спрат Генстей, превосходный пловец. Они наняли человек двадцать в Порт-Шуне и пошли заново, на этот раз в обход по южному берегу.
— И погибли в Долине Онстро…
— Совершенно верно.
— А шестая Орда? Орда четвертого Голгота?
— В сифон попала, — явно без удовольствия ответил Голгот.
— Куда? — крикнули хором близнецы.
) 
Может, это рассказ ястребника на меня так подействовал, но я встал, и почти вся Орда поднялась вместе со мной. Я повторил вопрос близнецов:
— В сифон?
Ни Голгот, ни ястребник, ни даже Пьетро, который не мог не знать историю своих предков, отвечать явно не торопились. Они стали переглядываться, словно перебрасывая ответ из рук в руки, как раскаленный уголь, который никто не решается схватить. Караколь отважился первым, но даже он выглядел как не в своей тарелке:
— Это, детишки, своего рода хрон, который может всплыть откуда ни возьмись, если есть достаточная глубина. Фреольцы, которые тут вечно слоняются, такие часто видят. Они, как правило, бывают метров тридцать в диаметре, и лучше у него на краю не оказываться…
537
— Да
что это вообще такое, шун возьми?
Караколь поскреб паркет ботинком и поднял голову.
— Огромная дыра, пропасть. Как круговой водопад, что ли. С вертикальными стенками, которые засасывают все озеро. Сверху выглядит как идеальный цилиндр, выточенный прямо в поверхности воды. Вот только дна никто никогда не видел…
— Как это?
— По тем редким свидетельствам воздушнозмейников, которые у нас имеются, дно намного глубже, чем можно себе представить, судя по размерам озера. Оно уходит в бесконечность. Но, возможно, это эффект хрона, эффект времени.
— И что будет, если мы окажемся в это время в воде?
— Не нужно в это время оказываться в воде, Ларко…
Волна холода, поднявшаяся от речи ястребника, превратилась в морозное оцепенение.
— Раз уж мы дошли до приятных сюрпризов, — начала Кориолис, — и вы тут все, кажется, в курсе что к чему, может, кто-нибудь потрудится нам объяснить, что такое
акваль?
Но ответить так никому и не пришлось, так как в это время снова появился коммодор, у которого вновь появилась улыбка на лице:
— Уважаемая Орда, ужин подан в зале. Не почтите ли вы нас своим присутствием?
π 
Голгот кивнул в ответ, и мы спустились вслед за коммодором по внутренней лестнице, ведущей в зал. Как только вошли, из глубины помещения на нас посыпались смешки.
— И ты себе представляешь этого толстяка Голгота в воде? Как он плыть-то будет, ха, ха-ха-ха?
536
— Тихо вы! Это же наши будущие мученики! — заорал какой-то молодой Фреолец, слегка охмелевший, хотя и не настолько, как его товарищ, который наше появление вообще не заметил. — Погибшие на поле грязи! Лапсанское болото на своих двоих! А чего тогда уже не на одной? Да у вас вообще
сифон поехал?
Смех загремел со всей силы.
— Эй! Да вы не стойте с такими кислыми минами, мы уже сто лет не видели Орды с
закалкой, как у моржа! — продолжил задирала.
Но то, что случилось ровно в этот момент, быстренько прихлопнуло все это веселье.
Никто не видел, ни как он его обнажил, ни как он его запустил, — во всяком случае не я. Я стоял сразу за ним. За Голготом. Из двух бумов, скрещенных у него за спиной, остался только один — игровой. А через весь зал одним броском полетел другой — охотничий. В месте, откуда только что раздался едкий комментарий в его адрес, стал образовываться круг. А в центре крута был человек. Сидящий с открытым ртом. И с закрытым одновременно. Бумерангом. Было бы даже смешно, если бы матросик словил его зубами, как пес хватает палку на лету. Но бум застрял в открытом рту, углом к горлу. Полоска губ была прорезана по обеим сторонам, и не на пару сантиметров. Он не мог говорить, и никто не решался вытащить лезвие. Насколько знаю Голгота, тот тщательно рассчитал бросок. Иначе у матроса больше не было бы ни щек, ни лица вообще. И было абсолютно точно, что Голгот целился именно в рот, не в горло. Иначе не было бы матроса в принципе.
Голгот прошел через весь зал в тишине, как в безветренный день, и достал бум одним рывком. Кровь текла у матросика по зубам, капала на скатерть. Но Трассер смотрел только ему в глаза:
535
— Мой отец меня вышвырнул, когда мне исполнилось пять, чтоб отправить в Аберлаас. Но до этого все-таки успел кое-чему научить: уважать свое имя. Перед моим именем есть только одно прилагательное, которое я согласен слышать: «девятый». Я бы мог тебе одним ударом всю кровь выпустить, щенок, но я старею. И надеюсь, что ты тоже достаточно долго проживешь, чтобы всю жизнь помнить мое имя. И если через пару месяцев меня высосет акваль, и ты найдешь где-нибудь на пляже мешок из моей кожи, с татуировкой карты моей жизни на спине, то возьмешь и приколотишь ее в своей долбаной каюте на стену! Может, тебе от этого хоть немного станет яснее, что такое мужество.
¿' 
Ужин прошел в семибалльной тишине, поостыв до 8-ми к десерту, когда экипаж поднялся весь, как по команде, и покинул зал. Контр-адмирал подошел к Голготу принести свои извинения от имени командования и сообщил, что раненый матрос получил медицинскую помощь и посажен в кандалы. Черт его дери!
π 
Может, наказание здесь было и излишнее, но сам принцип меня скорее удовлетворил. Меня раздражала эта фреольская наглость, их манера систематически нас высмеивать. Я всегда рад шуткам. Но не когда контр опускают до понятия банальной прогулки против ветра. Ни один из наших кодексов, взятый отдельно, смысла не имеет. Важна высшая связующая логика, основа формирования, которая пронизывает их насквозь. Она заключается в преодолении усталости и изнашивания. Она исходит из самой природы ветра, который выделывает наши тела, как дубильщик шкуры. Что касается дисциплины, то мы придерживаемся только того, чего требует контр. Никогда
534
не ослаблять контр навстречу потоку. Никаких историй в строю, которые могли бы навредить всему Блоку. Фронтальная часть — не иерархия, это необходимость. Когда мы идем круто к ветру, то раскрываем шире треугольник, чтоб прикрыть фланги. Ребяческий кодекс? Строгая дисциплина? Скорее, просто уважение к ветру. Фреольцы не уважают ветер, они им пользуются, эксплуатируют его. Они его направляют в нужное им русло, перерабатывают. Для них ветер — сырье, податливый и послушный товарищ. Для нас же он враг, с которым предстоит столкнуться. Он держит нас на ногах. Заставляет стоять ровно. Он нас формирует.
Наша разница с Фреольцами велика и непримирима. Наша империя — встречный ветер. Никто так хорошо не чувствует волокна, из которых состоит поток. Никто так не умеет считывать его слабые места, как мы. Мы найдем все девять форм ветра и сделаем это не случайно, а потому, что непременно будем в центре потока, когда появится девятая форма. Можно до бесконечности строить теории на тему завихрений, стабилизировать кильватерный поток, выстраивать схему завитка. Фреольцы это делают с вызывающей уважение тщательностью. Но ни один из их инструментов не сможет классифицировать форму ветра. Для этого нужно быть погруженным в ветровой поток всем телом. Не сверху, наблюдая с корабля или аэроглиссера. Не выглядывая из-за укрытия. Внутри! Всей плотью. Вот, например, Фреолец ни за что не уловит разницу в скорости между сухим сламино и мягким стешем. Анемометр и гигрометр дадут одинаковые показатели в обоих случаях. А мы их различим хоть с закрытыми глазами: по изгибу, по размаху новых потоков, который присущ стешу, по тому, как сохнет пот на лицах. Соляная стружка
— значит, стеш. Немного щиплет кожу — значит, сламино. Вот так. Обзы-
533
вайте нас пешеходами, ползунами, горсами на двух ногах. Смейтесь над нашими простецкими приемами. «Устаревшая каста», слышал я вчера. И, конечно, продолжайте считать, что мы завтра будем выглядеть бесполезно по сравнению с вашими развивающимися технологиями…
Контр-адмирал подхватил Голгота на выходе из зала:
— Девятый Голгот, позвольте вернуться к нашему неоконченному разговору.
— Пожалуйста.
— Поверьте, я никоим образом не хочу повлиять на наше решение. Переплывать озеро или нет — часть вашего пути, и именно вы, как никто другой, знаете возможности вашей Орды, как и их предел. Я все же считаю своим долгом предоставить вам все, что имеется в моем распоряжении, чтобы вы могли сделать выбор с полным пониманием особенностей места и опасностей, которые заключает в себе Лапсанское болото.
— Разумеется. И как?
— Вместо того, чтобы раскладывать перед вами карты местности, которые никогда не отражают ее актуального вида, или же донимать вас нескончаемыми перечнями утонувших, предлагаю отвезти вас на место.
— На болото? Как? На корабле?
— Само собой. Мы всего в дне контра от Порт-Шуна…
— Всего в дне! Для нас это…
— Две недели…
— Да, — выдохнул Голгот, раздумывая. — Контр-адмирал, я, откровенно говоря, не хотел бы злоупотреблять вашим гостеприимством. Нашу дикую натуру сложно сдержать в рамках. Вы сами в этом только что имели повод убедиться. Вы устроили нам изысканнейший прием, такое редко встретишь в городах, где мы бываем. Мы резки на поворотах, но все-таки достаточно образованны,
532
чтобы не быть неблагодарными. Ваше предложение мне, конечно, крайне интересно. Мы таким образом могли бы просчитать трассу, протестировать отмель, попробовать проплыть контром, ну, в общем, немного подготовиться…
— Так, значит, вы согласны.
— … Да.
— В таком случае мы отчаливаем завтра на рассвете. Пусть желающие присутствовать при маневрах попросят их разбудить. Остальные могут отдыхать до полудня. Мы будем в Порт-Шуне к концу дня. Послезавтра вы сможете начать вашу ориентировку. Сколько времени вам, по-вашему, понадобится?
— Сколько времени вы можете нам выделить?
— Сколько вам будет необходимо. Легкая эскадра сделает все возможное, чтобы обеспечить вам все шансы на успех. Я никогда себе не прощу, если буду виноват в гибели Орды. И уж тем более вашей!
— Почему?
— Потому что я знаком с вашими родителями. Потому что вы на три года обогнали лучшую в истории Орду из ваших предшественников. Потому что я никогда не встречал человека, способного выстоять под тремя тяговыми винтами. Да даже под двумя! Потому что вы безумны, но сплочены, и если есть на свете Орда, которой под силу одолеть Норский перевал и дотронуться до конца этого мира, то я хочу быть среди тех, кто к этому причастен.
— Благодарю вас, контр-адмирал.
) 
Глаза Голгота заблестели. Но, наверное, все-таки меньше моих. «Сплоченные». Мне всегда нравилось это слово, хотя я больше не был уверен, что мы его заслуживали. Когда мы поднимались на палубу, контр-адмирал Сигмар попросил Пьетро пройти с ним в каюту. Я думал
531
о том, где сейчас может быть Нушка и постучит ли она в мою дверь сегодня ночью. Я дико этого хотел.
— Я хотел переговорить с вами тет-а-тет, князь. Я крайне уважаю вашего Голгота, но должен поговорить с вами наедине. Как вам известно, я имел честь познакомиться с вашими родителями.
— Да.
— Они пытались пересечь болото.
~ 
Ребятишки заметили, как мы с Аои гуляем по вельду, и стали дружно нас окликать, но когда поняли, что мы не подойдем, стайка малышей оторвалась от остальных и они со всех ног подлетели к нам, кто своим ходом, а кто вприпрыжку, уцепившись за наспех сооруженных воздушных змеев. Для шестилетнего возраста они поразительно ловко умели обращаться с этим зверем.
— Тетя Гница, тетя Гница, помогите нам!
—
Огница! — ласково поправила Аои, но дети уже вовсю щебетали вокруг, так что ничего не было слышно, подпрыгивали и толкались от нетерпения…
— А в чем вам помочь?
— С заданием на завтра. Нам нужно сдать сочинение!
— О трех последних формах ветра. Найти те, которые мы еще не знаем.
— Даааааааа!
— Но это же, кажется, вы сами должны придумать, не так ли? Как думаете, что это может быть? Мы знаем горячий ветер, легкий, холодный, влажный, резкий…
— Ну мы не знаем, мы же на корабле живем!
— И мы тоже не знаем, — засмеялась Аои. — Никто на свете не знает. Нужно постараться придумать…
Но детишки такую удачу из рук выпускать не собирались. Им попалась «чаровница» и «та, что ест огонь», и дать им просто так сбежать никто не собирался.
530
— Это вы знаете. Вы все знаете! Вы всю землю пешком прошли!
— Вы видели такое, что никтошеньки не видел!
— Да, хроны и всякое такое!
— А вы уже видели хроны, дети?
— Да, я видел сразу два вместе! Огромные, как наш корабль. Они были из камней, но двигались как вода. Птицы в них залетали, — и хлоп! — с другой стороны вылетали одни скелетики. Честное слово!
— Ой, было так страшно, у меня даже воздушный змей задрожал!
— Ну ладно, ладно, верю. Так что же вы думаете про формы ветра? У кого какие варианты?
— Может, это хроны?
— Возможно, допустим. Одна идея есть. Кто еще?
— А я думаю, что есть суперсильный ветер, который как из стали!
— А я думаю, из огня!
— Ветер-пламя, значит? Длинное пламя, которое пронесется по всей земле?
— Ну да!
— А вот я думаю, что девятая форма — это ветер, который будет дуть наоборот!
— Как это наоборот? Который будет дуть с низовья к верховью?
— Ага!
— Оригинально, интересная мысль, мне нравится. Если бы ветер толкал нас в спину, было бы очень здорово.
— Да-да, вы бы тогда не тащились как черепахи, а шли быстро-быстро, как мы! И вам бы тогда было легче идти!
Аои все время улыбалась, она смотрела на этих невероятных ребятишек, с растрепанными на ветру волосами, фантастически толстощеких, они хватали нас за руки так
529
естественно, как будто мы были их сестрами, мамами… Мамами… Им было столько же, сколько моему сыну, когда Орда забрала его у меня. Мне было тридцать. С тех пор прошло уже семь лет. Я знаю, что он хорошо окончил класс земли, потом класс железа, был лучшим в классе раскаленного угля и снова лучшим в классе пламени. Последние «свежие» новости о нем были два с половиной года назад, от Глиссеров. Это были самые надежные и самые быстрые контровые корабли на сегодня. Вот так вот: им нужно два с половиной года, чтобы добраться до нас из Аберлааса. На лучшее пока надеяться не приходится. И дальше будет только дольше, а как иначе, раз мы все время удаляемся? Учеба Сорена заканчивается в этом году. Если он справился. Если не обгорел до третьей степени при управлении расплавленным потоком. Если выдержал этот абсурдный и бесчеловечный экзамен по лесному пожару, который сдается в конце класса огня. Сорен. Я думаю о нем каждый день, я стараюсь быть рядом с ним, подбадривать его каждый вечер перед сном… Иногда я рассказываю ему о себе, иногда даю советы, делюсь секретами, как сдать экзамен. Он меня целует, бросается ко мне в объятия…
Но жестокая правда заключается в том, что я начинаю забывать сына. В его лице все больше пустых мест. Его черты, должно быть, так изменились, повзрослели. Я даже не уверена, что узнала бы его, если б он вдруг пришел… Аои улыбается мне. Она знает, в какие мысли меня унесло. Смотрит на мальчишку лет пяти, тот замерз и кутается в мою юбку. Ее мальчики тоже далеко, один подмастерье на воздушных приисках, где-то посреди плато Бриффо, другой — в Ловодин. Они никогда не будут принадлежать Орде, она сделала этот выбор за них. Быть может, когда они подрастут и наберутся смелости, то сядут на скоростной контрас и проделают путь в два десятка тысяч
528
километров по линии Контра, чтобы увидеть маму. Скажут ей: «Привет». Поцелуют ее. «Привет, мама!». Своего я больше никогда не увижу. Если только он все не провалит. О боже, как бы мне хотелось, чтобы он все провалил. И, может быть, тогда он простит меня и скажет: «Мама сделала это за меня, она ждет меня там, наверху, я должен ее увидеть, чтобы сказать, что она молодец, чтобы шла дальше, давай, мама, я люблю тебя, иди до самого конца света со своей Ордой, я так тобой горжусь!».
< > 
Каллироя вдруг резко отвернулась от детишек и подставила лицо ветру.
— Что с вами? Вы плачете?
— Ничего, все в порядке…
— Почему вы грустная?
Калли не ответила. Она отошла в вельд одна, не оборачиваясь. Дети смотрели, как она уходит вдаль по высоким травам, и ничего не решались сказать. Ее тонкий силуэт с волосами песочного цвета будто дрогнул на ветру и потом совсем исчез, как пламя задутой свечи.
— Почему она плачет? Почему она такая грустная?
— Пойдемте, дети, я вас отведу назад на корабль. И мы придумаем еще целую кучу форм ветра!
— Ураааааа!!
π 
Кабинет контр-адмирала был освещен в четырех местах из стеклянных ниш, встроенных в стены. В каждой горело по обдуваемому огоньку. Из небольшой заслонки в нишу методично падали веточки и кора для поддержания пламени. Я вскоре понял, что это сам контр-адмирал управлял процессом.
— Кто вам все это рассказал?
— Ваш собственный отец. Арриго делла Рокка.
527
— Просил ли он вас мне передать какой-либо совет?
— Он оставил запечатанное письмо. Вот оно. Сказал, что в письме все указано: трасса, по которой они шли, расположение сифонов, островомедуз, основных островов…
— Почему вы не хотели, чтобы Голгот участвовал в этом разговоре?
Контр-адмирал встал и нажал на рычаг, весь пепел тут же ветром засосало наружу. Новые веточки упали в пустую нишу, и сразу вспыхнул новый огонек, осветив желтым светом лицо контр-адмирала.
— Голгот не обладает ни вашим терпением, ни вашей мудростью. Он уже заранее решил, что пойдет на переправу, каковы бы ни были риски и опасности, которые мы укажем при ориентировке. Или я неправ?
— Нет, вы совершенно правы.
— Он совершит те же ошибки, что и его отец, только хуже. Прямая Дорога существует для кораблей. Отправиться по ней вплавь равно самоубийству. Вы представляете себе заплыв в пятьдесят миль длиной без единого островка, где можно было бы передохнуть, поспать? Вы единственный, кто может на него повлиять. Именно поэтому я хотел поговорить с вами.
— Я благодарен вам за вашу доброжелательность, контр-адмирал. Если позволите, я хотел бы задать вам другой вопрос.
— Слушаю вас.
— Как я оповестил вас сегодня утром, один из членов к: кадры, некий Силен, был убит сегодня ночью в одиночном поединке с нашим защитником, Эргом Махаоном. Как выяснилось по нашим источникам, Силен принадлежал к Движению Преследования. Известно ли вам что-либо о Преследователях, контр-адмирал?
— Мне знаком
миф о Движении Преследования…
526
— Как вы можете объяснить тот факт, что одному из Преследователей удалось стать членом вашей эскадры без вашего ведома?
— Что вы хотите этим сказать?
— Два по меньшей мере невероятных обстоятельства наталкивают меня на некие размышления. Во-первых, наша встреча посреди чиста вельда. На полосе шириной более чем в сорок миль вы появились ровно на той полумиле, где мы контровали через степь… Похоже на чудо, не находите? При этом вы не только каким-то образом нас рассмотрели в зарослях травы выше метра в высоту, но и еще успели притормозить заранее, чтобы остановить корабль точь-в-точь рядом с нами…
— Умение маневрировать — наша профессия, прошу не забывать!
— Во-вторых, присутствие Преследователя в вашем экипаже, как и вся его атака, выстроенная, начиная с игры в факел, которую организовали именно вы…
— Боюсь, что вы переступаете черту, князь…
— Я не преступаю черту, контр-адмирал, я ее устанавливаю. Чтобы вам было известно, где находится ваш периметр, а где начинается мой. «Миф» о Преследователях, как вы его называете, погубил чуть ли не каждую вторую Орду с момента их существования. Наш защитник ранен и находится сейчас в кабине вашего корабля и, возможно, рискует в любой момент попасть в очередную ловушку
вашего экипажа, тут мы не можем сказать наверняка. Достаточно ли ясно я излагаю свою мысль?
— Продолжайте…
— Вы со всей элегантностью предлагаете нам предоставить ваш корабль в наше распоряжение, чтобы исследовать болото. Прекрасно. Вы советуете нам маршрут. Замечательно. Изолированный пловец — идеальная мишень
525
для любого, у кого есть корабль. Какие гарантии конфиденциальности у нас будут относительно трассы, которую мы в конечном итоге выберем? Какая уверенность…
— Простите, что прерываю, князь. Вы, кажется, погружаетесь в паранойю, которую, конечно, можно помять, но она здесь совершенно неуместна. Я не знаю о Преследовании ничего точного и тем более имеющего почву под ногами. Я, как и многие Фреольцы, слышал массу противоречивых вещей на этот счет. Я не имею возможности устраивать расследование о каждом матросе, которого принимаю в команду. Вы говорите, что Силен был из Преследователей. Я верю вам на слово, за неимением фактов, которые могли бы это опровергнуть. Вы говорите, что переживаете за конфиденциальность трассы. Могу заверить вас в таком случае, что ни я, ни мой экипаж не будем принимать участия в ваших совещаниях. Мы покажем вам максимум возможных зон и маршрутов. Вы выберете подходящий в полном секрете. Мое предложение заключается в том, чтобы предоставить вам возможную помощь. Раз мы вызываем у вас такое недоверие, то просто сойдите с корабля и давайте на этом попрощаемся!
Рядом с письменным столом стояли две статуэтки на подставке. Они ничего не символизировали, это было просто нагромождение крохотных винтов и беззвучно крутящихся деревянных шестеренок. Я сменил тактику:
— Так что вы знаете о Преследователях?
— Ох, ну что они действуют под командованием одной из фаланг Орды напрямую из Аберлааса. Что они якобы опираются на элиту из тех, чьи дети не прошли финальный отбор. Что у них есть свои контакты в каждом селе, доносчики среди Диагональщиков и на воздушных приисках, посредники среди нас… Что они будто бы готовят разбойников, создают хроны и даже автохроны, у которых
524
развито рефлексивное сознание, — можно подумать, что мы в далеком будущем. Что они с самого начала полагаются на двух предателей среди самой Орды. Ну, в общем, вы сами видите: возможное и невероятное и вообще непонятно что.
— И кто эти два предателя по вашим слухам?
— Я слышал имя Караколя много раз. Но и ваше тоже слышал, и Ларко Скарсы, и вашей сестрички Альмы Капис, и Эрга Махаона, вашего защитника… Всех подряд, без каких-либо оснований, это полная ерунда!
— Мой отец верил в Преследование?
— Я не знаю, мы об этом не говорили.
— О чем вы говорили?
— В основном исключительно о вас и о вашей Орде. Он вами безумно гордится. Он уверен, что у вас есть шансы пройти Норский перевал. Восьмой Голгот так отнюдь не считает, к слову. Он думает, что его сын — упрямый балбес, что он контрует слишком быстро и плохо. Его разъедает гангрена зависти, отвратительный человек.
— Хуже, чем его сын?
— У них одинакового размаха гордость. В остальном ничего общего. Мне лично ваш Голгот очень нравится, между нами говоря. Он сам себя создал, создал свою трассу, и в этом его честь. Он не старается понравиться кому бы то ни было. Но он человечен.
— Мне очень не хватает отца и матери…
— Для вас троих будет немыслимое счастье наконец увидеться. Будьте сознательны, откажитесь от болота, когда поймете, каково оно, хотя бы ради них.
— Мы об этом подумаем. С вашей помощью.
Я собирался было встать, когда он достал медную бутылку из ящика стола. Атмосфера снова наладилась, мы понемногу друг к другу привыкали.
523
— Не уходите, не попробовав это чудо! Скоро начнется небольшой праздник на верхней палубе, ваш трубадур взял на себя роль ведущего.
— Я был не в курсе. Отлично! К счастью, у нас есть Караколь. Мне ощутимо стыдно за нашу необразованность в некультурность. Мы не в состоянии ответить никаким талантом на ваш изумительный прием.
— Вы подарили нам прекрасный птичий поединок и позабываемую презентацию вашей Орды.
— Благодаря Караколю, опять же! Вы знали его раньше?
— Разумеется. Его репутация раскатилась вплоть до Аберлааса. Ему нет равных. На мой взгляд, он остается лучшим…
— Лучшим сказителем?
— Лучшим трубадуром в широком смысле этого слова. Он хорош абсолютно во всем. Знаете, все были очень удивлены, когда он присоединился к Орде. Мы сначала думали, что он действует по заданию. Было трудно понять, как он решился вдруг бросить свою захватывающую жизнь кочевника. Его повсюду ждали, повсюду восхищались им.
— У него были враги?
— Нет, насколько мне известно. Завистники — да, десятки одураченных мужей, но ничего серьезного. Когда мы узнали, что он вошел в Орду в качестве фаркопщика, мы тут все подумали: «Какой актер! Пороховая бочка, а не человек. Пробудет с ними две недели, подсмотрит для своих басен пару достоверных деталей и помашет им ручкой». Три месяца спустя он все еще был с вами. Мы были заинтригованы. Шесть месяцев спустя мы не верили своим ушам. Затем год и два, вот уже пять теперь, не так ли?
— Да. Я и сам не понимаю, какое удовольствие ему жить в рядах наших аскетов. Но он никогда не жалуется.
522
Всегда пребывает в неокислимо-веселом расположении духа. Освещает нашу повседневность. Я думаю, если бы он вдруг решил нас оставить, нам всем было бы очень плохо.
Тем временем мы с контр-адмиралом вместе вышли на верхнюю палубу. Я был слегка пьян. Масляные лампадки были развешаны на мачтах. Караколь разогревал ассамблею, рассевшуюся на навощенном полу.
— Почему ветер дует сверху вниз, с востока на запад, от восхода к закату, вчера и завтра, в любую погоду, что бы мы ни делали и ни говорили, как бы ни просили и ни умоляли? А почему небо голубое, скажете вы. Но не отвертитесь! Почему, вас прошиваю-спрашиваю, дууууууу-уууууууует ветер? Если кто знает или думает, что знает, пусть встает. Так, вижу, там два молодчика, здесь дворянин один, вон два старших матроса с их метрессой, пират семи мечтаний, три балагура не из дураков, кто еще? Кто посмелей? Кто скажет нам? Кто будет первым? Кто?
— Дует, чтобы наша повозка лентяев хоть куда-то двигалась!
— Ветер существует для ловцов ветра на воздушных приисках. Его придумали, чтоб им было чем зарабатывать на жизнь.
— Дует, чтоб вам жизнь испортить, ордышники!
~ 
Почему дует ветер? Что на Дальнем Верховье? Ей-богу, я не знаю, что он еще мог придумать на эту тему. Он нам рассказал уже сотни историй, мы все их знали наизусть, все вариации, интриги, правдоподобные и совершенно сумасшедшие, захватывающие и не очень. Истории о каких-то невообразимо огромных слонах, которые бегут и разгоняют воздух ударами своих громаднейших ушей, о гигантских бурдюках из небесной кожи, продырявленных лучниками, истории о выпендривающихся, надутых
521
от собственной важности Ордах, которые пускает свои газы нам в лицо, о стаях птиц, которые бьют крыльями изо всех сил, стараясь догнать солнце, и которые создают ветер… Истории о богах, что машут веером, о богах зевающих или насвистывающих песенку, вытряхивающих простыни или дающих по щекам своим детям… О богах, чье не артикулированное слово, в котором мы не можем разобрать ни звука, разносится по свету… А еще теории. Полунаучные, полубезумные надстройки, что держатся на одной лишь изворотливости Караколя, его убедительности, потому что он в них и правда верил, хотя бы на время рассказа, как если бы… Как если бы хотел проверить на нас их вероятность. Рассказ о Земле, что мчится к звездам, как корабль. О хрипе мертвецов… История о сырных облаках, о дыхании камней…
Среди этой мешанины мне больше всего нравилась история о стае ангелов. «Это ты меня вдохновила», сказал он мне однажды вскользь. По ангелу для каждого человека, говорил Караколь, для каждого животного. И все эти ангелы, не желая нам зла, дуют на нас изо всех сил из своих розовых щечек, потому что для них мы затухающие угольки, утихающие огоньки, лишенные кислорода, и если хорошенько на нас подуть, то можно разжечь заново наверняка, чтобы погреться, или, помню, он еще говорил, чтобы на нас было приятнее смотреть, так как раньше мы были красивей, когда мы были факелами, живыми факелами, которые сегодня затухают, а завтра превратятся в простые серые угли.
∫ 
Он осмелился! Осмелился перед Фреольцами! Рассказ о Дальнем Верховье! «Опять! — недовольно прогремел Тальвег. — Смени пластинку, Карак!» Но наш геометр был неправ, этот рассказ звучал совсем по-новому.
520
Без какой-либо команды люди стали выстраиваться кругом около нашего трубадура, притягиваемые к нему как магнитом. Встроенный прямиком в паркет, в своего рода каменную раковину, мерцал голубым светом какой-то совершенно особый огонек, подпитываемый снизу газом. Да сколько ж можно, опять этот фреольский выпендреж! Кориолис устроилась, лежа в объятиях какого-то матроса, но мне казалось, что даже ее грудь сверкала только для Караколя. Что касается меня, то я схватил свою фреольскую подружку по путешествию и посадил ее перед собой как щит. (Сразу стало полегче.) Напротив меня, с улыбкой на все лицо, сидел дружище Сов, в чертовски хорошей компании (гад такой), от него счастьем прям так и несло за три версты.
) 
«
Однажды, за тридесятыми ветрами», — начал Караколь, и наши расслабленные лица неуловимо осветились по всему кругу. Потому что через его рассказ, а мы понятия не имели, о чем он пойдет, честь Орды могла быть скомпрометирована или спасена. Потому что он начал с непривычной чинностью, потому что выглядел более сосредоточенным, нежели обычно, и потому что сделал такой акцент на слове «однажды», что всем среди нас стало ясно: сейчас последует до сих пор неизвестный нам рассказ.
— Однажды, за тридесятыми ветрами, за тридесятыми морями, была страна бескрайних полей, где ничего не могло удержаться на месте. Дикий ветер дул там днем и ночью, упрямо и бессменно, с востока на запад, стихая лишь немного по ночам, но никогда не исчезая совсем. Холмы отодвинуло ветром на самый край земли, горы потихоньку отодвигались вслед за ними, и даже солнцу было трудно удержаться за небо. То была земля, где белье сохло
519
очень быстро. Деревни там петляли во всевозможных закоулочках, скрытых от ветра, а на домах крутились ветряные мельнички. Жили на этой земле три племени: самое фривольное передвигалось на парусниках, самое многочисленное — укрывалось в скрытых от ветра поселениях, а самое глупое — шло навстречу ветру, чтоб отыскать его исток…
Увлеченные рассказом, спровоцированные Фреольцы расхохотались вовсю. Я без труда уловил несколько любимых тактик Караколя: самоирония, конечно, но к тому же его весьма изобретательная манера представлять реальность нашего мира как сплошную выдумку, едва ли преувеличенную, едва ли отклоняющуюся от истинной природы вещей, но все же с достаточной долей вымысла, чтобы создать ощущение странности, которое помимо своей необычности пробуждало в разуме чувство знакомого нам безумства.
— Никто из тех, у кого была хоть толика здравого смысла в голове, не верил в эту кучку оборванцев, прозвавшую себя Ордой и почему-то утверждавшую, бороздя песок, что в конце их пути для всех наступит что-то вроде счастья! Потому что, как они сами говорили, добраться до источника ветра значило приструнить его поток. И были они так убеждены в своей идее, что повсюду, где бы ни появились, устраивались пышные празднества в их честь и все старались их как можно больше ободрить. Средь этих оборванцев был также арлекин, по имени Какароль, коего подобрали по пути, поскольку он, не соблюдя приличий, не стал проделывать весь путь с конца земли, а подвязался к Орде по дороге, быть может, из простого любопытства, а может, оттого, что опостылели ему все эти паруса. Но, без сомнений, еще и по более основательным причинам. Этот отчаянный безумец провозгласил себя для Орды
518
трубадуром. И уж, по правде говоря, и верно доставал из своего черепного мешка кое-какие ловко закрученные истории, дабы проветрить вечерний огонек. Но главное было в том, что он в себе носил одну фантазию из рода теорем. Он говорил…
Караколь выдержал паузу в несколько секунд, подвесив тишину на верхушки мачт. Как истинный сказитель, он в совершенстве владел уникальной наукой контрапункта. Истории Караколя не просто объединяли голос и рассказ, то был сплоченный космос, зачатый из костра. В них, конечно, была общая линия сюжета, тянувшаяся от начала и до самого конца. Но контрапункт, что пробивался на каждом повороте, ломал в щепки эту самую линию, подчинял ее особому ритму, словно то был оборванный галоп, обгонял таким количеством ударов и хлопков, глухих и звонких, криков, зовов, жестов, выкрутасов и маракасов, таким количеством рисунков по золе, цветных лоскутков, брошенных на скатерть, структур крошечных камней, приведенных в движение предметов, добавлял к этому столько выхваченных наугад из публики исполнителей, хористов-соучастников, союзных музыкантов, что изначальный сказ — тот чистый и певучий голос, которым, как правило, довольствуются все трубадуры, пусть даже самые известные, — Караколь в два счета рушил, разбивал вдребезги его хрустальный звон и всегда получал успех.
Я сидел, обняв устроившуюся передо мной Нушку, ее ладони накрывали мои, а перед нами была вся фреольская публика. Караколь едва начал свой рассказ, а ажиотаж, вызванный только что смолкшими фанфарами, волнение, последовавшее за эротическими танцами, поднятый перевозбужденной детворой кавардак — все это моментально стихло. Что пробудило во мне чувство гордости перед
517
Нушкой за нашу Орду. Пьетро тихонько кивнул мне и улыбнулся…
— Откуда взялся ветер, спрашиваю я вас? Ответ прост, как девчонка: ветер произошел из Взрыва. Взрыва настолько дальнего и настолько мощного, что мы до сих пор чувствуем его раскат, несущийся к низовью. Там, на Дальнем Верховье, уж лучше вас предупредить заранее, люди добрые, абсолютно не на что смотреть. Но, как вы сами понимаете, многое можно услышать… Там ничего не существует и ничего не может существовать, кроме Взрыва! Нет больше земли, на которую можно ступить ногой, нет неба, солнца, больше нет деревьев с их раскидистыми лапами, нет лежачих трав или камней, ничего, что было бы целым, компактным, только Взрыв — массивный и всепоглощающий — чистый Взрыв самого мира! Официальная история Орды, хоть она и слишком мудрена, повествует, что 27-я Орда так и не прошла через Эгинскую пустыню. Не верьте в ней ни слову, проницательные слушатели. 27-я Орда была на самом деле единственной, которой удалось дойти до Верхнего Предела, но то, что она там пережила, не могло быть передано кому бы то ни было. То, что вы сегодня узнаете, не входит в законную общественную мудрость. Я даже и сам не вполне уверен, желательны ли вообще подобные знания кому-либо, кроме меня, конечно. Те, кто может выносить правду только в красивой одежке, у вас еще есть время нас покинуть…
π 
Никто не двинулся с места. Напряжение нарастало.
— Итак, раз мужество сегодня с вами под руку… Приступим. Когда второй Голгот преодолел Норское ущелье, его накрыло таким ветром, что в один миг от него ничего не осталось, кроме горстки снежинок, которая поместилась бы в детской ладошке, чтобы слепить снежок. В сравнение, как скажет после его скриб: «Кривец —
516
простая мелюзга, а ярветер — сламино ленто». Один за другим, с мужеством, оценить которое в полном объеме потребуются столетия, каждый из участников Орды поднимался к амбразуре в ущелье и делал шаг в открытую дверь Взрыва… Был определен порядок, кто за кем, скриб был последним, кто пойдет на этот подвиг, дабы записать до самого конца всю правду о Дальнем Верховье. Вздор, решите вы! Если б этот контржурнал и существовал, его бы тоже сдуло взрывом. Это частично верно, частично не совсем, господа присяжные! Мне досталась последняя страница этого журнала. Ее вручил мне с самого рожденья один хрон, мой собственный отец…
) 
Наш трубадур замолк и оглядел сидящих с проницательностью прорицателя, в поисках чего-то, одному ему известного. И вдруг разглядел что-то в синем пламени и, привычно запустив в него руку (как если бы сунул ее в воду), порылся там чуток и с облегчением вынул из животрепещущих язычков длинный голубой пергамент. Брызнули ошеломленные аплодисменты, но он не обратил на них никакого внимания:
— Я не люблю, запомните, экстраполировать на тему ветра, а еще менее того, любезная аудитория, использовать некие задаром мне приписываемые таланты ораторского мастерства, чтоб приукрасить реальность, которую скрибы со своей стороны с трогательной неукоснительной точностью стараются переписать нетронутой на лист бумаги. А потому я вам прочту этот оставшийся отрывок без выспренних изысканий речи: «Взрыв имеет материю, единую материю, которая есть звук. Взрыв играет музыку, играет на инструменте с бесконечным потенциалом, который есть воздух. Воздух существует на пороге Двери в виде струн, плотных струн воздуха, вибрирующих на неисчислимой высоте.
515
Звук, раздающийся из Двери, создает все сущее. Он создает мир, по которому мы ходим, все, что располагается на этом мире, все, что по нему передвигается и что на нем живет. Ветер — это форма звука, быть может самая линейная и лучше смодулированная, но все же не единственная. Дождь тоже форма звука. Звезды и облака, цвета и каждый зверь, крадущийся в ночи, растения, что прорастают со стрекотом, каждый камень, тихонько бурчащий на неуловимой для нас волне, — все это форма звука. Взрыв ничего не разрушает, он зарождает. Он порождает звуки. Звуки разлетаются и ложатся пыльцой, разлетаются и опускаются на землю, разлетаются и сворачиваются в круглый окрик во впадине, что именуется ушами. Зовите их зернами».
Со священной осторожностью Караколь перевернул листок и понизил голос, чтобы усилить внимание слушающих:
— «Вся Орда теперь всего лишь пыль. Каллисто принес себя в жертву сегодня утром. Он поднялся по фонолитной насыпи, где каждый шаг раздается звоном. И взорвался, рассыпавшись кристаллами соли. Каждый превратился во что-то свое, каждый звук уникален. Я видел щепки из костей Верниса, песок из Пиреса, хлопья сажи из Эреба, соль из Каллисто. И гадкий снег из Голгота. А что будет из меня? Бумажный порох, опилки букв? Орда, которая за нами последует, скриб, который меня прочтет, постарайся научиться слышать. Вы всего-навсего куклы, набитые звуком. Вы пойдете по слухам, вас поведет молва. Не слушайте меня, слышите! Верхнего Предела больше нет. Его поглотил Взрыв, и он спускается на вас. Над вашими головами мерцают созвучия. Ветра наигрывают неслышимую симфонию. Все взрывается.
И все превращается в крик».

514
∂ 
Наш трубадур задел металл пергамента, который только что дочитал, и что-то похожее на протяжный звук скрипки, сначала глубокий, затем высокий до дрожи, вырвалось из листа. Тишина достигла в этот момент точки абсолютной, невероятной чистоты. Как по сигналу, голубой огонь начал раздуваться, языки пламени пугающе вырывались вверх, а амарантовый паркет, пришпоренный подошвами Караколя, стал вторить ритму деревянных мачт. Из публики стали разноситься заунывные напевы, прерываемые криками пифий, что брызнули не в ритм с верхушек мачт. Вскоре звуки начали вырываться из каждого безжизненного уголка судна, из рей и парусов, из свернутых и натянутых такелажей, из паркета, ставшего барабаном, из стекла фонариков, из стали и меди, из бутылок! А Караколь стоял над огнем и управлял всем этим, словно дирижер, с самшитовой веточкой в одной руке, другой водя по воздуху, заставляя вибрировать неизвестно какую волну, доселе никогда неслыханную, создавая ее, как сетчатую структуру из материи!
Как бы невероятно это ни было, но едва начавшийся рассказ уже подошел к концу. Оставался лишь хребтовый гам из звуков, вырвавшихся из досок и крепежных балок, свистящих из огня и ревущих из мачт, звуков полных, полых, протяжных, звуков снастей и разногласий, брошенных вместе в шумы да гамы, не оставлявших никакой надежды на какую-либо гармонию, пусть даже совершенно случайную, — а скорее
дававших шанс услышать ушам, чей бархат был нетронут (как мои), то, что возможно соотнести с примитивным хаосом. Когда возобновилась тишина, такая же всепоглощающая, как был только что вездесущ на пару сумасшедших минут звук всех вещей, Фреольцы встали одновременно, всем залом, и по палубе раскатились овации. Ливень аплодисментов, обрушившийся на
513
верхнюю палубу, поразил меня эмоциями. В этот вечер Караколь попрощался, стоя на коленях и соединив руки. Ветер милостивый, кто, как не он, мог еще подарить нам это чудо, хоть на краткий миг, — услышать хаос?
— Этот парень — гений, Сов! Я тебе точно говорю!
) 
Нушка дрожала, в ее голубизне появились слезы, ее лицо, губы блестели. Признаться откровенно, я почти прослушал весь рассказ. Я вдруг неожиданно осознал, что близок наш с ней разрыв, что он неминуем. Я старался на протяжении всего спектакля дышать как можно медленнее, чтобы отодвинуть горизонт болота и постараться впитать в свою плоть гемофилический поток из настоящего, которое она мне дарила. Завтра отменялось до новых распоряжений.
(обратно)
VIII
ДУБИЛЬЩИК
) 
Итак, настал пятый день. Настоящее
начало переправы. Первые дни
Физалис все еще был с нами, сопровождая вдоль мола. Насыпь уходила ровно на восток через болото и была относительно тверда и стабильна под нашими ногами. По сравнению с двумя неделями ориентировки, проведенными в штормах и грозах, в полном напряжении, в топях, зыбучих песках без единой опоры, посреди серо-мрачных лагун, простегиваемых туманом, переправа не могла начаться в более благоприятном климате. Хоть небо и вылило нам на головы несколько ливней, солнце все же брало верх, согревая щеки и просушивая одежду, да к тому же с энергичным ветром в помощниках. За первые четыре дня мы ни разу не окунули ноги в воду: насыпь, идущая от Порт-Шуна, тянулась ровно, она задавала ритм и трассу, она еще связывала нас на несколько коротких дней с неким подобием человеческой архитектуры. А затем фреольский корабль оставил нас, унося с собой лицо и его снежную белизну, и дрожащую голубизну ириса в глазах, и губы, из которых в последний раз сочилась алая мирра, отдаляя от меня нежные груди в ласковой истоме, и запах простыней, и смятого белья вокруг кровати, и запах Нушки. «Жду тебя через три месяца в Шавондаси, Сов. Будь осторожен, маленький волчонок». Она послала
511
с борта корабля последний неосязаемый поцелуй. Ее небесного цвета платье не слишком элегантно смялось под и< срывом ветра, пряди закрыли личико, но она улыбнулась мне сквозь слезы, я знаю. Она продолжала улыбаться. Когда корабль повернул к низовью, она все еще стояла на палубе по правому борту и смотрела, как мы прощально машем им вслед, с сувенирами в руках. Она подняла над головой небольшого воздушного змея в цвет платья и стала управлять им одной рукой. Я был не такой ас, как Ларко, в этом деле и, переполненный эмоциями, никак не мог расшифровать буквы, которые она выводила…
— Она тебя любит, философф! — крикнул мне Ларко, весь сверкая. Он тотчас же что-то ответил ей своей летающей клеткой.
— Что ты ей сказал?
— Что ты ее тоже любишь… Так все делают.
Фреольский корабль раздул паруса, но Нушкин змей еще успел что-то прочертить в небе, пока его не прибило набранной за секунды скоростью.
— Как это все мило.
— Что мило? Что она сказала, Ларко?
— Ах… ах.
— Пожалуйста, Ларко. Что она сказала, умоляю?
— Говорит, что ты чист, что будет тебя ждать, что будет тебе
верна.
Можно подумать, такая может хранить верность. Ох уж эти женщины! Ну да ладно, главное намерение.
π 
Распад в Орде еще никогда не был так близок к тому, чтоб стать реальностью, как за неделю перед выходом. И если мы по-прежнему были вместе, то обязаны этим в первую очередь дипломатическим талантам Сова и доверию, которое я у всех вызывал. Группа отмежевавшихся,
510
предпочитавшая пойти в обход, объединяла Альму и ястребника, Ларко и Силамфра, Аои и Каллирою, Кориолис и Свезьеста. Но вместе с Совом мы все же спасли единство Орды. Мы никоим образом не старались приуменьшить ни природные опасности болота, ни усилия, которые придется приложить, ни вероятное истощение, которое нас ожидало. Мы не пытались обойти стороной риск нападения, того, что, возможно, угодим в ловушку, устроенную Преследованием, или же, что наверняка столкнемся с хронами, фреольские рассказы о которых нагнетали вокруг нас свою паническую мощь.
В плане разведывательных вопросов и обмундирования контр-адмирал и коммодор неоспоримо выполнили свою задачу сполна. Они эскортировали нас на центральную зону, чтобы показать безразмерное девственное озеро, без единого островка, нечеловеческих дистанций вплавь. Эта картина расколола Орду надвое. Она спровоцировала конфликт. Они бросали нас в воду утром, днем и вечером. Они оставляли нас мариноваться, бултыхаться и плыть кролем по нашей же собственной просьбе. Они научили нас различать зыбучие пески и нерестилища карпов. Надежный проход от плавучей заставы. Они дали нам время приспособиться к болоту, привыкнуть к нему. Их портные сшили дождевые одежды по меркам каждого из нас. Они снабдили нас герметическими болотными сапогами, водонепроницаемыми ботинками и специальной обувью для плавания. Дали протестировать в воде разного объема поплавки. Укрепили и адаптировали под нас трапеции. И в конечном счете смастерили для каждого по деревянному гидродинамическому бочонку, продолговатому, легкому, с ручками по бокам, чтоб можно было зацепиться, если будет шторм. Их вместимость была рассчитана ровно под то, что мы брали с собой: спальники, сухие вещи, полотенца, оружие, посуду.
509
Я сам не знаю, как нам удалось переубедить девчонок и фаркопщиков. Я даже не знаю, как я сам в конце концов поверил в эту переправу. Что заставило меня передумать. Видимо, доля героизма, гордости и рассудительности по итогу привела меня к этому решению. И может, доля вызова? Знаю только, что Сов сильно повлиял на мой выбор, намного больше, чем он мог бы подумать. Голгота я не слушал ни секунды, настолько его слова были лишены мудрости и альтруизма. На чем порою держатся изгибы наших мнений… Ястребник, например, увидел, как его ястреб вытравил малую поганку, и ему этого хватило, чтобы отважиться на путь. Для Аои, мне кажется, все решил солерос и плавательные ботинки с ластовыми наконечниками. А может, просто энтузиазм Степпа? Кто его знает. Как бы то ни было, но Орда снова была едина и сплочена. В горести.
∫ 
Вот уж эти чертовы Фреольцы, чтоб им, стоило бы «отвесить им реверанс, снимая шляпу» (как подытожил Караколь). Какая щедрость. Какая восхитительная предупредительность! Так в конце концов даже можно подумать, а не хотели ли они заведомо отправить нас потеряться в этом болоте. Порт-Шун был странный и глинистый, городок привидений на лодках, в домах на сваях из дерева и кирпича, улицы его были варварски перепаханы каналами, он больше походил на забытый барачный лагерь, наспех сколоченный в устье Диагональщиками. Местные здесь то и дело подвергались чертовским приливам — «сейшам», как они говорили на своем рыбацком жаргоне, — которые поднимались вертикально вплоть до окон. Вот почему повсюду были подвешены лодки, служившие им в первую очередь домами. Во время разлива они отшвартовывались и болтались в воде, бульк-бульк, пока все не уляжется. Неглупо…
508
Со дня, когда Фреольцы нас бросили, насыпь начала давать слабинку. В ней сразу поуменьшилось напыщенности, а местами от нее и вообще ничего не осталось. Мы наелись первого ила. По мере хода редкие следы, соотносимые с человеческими существами (свайные лачуги и гнилые понтоны, ухайдаканные парусные лодочки, полные водорослей, стены, подпирающие дамбы), начинали рассеиваться в наплывающем тумане. Вечер наступил очень быстро, и мы на ощупь доплыли в прохладной водице до небольшого илистого островка, еле державшегося за шелестящие вокруг камыши. Степп разглядел небольшую ивовую рощицу, и Каллироя развела огонь. Влажность вокруг гнезда пламени едва ли отступила. Почва под нами была пористая и непрочная. Рядом плескалась вода. Хлюп-хлюп в струящейся, тягучей тишине… (Без предупреждения) нас охватила невероятная тоска… Мы были одни, вдали от всего, от привычной рутины, от всего знакомого. Вокруг была одна неизвестность. Мы потеряли все ориентиры. Нам было страшно. Болото начиналось теперь. Оно почковалось вокруг нас, сквозь нас, проникало в почву нашей теплой плоти, как корневище тростника. Мы вторглись в его владения, уже завтра оно задаст нам по полной.
) 
Итак, настал пятый день… Я не стану говорить о пробуждении — опрокинуться камнем в воду посреди ночи со спальным мешком,
пристегнутым к плечам, который тут же наполняется илом, хватать ртом воздух в панике, что тонешь, с руками, приклеившимися к стенкам мешка, получить термический шок от ледяной волны по телу — это не проснуться, это осознать. Не буду говорить о рассвете, который я так и не смог разгадать в небе. Пятый день не наступил и не закончился, он просто длился. Жемчужно-
507
серый. Он длится до сих пор. Сегодня наш четырнадцатый день бесконечного дождя.
Ω 
Страна улиток, дохлой рыбы и грязюки. Тут и мечтать нечего о сухой трассе, негде лапу поставить, ни пучка, ни островка, ни куска камня или кучи полужидкого навоза, который позволит встать, чтоб пойти прямым контром. Тут когда дождь идет, так льет не ведрами, а хлещет бочками пиваса столитровыми, промоет тебе весь жирок до костей, мыться больше не придется с таким душем, главное, рот захлопни, труселя потуже затяни, прыгай на свое корыто и кролем наворачивай вперед. Волной по морде, и давай, вверх, вниз, встал, поплыл, тащись в вонючей луже то по голень, то по яйца, вперед, ребята, все за Готом… Я их в Паке всех предупредил — не будет никакого контра каплей, дельтой, никто им зад прикрывать не станет, всем одинаково придется, морду в воду, бочку за спину. Не дерьмовей, чем все остальное. Хоть что-то новенькое. И ветер и общем-то ничего. Неплохо было б, конечно, чтоб этот краснощекий там наверху показывал свою круглую мину хоть иногда. Ни нитки сухой не осталось, мешки воняют плесенью, огонь у Каллирои дымит, как резина. Хлещет беспросветно, это да, на нервишки по вечерам действует, особенно ночью, когда меняешь нагретое местечко по три раза за ночь, потому что твой мешок с костями то приливом накроет, то оно в желоб угодит, которого тут пять минут назад еще и в помине не было, то в завтрашний ручей. Но хочешь не хочешь, а нужно взять в прицел, в кишки себе зашить, когда начинаешь ржаветь по позвонкам к концу дня, что в конце будет Шавондаси. И девять месяцев в наш счет перед моим родителем и его ордой сопляков. Девять месяцев — девять! — ДЕВЯТЬ ЧЕРТОВЫХ МЕСЯЦЕВ! Потому что они тут ёкнулись прям посреди болота!
506
Дали жару, тоже мне, вышибалы нашлись, обосрались с ног до головы, сколько их передохло от истощения, хоть лопатой загребай, наутро плавали вокруг. Не смогли переплыть центральную зону, недостаточно сильными оказались,
духу не хватило! На лодочке пришлось вытягивать их из флотильной пустыни, рыбаки им помогли, а когда наконец на ноги встали, то потащились по косой до южного берега, вышли разбитые, пошли пешком в обход болота. Чуть из Ордана не вылетели за свою спасательную операцию — мне адмирал об этом все уши пропилил. Тринадцать месяцев угрохали на все про все. Мы сделаем за три, за четыре максимум, если будет такая же фигня, как сейчас. Это значит, мы вас обходим на четыре года! Четыре, старичье! Если до вас вообще доходит, что это значит. Двадцать восемь лет контра и четыре года в наш счет! Стадо гусениц, слизняковые улитки. Я тебе не сын, восьмой Голгот, в моей крови, в моей лаве, ни капли от тебя нет! Я не от тебя происхожу, я был сделан из других
брусьев. У меня в башке и в теле каленая сталь. А у тебя только рожа одна дубовая да штаны обоссанные. Я был лучше брата. Я был лучшим! Но ты ничего не видел. Ты ничего не понял. Ты его убил, потому что у него не получалось. Думал, никто тебя не переплюнет. Да от тебя разит высокомерием за три версты. Но вот где я теперь, тридцать лет спустя. У меня много времени ушло, и ты знаешь почему, но я иду. Я через год тебя обойду, я буду на входе в Норску. Там, где вы забились в ваши глинобитные норы. Я тебе в лицо скажу, кто ты. Кем ты стал. И кем
ты не стал. Нет, я тебе ничего не скажу. Потому что мне нечего сказать Трассеру, отрекшемуся от контра. Которому даже недостало мужества выпустить себе кишки под норский кривец. Для такого у меня нет слов. У меня на тебя даже плевка не найдется. Презрения не хватит. И того ниже…
505
— Какие-то странные волны! — в третий раз повторил Эрг и остановился.
— Не задалбывай, макака!
— Иди давай, Эрг! У меня нога проваливается.
— Назад! Все назад!
— Нельзя назад! Там зыбучие пески везде!
—
Дербелен!
π 
В три приема Эрг был уже в воздухе. Мы видели, как он поднялся вверх на шесть метров над зоной. Рывком запустил свой механический арбалет. Очертил в воздухе периметр по трапеции. Полет прерывистый, слишком нервный. Он перестал с нами говорить. Неистовый дождь ручьями стекал по его крылу. Я, как и все остальные, застыл на месте, изо всех сил стал пристально вглядываться и поверхность воды вокруг нас. Дважды порывом ветра прорвало белый туман. Открылся проем. Сначала на востоке, со стороны верховья. Затем на северо-востоке, справа от меня. Аллювий, который служил нам дорогой, дальше уходил под воду. Снова… Справа вроде ничего: вода волнуется, штормит, насколько взгляд мой мог ухватить простор. На краю просматриваемого места вроде только что были заросли камыша. Но моросящий туман снова затянул просвет по самой кромке воды. Я повернулся к Караколю, с его насквозь промокшего арлекинского кафтана текла вода. Он отказался надеть что-то поверх, сказал, что дождь его забавляет. Он, вероятно, ждал моего вопроса, потому что улыбнулся мне в ответ, хотя я еще ничего не успел спросить:
— Ты чувствуешь что-то странное?
— Странное? Я бы так не сказал. Скорее, что-то курьезное или просто-напросто неожиданное, может, какую-то импровизацию, хотя чуток необычную, почти
504
что несуразную и в высшей степени своеобразную, даже эксцентрическую, если хорошо подумать, я даже думаю, экстравагантную до чертиков…
— Караколь!
— Да, ваше высочество!
— Это что-то опасное или нет?
— Есть… ну как бы две опасности… Но лучше отгадай: и не друт, и не враг, но на всех наводит страх…
— Что это? Ты можешь его локализовать?
Трубадур сдвинул назад свою кожаную шляпу, и с нее, как из желоба, потекла вода. Лицо его на миг посуровело.
— Вокруг нас кто-то есть.
— Вокруг? Вокруг нас?
— Да.
— Сколько их?
— Пьетро, я не знаю, что это, честно. Но Эрг прав. Местный ветер расстраивается. На нас что-то движется…
— Хрон? — спросила Ороси, стоявшая позади меня.
— Хаос… Я что-то такое уже чувствовал… Хаос в движении…
Эрг резко опустился вниз откуда-то с потолка тумана, на один из редких скалистых участков насыпи.
— Ты что-то видел, Эрг? Караколь говорит…
— Тсссссс!
— Караколь думает, что…
— Тихо всем!
∂ 
Пьетро сделал мне знак слушать внимательно, знал, что из всех нас у меня был самый проницательный слух. Через несколько секунд мне удалось абстрагироваться от звука засасывания наших ботинок в глину, и я отбросил, как накидку, шелест тростниковых зарослей поблизости. Быстро снял оглушавший меня капюшон, и с непокрытой
503
головой, напряженными перепонками мое сознание постаралось преодолеть первый перегруженный шумами звуковой план, капли дождя отскакивали от воды, как от горячей сковороды… шум стал рассеиваться. Моя кожа была как натянутый барабан, который ждет, что его вот-вот заденут… И вдруг из какой-то точки в пространстве, из точки, единственной реальностью которой был исходящий из нее звук, сквозь толщу дождя прорвался рев. Он шел на нас, приближался, становился четче…
— Разойтись с насыпи! Все в сторону! — рявкнул Голгот.
Я один не двинулся с места. Я и Эрг. Он стоял в защитной стойке с натянутым над головой змеем, по винту и по бумерангу в каждой руке. Вода тут же покрыла звук нырнувших в нее тел, и я снова мог сконцентрироваться.
— В воду, Силамфр! — повторил Голгот.
Но я не ответил.
С верховья завибрировал звук мощного дыхания, глубокого, как гул стентора. Послышался яростный вдох, затем мутный неясный, проревербировавший в воздухе выдох. В кромешном тумане Эрг запустил бум в направлении звука. Бум погрузился в густую пелену и не вернулся. Вместо него вернулся детский ветрячок из ивовых прутьев, который, как мертвый листик, плавно опустился нашему бойцу прямо на ладонь. Эрг замер в полном ошеломлении, как будто сейчас повалится прямо в болотную грязь. Он мигом спустил свое крыло и без малейших предосторожностей бросился со всех ног прямиком к опасности.
— Осторожно, черт возьми!
Он не проделал еще и десяти прыжков, как дыхание сделалось еще свирепее и пуще захрипело. Оно буквально разорвало туман перед собой, расчистило поверхность озера на добрую сотню метров вокруг нас, вернув
502
контурам их точность, а воде прозрачность и цвет. На краю насыпи, продвигаясь будто всасывая перед собой последние резервуары пара, показался человек ростом и походкой как мальчишка лет десяти. Я понял, кто был перед нами, только когда Ороси, выскакивая из воды, принялась кричать:
— Тэ Джеркка! Тэ! Это же учитель Эрга!
— Кто?
Ω  Барнак!
Барнак! Тэ Джеркащ, самый крутой из всех крутых перцев, единственный мастер Кер Дербана, который у меня всегда был в уважении. Что он тут забыл, в этой водяной дыре, чего притащил сюда свои легкие глотателя шквалов? Он состарился не на одну морщину, а на сто пятьдесят одну. Маэстро, все равно он выглядел таким же живчиком, как раньше. Сухой, как ствол на полном ветру. У него все лицо в спираль закрутило вокруг шнобеля, зато зрачки подвижные, как всегда, и взгляд, как будто через него ветер хлещет напролом… Тэ Джеркка, вот бандит! Я когда выиграл Страссу, когда они все были вынуждены посвятить меня в Трассеры, никто не пришел мне руку пожать, меня все проигнорили. Ни один хрыч. Кроме него. Так и воняло ордонаторскими соплями повсюду, пялились на меня, чуть от злобы не полопались. Никто мне не мог простить, что я на старт один приперся. Так это в испытании проблема, а не во мне. Я был тем, кто нужен, как я мог согласиться, чтоб какой-то сморчок, который только и умеет, что семенить на своих двоих, меня обошел? Перехватить механическую трассировщицу, какой в этом был смысл? Что в этом было общего с тем, что ждало нас на самом деле, с дикой трассой? И Тэ Джеркка это понимал. Он всегда это знал. Он ко мне подошел, когда я спустился с эстрады. Один подошел. Второго такого не нашлось.
501
Скрутил мне щеку, тот еще шутник, и бросил: «Ты, дальше всех остальных. Ты пойдешь. Ты понял, что никаких правил. Одна вещь больше всех других — ярость. У тебя нет другого, ничего большего, это все, что у тебя есть — ярость. Сделай ее себе женой и иди». Я благодаря нему допер, что Ордан никогда не хотел, чтобы я первым пришел. Он этого не говорил, ему было нельзя. Но я сам понял. Линия Голготов у них в Аберлаасе уже из ушей дымила. Школа прямой трассировки, термические потоки в рельефе, встречный ветер, эксплуатируемый на всю катушку до привязи, под ротором, под кучевыми, этого не было в догме, этому нас не учили. Это все была идея первого Голгота.
) 
Тэ Джеркка поприветствовал каждого из нас по имени и по званию. Он сразу сообщил, что у него очень мало времени, и попросил встать вокруг него. Мы окружили его, стоя почти по пояс в воде. Ему не пришлось требовать внимания и тишины. Если его появление само по себе выходило за рамки доступного, то голос и облик были и вовсе неописуемы. Перед нами, вне всякого сомнения, был человек, поскольку у него были глаза, рот, нос, две руки, две ноги, но он скорее походил на внешнюю границу человеческого существа, на его возможный порог, а может, уже и сразу дверь, едва ли вообразимую, которая вела наш вид к чему-то другому, чему-то более… более живому. Глядя на него, складывалось впечатление, каким бы абсурдным оно ни было, что у него внутри крутилась воронка, что она закручивала все его кости и мускулы, засасывала в неотвратимую центрифугу весь его костяк, сгибала позвоночник, извивала руки и ноги, тянула за шейные позвонки и за затылок… И потом это лицо, лицо со взглядом бури, с ускользающими зрачками, этот невероятной подвижности взгляд, лицо, черты которого,
500
казалось, говорили только об одном — о внутренней борьбе между силой его внутреннего вихря и его прирожденной формой, об ускоренном распаде того облика, который он унаследовал во время своего человеческого рождения. Но анатомия сопротивлялась, она еще не сдала своих позиций, и в результате выходило обличье в кривизне, нетипичное, ни на что не похожее лицо, в котором морщины укладывались в спираль вокруг носа с несоразмерно раздутыми ноздрями.
И все же самым впечатляющим был не его вид, а дыхание и голос. Когда он произнес первую фразу, то вдохнул в себя такой объем дождя и воздуха, с такой спокойной свирепостью, будто вой олифанта буравил ему бронхи. Он закрыл глаза и рот, справившись с этим усилием без видимого труда, и снова выпрямился. Голос, которым он с нами заговорил, отличался от того, что он обыкновенно использовал в разговоре. Казалось, тот был сделан из блоков сжатого воздуха, откалиброванного в животе, обрубленного ударами голосовой щели, твердого нёба, ухватами зубов — хриплые блоки взрывались в воздухе по одному, разделяя для наших ушей каждый слог и каждую волну. У Тэ Джеркка был свой собственный синтаксис, весьма примитивный, но тем не менее каждое сказанное им слово потрясло меня физически:
— Я пришел предупреждать вас. Поддержать вас. Что-то идет за вами уже неделю. Что-то сильнее Эрга. Нельзя его пересилить. Нельзя его победить. Можно только утомить или привлечь в другое место, другой пищей. Я изучил это Нечто немного. Дам точные инструкции, позицию каждого, скорость передвижения всем. Каждый должен быть один, нельзя групп. Эрг будет действовать в воздухе. Я буду держать землю. Вы будете в воде, пока не скажу подняться на скалы. В зоне тридцать скал. У каждого
499
своя. Если Нечто вас атакует, вы ничего не почувствуете. Слишком поздно. Не бойтесь. Моментальная смерть. Без страданий, без страха. Нечто очень быстрое и медленное одновременно. Зависит. Не в одной эпохе с нами, гуляет. Вот. Я сказал. Вопросы хотите вы задать? Ороси?
— Мы имеем дело с хроном, мастер? Каким именно?
— Очень особый хрон, аэромастерица. Автохрон.
— Это разумное существо?
— Эммм… Трудно сказать. Иногда очень разумное, иногда глупое, как дуб. Бой очень деликатный, поэтому нельзя предвидеть тактику, своя логика… В некоторых случаях сами поймете. Девятый Голгот, вопросы?
— Какое оно на вид? Как мы узнаем эту кучу дерьма?
— Нет формы. Нечто никогда я не видел, только его эффекты…
— Как оно убивает?
— Оно не убивает. Ты сам себя убиваешь. Всегда!
— Название у него хоть есть, чтоб знать, что на могиле моей потом писать?
π 
Вместо ответа Тэ Джеркка достал из своей сумки целый арсенал винтов, сверхскоростных ножей, каких-то странных рожков, стальных бумерангов, медных дисков. ()и разложил все это вдоль насыпи и оглядел весь инструмент. Я стоял рядом с ним в грязной воде.
— Много имен имеет, слишком много, — ответил он, не отводя взгляда от оружия. Тревожные морщинки деформировали его лицо. Он скрывал от нас правду. Ему было страшно, и он пытался не подать виду, чтобы защитить нас. Он резко повернулся. С низовья проревел какой-то тягучий, плотный крик, звуковой шар. Эффект был впечатляющий: волны стали расходиться кругом от места звукового удара. Туман слегка отступил. Я перехватил слово:
498
— Учитель, вы знаете, когда Нечто подойдет к нам?
Он рассматривал длинный заостренный бумеранг, и я одновременно с ним разглядел то, что привлекло его внимание: сталь на оружии
ржавела с ужасающей скоростью…
— Нечто уже здесь, Пьетро. Оно нашло нас.
Эрг, волерек параккарт! Фастик трепзиг! Бермап!
) 
То, что Тэ Джеркка проделал вслед за этим, скорость, с которой он это сделал, ни Эрг, ни один другой боец из его учеников за всю историю не смогли бы такое повторить. Для этого нужно было — Эрг мне потом объяснил — владение вихрем на уровне сверхчеловеческом, наверняка предшествовавшее появлению новой линии воинов-защитников, для которых Тэ Джеркка был первопроходцем. Меньше чем за полминуты он невероятно разборчиво произнес все наши двадцать три имени и указал нам двадцать три направления, с двадцатью тремя скоростями передвижения… И каждый летящий звуковой шар, каждый блок звука, движимый своими собственными внутренними вибрациями, повторяя наше имя по кругу, врезался в туман бесконечным винтом, чтобы указать путь к скале, которая была нам предназначена. Никто не пропустил своего имени, никто не ошибся скалой.
Как только я добрался до нее, меня вдруг стал терзать инстинкт выживания, паническое желание запрыгнуть на камень… Но я весь напрягся и сдержался, следуя инструкциям Тэ Джеркка, я остался стоять в мутной и неспокойной воде у подножья спасительной скалы. Непрекращающийся дождь стремительно набирал обороты, доходя до пароксизма мощности, и уже через минуту превратился в настоящий вертикальный потоп, с беспредельным, варварским градом в придачу, я стоял как прибитый, немой,
497
раздираемый словно картечью, отрезанный от остальных, я не различал ничего вокруг сквозь ливень, метавший в воду свои стрелы, в голове звенело, как в колоколе, я тонул в иле и зарослях солероса, хватался за его пучки, подыхал со страху… «Скала! — вдруг крикнул мне голос. — Сов, камень!» Я не знал, откуда он взялся, как докатился до меня через все озеро, но я тут же вскочил на скользкую поверхность и вцепился в нее всеми конечностями.
π 
Кто-то остановил дождь. Кто-то остановил этот градобой. Ветер вдруг прекратился. Пространство передо мной расчистилось на километры вперед. Пейзаж стал ясный и разборчивый. Я четко видел всю Орду, всех остальных, расставленных на том, что здесь, видимо, считалось архипелагом.
Наши позиции описывали своего рода овал. Насыпь, по которой мы контровали, разделяла его пополам в длину. Рядом со мной, в тридцати метрах, Караколь забрался на песчаный бар. Сов и Ороси немногим дальше стояли на скальных островках. Мне сразу стало спокойнее от того, что они были рядом. Мы находились в пределах слышимости друг от друга. Сверху, по центру архипелага, в воздухе завис Эрг. Тэ Джеркка нигде не было видно. Сплошная, безраздельная тишина обрубила все звуки. Я пристально всматривался в лиман. В заросли камыша и красного солероса. В выступающие скалистые участки, в линию земляной насыпи. Я не представлял себе, где бы могло спрятаться это Нечто. Я даже не мог себе представить, чего вообще ждать. На одном из камней я вдруг увидел два силуэта. Ну конечно, это братья Дубка. Они остались вместе, не смогли разойтись в разные стороны наверняка. Эти двое всегда были неразделимы, особенно в опасности. Но Тэ Джеркка явно сказал быть по одному. И точно не просто
496
так. Но я не решался им об этом крикнуть. Я боялся привлечь Нечто. Да и к тому же они были слишком далеко.
— Пьетро, нужно, чтобы Дубка разошлись!
— Да, Ороси, я видел! — прошептал Пьетро.
— Это может быть опасно…
) 
Услышав их разговор, я машинально стал искать братьев глазами. И…
— Пьетро, смотри, один из них упал в воду!
Вам, конечно, скажут, что Карст Дубка мог бы и выскочить из воды вовремя. Но я знаю, что нет. Озеро застыло не поэтапно, все началось не из одной точки, распространившись по всей поверхности, лед не завоевывал пространство постепенно, иначе я бы услышал, как скрежещет разрастающийся по воде лед. Озеро замерзло мгновенно, все целиком, сразу. Волны замерли прямо в движении, вода стала враз.
— Карст!
Голова, часть плеча и правая рука, протянутая к брату, остались надо льдом. По крику, который он издал, мы поняли, что он жив. Альма говорила, что нужно две минуты, чтобы жизненные функции заморозились полностью в такой ситуации. Голгот и Фирост тут же бросились ему на помощь, стали что есть мочи колотить камнями и железными подошвами в надежде проломить лед. Минута… Тэ Джеркка появился с противоположной стороны озера. Он вышел откуда-то из-за кустов обионы и необъяснимо медленно направился к Карсту по ледяной глади. Он что-то говорил, произносил ряд безумных несвязных звуков, череду глухих и звонких взрывных, голос для него был не просто проводником слов, это была его сила, его оружие. В месте, где агонизировал Карст, лед разломился под раскатами твердых, скандированных,
Ка и
Пект. Тэ Джеркка
495
подошел еще ближе, он неспешно переставлял одну ногу за другой и выглядел бесконечно старым в этот миг. Он приказал Голготу и Фиросту вернуться на свои места, а Горсту отпустить брата и подняться на камень, что они и сделали. Две минуты… Мастер был уже почти рядом с Горстом, как вдруг выскочил из озера одним прыжком, как обезьяна, без какой-либо на то причины… Я посмотрел на Караколя, в надежде, что тот успокоит меня, подбросит какую-то утешительную гипотезу, но он ко мне не повернулся. Вместо этого упал на колени и сказал убитым голосом:
— Все кончено… Он мертв…
Все началось прямо у меня под ногами. Грохот, глухие расколы, змейки металлических трещин по льду, словно сквозь саму толщу пробивалась гигантская косатка, которой под силу было разворотить его на куски. Не могу сказать, что я видел Нечто, но заметил оранжевую тень цвета магмы, которая смешивалась с водой под прозрачной поверхностью льда. И ледяной пласт распался синевой, изорвался на огромные кривые монолиты, вода брызнула, как кровь, из всех прорех…
— Карст, вылазь из воды! — послышался чей-то крик, пока Горст стоял как парализованный, неспособный, как и я, на какую-либо реакцию. — Вылазь!
Что бы это ни было, но произошло все чрезвычайно быстро и в высшей степени метаморфически. Озеро закипело примерно секунд через двадцать после того, как я увидел оранжевую тень. Вода бурлила, как в котлах, пузыри черного ила лопались на клокочущей поверхности. Камыши загорелись от кипящей воды. Жидкий огонь у нас под ногами был настолько сильный, что нас обжигало огненным паром. Мы с Ороси и Караколем, шлепая по грязи, еле отошли подальше от этого варева, чтобы укрыться от
494
жара. Я потерял из виду черную точку, там вдалеке, которая тоже старалась вырваться из жидкого пекла.
— Он мертв, Сов, забудь… Его вихрь вырвался из его груди, еще когда Тэ к нему только подошел. Думай о том, чтобы выжить. Ты должен думать только об этом. Ты должен выжить! Слышишь меня, скриб? ВЫЖИТЬ!
x 
Я никогда не видела Караколя в таком состоянии. Он схватил остолбеневшего Сова и стал орать ему прямо в лицо. Я больше ни в чем не была уверена. Мы имели дело со своего рода автохроном, способным эксплуатировать воду как вещество во всех ее расширениях, наделенным частичными намерениями, оперирующим внутри миллисекундной системы времени. Вот что мне было ясно. Мои познания в этой области были самыми глубокими во всей Орде. Они шли от эзотерической части моего образования аэромастера. Я должна была им сказать, у меня больше не было выбора. Пусть даже мне придется нарушить клятву:
— Караколь, Сов, идите сюда. Погрузитесь в воду по шею. Пусть только голова останется на поверхности…
— Зачем?
— То, что на нас напало, охотится за пылом, который живет у нас внутри. Вода приглушит его сияние.
— Откуда ты это знаешь?
— Знаю. Я знаю немало вещей, которые должна вам сейчас объяснить.
— Я тоже, — добавил Караколь без доли иронии.
) 
Я чувствовал, как у меня за спиной озеро превращалось в пар, я дрожал от теплового шока, слушал, как вода шипит и пенится. О чем тут можно поговорить?
— Здесь речь идет о некоем полихромном создании, — начала Ороси. — Я не знаю, откуда оно появилось, но знаю,
493
что его питает. Как и другие хроны, оно обладает способностью совершать локальные метаморфозы, оно может трансформировать воду, грязь, почву, может перевести вещество в твердое или жидкое состояние, вы все это знаете?
— Да.
— Оно так же воздействует на течение времени. Оно может его ускорить или, напротив, замедлить. Наверняка оно может даже полностью его остановить.
— Поэтому Тэ шел так медленно?
— Да, Сов. Он попал в хроновый сгусток, который рассеял собственным голосом. Если бы ты был на его месте, ты бы неделю шел. Не забывай, Тэ — мастер молнии, он находился в сверхскоростном режиме.
— Почему он нас расставил кругом вокруг лагуны?
— Чтобы направить хрон в эту зону, запустить его по кругу, раз уж он так чувствителен к нашим вихрям. Тэ уравновесил распределение по степени энергии каждого из нас, чтобы не допустить излишнего скопления в одном месте. Но поскольку братья остались вместе, это нарушило равновесие, они создали глаз для воронки, они оторвались от общей схемы. И Нечто сразу уловило их и бросилось на них.
— Зачем оно убивает?
— Оно не убивает, оно не знает, что делает. Оно дефибрирует, дислоцирует, трансформирует, искажает, понятия не имеет о своей силе. Но когда оно где-то проходит, то материя еще долго об этом помнит.
— Как это?
Обжигающий пар продолжал нас поджаривать, морщины на моих руках то появлялись, то расплывались, я хватался за разъяснения, как за буйки, плескал себе в лицо водой, чтоб хоть немного остыть. К удивлению Ороси, на мой вопрос решил ответить Караколь:
492
— Дубильщик борется за свою жизнь, как и все живое. У него хаотическое строение, он состоит из перекрестных, плохо сцепленных между собой воронок, циклонов высокой вязкости, он волочит за собой мощные потоки, магму, которая его истощает, он неуравновешен, он в постоянной охоте на бесконечную энтропию, он растрачивается от каждой метаморфозы, ему нужна материя для перетирания, для искажения, он по-другому не может.
— Ты что городишь, трубадур? Ты откуда это взял?
— Слушайте внимательно. Я с вами не в игры играю. Мы в смертельной опасности. Вы не знаете, что это, вы не понимаете, чтó оно ищет!
— А ты, значит, понимаешь? Совсем поехал, что ли? — заорала Ороси. — И откуда ты знаешь, что на нас напал именно Дубильщик?
— Это правда Дубильщик? — встрял я в накаляющийся разговор.
— Да, — ответила Ороси. — Это то, что убило Силена. И спасло Эрга!
Караколь продолжил говорить, переводя взгляд то на Ороси, то на меня:
— У Дубильщика проблема с консистенцией. Это совершенно удивительно. Он вынужден постоянно впитывать чужие вихри, чтобы перезапускать свои воронки, сообщать им скорость вспышки, для того чтобы держаться ровно. Его в любой момент может рассредоточить, растворить в линейном ветре, из которого он вышел. Он преследует нас из-за наших вихрей, в частности вихря Эрга, он у него самый четкий из нас, но он наверняка чувствует завихрения в кильватере Голгота, Фироста, братьев… Инстинктивно. Он здесь не для того, чтобы нас убить. Ороси правильно сказала: он не знает, что это значит. Он здесь, чтобы питаться, чтобы учиться. Это новое создание. В нас
491
ему нужно то, что в нас есть живого. Но это живое он чувствует не только в людях, он улавливает его в иле, в рыбах, в растениях, в воде… Так что после его появления ни один биологический порядок не остается прежним, он высасывает все жизненные соки, все связующее в вещах, все, что держит их вместе…
Ороси смотрела на Караколя совершенно ошеломленная. Ее черные гладкие волосы падали локонами на плечи, благородное, с аккуратными чертами лицо выражало острую внимательность. За ее спиной песок вдруг стал оранжевого цвета. Окисление? Я с трудом силился понять, что говорил наш трубадур, она же явно понимала его слишком хорошо. А главное, понимала, что по статусу ему ничего подобного знать не положено. Я был потерян. Я думал о Карсте, о моей милой Аои, о Каллирое, затерявшихся где-то там, за занавесом пара. И о Нушке, просто-напросто о ее лице. «Будь осторожен, волчонок».
Ω 
Чертово дерьмо, да мы тут все сейчас прямо в ил наделаем! У Эргача вон уже факел вместо крыла, а он все висит на нем, как на прицепе, у него уже все ляшки подкоптились, мне отсюда слышно, как он воет. Тэ Джеркка орет изо всех сил, пускает волны, ревет воронками, бьет стальными гонгами, фигачит порывы и смерчи… Кидает сверхскоростные серпы, мечет диски в пустоту, расшибается в лепешку наш Маэстро! Если б не он, то я б тут с вами уже не беседовал. Но с этой дрянью бороться — все равно что против ветра ссать. Эта Куча, она откуда-то с космоса на нас свалилась, вскипятила все болото одним черпаком, имеете со всеми курицами-уточками, ниче не осталось, одни скелетики да черномазый кратер. Земля как лава стеклованная. Там сверху Куча сжалась в тучу, пора бы нам отсюда драпать по-скоряку. Но Джеркащ сказал держать
490
позицию и ходить кругом вокруг кратера, раз, два, три, с ускорением, сказал. Кто б понимал, но не нашего ума дела, он начальник, сказал — значит, будем выплясывать хороводы, так хоть грязюка постекает, ходим крути нарезаем, может, магия какая, там с неба небось Куче весело на нас смотреть… Чем на этот раз нас шибанет, кислотной мочой, может? Красно-синим снегом? Переработанной утятиной? Я голову поднял посмотреть, что оно там. А туча вдруг спиралью пошла вокруг собственной оси, как центрифуга, типа сливки взбивает. Обороты не слабые. Раскрутилась — и на нас давай, чтоб его. Это ж смерч настоящий!
— Орда! Все на позиции! Отойти на пятнадцать шагов! Осторожно на шквалах.
π 
Смерч стал образовываться очень быстро. Плотная цилиндрическая колонна. Он всосал в себя все дно кратера, настолько центральное давление в нем было низким, и стал выбрасывать облака пыли и камней. Мы легли. Скорость шквалов была на уровне начала ярветра. С блаастом. Аои подбросило метров на двадцать вверх вместе с пластом трясины. Она была ранена, но все же встала на ноги. Каллироя барахталась в болотной тине, хлебала воду, икала. Горст стоял как вкопанный лицом к ветру, словно вросший в землю ствол. На что тут мог надеяться Тэ? Серьезно? Эрг вышел из игры. Он обгорел по пояс, у него был ожог третьей степени. Мы все были бессильны перед происходящим. Почему мы до сих пор не унесли отсюда ноги?
x 
Смерч остановился сам, по инерции. Причиной послужило то, что вся Орда распласталась по кругу и замерла. Дубильщик реагировал как отражение наших
489
затаившихся на земле вихрей. Он менял положение от одного к другому. Это был своего рода способ услышать нас, Караколь оказался прав, хоть его аналогии меня и раздражали. В них не хватало последовательности. Тэ Джеркка знал, и очень хорошо знал, что делает: он отцентрировал Дубильщика, заставив его закрутиться центрифугой; вернул ему сцепление и скорость.
— Ему теперь намного лучше, — заговорил Караколь. — Он собрался целиком. Но Тэ Джеркка должен действовать быстро, иначе он опять расползется, пойдет за своей жаждой…
— Жаждой чего?
— Жаждой материи для преобразования, жаждой расщепления, выделывания материи изнутри.
— Зачем ему это?
— Из-за консистенции, Сов, это проблема наполнения. Сам по себе автохрон — ничто, понимаешь, у него нет собственной материи, он не состоит ни из воды, ни из воздуха, он даже не есть то облако, которое ты видишь, не лед, которым покрылось озеро.
— Но я же видел, как оно движется…
— Автохрон состоит из разницы потенциалов внутри него. Он создан из скоростей. Пойми, Сов, это сложно себе представить, я знаю, но он существует только движением. Чистым движением, чистым ветром, если тебе так больше нравится, но без какой-либо частицы материи в нем. И тем не менее он существует. Но всегда между. Между двух вод, между двух огней. Между сумраком заката и рассвета.
— Это значит…
— Это значит, что он —
ничто. У него нет личности. Он живет своей разнородностью. Он есть расхождение в любой сути, отклонение в процессе. Он все время
488
нуждается в материи, беспрерывно, всегда, ему необходимо, чтобы все его различия вступали в действие. Ему нужно постоянно оставаться в движении, он стремится от верхнего к нижнему давлению, превращает жидкое в твердое, разжижает плотное в текучее, перескакивает от бегущего зверя к распускающемуся листу, чтобы это непрекращающееся изменение никогда не утихало, даже при нестабильном давлении, даже в активном дисбалансе. Дубильщик пока еще не существует, Сов, но он старается собраться, он стремится со временем обрести
консистенцию.
— Откуда такое странное название, Дубильщик? Кто его придумал?
) 
Наш разговор прервали крики животных. Я обернулся. Там, где раньше было болото, теперь осталась просто впадина с засохшей грязью, а посреди нее корчилась от боли и визжала крупного размера выдра. Ее шкурка серела на глазах, усы побелели, она извивалась как мешок, как будто тело ее лишилось позвонков. Караколь бросил взгляд на выдру и осенил себя знамением эллипса:
— У нее растворяются кости, в ее вихре больше недостаточно сил, чтобы удерживать лапы вместе. Послушай меня, Сов, пойми одно: не нужно пытаться судить то, что ты видишь, исходя из человеческого опыта. У Дубильщика вообще не должно быть имени. Это не индивидуум, это множественность в преображении, хаос, питающийся гетерогенностью. Ему важны только две вещи. Две! Первая — оставаться центричным, сохранять свои уровни интенсивности, свою крайнюю скорость, и для этого он постоянно должен поглощать вихри. Вторая — фактически полная противоположность первой, она работает контрапунктом, в нем должны образовываться дыры.
487
— Дыры?
— Да, Дубильщик вынужден формировать в себе неравномерную массу, из плотно текущей магмы, из пластов пустоты, которые всасывают материю, позволяют ей двигаться. Это целый мир экструзии, перемещения, осмоса. Перезакаливания. Такая внутренняя циркуляция помогает ему выстроиться по собственной архитектуре и последовательности, по противовесу сил и натяжений. Так парус буера держится с помощью ветра, что его надувает, мачты с гиком, троса, который ею управляет, руки, что натягивает трос, карлингса, что держит мачту, веса тела, что удерживает человека на земле. Понимаешь?
— Нет.
— Дубильщик поглощает тонны материи, Сов! Он разбивает их структуру, их внутреннюю связность, все их соединения. Он превращает их в тесто, в живую лаву. И он месит это тесто вихрями, которые выдавливает из тел всего живого. Он метаморфозирует вслепую, наугад. У него просто есть тенденция возобновлять то, что срабатывает лучше всего, вот и все. Он продвигается тем, что поочередно меняет свои коды, он совершенствуется за счет сделанных им благоприятных ошибок. Только ошибка бывает созидательна. Это же невероятно, разве нет?
Ороси дала Караколю договорить до конца. Она качала головой с видом, выражающим «Какой же подлец, ты все это знал и ни разу мне об этом не сказал!». За нами голос Тэ Джеркка продиктовывал звонкие, судя по всему, плохо исполняемые инструкции, Эрг постанывал залпами, Альма суетилась вокруг него. Облако над кратером снова менялось. В этот момент оно походило на хрон, разве что его стенки сгибались, инвагинировались, обширные участки становились черными, фиолетовыми. Я постарался взглянуть на это, как говорил Караколь, как на обитаемый хаос,
486
с определенной, неподвластной мне, но все же логикой, а наличие таковой, пусть и притянутой за уши, все же чем-то успокаивало.
— Он снова превращается в хаос…
— Он опять мутирует.
— Тэ Джеркка, наверное, попробует еще один ход…
π 
Тэ Джеркка зашел в самый центр кратера. Он находился в надире облака. Освещение было мрачное. Снова поднялся неустойчивый ветер. Влажность проступила росой, покрыла свежий базальт кратера блестящей пленкой. Мэтр сказал нам оставаться на краю воронки, по-прежнему в пятидесяти метрах друг от друга. И не двигаться. Он погрузил Эрга себе на плечи и отнес его в ложбину кратера. Прошептал ему что-то. Эрг поднялся на одну ногу, развернул запасной параплан и взлетел. Подлетел прямо к облаку, почти коснулся его и опустился вниз, затем снова поднялся. И так десять, двадцать раз. В промежутках Тэ Джеркка выкрикивал мощные, нерегулярные звуки. То в рожок, то нет. Устремляя их вверх. Словно призывы, торжественные речи.
Ω 
Может, хватит уже дурака валять? Или им по бубну охота получить? Придумали тут на Кучу орать, подонимать больше некого, что ли? Сейчас отхватим грозы по самое рыло, там внутри уже все грохочет, трещит, как будто его на куски рвут. А эти двое торчат там до сих пор, один скачет, как йо-йо, туда-сюда, второй песни распевает. Если б у меня буер был, я б уже давно парус надул и досвиданьица, до новых встреч, потом расскажете, как оно было. Доведут меня до усрачки, два придурка, особенно дружок Эрго, его прям тянет потрогать за сосцы эту корову небесную, хромоногую. Если он тут окочурится, то
485
дальше мы без него не проконтруем, уж можете мне поверить.
— Ороси, что они, по-твоему, пытаются сделать?
— Вызвать бурю. Здесь логика материи. Дубильщик еще полон воды. Он сработает как грозовое облако, в нем запустятся внутренние сильнейшие круговороты, образуемся разница в зарядах частиц ледяной воды.
— Скоро шибанет?
— Да, но я не понимаю, зачем это нужно Тэ. Их убьет молнией!
) 
Гроза была неотвратима. В фиолетовом животе облака уже грохотал гром. Тэ сказал Эргу прекратить полеты, и Барбак со Степпом вынесли его из кратера. Тэ остался совершенно один в том, что когда-то называлось озером, и лег на спину, устроившись странно, как паук вверх тормашками. Время как будто зависло, он больше ничего не говорил, было слышно только надвигающуюся, разрастающуюся бурю. Вдруг у самой земли послышался звук какого-то немыслимого вдоха, который стекался к наставнику Эрга. Шли секунды… Десять… Двадцать… Тридцать… Сорок… Тело Тэ Джеркка было наполнено воздухом, заключенным в апноэ, оно надулось газом так, что, казалось, вот-вот лопнет, весь живот, легкие, все раздулось в размерах и вдруг взорвалось, как шар, выпустив весь воздух! Ударная волна была настолько сильная, что у нас потемнело в ушах. Тэ Джеркка подбросило на метр над землей от ужасающей ярости его собственного леденящего крика.
π 
Секунда, не более. Миг для эхо. И молния пронзила пространство. Тэ увернулся. Второй разряд пробурил по вертикали. Он снова увильнул. Свет ударял хлыстом по поверхности кратера. Но Тэ Джеркка каждый раз уходил
484
от удара. Он не пытался сбежать. Не желал покинуть зону столкновения.
) 
Потрескивая на базальте, вспыхивая и плавясь, как охапки хвороста, электрическая плазма лишила бы рассудка кого угодно, будь то человек или зверь. Но Тэ Джеркка не просто так получил свое звание мастера молнии в двадцать один год. Он всегда оказывался в другом месте, там, куда молния не доставала, всегда в тени удара, как если бы знал где, как если бы понимал как, как будто угадывал ритм и темп.
Голос, голос, сплошной голос: сик, сик — метал он звуковые стрелы, как лучник, сражающийся против слишком сильного монстра в поисках уязвимого места, стараясь угодить в глаз или в вену. Крики разрастались, выточенные горлом удары гонга, чистый нефеш, волнами… Вскоре вспышки молнии стали настолько частыми, настолько яркими, что обжигали сетчатку глаз, и я уже больше не мог смотреть на все это. Гроза свирепствовала, выходила из себя, была в бешенстве… Молнии бомбили кратер без устали, растекались по черной лаве, Тэ долго не продержится, теперь это был вопрос нескольких минут, не более.
—
Дербелен! — орал Эрг. —
Фиск Местер! Дербелен!!!
π 
Но учитель не слушал приемного сына. Не слышал того, которого всему обучил. Он не слышал ничего, кроме самой молнии, которой был обязан своим глубинным знанием и своей силой. Тэ Джеркка решил идти до конца.
) 
Я знаю, что трубадуры потом нередко писали и говорили об этой сцене, которую я изложил в контржурнале и прочел в Альтиччио перед раклерами. Я знаю, что в нее невозможно поверить. Но не буду спорить, со мной было
483
двадцать два очевидца. И моя совесть скриба. Можно пило бы бесконечно вести дискуссии, говорить, что все дело, например, в галлюцинациях. Можно утверждать, что семнадцать молний, застывших вертикалью над землей, не поддерживали облако, а что, напротив, они от облака свешивались. Можно говорить, что Тэ Джеркка ничего не останавливал, что голос его никакой особой роли не сыграл, что нефеш — просто мистика. Можно решить, что хрон зафиксировал отрезок времени. Можно даже представить себе, что внезапное окаменение облака связано непосредственно с этой остановкой во времени. Да, все возможно. Но я отчетливо слышал, как
скрежетали золотые опоры, удерживающие то, что превратилось в огромный блок зависшего в воздухе гранита, в тридцати метрах над кратером. Я видел, как семнадцать металлических столбов сгибались под тяжестью каменного облака, видел на лице Тэ, как он понял, что у него все получилось. А главное, я слышал его собственное объяснение, неоспоримое и скромное: у хрона закончился запас энергии. Он в своем грозовом апогее
растратил все дифференциации потенциалов, он был как сердце на грани синкопы, сжимающееся после сверхмощного усилия. Если довести хрон до такого пароксизма, он не умирает, но блокирует время, в себе и вокруг себя. Именно это и произошло. Всего на полсекунды. Но этого хватило, чтобы молнии превратились в металл.
Я всю жизнь буду помнить, что ответил Тэ Джеркка, когда Эрг и Ороси спросили у него в полном восхищении, как ему удалось избежать молнии в кратере, заполненном вспышками. Он посмотрел им прямо в глаза, как будто не понимая вопроса. Он весь свернулся немыслимой спиралью морщин и произнес с совершенно обезоруживающей искренностью:
482
— Я избегать друга молнию? Зачем избегать?
— Но вы же…
— Стар стал я… Слишком много усилий было перепрыгивать справа налево…
Даже у Эрга язык отнялся. Он сел рядом со своим учителем и взял его за руку. Я никогда не видел, чтоб он делал нечто подобное.
— Вы знали, что у вас получится?
— Нет, макака. Думал поговорить с ним немного.
— Поговорить?
— Да, сказать ему, что устанет… Не стараться победить, помни, макака, просто стараться.
— Надо уставать меньше противника. Тебя никто не убивает. Ты сам себя убиваешь. Твоя усталость убивает тебя. Усталость — единственный враг. Отныне и впредь. Везде.
— Вижу, в твоей голове задержалось… Хорошо, сынок, хорошо… Как нога?
— Все в порядке, Тэ. Боль — это всего лишь информация.
x 
Караколь пробыл у рухнувшего на землю гранитного монолита больше часа, он трогал и поглаживал разлетевшиеся вдребезги обломки скалы. Затем подобрал кусочек и положил в карман. Подарок на память? Для личного исследования? Из чувства сопричастности? Когда он меня увидел, то улыбнулся, почти смущенно, затем снова напустил на себя привычный вид трубадура, веселый и исполненный вдохновения, но вышло не совсем правдоподобно. В конце концов он указал мне на каменный блок и сказал:
— Знаешь, ему потребуется несколько недель, чтобы снова обрести скорость. Чтобы снова привести в
481
движение свои кристаллы. Мы к тому времени будем уже далеко. Я так понимаю, что он сейчас упал до недифференцированного предела: у него дыхание стало монолитным. Но вихрь в нем все-таки бьется, очень слабый, едва ли похож на завиток, но этого будет достаточно, чтобы все запустить по новой, увеличивающимися отклонениями, расширенным хаосом. Его преследует как бы примитивная склонность к отличию, Ороси, которую невозможно отнять у него, невозможно восполнить. В этом его сила. ()п всегда восстанавливается, внутри него жизнь.
— Да, Караколь. — Я следила за его реакцией, но он, разумеется, себя ничем не выдал. — Он начнет с крохотных кристалликов, которые станет то плавить, то замораживать. От талой воды пойдут травы, которые станут расти в его расщелинах, многолетние кустарники. И он будет бродить от одного к другому, от минералов к растениям, будет питаться, использовать мощность разрыва. И когда в нем накопится достаточно расхождений и скорости, тогда снова начнется выделка… Повсюду, где он пройдет, станет скрежетать ржавчина, гнить дерево, все будет медленно растворяться, превращаться в пыль и прах, потому что из любой организованной материи он извлечет то, что составляет ее жизнь, все, что ее одушевляет, и все, что ее связует, это активное напряжение различий. Он убил нашего Карста, а ты стоишь на коленях и любуешься им…
— А тебя он не завораживает?
— Завораживает. Потому что у вас с ним есть нечто общее, трубадур, он — всего-навсего другая форма хищничества жизни.
(обратно)
IX
ФОНТАННАЯ БАШНЯ
π 
Островок вытянулся прямо в русле ветра. Тонкий песчаный бар метров тридцати в длину. Практически размером со стандартный хрон. Посреди островка загибались три деревца. Степп мне сказал все три названия, но я его не слушал. Мышцы мои были разбиты усталостью. Холодно. Это был холод вторичный, осадочный, тот, который наступает, когда ты уже вышел из воды. Тот, что успел пронизать тебя до прожилок. Каждый ордиец выбрал себе место для ночлега. Леарх говорит, что песок похож на бурый сахар, и он прав. Волны прокатывались со всех сторон вдоль нашего мыса. Наш с Арвалем разведывательный выход к верховью ничего принципиально нового не принес. Все затягивало вечерним туманом. Я успел заметить вдалеке цепочку наносных островков. Они прочерчивали достаточно четкую трассу, но нам придется то и дело опускаться в воду. Все одно и то же уже три недели. Со встречи с Дубильщиком. Половина Орды балансировала на грани. У девочек с лиц сошли все краски. Они были совсем отрешенные от усталости. А мы в лучшем случае находились всего лишь на середине пути, согласно интерполяциям геомастера Тальвега. Никто не пришел в себя после смерти Карста. Никто об этом не говорил.
Я достал свой навес и установил его, укрепив по краям песком. Все те же группки вокруг огня. Сила привычки:
479
Голгот, Леарх, Фирост и Тальвег ближе к верховью, без навесов, под открытым небом. Вернее будет сказать, под открытым дождем… Барбак, Свезьест и сокольник под деревьями, стрелка на два часа. У огня, когда все уже разойдутся спать: Каллироя, Силамфр, Альма, Степп, Арваль и Аои — они сейчас часто держатся вместе. И Кориолис тоже с ними, только если Караколь не… Эрг, невидимый под покровом из песка, — стрелка на четыре. Горст и… Горст и Ларко предпочитают оставаться ближе к низовью, стрелка на восемь. Ну и напоследок квинтет ночных любителей поговорить: ястребник, Караколь, Ороси, Сов… и я.
∫ 
М-да уж! Остальные-то тоже не особо в огне (разве что кроме Голгота — тот, когда устает, только пуще орать и. пинает, агрессию свою распускать). У нас у всех лица, как у подбитого бражника, мышцы рук все в кашу без масла. И марева вместе с нами, ровно по воде, обволакивают своей ностальгией о том, что когда-то были компактными. Они решительно размыты (особенно по вечерам и ранним утром). После, днем, стягиваются, приобретают форму, с ними можно говорить. Но сейчас (в надвигающихся сумерках) они дают волю своим приглушенным жалобам. Я запустил клетку и потянул назад — пусто, само собой! (точнее, не совсем: попалась серая медуза, обмазала мне всю клетку какой-то слизью. Каллироя нам сделала из нее желе, премерзкий бульон, который лип потом всю ночь к стенкам желудка). Я думал, Караколь нас вытащит из этого оцепенения, выдаст сказку на ночь. Он встал, откашлялся водой и рассказал (на две минуты) историю о Лапсанском паромщике (из серии историй перед сном, чтоб хорошо спалось: какой-то прозрачный тип с ногами из дождевой кожи, который бродит повсюду со своим лезвием из чистой воды и голову тебе срезает ровнехонько по плечи…)
478
— Нужно будет завтра быть свежачком, наготове, птенчики… Я слышу какие-то волны кругом, щекочут барабан озеру. Тигиди! Тигиди! Пританцовывают…
А потом пошел спать. Не огонь, говорю вам. Мы все безнадежно переглянулись в общественном унынии. Мы, конечно, ничего особо не поняли, но когда трубач наш что-то там чувствует, после этой истории с ярветром мы теперь уши сразу раскатываем, а то мало ли что.
< > 
Дождь сначала застучал мелкими шажками, легкой кавалькадой, а затем на нас начали падать целые соцветия, будто кто-то высыпал на головы корзины сережек, охапками, капли барабанили по поверхности воды. Я ну никак не могла уснуть. Говорила с собой, как обычно: «Ну что же ты, глупышка, Аои, отдыхай… День завтра будет изнурительный». Но я чувствовала, что вода вокруг нас странная, и все кружилось передо мной… И я начала тихонько слушать дождь…
Капельки ударялись о податливые листья, о простыню озера, этот непрерывный мягкий шум, тонкий отсев зерен воды, падающих на этот мир, — я не знала ощущений более глубокой нежности, которые умела бы принять с более полным чувством присутствия. Дождь как из жидкого колокола, бьющего секунда за секундой на полном лету, кругом и повсюду, на взболтанную воду, на землю и песок, на лицо Степпа и сквозь дикие травы его волос, дождь, просачивающийся через любую подставленную ему материю, стекающий по прохладному затылку Каллирои, в глубину обнаженного черепа снов, дождь в ушах и во рту, потому что ничто более не могло ему противостоять, дождь, потому что глиняные впадины были слишком малы, чтобы вобрать в себя всю воду, и даже длинные лагуны, дождь, и те затопленные озера, дождь, и все болото… Дождь…
477
На рассвете, в полузабытье, я видела, как желтые пятна расходились акварелью по туману. Дождь продолжался, журчащий, шуршащий, колотил по песку с нежностью жемчужной выдры, взъерошенного тромпюшона на берегу озера, потрепанного куста. И в конце я все-таки уснула, закутавшись в объятия Степпа, который впустил меня в свой спальник. И вместе нам было тепло.
) 
Дождь начался разом — посыпал дробью по редкой вертикали. Я высунул голову из мешка на секунду, автоматически вытащил накидку, скрученную под затылком, и накрылся ею с головы до ног, подвернув, как получилось, по бокам. Дождь усилился. Весь остаток ночи он пробарабанил по жесткой поверхности навеса. Навес превратился в лоханку, лоханка в таз, а затем переполненный таз пролился на нас под напором шквалов. На рассвете все высматривали солнце молча, не высовываясь из спальников. Затем встала Каллироя — эта девочка была не просто огница, она поистине была настоящая волшебница, — и огонь разгорелся практически сразу, сначала дымящий, но очень вскоре ясный и жаркий, а над ним Силамфр выстроил портик из наших промокших до нитки спальников.
— Подождите, пойдем все вместе! Святой Ветер, да послушайте же! Это болото опасное. Даже Эрг с вами еще не вышел.
— Всем оставаться группой! Дайте доесть эту чертову похлебку!
π 
Но куда там. Любопытству нет пределов. Арваля уже унесло вперед. Голгот и Фирост вслед за ним. Караколь, Ороси и Степп нырнули следом. Я только видел, как их кильватер вспенился в пару тумана. Дымка держалась
476
в каком-то сверхъестественном сиянии. Наши тела, поверхность воды, песок… все было желто-лимонного оттенка. Он поднимался постепенно. Время от времени солнечный диск появлялся со всей точностью. Чего я не понимаю, так это как мы умудрились пропустить эту башню вчера на разведке. Она возвышалась всего в двухстах метрах от нашего острова. Около десяти метров в высоту. Три в ширину. Две круглые платформы, одна прямо над водой, как борт для пристани, вторая сразу под крышей, чтоб можно было облокотиться о бортик. Бортик чего? Водонапорной башни? Скважины? Силоса для хранения зерна? Эрг у меня за спиной что-то сквернословил. Он поставил миску, тут же взлетел на тяговом воздушном змее и уже через двадцать секунд опустился на верхушку башни. И таким образом всех опередил. Я нацепил костюм и полез в воду. Та была непривычно теплая как для только что наступившего утра. Чувствовались течения. Вскоре дно углубилось. Я открыл глаза в прозрачной воде. Подо мной было уже метров пять, внизу скалистое дно, усеянное черными камнями. И чем ближе мы подплывали к башне, тем оно становилось глубже. У подножья было сложно определить, как глубоко уходило основание. Стены шли под откос, туда, куда не доставал взгляд.
— Давай быстрее, Пьетро! Они уже наверху. Там, похоже, что-то странное!
— Тальвег?
— Что?
— Из чего эта башня?
— Из зеленого порфира.
— Здесь такое возможно?
— С точки зрения геологии — нет! Камни наверняка не отсюда. Их сюда, скорее всего, привезли на корабле.
— Все из порфира?
475
— Целиком. Даже двойная винтовая лестница. Видел? Ступени уходят выступом наружу. Такую технику можно встретить только в крытых зонах, в горных поселениях. Слишком сильная эрозия. Но работа прекрасная, посмотри: они в стену вделаны одним блоком. И размер идеальный.
Я поставил ногу на первую ступень и пошел вслед за ним. Лестница и вправду была достойна дворца. Ступени выступали из стены каждые тридцать сантиметров и шли вверх, закручиваясь в цилиндр. Без перил, просто вделанные в стену. На пяти метрах над водой начинала кружиться голова.
— Что там сверху слышно? Голгот, Фирост, Арваль? Как там?
— Давайте наверх! Увидите! Похоже на колодец. Полон воды до краев. Крутится как водоворот.
— И по бортику надпись какая-то выгравирована.
— Ладно?! И что там?
) 
Я услышал ответ Фироста с вершины башни. По всей видимости, надпись было трудно разобрать, так как он сначала что-то промямлил, и лишь потом выговорил:
— Тут написано: «Никогда… не… говори… фонтан…»
За чем последовал какой-то нездоровый звук, похожий на мокрый кашель…
— Все в порядке там наверху? — тут же осведомился Караколь, который уже был на последних ступенях лестницы.
— Альма! Альма! Позовите Альму!
— Что случилось?
— Он задыхается! Фиросту плохо!
— Фирост!
Я рванул вверх по лестнице и чуть было не поскользнулся, угодив в воду с восьми метров к подножью башни.
474
Наверху, на круговой платформе, уже столпились Голгот, Арваль, Ороси, Караколь, Степп и Пьетро. Фирост наклонился над бортиком колодца и извергал в него жидкость, вернее сказать, жидкость сама из него извергалась…
— Что здесь происходит, черт возьми? Что с ним?
— Без понятия, из него вода течет!
π 
Голгот схватил Фироста и сунул ему два пальца прямо в горло по самое не могу… Но это совершенно ничего не дало. Лицо столповика перекосилось от дикой, невыносимой паники. Вода лилась из него ручьями через нос, слезами из глаз, через открытый рот, из ушей. Он мочился сам под себя, вода выливалась даже из его ануса. Вся кожа обезвоживалась. Он изо всех сил пытался вдохнуть, но вместо этого только икал, всасывал воздух, который не мог поймать. Его хрипы тонули в глубине горла.
) 
На платформе все были в полнейшем замешательстве, совершенно не в состоянии отреагировать на происходящее. Альмы не было, Караколь застыл молча, Ороси смотрела попеременно то на водоворот в колодце, то на надпись, то на Фироста. Она была в таком же недоумении, как и я.
— Арваль, что случилось? Что он сделал?
— Ничего! Он просто прочитал надпись! А потом…
— Какую надпись?
— Здесь, на бортике!
Караколь подошел ближе, он выглядел так, будто у него было плохое предчувствие:
— Возможно, это глиф, — сказал он. — Устный глиф. Фраза, которая действует посредством звука. Может, эти слова вызывают…
— О каких словах ты говоришь, Ветер Святый?
473
— Которые написаны здесь, на краю колодца.
— «Фонтан», что ли? — пробормотал Арваль.
Случись это в другой ситуации, не на вершине порфировой башни, в более чем немыслимом для этого месте, посреди Лапсанского болота, может, я бы и рассмеялся из-за ляпа Арваля. Но наш столповик-охотник изливался у нас на глазах, как продырявленная бочка, пока Альма плыла брассом с головой под водой и понятия не имела о панике среди Орды, застывшей у колодца с неестественно вращающейся в нем водой. Ровно в момент, когда наш молодчина-разведчик произнес слово «фонтан», я все понял. Но было уже на сотую долю секунды поздно. Арваль камнем рухнул на пол, и голова его перевесилась с края платформы в пустоту. Я лишь успел вовремя его ухватить. Длинный поток воды потек из его открытого рта и загрохотал каскадом по озеру в самом низу. Когда мы его подняли, то на лице у него было такое же выражение чистейшего страха смерти, что и у Фироста. Лицо его истекало абсолютно чистой водой, без какой-либо слизи или соплей. Прозрачной, чистейшей водой. Только бралась она из ниоткуда. Точнее, она шла из него самого. Фирост стоял на коленях у порфирового бортика, лицом к пропасти, поддерживаемый под плечи Голготом и Степпом, и старался раз за разом заглотнуть воздух наперекор водам, которые били из него ключом, перекрывая горло; он стонал, орал, как из глубины трубы, одними легкими, не и состоянии хоть что-либо произнести… Человек-фонтан.
Минуту спустя Альма уже была здесь. Она осмотрела одного за другим Арваля и Фироста, измерила объем груди, бедер и рук — что за чушь! — и лишь потом обратилась к нам:
— При таком темпе минут через десять их в живых не будет.
472
— …
— Фирост потерял уже четыре литра воды, судя по объему талии. А у Арваля запас еще меньше. У него обезвоживание наступит минут через пять.
— Альма, что с ним?
— Из них выходит вся их вода. Ускоренная дегидратация. Вода идет отовсюду, из клеток, мышц, плоти, кожи, желудка. Они истекают водой, и очень, очень быстро.
— Что это может быть? Водяной глист?
Альма ничего не ответила. Она раздела обоих догола. Вода сочилась у них из всех отверстий. Она взяла четыре повязки и, не раздумывая, засунула по одной каждому из них в задницу, насколько смогла глубоко. Затем плотно перевязала у основания гениталии, чтобы остановить водоизлияние. Потом сунула им по согнутой трубке в рот, чтобы, как я понимаю, имитировать замкнутый дыхательный контур:
— Глотайте, глотайте сколько сможете, так, чтоб не задохнуться!
Кивком головы Арваль и Фирост дали понять, что услышали ее. Арваль был иссохший, как никогда. Фирост вдвое усох в ногах. Кожа у него на руках превратилась в пергамент. Оба они складывались в спазмах пополам, от приступов кашля трубки вылетали, и ротовая полость сразу же наполнялась водой, как раковина, вода стекала по подбородку, по груди — отрыжка, приступ — отрыжка, мы вставляли трубки назад, они хватали их зубами, вгрызались, но и этого было мало, они задыхались, они тонули стоя… И этот голос, этот жуткий голос, откуда-то из трубки, проглоченный, не в силах больше прорваться сквозь толщу тяжелой воды… Они протягивали к нам руки, а мы в ответ лишь трясли их за плечи, в полном отупении, совершенно потерянные и обезумевшие… Преодолев свое
471
замешательство, только Ороси и Караколь подошли в конце концов к Альме и стали ей что-то шептать. Тихо, но так, что мне все же удалось расслышать:
— Это хрон, да?
— Да, михрон, внедрившийся акваль.
— Откуда он взялся? Мы ничего не видели,
— Из колодца. Он в нем закрутился. Он формируется из артикуляции некоторых слов. Слово служит приманкой для воронки, и хрон закрепляется в трахее. Он использует ускорение воздушного столба и выработку дыхания, которые следуют за некоторыми звуками.
— Например за рядом глухих согласных, как ф?
— Например…
— И что нужно делать?
— Нужно вырвать его из трахеи. Он сейчас всасывает, как сифон, всю воду из клеток и извергает ее через все отверстия в теле. Он действует наподобие водяного смерча.
— Нужно попасть в самое горло? Нужно найти какую-нибудь трубку, может стержень? — вмешался я на нервах, но стараясь быть сдержанным.
— Это не поможет, Сов. Воронка — это воздушное невероятно скоростное кольцо. Его нельзя вытащить. Его можно только замедлить или развеять.
Диалог оборвался, когда вмешался Голгот, заорав:
— Капис, ты там чего возишься? Языком почесать решила? Мой столповик скоро лопасти отбросит. Или до твоей коровьей башки не доходит? Фирост подыхает! Ты чего ждешь, гадина? Чтоб он в собственных соплях задохнулся?
¬ 
Альма Капис, дочь Лакмилы Капис, из рода весьма многоуважаемых врачевательниц, обернулась и, сама по понимая, что делает, залепила Голготу здоровенную
470
оплеуху. В первую секунду голова у Гота зазвенела, как мраморный блок под ударом кувалды. Во вторую секунду он отпустил Фироста. А в третью он запрокинул голову и с размаха зарядил Альме прямо в лоб ударом башки. Альма покачнулась на платформе под силой удара и потеряла равновесие… Земля небесная, всю жизнь буду благодарен богам Камня, где бы они там ни прятались в куче тумана и гнилых камышей… Но Альма рухнула с платформы совершенно вертикально, как колонна, и вошла в воду, не задев нижней платформы. Когда ее бултыхающаяся голова показалась в гуще пены, все ухнули на радостях… Даже Голгот, что ни говори. Только в его варианте это прозвучало так:
— Чертовы бабы! Толкутся без толку, а потом еще хохлятся в ответ!
) 
«Ну ты не перегибай, Голгот», — прозвучало единственным укором в его адрес. Эти слова застряли в грудной клетке у каждого из нас, готовые выплюнуться наружу, но только Пьетро счел себя вправе им это позволить. Голгот прищурился, глядя ему прямо в глаза, но ничего не сказал. Ничего слышимого, во всяком случае. Альма, все еще оглушенная, уже поднялась назад по винтовой лестнице. Она даже не глянула в сторону Голгота, а сразу бросилась к Арвалю и Фиросту, которым мы поочередно силой вдували через трубки то воздух, то воду.
— Ороси, Караколь, идите сюда. Сов, ты тоже.
Мы отошли в сторону, на первые ступени противоположной лестницы.
— Объясняю вам ситуацию просто, как могу. У них в трахее крутится воронка. Такая форма хрона,
михрон аквального типа, который питается водой. Ороси должна понимать, о чем я. Его нельзя извлечь механическим
469
путем. Скорость его вращения нематериальна. Она зависит от слова-потока, которое придает ему динамику, зачастую оно скрыто в поговорках или считалочках. Это как заевший припев по кругу, который делает ротацию бесконечной. Кто-нибудь слышал спусковое слово?
Караколь поднялся и потащил Альму к бортику колодца. Он указал пальцем на слово «фонтан». Альма, Ороси, да и все остальные на несколько долгих секунд застыли перед своего рода заклинанием, написанным на колодце. «Никогда не говори: „Фонтан, я не стану пить твою воду”».
В центре медленно вращались, словно всасываемые сифоном, кубические метры прозрачной бездонной воды. Но уровень ее по бортику не опустился ни на дюйм.
— Что это вообще хоть значит?
— Эта поговорка?
— Да.
— Значит, мы не знаем, что ждет нас завтра, что никогда нельзя зарекаться.
— Значит, что мы не можем знать, не настигнут ли нас однажды наши желания, потому что мы решили не утолить их жажду сейчас.
— Может, нужно выпить воды из колодца?
— Они и так этой водой захлебываются. А толку никакого.
— Нужно затормозить воронку, остановить ее. Она появилась и существует только благодаря движению. Если у нас получится ее обездвижить, хотя бы на секунду, она рассосется.
— Нужно, чтоб они выговорили слово. Срочно!
— Кто? Какое слово? Что ты опять городишь, Караколь?
— Его величество акваль заявил себя заседающим лицом благодаря слову. Он живет в трахее милостью арти-
468
куляции этого слова. Мама права! Если господин Торож, как ранее сказано, столп, и мессир Светлячок, далее — лазутчик, смогут выговорить другое слово, которое
опровергает первое, которое вертится по обратному принципу… То тогда — вжух — и готово! Воронка разумиротворится!
— Значит нужно найти это слово и заставить их его выговорить… Так, что ли? Просто одно слово? Обычное слово?
— Як!
Повисла тишина. Ощущение, что мы как будто немного продвинулись, слегка уравновесило сковывавшее нас чувство беспомощности и на время приглушило панику. Теперь вся Орда столпилась вокруг колодца, все поддерживали Фироста и Арваля, что-то им говорили, вливали в них назад воду, которую удавалось влить. Леарх вытащил свои кузнечные мехи и стал вдувать им воздух прямо в горло, остальные же сдавливали свои фляги, стараясь залить обратно то, что безостановочно выливалось наружу. Но Арваль иссякал: через поры на коже, через глаза, полные слез, через нос, из которого шла бесцветная кровь — его вода, его собственная живительная вода. Он иссыхал все сильнее. Спазмы его становились все менее заметными, но щеки влипли внутрь, и он с каждой минутой все больше походил на мумию, замотанную в бинты из собственной кожи. Что могло дать отпор слову «фонтан»? Что могло его контрартикулировать? Какие знаки, какие звуки?
— Если мыслить логически, то ответ должен быть в самой поговорке, — наконец решилась Ороси. — Фон… дает воду, воду, которую как раз нельзя зарекаться пить. Но если решить пить воду сразу же, если согласиться тут же, безотлагательно, тогда поговорка потеряет свою потенциальную силу, лишится угрозы…
467
— И что с того?
— И ничего. Я не знаю.
Найти решение умственной задачи в чрезвычайной ситуации под силу каждому. Индукция вытесняет дедукцию, аналогия током пробегает от идеи к идее, подпрыгивает, возвращается, искрится — вне всякой логики. Интуиция устраивает короткое замыкание пытающемуся взять верх выстроенному мышлению. Она действует ризомами, то там, то тут, без иерархии и не по старшинству. И тогда ответ находится там, где его невозможно найти. Не знаю, что именно мне помогло — рассуждение Ороси? Тот факт, что, когда я наклонился над колодцем, меня поразила четкость спирали посреди идеальной формы окружности порфировой шахты? Или, может, моя извечная привычка скриба, переписчика ветров, представлять «О», когда я слышу слово «воронка», хотя меня всегда смущал выбор такой круглой буквы для обозначения спирали, очевидное противоречие между системой записи и реальностью, и которой существовал не круг, а точка, которая закручивалась, отдаляясь, от такой странной комбинации между вращением и его символической передачей, обозначающей вихрь водоворота? Ну и потом само наличие буквы «О» в пословице, его ударная позиция в последнем слове. Наверное, все вместе.
— По-моему, тут все однозначно. Это «О».
— Да, «О», — поддакнул Караколь, уставившийся в глубину колодца. — Буква «О». Единственная буква, которую можно противопоставить спирали. Единственный устойчивый и круглый звук, который способен воспроизвести человек. Молодец, юный глифооткрыватель!
— Караколь, мать твою, почему ты раньше ничего не сказал, раз знал? Это тебе не игра!
— Почему же, очень даже игра!
466
— Ты раньше Сова догадался, так ведь? Ты все с самого начала знал! Отвечай!
— Никак нет, отчаянная Ороси. Я еще искал нужный тон…
— Вы уверены, что «О»? — вмешалась Альма.
Но наша сестричка нас уже не слушала. Я был в бешенстве от Караколя, но не настолько, как Ороси. Она уставилась на него с яростью инквизитора. Альма подошла к Арвалю и обхватила его лицо руками, чтобы он выслушал ее из всех остававшихся у него сил.
— Светлячок, — прошептала она, — ты должен произнести звук «О». Ты должен сказать его как можно громче, как можно глубже, из самого горла.
— О! — раздался хриплый вой. И излияние прекратилось!
В то утро мы больше никуда не плыли. Мы остались все вместе, все двадцать два ордийца, провели день на вершине порфировой башни, которая впоследствии останется в моем контржурнале как фонтанная башня. Мы много пили, устроили целую оргию, мы выпили очень много воды прямо из колодца. Особенно Арваль и Фирост, которые весьма быстро надулись в размерах и напитались влагой. Вода была сладчайше свежая, почти фруктовая. Мы отлично повеселились, повторяя слово «фонтан» и окая сразу следом, поливая всех, как из шланга. Мы размышляли о смысле пословицы, рассказывали друг другу всякую ерунду, вроде того, что нужно говорить «я не стану пить воеводу», а вместо воды в колодце могло бы быть что-то поинтереснее.
π 
С вершины башни, под наконец ясным солнцем озеро было как на ладони до самого горизонта. В каком направлении ни глянь. Линия зыби обрывалась гребнями. Сгустки пены рассыпались пятнами по голубой скатерти
465
воды. Значит, вода скоро станет горько-соленой. Строго перпендикулярно ветру, вдали, в низовье, чернела полоска земли. Неподалеку от нас трепетал под лучами солнца светлый розарий, уложенный порывами ветра. Насыпная плотина плыла. Я подошел к Сову, сидевшему в задумчи-и(к ти, и положил ему руку на плечо:
— Ты заметил, Сов? Ни единого островка…
— Да… Боюсь, что расчеты Тальвега верны.
— Мы входим в центральную зону болота, это без сомнений.
— Нужно сказать Силамфру, чтобы приготовил плавучую платформу.
— Уже. Он как раз пошел со Степпом искать достаточно прочный бамбук для конструкции.
— Сколько дней нужно для переправы через центральную зону, если верить адмиралу?
— Он сказал, две недели при идеальных условиях: без штормов, без хронов, без медуз, без сифонов, с максимальными запасами дерева и еды, со всей Ордой в полном здравии…
— М-да… то есть надо понимать, три недели минимум…
— Четыре… Степп возьмет на себя запасы дерева. Он единственный, кто в форме для этого дела, да и вообще это его работа. У Каллирои достаточно масла и трута для костра. Что касается еды, то Аои еле держится на ногах. Я отправил Арваля за солеросом. Фирост отдохнет и пойдет с Голготом, Эргом и Леархом охотиться на водную дичь.
— Я видел рыжую цаплю, двух веретенников и несколько лысух, есть из чего кашу сварить…
— Дарбон своих пустельговых в основном по цаплям направит. Ястребник вычислил к низовью пласт глины с ивняком и ясенями. Его ястреб наверняка принесет пару полевых мышей, а может, даже и нутрию.
464
— Каллироя и Аои разделают мясо и прокоптят его. Насчет рыбалки можно будет решать по ходу.
— Я уже не могу есть эту похлебку из медуз и водорослей.
— В любом случае нам нужно пару дней отдыха, прежде чем атаковать центральную зону. Вот и поедим пока жареного мяса!
— Голгот согласен дать передышку?
— Он сам предложил. Говорит, мы еще толком ничего не видели. Что самое сложное только начинается. Что неизвестно, как поведет себя Горст. Не сказать, что он в порядке…
— По-моему, у нас еще не было худшего месяца, чем этот вот, проведенный в болоте. У меня ощущение, что я постоянно куда-то проваливаюсь, что все вокруг расплывается. Невозможно отдохнуть, опустить свою задницу на что-нибудь твердое и сухое. Я раздулся, как губка, у меня на руках вся кожа размякла. Вся плоть прогнила с головы до ног, я ем, пью и отдыхаю в гнили. Я сплю по три часа в сутки, я дрожу, когда захожу в воду, дрожу, когда выхожу… Пью вербовую заварку на каждом привале, чтоб сбить жар… Брххх… Одно удовольствие!
— И это ты еще из тех, кто держится молодцом. Посмотри на Аои, на Ларко, на Свезьеста… Кориолис еще кое-как справляется, но у нее кожа как будто вымывается день за днем…
— Она стала вся прозрачная. Караколь не очень-то ее поддерживает, я ему говорил!
— Караколь сам не в своей тарелке с тех пор, как начался заплыв. Он воду не любит. Он по вечерам истории свои за три минуты сворачивает. Да и в принципе он и настроение, и легкость свою здесь теряет. Становится таким же тусклым, как и мы.
463
— Только не когда дело жареным пахнет, тут он сам себя превосходит, даже слишком, я бы сказал!
x 
У меня с Караколем был жесткий разговор. Я его в покое оставлять не собиралась, пока он мне все не выдаст, пока все не объяснит. Я расспросила и о Дубильщике, и о приемах Тэ Джеркка, и о том, что именно ему было известно о нефеше, о старинном искусстве дыхания, для которого глиф на бортике колодца был просто остатками чего-то очень древнего, чем-то грубым и незатейливым. Затем я пошла к Сову и передала ему все свои умозаключения, попросила все это записать своими словами в контржурнал. Чтобы мы об этом больше никогда не забывали, и чтоб наше интеллектуальное продвижение послужило в свою очередь другим Ордам, если сами мы до конца не дойдем.
)) КОНТРЖУРНАЛ))
«Никто, кроме меня и Ороси, в общем-то и не пытался выяснить ни откуда взялась эта башня, ни куда она исчезла, когда оказалась у нас за спиной. А именно так все и было, она просто-напросто тихо испарилась. Никто так и не узнал о том, что мы были не первой Ордой в истории, столкнувшейся с фонтаном, и что наши предшественники потеряли шестерых. Порой знание, что приносят контржурналы, раздавливает меня и изолирует от остальных, оно открывает передо мной размышления, которые непросто передать и невозможно распутать. И если я и могу ими с кем-то поделиться, то, как правило, это бывает Ороси, наш аэромастер, чуть реже Караколь, наш трубадур, а иногда один лишь ветер.
462
Фонтанная башня действительно существовала на том же самом месте, где мы ее и нашли: она была обозначена как „Водонапорная башня” на одной из карт времен… 15-й Орды. Позже, когда 19-я Орда обнаружила башню снова, из воды выступали одни руины — думаю, что ярветры сделали свое дело и разрушили ее почти целиком. Тогда, для будущих Орд она получила название „Башня руин”. С тех пор ни в одном контржурнале о ней более не упоминалось, именно по той причине, что она была разрушена. Ее внезапное появление вчера утром объясняется, по словам Ороси, тем, что над затопленными руинами прошел особенный хрон, который она относит к категории „хроно-софрагментарных”. Такой хрон способен проявить любой отрезок прошлого или будущего в каком-то
отдельном конкретном месте: если башня когда-то существовала в этом месте, она может появиться заново в любом виде — новая, разрушенная, несуществующая, отстроенная, согласно отрезку времени, который вызывает хрон. Так, например, возможно, что вода, в которой мы плыли, ступени башни, бортик колодца — всему этому было три сотни лет. Как и вполне вероятна гипотеза Караколя о том, что тонкокрылая птица, которую я заметил в тумане, была из петли будущего…
Но, на мой взгляд, самое невероятное было даже не в этом, а в самом глифе. В силе глифа, выгравированного на колодце, в непреодолимой энергии повторяющегося по кругу припева. Караколь наконец сдался под пытками Ороси, довольно долго уклоняясь от вопросов, и объяснил нам, как эта энергия связана с внутренним, утробным ритмом артикулируемого ветра, с траекторией воздуха в голосовой щели, с вращательным импульсом в ротовой полости, с выталкиванием звука, который моделируют губы. Сегодня, благодаря Ороси и Караколю, я понял,
что слово
461
может выпустить на волю хрон, пусть даже крошечный, пусть даже просто михрон. И я ощутил головокружение и дрожь от прикосновения к запретной тайне.
Орды, что последуют за нами, будьте внимательны к этим строкам. Возможно, они дадут вам ключ, что поможет открыть двери, о которых мы пока еще только догадываемся; возможно, они рассмешат вас своей наивностью и неточностью, если ваши знания превзойдут доступные нам. Но как бы там ни было, слушайте:
То, что древние скрибы называли неподходящими для этого словами — „магией”, „магическим заклинанием”, „колдовством”,— все это, сегодня я знал наверняка, происходило из нашей, никогда в достаточной мере не ощущаемой в своем, однако, невероятном объеме, способности самим артикулировать живой ветер. Мы
вызываем его из наших собственных легких, чтобы затем с помощью голосовой щели придать ему последовательность и ускорение, пока он не достигнет необходимой внутренний скорости, и не примет столь необычную для себя форму звуков и слов, сливающихся в нашем горле в один поток, и не вырвется наружу
словотоком.
Словоток? Под этим термином я подразумеваю самоподвижность и самоконсистентность спирали слов-выдохов, приобретающих, вырвавшись из нас, силу метаморфозы. Эта сила способна, как и любой хрон, изменить то, через что она проходит. Именно это и сделал мастер молнии Тэ Джеркка в своем противостоянии Дубильщику, ни более ни менее. То, что и посчитал криками, голосовыми приемами и заклятиями, было просто следом, шлейфом выраженной скорости. Все равно, что перепутать свист проносящегося ножа с его ударом в цель. Оружие Тэ Джеркка — это был не его голос, а
нефеш, то есть дыхание его жизни — дыхание в высшей степени тонкое и острое, которое, как считает Ороси,
460
он черпает из своего вихря. Такое дыхание с подобной скоростью и вибрационной силой действия не под силу освоить даже самому одаренному ученику. И все же… Как мне напомнила Ороси, Тэ Джеркка сам всегда смеялся над своими успехами: его искусство еще только зарождалось, оно пока было невнятно и путано, разумеется оно было достаточно сильным, чтобы выстоять в любом человеческом бою, действенным при столкновениях с большинством хронов, но пока использовало лишь малую часть потенциала вихря — и использовало ее с неправильной целью, для того, чтобы сразить, а не создать, для того, чтобы разбить, а не объединить или взрастить».
) 
С этого дня моя работа скриба изменилась. Я стал больше обращаться к устному, к слышимому, к Караколю и к его гению сказителя, к тайне его интуитивных порывов, которые в свою очередь стали проявляться еще сильнее. И самое главное, моя работа устремилась к новому для меня знанию, к нему лежал очень долгий путь, едва различимый на ощупь в тяжеловесном, густом тумане, который столь редко разрывали вспышки света, что, пожалуй, в моем журнале не место его отблескам. Его следу.
(обратно)
X
СИФОН
π 
Два дня отдыха пошли нам на пользу невероятно, Альма успела всех подлечить, размассировать наши уставшие чела, залечить раны телесные и душевные. Она была из тех, кто выступал против прямой переправы через озеро. Но присоединилась к большинству и теперь выполняла свою работу с такой отдачей и заботой к нашим телам, что это вызывало уважение. Голгот всегда называл ее «рохлей». Но я считаю, что она прекрасна: адаптируется под каждого, всегда находит время для того, кто в ней нуждается. В Орде вообще не бывает плакс. Если Орда разваливается, то это, как правило, случается из-за одного или нескольких членов группы, которым не оказали нужную поддержку. Орда не может выжить без своего Клинка. Но Клинок — не более чем обычное орало, он просто вспахивает землю. А спасают Орду те, кто идет сзади, в Паке: флерон Степп, например, со своей неиссякаемой энергией, которой он уже целый месяц делится со всеми ними. Без него мы едва ли смогли бы прилично контровать в этой трясине. Он угадывает состав почв, плотность земли исключительно по растениям и верхушкам деревьев на поверхности воды. А Силамфр вместе с Ороси настроил и смазал все ветряки, установленные под поплавками. Испытательные заплывы дали весьма убедительные
458
результаты: при заплыве ветер приводит в движение ветряк, соединенный приводом с винтом, расположенным под поплавком. Таким образом поплавок сам выныривает на волнах, и тащить его за собой на прицепе намного легче. А в случае, если он оторвется, есть гарантия, что поплавок не унесет к низовью. Каллироя продолжала разводить костры в условиях жуткой влажности и проливного дождя. Тридцать лет вместе, а я все еще удивляюсь умениям некоторых из нас. Больше всего меня впечатляла Ороси. Я открывал для себя ее знания ярус за ярусом, но они по-прежнему оказывались бездонными. Она умеет считывать волны с невероятной точностью… Достаточно просто посмотреть, как она плывет. По форме, по амплитуде и направлению зыби она определила расположение большей части островов, которые ждали нас в верховье. Тальвег по большому счету просто все подтвердил, хотя это он наш геомастер. Ее способность расшифровывать поверхность волн и отражений в полотне воды граничит с гениальностью. И если у Силамфра идеальный слух, то как окрестить ее способности? Идеальная чувствительность?
К нам снова вернулся боевой настрой. Во взгляде опять читалась остервенелость, как в дни ярветра, и чувство недоверия и гордости. Я лично проверил содержимое каждой бочки. У каждого было запасов на месяц.
Если отбросить вероятность какой-либо катастрофы, то каждый знал, что переправа зависит от нас самих. Либо мы продержимся и все вместе преодолеем зону. Либо развалимся, и тогда ожидай худшего.
∫ 
Я не хотел сюда идти. Перед нами открывалось море (можете называть это «центральной зоной» или «большим озером», раз вашим ушам так приятнее), и когда стоишь вот так на пляже, а перед тобой пусто все вплоть
457
до горизонта, одни только волны катятся одна за другой, идут двухметровыми бурунами, а будь ветер посильнее, так были бы и все четыре, и Пьетро подходит похлопать тебя по плечу, весь в своем черном безукоризненном комбинезоне, со своим атлетическим телосложением, и с проникновенным видом бросает тебе: «Прорвемся, вот увидишь!», то чувствуешь какую-то несостыковку в этом во всем… Что он прорвется — это, конечно, возможно; что Голгот доберется до другого берега живым, со своим другом Фиростом, Тальвегом, Степпом, с Совом наверняка, тут и я тоже готов хоть на свою воздушную клетку поспорить… Но пусть не рассказывают мне, что также справятся и и Аои, и Каллироя, которая сама не толще собственной привязной веревки, и Свезьест, который и плавать-то научился, только когда в этом болоте оказался. Вот это нет.
Что до меня, тут пятьдесят на пятьдесят. Я попросил себе самый большой ветряк на бочонок, думал хоть немного отдохнуть, потащил бы меня, если что… Но Голготу не понравилось: «Не мухлюй, Ларко! Мы не на буксирах тащимся, мы контруем собственным телом! Кодекс чести!». И когда при этом видишь, как Эрг (на своем параплане) пересек все море за полдня… Пятьдесят миль, говорит. Но это он преуменьшает, как пить дать. (Не люблю вот так торчать в воде, когда вокруг ни островка, ни берега, когда до ближайшей суши плыть не одну судорогу.) Я когда думаю, что он мог бы просто нас поднять и перенести по одному на другой берег! (Не люблю, когда подо мной водоросли шевелятся или дно какое-то непонятное.) Кодекс чести, мать его! И все это потому, что они решили (себе вполголоса), что мы тут
можем встретить седьмую форму ветра посреди океана?! Дебильные предрассудки, это Ордан повбивал им подобную ерунду в голову, когда они еще детьми были! А они до сих пор и верят! Твердят себе, как молят-
456
ся! «Известно только шесть форм ветра, шесть…» И что теперь? Каста благородных придурков! Седьмую форму ветра найдем, да? А чего уж тогда и не восьмую заодно, и девятую на сон грядущий? (Если вовремя по сторонам не смотреть, то на медузу напорешься, сто процентов.)
— Ну, давайте, подошли все ко мне, пловцы болотные!
< > 
Голгот натянул комбинезон с отрезанными по локоть рукавами. Побрил себе голову ножом, как сумел, и теперь пучки волос торчали на его массивном черепе. Он был в куда лучшей форме, чем все остальные. В бесконечно более лучшей, чем я. Он присел в воде, глядя на пляж, где мы, пользуясь последними сухими мгновениями, затягивали свои трапеции и укладывали в бочонки фляжки с маслом. Он заговорил. Преимущество его голоса в каком-то смысле было в том, что не было необходимости слушать Трассера, чтобы услышать. Я Голгота не любила, ни одна из девочек тоже, его необходительность, грубые манеры отталкивали, но я была восприимчива к внутренней тотальной уверенности, которую он источал. Похожей на гранит. С ним можно было практически забыть о том, что мы шли на смерть, самая явная опасность сразу казалась сомнительной и надуманной, будущее могло существовать только с нами, со всеми нами. Смерть Карста с него как будто соскользнула. Тронула, конечно, я была в этом почти уверена, но он ни в чем не изменился, ничто для себя не пересмотрел. Не знаю, откуда в нем это было, эта сила, эта герметичная кора, которая покрывала Голгота. Я никогда не видела Трассера покоренным, уязвимым. Как только он начал говорить, Ороси по-заговорщицки, хитро мне улыбнулась:
— Не буду вам пускать зефирин в глаза: перед нами, прямо на восток — центральная зона! А значит, довольно долго впереди не будет ни единого острова, только волны
455
прямо в рожу, так что тушки в воду и почесали по горизонтали! Задача следующая: наворачивать по шесть серий в день с перерывами на поплавках. А в конце дня, если до дна не как до Верховья раком, то вколачиваем бамбуковые столбы в ил и ставим на них платформу прямо над модой. Поели и спать. Все. Ничего великомудрого. Свои философствования, Каракольские сказочки и фреольскую болтовню оставите на потом, ясно? А пока засунули яйца поглубже в комбезы, ноги в ласты и погнали, покрутите своей культей вокруг плеча пару добрых тысяч раз спереди назад, и через две недели будем вспоминать, как чуть не наделали тут себе в шаровары на этом пляже перед заплывом. И зарубите себе на носу: не было и не будет Орды лучше нашей, которая решилась бы сунуть свою морду в это отстойное корыто! У нас есть платформа, есть поплавки с винтами, плавательные комбезы теплее, чем у мартовской выдры, и жратвы на полгода! Будем плыть двойной боковой, группами. Я спереди, Фирост и Тальвег сзади, будем кадрировать первую группу по левой. По правой — Пьетро спереди, Степп и Леарх сзади. Будут идти по другой волне. Два треугольника, понятно? Барбак и Горст, двое наших громил, попрете на себе бамбук. Порядок, Горст?
— Порядок…
— Брусья для платформы будет тащить поочередно Пак. Тихо тут, разорались сразу. Силамфр пришпилил на них винты, брусья сами поплывут. Так, все, на этом сворачиваемся. Все готовы к этому дерьму?
— Что делать, если схватит судорога?
— Инструктора по плаванию позовешь! Ори во все горло!
— А если кто-то не сможет больше плыть?
— Того, значит, я сам бугром потащу.

454
) 
Голгот сдержал слово. Первые три дня на шестом заплыве за день он тащил за собой Аои, а Эрг буксировал Каллирою, у которой судороги начинались еще на пятом, и плыть она могла только при помощи рук и здоровой ноги. Мы теперь были мастерами плыть кролем по волнам, перекатываясь с гребня на подошву волн, мы даже неплохо приноровились начинать грести сразу, едва перевалив за гребень, пользуясь инерцией склона волны перед следующим накатом, и одновременно ослабляли веревку, чтобы не получить буйком вдогонку. Мы плыли день… Два… Три… Уши заложило водой, нами овладело настойчивое чувство одиночества, парадоксальное ощущение тотальной изолированности друг от друга, несмотря на белеющую впереди пену от ударов ног или мелькающие поблизости руки, мы продвигались вперед с головой, погруженной в мутный от ила пейзаж, то путаясь в длиннющих водорослях, то натыкаясь на редкий клочок песка под ногами, и я все больше плыл с закрытыми глазами, потому что мне было страшно, потому что было проще плыть, не думая, плыть час, другой, чувствуя на первых порах плавные, податливые мускулы, которые затем начинали наливаться свинцом, а правое плечо скрипело к вечеру и заклинивало при вращении. А еще были остановки, на четверть часа, не больше, чтобы передохнуть между сериями, и мы старались разбить водный саркофаг, сказать друг другу хоть что-то кроме «мне холодно, у меня трапеция скользит, я больше не могу, и у меня винт не крутится…» Эти передышки утомляли иногда даже больше, чем заплывы, настолько оказывалось сложно расслабиться на вытянутых поплавках, и чтоб волной не опрокинуло обратно в воду, так что мы, как правило, просто молча лежали на спине в ожидании сигнала Голгота на новый заплыв. Время от времени я позволял телу уйти ко дну, лишь бы нащупать под ногами почву и хоть
453
на несколько секунд задержаться стоя, почувствовать, как кровь снова циркулирует по вертикали, снизу вверх.
Так мы и плыли в невесомости, все ориентиры, скалы и берега, все растворилось в бесконечной воде, мы плыли посреди озера, а перед нами неизменно были кубические километры воды, и расстояние измерялось лишь в одной возможной здесь величине, называемой «мужество», вода отделяла нас от нижнего берега, с каждым днем делая выбор все более и более непоправимым, вода была и на юге, и на севере, она просачивалась сквозь землю и прибывала из источников, лилась дождями сверху, воды было столько, что можно было затопить целую пустыню и все ее Орды, — и никаких признаков берега на горизонте, ничего, за что можно было уцепиться взглядом, на что можно было держать курс, ничего, кроме катящейся на нас волны и следующей за ней новой, все такой же безразличной и механической, подъем и спуск, подъем и спуск, и только мы одни, болтаемся, словно в трясине вялой дремоты, где-то на неясной грани сна, никогда до конца не приходя в себя, и все же мы плыли вперед, гребень за гребнем, волна за волной, покачиваясь, как поплавки, растворяющиеся в собственной усталости, мы превратились в рыб с руками и ногами, стали отдаленным напоминанием самих себя, мои товарищи по волнам, мой единственный остров, входящий в воду по собственной воле, зачастую по принуждению, с соленым ртом и заложенным носом, мой единственный подвижный остров, эти двадцать два тела в движении — Орда, мы.
Безумие не столь безумно, когда участие в нем принимают все. Думаю, я мог бы вытворить что угодно, даже самую абсурдную штуку на свете, если бы мы делали это вместе; когда мы были вместе, я чувствовал силу каждого, физическую и духовную, я верил в нас, ощущал прочность той нити, которая была нашей связкой в этой безбрежной
452
воде. Двадцать нелепых квадратных метров белой кожи, которые мы занимали на бескрайней поверхности воды, вместе мы отмеряли границы пространства сопротивления, были герметичной крупинкой во всеобщем разжижении…
— Сов! Сов, подожди!
Пьетро схватил меня за ногу, чтобы остановить. Остальные застыли, лежа на поплавках, с напряженными лицами вслушиваясь во что-то изо всех сил.
— Силамфр услышал что-то странное. Шум течения, что-то вроде бурного ручья вдалеке. Или что-то в этом духе…
— А Аои говорит, что чувствует какой-то поток справа от себя.
— Да, там вода холоднее, но я не уверена…
— Караколь тоже обеспокоен.
— Карак, что именно ты чувствуешь?
— Похоже на круговые волны, как на фонтанной башне, друг. Но намного сильнее… Кажется, это пока еще далеко, но мне эти ощущения не особо по душе…
— Можем остановиться здесь на перерыв, набраться сил…
— А можем продолжить, чтоб постараться отплыть подальше…
— Силамфр, ты по-прежнему слышишь шум?
— Когда голову под воду окунаю — да. По правую сторону от нас, то есть ровно на юг от линии контра.
— Я тоже слышу.
— Ороси?
— Волны справа слегка деформированы, как бы перекручены. Посмотрите на подошвы волн.
Я стал всматриваться, но, откровенно говоря, так ничего и не увидел.
— У кого-то есть соображения, что бы это могло быть или значить? — спросил Пьетро.
451
— У меня есть одна мысль. Но если это оно…
— Если это что?
— Тогда нам всем конец.
π 
Сокольник совсем выдохся, сам не знает что говорит от усталости. Я не спускал с Ороси глаз. Она попросила Тальвега подержать ее за веревку, пока она цепляла на себя груз, чтоб опуститься на дно. Навскидку глубина была метра три, не больше. Видно было, как она опустилась, на песок, и, вытянув руки горизонтально вперед, сначала села лицом к югу, затем повернулась к северу. Она хотела проверить направления течений. Минуту спустя снова вынырнула на поверхность.
— Ну как?
— Аои права. Подводное течение сносит нас к югу.
— Тогда, думаю, нам лучше продолжать плыть, чтоб отплыть отсюда как можно дальше. Что скажешь, Голгот?
— Як! Давайте снова на позиции! Эрг, прикроешь правый фланг на всякий случай. Сматываем удочки. Если что не так — кричите! И плывите кочанами своими над водой по возможности, чтоб не пропустить ничего!
) 
Мы проплыли кролем, как в лихорадке, около получаса. Мы почти касались друг друга, настолько близко держались. Из-за эффекта психоза или нет, но я и правда чувствовал течение, а также звук, который не мог определить, идущий откуда-то из глубины и не стихающий по мере того, как мы отплывали. На этот раз нас остановил Тальвег. Он держал над водой один из своих замысловатых инструментов — что-то среднее между компасом, ротором и секстаном. Он делал свои измерения и после минуты гробовой тишины категорично заявил:
— Мы отклонились от курса. Мы плывем прямо на юг…
450
— Ты издеваешься, что ли? — заревел Голгот. — Я держал курс строго по встречным волнам! Четко! Да сам на волны посмотри, замерщик нашелся! Все ровно!
— Ровно по отношению к волнам… Но плывем мы на юг, а не на восток!
— Ты что имеешь в виду, ярветер тебя дери?
Тальвег снова опустил глаза на свое устройство и проглотил какое-то крепкое словцо.
Вместо него ответила Ороси:
— Он имеет в виду, что волны тоже поменяли курс. Мы плывем по спиральной траектории. Линия волн почему-то деформируется в этом месте. Причина должна быть в чем-то достаточно мощном, чтобы повлиять на их направление. Предлагаю, чтобы Арваль поставил якорь-ориентир, к нему на веревках прикрепить флажок повыше над водой, чтоб было видно издалека. Проплывем минут десять по встречным волнам и сверим траекторию.
— Почему по встречной, это же на юг теперь получается.
— Потому что скоро, возможно, окажется на юго-запад, Фирост. Если все как я думаю, то мы…
— Так, все слышали, что Ороси сказала! Арваль, бросай якорь! Все на заплыв, будем идти дельтой, все вместе!

449
< > 
Когда мы только начали плыть, флажок был у нас за спиной. Спустя десять минут усердного брасса он был… на расстоянии одно броска бума, слева от нас! Страх явно ощущался в наших дрожащих голосах. Окружающие нас волны как будто опали. Теперь уже никто не сомневался в уносящем нас течении, оно обвивало наши ноги, тянуло за собой. Каллироя примкнула ко мне и держала меня за руку, вся Орда сжалась в круг, каждый на своем поплавке, как по рефлексу животного мира, страх пульсировал, нарастал, мы бессознательно отдавались в распоряжение наших предводителей — Голгота, Пьетро, Эрга, смотрели на Ороси, которая напряженно о чем-то думала, скрестив руки на своем бочонке. Она подняла голову и подобралась поближе к нам, стала успокаивать словами, которые только она одна знала в подобную минуту, от нее, как всегда, веяло уверенностью, ее ум никогда ее не подводил, как бы мне тоже хотелось быть на нее похожей.
) 
В расплывающейся вокруг цепенеющей тишине я наконец смог отчетливо различить звук, который Силамфр услышал еще час назад. Как будто рядом журчала речка, вот только каким таким образом она могла течь посреди озера?! Скорость дрейфа усиливалась, мы пытались сократить смещение, насколько могли, мы вовсю молотили ногами, схватившись за ручки поплавков, но течение все нарастало, звук становился все громче и все точнее говорил об опасности…
Голгот:
— Постараемся поставить платформу и заколотить ее в самое дно. По двое на столб. Арваль, сделаешь ямы под каждый, чтоб держались лучше. Эрг, закрепишь поперечные балки! Остальные, будете передавать ему балки, поддерживать столбы и контровать против течения!
448
Только мы прикинули квадрат для платформы и установили опоры, как все четыре бамбуковых ствола уложило напором воды, и мы едва успели их ухватить, пока их не снесло. Мы все больше и больше чувствовали, как нас уносит, мы скользили по гладкой поверхности озера, наши тела тянуло невидимой силой, и вокруг не было ничего, за что можно было зацепиться, мы не хотели даже думать о том, что с нами происходит… Пока Силамфр не определил на слух и не вогнал нас в самую безрассудную, утробную панику:
— Мы… нас засасывает в сифон!
π 
Я в тот же миг обернулся туда, откуда раздавался звук, и вдруг увидел, как он появился, словно из ниоткуда. Воду вокруг как отшлифовали под силой течения — сплошное зеркало. А в центре… А в центре — дыра, — кругообразный колодец, диаметр которого медленно расходится, открывается, словно разверзающаяся пасть. Мы были метрах в ста от сифона. Не более. Грохот водопада стоял такой, что приходилось кричать, лишь бы услышать друг друга. Но никто не кричал. Мы знали, что сифон существует. Знали. Но никто из нас не думал, что он может на самом деле попасться нам именно здесь. Посреди центральной зоны, именно здесь. Где наши шансы выжить равны приблизительно нулю. Я плыл, захлебываясь, глотая воду, среди мечущихся вокруг рук и ног, получая удары, расталкивая других, утопая, с разрывающимся сердцем, практически идя ко дну, пока голос Голгота не пронзил туннель безумия и не вырвался наружу:
— Опоры! Ставьте опоры! Фиксируйте позиции столбами, вбивайте их в дно, ставьте опоры впереди себя. Всем держаться! Орда вы или молокососы?!

447
) 
Метрах в пяти позади меня Арваль отреагировал незамедлительно. Он двумя руками схватил бамбуковый шест, и, воспользовавшись скоростью течения, словно рыцарь на поединке, пронесся по воде и вонзил его по диагонали в песчаный щит на дне озера. Сработало, он ухватился за шест и повис на нем. Не раздумывая, я поддался течению и, зацепившись за Арваля, прилип к нему. Ороси вместе с нами. Чуть поодаль Голгот наценил на свой шест другую гроздь из четверых ордийцев. За ним Степп, Тальвег и Пьетро, и с ними три других группы. Мы дрожали на наших шатких опорах, как листва на ветру. Я пересчитал: восемнадцать. Кого не хватает?
π 
Эрг метался зигзагами по периметру сифона. Круговой водопад завораживал. Занавес разъяренной пены покрывал внутреннюю часть цилиндра. Рассмотреть глубину было невозможно. Два тела отнесло к дыре меньше чем на полсотни метров. Я хотел закричать, но Эрг их уже увидел. Он вырвал кого-то из воды, как птица на охоте рыбу клювом, и отбросил на сто метров перед нами. Это была Аои! Он бросился к другому парализованному от страха телу, и также отнес его от опасности: Каллироя. Один шест сорвался — группа Степпа. Его, Ларко и Караколя тут же понесло течение, как если бы они летели вниз по ледяной горе. Они сопротивлялись всей своей физической мощью. Лихорадочно колотили ногами и руками по воде в ритме паники. Они хватались за воду, каким-то чудом держались, их относило все ближе к дыре… снова за что-то ухватились и держатся, силы небесные, но вот опять уходят дальше, еще на пять метров ближе к сифону. Им ни за что не выкарабкаться… Но вдруг крыло Эрга пронеслось над Ларко, подхватило его в невероятном пике и отнесло
446
подальше, на линию за нами, чтобы он мог проскользить по течению прямо к нашему шесту.
— Сюда, Ларко, греби к нам!
) 
На нем не было лица. Вернее, страх стал его лицом. Отовсюду голоса рубили шум водопада, крики бороздили пространство, вой вырывался из самого нутра, разрывал нам горло… Там, почти на краю обрыва, держались по грудь в воде Караколь и Степп, течение пропахивало воду вокруг них и отталкивало метр за метром все ближе к дыре, как дверь под ударами тарана, они боролись всеми человеческими ресурсами, которые в них были, чтобы не угодить в бездну. Они, похоже, доставали ногами до дна! Затягиваемые сифоном земля и песок сформировали небольшой бортик по краю гигантского колодца — метров тридцать в ширину. Они изо всех сил старались вколотить свои опорные в это паршивое сыпучее дно. Эрг больше ничего для них сделать не мог, на таком расстоянии от сифона он только поставил бы под угрозу свою собственную жизнь, крыло могло закрутить и засосать насосом со дна бездны. Он и не смотрел на них больше, он решил сначала спасти нас, и метал из своего арбамата гарпуны в самый ил, чтобы обеспечить новые точки для швартовки, надежнее, чем наши дрожащие и соскальзывающие шесты.
— Хватайте веревку и плывите за ними! Давайте быстрее! Длины хватит, чтоб до них достать!
π 
Горст даже думать не стал — отцепился от своего шеста и поплыл кролем по диагонали. Схватил веревку, что болталась на поверхности, и привязался. Даже не проверил, держится ли. Ему было все равно, на какой риск идти. Он скользнул по потоку, пропуская канат меж пальцев, и добрался до Караколя. Степп был слишком далеко, даже
445
если использовать отвес. Он схватил того, кто обещал ему, что он встретит своего брата Карста на Дальнем Верховье. Того, кто спас его от самоубийства. Он перекинул Караколя через свое брусоподобное плечо, как закидывают добычу на охоте. Вцепился двумя руками в веревку и стал продвигаться по ней против течения своей могучей хваткой…
— Течение слишком сильное! У него ничего не получится!
— Заткнись, Дарбон!
Горст справился… Он оттащил Караколя к нам и даже не ёкнул — непреклонная, стальная воля. Оставался Степп. Отсюда были видны только его плечи и голова, поросшая волосами, как дикой травой, которую Аои старательно срезала каждый день. Степп был крепкий. Степп должен был продержаться. Он был сильный. Все мы выгибались на наших шестах под напором течения, что относило к сифону, опорожняющему озеро. Под нашим общим весом шесты соскальзывали, скребли по дну. Мы так долго не продержимся. Если хоть одна группа слетит в воду, Эрг не сможет всех нас перетащить за пределы зоны. Он и так еле контролировал полет у сифона. Он постоянно вынужден был бороться с эффектом всасывания. К тому же ветер был слишком слабый, чтобы обеспечить динамику полета. Эрг сильно терял высоту, как только брал под свое крыло пассажира…
— Бросьте ему веревку! Веревку для Степпа! — кричала Аои.
— Свезьест! Там Свезьест!
) 
Никто его не видел, кроме собственной группы, но они ничего не смогли сделать: он соскользнул в воду у них за спинами, самый молодой из фаркопщиков, парень напористый и цепкий, он и плавать-то научился, только
444
когда мы переправу начали. Вода — не лучший его друг, Пьетро научил фаркопщика плавать кролем, получалось неплохо, но он был небольшого габарита, и размах рук у него был коротковат. Он плыл на пределе своих возможностей, загребал воду руками, но течение, казалось, было еще сильнее, чем прежде, и грубо оттаскивало к пучине, он сопротивлялся, бил ногами и руками об воду, безумно, неэффективно, тело неумолимыми темпами сносило к сифону. Было слишком поздно, чтобы бросить ему веревку, слишком поздно, чтобы мог вмешаться Эрг, который смерил взглядом происходящее и принял решение: не рисковать.
— Свезьест!
— Свез! Свез!
Его уносило с большей скоростью, чем Степпа и Караколя. Он повернулся к пропасти лицом и стал грести кролем на спине, но все соскальзывал, и соскальзывал, и соскальзывал, — как вдруг уперся в бортик у водоворота… Я затаил дыхание: у него получилось, да, он нашел опору… Он встал на ноги, нашел равновесие, лицом к обрыву, толкаемый в спину течением, пучки водорослей проносились мимо него, отскакивали от его плеч… Вот он попробовал повернуться к напору лицом, сразиться с ним… Покачнулся… Начал выбирать угол контра…
— Обрежь веревку! Режь веревку!
Не знаю, услышал ли он, что я ему кричал. Не думаю. Поплавок на конце двухметровой веревки сорвался в пропасть и потащил Свезьеста за собой. Какое-то бесконечное время я не хотел верить в то, что он упал. Это я его всему обучил, я всегда отстаивал его перед Голготом, с самого начала, с того самого момента, как он оставил согласившуюся с его решением семью и пошел с нами. «Следите, чтоб он остался живой, и пусть будет счастлив!» Я думаю,
443
он был с нами счастлив, и думаю так искренне. Но нам не удалось его уберечь. Мы не смогли.
— Свез! Он упал? Упал?..
Аои протянула руку к сифону, бесполезно, абсурдно. Из глаз у нее лился ручей из слез.
— Все кончено, родничок. Он больше не вернется…
x 
Эрг сделал единственную вещь, которая имела сейчас смысл: он проделал второй ряд точек анкеровки по бортику пропасти. Первый был в семидесяти метрах от обрыва, там, где мы сейчас цеплялись за жизнь. Второй описывал пропасть в пяти метрах от обрыва, для дополнительной безопасности. На случай, если гарпуны первого ряда не выдержат. К каждому из десяти гарпунов был привязан страховочный ус, на конце которого закреплено по ивовому буйку. Между ними Эрг протянул трос по поверхности воды. Все это сооружение напоминало плавучее полукруглое ограждение, за которое он сказал нам зацепиться, равномерно распределив вес. Балки и перекладины платформы закрепил за отдельный гарпун поодаль. Эрг в чистом виде. Какое самообладание.
Ω 
Если б меня попросили назвать самую жесткую мандражку в моей жизни, такую, чтоб полный кишковорот случился, чтоб аж по желобу текло, если б сказали весь мешок перебрать, так я б вот эту выбрал. Лапсанский сифон. Когда Эрг заклепал кусок озера гарпунами, как в Кер Дербане учат: точняк, верняк, быстряк, когда все ордийцы защелкнули свои трапеции за трос, когда здоровяк Степп собственной тягой вытащил себя из зоны прощания, я подумал, дело выгорело. Прорва так или иначе заполнится, ну или в озере воды не останется, по крайней мере с нашей стороны. Думал, рано или поздно таки достанем до
442
дна со всей этой землей, которую сносило к обрыву. Нужно было просто верить. Очень сильно верить. Только вот вышло все не так. Вообще совсем ни на минуточку не так.
Когда первый гарпун с правого края соскочил, я и ухом не повел, серьезно. Но когда остальные понеслись следом, клац, клац, клац, один за другим, и вся сеть отстегнулась за пятнадцать секунд, то у нас даже не было времени молиться богам сифонов и стиральных ушатов — мы полным ходом понеслись к обрыву, нервно молотя клешнями в противоток… Если б не страховочный трос нашего махокрыла, если б не его балюстрада с видом на морг, которую он затакелажил в пяти метрах от прыжка в никуда, Фреольцы уже могли бы спокойно слать в Аберлаас корабль с депешей: «Следующую Орду, пжалуста! Давайте 35-ю!» Мы, как пингвины, все двадцать штук, напичкались к одной веревке, со стремометром на минус сорок, полярный холод хряк по позвонкам. Благо Эрг нам щеколды быстро разморозил:
— Не висите кучей! Распределитесь по всему укреплению. Ну, быстрее, быстрее! Хотите, чтоб и эти опоры сорвало? Почва паршивая, гарпуны вбиваются, но не держатся!
) 
Голос Эрга было еле слышно. Водопад грохотал передо мной стремительным, головокружительным потоком. Стенки омута покрывала бурлящая пена, вода прибывала отовсюду и какими-то чудовищными количествами стекала в бездну. Мне хотелось крикнуть ему спасибо, потому что он, с его необыкновенной методичностью и упрямой предусмотрительностью, только что спас нам всем жизнь. Он вытащил короткое крыло, которым вынужден был управлять двумя руками, настолько ветер был непредсказуем. Передвигаясь быстрыми интервалами, подхватывал
441
нас ногами, которые были для него словно вторые руки, и переносил одного за другим, выбирая поочередно то кого-то полегче, то потяжелее, легкого, тяжелого — на периферию сифона. Он подобрал наши поплавки и привязал их рядом с бамбуком — я бы в жизни не додумался спасти еще и это.
— Веревку за спину и под мышки! К тросу не привязываться. Один соскользнет и всех утащит за собой! Держитесь за руки, все вместе. Стоять полукругом. Дышите глубоко, нужно снизить пульс. Если кто-то сорвется — я сзади, я подстрахую. Пятками крепко в песок. Если устанете, становитесь в профиль, как в контре на ярветер: передняя нога опорная, задняя в контрфорс, руки вдоль тела!
Эрг крутился над нами, в метре от воды, не более. Он все повторял и повторял инструкции, точные, ясные, перелетая от одного к другому — водопад заглушал и заглатывал все — воду, ветер, звуки. Когда он пролетал у меня за спиной, мне становилось спокойнее, как только он отлетал — паника сразу возвращалась. Он чуть дольше оставался с девочками, помогая им снять нагрузку, держал их за трапеции, повернув крыло в тяговую позицию. Он то и дело менял курс, вел полет в экстремальных условиях, бесконечно поправляя и регулируя двойной совмещенный парус крыла, подстраивая свой первосортный параплан, позволявший держаться при встречном ветре, то опуская, то наоборот поднимая переднюю и заднюю кромки. Ему было тяжело, немыслимо тяжело, но голос его звучал по-прежнему ясно, не надтреснуто, не выдавая ни страха, ни напряжения.
— Что там на дне этой дыры, Эрг? Что-то видно? — тревожно спросил Ларко.
— Видно то, чего бы я видеть не хотел. Лучше вниз не смотреть.
440
— Глубоко?
— В зависимости от того, кто смотрит…
— В смысле?
— Для меня не глубоко. Но спроси у Степпа, он тоже видел.
Но Степп был далеко, по другую сторону водоворота. От страха густая трава его волос встала дыбом. Не испытывая особого доверия к тросу, он держался за него всего одной рукой, а другой держал за руку Аои, у которой над водой виднелись лишь голова да руки, обмотанные веревкой.
Я четко и остро осознавал, что наверняка проживал последние минуты своей жизни. Оставался двадцать один ордиец, и все мы были связаны ненадежной веревкой, тела наши перекосились под напором, все старались устоять на краю дыры, которая могла быть самой смертью. Которая и была самой смертью. Я был рад, что справа от меня Ороси, я чувствовал ее теплую руку, мы еще говорили друг с другом, искали смысл, невзирая ни на что. Слева от меня был ястребник, который не спускал глаз с ястреба, сидевшего у него на плече — беззаботный и упрямый, тот бросался на каждую нутрию, угодившую в поток, и хватал ее клювом.
Рядом с ним я старался запомнить матовое, словно высеченное лицо нашего кузнеца, который весь прогнулся под напором воды, за ним — сокольника, стоящего ровно, ни на кого и ни на что не глядящего, одного на шести метрах веревки. Здоровилу Тальвега — с порыжевшей бородой и светлыми глазами — он держал за руку Альму, настолько изможденную, что ее качало под ударами потока. Затем шел Пьетро, очень сосредоточенный, его широкие плечи выступали из воды, он держал дрожащую всем телом Каллирою. Огоньки ее намокли, волосы завились кудрями от влаги, она держалась только на нервах. Рядом с
439
ними Эрг поставил Степпа и Аои. Мне всегда нравилось ее детское личико, ее струящаяся, заботливая нежность. Я видел, что она жива, и мне от этого было хорошо. Дальше был Фирост, наш мускулистый и крепкий столповик. Арваль, наш Светлячок, чья бьющая энергия не иссякала даже сейчас, а рядом с ним Голгот, он был ровно напротив меня на противоположном диаметре. Он перехватил мой взгляд и ответил кивком головы: «Держись, Сов». Он вообще бросил веревку и заботился только о том, чтоб никто не соскользнул, направляя Эрга жестами, как только чувствовал, что напряжение где-то в нашем круге ослабевало.
Я старался запомнить все, каждый жест, каждый поступок, взгляд, лицо, как будто видел их впервые, как будто не было за моими плечами тех тридцати лет, за которые я выучил всех их наизусть и больше уже не смотрел на них, не видел их простой красоты, не любовался их благородством.
Я посмотрел на Силамфра, его задело несущейся к пропасти палкой, и он чуть не сорвался за ней следом. Он голосовал против Лапсана и был прав на этот раз, как и всегда. Я скользнул взглядом по нашему фаркопщику Барбаку, прямоугольнику из крепкого мяса, он стоял далеко ото всех, один, чтобы не перевешивать своей массой, — и остановился на трио Ларко-Кориолис-Караколь, спаянных на двух метрах веревки. Моментами до меня доносились восклицания Караколя, он шутил, притворялся, что надает, подставлял лицо потоку, импровизировал корриду с водным быком, то и дело отпускал веревку… Кориолис улыбалась сквозь маску ужаса, Ларко отбивался от потока руками, смотрел на нее. Она и правда была очень красива.
Круг мой подходил к концу: Горст был один, он шутил со своим братом Карстом, чтобы подбодриться, без конца ему что то рассказывал, отвечал ему, воскрешал его…
438
у него почти все туловище выступало из воды, он больше ничего не боялся, он был с братом, они были вместе, он знал, что они не могут на самом деле умереть… Вот они все. Двадцать один плюс Эрг. Минус Свезьест, минус Карст. И снова Ороси мне что-то говорит, чтобы вырвать нас из бездны тревоги и страха:
— Это тоже одна из форм хрона, знаешь?
— Сихрон или психрон?
— Хроталь, как на фонтанной башне!
— Он влияет на время?
— Да, на его течение.
x 
Сов глянул на меня, но не поверил. Это вряд ли кто-то заметил, но сифон не стоял на месте. Он продолжал расширяться. Его край продвигался все дальше, и пять метров, которые отделяли нас от пропасти, постепенно превратились в четыре, затем в три… Теперь мы стояли так близко к ней, что скоро наконец могли бы увидеть, что там, на дне… Я была к этому готова и даже ждала с нетерпением, откровенно говоря… Зов пустоты раздался где-то глубоко у меня внутри…
— Отступить на четыре шага! — кричал Эрг. — Не смотрите вниз. Сконцентрируйтесь на дыхании и на опорных!
∞ 
— Нужно отойти, Карст!
— Да, лучше!
— Видел сколько выдр, Ка?
— Ага, я их поймать пытаюсь, но их всех уносит!
— Ага, уносит, да!
— Надо попробовать их спасти!
— Попробуем, да?
— Давай, ты к ним лицом повернись, чтоб было лучше видно!
437
— Вдвоем у нас получится!
— Вдвоем у нас всегда все получается, Го!
— Смотри, смотри сюда!
— Бобра несет!
— Давай спасем?
— Давай!
— Он прям на тебя плывет, доставай ловушку.
¿'  Крути, верти, водоворот, через запад на восток.
А коснешься дна пруда — поминай тебя Орда.
Крути, верти, водоворот, через запад на восток.
А коснешься дна пруда — поминай тебя Орда.
Святая спираль хроталей, какой изумительный день! Скорость, ах скорость — я вновь живу, ах скорость, увижу ль я вас снова? Вода тяжела, вода неспешна, вода длинна, да здравствует эхолалия! Дождливая вакханалия! Воздуха мне, воздуха — быстрого, мчащего, иначе жмет, сжимается, кровь сжижается… На краю обрыва ничего не страшно, можно упасть, полететь по отвесной, можно сальто в прыжке, загреметь и в воде новых сил зачерпнуть? Только вниз не смотри, когда все обернется, потому что, поскольку, ведь и впредь, так как и не иначе,
уж поскольку все повернется, и синтаксический зверь по бортику незаметно пройдется, и перезапустит ротор наоборот… Так давай! Не давай. Будь смелее, Карак… Или ты, трубодыр, не готов жить до дыр — так смотри же, когда самодыр пустит дух. Обещаешь? Плюнь да соври? Ради Кориолисички хотя бы, ради Совчонка-волчонка, да Оросительницы, ну и собора нашего Голготического?
Так что же наша песенка? Заводи пианиссимо:
От родника поспешней иди-ка ты долой,
Водицы в нем не хватит нам на двоих с тобой.
Любви чуть подмешаю — и в омут с головой…

436
≈ 
Если он упадет, брошусь вслед за ним. Водная пасть ощерила на нас свои клыки и скоро проглотит. Если я сорвусь или гарпун мой слетит, то на этом мне и конец, до обрыва два метра, он все ближе и ближе, но я не хочу, не хочу, не надо, пожалуйста, я хочу жить, хочу любить его, помогите же нам кто-нибудь! Тонны воды толкают меня в спину, больше нет сил держаться, не чувствую рук в ледяной воде, чего мы ждем? Я боюсь смотреть вниз, у меня голова идет кругом, и этот звук, жуткий звук, мерзкое всасывание, это зверь, звериная пасть и дыхание зверя, зверь из самых недр земли, он сожрет наши внутренности, Караколь, посмотри на меня еще, рассмеши меня снова, помоги мне поверить, не оставляй меня! Караколь!
∫ 
Я бы сжал руку Кориолис в своих руках и никогда бы не отпускал (слово Ларко). Она бы не упала в пропасть, пока я живой! Она не упала? «Не смотрите вниз!» — заорал Эрг, но я не смог сдержаться. Обрыв будет метров сто и внизу будет небо (стеклянное небо) и диафановые марева, разрумянившиеся по краю, подсвеченные (келейно) солнцем иного мира. Я достал воздушную клетку, хоп! Не могу прийти в себя. Я заворожен формой марев, и в самом деле начал видеть, как небо приближается к нам, поднимается наверх (как отражение на дне бочки, заполняемой водой). Понимаете? Но по мере того как, оно больше не было прозрачным (это небо), скорее жидким, и марево болталось в нем студенистое, дрожащее, как желе в голубой мисочке. И потом, и теперь я не в состоянии дать вам лицевую сторону изнанки, но я хотя бы понимаю вот что, ордийцы: марево превратилось в медузу! Я тяну за веревку клетку, она будет медузой, в моей руке будет клейкое щупальце, кислота обжигает мне плоть, я закричу, я поднимаю голову, марево стало клубнем, из него прорезаются
435
щупальца, разматываются, кишат, я хочу отклеить руку от >той живой веревки… На помощь!
— Ларко! Этот придурок веревку бросил! Он сейчас упадет!
]] 
Будешь плыть, Барбак, будешь плыть, грести. Увидишь остров. Недалеко. В досягаемости. Поплывешь к нему. Вот ты уже близко. Отдохнешь. Кто-то орет через водопад. Ты ничего не слышал. Ты бы плыл, плыл. Еще. Плыл бы еще. Да, Барбак, именно ты, парень: фаркопщик. Голос. Из водопада. Но ты не слышишь. Плывешь к острову. Странные деревья на нем. Как мачты. Ты не въезжаешь, что к чему. Остров скоро будет совсем близко. Но ты же медленно плыл. Это он к тебе приблизился, значит? До тебя вдруг дошло. Открываешь глаза под водой. Под островом ты вроде видел корни? Свисают. Значит, не корни? Лианы целыми кучами, прозрачные? Липкие. Поймешь слишком поздно. Это была островомедуза.
∂ 
Если и оставался в этом во всем какой-то звук, за который еще можно было зацепиться, то это был голос Эрга, рубящий тембр его указаний в густоте рокота. Он сказал не смотреть, и я послушно закрыл глаза. Как бы там ни было, ничто из зримого не дало бы мне лучшей картины о происходящем, чем сама консистенция воды вокруг ног, пальцев рук. Что касается расстояния до обрыва, то той неистовости, с которой стегали меня по лицу завитки пара, было достаточно, чтобы все ощутить и принять: я имею в виду умереть здесь, если настало время и место. У воды, как и у дерева, как и у любой другой материи, есть своя собственная плотность, пластичность и звучание. Достаточно просто слушать, чтобы понять, как ушами, так и ладонями рук. То, что произошло, что бы ни говорили,
434
в первую очередь связано с ускорением потока и его частичной коагуляцией. Что именно произошло в пучине, мне неведомо, но знаю наверняка, что по краю вода стала как ликер на ощупь, как медленно сгущающийся сироп, затем как смола, почти как тесто, странным образом податливое, а потом снова стала жидкой и легкой, скорее похожей на влажный ветер, чем на ручей. Сопутствующий звук, который поднимался из пропасти, тоже сделался глуше, а потом яснее.
Ω 
Махокрыл пусть что хочет долдонит, смотри-не смотри, а я по борту сфлангировался и фонари свои растопырил. Три секунды не прошло, а я себе уже шкуру прикусил. Вижу, там внизу чувак какой-то, крепкий такой, коренастый, как горс, а в руках у него ледорубы, что ли, и он с ними лезет вертикально по водопаду! Только водопад весь заледенел! А вместо пены — поземище белючее повсюду, а то, что этому амбалу по морде елозит, так слегка похоже на лавину в три мощности! Я фонари свои вырубил и снова врубил, да так пару раз, думал, пройдет. Это ты подустал, Голготина! Смотрю опять — парень снова тут, прикрученный к ледяной стене, а его сверху снегом, как мукой, посыпает! А под ним смотрю еще другие скалолазят в этом белом дерьме! Тот, что крепкий, к ним повернулся и орет «Нооооор… Ноооооорр… Ноооооррсссккккааааа!!!», и не рыпнулся даже, влупил кирку в стену и дальше полез, борзый, как я не знаю кто, сорвибашка парень! Чего я ждал? Не знаю… Чтоб его башка в двадцати метрах от моей оказалась, чтоб мне наконец как под дых дало: он когда рожу свою ко мне поднял, не за помощью, ясное дело, этот не из таких, я только тогда увидел, полным кадром рассмотрел: чувак этот, что по стене карабкается — это я!
433
) 
Назад, назад… Меня назад. Не смотреть вниз, не видеть призрак меня, как бежит по снегу один, и труп Аои, труп ручейка свеженький в снегу, труп не видеть, нельзя, не хочу, назад… В сифоне будущее, знаю, будущее, нам Ороси сказала, Ороси знает, сифон нехорошо, я не хотеть видеть реку падающих снежинок и трупик Аои, Ауа лед, «Беги, несись, Светлячок…», и я бежал, бежал по глубокому снегу, по быстрому снегу, видел тело упало, скос, тело проскребло утес. И что… Будущее не это, от будущего бежать… Нет!!! Назад за веревку… не соскользнуть…
> 
Ну Ларко, ну что за придурок! Говорят ему, не смотри, а он весь прям ныряет туда от любопытства. Если окочурится, я плакать не стану. Эрг его спас в предсмертную минуту, вот он — мастер.
Я как подумаю, что мы Карста потеряли, а при этом с нами по-прежнему Ларко таскается! Поди разберись… где тут справедливость… Он даже в ордонатуре не был… Карста нам очень не хватает, жестко не хватает. Таким фланговикам, как он и его братец, замену не найдешь, тут и надеяться нечего. Можно фаркопщика потерять, но фланговика! Напор наконец стих, я уже даже не верил, и уровень воды неслабо снизился. Уже не надо держаться за перила. Сифон, похоже, начинает пересыхать. Но только пока еще все равно ширится, отступать приходится. Вода стала мягкая, странная. И судя по физиономиям тех, кому пришла на ум плохая идея заглянуть в эту дыру, так ничего хорошего они там не увидели. Вообще ничего хорошего… Справа от меня Арваль стоит весь белый, а слева — Аои рыдает так, что смотреть больно… Не нравится мне все это. После фонтанной башни я из себя смельчака не строю перед хронами.
432
— Тебя, Степп… Ты шел по снегу… Ты превращался… Ты пытался подойти ко мне… Это было ужасно… Ты… Ты кустился… У тебя из плеч росли ветви… Ты поднимал ноги, но… они оставались как вросшие… Твои пальцы вкапывались в землю, зарывались в нее… Ты напрягал все свои мышцы, но у тебя ничего не получалось… И шел снег, все небо падало на тебя снегом… И весь водоворот подпитывал тебя, иссыхая… Ты врастал корнями в землю… Ты кричал, но из тебя ни один звук не вырывался… Один только шорох жухлых листьев… Ты протягивал ко мне руки, еще и еще, и твои локти скрипели, словно ветви деревьев… Ты был в процессе трансформации… В процессе…
— Чего?
— Ты… ты перешел на другую сторону… Ты ушел в растительный мир…
— Аои, послушай меня, это просто галлюцинация! Этот хрон не показывает будущее! Он показывает то, чего ты больше всего боишься, понимаешь? К тому же, если бы он показывал будущее, ты бы увидела свою собственную смерть!
— Но это же не точно, — шептала Аои.
— Это совершенно точно! Ороси так сказала!
— Ороси сказала?
— Да, можешь не сомневаться.
‘, 
Аои слушала меня, смотрела на меня своими глазами-бусинками, покрытыми росой, и рыдала. Она была на пределе, без
преувеличений. Кожа ее завяла. Я не мог ей признаться, что видел то же, что и она. Свежесть ее видения меня ужасала: оно было как две капли воды похоже на мое. Я гладил ее по затылку и продолжал с ней говорить, какой прекрасный букет эта девочка, какая щедрость, спонтанность, невероятно… Насколько же нужно любить
431
человека, чтобы увидеть
его будущее, а не свое собственное, когда ныряешь в такое временное зеркало? Она меня любит, любит, сама того не зная, нас ничто не разделяет, мы так много времени проводим вместе на сборе трав, и все течет так ровно, так легко. Я хотел бы быть тем, кто способен увидеть другого в этой бездне. Хотел бы любить ее. Хотел бы иметь такую же внутреннюю открытость другому, ее безумную готовность принять тебя.
Где-то глубоко в моих жилах растительный мир начал пускать свои корни. Он нашел гостеприимную почву из плоти. Я не боюсь такой смерти. Одеревениться… По правде говоря, я редко чувствовал себя настолько же живым, как теперь, в этом болоте. Какая все это эйфория для меня, буйная, долгая! Я чувствую себя омытым, налитым влагой. Моя чувствительность к растительным пульсациям еще никогда не была столь мощной и интуитивной. Я угадываю все, что вокруг меня, все, что растет, что увядает, чувствую трепет дождя. Кровь течет по телу так легко, все чувства обострились, готовы взорваться, я срастаюсь в единое целое с этим биомом!
~ 
Отец сделал несколько шагов мне навстречу, его плохо видно, он у мамы за спиной. Мы с ней рыдаем, слезы радости, долгожданной встречи, она отходит в сторону. Отец подходит ближе, лицо его все обгоревшее, как у укротителей огня и кузнецов, радость проникла в него сзади, растрескивает складочки у рта, разбивает чашу его щеки. Он улыбается мне, обхватывает обеими руками, отрывает от земли. «Прости меня», — говорит он. «Я должен был в тебя верить», — говорит он. «Спасибо, что ты жива», — говорит он.
π 
По бортику водоворота течение стихло. Вода доходит нам до колен. Расширение сифона поглотило
430
страховочную веревку и гарпуны. Но вся Орда успела вовремя отойти. И каждый остался на своем месте по окружности. Поверхность воды была настолько гладкая, что в ней четко отражалось небо. Когда мы готовили Переправу с Ороси, она научила меня всему, что сама знала про сифоны. И все это оказалось правдой. Сначала, пока сифон формируется на глубине, это просто невидимый водоворот. Затем начинается резкое ускорение течения, и тогда появляется пропасть. Потом, в кульминационной части, вода поднимается и интенсивно всасывается. «А после вода расслабляется, и начинает течь время», — я хорошо помню эти слова. Время, и правда, течет очень медленно. Или это отдача от нервного напряжения? Многие ордийцы стояли слишком близко к пропасти, как по мне. Они заинтригованы тем, что водопад вдруг остановился. Что внезапно наступила тишина. Без покрывающей их пены стенки водоворота выглядели так, будто сделаны из твердой воды. Дна было не рассмотреть. Оно уходило вглубь метров на триста, как минимум.
— Говорю вам отойти, чтоб вас! Леарх! Фирост! Каллироя! Назад! Не подходите так близко к обрыву. Пропасть еще может передвинуться! — продолжал кричать Эрг.
— Пропасть сдвинется! — кричала Ороси. — Не стойте у обрыва, не делайте глупостей!
— Не расслабляйтесь, бурундуки!
— Осторожно!
Землетрясение. Краткое, жесткое. Как отрыжка из пропасти. Леарх потерял равновесие и упал в пропасть. Сокольник соскользнул, но схватился за своего сокола, тут же взметнувшего вверх, и с трудом, но удержался. Справа от меня исчезла Каллироя.
— Каллироя упала!
— Фирост тоже!
429
С моего места мне было видно, как Фирост летел в пропасть. Он все падал, падал, падал, так неестественно. Он как будто находился в замедленном режиме. Что это, время? Не похоже. Из пропасти мощнейшим гейзером вырвался ветер. Колонна пара ударила снизу в Фироста и на несколько секунд задержала его в одной точке, не давая упасть дальше. Тело его подбрасывало, крутило, поднимало вверх. А затем он рухнул, как камень, в пропасть. Конец. Фироста больше не было. Плотные струи воды поднимались по стенкам впадины. Снизу вверх! Как будто водопад наоборот…
— Сифон идет наизнанку! Бегите!
— Где Леарх?
¬ 
Нас на классической географии такому не учили. Лично я это рыбным бульоном называю. Если коротко, то это был водоворот навыворот. Я таких парочку уже заметил по болоту. Но здесь, такого размера, в этой кастрюле сорока метров шириной… Похлебка стала бурлить, и уровень воды поднялся. Я туда внутрь особо не заглядывал. Эффект хрона еще был активным, и я каждый раз видел одно и то же: пустыню с отшлифованными камнями и статую моего отца на коленях, со своим молотком в руке, стоявшую на какой-то плите. Что с ним, окаменел? Горизонт закрывала высоченная скала. Гранит, пегматит, если не ошибаюсь. Я различал контуры какого-то села, впереди стояла мельница, косо-криво построенная из глинистого песчаника… Какие-то люди возраста моего отца бежали нам навстречу. Кто-то бросился в объятия Пьетро, кто-то к Сову. Их родители? Кажется, кто-то упал. А кто?
x 
Получалось целых пятеро, Пресвятой Ветер! Сначала Карст, потом Свезьест. А теперь, ровно когда все
428
вроде успокоилось, Фирост, Леарх и моя Каллироюшка. Сколько еще нужно? Какой от меня толк? Кто меня в этой Орде слушает? Я вас предупреждала! Я все сделала для того, чтобы мы через болото не срезали, а мы все равно пошли! За Голготом, как обычно, беспросветным болваном! Думает, что он бессмертный! И что теперь, где она, ТВОЯ Орда, а? Где она? На дне этой канавы? Потонула твоя Орда! Капис, может, конечно, и размазня для тебя, толстожопая обуза, но она хотя бы риски по-настоящему оценить способна! Кто за ними теперь нырнет, ты, может? Кто это побоище теперь исправит? Или ты думаешь, что они еще живы после такого падения? Я по роже твоей вижу, стоишь, вынюхиваешь. Только у них органы все разорвало от такого удара, ты это хоть понимаешь? Это я нянечка, это я их всех выхаживаю, это я все вижу и знаю.
А ты что в этом понимаешь? А? Дебила кусок!
— Дарбон, привяжи веревку к соколу. Только он сейчас может пролететь над этой дырой. Я в таком тепловом потоке в факел превращусь!
— Какой смысл, Эрг, никто из них не выжил…
— ПРИВЯЖИ ВЕРЕВКУ!
ˇ 
Я сделал, как сказал Эрг, и привязал веревку к ногавке кречета. Завязал и подбросил его вверх. Тот мигом взмыл над пропастью с веревкой в лапах, а на конце балластовый камень.
Дал ему четверть порции, чтобы не было погадки, — и он очень смело и решительно проделал путь между тепловыми потоками, как настоящая ловчая птица, коей и являлся. Если кто-то в пропасти остался в живых, пускай высмотрит веревку и ухватится. Тогда будет достаточно, чтоб
427
невероятном случае мы сможем вытащить из колодца пострадавших.
— Красавец-сокол этот Сарсо, так держаться при таких восходящих потоках! — завистливо заметил ястребник.
— Да, ястреб бы так не смог! У него недостаточно мощности. У него бы крылья порвались!
— У него достаточно мощности, Дарбон, но маловато несущей силы, вот и все.
— Ну раз ты так считаешь.
^ 
Наш сокольник меня слегка изводил. Несмотря на то, что замечание его было справедливо, сейчас отнюдь не место и не время для ссор и препираний о дрессировке птиц высокого и низкого полета. Неотложность ситуации превыше всего. К тому же, каким бы мощным ни был его кречет, он все же имел весьма сомнительную пользу для трех ордийцев, чьи тела то показывались, то скрывались от нас в клокочущей бездне, не считая того, что на таком расстоянии никто не способен был точно разобрать, боролись ли они, пытаясь выбраться из пучины, или же их тела просто раскачивало на волнах, одним словом, проявила ли жизнь благородство и соизволила ли оказать им свою поддержку после такого падения. На конце веревки несчастный камень болтался, как маятник, а сокол, которого никак нельзя было уличить в дерзости бесстрашия, и не думал спуститься ниже в жерло пучины, чтобы за балласт можно было ухватиться внизу. Да и вообще, на очередном толчке восходящего потока он быстренько поднялся вверх, подальше от пропасти, утащив за собой веревку, и затерялся где-то в облаках, невидимый для самых зорких глаз и глухой к неистовым попыткам Дарбона позвать его назад…

426
— Калли! Калли!
— Леарх!
— Как ты, Ясный Лучик?
— Я не чувствую ног. У меня ботинки лопнули. Боюсь, что…
— Вода поднимается, держись!
— А как Фирост?
— Держится на плаву. Я видел, как он бил руками по воде. Точно не знаю, но…
— Думаешь, нас проглотит?
— Вода поднимается, смотри! Там Эрг наверху!
— Ничего не вижу… Он слишком далеко…
◊ 
Говоря откровенно, я себя чувствовал как в расплавленном чугуне, только что горячо не было. Все вокруг булькало огромными пузырями, ил вместе с грязью кипел густой, плотной смесью, хотелось вымесить все это кулаками. Вода поднималась, впадина заполнялась… И это нас спасло. Наша смерть откладывалась до следующего раза, и точка! Хотя я, конечно, все видел, когда заглядывал в дыру, где это будет и как. Но она меня все равно не возьмет по-простому, пусть так и знает. Не моего типа женщина, эта, с косой в руках. Я будущее по-своему вижу. Это как метательный диск, если погнется, так нужно его выпрямить молотком. В худшем случае снова на закалку пустить, сколько придется, пока вновь не станет мягким и податливым. Я сделаю все, что нужно. У меня железом на спине выжжено: «Выплави свою судьбу сам». Не видела, что ли, дорогуша?
) 
Думаю, мы с Эргом были единственные, кто до самого конца досмотрел весь процесс имплозии, охвативший сифон, в сформировавшемся по итогу стеклянном вод-
425
ном цилиндре. То, что поднималось по стенкам цилиндра, было не вода, а само время, поочередно то жидкое, то твердое, сжатое, тягучее. Время использовало воду в качестве носителя, как проводниковый материал, и, по моей гипотезе, как средство памяти. Сцены, которые я видел, в определенном смысле принадлежали только мне. Это не значит, что они касались исключительно меня, скорее, они были подвижным следом на поверхности времени, как круги от попадающих в него камушков, что намеренно или интуитивно бросал в него мой рассудок. Я сначала видел далекое будущее, затем все более близкое, пока оно не стало безотлагательным будущим, предвосхищением настоящего — имплозией.
Когда сифон закрылся, из него вырвалась контрволна, накрывшая нас и разбросавшая на два километра по окрестностям. Когда я подплыл назад к эпицентру, то мне сначала показалось, что от впадины ничего не осталось, настолько все было прозрачно. Но на самом деле оставался стеклянный цилиндр, едва ли пяти метров в высоту и столько же в ширину. Нам потребовалось немало времени, чтобы рассмотреть внутри что-то, помимо пустоты. То был кусочек кожи, застывший в толще стекла, со знаком
√ — гербом Свезьеста, вытатуированным на его левой лопатке. Голгот всегда делал татуировки слева для фаркопщиков.
Осколки стекла, которые мы потом находили еще целых два дня к верховью, были одной из сотен форм воды, которые она может принять под влиянием времени. Я знал про иней и про лед. Теперь знал и про стекло. При особой вязкости в протекающем времени вода превращается в стекло, вот так вот. Леарх думает, что стекло — высшая точка кристаллизации времени, то есть воплощенная память. Я думаю, что память, скорее, как слитки в его горне, как ковкий податливый металл, способный принять
424
любую форму, что она не неподвижна, а напротив, бесконечно пластична, она растягивается, сжимается и плавится в зависимости от нужд рассудка. Стекло же — просто застывшее, недвижное время. Оно больше не может течь, а потому находится вне времени. Это скопление отдельных моментов, отрезанных от прошлого и будущего. Застой, стазис. Стекло хранит, но не имеет памяти. Помнить может только то, что может двигаться, струиться. И я помню Свезьеста.
π 
Голгот объявил официальный день отдыха. Эрг каким-то чудом позаботился даже о том, чтобы спасти нашу платформу, и мы установили ее над водой, на относительном мелководье. Под нашим весом опоры моментально вошли в ил. На полу не хватало реек, но никто на это не жаловался. У Каллирои были сломаны обе ноги — таранная кость, как сказала Альма. Она попросила меня подвесить куполовидные жаровни под платформой. Я закрепил их под четырьмя вырезанными в полу квадратными отверстиями, разложил по жаровням древесину и полил ее маслом. Снизу прикрепил вентиляционные винты. Наша огница подползла на коленях, завела свою инерционную мельничку, дала ей раскрутиться на ветру и развела с ее помощью все четыре огня. Ороси поместила ветряки обратного движения и направила теплопроводящие трубки. Затем развесила перед ними промокшую одежду. Каллироя приготовила праздничный обед. Она была потрясена случившимся и вместе с тем очень рада. Она сама еще до конца не верила в то, что выжила.
Идея с платформой, которой мы были обязаны Силамфру, спасла нас от изнеможения в центральной зоне. Она была нашей гаванью покоя каждый вечер. Нашим складным и передвижным островком. Ороси и Каллироя
423
смастерили сушилки для белья, и это во многом решало вопрос неудобства из-за влаги. Спальные мешки и комбинезоны, которыми снабдили нас Фреольцы, были исключительного качества. Что касается еды, то ее оказалось достаточно, и была она весьма разнообразна. К тому же оставалась охота. В частности, птичники приносили немало добычи. Рыбалка тоже шла хорошо: карп, плотва, ближе к вечеру — линь. Даже пара угрей, благодаря Ларко. А с неба он раздобыл пригоршню вкуснейших птичек. Степп и Аои добавили крахмал с корней тростника. Напекли из него хлебцев и наварили похлебок. Голгот проглатывал все, как никогда. И он был не один такой…
Мы не говорили о сифоне несколько дней. Затем не покидающая нас тема всплыла снова. Ночь была непривычно ясная и безоблачная. Две небольших луны бросали сиреневые отблески по кромкам волн. В нашей группке ночных болтунов Караколь и Сов разогревали свое воображение:
— Так-так, трубадур… Ты нам до сих пор так и не рассказал, что видел в пропасти. Ты уже в который раз увиливаешь… — настаивала Ороси.
x 
На несколько секунд воцарилось молчание. Нелегкий выбор между очередной уверткой или ложью? Между приодетой правдой или нагой? Волны потихоньку стихли, слышно было, как они мягко ударяются о бамбуковые опоры.
— Я видел то же, что и вы, друзья мои.
— Твое будущее?
— Нет. Я видел
то же, что и вы. Будьте любезны включить ветряки в ушах и слушать повнимательнее… Я видел ваши
собственные видения.
— Наши? Одно за другим?
422
— Нет, все вместе сразу, наложенные одно на другое, как если бы я все их проживал, распластавшись в разных слоях времени, и тем не менее… И все же так они лились на меня одновременно…
— Ты ерунду какую-то говоришь, — оборвал его сокольник, тайком слушавший наш разговор.
— Да что ты, ну тогда послушай, Дарбон Неверующий! Раз так, то я могу сказать, что ты один из нас слукавил. Ты нам свое видение не целиком рассказал, хулиган ты этакий! Ты сказал про своего сокола, как он не мог пройти через стену ветра, это правда. Но ты же скрыл от нас, что было потом. Иль будешь утверждать, что я не прав?
— Ничего потом не было!
— А потом ты своего сокола съел. Проглотил живьем. И отравился.
— Да что ты опять несешь! — взорвался Дарбон в полном замешательстве. — Пойду лучше спать лягу, у меня уже в печенках твое шутовство бесконечное!
— Ты и так уже лежишь… Проглоти оскомину и сиди себе тихо, — осадил его ястребник.
) 
Караколь оценил колкость и ограничился тем, что запустил свой бумеранг… лежа. Бум вернулся ему в руку. Я взял слово:
— Если вкратце изложить твою теорию, Караколь, то ты утверждаешь, что сифон способен заключать в себе сегменты будущего? Что он в каком-то смысле память будущего? И что он выпустил в нашем присутствии то будущее, которое ждет каждого из нас?
— Як!
— Лично меня от этой мысли в дрожь бросает… Значит, все написано заранее? — вмешался Пьетро.
421
— Почему бы и нет? Вот, например, эта сцена, которую мы сейчас проживаем, она уже существовала. Все уже существовало ранее и все будет существовать однажды заново. Все вернется нетронутым, как есть. Хрон сам ничего не придумывает, он только прокручивает на полном ходу витки времени, из которых состоит, он просто-напросто маршрут циркулярной памяти, плотной до невозможности. Все, что его наполняет, по сути — только прошлое. С определенной точки зрения. С той разницей, что для нас это прошлое — будущее, потому что мы ползем ему навстречу, как ничтожные улиточки на крохотном отрезке пути. Наш разум выловил сцены, которые ему интересны, он на лету перебрал все варианты. Но только я не знаю, как он это сделал, и не спрашивайте, и все же, как бы то ни было, все это так!
— Ты сам понимаешь, что говоришь? Ты опять нас за нос водишь?
— Ну я скорее надеялся за буек вас потянуть…
— Ни у кого другой теории нет, пусть даже ерундовой? А то от этой… — вздохнул Силамфр.
— Я могу поделиться своей, — отозвался я. — Для меня то, что мы видели в пропасти, — не будущее. Вернее, это была только одна из возможных версий будущего, одна из вероятностей, которые кроются в нас.
— И почему мы тогда видели именно эту?
— Я думаю, потому что речь идет об осевом будущем, о прямой трассе.
— В смысле?
— Это доминирующее будущее, наиболее вероятное, то, которое нам предстоит, если все наши внутренние тенденции будут развиваться нормально и подтвердятся. Я не считаю, что хрон — это память. Он есть мерцание наших вихрей, форма психического эхо, отзвук сил, что нас
420
формируют, он обладает способностью передавать это посредством воды. То, что он нам показал, — это своего рода конкретизация того, чем мы потенциально являемся.
— Наше становление?
— Да, наше основное становление.
— То есть для тебя, Сов, ничто не предрешено?
— Нет,
все выписывается сейчас. Все решается именно сейчас, в моих венах, моими внутренними силами, их борьбой. Хрон показал нам, кем мы станем, если продолжим быть такими, какие мы есть сейчас. Степп станет деревом, если будет развивать растительную жизнь в себе. Каллироя увидит отца, если действительно этого желает…
— А Барбака сожрет островомедуза, если он ничего не поймет? Так, что ли?
— Возможно. Он нас слышит?
— Нет, они там уже спят. Не слышишь, как они храпят, что ли?
π 
Ночь сгущалась. Нас оставалось пятеро: Караколь, Ороси, Сов, Силамфр и я. Ороси была, как обычно, самая сосредоточенная:
— Думаете нужно воспринимать эти видения как знак?
— Какой?
— Что не стоит следовать за своим основным будущим, а лучше за вторичными вариантами становления. Что нужно уметь отклоняться, создавать для себя новый подход к существованию. Не следовать за естественным ходом наклона. Ну или подниматься вместо того, чтобы катиться вниз.
— Для кого как, Ороси. Что ты видела такого, что хочешь изменить?
419
— Я вам уже рассказала. Я видела, что родила. Но это был не ребенок. Это было что-то вроде… шара из алого вихря, как будто хрон появился из моего живота. У него не было ни головы, ни конечностей, но я обнимала его, я была напугана и счастлива одновременно. Мне не было больно. Шар был теплый, и…
— И что?
— И я пропускала его сквозь пальцы. Я наконец понимала.
— Что понимала?
— Понимала смысл всего. Я знала. Я дошла до конца своего пути.
— А почему Караколь видел все наши видения? Почему Аои видела то, что видел Степп?
— А Ларко почему почувствовал прошлое, настоящее и будущее одновременно, как Карак?
— И что же, молодые грызуны знаний? Что в этом удивительного? Ваше представление о времени столь жалко, однообразно и скучно! Ваша фантазия плетется, ковыляет, ноги еле переставляет, на четвереньках вас догоняет, и все этой старой деве кажется таким экстравагантным! Время есть вода, время есть ветер. Оно ускоряется, когда хочет, замедляется, меняет ход, возвращается назад, скачет вперед! Оно закручивается спиралью, петляет, хрипит и покашливает будущим, заглатывает ваше прошлое, опорожняет сфинктеры в озеро. А почему бы нет? Времени столько же, сколько дышащих существ, сколько скоростей! Время в вас, как вода в бутылке. Вы пьете из себя по глотку каждый день и думаете, что понимаете, что к чему? Или только один Сов способен хоть что-то понять на самом деле? Есть время, которое течет, да, единственное, которое вам близко, я так понимаю, но оно лишь одно из мириад. Но есть же и время мороза, время легкого инея,
418
время черного льда и стекла, самое сжатое из всех, но которое при этом можно раздуть, и выдуть из него те самые бутыльки, что производят на вас такой умиротворяющий эффект. Есть время консистенции тумана или пара, оно летит и рассыпается, выскальзывает из рук, бывает время вязкое и тягучее, сгущающееся и воздушное… А еще есть время действия и бездействия, время свободное и время трудное, время чужое и личное, есть и то, которое мы убиваем, и ярвремя! И сколько еще других времен? Одни бегут по прямой в своем ритме, но большая часть закручивается в восьмерки, вяжется узлами, бесконечно перематывает один и тот же отрезок. И ваши образы — прошлое, настоящее, будущее — потеряют всякую ценность, как только окажутся вне реки. Например, знаете ли вы, что прошедшее во времени-стекле — не что иное, как уплотненное настоящее, которое размывается? А что будущее во времени-тумане — есть вечное настоящее, которое крошится на капельки мгновений? И что завтра не существует во…
— Спасибо, Караколь, но ты нас утомил. Все, мертвое время!
) 
Переправа через центральную зону заняла еще две недели, но тела наши привыкли, и мы больше не боялись худшего. Последние три дня полноводья перед нами на линии огня виднелась скала, выступающая из воды, и мы знали, что самое трудное позади.
Снова потянулись удручающие пейзажи туманов и зарослей тростника, но теперь в них было что-то нам знакомое. Через месяц, если удача не отвернется от нас, мы будем в Шавондаси, и я снова увижу Нушку — воспоминание о ней, под этой нависающей серостью, еще проскальзывало между водой и моей кожей чем-то красным и теплым.
417
Странно, но вместо того, чтобы разобщить, смерть Карста и Свезьеста скорее сблизила нас. Никто ни на кого не возлагал ответственность за случившееся. Впервые за тридцать лет Голгот вернулся назад, чтобы помочь Каллирое. Он сделал это всего лишь дважды, но он это сделал. Я никогда не думал, что буду вставать по утрам и не видеть, как Карст ковыряется в тарелке Горста. Повсюду, где бы ни сидел Горст, рядом с ним по левую сторону теперь всегда садилась пустота, и я не мог к этому привыкнуть. Я учился. Возможно, все это нужно было, чтобы я наконец осознал то чудо, что остальные все еще здесь, двигаются, говорят, кричат что-то каждое утро. Я долго думал, что они мне дороги, что я держусь за них, но — как объяснить? — теперь я чувствовал это иначе, теперь скорее они держались во мне. Они меня населяли, они жили в моей палатке из костей и плоти. Каждый их шаг, каждое сказанное слово, каждый незначительный жест, все это наполняло мое внутреннее море, продолжало его поверхность. Сама мысль о том, что они могут умереть, придавала их существованию особый свет. После смерти Свезьеста я себе пообещал, что больше никогда не буду забывать о том, что завтра их может не стать. Последствия этой небольшой клятвы были необычайны, я с такой остротой принимал их как есть. Я нашел новую силу — силу уяснившего сознания, что опирается на шаткий парапет смерти. Я снова обрел способность восхищаться этим миром.
(обратно)
XI
ПОМИМО И ПОСКОЛЬКУ
< > 
Земля наконец стала проступать на поверхности тонкими песчаными язычками, одинокими наносными островками. Центральная бескрайняя зона была теперь позади, растительность возвращалась. Степп видел в этом знак, что берег близок, он ориентировался по наносам и плотинам. Мы продвигались вперед на ощупь, сквозь туман, в зелено-серо-коричневой мозаике болот, илистых участков, влажных прерий и солончаков, которые Степп называл шорами. Он рассказывал мне о колонизации илистых участков, разжевывал для меня понятие «займище», говорил ученые названия, рассказывал о питательных и лечебных свойствах, учил проводить связь между растениями, между растениями и средой, между растениями и животными… Что мне больше всего в нем нравилось, так это энтузиазм, его неутолимая жажда открывать все новые редкие растения или несообразную «среду обитания», которые казались ему немыслимыми для того или иного существа: иволистный дербенник в солоноватой воде, например, или солерос в пресной. «Смотри!» — кричал он и бросался в очередной торфяник, гладил торфяной мох, пробовал на вкус цветок, распуская его в лохмотья, разрывая на тонкие лепестки в своих пальцах. Он ко всему принюхивался, глотал все, что видел, он
415
широко открывал глаза и, довольный, несся еще дальше, в поисках нового…
С тех пор как плыть мы стали меньше, он снова стал носить голубую льняную рубашку, которую я ему соткала. Ему все равно никогда не бывало холодно. По утрам я обрезала ему волосы, но трава росла с удивительной скоростью, я причесывала его, как мне нравилось, я облагораживала его сад. Корни были почти зеленые, а кончики светлые, и время от времени попадались то злаковые, то вересковые, то клевер, и ему нравилось «хранить их в голове», и он смеялся над этим до самых ирисов в его глазах плавучих лесов, до самых кончиков щек. Я молча наблюдала за ним, пока мы были в болоте, смотрела, как он меняется, какие медленные перемены в нем происходили, как вода влияла на его настроение, на спокойствие, которое охватывало его. Четыре года прошло с тех пор, как зародышевый хрон задел его шевелюру… (он пригнулся слишком поздно и слишком близко к кокону, вечный энтузиазм…) Его отклонение в растительную сторону меня завораживало; но в иные моменты, когда я заставала его врасплох, оно меня путало — в полном созерцании, на грани бессознательного, с лицом, опьяневшим от дождя. Как глубоко проникали корни, как высоко поднималась смола? Эта белая кровь, снившаяся мне в кошмарах, что потечет из раны на его локте. Степпа же это, казалось, не волновало, или же он отлично все скрывал, прекрасно прятал.
Он еще никогда не был со мной так мил, как после происшествия с сифоном, он был так внимателен во время контра, он слушал меня, улыбался моим слабостям, поддерживал меня. Он снова на меня смотрел. Он меня видел. Он сам теперь звал меня разделить его спальный мешок… Я не жеманничала, я раздевалась и ныряла к нему в объятия. Он снова полюбил мои яблочки, играл с моими губа-
414
ми, снова был рад заниматься со мной любовью, и я снова была счастлива, как в забытые времена. Я вставала на утро легкая, живая, я дрожала от радости, мне легче дышалось. У меня больше не болело все тело, не сводило мышцы в ногах, не зажимало колени! Я цвела.
— Я больше не могу…
— Каллироя, мы же только вышли!
— И что? Я больше не могу, не могу!
— Каллироя!
— Отстань! Нет больше Каллирои! Нет у вас больше огницы! Хватит с меня!
— Давай я тебя немного понесу…
— Оставь меня в покое… Отвали, я сказала! Я дальше не пойду! ВСЕ!
) 
Каллироя остановилась на несколько секунд с вкопанными в грязь коленками. Она рыдала с такой силой, что даже меня трясло, слезы струились водопадом из-под прижатых к лицу рук. Она рухнула в тину лицом, вытянувшись во всю длину, всем телом, и даже не пыталась подняться. Пак приостановил контр и повернулся к ней, но Клинок продолжал контровать по пояс в пруду. Никто не решался подойти к ней и помочь встать. Но все-таки пошла Альма, склонилась над ней…
— Оставь меня, мама! Оставь…
Уже два дня как с неба снова хлестал дождь с неописуемой силой. Выступающие из воды участки земли походили на иловые мочалки, из них сочилась вода. Небо выливало на нас воду ведрами из беспросветных туч, нас купало грозами, поливало до крови; изношенные, оледеневшие, промытые до костей, мы барахтались метр за метром под непрекращающимся водопадом, в проваливающихся торфяниках, понапрасну взывая к сухости, капли дождя били
413
по нашим телам дробью, по нашим лицам стекали борозды коды. Вчера вечером Каллироя даже не смогла развести огонь. Она все перепробовала, но трута больше не осталось, она раздосадовалась на ветрячок для трения, после чего совсем расстроилась и, редчайший случай, бросила свои попытки. Никто ее ни в чем не упрекнул, хотя мы все умирали от холода, но вчерашний провал обволакивал ее сегодня утром, как мокрое одеяло.
С тех пор как она упала в сифон, проблема была в том, что она больше не могла встать на левую ногу: у нее был перелом пятки и гематома в три сантиметра толщиной, так что она не мучилась, только когда мы плыли. Она опиралась на бамбуковые костыли, когда мы шли по проступавшим участкам суши, но под бесконечным дождем костыли проваливались в грязь, словно в топленое масло, так что она постоянно теряла равновесие и падала, а чтобы подняться, нужны были силы, которых у нее совсем не осталось. Мы помогали ей все по очереди, вернее старались, потому что были моменты, когда и у нас сдавали нервы, потому что она все тащилась со скоростью улитки и тормозила весь Пак… К тому же за шуном и ливнем и так ничего не было слышно, а если уж совсем откровенно, то иногда мне и не хотелось идти ей помогать.
x 
Она совсем вымоталась, она была на пределе и морально, и физически. Ее история со Свезьестом длилась уже три месяца, когда он умер. Они приноровились друг к другу и любили тайком; я была единственной, кому Каллироя доверила свой секрет. Взгляд группы был бы такой тяжелый, грузный и неотесанный, особенно со стороны Клинка… Эта история приносила ей много радости. Она наконец покончила с изнурительными и бесконечными историями с Силамфром, с Тальвегом и ястребником. В ней появилось
412
что-то более устойчивое, более спокойное, чем побуждения на одну ночь, исчезла бесконечная нехватка внимания и теплоты, которую по вечерам сплина заполнял слюной и спермой какой-нибудь Ларко. И вот теперь Свеза не стало. Никто не захотел за ним спуститься, спасти его, в этом вся правда. И она осталась одна, опустошенная, разбитая, с кратером в животе. Единственный открывавшийся для нее горизонт был оборван. И ее сломанная нога, как переломленная душа. Я ума не приложу, как могла бы ей помочь.
π 
При пересеченном контре требуется одно кардинальное свойство: воля. Невозможно противостоять ветру, если ослабела воля. Тогда ветер решает за тебя: он хлещет тебя по щекам что есть мочи, издевается без малейшего намека на жалость. А потом убивает. Фреольцы, которые никогда в жизни не контровали, разглагольствуют о выносливости. Но они понятия не имеют, о чем говорят. Единственное, что важно, это
упорство. А упорство — это тот самый вроде бы совсем маленький, но такой важный толчок плечами или чреслами, еще одно усилие, тот крошечный прирост энергии, капля
остервенения, как говорит Голгот, оно помогает удержаться при каждом порыве и одолеть его. Если потеряешь, утратишь этот ток, то ты погиб. Вместе с дождем поднялся шун. Сдержанный, но крепкий, беспрерывной волной, придававшей дождю определенный угол. Вода стегала нас горизонтально. Целая река из капель, и шли мы по ней против течения. Мне нравилась Каллироя, нравилось ее пугливое личико, ее порою дерзкий характер, при этом она всегда была очень ранима и трогательна. Она была очень красива со своими прядями в форме белеющего пламени. Но у меня больше не было сил. Я был опустошен. Ее депрессия нас всех засасывала. Альма была самая терпеливая среди нас:
411
— Каллироя, но ты же не можешь просто здесь остаться, ты же сама это знаешь! Если мы тебя оставим, ты нас потом не догонишь. Ты потеряешь след в этих болотах и умрешь!
— Я и так уже умерла: Свез умер, Карст умер, Барбак умрет!
— Но не ты! Тебя ждет отец у подножья Норского перевала. И мама тоже! Ты же помнишь, что ты видела?
— Это было просто видение, это только моя мечта, это ничего не значит…
— Ты нам нужна, Каллироя. Без тебя у нас не будет огня, не будет еды, мы все умрем от голода, — добавил я не особо убедительно.
— Аои меня заменит. Она не хуже меня справляется…
— Я не умею разжигать костер под дождем, Калли…
— Ну так и я тоже не умею. Разучилась. Или, может, вы не заметили?
Альма поставила ее на колени, обняла и сделала мне знак приободрить ее. Но я не знал, что сказать. Сов находился рядом со мной, опустив руки. Ларко стоял молча под потоками воды. Арваль воспользовался паузой и помчался высматривать полоски суши в верховье. Голгота было не видно в тумане. Слышно было только как он выкрикивает Арвалю инструкции: «Маяк на фареол! Давай фигачь сирену, чтоб выла на ветру! И завязывай со своими бамбуковыми портиками, они не держатся ни черта, я их не вижу даже. Заметано?» «Як!» За последние два дня наша огница повалилась с ног минимум раз двадцать. И к тому же мы сегодня только начали контр… Я вчера думал, что Голгот ее напополам разрубит своим охотничьим бумом. Она что-то нелестное про Клинок сказала. Но он пропустил мимо ушей. Я знаю, что дважды он так не поступит. Я сегодня ночью слышал, как Эрг и Фирост говорили о том, чтоб ее оставить. Без огня настроение у всех было
410
на нуле. Мы думали, что самое сложное — выбраться из центральной зоны. Но попали в трясину похуже, чем в первый месяц контра. Растительность здесь была гуще, с плотными занавесами тростника, пробираться через которые было просто убийственно. Ни одной надежной опоры и постоянный безысходный шун. Каждые пять секунд нужно было переставлять ногу, чтоб ее не засосало в жирную грязь. А тут Каллироя опять глохнет… Альма смотрела на нас в ожидании реакции, постепенно раздражаясь:
— Ну, мальчики, давайте двигайте булками, помогите ей! Скажите ей что-то!
— Пусть сама двигается! Мы и так уже измочалились все! — ввернул Ларко.
— Скарса, а ты и правда дерьма кусок. Как тебе поразвлечься приспичит, так ты к ней бежишь любезничать, шуры-муры свои разводишь, а как ей плохо, так все, ты не при делах! Доволен собой?
— Кто бы говорил, а ты довольна своими бинтами? Гордишься своими примочками дурацкими? Ты даже не можешь ей ногу обезболить нормально. Так что закройся!
— Сам закройся, башка козлиная! Ты у меня больше массажа не допросишься! У тебя в ногах ничего нет, за тебя другие все несут, а ты только жрешь мои запасы вербового порошка, потому что у тебя, видите ли, «температурка поднялась». Мне на тебя смотреть тошно!
— Да отвяжись ты от меня! Ты нас всех задерживаешь, ты…
— О-о, потише в курятнике! Что тут за бардак?
Голгот вернулся с верховья, откликнувшись на крики.
Комбинезон его весь был в грязи. От него несло болотным перегноем. Трассер был не в духе:
— Опять мелюзга тут нюни распустила? По ночам так у нее пожар в одном месте, а как огонь развести под
409
дождем, так это, видите ли, не к ней! А вы чего стоите? Как перепахивать ее во всю ширь, так народу у турникета хоть отбавляй, и уговаривать не надо, но в одноногом варианте клиентов сразу как унесло… Ну, где вы там, пахари, банда дырозатычек? Пора ответственность на себя брать, вы, головастики! Кто платить за обслуживание будет?! Ну, давайте, раскошеливайтесь… Силамфры там всякие, Тальвеги, Фиростики, Ларко! Вы чего ждете, чтоб ее на плечо погрузить? Или вы думаете, она вам услуги вперед должна?
Голгот взял тон насмешливый. Он держался на гребне, очень опасном в его случае, между сарказмом и яростью. Никто не двинулся с места. Силамфр подошел помочь ей встать. Каллироя оперлась о его плечо. Они сделали несколько шагов, но намывная коса была слишком узкая для двоих. Силамфр соскользнул в пруд. Тело Каллирои, потеряв равновесие, тоже шлепнулось в воду. Голгот смотрел на эту сцену ледяным взглядом. Он осмотрел их с ног до головы и грубо сморкнулся. Атмосфера та еще. Ларко помог Каллирое выбраться на берег. У нее на лбу выступили вены. Вез предупреждений лицо ее снова взорвалось рыданиями.
— Так дальше не пойдет, — заявил Голгот.
Она не слушала и не отвечала.
— Каллироя?
— …
— Огница… — рычал Голгот.
— …
— КАЛЛИРОЯ!!!
Но она по-прежнему молчала. Голгот подошел к ней поближе. Я сначала думал, что он ее ударит. Но он схватил ее и стал трясти с такой одичалой силой, что было только хуже. Двумя руками он оторвал ее от земли и подтащил прямо себе к лицу. Его свирепость вырывалась порционно:
408
— Слушай сюда, деваха! Я уже двух ребят в этом болоте потерял. И стоили они поболее тебя. Я тебя тащил. Я всю Орду ради тебя остановил. Один раз. Два. Десять. Ты там вчера что-то вякала, я тебе все спустил. У тебя костры, как из задницы, ты нам всем на нервы действуешь! Ты в ряду не держишься! Я не могу больше ради твоей физиономии потаскушной всю Трассу под удар ставить, въезжаешь, что говорю?
— …
— Значит так, я тебе сейчас объясню, как все будет. Или ты берешь назад свои костыли и ковыляешь вместе с нами, не сможешь идти — плыви, не сможешь плыть — ползи! Или я тебя тут хромоногую и брошу, Клинок и Пак без тебя построю, и поехали. А ты тут сиди. И из Орды я тебя вычеркну. Ну, что выбираешь?
— Я БРОСАЮ! — прозвучал ответ Каллирои, словно плевок.
Голгот подержал ее еще пару секунд на вытянутых руках перед собой, а потом бросил на землю, как мешок. Тело ее утонуло в грязи. Он достал нож из-за пояса, схватил ее за левую руку. Одним взмахом лезвия разорвал комбинезон у нее на плече… Я понял на секунду позже Сова. Но наш скриб уже бросился к Голготу и заслонил Каллирою:
— Нет! Ты не имеешь права! Она не потеряла звание!
— Она больше в моей Орде не состоит! Понятно тебе? Эта дрянь свой выбор сделала. Вали отсюда! Наваливай!
— Не делай глупостей!
— У нее духу не хватает, она трассу не тянет, она не на уровне! Она больше ничего не заслуживает!
Сов вцепился в руку Голгота. Они стояли на коленях, схватившись и жестко налегая друг на друга. Подошел Эрг, но не остановил их. Утопленная в грязь Каллироя не могла выбраться из-под двух навалившихся на нее тел. На
407
левом плече из-под ткани проступала белая кожа. На ней четко было видно оранжевое пламя, уложенное ветром, вытатуированное еще тридцать лет назад. Ее знамя огницы. Голгот хотел срезать его ножом. Открытой раной. Он хотел скальпировать ее знамя. Это могло значить только одно: он хотел лишить ее звания огницы. Она будет вычеркнута из рядов 34-ой Орды. Для нее это будет равно социальной смерти. Он один мог принять решение надсечь кожу и срезать татуировку. Привилегия Трассера. Но он не должен был этого делать во вспышке гнева. Не посоветовавшись с нами. Это было бы недостойно.
) 
Как тут сказать, что было бы, если бы не вмешался Пьетро и одним скачком не повалил Голгота в болото? Почему он это сделал, почему не заколебался, как я? Голос Голгота, его рык, его рубленая ярость, его безумная энергия насилия, убийства, пульсировавшая в нем в этот момент, — вот чего он не смог вынести. Как бы там ни было, он это сделал, он бросился на Голгота. К тому же у него единственного были на это силы, моральная архитектура и статус. Он не пытался бороться с Голготом, он просто заслонил ее своим телом, своим прямым взглядом, металлической частью своей души. Голгот, впрочем, ни за что бы не набросился на Пьетро, хотя мог его запросто переломить напополам благодаря своей подготовке в Кер Дербане, потому что из всех ордийцев Пьетро был первым, кого Голгот безусловно уважал — даже больше, чем Эрга, и больше, чем столповика Фироста, больше, чем Ороси и меня.
Нужно признать, что гордость Голгота, какой бы безразмерной ни была, не превышала той более широкой и более глубоко ввинченной в него гордости, которую он испытывал за Орду целиком. Я имею в виду, когда происходило столкновение, то гордость за Орду всегда
406
одерживала верх над его личным тщеславием, как и здесь, на Лапсанском болоте.
Каким-то неясным образом, который он и сам бы не мог распознать, наш Трассер всегда был един с Ордой в полном ее составе, от Клинка до фаркопа. Он воспринимал ее как продолжение своей собственной магмы и, когда боролся с чем-то вне себя, в других, в каждом из нас, едва ли отдавал себе отчет, что эти подземные потоки лавы, текущие в противоположном направлении, постепенно обтесывали его собственную скалу. В Пьетро, например, он признавал в какой-то мере присущее и ему самому благородство, но отбрасывал сострадание, человеческую эмпатию, которыми Пьетро, на его взгляд, был подслащен. В Ороси он чувствовал понимание контра, высшее прочтение ветра, оставшееся у него на стадии интуиции, но насмехался над процессом мышления о причинах и интенсивном поиском смысла. В Караколе Голгот уважал немыслимую интуицию, чувствительное
отношение к миру, которое ему было свойственно, не вынося при этом фривольности трубадура и рассредоточения, из которых все качества Караколя и происходили.
Мы никогда ничего не понимали в приступах ярости Голгота, но могли только угадывать под проявляемой твердостью высшую ярость, которую он обращал к самому себе через нас. Он знал лучше других, что усталость и упадок духа, коварный зов отдыха, столь губительная потенциальная лень кого-то из нас, всеобщая слабость и ее моментальное распространение были нашими врагами, худшими врагами.
Он уже в десять знал, что будет Трассером, он понимал, что это за собой влечет, он понял это, возможно, раньше и яснее, чем кто бы то ни было за всю историю Орд. Быть Трассером значит принять раз и навсегда тот
405
нечеловеческий груз быть первым (а зачастую и единственным) заслоном против
упадка духа. Он мог поддерживать больного или раненого, который замедляет весь ход, мог согласиться с тем, что кто-то из фаркопщиков тормозит Пак, но мог это сделать, только если этот больной или раненый
сохранял боевой дух, который своим упрямством пронизывал нервные волокна всей Орды. Было неприемлемым, чтобы в экстремальных условиях, и особенно в экстремальных условиях, ордиец утратил остервенение. Один-единственный мертвый груз, и Пак терял свою боевитость. Одна-единственная трещина в коллективной воле — и бессилие со свистом стеша проникало во всю Орду, словно вирус. Один-единственный отстающий — и весь Блок начинает сомневаться и волочить ноги. Откровенно говоря, я очень редко злился на Голгота за его приступы, какими бы взрывными и незаслуженными они ни казались на первый взгляд. Я видел, как он бил фаркопщиков; видел, как он прижигал каленым железом раны в таких местах, до которых никто бы не осмелился дотронуться; я видел его отвратительным, упертым и твердолобым; но я не забывал, что без него Орда никогда не смогла бы ни достичь, ни все это время поддерживать динамику контра прямой трассой, невзирая на износ, на неизбежную ржавчину нашего запала, с ним мы шли прямой трассой — самой требовательной из всех известных. Благодаря этой динамике у нас было три года преимущества над другими Ордами и эта несущая нас, как винт, надежда, которой Голгот то и дело смазывал лопасти, как только чувствовал, что они начинают заклинивать, надежда быть первой Ордой, что дойдет до Верхнего Предела. Вся вместе, целиком, по встречному ветру.
— Я у тебя просто прошу двух человек в поддержку. Я не предлагаю разделить Пак! Я скажу Арвалю, чтобы он
404
ставил вехи почаще, и чтоб Фирост оставлял флажки на месте. Мы пойдем по вашей трассе и к вечеру догоним вас на платформе. В чем проблема?
— Проблема в том, что Орду надвое не делят, князь! Или тебя отец этому не научил?
— Оставь моего отца вне наших дебатов! Каллироя ранена. С нашей стороны совершенно естественно ей помочь. Она нам нужна.
— Мне она не нужна. Мне шлюхи в Орде не нужны! Таких и в селах хватает, задницы свои всем подставляют!
— Я тебе напоминаю, что она наша огница, Голгот! Ты должен ее уважать.
— Я ей обязан тремя днями гнилых костров и ночью блевотины из-за недоваренной медузы! Эта свиноматка нам весь ритм похерила и еще чавкает своей желчью! Я
этим ей обязан? А? Пусть катится на все четыре! И с кем хочет!
π 
На этом Голгот выстроил Клинок и Пак ударами то в плечо, то по ребрам, поправил свой кожаный шлем и занял место во главе. Спустя сотню метров ястребник украдкой вышел из своего ряда. За ним Тальвег и Силамфр. Трое постоянных любовников Каллирои: я вздохнул с облегчением. Мы сформировали что-то на подобие трензеля, прикрыв таким образом нашу огницу. Наш контровый ромб неплохо продержался все утро. Каллироя, потрясенная случившимся, ковыляла на костылях изо всех сил. Мы оставались недалеко от Пака, так, чтобы слышно было их голоса. Но затем она сорвалась снова. Еще хуже, чем прежде. Через надрез, сделанный Голготом, вода просачивалась в ее комбинезон. Она повалилась лицом вниз, в заледеневшую грязь. Она больше не двигалась, если не учитывать спазмов, которые ее сотрясали. Рыдания или
403
рефлекторная реакция? Тальвег подошел к ней первым. Затем ястребник со своей птицей на плече. Потом Силамфр со струящейся бородой. Но это не дало никакого результата.
Я сразу представил себе худшее. Ответственность, которая на меня за это возлагалась, была полной: я сформировал эту группу, я поддержал Каллирою против Голгота. Если она больше не сдвинется с места, что я буду делать? Нести ее? Оставлю в этой глиняной могиле? Тогда уж лучше «обрубить» ее, как предлагал Эрг… Но я был уверен, что на это не способен. Мне показалось, что она к тому же еще и была больна. Я понял это, когда дотронулся до нее, чтобы вытереть ей щеку — она горела. Ее желтые глаза блестели от слез. Несмотря ни на что они были прекрасны. Два намокших солнца, приглушенных от жара.
— Ты меня здесь оставишь… так ведь? — прошептала она.
— Держись, Калли. Мы прошли самое трудное. Осталось всего две недели озера, а потом ты сможешь отдохнуть и подлечиться. В тепле.
— Я больше в нас не верю, Пьетро. Я больше не верю в машу Орду. Умереть, чтобы выиграть несколько месяцев… То, что мы делаем, не имеет смысла…
— Смысл есть! Смысл есть в каждом шаге. Смысл есть, когда мы встаем и когда ложимся. Разводить огонь имеет смысл. В дожде есть смысл. Во всем есть смысл. И остаться в живых более всего.
— Ты меня презираешь, Пьетро?
— Да. Но это не мешает мне тебя любить.
С верховья до нас не доносилось больше ни одного голоса. Изолированность нарастала. Вчетвером, без Эрга, чувство защищенности быстро теряло свою плотность. Не терять связи с ней. Заключить ее в нашу группу, снова
402
и снова. Она была из нашей Орды, она была нашей огницей, что бы ни сделала.
— Там что-то двигается в воде!
— Бобры?
— Нет, крупнее!
Меня захлестнуло жесткой волной тревоги. Боевые пловцы? Хрон? Акваль? Я приготовил бум за плечом… Ложная тревога: это была стая из пяти-шести выдр. Они играли: ныряли, снова выныривали на поверхность. Они подплыли к нам поближе.
— Смотри, Калли! Это выдры! Они хотят с тобой поздороваться!
Мои слова сработали как бальзам. Каллироя поднялась на колени. Ее изборожденное лицо озарила улыбка. Как и Аои, Сов, Горст и Карст, и Арваль тоже, Каллироя обожала животных. Особенно млекопитающих с меховой шкуркой. В ней всегда была такая естественная сильнейшая эмпатия, благодаря которой она могла приручить даже сервалов. Вскоре она уже была в воде, в своем комбинезоне из… выдры! Что наверняка было ей только в помощь. Она тихонько поплыла в направлении нашей линии контра. Если бы я сделал то же самое, выдры бы тотчас испарились. Силамфр надел клобучок на своего ястреба, чтобы у того не было даже попыток атаковать. Заинтригованные выдры крутились вокруг Каллирои и издавали короткие крики. К счастью, полоска воды была достаточно длинная, и выдры дружно плыли к верховью. Каллироя плыла за ними совершенно забыв про нас. Мы продвигались параллельно, переходя с запруды на островки. К концу дня выдры все еще были с Каллироей. Было невозможно разобрать, кто кого тянул к верховью. Единственное различие было в золотистой копне кудряшек, которое отличало нашу огницу.
401
Когда мы добрались до платформы, я отдал Арвалю знамена и фареолы, которые собрал по пути, и горячо его поблагодарил за вешкование. Голгот на меня даже не смотрел. Степп с Аои пытались развести огонь в подвешенных жаровнях, но напрасно: к вечеру снова начался ливень. Каллироя долго прощалась с выдрами, которые не хотели ее оставлять. Затем взобралась на платформу, попросила свой ветрячок, снова опустилась в воду и позвала меня:
— Поможешь мне. Помешивай ил палкой.
— Зачем?
— Хорошо перемешивай ил на дне.
Я принялся исполнять. От тины поднялся сильный замах гнили, и из крутящегося на ветру ветрянка вырвались искры. И вдруг, я даже отскочил от удивления, из воды помнилось пламя! Оно на пару секунд сверкнуло, как драгоценный камень, и исчезло!
— Не бойся, князь! Это всего лишь газ. Принеси лучше тряпку, вымоченную в масле. У нас сегодня будет огонь.
Подвиг нашей огницы — сделать огонь из воды! — впечатлил всех, кроме Караколя, который утверждал, что способен разжечь гальку, и которому это, между прочим, удалось у нас на глазах уж не знаю каким фокусом-покусом… Так или иначе, Голгот наконец поел жареного мяса, и атмосфера с уровня кривец перешла в сламино 5 ближе к вечеру. В последующие дни напряжение между трио Голгот-Эрг-Фирост против Каллирои тем не менее не ослабло, несмотря на успешно горящие костры. Ни один из троих не мог ей простить того, что она вдруг использовала технику, которую, как они думали, она сознательно от нас скрыла в дни проливных дождей. К тому же ни один из них не мог простить разделение в Паке из-за пораненной ноги: Эрг из соображений безопасности, Фирост — потому что у него тоже было повреждено колено после падения
400
в сифон, но он терпел молча, Голготу же была невыносима мысль, что Пак за ним продырявлен, к тому же Арваль расставлял вехи для сзади идущей группы, а значит, у него было меньше времени, нежели обычно, на выполнение своей основной работы лазутчика, особенно в местах, где видимость впереди была практически нулевая. Кроме того, их раздражало присутствие выдр в кильватере Каллирои, и наша с Аои и Каллироей привычка подкармливать их по вечерам остатками ужина и отбросами от улова Ларко. Но они были неправы, столько радости приносили нам эти игривые животные, которым Караколь посвящал сказки и фокусы, и они вносили в этот призрачный и серый мир пятно света. Одна из выдр особенно привязалась к Каллирое и плыла с ней дуэтом целыми днями. Ее роль в выздоровлении нашей огницы была неоспорима, куда результативнее, чем психологическая поддержка Альмы, забота и нежность любовников и наши попытки ее приободрить. Каллироя даже доверила ей свой поплавок, который она без труда тащила за собой, а моментами даже позволяла себе воспользоваться силой выдры и давала ей потащить и себя — тайком, конечно. Если бы об этом узнал Голгот, то он бы такого ни за что не допустил: жульничать в контре подлежало дезордонации.
Но еще больше, чем усталость и бесконечная промозглость, больше, чем вкрадчивый холод, стегавший кожу, проникавший в плоть и светившийся изнутри, как камень хранит ночную прохладу и отражает ее, еще больше мы страдали от того, что нам все это так осточертело. И нам едва ли удавалось это скрывать, что еще больше расслаивало нашу сплоченность. Караколь снова пребывал в состоянии оцепенения, которое было для него совершенно антитетично: он жаловался, что контр слишком медленный, негодовал на цвета тины, на приторный шун, он
399
чувствовал, как плотнеет… Его сказки становились все реже, шутки были ожидаемы, блеск и виртуозность чахли. Голгот дошел до порога высшей омерзительности: вместо слов он лишь отрыгивал какую-то воркотню с приказами, он набрасывался на Альму на каждом привале, толкал Каллирою без малейшего почтения, ел за четверых и тут же валился спать, ругаясь вовсю, пока не заснет.
Но одно событие слегка нарушило этот континуум истощения и скуки. Это было появление соляного озера, которое под затянутым солнцем слепило нас, как снежная равнина, но было так невероятно сухо под ногами, что мы пересекли его в один прием. Для Ороси этот феномен мог быть только работой акваля — хрона в форме прозрачного ската, описанного Фреольцами, который поглощает воду из озер, растений и тел. На месте, где он прошел, не осталось ничего, кроме толстой соляной корки, камней, костей животных, сотен скелетиков рыб, разбросанных то там, то тут на опустошенной поверхности, соломы и сухих стволов деревьев, лишенных смолы. Акваль убивал за воду, как иные убивают за кровь. Появись мы здесь на день раньше, и от нашей Орды не осталось бы ничего, кроме мешков кожи. По совету Ороси мы встроились в соляной поток, оставленный аквалем, в поток сухой смерти, которому мы были здесь так рады… Я полтора дня благословлял этот хрон, я завидовал тому, что он смог с такой легкостью сделать то, о чем я мечтал с первого дня, как опустил ногу в Лапсанское болото: покончить с поглощающей нас водянистостью болотного мира! Контр значительно ускорился в таких условиях, но затем трасса, покрытая недавними дождями, снова стала однообразной. Водоемы, заполненные тростником, через который так сложно было прорываться, снова выстроились перед нами бесконечной грядой… Надоело!
398
— Кто за ним следил?
— Никто! Барбак плыл далеко слева, он был один. Волны были слишком высокие, чтоб можно было за кем-либо уследить!
— Эрг, а ты где был?
— Впереди, с Арвалем. При таких штормах опасность всегда идет с верховья, сам знаешь, князь. Против ветра, при шуне, крепчающем до 8, винт сильно теряет скорость между волнами. Штурмовой парус не смог бы привестись к ветру. На гидроглиссере подходить к нам было бы глупо. Атака могла идти только с верховья, уж извини.
— Ты остров не видел?
— Видел, конечно.
— И ты не понял, что это была островомедуза?
— Не на таком расстоянии, Пьетро, и не при таком пенном вале! Нужно быть в ста метрах, чтобы определить островомедузу. Да и то! Стволы деревьев вращаются вокруг своей оси, ветви формируют своего рода занавес с прозрачной листвой, которая может менять угол в зависимости от направления медузы. Но это все можно рассмотреть только вблизи. И к тому же если остров остается в стационарной позиции!
— Мы же договаривались после сифона ко всем видениям относиться серьезно! Вы об этом вообще помните?
— Да, Пьетро, разумеется…
< > 
Это было чувство полной безысходности, я прижалась к Степпу, у него к глазам подступали слезы, но он сдерживал их. Платформа покачивалась, скрипела, я была совершенно опустошенной.
— Видение Барбака было яснее некуда, разве не так?
В восклицаниях Пьетро не было злости, только бесполезное и запоздалое желание понять. Мы все чувствовали
397
себя виноватыми, и больше всех Эрг, и даже Голгот, который молча разламывал бамбуковую трость на мелкие кусочки.
— Тальвег, ты когда его заметил, он далеко был?
— Метров пятьдесят максимум.
— От тебя или от медузы?
— От медузы. Вода была очень мутная, я на таком расстоянии не видел щупальца, но остров вдруг съехал назад метров на десять. Часть щупальцев сплошной массой извивались над водой. Было похоже на корни, только розовые. Их хорошо было видно в ложбинах между волнами. Барбак попытался плыть кролем направо, но он уже был в полотнище щупальцев, он там не мог двигаться. Остров на него наплыл, щупальца сжались.
— Ты попытался ему помочь?
— Если честно сказать — нет. Я был в ужасе. Масса щупальцев была огромная…
— Спасибо за твои показания, Тальвег.
Ω 
Барбак… Мой лучший фаркоп, никогда не колобродил: тягач не из оболдырей, ходячая куча смелости, недотрогу из себя не корчил, ни разу не муторный, жестяк по контру. Со Свезом получается два упряжных пса в норе, еще и громила Карст сварился! Была у меня мысль поставить Барбака фланговиком вместо Карста, потом, как выберемся из болота. Я созрел, чтоб ему блазон на спине наколоть. Он так точно заслуживал. Не то что эта истеричка рыжепатлая. У него был и габарит, и мощь что надо, чтоб стоять на фланге, нужно было ему только втопить чуток свинца по зажимам. Разжевать ему пару финтов из аэродела, научить складывать гармошку под блаастом, сворачиваться и уваливаться. Это б мне нормально весь контровый диамант в баланс привело… Мир твоему вихрю,
396
Барбак… Если не будешь знать, куда приткнуться, так я тебя приму полной грудью, хоть до бронхов, заноси ко мне свой воздушный шар… Мне такие ребята, как ты, лишними на Норске не будут, чтоб там кишки не высморкать…
— Послезавтра будем в Шавондаси…
— Ага, конечно, Караколь! А если побежать, так через две недели вообще до Норски доберемся!
— Конечно! А ты откуда знаешь?
) 
Караколь стоял на большом плоском камне в пяти метрах от острова, на котором мы решили разбить лагерь. Не дожидаясь, пока все закончат ужинать, он взобрался на свой пьедестал и начал серию жонглерских трюков при ловком участии выдры, которая следовала за нами уже две недели. Он снова обрел форму счастливых дней, глаза его блестели, жесты были плавные и быстрые, ум перескакивал и сдвигался, как только прорисовывалась ось, которая могла сделать предсказуемым то, что он придумывал и переделывал на лету, по ходу дела. Он снова вызывал мое восхищение, он был блестящ и неуловим, ему одному было под силу оросить наши тела своей безгранично щедрой энергией, он один мог открыть немыслимые пути для воздуха в заржавевшем корпусе наших забитых контром черепов. Не сговариваясь, мы все расселись подковой вокруг огня, напротив него.
— Начну с начала. Послезавтра я, они будем, вы и он…
— В Шавондаси!
— Точняк!
— Можно ли поинтересоваться, любезный трубадур, что заставляет вас об этом так уверенно говорить?
— Прекрасный, изысканнейший вопрос, князь туманов и нерестилищ. Ларко, могу ли я со всеми полагающимися приличиями одолжить твою столь прыткую ивовую клетку?
395
— Пожалуйста, к вашим услугам, изобретатель!
В переднем безупречном сальто Караколь нырнул в воду и исчез на полминуты. На поверхности осталась только бамбуковая палочка, из которой попеременно доносились то тревожная мелодия, то утопленные, пугающие крики подводной схватки… Когда он снова вынырнул, то в каждой руке у него было по угрю, которых, один Ветер знает, каким чудом, он завязал в живой круг и подбросил в воздух… Пока кольцо из угрей летело вверх и вниз, бум Караколя пролетел через него дважды… Из наших ртов раздались оханья, гем более что на обратном пути бумеранг разрубил кольцо и угри плюхнулись прямиком в костер — Каллироя не долго думая разложила их на углях без лишних приготовлений…
— Закуски поданы! — просто заявил трубадур, не ожидая ни аплодисментов, ни криков «браво», чтобы приступить к продолжению.
Итак, он принял во владение клетку Ларко и поднял ее и небо. Делая вид, что ждет, пока она заполнится, он привязал веревку сначала себе к уху, затем обвязал подмышку, потом ногу, падая в песок, снова поднимаясь и снова падая; потом он принялся ходить на руках, вверх тормашками, как будто привязанный за ноги, прося помочь ему не улететь, привязывая наспех себя за руки и за волосы к земле, изображая страх, ангельское вознесение, пританцовывая и изворачиваясь то на одной руке, то на двух, то на трех пальцах, вертясь, как винт, в стойке на голове, и все это в сопровождении внезапных звуков то из кимвалов, надетых вместо шляпы, то из гонга на поясе, то хлопая ладонью по воде. Когда он снова встал на ноги, как ни в чем не бывало, то стал тянуть регулярными интервалами за веревку: и каждый раз раздавался звон колоколов! Стоял такой трезвон, что, казалось, он звонит в дверь к какому-нибудь богу, чтоб попросить его о помощи или милости…
394
— Драмы и господа притворные, юнцы и девицы, вот перед вами столь долгожданное доказательство того, что послезавтра мы будем в Шавондаси — я заявляю смело — в сумеречный час, когда все горсы серые, что мы выберемся из этой лужи неуклюжи, из клоаки все вместе в Паке! И еще не просохшие от тины, с прядью волос в трясине, но без сомнений с гордостью за переправу, и главное, окажемся в сухом месте! Так вот вам доказательство…
π 
Слегка потянув за веревку, Караколь спустил клетку вниз. Он поднял лозовую дверку, засунул руку внутрь и вытащил оттуда… Что вы думаете? Летучую белку!
— Ну как? Достаточно убедительно? Я требую немедленного подтверждения ученого состава. Слово предоставляется нашему геомастеру Тальвегу Арсиппе, а также флерону Степпу Форехису! Слушаем вас…
Мы повернулись к Тальвегу со Степпом. Первый был просто огорошен. У него в глазах стояли слезы. Второй же, казалось, задумался, взял перепуганную белку за шкурку на холке, кратко обследовал ее и улыбнулся Аои. И под нашими взглядами, жаждущими объяснений, сказал:
— Это парашютная белка из породы
Scatarra rubens. Такие водятся только в линейных сосновых лесах. Они передвигаются в основном прыжками-перелетами с ветки на ветку, порой на весьма впечатляющие расстояния. Ее наверняка во время прыжка подцепило шквалом и занесло сюда…
— Где ты ее нашел, Караколь? Ты только что ее в клетку посадил?
Караколь напустил на себя крайне оскорбленный вид — ах, как же можно его подозревать? Но тут Ларко объяснил нам всю схему:
393
— Я эту белку пару часов назад у себя в клетке обнаружил, когда проверял улов. Караколь у меня ее попросил, чтоб вечером устроить представление…
— В этом болоте никаких сосен быть не может. А белка эта может быть только из сосняка на суше, вероятно из парка, осушенного ветряками. Но даже на реактивной струе ее не могло бы отнести больше, чем на пять лье от места обитания.
— Ну так что, Тальвег?
— Значит, мы находимся менее чем в пяти лье от ближайшего поселения…
— Я не хотел вам раньше говорить, чтоб зазря не обрадовать, — добавил Степп, — но я со вчерашнего дня вижу в снятых пробах зерна крупинки пшеницы и ячменя… Этому может быть только одно объяснение: значит, где-то совсем рядом злаковые поля…
) 
Бесконтрольная всеобщая эйфория обуяла нас в ту же секунду! Нас охватили радость, поднимающаяся откуда-то из самого живота, и немыслимое облегчение, мы бросились друг другу в объятия. Гимн Орды вдруг зазвучал как будто сам, под дирижерством Караколя, гремел Голгот, орал Клинок, эхом подпевали остальные члены Пака под вклинивающиеся аккорды ликующего Силамфра.
Караколь мудро дождался, пока эйфория спадет, и затем прервал нашу песню и остановил музыку. Раскаты смеха было слышно еще пару мгновений, но затем начались перешептывания, и лицо Караколя выразило самую что ни на есть внезапную серьезность:
— Не в моем обыкновении, простите за вмешательство, затеивать экспромты просто так, занудствовать, смутьянить и брюзжать, но все же в этот столь исключительный вечер я должен поступиться своими привычными
392
манерами, как бы они ни были прекрасны, и кое-что вам рассказать, один раз не в счет, с приоткрытым и кровоточащим сердцем…
— Ну что ты там еще нам приготовил? — засмеялся Силамфр.
— Итак, мы с вами вместе вот уже пять лет, и ни один из вас не знает ни кто я, ни откуда. Никто не ведает моих возможностей, реальных или нереальных, проворных иль притворных, я и сам их для себя открываю по мере того, как создаю, и не всегда их понимаю, и очень часто о них просто забываю… За пять прошедших лет я привязался к вам столь глубоко, что сам едва ли мог себе вообразить. Мне открылся смысл слов «дружба», «другопорука» и «дружбовь», я понял, какую боль может причинить разлука, уход, отсутствие. Смерть. До встречи с вами я все это забывал как прилежный Фреолец. Я шел вперед, свободен, легок от всего. Теперь же я страдаю после смерти Карста, Свезьеста и Барбака.
— Мы тоже, Карак. Мы здесь все страдаем после их ухода…
— Но я страдаю, потому что они не мертвы. Потому что они все еще здесь, среди нас. И никто из вас, как я смотрю, не ощущает этого, как я; и никто из вас им не помогает…
— Что ты имеешь в виду? — спросила Аои.
— То, что их вихри еще здесь.
— Их вихри?
— Да, здесь, вокруг нас, вместе с нами. Но они как сироты.
Караколь встал. Не могу сказать, где именно пребывали наши чувства, цеплялись ли они во что бы то ни стало за эйфорию или же их уже отбросило назад, туда, к оградительной дамбе. Наверняка они раскачивались где-то между этих двух натянутых струн, подпитывая наше
391
жаждущее любопытство. Караколь вошел в воду и пронзительным криком позвал выдру, которая тотчас же подплыла. Трубадур взял ее на руки и вышел вместе с ней из пруда. Он опустился на колени, положил животное на спину и раздвинул ей задние лапки; выдра слегка задергалась.
— Благородная аудитория, то, что я вам покажу, не фокус. То, чего вы не почувствовали сами, я не смогу вам доказать путем рассудка. А потому предпочитаю показать и ничего не говорить. Смотрите же внимательно…
Караколь раздвинул шерстку и предъявил нам относительно гладкий участок кожи на животе у выдры, освещенный светом костра. Животное замерло. И мы увидели темно-зеленую татуировку, простой, но очень четкий символ: «
√». Это был блазон Свезьеста. Тогда выдра сама перевернулась на лапки и тихонько подошла к Каллирое. Ее мордочка зарылась в шею нашей крепко обнявшей ее огницы. Каллироя заплакала.
— Я знала, Карак, — в конце концов сказала она.
— Знала и не знала одновременно.
Все переглянулись в изумлении, пораженные.
— Это что… правда Свезьест? — спросила дрожащим голосом Аои.
— Свезьест погиб в сифоне, ручеек. Но что-то в нем все-таки выжило. Благодаря или через эту выдру…
— Но как он…
— Не знаю, помните ли вы, сколько выдр засосало в сифон? Сколько их упало в пропасть? Для меня очевидно, что в самом центре воронки сифон обладает немыслимой скоростью ротации… все, что падает на дно, попадает в центрифугу, в нечто похожее на сверхжидкое тесто, в котором редкие комочки тела и выдры были тотчас растворены… Ему удалось деформировать все, вплоть до течения времени, помните?
390
— Да, и что? Какая связь?
— Я думаю, что существует скорость, которой могут достичь только хроны, при которой возможно слияние вихрей…
— Насколько мне известно, соединить воедино вихри невозможно, — возразила Ороси.
— Насколько тебе известно, Ороси, но твое знание лишь теория.
Ороси отреагировала совершенным спокойствием на этот комментарий. И ответила ясным голосом:
— Вихрь — это наиболее индивидуальная сила каждого. Он происходит от
нефеша, жизненного ветра, что проходит в нас, который делает нас, кем мы есть. Ничто не может с ним смешаться. Он чист, неделим и самодвижущ. Он может рассеяться, если его скорость уменьшится, может присоединиться к другому вихрю, но не может с ним слиться…
— Моя гипотеза состоит в том, что вихри в обычное время не сливаются, потому что у них несовместимые скорости вращения. Сродство главным образом, если не единственным, заключается в скорости. Но в сифоне скорости превосходят биологические, они попадают в циклонические узлы. Они гармонизированы сверху!
— Правда в том, что мы ничего не знаем о вихре, — отрезал я. — Мы знаем — или думаем, что знаем, — что в некоторых редких случаях он может пережить смерть животного, человека или растения. Как и почему? Мы понятия не имеем. Мы знаем, или думаем, что знаем, что он есть самая сильная и живая часть — ветер, дыхание, дух, у всех этих слов один фундамент. Многочисленные религии подветренников пытались сделать из него душу, ограничивая его весьма абстрактными духовными размерами, но это полная бессмыслица, ерунда для крытней! Вихрь
389
материален, он существует. Он настолько же реален, как и стеш. Ничто так не реально, как вихрь…
— Да, Сов. Только скорость делает его неуловимым для замедленности, в который вы живете, чувствуете, думаете! Он превышает человеческие ритмы, пусть даже интеллектуальные… Он действует в необитаемой длительности. Он слишком скор для вашего восприятия!
— А для твоего не слишком скор, трубадур? — заметила Ороси.
— Частица Свеза живет теперь в этой выдре, это все, что я хотел сказать. А частица Барбака летает вокруг нас, вкручиваясь в воздух, наподобие того, как винт продолжает крутиться после преодоления препятствия. Он пытается пережить осевое течение потока, он ищет укрытие, пишу, в которой может заключиться, где он мог бы продолжать крутить свою спираль вне хаоса ветров, что не дают ему покоя. Вы разве этого не чувствуете?
На несколько секунд воцарилось тяжелое от замешательства молчание, но затем произошло одно совершенно невообразимое событие, которое прибило нас не месте. Голгот встал и заявил прямиком, без преамбул:
— Я чувствую. Я в состоянии вихрь унюхать, чтоб тебе известно было, шут ты болотный. Ты мне Норску не открыл. У меня в утробе часть вихря моего брательника.
— …
— Рек! Поуспокоились, а? Мне пять было, когда его на моих глазах ярветром сшабрило, когда его искромсало этой дрянью-волной, набитой кварцем. С него ветром шкуру содрало, как с кролика на вертеле, а мой папаша мне голову держал в форточку, лицом меня в стекло вжимал, «Смотри, — говорил мне, — смотри хорошенько!», и я смотрел, до самого конца смотрел. Я глаза не закрывал. Я хотел знать. Не знаю, как он это сделал, такой смертью подохнув,
388
но ему все равно удалось проникнуть в меня. Мой брат был, поэтому и смог. Я кучу лет думал, что меня преследует его смерть. Но это была просто-напросто его
жизнь. Его вихрь. Я знаю, что это он, и знаю, чем ему обязан.
А затем сел, плюнув струю самогона в костер. Эта новость была настолько ошеломительной, настолько личной и неожиданной со стороны Голгота, что вся Орда была в состоянии шока. Ороси первая взяла слово, быстрее нас осознав то, что услышала.
— Иногда мне кажется, что Ордан совершенно намеренно распределил между нами знания, полученные во время обучения. Это замечание касается и хронов. И вихрей. Я не знаю ни откуда Караколь, ни почему он чувствует то, что чувствует, — пусть даже моя догадка постепенно вырисовывается и дополняется. Во всяком случае мы с Совом решили попробовать совместить наши исследования; Голгот, твой опыт может быть нам крайне полезен; возможно, и остальные захотят к нам присоединиться: Эрг, Пьетро… Таким образом мы постепенно станем более осмотрительны, более способны выжить, вместе сможем противостоять тем силам, которые пока нас превосходят. Я тоже могу вам кое-что открыть теперь, когда Голгот и Караколь были так откровенны: мой статус аэромастера и блазон на спине, что его подтверждает, дают мне доступ к секретным знаниям. Это учение рассеяно по всей линии Контра, в разных городах, в зачастую отдаленных фареолах, в которых обитают и которые охраняют аэрудиты…
— Те самые знаменитые ааэрудиты?
— Да, Пьетро, только произносится это слово «аэрудит»… Это учение отчасти книжное, отчасти устное, а также передаваемое аэрудитами аэромастерам, когда дело касается практики. Сегодня мой уровень позволяет мне почувствовать, так же как Караколю, и Эргу, я думаю,
387
тоже, присутствие вихря. Он позволяет мне почувствовать ротор в стеши или в сламино, различить на расстоянии определенные складки, срезы в ламинарном потоке, разнообразные аномалии: впадины, помехи, турбулентности и дыры в полотне ветра. Я не утверждаю, что знаю о чем-то. Я далеко не аэрудит. Но мне кажется, я обладаю истинной чувствительностью.
— Ты чувствуешь присутствие вихря здесь, сейчас? — не сдержался Караколь.
— Я чувствую, что-то нервное и упрямое живет в этой выдре. И что Карст растворился в Горсте, что его вихрь растворился в нем, полностью впитался, как двойник, как повторяющееся эхо.
— А Барбак?
— Он совсем близко, плотный, устойчивый.
— Где, где именно? — допрашивал Караколь, словно проверяя.
— Около скалы. Чуть повыше.
— А про Голгота ты чувствовала?
— Нет. Голгот источает совершенно невероятную мощь, которая затемняет восприятие, во всяком случае мое. Его вихрь — настоящий хаос.
— Хаос? Что, прям настолько все запущено? — захохотал Голгот.
— Рядом с тобой текстура ветра сжимается, указывает на впадину Ты смещаешь поток вокруг себя практически всегда. Когда Эрг в бою, то, напротив, вокруг идет броневое расширение, оно его защищает. Я могла бы с закрытыми глазами вас узнать, — продолжала Ороси.
— А остальных ордийцев? Их ты тоже чувствуешь?
— Каждого по его трассе и по шлейфу. Но аэрологический след ваших вихрей не так заметен, как у Эрга или Голгота. Или, скажем, Тэ Джеркка или Силена…
386
Белка вырвалась из рук Степпа, но не успела она сделать и трех прыжков, как Караколь поймал ее на лету и отдал умиленной Аои. Идеи и гипотезы формировались и стирались в моем разуме постепенно. Главным образом вопросы. Что если бы мы умели удерживать вихри наших умерших? Какой была бы Орда, способная на такое, которая бы не теряла своих ордийцев, оставалась бы целой, по крайней мере по части своих сил? А что если в этом и есть секрет того, как дойти до конца пути? Если все заключается именно в этом единстве? И я решился на вопрос, очень конкретный вопрос, которым многие, наверное, задавались, не осмеливаясь спросить:
— Что мы можем сделать для Барбака и Свеза?
π 
Караколь и Ороси переглянулись. Эрг опустил свой покрытый колючками череп в пол. Голгот сделал новый глоток из фляги. Выплюнул его в костер, из которого вырвалось голубое пламя и погасло. Каллироя гладила выдру, прижимая ее к груди. Остальные ждали. Ответила Ороси:
— Лично я не имею ни малейшего представления о том, как можно вернуть вихрь, если в этом вопрос. Насколько я знаю, вихрь продвигается посредством притяжения и соседствующих сил. Ничто не говорит о том, что он обладает сознанием или что он способен на намерения. Вихрь — это сила, по большому счету слепая сила. Он действует так же, как светится молния, как льет дождь, как ветер дует к низовью. Но, может, Эрг…
— Я знаю не более твоего, аэромастер. Я думаю, что, к сожалению, мы уже ничего не можем для них сделать. Ни для Барбака, ни для Свезьеста. Они последуют за нами, если смогут. Если так должно быть. Тэ Джеркка всегда говорил: «На вихрь, никогда руку». Не надо
385
пытаться уловить его или притронуться. Вихрь — это святое.
— Караколь? Ты что-нибудь добавишь?
) 
Караколь при этом вернулся на свой «эстрадный камень» и, пожонглировав камушками и тарелками, поднял руку, как дети, которые просят слово. Хоть на вид он был рассеянный, я точно знал, что он не упустил ни единого слова из нашего разговора, тот интересовал его куда больше, чем он показывал. Может, конечно, я и не способен улавливать вихри, но в нем я чувствовал любой изгиб, любое отклонение, причем в весьма концентрированном виде. Я мог, например, угадать его настроение по скорости жестов, архитектуре ритмов и сгибов.
У Караколя вообще все было делом ритмов и сгибов. Очевидно, никто лучше не воссоздавал это впечатление живого ручья, пламенного потока плоти и движений. Но за этим было то, что становилось явным только со временем, никто другой не пропечатывал в этом ручье таких уклонов, не вбрасывал столько запруд и блоков, не принимал столько близких притоков, подземных вод и источников, не открывал столько дельт с переходами вброд для слушателей, не вклинивал столько изломов и быстрых, резких порогов. Он искусно заботился еще и о том, чтобы устроить в низине нагромождение из чистейших водоемов, в которых он отдыхал и топил вас. Ему, конечно, был присущ определенный темп, скорость внутреннего потока, зачастую этот ритм осуществлялся голосом, но он, как правило, использовал его, чтобы лучше отбивать такт непрерывности, которую никогда не прекращал разбивать ударами своих шалостей, и не ради эффекта или из порыва удивить, но потому что ритм, настоящий ритм, исходит не из повторения, которое его все же подготавливает, но
384
из внезапного появления чего-то странного, неожиданного, идущего вразрез с обычной траекторией внимания.
«От змея к полету», — как-то раз заставил он меня написать, когда я спросил, почему в его сказках столько нелогических отрезков. «Всегда можно перескочить, если
согнуться». «Ты видишь пустоту повсюду там, где на самом деле сгибы. Сгиб — это то чудо, что позволяет, взяв одну материю (бумагу, например, чтоб тебе было понятнее), разделить ее на две зоны, соединив их между собой тем самым общим бортиком на сгибе». «Разделить, соединив, одним жестом. Сгиб, мой дорогой Советник, это именно то, что позволяет тебе разграничить две самостоятельные сцены в рассказе, не продырявив внимание. Всегда спасай внимание, спасай несущий его поток, сгибая его. Посмотри на хроны: они сделаны из ветра, но из ветра со сгибами —
сложными сгибами: узлами. Так они и формируют (шалунишки) столько различных полостей, сколько понадобится, используя всегда один и тот же материал: воздух. Задать ритм значит научиться сгибаться в движении, не прерывая его. И дело трубадура — искусство, самое прекрасное, которое он украл у хронов: искусство ритма».
Из этих воспоминаний Караколь вырвал меня своим новым представлением. Не думаю, что кто-либо из Орды, включая меня самого, что-нибудь понял из того, что он хотел нам донести сегодня вечером со своего камня с выдрой в помощниках, но я видел, что для него это имело важность, превышающую фарс, и я последовал за ним с любопытством.
— Раз уж я могу вам подбросить несколько идей, то отклонюсь от курса сразу: коль уж свернется вихрь в клубок, то, значит, можешь им играть, его подбрасывать, но не пинать, но, чтоб жонглировать этим шаром, позаботься, чтоб рядом с ним было, недалеко, проходя мимо, не вкось
383
и не криво, хоть одно, но не слишком банальное, животное функциональное. Назовем их в целях дидактики животными из рода грамматики. Все они потомки Грамматери! У зверьков из подвида синтаксиса имена у всех как на подбор, имя им… да будет во имя! Вот, держите, вам из бестиария: крепкое
Значит с походкой горса,
Если, что спит, свернувшись клубком,
Поскольку и
Около от сокольника, друзья наши
Тут, и
Там, и
Оттуда, и
Сцелью и
Такчто, а также
Пускай, что рвется из строя. У каждого своя роль, каждый не из приволья, потому что там, где они появляются, как правило, что-то случается: ивы ломается прутик, увы, лещи угодили в ловушку… Так вот! Возьмите два вихря, два хрона наугад, два события… Смотрите, например так…
Караколь вытащил из кармана белоснежное, крупное яйцо. Он сделал вид, что ищет два случайных «события», но для меня было очевидно, что ничего он не искал и прекрасно знал, что скажет. Из рукава трубадур вытащил куклу, потрепанного арлекина, из которого через дырку сыпались опилки. Он показал нам яйцо, затем куклу и заявил:
— «Воздух стекленеет» и «Караколь умирает». Оба эти события существуют, по крайней мере потенциально, в петле какого-нибудь времени, в ожидании своего дня, своего времени, своего звездного часа, они ждут, пока губы не выговорят их наружу, готовятся выскочить в реальность, произойти! И кто за это отвечает? Кто складывает два события одно с другим? Кто порождает
одно другим, одно для другого, одно несмотря на другое? Но это же так просто, конечно же
синтаксические животные, кто же еще?! «Воздух стекленеет, поскольку Караколь умирает», — вот что будет, если вам навстречу попадется Поскольку. Со Значит, что бродит где-то по округе, история будет совсем иная: «Воздух стекленеет, значит, Караколь умирает», что, между прочим, к слову будет сказано, правильная версия
382
будущего. Хоть я бы предпочел «Караколь умирает, и пускай воздух стекленеет», но это не совсем верно, не правда ли? Вы понимаете, в чем штука? Если Свез существует, если его вихрь остается с нами в этой выдре, то лишь благодаря синтаксическому животному… Какому? Ну, держу пари, что в жизни не найдете!
— Около! — ответил, полушутя, сокольник.
— Да, да, да, около! Около располагает вихри
около нас. Но это был правильный ответ про вихрь Барбака! Очень жаль, не очень в даль. Но все же и тебе за ответ пятерка!
— Спасибо, а в дневник поставите?
— Что касается Свеза, так тут же все просто, игриво, все дело в
Кроме!
— Кроме чего?
— Ну как же? Кроме выдры! Свез прибавился к вихрю животного. Это событие, эта возможная комбинация не могла быть противоречием типа
Но,
Вопреки, или условным союзом, как у любителя пряток
Если, это могло произойти только в дополнение. Кроме позволяет добавиться, не нарушая строй. Теперь в выдре
Помимо собственного вихря еще и вихрь нашего Свеза.
— Ну ты и напридумывал! Никогда ничего подобного не слышал! Накрутил-навертел! Ну и как их узнать, этих твоих тактических животных, на что они хоть похожи? Что они, с перьями, с клювами, с шерстью? Или у них небось кожа из ветра, чешуя из чуши и когти из камыша?
— Они из глифов.
— Из чего? Из мифов? — прыснул Голгот.
— Из глифов, как на коконе у хронов. Это крохотные сегменты ветра, чертовски быстрые, они блеснут в воздухе и сразу исчезают… Очень красивые… Похожи на линии каллиграфов, прочерченные на лету… Их часто можно заметить на рассвете, по кромке озера…
381
— М-да, ну тогда я лучше дрыхнуть пойду, чтоб завтра, как проснусь, себе одного такого выудить! Спасибо тебе, ветряная мельница, у меня дела посерьезнее есть! Спокойной ночи!
π 
На следующий день нам стали встречаться первые за прошедшие четыре месяца лодки. Они были изъедены сыростью и гнилью. Потом нам попался первый насосный ветряк, продырявленный ржавчиной. Затем фареол, у которого вся известка пошла волдырями, а лопасти болтались на ветру, как флаги. Постепенно дамбы стали из камня. Разваленные палафитные хижины прочерчивали линию трассы. В тумане перед нами открывался длинный и прямой канал. Вдалеке по нему с шумом скользил гидроглиссер, медленно удаляясь. Он нас не видел. Мы были далеко. Озеро было у нас за спиной. Все тело у меня было ватное от озноба из-за воды. Я не осознавал того, что видел.
) 
Сто двадцать один день спустя после того, как фреольский корабль с Нушкой на борту оставил нас у Порт-Шуна, мы вошли, пусть жалкие на вид, с опустошенными запасами в поплавках, но все же живые, в город вне всяких эпох, коим являлся Шавондаси.
Не знаю, чего я,
собственно говоря, ждал. Что я увижу пришвартованный на центральной площади
Физалис с Легкой эскадрой, увижу улицы, запруженные толпами подветренников в парадных одеждах, что в нашу честь загремят фанфары, когда мы войдем в город под грохот аплодисментов и криков виват, что нам навстречу побегут детишки, что Нушка выйдет из толпы и бросится меня целовать? Но ничего из этого не произошло. Мы были первой Ордой за всю историю, которая вышла по другую сторону Лапсана прямой трассой, двадцать ордийцев без
380
подмен, обученные в Аберлаасе, и никто, никтошеньки нас не встречал…
Медленным шагом мы пересекли первую улицу, затем вторую, вышли на что-то вроде раздолбанного и утопающего в грязи проспекта, вдоль которого стояли какие-то корабли с плоским днищем, которые, как я понимаю, служили здесь домами. Иллюминаторы захлопывались в надвигающихся сумерках. Детей звали домой, велесницы со скрежещущими осями проезжали мимо нас, не притормаживая, и парковались за оградительной стенкой, выстроенной полукругом. Сумеречный, неясный свет, отфильтрованный туманом, быстро темнел, тогда как мы безуспешно пытались найти городскую площадь… Настроение у Голгота быстро упало, и он по итогу схватил какого-то работягу, что складывал снасти в своем лозовом аэроглиссере. Когда мы приблизились, человек чуть ли не подпрыгнул от страха и попятился:
— Мы ищем высшие органы власти этого города…
— Экзарха?
— Допустим.
— Это вы в Шавондаси найдете. Здесь органов власти нет. Мы община рыбаков и водных крестьян.
— То есть мы не в Шавондаси?
— Нет, вы в Шеване.
Бедняга окинул нас странным взглядом, не понимая, кто перед ним мог быть. И, оставаясь в сомнениях, поднял трехметровые лопасти против ветра, уселся в свой транспорт, нажал на сцепление и в конце концов обратился к нам, как если бы оказывал нам величайшую услугу, с крайними предосторожностями:
— Шавондаси в тридцати лье к югу отсюда. Вы пешком?
— Типа того, — плюнул Голгот.
(обратно)
XII
АЛЬТИЧЧИО
— Ты ни разу не слышала про Альтиччио? — не унимался Караколь, пораженный таким невежеством. — Никогда-никогда? Никто у тебя дома ни разу об этом не говорил? Может, хоть какой-нибудь Фреолец заезжий или Диагональщик? Никто никогда тебе не рассказывал об этом городе?
— Нет, говорю тебе! Простите, пожалуйста, я всего-навсего Кориолис, молодая зеленая фаркопщица, и отец у меня на приисках работает… И я ни разу не бывала нигде, кроме своего села, пока не попала в Орду. Я даже не знала, что Фреольцы существуют!
) 
Караколь весело посмотрел на нее. Она покраснела и сделала вид, что поправляет свою трапецию, чтоб хоть как-то держать марку. Ее новые сани, сделанные по плану Ороси и отшлифованные Силамфром, почти толкали ее в спину, как только она останавливалась: аэродинамика у них была отличная, и трехлопастный толчковый винт, соединенный с колесами, сильно упрощал, если не заменял тягу. Оставалось лишь надеяться, что песок и мелкий гравий, которыми были усеяны все здешние и без того скалистые равнины, не слишком быстро исцарапают всю эту красоту. Караколь посмотрел на меня вне себя от радости:
378
— Эта девочка — полное восхищение в своем роде! Она совершенно ничего совершенно ни о чем не знает. Это просто прелестно!
— Тебе лишь бы посмеяться! Рассказал бы лучше, что там за город, чем издеваться над людьми! — вспыхнула Кориолис.
Караколь только этого и ждал. Под нежными ветрами, что нерешительно колебались между сламино де Лахвис без турбулентностей, слабевшими у холмов к полудню, и зефирином для колыбельных, атмосфера была легкая и приятная. В этой песчанистой полупустыне, размеченной вершинами скал, контровать можно было свободным ходом, без Клинка и без Пака, видимость впереди была отличная, и надежная почва под ногами. Серо-зеленая лужа с ее трясиной, нависшим туманом, зарослями тростника и въедливым запахом плесени казалась теперь где-то в далеком прошлом. Шавондаси и его запруженные улицы, Шавондаси и домики-лодочки, и его радушный прием меж двух вод был всего в шести месяцах контра позади, и все же я о нем уже позабыл. Здесь все было яркое и сухое, оранжево-синее. Все мы, пользуясь случаем, разбились на группки любимых собеседников. Мне нравилось идти с Караколем, и компания Кориолис была по меньшей мере очаровательна… С ними я чувствовал себя хорошо. Они то и дело друг друга подкалывали, а Караколь никогда не бывал столь легок и гладок, как когда чувствовал, что его слушают и ждут:
— Альтиччио — как бы тебе объяснить, принцесса? — черт возьми! Альтиччио… Ну не знаю, сама представь!
— Да?.. И что же я должна себе представить?
— Представь себе реку из ветра… Представь себе вертикальный город весь из башен, гигантских покачивающихся башен по сотне метров в высоту, построенных прямо в русле этой реки! Представь себе дозорные башни из
377
дерева и камня, однобашенные храмы с пришпиленными колокольнями, фареолы, что воют по ночам, переговариваясь! Представь водонапорные башни, стеклянные дворцы, взгроможденные на мраморные пики! Представь хижины, запрятавшиеся в кроне огромных деревьев, с винтовой лестницей вокруг ствола! Представь головокружительные узкие колонны с монахами, восседающими наверху, теми самыми столпниками, стилитами, что читают тебе проповедь, пока ты переходишь по канатному мосту! Вообрази себе жизнь благородных семей, что обитают в башнях, из высших кругов. Их называют Верхнежителями. Они плетут интриги, друг друга охмуряют, спят под самым небом и никогда не касаются земли. Они перемещаются на баркаролах, воздушных шарах, летательных крыльях и на веливело.
— Веливело?
— Да! А еще они ходят по веревочным мостикам, перепрыгивают с террасы на террасу, скользят от одной башни к другой на тросах, сидя в лозовой клетке.
— Ну ты выдумщик! Тебе волю дай, ты и луну обратной стороной перевернешь!
— А внизу, слушай внимательно, девочка, у подножья башен ползает и вкалывает в поте лица простонародье: обычные раклеры. Внизу процветает целое пыльное царство твоих дружков по приискам, что фильтруют и просеивают ветер от перевала до дельты… Внизу одни пещерные жилища, подземные галереи да пара хижин на подпорках в самом русле Струйветра. А главное, внизу то, что позволяет держаться знати наверху, благодаря чему у них есть и шары, и баркаролы, и прочий вздор, и дворцовая жизнь…
— И что это?
— Рефлекторы, дорогуша! У Альтиччио особенное месторасположение, он находится в устье одного очень
376
узкого ущелья, считай просто расселины в горе. В верховье располагается широкая долина, что постепенно сужается, пока не превратится во вход в ущелье. Получается, что весь ветер, который устремляется по его желобу —
пшшшшшш, — вырывается с другой стороны с огромнейшей скоростью и точностью —
шууууууух! И вся эта груда башенок не устояла бы под абразией, если бы первопроходцы-строители не имели смелость загородить, да что я говорю, изрешетить все русло реки огромными установленными под наклоном металлическими щитами, о которые разбивается поток. Понимаешь, куколка? Благодаря этим рефлекторам горизонтальный ветер рикошетом уходит вверх. И город таким образом как бы подвешен, отделен от земли восходящей воздушной подушкой, что позволяет Верхнежителям спокойно парить в воздухе.
— Сов, скажи ему что-то! Чего он мне сказки рассказывает! Или он меня за травницу какую-то принимает?
— Аои такое скажи!
— А что, Аои после Лапсана вообще вся в розовых очках, голова в облаках. Ходят со Степпом, зажимаются целыми днями, только бесят всех вокруг!
— Тссс, тссс, завидуешь? Тогда сходи за Ларко, он только счастлив будет с тобой им поподражать чуток!
π 
Прием, который нам оказали в Шавондаси, до сих пор ощущался и помнился. Прошло два месяца, а я все еще перебирал в голове все подробности. Наши встречи с внешним миром были настолько редкими, что их эффект чувствовался еще долгое время спустя, пока мы шли по пустыне. Собственно говоря, никакой это был не прием, никто нас особо и не встречал. Легкая эскадра, в первую очередь в лице коммодора и контр-адмирала, не посчитала нужным известить местные власти о нашем возможном
375
появлении. Хотя Орды там проходили раз в двадцать пять лет в лучшем случае. Но наш подвиг, похоже, никого в городе особо не удивил. Нам было передано письмо с любезностями от «всего состава Эскадры». Сов тоже получил письмо, личное. Несколько матросов оставили разные безделушки для девочек. Вот и все.
Эскадра отбыла к низовью ровно через четыре месяца после того, как высадила нас в Порт-Шуне. Это, конечно, и был условленный срок, пусть так. Но четырьмя днями позже, если бы они хоть чуть-чуть прошли над озером, то без груда бы нас нашли. Но для этого, конечно, у них должно было появиться такое желание… Подозрения, которые вызвала в нас история с Силеном и его связью с эскадрой, от этого только усилились. Ловко убеждая нас в опасности, которую представляло собой озеро, командование эскадры на самом деле только подтолкнуло нас на эту переправу. Мысль о том, что таким образом они надеялись от нас избавиться, пришла мне в голову еще во время одного из ориентировочных ночных заходов. Сегодня же эта догадка меня не просто задевала, она сдирала шкуру, оставляла на мне зарубки.
Несмотря на то что мы держались очень отстраненно, отчасти в силу характера Голгота, нашей Орде удалось сохранить надежные пункты связи в некоторых поселках. У нас были информаторы и сотоварищи Ордана, которые предпочитали держаться на должном расстоянии от последнего. За семь лет хода туда-обратно на скоростном корабле информация, конечно, сильно устаревала. Но трансляция по фареолам оси Беллини, наиболее прямолинейной по всей полосе Контра, ускоряла передачу зашифрованных сообщений. Путем выбора определенной позиции для всех восьми лопастей краткие сообщения шифровались от ветряка к ветряку. Этим способом наши осведомители уже не первый год подтверждали, что среди Совета Ордана
374
есть отклонения. В целом говорилось, что разрастающаяся фракция Ордана хотела с нами попрощаться. Не с нами лично, а с Ордами вообще. Они планировали бросить даже сам принцип формирования и обучения Орд! Технологический прогресс Фреольцев вселял в некоторых оптимистов надежду, что они доберутся до Верхнего Предела раньше нас. На транспорте. Ставки на элитные эскадры обещали такие результаты, каких за восемь веков контра не удалось добиться Ордам. Затруднение все еще составлял ледниковый замок Норски. К счастью. Я долгое время успокаивал себя, цепляясь за следующую истину: только настоящая Орда и только в пешем контре может познать все девять форм ветра. Духовная наивность? Для Прагмы, во всяком случае, эта истина подвергалась большим сомнениям (как нам докладывали). В Аберлаасе наша аура начинала тускнеть. Молодежь с энтузиазмом отправлялась во фреольские экспедиции. Дети уже не так мечтали стать Трассером, скрибом или аэромастером. По крайней мере так говорили наши осведомители. Наверняка все потому, что им больше не рассказывали о нашем предназначении так, как раньше. Как о ежедневном подвиге. О чистом приключении. Теперь, казалось, главное заключалось в вопросе
сколько, а не
как. Сколько — говоря о достигнутой скорости, пройденной дистанции, рекордах маршрута. А не как говоря о физической стойкости, чуткости контра, изобретательности Трассы.
— Альтиччио — не только архитектурное чудо, но еще и уникальный интеллектуальный центр по линии Контра. Этот город в свое время привлек многих первооткрывателей, исследователей воздуха, флибустьеров широких ветров. К тому же оттуда вышли несколько гениальных аэрудитов. Ороси говорит, что у них самая обширная библиотека на всем Дальнем Верховье. Опять же ничего удивительного,
373
если учесть, что Альтиччио со временем превратился в крайнюю базу Верховья. Именно оттуда отправляются фреольские экспедиции исследовать неизвестные дали.
— Допустим, но вы мне только что сказали, что через ущелье практически невозможно пройти. Как тогда справляются Фреольцы?
— Альтиччио располагается за очень высокой горной цепью, Малахитовым массивом. Сплошной лед и скалы, никаких опор для восхождения, отвесные склоны и скалистые наросты. Не пройти ни пешком, ни на транспорте!
— И нет никакой возможности обойти эту цепь с севера или с юга?
— Как раз есть. Именно это и делают фреольские экспедиции и некоторые Диагональщики. Но в пешую это практически год пути! Ни одна Орда, собственно говоря, никогда и не пробовала. К тому же дефиле — прямая трасса, самый логичный путь. Единственный путь!
— И через него реально пройти?
— Вплоть до 27-й Орды думали, что нет. Альтиччио долгое время считался городом-рубежом по умолчанию. До 18-й Орды ни один скриб даже не делал никаких предположений по поводу того, что может быть за Вой-Вратами…
— За Вой-Вратами?
— Да, так называется проход в середине ущелья. Острие конуса там, где воронка ущелья сжимается в горлышко, а потом снова расходится. Но до 18-й Орды этот проход считался просто мифом. В контржурналах пишут, что там внутри воет ветер похуже ярветра! Говорят, там невыносимо, сначала от звука приходишь в ужас, а потом еще и скорость ветра нечеловеческая. В то время думали, что Орда, которая пройдет Вой-Врата, достигнет Верхнего Предела. Пришлось ждать до самой 27-ой Орды, чтоб узнать…
— Первого Голгота?
372
— Да. Они использовали революционную технику — свинцовый контр. Первый Голгот сказал своему кузнецу отлить шлемы из оплавленной стали, полностью закрывающие лицо и голову, по тридцать килограмм каждый, в форме капли, расширяющейся книзу! На это у них ушел месяц. Шлемы эти невозможно было носить стоя, не сломав себе шею! Они были сделаны, чтобы контровать лежа, лицом к земле. Так они проползли метр за метром, проскребая шлемами по камням, целых двести метров, пока не добрались до первого изгиба, в котором можно было немного укрыться. Там они сменили шлемы и дальше продолжили в связке рука-нога, гусеницей, с Голготом во главе… Двадцать два часа контра! Но они не потеряли ни одного человека! Самое трогательное, что в тот же день воздухосеятели с приисков, что работали на Вой-Вратах, нашли в шлюзовой решетке эти самые стальные шлемы. Те оказались настолько помятыми, что все пришли к выводу, будто вся Орда отправилась на тот свет. Хотя некоторые все же надеялись на лучшее, потому что тел так и не нашли! Внутри шлемов они обнаружили надписи на кожаных стежках. Это были завещания, прощальные строки, признания в любви, фразы-талисманы… Только на одном из шлемов ничего не было написано. На нем был лишь производственный штемпель: знак Ω и цифра 1.
— Первый Голгот?
— Да! Он ни на секунду не сомневался, что выживет, и даже не побеспокоился что-либо написать.
— Эти Голготы, у них весь род чокнутый! Да здравствует наследственность! Ну а мы нарвались на девятого, самого ненормального из всего семейства!
— А значит, самого лучшего. С ним, принцесса, мы дойдем до самого конца, уж поверь. А если нет, то и никто другой никогда этого не сделает.

371
) 
Состязание было назначено ближе к вечеру, во дворце Девятой Формы. Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита, сквозь секвойи, перегруженные хижинами и болтающимися на ветру веревочными мостиками, среди массивных водонапорных и термических башен, ощетинившихся соплами, за мешаниной террас и подвешенных среди ясного неба площадей, аккуратных квадратов, от которых расходилось несколько аллей, незаметных для неопытного взгляда, среди бесчисленных крыш из сланца и обожженной черепицы, ровных и со скосом, куполовидных и грушевидных, где возвышались домашние ветряные турбины, одни с барабаном, другие вертикальные с тремя, шестью и двадцати двумя лопастями, бронзовые и деревянные, иногда парусиновые, среди незабываемого величия частных дворцов, которые с каждым годом росли все выше, тянулись к солнечному свету и линейному ветру, Караколь указал мне пальцем на стеклянный бутон, красовавшийся на высоте больше ста метров, расположенный на стебле из камня и металла. Вокруг башни, служившей ему опорой, была, редкое дело, винтовая лестница, и ступени из толстого стекла обвивали ее до самого верха. Гордость местных стеклодувов, по форме дворец напоминал огромную каплю воды, а его ребро обтекания выглядело так, словно было выдуто и как будто слегка приподнято самим ветром. Вытянутый купол, возвышающийся в двадцати метрах над платформой, и обрамление из расходившихся от него металлических прутьев с целью подчеркнуть линии, вызывали на таком расстоянии уравновешенное впечатление кристальной хрупкости и
370
сдержанной силы, что очень напоминало, на мой взгляд, бутон на грани минерального цветения.
От колокольной башни, в которой нас разместили с Ороси, Кориолис и Караколем, дворец находился в десяти поворотах педалей веливело, не больше, если использовать совместные восходящие потоки от рефлектора и термической башни, запах горящих дров от которой поднимался прямо до нас и чувствовался на балконе. Таким образом, не было никакой надобности торопиться. К тому же вид на скопление баркарол и воздушных шаров на платформе перед дворцом и на местных Верхнежителей, рассаживающихся облаком черных точек за стеклянными перегородками купола в амфитеатре, придавал некую неотложность нашим последним приготовлениям.
По дружбе и за неимением лучших вариантов Караколь назначил меня своим «стольником» на время состязания. Мне было поручено содействовать ему, насколько это было в моих силах, в словах и речи на дуэли. И каждый встреченный нами Верхнежитель считал своим долгом нам сообщить, что поединок будет страшным и что соперником назначили Селема де Стилета, с которым мы сразимся менее чем через час…
Молва со слухами, которые нам удалось собрать, содержали пять пунктов: последние восемнадцать лет Селем жил аскетом на беломраморной колонне пятидесяти метров в высоту; он владел словом, как никто другой; его речи вызывали неоспоримое интеллектуальное доверие и религиозную неистовость; его вызывали на дуэль по меньшей мере сотню раз; и он всегда одерживал победу.
Я как скриб потребовал предоставить мне правила состязания. В них было немало места для воли случая, так как среди тридцати возможных испытаний только три выбирались для поединка. Для двух первых тянули жребий, а
369
третий, что интересно, выбирался проигрывающим, чтобы дать ему возможность нагнать соперника в последнем туре. Я убедил Караколя перечитать записи последних дуэлей Селема, заставил изучить его стиль и реплики, проанализировать слабые и сильные места, и трубадур сделал следующий вывод:
— Этот старик — не любитель импровизаций. Скорое рифмоплет. Ему знакома только одна форма рифмы, он рифмует длинно, и мало контрассонирует. На дуэли он пользуется строфами, которые наверняка сочинял, просиживая верхом на своей колонне, днями напролет! Он владеет техникой, отлично натаскан по лексике, порой у него случаются настоящие вспышки, но по большей части он заучивает наизусть.
— Откуда ты это взял? Ты же не можешь делать выводы из пары отчетов о дуэлях!
— Импровизация считывается на слух, скрибчонок: у нее свой собственный ритм, она зачастую рифмуется нечетно и кратко. Строфы Селена пахнут потом. Ему не хватает стаккато, у него поток, как у дойной коровы, он тянет ее за сосцы и сбивает сливки маслобойкой…
— Значит его можно победить?
— Знаешь, Сов, жюри любит вот этот вкус масла. Они чувствительны к плоским рифмам, ко всей этой «болтушке», понимаешь, о чем я? Играть нужно будет быстро, чтобы загнать его в ритм, к которому он не привык. А потом навалиться на него вольностилем, если я получу право выбора. Я сделаю так, чтоб оказаться отстающим в конце второго тура.
— Как я могу тебе помочь, Карак?
— Напиши мне на глиняной табличке слова, как можно больше слов, особенно глаголов, и еще смешных коротких выражений и односложных слов.
368
— И все?
— Все! Знаешь ли ты, что в средние века придворным стольником в рыцарских кругах звался тот, кто режет мясо? Так вот нарежь мне слов кусочками половчее! И мы закатим ту еще пирушку, холуйчик мой!
π 
До начала поединка оставалось двадцать минут, а Караколя с Совом все еще не было! Меня доставили во дворец на баркароле. Я был в восхищении от технологического развития в этом городе. Они, должно быть, во многом переняли технику Фреольцев, что касается использования крыльев, легких материалов и динамической несущей силы. Но и сами могли похвастаться отличными местными аэрологами. Я не раз обернулся, чтобы получше рассмотреть происходящее: платформа заполнилась всевозможным летательным транспортом. Как настоящая выставка предметов искусства. Длинные узкие баркаролы со сложенными крыльями. Тепловые аэростаты. Воздушные управляемые шары. Веливело с дельтовидными крыльями. Автожиры. Планеры. Карманные дельтапланы. Эоликоптеры. Палатины располагали их вдоль швартовых крюков, расчищая посадочную полосу. Гранит на ней был отшлифован от постоянного пользования в одну четкую линию.
Зал дворца Девятой Формы вмещал две тысячи человек, как мне сказали. В центре стоял толстый медный диск шести метров в диаметре. Через него проходила ось, которая поднималась до самого купола. Эта ось была связана с вращающимся на крыше ветряком. Благодаря такому гениальному механизму диск медленно вертелся вокруг оси. Таким образом каждый из зрителей мог видеть всю сцену и присутствующих на ней со всех сторон. Стилит со своим скрибом уже были на месте. Он сидел, поджав под себя ноги, и, казалось, был совершенно непроницаем для возбуждения,
367
которое охватило публику. С закрытыми глазами что-то бормотал себе под нос. Напротив него, на противоположной стороне диска, пустовали два трона. Все ждали Караколя с Совом. Зрители уже заняли места на трибунах, возвышающихся вокруг сцены. Придворные палатины следили тем, чтобы дворцовой аристократии доставались положенные по рангу места. Ввиду статуса нас с Голготом постоянно подходили приветствовать. Почтительность эта была искусственна и сильно раздражала. Это все было делом рук дворянчиков, плетущих интриги при дворе Экзарха.
— Где эти двое застряли уже?
Голгот, как и вся Орда, начинал приходить в нетерпение. Нас усадили рядом друг с другом в первом ряду, чуть сверху от сцены.
— Караколь наверняка выход свой готовит, — предположил Ларко.
Кориолис посмотрела на него и закивала. Она себе на нервах все пальцы до крови искусала. На ней были серебряные серьги, подаренные каким-то Верхнежителем, колье и браслеты, звенящие при каждом движении руки. Наряд был прекрасен не в пример ее контру, кожа идеальна: вот что тут же сделала с ней городская жизнь. Ларко что-то зашептал ей на ухо. Она покраснела, заулыбалась. Она светилась энергией, которую больше могла не пускать на нужды контра. Как и все мы, я полагаю, после четырех дней отдыха.
∂ 
Вдруг приглушенный бархатом кресел шорох фетра взорвался гулом голосов. Паж, открывавший вечер, разверзнул свиток и стал зачитывать, сначала громко и серьезно, а затем все более растерянным голосом:
— Внимание! Позвольте вам представить, почтенные Верхнежители, его Веселейшее Высочество, Принца Дактиля и Хорея, Великого Князя Фатразии, Высоким
366
слогом Говорителя, почетного Рыцаря Букв Алфавита, барда, скомороха и паяца, Великого фразера, Ритора Верховной Лексики, вице-грамматиста, Фокусника, если заблагорассудит, Удильщика слов, Охотника за знаками, Воображалу, краснобая и стихоплета, и вместе с тем Поэта, Эстета Красоты Звука и порою даже Трубадура — встречайте, как положено, руками и ногами, наименее воздержанного из всех арлекинов — да здравствует
Караколь из Орды девятого Голгота!
x 
И, как по волшебству, Караколь появился откуда-то из-за спины пажа. Он явился задрапированный в новую арлекинскую накидку, в сафьяновых туфлях и с ловко смастеренной шляпой на голове, из-под которой выбивались кудри до плеч. Если черты элегантности в нем были почти женские, то его манеры, взгляд и голос оставались мужественными. От него веяло грацией без жеманства. Свою обольстительность, которая незамедлительно подействовала на публику, он заимствовал из столь присущей ему гармонии между решительными мужскими жестами и непринужденностью, царской небрежностью, столь далекой от вульгарности. Когда он появился, я закрыла глаза, чтобы лучше ощутить его аэрологический росчерк, но толпа зрителей сбивала мое восприятие.
Паж дождался, пока улягутся возбуждение и смех в зале, и представил Сова. На нем была голубая льняная рубашка из тех, что так искусно ткала Аои. Он коротко остриг бороду и держался прямо. Его светло-голубые глаза всматривались в зал, взгляд был как всегда ясен, оживлен и умен. Он вышел вперед неуверенной походкой, и для того, кто никогда не видел его в контре, было бы невозможно представить себе мощь его длиннолинейной мускулатуры и какой ранг он занимает в Клинке.
365
— И его «стольник», Скриб Орды, а также мастер записи Ветров —
Сов Севченко Строчнис!
) 
Сдержанные аплодисменты плескались и потрескивали о стеклянные стены дворца. Ножки кресел поскрипывали на панелях трибун. Я покраснел под обрушившимся на меня вниманием и с перепугу пошел следом за Караколем, который напропалую рассылал воздушные поцелуи в зал, быстро поднялся на сцену и без прелюдий направился к стилиту. Обмен взглядами был краток, пожатие рук некрепкое и ледяное на ощупь. Столпник не смог или не захотел подняться, так и остался сидеть на медном диске, немного согнувшись и поджав под себя ноги. Он был лыс, с впалыми щеками, с бесцветной кожей, одет в грязно-белый саван. И все же от него исходила какая-то упрямая сила, энергия чистого интеллекта, которая представлялась проницательной и беспощадной под этой демонстративной скромностью. Мне от этого стало не по себе, если честно, он меня впечатлил. Не задерживаясь, Караколь вернулся к своему трону, я уселся рядом и поставил на пол чернильницу и рамочку с прикрепленным пергаментом, на котором написал себе в помощь как можно больше терминов — смогу из них черпать, если нужно. На колени я положил слегка влажную глиняную табличку и крепко сжал стилет для уверенности в себе. Атмосфера в зале была более чем разогретая. Публика, состоявшая по большей части из Верхнежителей, хотя присутствовали и небольшие группки раклеров, у которых были пропуска, проявляла перешептываниями крайнее нетерпение.
Ω 
Он на что надеялся, Экзарх этот? Что я обосрусь из-за его испытания, что я на Фироста все переложу? Что я буду смотреть, как он свою жирную массу погрузит в реку
364
в разливе, чтоб ему шквалом по всему мешку мяса дало, ВМЕСТО меня? Да, я этого типа спровоцировал! Точняк! Экзарх, не Экзарх, какого шуна так делать? Волчья морда эта, притащил рыльник свой, потому что его, видите ли, назначили Советом Ордана тут, нечего было тюряжить раклягу, который нас принял! Парень понятия не имел, кто мы! Зато в хибару свою пустил, на снастях своих нас на ночь устроил. Что плохого? А если б даже! Кого бы он там в полночь наверху вызванивал бы? Им к башням и близко подойти не дают, лишний шаг и стрела в плечо! Здесь так: наверху дворянчики в балдахинах себе лежа обжираются, балду гоняют, а внизу простолюдье, которое, по их мнению, видите ли, годится только чтоб отбросы подбирать, которые им с амбразур кидают, прозябать в русле реки, перемешивать в решете зерно как могут, крошки из дырки от бублика, осколки железа, которые у них потом за самогонку перекупают! Что, думал, я слюну свою проглочу? Думал, молчать стану? Думал, я твоему дружку в тоге винишного цвета по животу похлопаю, скажу: «Молодца, парень, давай запихни этого раклеришку в донжон, а то этот чертяка тебя даже предупредить не изволил, что мы тут в гости к тебе собрались!»? Больше ему ничего не надо?
π 
На сцену вышел довольно представительного вида церемониймейстер в королевско-синем платье. Он представил судей состязания. Семеро эрудитов, по большей части бородатых и очень спокойных, молча изучали Караколя. Рядом с ними, на высоком стуле, ерзал судья по знакам, нервный и чеканный, гарант соблюдения речевых правил. Он изобразил холодное приветствие. Затем нам представили «счетового», который находился у основания портика на вращавшемся цоколе. Перед ним крутились оловянные цилиндры с вырезанными на них цифрами: счетовой должен
363
был вести счет и записывать его по ходу поединка. И наконец, заняв место на равном расстоянии между стилитом и Караколем, на диск вышел арбитр. Он остался стоять. Выглядел надежно. Церемониймейстер перешел к почестям:
— Его Высочество Экзарх, Монсеньоры и Графы Альтиччио, Господа представители Орды Встречного Ветра, Августейшие Палатины, оказывающие нам вновь честь быть приглашенными во дворец Девятой Формы, позвольте мне напомнить благородным Верхнежителям, а также присутствующим здесь представителям Ганзы Раклеров, цель и важность исключительного ораторского состязания, которое сегодня будет иметь место перед вами. Как вам, возможно, известно из городской молвы, его Величество Экзарх по причине некоего разногласия с девятым Голготом, Трассером Орды, принял решение, что открытие шлюза Вой-Врат, необходимого им для прохода на Дальнее Верховье, будет зависеть от результатов трех испытаний. Принцип был определен в ходе заседания, и Орда не имеет права отступить от назначенного плана. Три чемпиона были выбраны девятым Голготом, чтобы принять вызов на каждое из испытаний Экзарха. Первым был одержавший победу Эрг Махаон, боец-защитник. Со вторым так же успешно справился сам Голгот, во впечатляющих условиях разлива реки. Третье же испытание состоится сегодня вечером, в этом зале, на ваших глазах. В поединке будет участвовать Караколь, трубадур Орды, против того, кого было бы сочтено за оскорбление пытаться вам представить, поскольку слава о нем, о его благородстве и порядочности и без того дошла уже до самого Аберлааса: да здравствует Стилит Селем!
Ω 
Когда этот их Экзарх начал шнобель свой воротить, да еще и всю шайку свою с собой притащил, я думал, Эрг их своим винтом на котлеты порубит. Но Пьетро быстро всех
362
угомонил. А потом устроили попойку эту в нашу честь, во дворце у моего дружка волчьемордого. Я там накидался до отвала, конечно, жратва со всех сторон неслась: горсы с потолка на вертелах, дичь на всех столах, овощей кучу настряпали, бочки отовсюду катились, по всем мискам потом блевали, даже Эргач и то расслабился, в общем пируха та еще, и жонглерки с менестрелями, девки с губами намазюканными, труверы там всякие между блюдами, в общем шумиха что надо была, ну и я лишний зад на лету не пропускал, кисок здешних пощекотать тоже не последний, так и они не пугливые вроде, всем, так сказать, весело было! А потом этот нудила Экзарх тишины потребовал. «Информация» у него для нас, видите ли.
Что «шлюз на Вой-Вратах в его феодальном распоряжении», что «запрос на разрешение пройти через него к верховью должен быть составлен Трассером в должной форме», что «он будет рассмотрен в установленные законодательством сроки», ну и тому подобное. И заладил свое…
Короче говоря, мне по ходу надоело! Говорят, я на стол залез и отлил прямо на его экзарховскую бабищу. Не знаю, все может быть, я в невсебятине был, я ничего не помню. Потом, говорят, заорал, что Орда ни в каких разрешениях для контра не нуждается. Что никто нам никогда дорогу не преграждал. В общем, им не понравилось. Они отреагировали плохо, оскорбились, надо понимать. И тут по мордам пошло, как мне потом говорили, — Эрг, Фирост и Леарх пятерых дворянчиков бронзовыми подсвечниками припечатали. Но лично я ничего не помню. Наконец какой-то граф примчался, предложил вызов, «чтобы разрешить разногласие». Три испытания. А мне дважды думать не надо. Я и сказал: заметано.
— Этот поединок, как вы понимаете, представляется критически важным для Орды Встречного ветра. Если их
361
трубадуру не удастся выйти победителем, то они не получат доступ к шлюзу Вой-Врат. В таком случае у них не будет иного выбора, кроме как пойти в обход по опаснейшему пути через Малахитовый массив или же просить о помиловании, без каких-либо гарантий, что прошение будет одобрено, без указания сроков, и что его Высочество Экзарх…
— Не будет никакого прошения о помиловании!!!
∂ 
Голос Голгота проревел резко и вопреки всем правилам этикета грубо прервал церемониймейстера. Зал обернулся. Дворянчики удивленно и негодующе закудахтали. Голгот встал. Я был от него в восторге в такие минуты. Он вызывающе смерил взглядом Экзарха, заседающего в ложе двумя рядами выше со своей свитой:
— Не будет никакого прошения о помиловании. Мы вашего болвана в порошок сотрем!
— Не забегайте вперед, друг мой, — отчеканил экзарховский глашатай, так как сам повелитель никогда не говорил. Ну или же исключительно в таких случаях, когда слова его должны были восприниматься непосредственно как приказы. То есть, чтобы, например, огласить приговор, обнародовать указ или изгнать раклера. Эта каналья экзарх даже бровью не повел под налетом Голгота, надменно проигнорировал его и дал знак продолжать церемонию. Я был горд за Голгота, горд, что он им всем показал, что мы под их дудку плясать не будем перед всей гнилой дворянской братией, которая только и знает, что пировать да зубоскалиться на своих башнях, пока раклеры с себя шкуру до подкорья костей сдирают, чтоб их каждый день восходящими воздушными подушками обеспечивать! Даже думать тошно!

360
π 
Во вмешательстве Голгота не было необходимости. Теперь это только усилит решительность Экзарха, в случае если Караколь проиграет. Голгот нанес удар по чувству гордости повелителя, тогда как мы могли надеяться на его снисходительность после вчерашнего подвига. Популярность Голгота среди раклеров можно было использовать в политических целях. Открыть проход к Вой-Вратам, несмотря на поражение, можно даже было счесть за признак благородства. Но одной фразой, одной своей надменностью, Голгот всех нас приговорил на месте — к испытанию. Он возложил на Караколя чрезмерную ответственность. Сов побелел от страха на своем троне. К счастью, его роль тут была невелика. Все мои источники были определенно согласны на этот счет: состязания чаще всего техничны, одного таланта здесь будет мало. Нужен опыт сложения лесс, навыки в липограммах, моновокализмах, в ограничительно-принудительной прозе. Караколь — прекрасный оратор, сказитель, которому нет равных. Он восхитительно играет словами. Но любые требования ему претят. Сомневаюсь, что он будет блистать в языковых экзерсисах.
x 
Как по мне, то реакция девочек на вчерашний подвиг Голгота была не на высоте. Альма, которая, между прочим, проследовала со мной весь его подъем от дельты до шлюза Вой-Врат, по итогу ограничилась следующим замечанием, не выражавшим никакого восторга: «Ну и? Да, справился. Голгот как-никак. Так что теперь, от радости прыгать? Мы в этой ситуации вообще-то но его милости оказались. Пускай теперь расхлебывает…»
Мы наблюдали за Голготом с шара и проследовали над ним всю трассу в четыре километра, так что я могла в полной мере оценить качество его контра и правильность решений на сложнейшей местности. Экзарх приказал открыть Вой-
359
Вратский шлюз на целый час, и ветер хлынул в русло реки с разрушительной силой. Сложность испытания заключалась не столько в линейной скорости потока, сколько в турбулентностях кильватера в зоне, загроможденной хижинами, башнями и рефлекторами. К тому же сказывалось наличие различного твердого мусора и кучи песка, несущихся с потоком, что увеличивало риск телесных повреждений. Голгот выбрал в качестве доспеха нагрудник, набедренники и наколенники с защитой для голеней, а также деревянный интегральный шлем, который я для него спроектировала. Доспехи утяжеляли, но не отнимали у него ловкости. Он сделал только одну грубую ошибку, на выходе из укрытия. Трассер стоял за рефлектором и решил выйти с задержкой на восходящий залп. Откровенно говоря, это было прекрасно видно даже с высоты моего шара по воронке пыли, которая завертелась за рефлектором. Но Голгот проигнорировал одно из простейших правил — посмотреть на трен в низовье перед тем, как входить в контр, и полной грудью принял блаастовый шквал. Он потерял равновесие, рефлекторно ухватился правой рукой за стальное панно и повис на препятствии, как маятник. Еле обошлось.
Сов сегодня был сам не свой, бедняга. Меня совершенно не радовало это состязание в риторике, да еще и с этим стилитом, от которого шла крайне эгоцентричная и жадная круговая воронка.
— Не будем более томить вас ожиданием и приступим к жеребьевке первого испытания!
) 
Я старался как можно глубже и ровнее дышать. Сейчас я был бы рад оказаться где угодно, лишь бы не здесь, перед двухтысячным залом, вести игры с будущим Орды, которая смотрит на меня во все глаза и полагается на меня. Я попытался сосредоточиться и заговорил с
358
Караколем. Его уверенность меня немного успокоила, потекла по моим венам. Церемониймейстер объяснил, что медный диск, на котором мы расположились, размечен на тридцать два деления, внутри каждого из них написано название испытания. Рассеянный, в тревоге, я и правда не заметил выгравированные серебром слова:
фатразия, рондель, триграмма, анаграмма, тавтограмма, оксюморон… Мне было знакомо значение этих терминов, но я с трудом представлял себе суть состязания. С вершины купола начала спускаться длинная лопасть ветряка, она скользила вдоль оси, придававшей вращение диску, и крутилась вокруг по нарезке.
— Выпадет
палиндром… — прошептал мне Караколь. — Подготовь парочку бустрофедонов… анациклов…
— Хорошо…
Я даже не стал пытаться понять, откуда он знает, какое будет испытание, я просто послушался и стал строчить на табличке приходившие на ум слова, которые читались в обоих направлениях:
тут, ага, оно, доход, ротор… Если и правда выпадет палиндром, то мне скорее повезло, потому что я неплохо знал принцип и даже получил кое-какие представления о стратегии, пока изучал предыдущие состязания.
π 
Лопасть коснулась пола. На последнем метре оси не было нарезки, и винт сам принял вращательную траекторию в падении. Он проскрипел по металлу диска и остановился на делении почти напротив стилита.
— Диалог в палиндромах! — огласил арбитр громовым голосом.
) 
Караколь улыбнулся и подмигнул. Он прочитал слова на моей табличке, кивнул и потрепал меня по плечу. Теплота его жеста меня глубоко обрадовала. Я понимал, что
357
он это сделал в первую очередь, чтобы меня успокоить, по даже самого намерения было достаточно, оно тронуло меня в самое сердце, придало веру в нашу победу:
— Мы выиграем, Сов, можешь не сомневаться. И выиграем благодаря тебе!
Арбитр обратился к публике:
— Палиндром — это фраза, которую можно прочесть, если не принимать во внимание пробелы и знаки препинания, справа налево и слева направо, получив один и тот же результат! Например, «но ротор он» — палиндром, поскольку эту фразу можно прочесть как в одном, так и в другом направлении, и она сохранит тот же набор букв в том же порядке. Испытание будет проходить в форме диалога, каждый из противников будет говорить по очереди. Знаковый судья будет проверять правильность палиндромов. Оценка палиндромов судьями будет основываться на длительности высказываний, на их смысловой ясности, а также на их уместности в диалоге.
На этом церемониймейстер закончил вступительное слово:
— Августейшие чемпионы, пришло время показать наш талант! Согласно традиции, право первого хода принадлежит чемпиону, находящемуся ближе к винту. Стилит Селем, вам предоставляется честь начать поединок…
π 
С купола на нас обрушилась золотая тишина. Волнение публики превратилось в крайнее внимание. Стилит закрыл глаза. Шли долгие секунды. Ни один звук не скрежетал по кристаллу ожидания. Он сидел, сконцентрировавшись, спокойный и напряженный, но все же натянутый, как арбалет. Наконец выпустил свою первую стрелу. Аплодисменты разразились в тот же миг.

356
] Селем: А дебют с огнем умен. Гостю беда!
) 
Ох! Судья по знакам почти тут же поднял синий флажок, подтверждая палиндром. Сзади, в первом ряду, какая-то образованная графиня спокойно заявила
своим соседям, что это совершенно классический прием для открытия состязания, можно сказать почти банальный, такие можно наблюдать на шахматных турнирах, но я остался в состоянии шока от соразмерности и уместности фразы. Я стал по одной перебирать буквы справа налево: а д е б, потом ю т с о г, затем н е м у, потом м е н… — и бросил, убедившись в его точности. Теперь была очередь Караколя. Начало схватки вышло очень непростое. Я понятия не имел, как он будет из этого выкручиваться.
¿' Караколь: Неловко соло, голосок волен.
Одобрительные браво разнеслись по залу, приветствуя его ответный ход. Крики доносились главным образом с верхних рядов, где столпились приглашенные раклеры и некоторые молодые Верхнежители, из горлопанов, которые, похоже, выбрали свой лагерь. Вот и хорошо! Но стилит с ответом не задерживался.
] Селем: Неловко соло грача, а чар голосок волен.
Ай! Я читал об этой технике: он открыл палиндром из середины, расширил и надбавил ему цены. Элегантно и действенно. Публика знатоков встретила реплику залпом аплодисментов. Но Караколь не дал замуровать себя таким образом и уже перескочил на другую тематику, более поэтическую…

355
π 
Ритм нарастал очень быстро. Стилит словно торопился испытать сопротивляемость нашего трубадура. Кара-голь отвечал ударом на удар, практически без заминок. И зале царила полнейшая тишина. Все старались следить за происходящим. На лицах читалась острейшая внимательность, и по реакции было понятно, что дуэль проходила на высшем уровне. Многие вели записи. Судья по знакам подтверждал палиндромы. Похоже, ему самому удавалось следовать за поединком с трудом. Глаза у судей загорелись от того, какой оборот приняло состязание. На такой скорости я был не в состоянии оценить сложность игры. Я только понимал, что Караколь был на высоте и отталкивал Селема в окопы.
] Селем: Махаон колок, но а хам! К Ороси сорок! Арвалю лавра! Ларко бос, обокрал!
¿' Караколь: А пелена дорог города нелепа!
] Селем: Оговорок как коров! Ого!
¿' Караколь: Карма — мрак. Гол слог.
] Селем: Жарим мираж?
¿' Караколь: Доклад дал код.
] Селем: Цел до пят, речь чертя. Подлец!
¿' Караколь: Ох… Хо!
) 
Вслед за фразой Караколя по залу пробежало легкое волнение. Но судья принял палиндром, тот был хоть и краток, но столь неожидан, что публика пришла в восторг и выказала полную симпатию, снизив тем самым напряжение в зале. Все ожидали реакции стилита. Но, к несчастью для нас, его ответ лишь доказал, что он умеет адаптироваться.
] Селем: Будет он как ноте дуб.
¿' Караколь: Удача! А чаду?
354
] Селем: И пиши, и шипи… Трёп спёрт!
¿' Караколь: А муза рада мужу. Ищи уж ума да разума.
) 
Дрожь восхищения пронеслась по публике. Я даже на секунду успел подумать, что перевес теперь будет в сторону Караколя. Голгот поднял вверх кулак и заорал: «Получи, снежная морда!», и сел. Зал был ошеломлен.
] Селем: Лакал повар пиалу мула и, право, плакал.
π 
Просто превосходно. Караколь сделал внушительную паузу. Ему потребовалось время принять удар, но он все же вышел из положения:
¿' Караколь: Азарт озарил ли раз от раза?
] Селем: Театр тает. Мадам. Ворон умен, к нему норов. А ругала балагура.
¿' Караколь: Мастер врет сам.
] Селем: Рок ударит, как тирад укор!
¿' Караколь: Мил. Изредка так дерзил им!
] Селем: Нам боли туман до сна мил, лиман со дна мутил обман.
¿' Караколь: «Ворох хоров».
] Селем: Караколя велено в резерв! Он еле вяло. Карак?
¿' Караколь: Ворох хоров… Ворох хоров…
] Селем: Лавр основ он сорвал. Конец оценок!
) 
Первый тур прогремел как настоящее состязание по фехтованию, бесконечно технично и в то же время живо, чертовски живо, настолько быстро, что судья по знакам не раз был в замешательстве, не справляясь с перехватами и отражением атак. Было очевидно, что стилит еще ни разу не встречал противника уровня Караколя, на каждый выпад
353
трубадура он делал заметную паузу. Искусство палиндромов хоть и было неблагодарным само по себе, все же требовало от ораторов не только упражнения в красноречии, но и умения выбирать из тайного списка фраз и анациклов, свойственных каждому из них, те, что наилучшим образом вплетались и ткань диалога. Я читал в протоколе состязаний, что бой палиндромов выигрывается по тяге, то есть, на жаргоне риторов, тот, кому удается вести диалог, навязывая противнику тему, брал верх, вынуждая его импровизировать некоторые реплики, тогда как сам мог зачитывать свои ходы на память, что делало положение соперника весьма незавидным.
∫ 
Прозвенел гонг. Я предпочитал (в сущности говоря) свое жалкое, невзрачное место, сидеть здесь, вжавшись в кресло, рядом с Кориолис, чем оказаться там, не знать, куда приткнуться на этом диске, возиться там с этим желторотиком. Ну и схватка, Ларко, это да! У них мозги вентилируются поболее твоих (всего чуток), надо признать! Теперь все затараторили о судьях, пока те сидят, что-то записывают, выверяют, сверяют строфы, взвешивают на глаз. Караколь был в ярости сам от себя. Он ёкнулся ровно за две секунды до гонга, не нашелся, что ответить на длинную тираду стилита, застрял на дурацком наброске палиндрома, потерялся в двух репликах в самый неподходящий момент. Этот финал судьи точно не пропустят, плохое впечатление. А стилит в своем углу снова напустил на себя вид, будто он сама элегантность (Кориолис от этого себе места не находит), расселся, ноги скрестив, уверенный в себе, чертяка, весь выкрутился, как белье на веревке, сидит, вымаливает не знаю какого там своего башенного божка со скромностью плакучей ивы.
) 
Не возьмусь сказать, была это полная импровизация, или Караколю все же пригодились мои несчастные сло-
352
вечки, начертанные на табличке, или же он все извлек из недр слов, составленных по ту сторону него самого, точно было лишь одно — он ни разу не произнес ни одного палиндрома перед Ордой, и я был совершенно уверен, что ему противны столь по-глупому зрелищные лингвистические приемы, и что он предпочитал им свободную прозу. Так или иначе, его выступление привело публику в восторг, и это не могло меня не радовать, так как с точки зрения знатоков тот факт, что стилит не раздавил Караколя с первого хода в упражнении, явно подогнанном под Селема, значило, что состязание будет нелегким, погорячее обычного, во всяком случае.
— Ну головастик! — загорланил Голгот так, что было слышно всем вокруг, подходя к нам поближе. — Выблевал нам стряпню свою, тыщу раз пережеванную, провизация называется, тоже мне! Эта куча тряпья сидит себе на своем столбе всю свою жизнь, звякалом своим по рту теребит, а теперь выплевывает по три капли свои фразочки задом наперед, ни конца, ни начала, выдает по шесть-четыре-два, тянет, как спагеттины, и мне тут еще будут рассказывать, что этот дятел главный по рифме? Я тебя контрветром прошу, Карак, смели ты мне эту задницу вместо рожи! Не заглатывай ты его выбрыки, поперхнешься еще. Ты десятерых таких стоишь!
— Технические испытания ему на руку, но ты не нервничай, Гого, иди лучше посади назад свои кости и вдохни хорошенько носом! Я ему даю форы на первых двух турах, чтобы потом за мной выбор на третий остался… Это тактика называется, капитан!
x 
Мне казалось прекрасным то, что раклеры посчитали своим долгом присутствовать на испытании Голгота на свежем воздухе, а не через бойницы своих лачуг. Они
351
рассредоточились по всей длине маршрута, стояли группками за каждой башней и за каждым панно рефлекторов! Нам из корзины воздушного шара были слышны их ободрительные крики, их советы, некоторые попытались проследовать за Голготом, а у одного даже получилось пройти два километра, и, между прочим, по другой трассе, не по следам Голгота. Размолвка Голгота с Экзархом в защиту одного из них однозначно поспособствовала высокой популярности Трассера. Но и помимо этого между нами чувствовалась глубокая симпатия. Девятый Голгот проходил контром по территории раклеров, в знакомых им условиях, и для них это было нечто исключительное и невообразимое, совершенно немыслимое событие, о котором они никогда не забудут.
Мы всю ночь провели там, внизу, в их закопанном трактире под названием Панцирь, веселились вместе с ними, и меня совершенно потряс энтузиазм раклеров. Мне редко доводилось видеть такое восхищение, настолько искреннее и простое, их глаза светились, местные девчонки не отходили от меня ни на шаг, каждого из ордийцев окружила толпа, даже Аои, несмотря на то что она так немногословна, даже вокруг нее собрался целый двор! Голгот весь светился, на него приятно было смотреть. Горст впервые заговорил о смерти своего брата, люди вокруг плакали, утешали его. Мы рассказали про все наши перипетии на Лапсане, про бой Тэ Джеркка с Дубильщиком, Фонтанную башню, сифон, островомедузу, что убила Барбака, выдру Свезьеста и даже про наше нелепое появление в Шавондаси.
Здесь они ни о чем не догадывались. Письма с низовья на самонесущих воздушных змеях перехватывались службой Экзарха еще на входе в дельту. Почетные гости никогда не спускались в русло Струйветра. Их принимали со всеми удобствами наверху, в башнях, а потом они
350
отправлялись назад в низовье или уходили по диагонали. Я вышла из трактира рано утром, и в кармане у меня лежало штук пятьдесят записок с пожеланиями для Верхнего Предела. Они были выгравированы на золотых пластинках длиною в палец. Это было просто безумием с учетом их доходов. Теперь эти пластинки отправятся на наши сани, к остальным, всего набралось уже более двадцати кило металла, и это притом, что кое-какие со временем мы уже переплавили на винты и на оружие. Мы с Совом и с Пьетро отобрали — как сказать, самые лучшие? самые трогательные? самые красивые? Мы ничего не могли поделать со старым поверьем, что тот, кто дойдет до Верхнего Предела, сможет исполнить все свои сокровенные желания, а также все те, которые он принесет с собой. Я даже и сама о себе не могла сказать, что в это не верила. Потому и брала эти золотые записки, ведь в тех, кто нам их давал, было так много надежды! Я ничего им не обещала, просто благодарила. Частенько неделю берегла их в кармане и читала их вместе с Совом по вечерам. Ему это нравилось.
— По итогам подсчета, результаты первого тура следующие: Селем — 32, Караколь — 23!
) 
Раздались отдельные свистки протеста, но быстро стихли. Караколь ответил на ледяное приветствие стилита, посмотрел на меня, пожал плечами и улыбнулся, хлопая вместе с залом:
— Как-то жестко, нет? — поинтересовался я украдкой.
— Все правильно, Сов, я слегка ошибся с инверсией и завис на последних
палинах. Так что все верно!
Я чувствовал, как он понемногу напрягался. Проиграть два первых тура само по себе не трагично, если, конечно, разрыв при этом небольшой. Но главное теперь — не уступить еще больше, не дать противнику уйти в отрыв.
349
— Итак, испытанием второго тура будет…
Гонг загрохотал как бешеный поверх и без того малоприятных вибраций ожидания. Серебряный винт снова стал спускаться из-под самого купола, заскользив по стержню, и остановился на медном диске. Караколь качал головой, пока винт не остановился окончательно и у него вырвалось разочарованное «пффф».
— Моновокализм на О! — заявил церемониймейстер, чуть не крича от радости.
— Нужно будет прочистить словарный дымоход, мой верный щитоносец, — вскользь заявил мне Караколь. — Соскребай все, что найдешь на О в словарном лабиринте. Сейчас будет горячо!
— Напоминаю правила, — продолжал арбитр, — участники имеют право использовать только одну гласную. Эта гласная О. Ни в одном из терминов не должно присутствовать других гласных, А, Е, Ё, И, У, Ы, Э, Ю и Я! За любое отступление от правил сопернику начисляется один балл. При подсчете баллов будет учитываться синтаксическая правильность по шкале из 4 баллов, качество строфы — 3 балла, уместность реплики — 2 балла. Повторения не допускаются! Как и в первом туре, необходимо сохранить форму диалога. Начинает… Караколь!
π 
Что-то меня беспокоило, но я никак не мог понять, что именно. Я смотрел на эту публику, на избранных, образованных дворян в поиске литературной экзальтации, на дотошных церковнослужителей, на кучку раклеров, приглашенных в противовес. Их внимательность светилась нездоровым блеском. Смех их был отрешенный и полный знания дела. Никакой снисходительности. Сомнительное восхищение, готовое высмеять любой промах.
Глядя на них, я отдавал себе отчет, в кого превратился бы, если бы не Орда: я был бы таким же князем благород-
348
ных кровей, заботящимся о своем туалете и дорожащим своим рангом за невозможностью похвастаться заслугой за него. Я плохо помнил уроки, данные мне отцом, я был слишком мал. Но эти слова звучали лейтмотивом: «Нет благородных людей от рождения, Пьетро. И среди тех немногих, кто становится ими в течение жизни, многие совершают это наперекор своему происхождению. Никто, даже твои собственные родители, не могут тебе дать то, что ты не можешь завоевать своей душой».
И потом вся эта педантично чопорная организация. Вальс палантинов. Нагромождение одного над другими участников процесса — судьи, церемониймейстер, арбитр, счетовой, пускатель винта. Весь этот набор фраз. Встречные взгляды и ухмылки. Сплошное притворство.
— Попросим нашего счетового установить песочные часы на пять минут… Счетовой, будьте любезны! Благодарю. Тишина в зале! Новый раунд, время пошло!
Не знаю, с кем бы я мог этим поделиться. Да и зачем? Но после происшествия на праздничном ужине и выходки пьяного Голгота, на следующий день мне пришло на ум, что все это могло быть… спровоцировано. О том, что Голгот любитель выпить, знала вся полоса Контра. Не сложно было догадаться и о том, как задеть его самолюбие — проще простого, и это был отличный рычаг для действий. И вся эта шумиха… Тут же прибежавший граф, без промедления бросающий перчатку во имя Экзарха. Весьма продуманная идея испытания, которую он предложил, словно из ниоткуда. Маскарад? Отрепетированная сцена? Ороси уже ушла спать, когда разыгрался скандал. Она не могла оценить ситуацию. К тому же она была совершенно поглощена предстоящим визитом фареола аэрудитов. Но с момента нашего появления в Шавондаси она все больше во всем сомневалась, как и мы с Совом. Начиная с
347
Легкой эскадры и даже ранее того, у нас имелись большие сомнения. Экзарх Альтиччио избирается и отстраняется решением Совета Ордана. Он своего рода плацдарм Аберлааса на Дальнем Верховье. Отчего бы он вдруг решил помешать нам пройти через Вой-Врата, устроить ловушку в своем городе? Что это, сановная спесивость? Демонстрация автономии по отношению к Ордану? Выглядело это неправдоподобно.
В двух первых испытаниях не могло быть подвоха. В них все зависело от ясных и однозначных действий. Не от судейской оценки. Это же могло быть полностью подстроенным, той самой жеребьевкой, например. Как и арбитром, судьями. А что, если так и есть? Как мы сможем пожаловать результат? Никто в Орде, кроме Сова, не обладает техническими навыками, чтобы оценить честность выставленных баллов.
¿' Караколь: О, мой Сов, о, мой Голгот! Звонкоголос мой пролог! Дорог тот монолог, от которого золото слов под тон колоколов проросло ростком под цоколь донжонов.
] Селем: Под снос твой донжон, мой лорд. Одно рококо. Под грохотом волн гордо стой, мой городской порт: вдоволь фьордов, понтонов, фронтонов, — штормовой оплот бортов, фоков, гротов.
¿' Караколь: Полно, морской волк! Твой гоголь-моголь слов — сплошной поток, фронтовой блок. Долой молох войн. Построй впрок мост… Вот…
] Селем: Скрой свой восторг, колоброд!
¿' Караколь: Обороноспособность — ноль, только тронь — он домой.
] Селем: Мой говор — мой долг, кто колкость смог побороть, тот молодец.

346
— Ошибка! — закричал знаковый судья. — В слове «молодец» буква «е». Один балл в пользу Караколя!
) 
Голгот ликовал, стоя на своем кресле. Караколь, пользуясь всеобщим замешательством, перечитал слова на моей табличке и, на лету схватив возможность перехватить у Селема из-под носа новый ход, выдал следующую колкость:
¿' Караколь: Стоп, остолоп! Довольно, столбовой сноб. Твой подход однобок. Монотонно, громоздко, голословно! Твой кокон — роскошь, комфорт, столько томов промолол, что бородой оброс. Гонор — твой подголосок. Мой простор — контровой ход, вдох, взор, вопль. От ворот поворот, щёголь.
— Ошибка! — снова заорал знаковик.
) 
Я не сразу понял, в чем дело. В зале раздался гул протеста.
— В слове «щёголь» запрещенная гласная «ё», господин Караколь, один балл в пользу Селема!
Голгот подскочил и проревел какое-то нечленораздельное ругательство, пока Пьетро его не усадил на место. Он был вне себя. Селем нас снова обошел. У нас почти не осталось слов, а повторы, по умолчанию, не пользовались особым успехом у жюри.
] Селем: Готов прокол. Оговорок сто сорок. Роковой сбой.
¿' Караколь: То вскользь, то вкось, под откос твой донос. Порой соло свободно, порой спорно.
] Селем: Отколь озорство протокольно?
¿' Караколь: Сплошной вздор!
345
] Селем: Стой достойно!
¿' Караколь: «Хохот, гогот».
] Селем: Сов, должно, помог?
¿' Караколь: Только Голгот мог столько острот отколоть.
] Селем: Что, скоморох, городской говорок подловил?
— Ошибка! — снова оборвал знаковик. — Один балл в пользу Караколя!
) 
За истекшую минуту диалог заметно поутих, оба соперника истощили свой запас слов на о, которые еще ни одним из них не использовались. Я пальцами стирал с дощечки использованные слова, но не находил новых. Те, что оставались: кобольд, гонг, толос, монокль, и наречия образа действия на О — волчком, торчком, ползком, молчком, было очень сложно встроить в диалог, и Караколю ничего не оставалось, как играть на своем чутье, чтобы держать удар стилита, который, как по мне, тоже находился в отчаянном положении. Я украдкой взглянул на песочные часы — в верхней части оставалась лишь маленькая горстка белых песчинок, главное теперь было не допустить ошибки, которая дорого нам обойдется. Я добавил на дощечку слова «водоворот», «коробок», «хроноскоп». Караколь прищурился. Был его ход. Повисла давящая тишина.
¿' Караколь: Кобольд, толос, хроноскоп. Что смолк?
] Селем: Осторожно! Оборот слов! Вольвокс, гномон, столон.
¿' Караколь: До, соль, до, хлоп! Пой громко, вой звонко!
] Селем: Вот хоровод, хорош поворот!
¿' Караколь: Грог? Скотч?

344
) 
Быстрые удары гонга, обозначающие, что осталось десять секунд, раздались в самый неподходящий момент. Нам оставалось лишь ждать последней реплики стилита, опасаясь удара ниже пояса. Именно такой она и вышла, ясной, колкой, пронзительной, во второй раз предоставив ему финальный аккорд во всей красе.
] Селем: Гонг, звон, дробь. Толчком под косогор прочь!
) 
Гром аплодисментов, раздавшийся с трибун, застал меня врасплох. Если в целом это испытание мне показалось ловко сыгранным обоими соперниками, с парой обменов красивыми, стройными фразами, и если Караколь, по-моему, был весьма неплох, то разве с интеллектуальной точки зрения это состязание было сравнимо с битвой палиндромов? Но, по всей видимости, почти что детская забава звуками и игривый тон Караколя, его манера
обыгрывать каждую реплику очаровали публику, и верхние ряды ободряюще скандировали его имя. Я не мог сказать со всей объективностью, кто из двоих был лучшим, хотя мне казалось, что первенство в первой половине тура осталось за Караколем.
Члены жюри посовещались пару минут, и на оловянных цилиндрах, которые прокручивал счетовой, показались результаты: Селем — 26, Караколь — 21. Что составляло общий счет за два тура: Селем — 58, Караколь — 44. Меня как из ушата окатили! Я был разбит, потерян: я сделал все, что в моих силах, я написал на табличке все слова, какие только смог, Караколь хватал их на лету и составлял их, как мозаику из сухой кладки. Количество штрафных очков у нас было практически одинаковое. А по итогу стилит обошел нас на целых пять баллов! Бархатистую тишину дворца надорвали свистки негодования, укрепившие
343
во мне чувство несправедливости. Хотя я, конечно, с самого начала не имел особых иллюзий на этот счет, я прекрасно понимал, что судьи будут на стороне стилита, в лучшем случае, чтоб не разгневать Экзарха, в худшем — по своему личному пристрастию. Для того, чтобы выиграть в таких условиях, недостаточно быть лучшим, нужно показать
ошеломляющее превосходство — и Караколю это было яснее, чем всем нам.
— Молодца, Сов! Благодаря твоему потоку О река моей поэзии не обмелела. Ха-ха!
— Но этого же оказалось мало, Карак…
— Этого оказалось достаточно, он не удержал своей позиции, он дал мне сбить себя с курса, это чувствовалось по его вихрю. Он засомневался, стал отходить назад и своем напоре, его уверенность дала трещину. Теперь он знает, что может проиграть. Именно этого я и добивался. Теперь для него начинается настоящее состязание…
x 
Если хорошо подумать, то вся наука Голгота держалась на знании потоков. Он владел основными восемью типами встречного ветра, разбирался в основных вариациях шести форм, умел прочерчивать теоретическую трассу по карте Тальвега. Но в остальном… Механика течений, признаки турбулентности в нестационарных кильватерах, изолированные и связанные потоки в зависимости от типа тел и влияния напора, ребро атаки и схода, как и любые тонкости аэродинамической теории, были ему безразличны. Многие в Орде давно для себя решили, что он ведет контр инстинктивно, что это просто дело крови, наследственности. Тем не менее, каждый раз, когда я у него спрашивала, почему он выбрал ту или иную трассу, Голгот практически всегда давал мне вполне аргументированный ответ. Сжатый, но, как правило, обоснованный.
342
Нет, его спасал не инстинкт, не потому он стал Трассером высокого уровня, несовершенным на мой взгляд, но очень крепким, (инстинкт — это, скорее, про Арваля, у того контр на грани животного нюха). Все дело в том, что он доверял ветру, он будто был уверен, что ветер, даже самый резкий, судорожный, дикий, не мог его искалечить. Убить — да, но к этому он как раз был готов.
Когда я оказывалась лицом к массивным и гранулярным потокам, как, например, вчерашний в русле Струйветра, мне всегда становилось страшно. За все свои тридцать шесть лет я так и не перестала бояться. Да, я знала, как совладать с ярветром, умела вести контр под кривецем, могла подняться вверх по песочному потоку. Мне были известны теоретические принципы потоков этих ветров, турбулентная моделизация, объемная структура, я умела все это определять на месте, знала, что делать, как реагировать. Но для этого мне всякий раз приходилось заглушать эмоции разумом, задвигать как можно дальше утробный панический страх. Голгот же не нуждался в теориях, он не оперировал такими понятиями как риск и вероятность. Возможную смерть он принял раз и навсегда в своей схватке с ветром один на один. Из-за своего брата? Наверняка. Его манера идти на рожон в самый центр потока, прокладывать дорогу собственным телом, налегать сильнее при полном встречном, как вчера, на незащищенной местности, прорываться прямой трассой, тогда как принцип сбережения мышечной энергии гласит уваливаться и искать укрытия, и затем понемногу приводиться к ветру в ожидании затишья, всем этим он был обязан своему слиянию с самим элементом воздуха, он вел рукопашный бой с противником, которому доверял. Кроме того, ему помогал приземистый и ширококостный каркас, торс аэродинамической кеглей, но главное, об этом ча-
341
сто забывают, — крепчайшие опорные на любой поверхности, отчасти укрепленные привычкой вбивать ботинок в землю на каждом шаге, отчасти благодаря тому, что центр тяжести у него располагался относительно низко, и отчасти потому, что при шквалах он отклонялся ровно на столько, на сколько было нужно, чтобы не опередить раньше нужного турбулентность, из-за чего крен давал совсем небольшой и сразу выравнивал его по ходу, а это был один из вернейших признаков знатока своего дела.
— Согласно нашей традиции, право выбора последнего испытания в турнире предоставляется проигрывающему игроку. Господин Караколь, какое испытание вы выбираете?
π 
Арбитр отошел на край диска. Стилит по-прежнему сидел, поджав под себя ноги, и, опустив вниз голову, молился. Диск медленно вращался вокруг собственной оси. Уже почти стемнело. В свете ясных огоньков пламени, раздуваемых в пиалах под самым куполом, медные перегородки сверкали мягкими рыжими отблесками. За стеклом купола виднелись сотни столпившихся на платформе раклеров. Они стояли темной массой, сдерживаемые алебардистами. Пронеслась новость, что они прорвались через охрану у подножья башни. Поднялись по винтовой лестнице всей толпой. Пришли поддержать нас. Чтобы не накалять ситуацию, палантины установили слуховые трубы. Звук над сценой попадал в конус трубы и передавался наружу через расширенное отверстие на другом конце трубки. Это позволяло собравшимся на платформе раклерам следить за ходом дуэли, что удерживало их от того, чтобы ворваться внутрь. Во всяком случае пока.
Караколь не спешил с ответом, наблюдая, как нарастает напряженное ожидание. Он стоял у бортика диска в
340
своем величественном наряде арлекина и смотрел на публику, а диск продолжал вращаться, описывая крут почета по всему амфитеатру. Все его лицо светилось улыбкой:
— Я выбираю… вольностиль!
— В каком варианте?
— Слоговое соло. Построфное, с чередованием реплик.
— Сколько ходов?
— Два хода с заявленными слогами. И третий ход в свободном полете.
— Значит вы выбираете сверхсовременную форму, которую наши софисты называет
cappizzano?
— Именно так, маэстро!
— Превосходно. Очень смелый выбор. Ваше Величество, господа Верхнежители, Дорогие Раклеры, что почтили нас своим многочисленным присутствием, прошу вас проявить строжайшее внимание в последнем туре состязания двух наших чемпионов. Трубадур Орды идет с отставанием в четырнадцать очков. А следовательно, последнее испытание пройдет согласно его выбору в форме
cappizzano. Вам известна неординарность цели этой дуэли. Речь не о схватке двух мастеров и двух гордынь. Здесь речь о чести 34-ой Орды Встречного ветра, о ее Трассе и о ее будущем! А потому прошу вас, августейшее общество, подбодрить нашего гостя перед началом последнего состязания, которое, с учетом впечатляющего таланта двух соперников, обещает быть исключительным во всех смыслах.
(Насыщенные аплодисменты).
— Выбор первого слога выпадает стилиту. Напоминаю, что этот слог должен использоваться в строфах как можно чаще, согласно принципу cappizzano, при этом, с как можно наименьшим ущербом для общей элегантности стиха. Стилит Селем, какой слог вы выбираете?
339
Впервые за все состязание стилит посмотрел Караколю и глаза, и сказал:
— Фи!
— Фи? Слог «фи»?
— Да.
— Принято. Право первого хода передается Караколю…
) 
Едва арбитр подал знак, как Караколь тут же ринулся в атаку. Он не просил у меня ни списка слов, ни выражений, попросил лишь на пятой строфе. По его тону, по тембру голоса, по мягкой кошачьей агрессивности слога, которую он выказывал в момент охоты, я сразу понял, что он проглотит своего противника. Ни публика, ни сам этот змей Селем понятия не имели, что их ждет. Он начал неистовой строфой, в которой я едва успевал записывать слова на фи, чтобы он их не повторил. Вне всяких сомнений, теперь он решил выбить из колеи этого белесого стилита, атакуя его
ad hominem. Тот, в свою очередь, принял оборонительную позицию, и, в качестве тактики, решил снизить градус напряжения схватки.
¿' Караколь:
Моя рифма — горящий фитиль.
Не рассчитывай на полный штиль!
Филигранный узор моих строк,
как физалиса лепесток.
Зафигачь себе рюмку ратафии,
Скоро будет тебе эпитафия…
] Селем:
Ты сворачивай свою каллиграфию,
не возьмут ее в типографию.
Выбирай поточней дефиниции
да фильтруй свои композиции.
338
А за такую любовь к профанации,
доиграешься до дисквалификации.
Так что зови свой фиакр сразу,
Грядет финал твоему сказу…
¿' Караколь:
Официоз из тебя так и прет,
филолог в тебе не запоет,
уж как там библиофилия?
Финтифлюшек одно изобилие!
Амфибрахий тебе не знаком,
инфинитивами гнешь напролом.
Версификация сплошная, но что ж,
филистером так и помрешь!
] Селем:
Стихоплет из тебя не сапфир,
постеснялся б с таким ты в эфир.
Все дефисы у тебя невпопад,
куча суффиксов — наугад.
Кому нужен такой кумир?
Для тебя слова, как кефир.
У меня слова — рафинад,
фиалковый мармелад.
¿' Караколь:
Твои опыты неофита
до фиаско тебя доведут.
Давно сдрейфила твоя свита,
в простофили тебя низведут.
Атрофия звука и слога,
вот специфика твоих рифм.
Конфисковать бы у тебя право слова,
фимиамный развеять твой миф.
337
Физиономия твоя мне противна,
дистрофический весь твой стан.
Парафином облился как будто,
фиолетовый истукан.
Ты философом слыть больно рад,
но это фикция все, маскарад.
] Селем:
Сфиглярить ты, конечно, профи,
гипертрофировать горазд,
но ни одной правдивой крохи
твой дифирамб не передаст.
¿' Караколь:
Графиня-орфография
меня встречать готова.
И рафинированным строкам
охотно внемлет с полуслова.
По анфиладам всех созвучий,
в лучах софитов, вдоль зеркал
веду ее в амфитеатр
под зефириновый вокал.
Я, всеми фибрами пылая,
к фиоритурам прибегаю.
И строф тончайший аффинаж,
мистификаций антураж
пред публикою оглашает
порфироносный мой типаж.
) 
Когда молот ударил в гонг, из слуховой трубки в зал полились недовольные крики, то были возгласы распаленной толпы раклеров. Пыл и красноречие Караколя, долгота его строф, стиль: он во всем превосходил стилита. Для раклеров, я имею в виду, не для жюри, — те хмурили брови от некоторых не вполне классических оборотов речи. Общий счет за все раунды появился на цилиндрах: Селем — 68, Караколь — 56. Нам удалось отыграть всего два балла, и я подумал, что должен исполнить свою роль советчика:
336
— Карак, будь осторожен, жюри не особо жалует разговорные словечки. Держись более возвышенного слога, как в последней строфе. Побольше иронии, поменьше тривиальности!
— Хорошо, советник, принято! Рек! Он меня немного раздраконил своими скользкими стишками.
< > 
Ни за что на свете я бы не хотела оказаться на его месте. Не знаю, как он справлялся, откуда в нем было столько сил. Не сдаться под напором этого нездорового монаха, этой медузы, подобранной с камня. Мне бы даже за руку его взять было противно. Я покрепче схватилась за Альму и Степпа, чтобы почувствовать себя спокойнее, не так одиноко. Всем нам казалось, что и это состязание, и жюри — все было несправедливым. Я не хотела идти через Малахитовый массив, мы этого не заслуживали, ни одна Орда такого не заслуживала, что бы там Голгот ни вытворил. Сов меня особенно впечатлял. На нем лица не было, когда он ступил во дворец, но мало-помалу он вошел в раж, что-то очень быстро строчил на своей табличке и протягивал Караколю. Они выглядели сплоченной командой, очень мило, хорошо. «Мы выиграем, — повторял мне Степп, — обязательно выиграем, Карак — лучший трубадур на свете, ручеек!» Но я в этом больше не была уверена, во всяком случае, в последний час…
— Монсеньор Караколь, ваш черед выбирать слог для второго тура
cappizzano. Каков ваш выбор?
— Я выбираю «кар», раз уж имя мое Караколь!
x 
Только на первом куплете второго тура мне стало казаться, что наша победа возможна. После палиндромов я себе уже представляла, как мы идем через Малахиты. На моновокализме перебирала оборудование, необходимое
335
для контра в кривец в высокогорье. Я правда рассчитывали на вольностиль, только Селем в очередной раз не ударил в грязь лицом. Но затем он наконец начал выдавать первые признаки усталости. Вполне возможно, изоляция ни вершине столба, вынужденный аскетизм делали его менее выносливым к давлению толпы. До этих пор столкновение проходило на очень высоком уровне, хоть я не специалист в риторике, мне это было понятно как аэромастеру — по плотности концентрации и удерживаемому напряжению вихря. Караколь, например, многое черпал из энергии зала, из смеха публики, дрожи нетерпения, что пробегала по амфитеатру, его вихрь напитывался атмосферой, витавшей вокруг. От него исходило все больше непринужденного очарования, тон его постепенно становился все менее прерывист.
] Селем:
Для Караколя мои слова прытки,
рвутся вверх, как крутой эскарп.
Он под звуки моей скрипки
онемеет, словно карп.
¿' Караколь:
Карета твоя без кучера
и каравелла без парусов.
Побереги свое эго для другого случая,
коль не хочешь накаркать себе врагов.
Я — Караколь, считай, каракал,
хищный зверь, рысь, сервал.
От клыка моего нет лекарств,
не уйдешь от золото-карих глаз.
Чистая кварта,
ми бекар,
звонкая трель,
принимай картель!
334
] Селем:
Карты сами идут в руки,
все четыре короля.
Я каре себе от скуки
накартежничал, шутя.
¿' Караколь:
Под кокардой у тебя пусто,
карильон твой весь заржавел.
Оттого ты и воешь так грустно,
как карибу, потерявший свой пень.
Так и знай, карапуз, мелкий карлик,
не упустит игры Караколь.
Что б ты там про себя не картавил,
он устроит тебе карамболь.
] Селем:
Карикатура у тебя выходит плохо.
Точи свой лучше карандаш
на шарж…
¿' Караколь:
Я рифмую под ритм сфинктеров,
и картечи в моем арсенале
для прицельных словесных выстрелов
побольше, чем пескарей у тебя на привале.
— Протестую! — завизжал скриб стилита, — нам не дали окончить нашу строфу!
— Протест отклонен! — заорал в ответ Голгот, да так громко, что знаковый судья чуть не свалился со своего высоченного стула.
— Позвольте вам напомнить, девятый Голгот, что об уместности протеста судить может только судья по знакам, — утихомирил его арбитр.
333
— Протест отклонен! — подтвердил знаковый судья. — Cappizzano — современная форма вольностиля и позволяет подобное неожиданное вмешательство. Наша юриспруденция подтверждает это. Слово переходит к стилиту.
] Селем:
Фразер, краснобай, пустозвон,
разглагольствований — вагон,
говоришь, как…
¿' Караколь:
Стоп, караул! Все фарс, балаган!
Несите скорее мой кардиган!
Я пришел послушать фуги, ричеркар,
а на деле вянут уши от фанфар.
Окарина свищет песенки с эстрад,
ты устроил нам какой-то маскарад.
] Селем:
Слов за собою тянешь карго в порт.
Рад бы вскарабкаться ко мне на борт.
Я капитан, я рассекаю по волнам,
скользит бесшумно баркарола к берегам.
В скаредный день здесь неуместен торг,
в моей каракке будет место в долг.
¿' Караколь:
Карамельные твои речи
не подкупят и старой карги.
Прокукарекал лучше бы просторечий,
не устраивал бы тут чехарды.
Но с фантазией у тебя в кармане негусто,
и картотеки твоей нет под рукой.
Твое карцерное искусство
со столба в карьер летит с головой.
332
] Селем:
Счастлив тот, кому кардинал
каракулевое пальто задолжал.
Тебе же достался простой картуз,
пред светской публикою конфуз.
¿' Караколь:
Зато мои подружки кариатиды
не носят вовсе никаких накидок.
С карниза можешь на них взглянуть,
картинку на память себе умыкнуть.
) 
Я схватил свой пергамент и стал писать на оборотной стороне чернилами все слова на «кар», что смогла собрать память, располагая их по возможности по ассонансу, а Караколь с высоты своего мастерства бросал взгляд на мой список, выхватывал оттуда слово, звук, бросал пристальный взгляд на стилита, на накаленную, распаленную публику и, меряя шагами диск, декламировал, играя каждой строфой, ускоряя ритм и рифму, удваивая скорость, так что зал следил лишь за его силуэтом веселого арлекина и внимал лишь ему одному, подбадривая улюлюканьем. Неминуемо нагоняемый стилит смог лишь сообразить в ответ слабенький куплетик. Песок в часах почти весь пересыпался. Я подскочил, чтобы сказать Караколю, что теперь он должен воспользоваться всем оставшимся временем, чтобы последнее слово осталось за ним. Он качнул головой и вот что выдал мне в ответ:
Ты, как со скарлатиной,
сидишь на карантине.
Уже и столб устал тебя держать,
каррарский мрамор твой
облез по всей лепнине.
331
Картуш давно осыпался,
а вместо рифмача
осталась каракатица,
да с рожей карася.
Послышались аплодисменты под бой гонга, предвещающего конец раунда, но Караколь, и не думая останавливаться, не обратил на него никакого внимания и окатил зал бурной строфой:
Всей карьере твоей стилита
грозит немедленно угодить в корыто.
Кардинальных от тебя ждут мер,
но карабин твой стоит не у дел.
Твой картонный каркас одряхлел,
карточный домик не уцелел,
учинил ты такой раскардаш,
что толпа вся вокруг вошла в раж.
Каракули твои разбирать все устали,
карусель крутить перестали,
карнавальная музыка отыграла,
тебя непременно настигнет кара.
А пока не предстал на суде,
иди себе,попивай каркаде.
π 
Песочные часы истекли. Арбитр собрался взять слово. Но наш трубадур прервал его величественным жестом. Он выдержал короткую паузу и затем очень сдержанно, внятно и отчетливо произнес конечную тираду:
И карминовый рубин
в сто каратов и один
караульные с вершин
мне подносят, как реванш,
отвоеванный карт-бланш.

330
) 
Я не претендую на объективность того, что здесь пишу. В конце концов, я всегда обожал Караколя, он всегда был для меня драгоценнейшим другом, яркими цветными брызгами, украшающими любую серость, я с каждым днем все больше восхищался неукоснительной стойкостью его творческой непринужденности, но на этот раз он оказался просто-напросто гениален! Овации, последовавшие за его последней строфой, были, вне всякого сомнения, беспрецедентны в истории дворца Девятой Формы. Жюри не могло остаться к этому равнодушным — и все же! Они отказались засчитать нам последние строфы, прозвучавшие после завершающего удара гонга, то есть более десятка строк! Эрг удержал Голгота, ринувшегося вправить на место голову жюри, а Пьетро тем временем постарался умерить наш пыл:
— Таковы правила, на каждый этап выделено определенное время! Ты и так дважды оборвал стилита и отыграл у него семь очков! Счет теперь 76 против 71. Продолжай в том же духе, он устал, сбивается. Мы непременно должны выиграть с учетом правил, чтобы не дать Экзарху ни малейшего повода. Понимаете?
— Да, Пьетро, но согласись, что все это состязание полная липа!
— Факт того, что это состязание имеет место, — уже само по себе полная липа. Ты прекрасно это понимаешь, Сов!
π 
Алебардисты вывели заполонивших зал раклеров. Зрители снова заняли свои места. Начинался последний раунд. На этот раз ожидался «перебежный стиль», то есть с единственным условием — прийтись по вкусу. После воодушевления, которое вызвал второй тур, напряжение механически спало. Караколь оставался резок. Хотя слог его
329
и притуплялся в отдельных куплетах. Стилит уже с не такой кислой физиономией зачитывал заранее подготовленные строки. В целом наш трубадур превосходил в этом раунде стилита на целую голову, с плечами. Не столь академический, слог его был более разнообразным, строфы хлестали и стегали, нагнетая хаос гласных. Рядом со мной Голгот явно ощущал возможно близившуюся победу. Сорванным голосом он продолжал орать, перекрикивая стилита всякий раз, как тот заговаривал. В то время как для Караколя он заводил ряд непрерывных аплодисментов, что служили ему ритмом, на который он опирался. Я снова взглянул на песочные часы. Оставалось полминуты, не больше. Снова была очередь Караколя. Он знал, что нужно додержаться до конца, не дать стилиту перехватить мяч, затянуть игру, украсть ход противника. И он это сделал! Зал весь задрожал от волнения, он подобрался и взорвался:
Порожняк и трёп,
болтовня взахлёб.
Выпендреж и вздор,
ерунды набор.
Столько слов извел
придворный позёр!
Излияния, стоны и рюши,
занудных проповедей вой.
Постыдился бы, дорогуша,
мой черед, мое слово — бой!
У меня речистых тирад —
поток, фонтан, водопад.
В каждой строке подколка.
Остро, ярко, колко!
Аскет наш выдохся,
весь в лепешку.
Охнул, обмяк —
и в лежку.
328
Новые строчки ища впопыхах,
жалкое тремоло на губах.
Молчание — знак согласия.
Вышел с козырной масти я,
в открытую бью своего врага,
не уйти ему, решена игра!
< > 
Сидевшая рядом со мной Кориолис рыдала, не в силах сдержать эмоции. Раздавленная долгим напряжением, она искала утешения, бросившись к Ларко в объятия. Весь зал дрожал, как мокрый пес. Кто бурно рукоплескал, кто подскакивал и фыркал, а кто свистел и снова усаживался. Глаза Кориолис стали прекрасно-синими, кровь прилила к губам. Ларко поцеловал ее, она была податлива, не отворачивалась. Я смотрела на Степпа, который тоже встал, наблюдая, что происходит у нас за спиной.
— Прошу вас, еще немного внимания. Наш счетовой скоро огласит результат состязания…
Под именем Селема, вырезанным большими деревянными буквами, закрутились два цилиндра. Первый остановился на цифре 8, второй защелкал, застопорился и остановился на пяти: 85! Вся Орда сжалась, схватив друг друга под руки, все мы затаили дыхание. Мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. Караколь и Сов стояли на сцене, взявшись за руки, глядя на портик с цифрами. Первый цилиндр выдал 8, второй перекатился с 1 на 2, затем на 3, потом на 4, 5, раклеры бушевали за стенами дворца, по залу перекатывались перешептывания, меня бросило в жар. Все мы ждали цифры 6. Но счетовой снял рукоятку с портика и в смущении положил на пол. Церемониймейстер поднялся на сцену, я ничего не понимала:
— Ваше Высочество, Монсеньоры, Господа, Друзья, поистине это состязание не имеет равных в истории. Наше
327
жюри со всей душой и совестью, сугубо четко соблюдая ими же созданную шкалу оценки, что доказывала себя не раз, пришли к общему заключению: за этот поединок присуждается ничья! Данный случай, предусмотренный нашими правилами, можно разрешить единственным путам — дополнительным финальным раундом.
— Оххххххх!
— Выбор последнего испытания передается проигравшему в третьем туре сопернику. Прошу Орду заранее проявить понимание, но выбор предоставляется Селему, который должен назвать, какое испытание он выбирает для последней дуэли, для последней схватки со своим соперником. Желаете ли вы, августейший стилит, удалиться на несколько мгновений для обсуждения с вашим скрибом?
— В этом нет необходимости, уважаемый церемониймейстер. Мой выбор сделан. Я выбираю
эскалетр.
— Его Высочество Караколь желают удалиться с их скрибом?
— Да, коль скоро это представляется возможным.
— Разумеется. Палатин проводит вас.
) 
Палатин сопроводил нас в узкую башенку за трибунами, что находилась напротив входа и служила столбом для купола. Он провел нас по винтовой лестнице в небольшую круглую комнатку, остекленную зеркалом без амальгамы, и вышел. Сквозь зеркало нам были видны трибуны и бушующая публика, а за ними, за стенами дворца, — толпа раклеров на платформе.
— Эскалетр — это такой снежный ком, да? Начинается со слова из одной буквы, затем идет слово из двух букв, потом их трех, четырех, и так далее? Выигрывает тот, кто дойдет до самого длинного слова, так?
— Да, Сов.
326
— Почему он это выбрал?
— Потому что это легко, а он устал.
— Думаешь, ты можешь выиграть?
Караколь оперся лбом о стекло и на несколько секунд закрыл глаза, не отвечая. Он весь кривился и жмурился, ему явно было нехорошо.
— Ты плохо себя чувствуешь, Карак? Ты устал?
— Послушай меня внимательно, Сов… Я это состязание проиграю…
Меня этими словами как обухом по голове ударило. Откровенно говоря, он как-то так все это произнес, каким-то таким неоднозначным тоном, что я решил переспросить:
— Ты знаешь, что проиграешь, или ты хочешь проиграть?
— Знаю, что проиграю.
Двусмысленности его слова не поубавили. Я так и остался в замешательстве, не в силах понять, что происходит.
— Я в эскалетре дойду до девятнадцати. А он выдаст двадцать.
— Откуда ты можешь это знать,
барнак?!
— Не важно. Послушай лучше, видишь вон того типа, одетого в зеленый бархат, в двух рядах за Экзархом?
— В черной треуголке?
— Да. Его зовут Масхар Лек.
— И что с того?
— Он здесь для того, чтобы меня убить. На восемнадцати словах зал решит, что Селем выиграл. Но я подниму счет до девятнадцати, поприветствую публику, поздравлю Селема и удалюсь, объявив, что побежден. Ты внимательно слушаешь, Сов? Затем я быстро выйду из дворца в сопровождении четырех палатинов. Тогда Масхар Лек встанет. Обойдет трибуны слева, и спустится по центральной лестнице, дважды отсалютовав треуголкой Экзарха.
325
Затем пройдет мимо сцены, пробираясь к выходу. В этот момент ты должен его остановить.
— Но как?
— Как угодно. Останови его. Это вопрос жизни и смерти.
— Карак, ты сейчас серьезно?
— Эрг этого человека не знает. Он не сможет просчитать, что тот задумал. Только ты один в курсе, только ты один можешь его остановить, скриб не вызовет у него подозрений.
— Но кто он вообще такой, Святые Ветра? Кто его послал? Почему он хочет тебя убить?
— Это длинная история, Сов. Преследователи не прощают предателей. Он знает, кем я стал. Он следует приказам.
— Это наемный мастер?
— Нет, во всяком случае, не в том смысле, что был Силен. Он отравитель. Он по большей части орудует на приемах при дворе, на банкетах в честь победителей… Понимаешь, в чем моя проблема?
— Нет, ничего я не понимаю.
(обратно)
XIII
АЭРОБАШНЯ
¿' Караколь: Я!
] Селем: И ты?
¿' Караколь: И мы все!
] Селем: О, да все одно.
¿' Караколь: А, но все-таки дуэль!
] Селем: О, но мне мила будет победа.
¿' Караколь: А на вид тебя вовсе обошли короной.
] Селем: Я не раз зато бывал, однако, королем, трубадур.
¿' Караколь: И не так умен Селем, ежели лишить стилита шустрого помощника.
] Селем: Я до той поры готов играть, сколько Караколя требуется развлекать.
) 
Счет поднялся до десяти слов — первое из одной буквы, второе из двух и так далее, вплоть до последнего из десяти. Караколь изворачивался в тонко сплетенной, непростой последовательности, но пока что без прорех. Самое трудное было впереди, и я быстро стал писать развернутые списки наречий, прилагательных, глаголов из четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати букв, готовясь к продолжению. На каждую фразу нам выделялось по минуте, чего было достаточно в начале, но на следующие предложения этого будет решительно мало.
323
Я никак не мог поверить и вникнуть в то, что мне сказал Караколь. Я знал, что он способен на неуместные шуточки, особенно в такие опасные моменты, как сейчас. Он уже не раз это доказывал, вспомнить хотя бы случай на Фонтанной башне или в прошлый ярветер, или его номер с выдрой… Но разве мог он умышленно подвести нас к поражению на дуэли? И каким образом проигрыш мог помочь ему спастись от этого… отравителя, за которым я теперь старался украдкой наблюдать? У Караколя были все шансы обойти Селема в этом состязании, он был для этого достаточно умен, я в нем не сомневался: он должен был стоять до конца, должен был нас спасти!
Я
не
мог
тебе,
Селем,
сласть
триумфа
подарить,
позволить
несомненно
властвовать
безраздельно.
Приготовьтесь,
многоуважаемые!
Провозглашается
непредотвратимое
перераспределение
разворачивающегося
псевдодивертисмента!
322
— Знаковый судья, вы принимаете эскалетр?
— Эскалетр принят.
— Эскалетр поднят до девятнадцати ступеней, господа! Предыдущий рекорд турниров Альтиччио побит! Караколь обошел — и как искусно! — восемнадцатисловный ответ Селема. Перевернуть часы! Селем, у вас минута, чтобы попытаться побить рекорд или признать поражение!
π 
Караколь поднялся со своего трона. Попросил у церемониймейстера слово. Какую еще клоунаду он нам подготовил, черт возьми! Пока он тут устраивает парад, стилит спокойненько размышляет над новой фразой. Умнее не придумаешь!
— Ваше светлейшее Величество, Дорогие Герцоги и Графы Альтиччио, Дорогие Князья, каждый в своем почтеннейшем звании, дорогие Друзья раклеры, позвольте мне покинуть состязание, не дожидаясь его завершения.
Зал окатило тишиной.
— Эскалетр, что я вам представил, недостаточен, чтобы одержать верх над вашим непревзойденным чемпионом. Из уважения к великолепному состязанию, в котором мне выпала честь принять участие, нужно уметь с благодарностью и блеском признать поражение и преклониться, когда того требует рыцарский дух. Поприветствуйте же стилита Селема за эскалетр из двадцати ступеней, что он без промедления предложит вашему вниманию, воздайте ему должное за его интеллект, умение и беспримерную стойкость. Прошу вас оказать мне честь и предоставить эскорт из четырех палатинов, что проводят меня к моему веливело. Благодарю вас, покидая сцену, прекрасная публика, за ваш энтузиазм и теплоту приема!
Тишина потрясения была совершенно невыносима. Я не знал, куда деться. Голгота как пришпилило к креслу от
321
изумления. Караколь покинул сцену. Он направился к выходу. Четыре смущенных палатина составили его эскорт. Я не понимал, что происходит.
) 
Человек, которого Караколь назвал Масхар Лек, поднялся и вышел из своего ряда. Он обошел трибуны по левой стороне и стал спускаться по центральной лестнице, остановился напротив Экзарха и поприветствовал его, дважды приподняв свою треуголку… У меня по телу пробежала дрожь от дежавю — все точь-в-точь совпадало с предсказанием Караколя! Человек прошел мимо меня внизу сцены… Поток аплодисментов накрыл дворец Девятой Формы, весь зал поднялся и требовал назад Караколя, публика взрывалась кто криками «браво!», кто гневными восклицаниями негодования, а то и вызывающим свистом в его адрес… Всего в нескольких метрах от меня человек в треуголке проталкивался сквозь толпу плотно стоящих у самой сцены раклеров, направляясь к выходу… «Ты должен его остановить ровно в этот момент». Я спрыгнул со сцены и стал пробираться к нему. Кое-кто из раклеров меня узнал и расступился, думая, что я догоняю Караколя, остальных я стал расталкивать ударами плеча, постепенно нагоняя человека в треуголке, вот я был уже совсем близко, у него за спиной… «Ты должен его остановить».
— Масхар?
— Да?
Он в удивлении обернулся. Удар локтем в солнечное сплетение. Масхар Лек рухнул, глотая воздух. Я позвал Эрга на помощь, он тут же примчался, поднял этого типа, обыскал и вытащил у него из камзола сарбакан, какой-то пузырек и кинжал, открыл флакончик, понюхал и снова закупорил:
— Яд. Стрихнин. Что это за тип, Сов?
320
— Наемный убийца.
— Это я и без тебя вижу! Кто тебе сообщил?
— Никто.
— Ты со мной эти шутки брось, Сов!
π 
Этому трубадурню так фартануло, что он успел от меня упедалить вовремя, а то бы я ему засунул рыльник в заднее отверстие, и полетел бы он у меня кубарем прямо с башни, никакие закрылки ему бы не помогли! Устроить мне такое в самый разгар стычки, перед двумя тыщами мужиков, так меня кидануть перед Экзархом, смешать всю честь Орды с мусором, даже не попытаться отыграться, свернуть игру и смыться! Меня прям к сидушке пришибло на добрую четверть часа. Хватило времени посмотреть, как этот дохляк стилитовый свои двадцать ступеней наворотил, как Экзарх его по плечу похлопал да как вся их шайка дворянская пошла ему саван лобызать, а потом выкатилась из зала на своей высокопарности!
Я б еще долго так сидел, если б не махач этот да если б Степп меня за рукав не тянул, не показал, как там внизу трибун бугай какой-то с черным гребнем на башке уложил целую дюжину караульных. Я подошел. Эрг пришлепнул какого-то зеленого типа, у которого, видать, были какие-то свои подводы к Экзарху, потому что тот когда шмякнулся, так к нему бросились все, у кого оставалось по оружию да по паре яиц. Но Эрг тут же схватил алебарду, и они все кругом расступились… Два каких-то умника в глубине зала решили из арбалета дать отпор и взяли его на мушку. Только Эрг недолго в их игры играл. Взмыл стрелой на шесте. Первый парниша даже прицелиться не успел, рухнул столбом. Второй стрелу выпустил, но Эрг на него уже приземлился, только кости затрещали: этот крендель потом так орал — Эрг ему обе ходули переломал, коленки наи-
319
знанку торчали. А наш Махаон уже по арбалету в каждую руку схватил и к выходу понесся.
— Все за мной, Орда! Раклеры вместе с нами!
) 
Во дворце было еще несколько сотен народа, в основном раклеры, вся знать из Верхнежителей улизнула под всеобщее ликование вслед за торжествующим Экзархом. Сигнал тревоги протрубили в рог, как только началась драка, и целый отряд жандармов забаррикадировал выход.
— Не стреляй! — крикнул Пьетро Эргу.
— Заряжай! — орал Голгот.
Эрг целился выше колен, по мясистой части. Шестерым жандармам досталось по стреле в ногу, и они начали отступать, укрывшись за фюзеляжем одной из баркарол на платформе. Послышался глухой перекатывающийся шум, и двойная стеклянная дверь захлопнулась прямо перед нами… Мы оказались заперты во дворце! Снаружи, повиснув над платформой, заняли позиции целые эскадры едва различимых в темноте фланговиков. По мерцающим язычкам пламени, облизывающим темноту неба, было видно приближающиеся баллеры — воздушные шары, летящие к дворцу: подмога или стая зевак? Эоликоптер с тройным винтом слегка задел купол и высадил на стеклянную каплевидную поверхность акробатов, которые при помощи присосок стали пробираться к вентиляционным створкам, проделанным прямо в куполе, в двадцати метрах у нас над головами. Эрг не сможет взять на себя всех одновременно… Через слуховую трубу над сценой раздался голос. От имени Экзарха нам предлагали выдать Эрга, раклеров обещали оставить без наказания.
— Вранье! Эти сволочи нас по стенке размажут!
— Не слушайте их! Экзарх не держит свое слово! Они вас в тюрьму засадят!

318
π 
Эрг проанализировал ситуацию. Подозвал Фироста, Леарха, Голгота и меня.
— Я проберусь на крышу купола.
— Каким образом?
— По стальной оси. Наверху будет достаточно ветра, чтоб я смог развернуть крыло и расправиться с акробатами. Короткими ударными скачками. Потом займусь эоликоптером и фланговиками. Вы оставайтесь на месте. Спрячьтесь где-то тихо во дворце.
Затем он обратился к раклерам:
— Раклеры! Слушайте меня! Я — Эрг Махаон, боец-защитник Орды. Увидите, как горящий баллер падает на платформу, — вышибите дверь со стальным портиком у вас за спиной и разделитесь на три группы! Первая группа — пулей вниз по винтовой лестнице до самого русла Струйветра! Вторая — будете атаковать жандармов! Защищайтесь спинками кресел вместо щитов. Продвигайтесь группами! Вас будет превосходящее множество, и у них не будет времени организоваться. Третья группа — захватите весь транспорт на платформе и все на взлет! Я вас прикрою из арбамата плюс винтом. Встречаемся внизу, в Панцире. Все понятно?
— Понятно, Махаон! Будь осторожен!
) 
Впечатленные телосложением Эрга и тем, как он только что уложил у них на глазах два десятка противников, раклеры сразу одобрили его незамысловатую тактику и начали готовиться. Эрг сделал все, как говорил: он поднялся под прямым углом по оси, на которой крутился диск сцены, и исчез где-то под куполом. Огни, освещавшие свод, почти угасли, один из завсегдатаев дворца прикрутил подачу воздуха к огню, и Эрга стало не различить — акробаты, распределившиеся по куполу, теперь его не видели.

317
π 
Он быстро отыскал выход и выбрался наружу. Я определил его по ударам черных тел, падающих на пол платформы. Они срывались один за другим. Минутой позже эоликоптер врезался в баллер. Лопасти винта обрезали веревки подвесной корзины. Разорвали ткань воздушного шара, и баллер тут же загорелся. Летучая зола заалела в черном небе, а затем оставшаяся от воздушного шара конструкция рухнула на платформу. Это был сигнал! Сгруппировавшись, толпа раклеров выбила тараном стеклянную дверь. Они вырвались наружу, укрываясь спинками кресел на манер щитов. Что до нас, то мы тихонько скользнули в сумрак дворца. Вслед за Совом я оказался в зале с тонированным стеклом. С нами были Ороси, Альма, Аои и Каллироя.
) 
С учетом численного превосходства раклеров жандармы, испуганные репутацией Эрга, чья фантастическая победа в воздушной гонке вокруг Альтиччио во время первого испытания оставила яркий след, быстро сдали позиции. Они отступили на мостики, самые смелые отважились на несколько бросков бумерангов, но без особого рвения. Как сказал Пьетро, такое отсутствие энтузиазма в бою объяснялось тем, что среди них не было ни одного командующего — вся иерархия ушла щеголять в приемный зал к Экзарху и оставила их разбираться со стычкой.
Я думал о том, где сейчас мог быть Караколь и не в опасности ли он, несмотря на все это. Состязание всплывало в памяти отдельными фрагментами, его строфы еще звучали где-то в глубине погруженного в тень дворца. По куполу беспрерывно скользила водяная пленка. Жидкость поступала из резервуара дождевой воды и то подогревалась, то вентилировалась и остужалась, чтобы поддерживать в залах дворца идеальную температуру. Стекая по стеклу, она смывала пыль и грязь, нанесенную ветром, и здание
316
блестело в свете дня, как драгоценный камень. Ночью же в стенах дворца создавалось ощущение погружения. Снаружи румянилась в язычках пламени растекшаяся лужа масла от потерпевшего крушение баллера. До нас долетали глухие редкие крики.
Когда Эрг пришел за нами, взлетная полоса перед дворцом была устлана разломанными каркасами, обломками гондол, кусками полотна и ранеными. Он провел досмотр одного уцелевшего баллера на двадцать мест, мы поспешно поднялись на борт и, не мешкая, взлетели.
Из потрескивающей лозовой корзины баллера Альтиччио казался безразличным к суматохе сегодняшнего вечера. С квадратов некоторых террас до нас доносились голоса, то там, то здесь виднелись пятна мерцающих огоньков сквозь импосты высоких башен, но в остальном слышен был только шорох складок шара, легкое позвякивание ветрячков и неспешное дуновение ветра, скользящего по овалу баллера. У штурвала стоял Эрг, он обошел однобашенный Плавающий собор и медленно прошел над разрушенным фареолом, на котором поблескивали длинные медные сигнальные рожки, затем накрыл пламя, чтобы приступить к спуску. Мы пролетели над отверстием еще не погасшей термической башни и тихонько нырнули в нижний город с плотно застроенными башнями и крышами, возвышающимися друг над другом, как трибуны. Внизу приземлилось несколько веливело, раскачивались пришвартованные к колокольне баркаролы. На сорокаметровой высоте боковой ветер снова дал о себе знать: мы приближались к руслу Струйветра.
— Эрг, у тебя все под контролем?
— Подъемная сила неравномерная, в нижнем городе сплошные воздушные ямы! Как только пролетаем над рефлектором, сразу трясет.
315
— Тут и плотность побольше будет?
— Это квартал торговцев и ремесленников, — прервал Тальвег, — не знать, не беднота, что-то среднее. Они живут и невысоких башнях, по десять, двадцать, максимум тридцать метров в высоту, с террасами, которые они сдают раклерам, у кого есть средства поставить там себе хижину. А некоторые сдают в аренду даже швартовые крюки для шаров. Среди раклеров есть такие, кто предпочитает жить в корзине воздушного шара, чем в русле реки. На высоте все-таки меньше ветра.
— И чуть больше видно солнце! Как они вообще живут, те, кому приходится просеивать умбру с башен целыми днями? — негодовала Кориолис.
Мне хотелось дать ей содержательный ответ:
— Они смотрят на вздымающиеся ввысь дворцы и мечтают, что у них однажды тоже будет веливело. Вот как они живут! Когда одному из них наконец удается пробиться вверх, остальные раклеры начинают верить, что и у них есть шансы. Бессмысленная эксплуатация, которой они подвергаются, держится только потому, что они завидуют тем, кто их эксплуатирует. Они не приходят в негодование, наблюдая, как там, наверху, идет иная жизнь: они о ней мечтают! И хуже всего то, что их заставляют верить, дескать, усердие и заслуга позволят им преодолеть высоту в полсотни метров! И они фильтруют, просеивают и соскребают дно реки, пока не достигнут ощущения того, что они тоже
заслужили… Но когда оно наконец приходит, они вдруг понимают, что никто и никогда не сможет осознать ценность их труда. Что не существует высшего судьи но заслугам, а лишь торговцы, что выторговывают у тебя сырье, лишь бы продать его втридорога тем, кто на сотню метров выше. Таких здесь называют «подъемщиками по лестнице». И тогда раклер впадает в бешенство.
314
Только вот бешенство, когда оно не может выплеснуться наружу, изменить то, что его порождает, оно взрывается внутри! Оно оборачивается горечью и озлобленностью, превращается в ненависть к себе и окружающим, в безрадостный цинизм, растворяется в желчной мелочности и извергается потоками на самых близких: жен, друзей, детей…
— У них правда ощущается две тенденции в поведении. Есть те, для кого бешенство стало основой в противостоянии Верховникам, они ведут борьбу в Ганзе и стремятся изменить этот город, сразиться с теми, кто их презирает. И есть те, чье бешенство поглотило их изнутри, кто не смог или не захотел им воспользоваться, вгрызться в реальность, — заметил Степп.
— Скоро будем в Струйветре! Мягкую посадку не обещаю! Нас сильно сносит.
¬ 
Мне нравилось в Панцире. Мне там с первого дня было хорошо. Он находился в аркозовом монолите ржаво-коричневого цвета, тверже, чем башка Голгота, в самом русле ветровой реки, и одно это уже заслуживало уважения. Если смотреть с башни, то выглядел он как останки землеройной черепахи. Вблизи эта продолговатая масса в уровень с земным слоем походила на нечто совершенно выпавшее из времени. Песок, абразия, шлифовка, — весь блок окислился из светло-серого в красный, но продолжал стоять. Это было единственное, что уцелело в этой рытвине.
Один из раклеров открыл засыпанный песком люк с задней стороны монолита и спустил деревянную лестницу. Затем открыл второй люк, на этот раз с охраной. Протащил нас по куче галерей: половина без
света, часть в завалах. И мы оказались под блоком, прямо в Панцире, точь-в-точь как в первый раз.
313
Попав туда снова, я сразу подумал: Тальвег, ты тут как дома! Мне нравилось место, нравились люди, которые сюда стекались, пили, горланили. Все внутри было сделано из необработанного чистого камня: пол, стены, потолок, столы и лавки. Вплоть до ручек ножей, до тяжеленных кувшинов, налитых до краев пивом из проросшего ячменя, в которое могли бы добавить и хмеля — но такого добра в их решето с башен не падало.
Панцирь был одновременно и местным трактиром для раклеров, и городской площадью. Он находился на перекрестке большинства основных галерей, прорубленных под руслом Струйветра. Куда бы ты ни шел: спать, выйти на поверхность, взять или убрать кирки и сита, как ни крути, а все равно пройдешь через Панцирь. Это была разменная точка, перекресток дорог, место, где затевались все дела. Тут устраивались праздники, тут же Ганза собирала своих людей, здесь узнавались и отсюда разносились слухи. Трактир был сто метров в длину и тридцать в ширину, а потолок кое-где поднимался метра на четыре, не больше. Штук двадцать галерей пронизывали стены то там, то тут. Так что зал хорошенько продувался, иначе б духотища стояла страшная.
Атмосфера в этот раз была еще горячее, чем после подвига Голгота. В воздухе витал, как и полагалось, дух после драки: крутом были крики, смех, каждый старался перекричать другого, «ты видел, как я его…», «ну, я его тогда схватил…», «я как увидел, что он на нас бежит…». Они были горды, они были чертовски рады, что закатили Верховникам такое месиво, да еще и отделались почти без раненых и из облавы вырвались не слишком покалеченные. Они знали, чем обязаны Эргу, тот и глотка пива сделать не мог так, чтоб его по плечу не хлопнули да не спросили в сотый раз, как он расправился с акробатами, с эоликоп-
312
тером, как ушел от стрел арбалетов. И тогда он вставал, брал того, кому было интереснее остальных, делал ему подсечку ногой, подхватывал, перекидывал через плечо и целехоньким ставил на место. Он снова и снова показывал в замедленном темпе свои приемы: выпады, парирование, перегруппировку, секретные удары. Раклеры были в восторге. И еще его, конечно, просили рассказать о боях. Самый сложный, самый быстрый, самый опасный… И он рассказывал про Силена, про Дубильщика, всякий раз упоминал про Тэ Джеркка, объяснял, кто такой мастер молнии, что бы сделал мастер молнии на его месте, и почему тот оставался скромным.
Как и остальным ордийцам, мне были рады за каждым столом: меня легко узнавали по моей бороде, моему телосложению и молотку наперевес. Мы все были нарасхват, так что трудно было поговорить между собой, обсудить случившееся. Но мы не могли на них за это сердиться. От них исходил такой энтузиазм, такая искренняя дружеская теплота. Для них мы были сделаны из того же камня, занимались тем же делом, хоть мы и представлялись им элитой контра, превосходными атлетами, недостижимыми примерами. «Я, когда увидел Голгота, — сказал мне один старик, — понял, что никогда и не умел контровать по-настоящему». А среди них все же были отличные зачатки фаркопщиков. Кое-кто даже спрашивал, как попасть в Орду. И Голгот присмотрел парочку новеньких в фаркоп.
— Не сочтите за неуважение, князь, но пощады вы от них не получите! Экзарх ни за что не согласится уступить вашему Голготу!
— Но он же все-таки не может удерживать Орду в Альтиччио без согласия Совета Ордана! А мы можем надеяться, что Совет будет на нашей стороне, не так ли? Мы все же его Орда, насколько я знаю! Они же сами нас и
311
готовили, чтобы мы дошли до конца, — с обидой сказал сокольник.
— Экзарха, конечно, назначает Ордан, но на самом деле он не особо перед ним отчитывается в своих делах! Он волен делать что захочет в своем городе. И он не стесняется злоупотреблять своими прерогативами.
— Можно представить себе и более мрачный вариант, — углубился в вопрос Пьетро. — Экзарх действует по указу Совета Ордана или, по меньшей мере, — постараемся быть оптимистами, — какой-нибудь его фаланги, неофициальной и немногочисленной, что орудует изнутри Совета. И что он как раз и получил приказ удержать нас в Альтиччио…
— Какой резон Ордану давать такой приказ? — не унимался сокольник, которому явно все это было не по душе. — Это противоречит его задачам! Цель его существования — предоставлять необходимую подготовку Ордам, чтобы те могли дойти до Верхнего Предела, а значит, они обязаны нас поддерживать!
— Не будем вдаваться в дебаты, Дарбон, — постарался успокоить его Пьетро, — не то они далеко нас заведут. Вопрос простой: есть ли у нас хоть какие-либо шансы получить доступ к Вой-Вратам? И если окажется, что нет, как вы наверняка и сами догадываетесь, то как нам тогда быть?
π 
Шеф Ганзы раклеров поднялся и попросил своих главных помощников проследовать за ним. Он извинился перед нами, и все они отошли в дальний угол Панциря. От Караколя по-прежнему не было новостей. Сов объяснил нам причину его преждевременного ухода со сцены и принятия поражения. Этот аргумент мне показался весьма экстравагантным. Зато было вполне вероятно, что на него оказали давление. В Альтиччио у него были связи, еще со
310
времен фреольского прошлого. Забытые подозрения о предательстве, которые часто тревожили нас в первый год, когда он только попал в Орду, снова всплыли в устах Голгота. Последние четыре года ни у кого не было на его счет никаких сомнений. Но мастерство настоящего предателя в том и кроется, чтобы заставить всех о себе позабыть. Сов был слишком близок к нему и даже говорить на эту тему не желал. Он не допустит ни малейших подозрений в адрес Караколя. Я мог все это обсудить только с Ороси.
Мне совершенно не нравилось, что члены Ганзы устроили тайное шушуканье, но они вскоре вернулись за стол и сказали, что хотят нам о чем-то объявить.
— Вот. Прошу прощения за наше недолгое уединение, но я хотел переговорить со своими людьми перед тем, как сделать предложение, которое коснется всех нас.
— Слушаем вас…
— Так вот, мы все возмущены решением Экзарха. Помешать вам продолжить путь к верховью, не дать даже шанса пройти через дефиле? На это мы согласиться не можем. У нас есть одно соображение на этот счет. Вой-Вратский шлюз контролируется Верховниками. Но управляем и следим за ним мы, раклеры. Думаем, что ночью, если нейтрализовать охрану, мы могли бы переправить вас за шлюз. Вам останется пройти шестьсот метров, чтобы оказаться вне зоны досягаемости: если и будет погоня, то туда никто за вами не отправится.
— Вход в дефиле всего в шестистах метрах от шлюза?
— «Всего» в шестистах метрах? К вашему сведению, эти шестьсот метров — самые сложные для контра во всем Вой-Вратском проходе! Там нет ни препятствий, ни укрытий, один сплошной встречный ветер: вы будете на входе в задний конус. Там абсолютно плоско! Шлюз здесь потому и построили, что скорость линейного ветра в этом месте
309
максимальна. Вы же знаете, что в шлюзе проложено двенадцать труб, по шесть на каждом затворе, и что эти трубы поглощают ветер и перенаправляют его по напорным трубопроводам к батареям ветряков и прочих мельниц Верховников. Так вот, в период разлива, несмотря на отверстия труб, затвор все равно напополам гнется, да так, что нам приходится разъединять скрепления, снимать трубы и открывать шлюз. Теперь вам немного яснее, какая там сила течения?
— Можно глупый вопрос: сейчас период разлива?
— Нет, пока он только начинается. Но через неделю о переходе даже думать нечего будет! Наши примораклеры, те, кто работают на самом верховье, в пятистах метрах под шлюзом, через пару дней остановят просейку на полтора месяца. А они из крепкого десятка, надо сказать. Но и для них течение слишком сильное.
— Значит, решать нужно быстро, — сделал вывод Пьетро.
— Решено, стихоплеты! Выходим сегодня ночью!
) 
У Голгота был один недостаток — ну или достоинство, как посмотреть, — уши у него всегда оказывались в нужном месте. Он незаметно подошел к столу, делая вид, что разговаривает с группкой потенциальных фаркопщиков, но на самом деле внимательно слушал наш разговор. Затем подошла Ороси, а с ней Степп и Аои. С Тальвегом, Пьетро да двумя ловчими нас всего собралось девять ордийцев за столом из красного гранита. Трактирщик плеснул масла в дыру по центру стола, поднес спичку, и все озарилось. Постепенно вокруг выстроился плотный крут любопытных. Шеф раклеров окинул взглядом присутствующих, дал команду вытолкать самых докучливых, а с ними и потенциальных доносчиков, и разговор пошел дальше.
308
— В качестве сюрприза это, конечно, было бы идеально. Но мне кажется, вы слишком торопитесь. Где ваши сани? Вы действительно считаете, что готовы к переходу сегодня ночью?
— Як!
— Нет, мы не готовы, — спокойно отрезала Ороси. — Как минимум по двум причинам: Караколь до сих пор не вернулся, и я не покину Альтиччио, не изучив рукописи, хранящиеся в Аэрофареоле.
— И на кой черт все это? Караколь нас предал, а книжек ты и так уже достаточно начиталась!
— Ты не прав, Голгот. В фареоле хранятся самые подробные карты Дальнего Верховья, какие только можно найти. Редчайшие секретные сведения, каких нигде больше не найдешь. Рассказы первопроходцев. Журналы аэромастеров. Не воспользоваться ими было бы просто глупо. О дефиле Вой-Врат проводились углубленные аэрологические исследования. О Норске тоже.
— О Норске? Там есть данные о Норске?
— Разумеется.
—
Пласк! Сколько тебе нужно времени, чтоб проглотить всю эту писанину?
— Неделю, если буду одна. Но если Сов пойдет со мной, то вдвое меньше.
— Дня три, скажем?
— Допустим.
— Примерно столько же времени нам потребуется, чтобы собрать надежный эскадрон, — решился добавить шеф раклеров. — Нам все подходит. Но вам придется сбить с толку Экзарха и всю его братию. Нужно будет водить их за нос все эти три дня. Вам лучше вернуться наверх, сделать вид, что вы готовите прошение о помиловании, привлечь внимание двора к ложным слухам…
307
— Сделать вид, например, что мы собираемся идти через Малахиты? — предложил Степп.
— Почему нет. Или вступить в переговоры с важными придворными, попросить аудиенции у графов, покорно прося их о поддержке, — плести интриги, короче говоря, играть в их игры: это самый надежный способ отвести от нас всякие подозрения.
— Мы с Дарбоном берем это на себя, — заявил Пьетро. — Тем временем нужно будет изучить трассу и приготовить необходимое снаряжение.
— Арваль и Тальвег займутся трассой вместе с Голготом. Я подправлю, если необходимо, в зависимости от того, что мы найдем в Аэробашне.
— Когда ты планируешь туда идти, Ороси?
— Сейчас. Сов пойдет со мной. Но нам нужен будет Эрг, чтобы попасть внутрь. Башня охраняется.
— Я думал, ты имеешь доступ к башням аэрудитов, ты же аэромастер!
— Не к этой, Пьетро. Экзарх отказал мне в доступе, как только мы прибыли в Альтиччио. Я попробовала войти, но меня сразу выпроводили!
— Это недопустимо! Почему ты нам не сказала?
— Испытания на тот момент были важнее. К тому же я думала, что у меня еще будет время…
Аэрофареол был для любого скриба сродни мифу. Ороси была со мной в тот вечер, в Шавондаси, когда мы поняли, что Легкая эскадра ушла, не дожидаясь нас, когда я распечатал письмо от Нушки, эту легкую, бессодержательную прощальную записку, фривольную и краткую, лишенную всякого волокна, из которого я мог бы нить за нитью, упрямым рукодельцем, в память о нас двоих, в будущее, где ее никогда не будет, сплести на свой манер память о нашей истории. Ороси не пыталась меня утешить
306
напрямую, в ней было слишком много такта и элегантной чувствительности. Она предпочла рассказать об Аэробашне, о том, что в ней содержалось, она пообещала взять меня с собой. И сегодня сдержала слово, она…
Мы очень сблизились за последние несколько месяцев, по большей части благодаря принятому ей на Лапсане решению научить меня всему тому, что она знала о ветре и хронах. Мы провели множество интереснейших бесед и глубокомысленных разговоров. И хотя весь мой опыт был либо чисто эмпирический, либо вычитан из контржурналов, попадавших мне в руки, все же он дополнял знания Ороси, многим более точные по части аэрофизики ветра, и ее кинетический подход к изучению хронов, в то время как я ориентировался по эффектам метаморфоз.
За эти несколько месяцев я научился смотреть иначе на Ороси. Мне удалось пробиться сквозь видимый налет строгости, который немало отталкивал других и в котором она сознательно себя запирала. Я научился вернее слушать тембр ее ясного голоса, вернее чувствовать по внезапной скованности всегда легких движений, что ее задевает, что ранит. По тому, как она убирала по утрам свои длинные черные волосы, какую бабеольку выбирала, по степени ее заботы о группе, в особенности о девочках, по ее порой лобовой, порой косвенной или ироничной твердости по отношению к Голготу, — по всему этому я научился определять, в каком она настроении и когда я могу проявить нежность, а когда лучше не стоит. У нее, у нас, проскальзывали жесты, моменты мягкости, которые наверняка ничего не значили, не предполагали, что между нами что-то есть, но говорили о нашем согласии, о нарастающем понимании друг друга с полуслова, о нашем единении и интеллектуальном, и эмоциональном.
— Сколько входов в башню?
305
— Один.
— Всего один?
— Да, главный вход. Он находится в двадцати метрах над рекой. В этом месте башню описывает кольцо в два метра шириной и платформа перед дверью, небольшая, на такую даже баркарола не станет.
— И два охранника?
— Да. Днем и ночью.
— И ни одного другого входа? Может, где-то окошко, люк, выход на крышу? Балкон?
— Насколько я смогла рассмотреть при полете над ней — ничего нет. Ось ветряка зацементирована прямо в камни, а звук выходит по трубам органа, через стены.
— И как я, по-твоему, могу туда войти, не уложив охрану? Ты меня просишь о невозможном, Ороси! Башня круглая? Из чего она?
— Круглая, да, но из чего не знаю. Выглядит странно, неоднородно. Я заметила аркоз, серый гранит, блоки шлифованного мрамора, кирпича и даже немного дерева в некоторых местах. Похоже на мозаику, на какую-то причуду, как будто у них камня не хватило при стройке.
x 
Эрг посмотрел мне прямо в глаза. У него на шее было два пореза и свежий след от сильного удара на щеке. Лицо его
оставалось закрытым все время, что я говорила. Но теперь что-то в нем изменилось, со лба ушло напряжение, волна пустила морщинку вокруг глаз. Он о чем-то задумался, потом почти улыбнулся и вдруг снова напрягся:
— Есть только один способ. Если ты непременно хочешь сделать все по-тихому…
— Это обязательное условие, Эрг.
— Придется разобрать каменную кладку в стене.
— Ты серьезно?
304
— Не серьезно. Только если ты хочешь попасть в слепую башню не через входную дверь и не подняв при этом тревогу, то интересно, как ты это сделаешь? Тут два варианта: разобрать или крышу, или стену!
— А почему тогда не крышу?
— Потому что я эту крышу с полета видел, она слишком светлая, на ней любое темное пятно будет видно с верхних башен. Если подняться по стене на шестьдесят метров с противоположной от входа стороны, можно будет разобрать кладку так, чтоб меня никто не заметил. Прямоугольника тридцать на шестьдесят будет достаточно. Я уже раньше это делал. Первый блок вытащить сложнее всего, остальные нужно потом просто протолкнуть внутрь. (…) Так, ладно. Я пошел. Поставлю помеху внизу башни и в атаку.
— Помеху?
— Да, маленький ветрячок, от него такой гвалт стоит, будто собаки лают. Вернусь за вами через полчаса максимум. Подниму вас наверх.
— А ты пешком, что ли?
— Я ж не буду там полчаса с крылом торчать! Возьму его, чтобы вас поднять. А пока так взберусь…
— Шестьдесят метров вверх по стене? С голыми руками?
— А ты что хочешь, чтоб я там концерт из карабинов устроил?
) 
Эрг вышел, не дожидаясь нашего ответа. Думаю, наша просьба его, мягко говоря, не порадовала. Он бы, конечно, предпочел остаться здесь, рассказывать свои истории и попивать пиво, чем отправляться на очередное рискованное задание, да еще и с установкой, которую терпеть не мог: работать без шума. Но он все сделал. Когда он
303
вернулся за нами, то просто молча зацепил Ороси за свою обвязку и тут же взлетел, а через четыре минуты уже вернулся за мной. Бесшумное крыло взмыло над невысокими башенками и дугой перенеслось на верхнюю треть Аэробашни, которая в это время выглядела как огромный монолитный блок. Дыра, которую он проделал в стене, была настолько узкая, что я даже не сразу ее заметил. Затем из отверстия показалась рука Ороси, Эрг перевернул меня и в горизонтальном положении запихнул внутрь головой вперед.
— Заставьте назад камни, я смываюсь! — шепнул он и исчез, прежде чем я успел поблагодарить его знаком.
Действуя на ощупь, мы наспех заложили отверстие камнями. Внутри воцарилась кромешная темнота. Мы шли по паркету, держась за руки. От непрерывного воркования лопастей наверху фареола тишина здесь делалась еще гуще. Ороси сначала долго вслушивалась в каждый шорох, потом наконец успокоилась и решила зажечь свой стеклянный шар. Она уложила его в нечто вроде гнездышка из волос в шиньоне, зажгла другой и протянула мне. Мы должны были оказаться в библиотеке. Каменная лестница по диагонали прочерчивала стену, поднимаясь к верхнему этажу, на противоположной стене такая же лестница вела вниз. Пространство зала занимали три веленевых кресла, покрытых надписями, выполненными вручную. Помимо них не было ни мебели, ни полок. Ни следа книг.
— Давай поднимемся. Это, наверное, читальный зал — прошептала Ороси.
На следующем этаже оказался такой же пустой зал, если не считать четырех сшитых из велена кресел и журнального столика. Пригнувшись, я заметил на паркете знаки. На нескольких параллельных дощечках были выжжены партитуры сламино, который я узнал без особого
302
труда по равномерному чередованию запятых (замедление) и апострофов (шквалы). Но, присмотревшись внимательнее, я понял, что этот вариант мне неизвестен. В нем были «!» (блааст), выглядевшие беспокойно в общем тихом строю сламино.
— Думаешь, в башне кто-то есть?
— Не знаю, Сов. Давай поднимемся еще…
x 
Мы поднимались этаж за этажом, но и там ничего не было, ни книг, ни библиотекаря, ни аэрудитов. Меня ввели в заблуждение? Книги перенесли в другую башню? На паркете, на потолке, а нередко где и на стенах были надписи из слов, порой предложений, но и все.
На шестом по счету этаже лестница прервалась. Я подняла голову вверх, мой шар осветил покатую крышу — было очевидно, что мы добрались до вершины башни. И здесь, в этом месте, больше походившем на чердак, нежели на библиотеку, наконец оказались книги. Их было бесчисленное множество: в кожаных переплетах, в свертках. Стеллажи располагались так плотно, что напоминали узкий лабиринт. Я начала перебирать названия из первого прохода, на котором красовалась табличка «психроны». Я уже довольно далеко прошла по ряду, когда раздался скрип кожаного кресла, и я подскочила от ужаса. Мой световой шарик упал и разбился вдребезги. Все погрузилось в густую тьму.
— Добро пожаловать в Аэробашню, Ороси Меликерт, дочь Мацукадзе… Вы наконец решились нанести нам визит, невзирая на запрет Экзарха…
— Да…
Голос приближался. Я понятия не имела, где Сов.
— И какой же вид знаний вы надеетесь получить здесь, который еще не извлекли ранее и которым не овладели
301
путем ваших собственных размышлений, Ороси? — продолжал голос уже совсем близко.
— Я пришла ознакомиться с картами… с аэрологическими сводками…
— Это то, что вы ответили бы Экзарху, если бы он вас здесь застал, Ороси. Но настоящий ответ совсем другой… Не так ли?
Дыхание у него было очень хриплое, мощное, втягивающее.
— Возможно…
— Несомненно… Вы пришли узнать три вещи: что находится на Верхнем Пределе, какова восьмая форма ветра и кто такой в действительности ваш трубадур… Ваш вихрь очень тонок, мадемуазель, но вам стоит научиться спутывать его след…
) 
Я обошел источник звука и присел, укрывшись в перпендикулярном проходе. Мой шар потух, как только человек заговорил, но оставался у меня в руках. Голос приближался, скоро окажется прямо напротив моего прохода, и я смогу…
— Сов Севченко Строчнис, ваш отец был фаркопщиком, а не убийцей стариков, оставьте, будьте добры, ваш шар…
Он взял меня за руку и сжал, не сильно, просто чтобы остановить. Шар вдруг снова зажегся, и у голоса появилось лицо, высветившееся в ореоле свечи, — я невольно отпрянул… То, что я увидел, едва ли походило на человека. От его геометрических форм стыла кровь. Посреди выступал нос с размытыми ноздрями, а вокруг от него, как будто он сам приложил руку к своему лицу и повернул его на четверть оборота, расходились морщины, закручивая вместе с собою рот, скулы, орбиты желтых глаз, надбровные дуги…
300
— Вы, молодой скриб, вы пришли за очень странной и непростой вещью. Вы пришли узнать, что значит «быть живым». Ни одна книга не откроет вам этого, мой мальчик, но вы, несомненно, из тех, кто сможет и сам написать ответ на этот вопрос, кто знает.
— Кто вы? Кто вы такой, чтоб так легко читать все, что в нас скрыто? Хранитель фареола? Аэрудит?
— Я тот, кто
получил знание из книг, что вы здесь видите. Кто был научен опытом других и тем, что мне самому довелось узнать за пределами Норски. Позвольте мне представиться, мое имя Нэ Джеркка, я обитаю в Аэробашне вот уже сорок лет. Но я не хранитель, книги не нуждаются во мне, они хранятся сами по себе.
— Значит вы…
— Я старший брат Тэ Джеркка, верно. Мой брат внимательно следил за вами весь ваш путь. Я рад, что вы наконец пришли. Я жду вас уже добрых двадцать лет.
Старик зажег светильники, и зал наполнился светом. Он предложил нам сесть, указав на два кресла. У Ороси навернулись слезы на глаза, мне было не по себе. Харизма, которая исходила от этого перекрученного лица, была настолько пронзительна, что он сразу вызывал к себе уважение и неукоснительное послушание:
— Когда я решил здесь уединиться, башня была всего метров пятьдесят в высоту, не больше. Но из года в год к ней добавлялись новые этажи, чтобы разместить все прибывающие книги. Теперь она слишком высока и не так плотна, как раньше: слишком много написано книг, слишком много путевых дневников Диагональщиков, которые я храню здесь по дружбе; слишком много научных трактатов, лишенных значимости, без малейшего понимания хронов, слишком много знаний уже узнанных, уже отточенных…
299
— Вы поэтому освободили нижние этажи?
— Освободил? — поперхнулся от смеха старик. — Я ничего не могу освободить, к несчастью, хотя очень бы этого хотел!
— Но на нижних этажах нет ни одной книги!
— Вся Аэробашня сделана из книг, мадемуазель, от основания и до кровельной плитки. Каждый блок, составляющий стены, каждая планка паркета, все вертикальные и горизонтальные поверхности — все это книги. Это единственная на свете библиотека, полностью сделанная из книг. Но в подавляющем большинстве, это книги, в которых нет страниц. Они выгравированы на кирпичах из глины и гипса, на мраморе, кубиках олова, плитках серебра и бронзы, дубовых шариках, которые затем помещаются в стены башни. Архитектура Аэрофареола уникальна. Это единственная башня во всем городе без швов и стыков. Сто десять метров сухого камня. Можете достать какой угодно блок, и стена не рухнет. Все книги можно по-прежнему прочесть. Видите керамические призмы прямо под крышей? Этим книгам не более двух лет. Но если спуститься на уровень входной двери, то вы увидите, как древний мир расшифровывал ветер… Вы, кажется, удивлены, господин Строчнис?
— Да. В таком случае книги, формирующие башню, если я правильно вас понял, должны быть очень краткими. На блоке можно выгравировать совсем немного…
— В этом и заключается вся гениальность создателя, задумавшего эту библиотеку, но мне кажется, его гений не понят в наши дни. Благодаря решению принимать исключительно блоки, он понимал, что книги, которые к нему поступят, будут невероятно плотными. Он знал, что выбранное им условие высекать их буква за буквой на ограниченной поверхности потребует предельно сжатого
298
изложения, собранной мысли, ценнейшей для жизни, афористичной. Он не хотел сделать из своего фареола самую большую библиотеку в Верховье, загруженную свитками и кодексами. Он хотел, чтобы это место стало чудом компактности с пустыми залами, в которых можно читать и мыслить. Я слегка смягчил его идеал, согласившись принимать весь этот пергамент, который вы тут видите. Но порой разбавленное знание принять легче, чем настойку мудрости, особенно когда годы берут свое.
— Вы услышали, как мы вошли в башню?
— Нет, я теперь очень плохо слышу. Но я почувствовал ваше приближение с уважением и трепетом. Как и мой брат, я обладаю некими способностями в аэрофизике. Каждый из нас, как вам известно, деформирует вокруг себя пространство и протяженность времени. Просачивающийся в башню ветер чуть заметно выгнулся, и меня это заинтриговало. У каждого из нас своя эмоциональная скорость, свой пищеварительный ритм, свои порывы и стремительность. За две декады непрерывного внимания становится возможным почувствовать, как течет вода и кровь в телах тех, кто сюда захаживает, ощутить втянутый и выброшенный назад в пространство воздух, угадать узлы, сплетения. Я имею в виду в ткани воздуха. Я иногда использую эти возможности.
— Значит, вы владеете искусством вихря…
— Можно и так сказать… Но им владеют все, просто каждый по-своему. Мой брат — мастер на всякие великие приемы в этом деле. Мне же более всего интересна связь между вихрем и временем сквозь понятие протяженности.
— Сколько вам лет, если позволите спросить?
— Сто девять в ламинарном счете.
— Но вы меняете время в ваших органах, не так ли?
297
— С возрастом все становится не так просто, но все же. Скажем, я способствую разрыву ритма внутри себя. Я поочередно замедляю одни органы, чтобы ускорить другие. Я главным образом создаю дифференциальные скорости между вдыхаемым воздухом и внутренней жидкостью, между органами и выдыхаемым воздухом. Время не монохронно, как это представляется в плоских головах людей. Долгота жизнедеятельности печени, колена или легкого несопоставимы. Ее нельзя обеспечить простым замедлением процессов их существования. Но ее можно увеличить, ускорив воздух, придав ему собственную скорость, по отношению к которой орган, функционирующий в привычном темпе, начинает биться медленнее в новой для него экономии тела, выстроенной вашим собственным круговращением. Это не многим отличается от дикции, от того, как можно передвинуть паузу, ускорить ноток речи. Или, напротив, заговорить медленнее… Все, что теряет скорость, делает это только за счет начальной или последующей скорости самого речевого оборота. То же относится и к письменной речи, разумеется.
x 
Сказав это, он откинулся на спинку кресла и по-кошачьи прикрыл глаза. Спираль, скручивавшая его лицо, была самой выразительной из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Она свидетельствовала о сверхчеловеческом превращении, посредством которого этот старик себя перевоплотил. Глядя на него, я впервые подумала, действительно ли готова идти так далеко, как поклялась себе, будучи ребенком. Готова ли я на чтобы достичь ясности вихря? Густое одиночество растекалось от него во все стороны. И хоть это и было одиночество широкое и созидательное, оно пропитывало стены Аэробашни, забивало все щели. То было редкое одиночество, присущее
296
тем, чья способность порождать новое хранит их от опустошения, кто не нуждается в ином космосе, кроме того, что разворачивается их собственным умом посредством поиска и открытий, благодаря чему Нэ Джеркка день за днем отодвигал от себя своим упорным ростом заточение, всегда остававшееся возможным.
— Я редко выхожу из башни, это правда. Верхнежителям не очень по душе та сторона вихря, что отразилась на моем лице. Люди любят белобородых аэрудитов, что проповедуют вкрадчивую мудрость. Они боятся знания, что сметает все на своем пути. Когда мне совсем надоедает тень, я беру одну из книг на крыше, чтобы посмотреть на небо. А иногда достаю несколько блоков из стены, любуюсь через отверстие на Альтиччио и улыбаюсь солнцу.
— Мы…
Сов хотел прервать его. Он знал, что у нас в распоряжении всего три дня, и напрасно думал, что я торопилась взяться за книги.
— Вы хотите ознакомиться с книгами, не так ли? С чего вы хотели бы начать?
— Лично я, — продолжил Сов, полагая, что поступает правильно, — хотел бы просмотреть труды о хронах, обладающих рефлексивным сознанием…
— Вам интересны автохроны? Сведущий выбор, молодой человек. Лучшие труды по этому вопросу — самые древние. Спуститесь на восемь этажей, и вы найдете то, что ищете. Но будьте любезны не шуметь. В этом зале уже есть один читатель.
— А я бы хотела увидеть карты Дальнего Верховья, которые у вас имеются.
— Наиболее точная прочерчена на восточной части потолка двумя этажами ниже. Вы наверняка ее заметили,
295
когда поднимались. Если хотите ее скопировать, то в подлокотниках кресел есть чистые свитки бумаги.
— Благодарю. И еще я хотела бы вам задать один личный вопрос, мастер. Но я думаю, вы уже почувствовали его во мне…
— Спрашивайте так, как если бы я ничего не чувствовал, Ороси.
— Моя мама тоже была здесь?
— Да, конечно. Она пробыла здесь месяц.
— Месяц? Вы могли бы мне сказать, что она искала?
— Эти вещи, как правило, держатся в секрете. Но ваш случай особенный…
— Чем именно?
— В Аэробашне содержится девять совершенно незаурядных трудов, что едва ли можно назвать книгами. Один из них — шестигранник из непрозрачного стекла, размером в две ладони. Я называю его эокнигой. На его поверхности можно писать пальцем. Если выбирать простые слова, то ничего не будет. Но если записать партитуру ветра, если, даже случайно, вы зафиксируете любую последовательность из двадцати одного знака в системе пунктуации, что служит для записи ветра, то его поверхность станет прозрачной и указанный ветер появится внутри куба. Ветер в нем словно записан в миниатюре, в виде жидкого воздуха, изумительное зрелище. Ваша мама провела месяц, проделывая аэрологические симуляции по партитурам, которые нашла по Норске. Она хотела понять, что ждет их в дефиле, увидеть ветер.
— Она не пыталась узнать, что находится на Верхнем Пределе? Каковы последние формы ветра?
— У многих аэрудитов, которые здесь бывают, страх узнать истину парализует любознательность. Ваша мама прочла первый аутентичный блок о Верхнем Пределе,
294
который я ей посоветовал. И больше ничего не захотела о нем знать.
— Где находится этот блок? Я хочу его прочесть.
— Третий этаж. Вы легко его найдете. Это единственный золотой слиток во всей стене. Ороси?
— Да?
— Мое положение обязывает меня предупредить вас. Чтение этого блока может изменить вашу жизнь. А также жизнь Орды.
— Полагаю, я здесь, чтобы срезать с себя пару засохших веток глупости.
— То, что вы узнаете, может срубить сразу целый ствол на корню.
— Я очень благодарна вам за вашу предусмотрительность, мастер. Но я прочту этот слиток. Я жду этого вот уже двадцать лет. И думаю, что готова.
— Да, вы готовы. В каком-то смысле. Но не вполне.
Ω 
Так, ладняк! Похоже, штуковина будет дикая на этих Вой-Вратах! Трехкилометровая кишка из чистого камня, и по ней шквалом тебе в рожу, а ты тащись локтями в завихряки и ударными в ламинар всю дорогу по соплу! Ни тебе норы какой-нибудь, куда забиться можно, ни выступа, одни вихряки да плиты отшлифованные, по которым щебняком все ноги отдолбит… Тальвег мне свои карты показал, раклеры по стойке смирно выстроились, расписывали нам, как мы там кварца нажремся, как нам пузо раздербанит, «упадешь — тебе крышка», у них от страха аж ручонки затряслись, у вышибал этих шлюзовых. Ты оттуда обратно даже не думай, раз зашел — выход с другой стороны, если назад ломанешься, тебя как бумерангом на решетку шлюзовую зафигачит. Заставили и меня трухнуть. На таких глянешь — сразу видно, что знают, о чем
293
говорят. Те еще здоровилы, только рожи перекошенные. Они место знают, это уж точняк. Там у каждого по дружку найдется, один боевитее другого, кто б хоть раз да попробовал сдрапнуть отсюда через проход, курсом на Надежду, на Верхний Предел. Ну так остальным после них небось меньше хотелось. Заходили поздороваться, воспитанные, ничего не скажешь, только вот малость покореженные, то бедро не на месте, то еще что-то в этом роде, не сказать, чтоб чистяком раны посходились, чуток помяты лицом, малеха мертвые, короче.
Я тут отыскал двух перцев, достаточно древних, чтоб припомнить две другие Орды, которые тут до нас прошли: 32-ю и 33-ю. Мой дед, седьмой Голгот, — это его кровь у меня в жилах, оно всегда так через поколение бывает, — так вот у него была мысль неплохая, как мне тут рассказали: он притащил двух горсов прямо в устье посмотреть, как зверье поскачет по коридору. Эти рыльники повсюду проходят. Говорят, они немного соплами поворотили и погнали к верховью, а мой дед следом за ними, не промах был. Он четверых в тот раз потерял — все равно меньше, чем мой папаша, тот ублюдок, что меня на свет через мою мамашу выплюнул. Тот фланговиков вперед бросил. Они там нащелкали закладками по всем щелям, обмотались репшнуром, как на ярветер в поле. Как попало, лишь бы живо! В конце Пака их так шманало, что фаркопщиков прямо со входа размазало о стенку. Раклеры за ними в бинокль смотрели, как тех швыряло. Да и кто б опорные удержал, если тебя привязать, как кусок тухлятины, на крюк!
Каким макаром мы пойдем, я еще пока сам не решил. Жду, когда Ороси вернется со своими аэроданными. Тальвег меня пока по почве просветил. Я думал пойти фронтальным ударом, Пак поставить каплей, лучше потом по
292
ходу подправлю строй, смотря какой угол атаки будет у шни в этой кишке. Я как-то не очень хочу ползти там по плитам, сцепление будет дерьмовое, а шлемы из свинца лить времени нет. Паку придется хорошенько подобраться и толкать сзади. Судя по скоростям, которые передают по анемо, то в лучшем случае Клинок сможет просто на ногах устоять. Но ни шага вперед мы не сделаем. Шансов ноль, тут мечтать не приходится. Если остальные у нас за спинами толчка не дадут, то нас как на тельфере назад всем блоком оттащит. Нужно будет отработать строй, прежде чем соваться в щель к этой дамочке…
) 
Нэ Джеркка одолжил мне отличный масляный фонарь, и я не спеша спустился на восемь пролетов вниз, то и дело останавливаясь прочитать надпись на стене, расшифровать, что написано на полу, рассмотреть карты на потолке. Названия в основном были указаны на видимой стороне блоков, а по бокам сделаны две небольшие выемки, чтобы их легче было вынуть и поставить на место. Большинство из тех, которые я достал посмотреть, были исписаны мелким почерком по всем шести поверхностям, хотя некоторые содержали всего одну фразу.
Я случайно наткнулся на два стоявших рядом блока с заглавием «
Жить». Заинтересовавшись, вынул первый, присел на ступеньку и прочел:
«Проживай каждый миг, будто он последний». Взволнованный и потрясенный, я поставил книгу на место и, дрожа, вынул из стенки вторую. Судя по стилю, она принадлежала тому же автору:
«Проживай каждый миг, будто он первый».
Я поставил второй блок на место, и чувства захлестнули меня. В этих двух фразах было столько силы, столько глубины жизненного толкования, что они совершенно
291
ослепили меня, сбили с ног, спирали этой мысли пронзили меня, глубоко врезались в плоть и пробурили в ней отверстия, через которые внутрь начал струиться воздух, а с ним в тело тут же попал нектар прочтенных мною слов. Я плохо понимал, что происходит, но чувствовал, как они делают почву во мне плодородной, как готовят ее к долгому и прихотливому цветению. Мне стало понятнее, что Нэ Джеркка имел в виду, когда говорил о
компактности. Одним словом, жизнь моя больше не была прежней — все вдруг сдвинулось, обрело новые грани, о которых я раньше даже не догадывался, она словно оказалась в схватке с самой собой, с нее слетела вся шелуха под лезвием столь точного идеала, что теперь я не в силах буду о нем позабыть, отныне он лишал меня оправданий и легких отговорок, в общем, меня захватило целиком. «
Жить» будет теперь моей настольной книгой, из тех, что цитируются по памяти.
Я все еще был под впечатлением от случившегося, когда дошел до нужного этажа. Нэ Джеркка предупредил, что в этом зале уже кто-то есть, и я старался ступать без шума, чтобы не мешать. Крошечный лучик света виднелся в темноте огромного зала и освещал блок в руках читателя. Я нерешительно поздоровался, но сидевший в кресле мне не ответил, и я стал светить своим фонариком по поверхности стен. Но вот читатель встал и, не убрав предыдущий блок, отправился за следующим. Пол рядом с креслом усыпали деревянные дощечки, глиняные кирпичи и слитки. Когда посетитель снова сел, я находился как раз в метре за его спиной и не удержался, чтобы не бросить на него любопытный взгляд. У него, а может у нее, были светло-каштановые кудри. Человек, видимо, был достаточно высокого роста. Я передвинулся, стараясь не привлекать внимания, и стал вглядываться в его лицо, сначала
290
со спины, потом в профиль. Когда же увидел на плече накидку с расцветкой арлекина, то аж подпрыгнул:
— Караколь?! Карак… Это ты?
— …
— Карак, это я, Сов!
— Угу…
Голос у него был как у человека, которого потревожили в глубочайшем сосредоточении. Взгляд его был устремлен на куб, по которому он продолжал водить пальцем, и трубадур даже не поднял головы, чтобы поздороваться со мной.
— Эй, Карак, ты в порядке? Я за тебя переживал! Мне удалось остановить Масхара Лека! Но мы нигде не могли тебя найти, не знали, нашел ли ты, где спрятаться. Между Верхнежителями и раклерами завязалась драка, и мы по итогу оказались в Панцире. А потом мы с Ороси решили отправиться сюда. Но я и думать не гадал, что ты тоже тут окажешься!
— …
— Я рад, что нашел тебя… Ты такое состязание им закатил!
— …
— Караколь? Ты меня вообще слышишь или нет?
Я вырвал блок из его рук и положил книгу на пол. Мой жест вывел Караколя из оцепенения, он посмотрел на меня долгим, прозрачным взглядом, но потом, похоже, на самом деле понял, что я здесь.
— Привет, Сов. Ты что тут делаешь? — безразличным тоном спросил он.
— Пришел читать об автохронах… Как ты сюда вошел?
— Через дверь.
— Охранники тебя пропустили?!
— Нет, но я все равно вошел.
289
— Ты весь сам не свой, Карак. Ты еще в себя не пришел? У тебя проблемы?
— Может быть. Но это не имеет значения.
— Почему не имеет? Для меня имеет. Я могу тебе помочь!
Он с любопытством взглянул на меня и, пользуясь моментом, поднял с пола свой блок. Я разглядел на корешке:
Рассасывание автохронов.
— Никто не может мне помочь.
— Но Масхар Лек обезврежен! Мы пройдем через Вой-Врата через три дня! Никто больше не сможет покушаться на твою жизнь, как только мы покинем Альтиччио!
— Моя жизнь, как и твоя собственная, подвластна девятой форме. Преследование не имеет значения. Настоящая опасность в девятой форме. Прочти, сам поймешь. Прости, Сов, мне сейчас не хочется беседовать. Я хочу понять.
— Ты знаешь, какова девятая форма?
Но он оставил мой вопрос без ответа и углубился в чтение блока. Я не настаивал. У меня были странные впечатления от этой встречи, которая меня, откровенно говоря, немало покоробила. Мне было неприятно и даже больно чувствовать его отстраненность спустя каких-то четыре часа после состязания, которое нас так сплотило. Порой от столь внезапного безразличия меня словно обдавало холодом, от него покрывались инеем все прожитые вместе моменты взаимопонимания, потому что оно обрывало столь важную для меня связь, а я нуждался, что скрывать, в этом постоянном переплетении с ним. Караколь же был человеком исключительно настоящего момента, все остальное он моментально забывал. Интерес, который он питал к людям, зависел не от крепости дружеской нити или от давности знакомства, но скорее от способности
288
расстроить образ, который он о вас сложил, постоянно вести себя и реагировать не так, как предвещала его непревзойденная интуиция. Стать его другом не составляло большого труда, но для того, чтобы оставаться его другом, необходимо было безустанно удивлять трубадура, на чем он настаивал, сам того не замечая. В определенном и весьма парадоксальном смысле Караколь требовал
дисциплины от тех, кто его окружал, пусть это и была весьма странная дисциплина отказа от привычного, воздвигнутая в ранг искусства жить, я бы даже сказал искусства оставаться живым. Никогда не довольствоваться просто тем, чтобы быть собой, ведь тогда он с легкостью разгадывал вас, и вы быстро ему наскучивали. Стать другим, а затем иным, чем тот, другой, бесконечно меняться: вот главное условие, чтобы его интерес к вам не угасал.
Я перечитал одну за другой все книги, что он достал из стены. Все они были об автохронах: об их происхождении, содержании, известных категориях, опасностях и воздействии… В одной из книг упоминался Дубильщик, за четыре столетия до нашей встречи. В другой говорилось о пророке, получившем имя
Amor Fati, который питался человеческой любовью. А в одном из блоков поднимался, в самом что ни на есть «блочном» стиле, вопрос смерти автохронов. На одной из сторон речь шла о девятой форме ветра:
«9-я форма ≠ смерть. 9-я = смертьвжизни = внутренниесилы подрывают связь каждогосущества. Лучшийтермин будет энтропия, но экзоморфоз былбыточнее, означает: умереть = трансформироваться или выйтиизформы. Хоть 9-я есть ветервихрь, как и 8-я, 9-я способствует смерти, ускоряя экзоморфоз. 9-я разрывает-рассеивает; 8-я содержит-соединяет-организует. У автохронов против 9-й применимы три способа:
287
1. Поглощение вихря других существ (пр.: Дубильщик);
2. Регулярное поглощение специфической для хрона материи (пр.: любовь у Amor Fati);
3. Нарастание внутреннейсвязи при формированиипамяти или формировании душевных связей или иногда при регенерациивихря через постоянныйпривнос разнообразия & обновления (пр.: Карахрон)».
x 
Карты были исключительного качества. Они с точностью указывали наиболее частый тип ветра в каждом регионе, возможные варианты и используемые техники контра. Рельеф и препятствия были идентичны местности, как и обозначенные почвы, источники воды, растительность и фауна. По сравнению с этим карта вдоль позвоночника на спине Голгота, бравшая начало в Шавондаси и доходившая до подножья Норски, выглядела просто грубым наброском! Уже хотя бы ради них стоило сюда заглянуть. Проходя мимо, я заметила металлические коробки, составленные одна на другую и встроенные в стену. В них лежали горы свитков с аэродинамическими схемами высокого уровня о строении аэроглиссеров, контрасов, буеров и кораблей. А еще были целые трактаты о флоре, от которых Степп бы позеленел от радости. Что касается восьмой формы, я записала, где находятся нужные мне книги. Откровенно говоря, мне удалось немного обмануть любопытство, которое уже целый час меня съедало, но я больше не могла бороться со своим желанием: я должна была прочесть слиток о Верхнем Пределе, который так подкосил мою маму. Я должна была встретиться лицом к лицу с шоком истины.
Я нашла его без труда. На золотом корешке красовалось название «
Верхний Предел». Я села в кресло, поставила
286
лампу и, закрыв глаза, погладила книгу по всем шести граням параллелепипеда. Пять из них были совершенно гладкими, только на одной что-то было выгравировано, на ощупь слов в ней было очень мало. Давай, Ороси, смелее. Пора узнать, что там, читай:
— Верхнего Предела нет.
¿' 
«Наука о хронах долго зиждилась на трех категориях: хроны как таковые, или хротали, согласно современной терминологии, которые воздействуют на локальное течение времени; сихроны или физические хроны, которые осуществляют метаморфозы на окружающий мир в точке их пребывания; психроны или психические хроны, которые питаются определенными человеческими чувствами: страхом, любовью, радостью и т. д. К этим трем категориям добавляют автохроны или хроны, обладающие сознанием. До их открытия хроны считались силами слепо метаморфозными и лишенными какой-либо интенции (…) Природа трансформаций, осуществляемых хроном, позволяла определить его категорию (…) Акваль поглощает любую водную частицу, что встречается на его пути. Если (даже) у него и имеется тенденция искать источники воды, то ничто (никогда) не доказывает, что он делает это намеренно (…) Автохроны, как и остальные хроны, состоят из сверхскоростных витков и узлов ветра. Их происхождение активно оспаривается, так как (…) Гипотеза об определенном типе замкнутого цикла внутри хрона объясняет лучше, на наш взгляд, рождение частной субъективности (…) было выдвинуто предположение, что автохрон происходит от психрона (…) Так или иначе, формирование и использование автохронов Советом Ордана никогда не было установлено (…) подобные клеймящие соображения — не более чем слухи, бесчестящие своей
285
низостью распространяющего их (…) их сопротивление к рассеиванию оставалось слабым, особенно в первые годы, когда автохрон буквально придумывает свое сознание и определяет в слепоте вихрей, что его составляют, свою собственную физическую консистенцию (…) центральная проблема консистенции (…) частая самодисперсия, что равносильна смерти (…) постоянная потребность в скорости (…) отчаянный поиск психических и физических элементов подпитки, что способствуют гетерогенезу, — росту путем получения извне новых элементов (…) самый исчерпывающий пример на сегодняшний день — Дубильщик (…) исключительная продолжительность жизни (…) неоднозначные отношение с человеческими существами (…) похоже, что автохрон нуждается в эмпатии, фактор внутренней связности для него (…) вопрос о том, идет ли речь о новом разумном виде, неверно сформулирован (…)»
Отличный справочник, дорогие предки, чудесная книженция, в кожаном переплете, и все же не могу спокойно сесть и прочитать, и забываю, что прочел, запоминаю плохо, и все подскакиваю и содрогаюсь, с излишним нетерпением принять — слишком желая все узнать.
x 
Я попросила Нэ Джеркка показать мне вторую из на его взгляд самых важных книг о Верхнем Пределе. Он был откровенно удивлен моей настойчивостью. Возможно, он не понимал, что это никак не связано с каким-либо мужеством перед лицом правды. Просто-напросто моя жажда знания была сильнее, чем страх узнать правду, и к тому же я пока еще не осознавала то, что прочла, пока понимала это только умом. Вторая книга озадачила меня еще больше первой. Я была очень рада снова отыскать Сова. Со временем темнота башни и присутствие книг словно впитывались, и наползало невыносимое чувство одиночества. Оно
284
заставляло смотреть себе в глаза. Сов рассказал мне про Караколя, и я не стала ничего на это отвечать, он и без того был ранен в своей чувствительности. Но что тут скажешь? Караколь не испытывал такой привязанности к членам Орды, как Сов: он следовал своему собственному пути, давал то, чем ему легко было поделиться, — свою радость, проказы, виртуозность, — но делал это не столько из щедрости, сколько потому что они были у него в избытке. Он никогда не ждал ничего в ответ и сам никогда не считал, что что-то должен Кориолис, Сову и кому бы то ни было. Он не привязан к нам, он верен лишь своему поиску, как Голгот. Из всех нас эти двое наибольшие индивидуалисты, с тем парадоксом, что они при этом дают нам больше, чем другие, что в них при этом куда больше альтруизма…
— «Верхнего Предела нет»?! Да что это вообще значит, Святое Дуновение?
— Что Земля бесконечна… Ну или не знаю, что нет никакого предела, нет границы, которая его обозначает…
— А во второй книге что, еще раз?
— «Наверху земля синяя, словно апельсин».
— Это поэтическая строчка, что ли?
— Да, но употребляемая в другом контексте, антифраза или ирония. Тут должен быть скрытый смысл.
— Земля синяя? Может, это значит, что мы выйдем к морю, к бесконечному морю? Но откуда кто-то может об этом знать? Никто никогда не доходил до Верхнего Предела, насколько я в курсе, черт возьми! Ну или скажите мне, что это неправда, что там уже кто-то побывал, чтоб я дальше не тащился! Засяду в этой башне, как Нэ Джеркка! Я всю свою жизнь положил на то, чтобы пройти по этому миру в надежде узнать, что там, в конце, а какой-то тип зашел, понимаешь ли, в башню и сунул тут в стену свой слиток с «синей Землей»!
283
— Аэрудиты умеют читать ветра, Сов, они могут определить, что находится в месяцах контра к верховью, просто наблюдая за течением ветра. Я вот еще думала, может, то синева льда…
— С какой радости?
— Ну потому что на юге и на севере от линии контра все покрыто льдами, насколько нам известно, бесконечными. Почему бы им не быть и на Верхнем Пределе?
— Бескрайний океан льдов… Вот куда мы, по-твоему, идем? Мы всю жизнь контровали, чтобы прийти в пустыню изо льдов… А почему тогда синюю, как апельсин? Если его ирония…
— Это может значить, что земля оранжевая.
— Она и есть оранжевая в каждой второй пустыне!
— Нет, синий значит синий.
— Как небо…
— Именно. Ороси, представь себе вот что: вот ты приходишь на самый верх, а в конце линии Контра ничего нет. Земля останавливается, обрывается на ровном месте, это конец мира. Что ты тогда перед собой увидишь?
— Небо.
— Синее небо, правильно. Вот почему земля синяя: земли больше нет, есть только небо под ногами! Вот что это значит!
— Возможно, но в таком случае Верхний Предел все же существует.
— И да, и нет… потому что всегда можно решить отправиться дальше, по небу. Эрг мог бы, например, полететь на своем крыле.
— Улететь в небытие? Ну, допустим. А почему «как апельсин»? Продолжай, Сов.
— Это поэзия, караколада!
— Нет, Нэ Джеркка сказал, что это абсолютно точно.
— С его точки зрения!
282
— Да, по его мнению. Но я думаю, что эта фраза зашифрована. Вот, например, не как апельсин, а как капель синь, ну то есть синева капель, или из слова апельсин можно сложить вопрос «не пас ли?»
— Ага, или «паси лень». Все, хватит, набегался по контру, иди отдыхай, скрибчонок. Жуй апельсины, слушай капель?
— Смешной ты, Сов… А почему бы и нет, в конце концов? Я когда была маленькая, очень любила говорить Аои, что Верхний Предел — это такое райское место с садами, полными золотистых фруктов, и с голубым ручьем посреди, а вокруг звери с красной шкуркой, милые и пушистые, ластятся повсюду. Я это говорила, чтоб ее поддержать, чтобы она получила место сборщицы в Орде.
— И как, помогло?
— Как видишь. Но я особо и не выдумывала, как получается!
) 
Когда я вернулся назад к Караколю, то нашел его в том же месте, в том же положении. Его лампадка мерцала в темноте, а он читал вслух. Как только он услышал, что я вошел, то сразу крикнул с энтузиазмом:
— Ты решительно вовремя, Совчонок! Послушай сюда, это прекрасно: «Но однажды придется научиться видеть рушащуюся стену нетронутой». И: «У людей неощутимость движения намерена. Бессмысленная стабильность, которую мы приписываем реальности, необходима для ориентирования. Отбор & обеднение ценны. Сокращение до плоскости нюансов цвета. Притупление & уравнивание звуков. Осязание, обоняние, ощущение тепла воспринимаются крупногабаритными категориями. Горящие камни по определению воспринимаются как неподвижные. Человек: медленный пассат. Сладкая тягучая субстанция. Сироп крови. Трога-
281
тельная коагуляция. Тело ослабленное, приспособленное & усмиренное. Безразличие к вариативности спасает. Восприятие бесконечных изменений сбивает & утомляет. Слишком. Внутренние органы & конечности, скрытые под кожей, — то, что жизнь выбрала, чтобы укрыть хаос. Чтобы фильтровать метаморфозы, пронизывающие ее со всех сторон. Следовательно, организм — это то, что жизнь противопоставляет себе, чтобы сохранить себя. Полость для отступления перед девятью формами ветра. Если человек есть апельсин, сорванный с дерева ярветром & созревающий при падении, то его величина будет обратно пропорциональна толщине кожуры, которую он может себе позволить в качестве защиты. Найти эту предельную точку жизненной силы, где мембрана, что отделяет нас от внешнего мира, достигает наименьшей плотности, предшествующей разрыву».
— Ты знаешь, в чем заключается девятая форма, Караколь?
— Конечно, мой дорогой товарищ по оружию!
— И в чем?
— Это особая форма, которую принимает активная смерть в каждый момент времени, в каждом тебе.
— Что это значит?
— Что ты, не переставая, умираешь, рассеиваешься, теряешь содержание, замедляешься. Ты все время повторяешься. Это тебя убивает. Это, к слову, всех убивает!
— Но в чем именно это проявляется? Какую форму она принимает? Какой у нее поток, как она выглядит?
— Девятую форму ветра ты встретишь на Верхнем Пределе, только там. Она примет облик твоего внутреннего поиска. Она будет тем, с чем ты всегда боролся, каждую секунду твоей жизни. Но вместо того, чтобы предстать крошками, нетяжелыми опилками повседневности, она предстанет целиком, в полновесье.
280
— И с ней нужно будет сразиться?
— Я отыскал в этой барочной библиотеке текст, который знаю с детства, но я не был уверен, что он на самом деле существует. Когда так много забываешь, то начинаешь выдумывать себе новую память. Текст называется
Три Превращения. Начинается вот как: «Я расскажу вам о трех превращениях духа: как дух становится верблюдом, верблюд — львом, и, наконец, лев — ребенком».
— Караколь, я тебе задал вопрос! Будь добр ответить!
— Что есть самое тяжелое? — вопрошает дух, послушный и восполненный почтительности, — то я возьму себе на плечи и понесу, как полагается герою, как настоящий ордиец. Так говорил верблюд. Я тебе вкратце пересказываю, не зевай! И, хорошенько навьюченный, стремится он в свою пустыню, но там обращается во льва. Но вот пред ним дракон из вековых устоев, и на каждой его чешуе сверкают золотом два слова: «Ты должен». Лев отвечает: «Я хочу!» Но лев еще не ведает, чего желает. Пока он лишь отыскал своего последнего господина, чтобы стать ему врагом, освободиться и проложить себе путь к будущему, которое он еще не способен воплотить. Тогда случается третье превращение духа: лев становится ребенком. Невинность и забвение, начальное движение, самокатящееся колесо, новое начинание, игра, и ребенок говорит: «Я создаю». Вернее, он ничего не говорит, он играет, созидает. Он нашел свое Да, он обрел
свой мир.
— Плевать мне на твою историю! Отвечай на мой вопрос! Как бороться с девятой формой ветра?
— Эти три превращения могут быть этапами жизни, любви, поиска, но могут и сосуществовать в тебе прямо в этот момент, в разных пропорциях и в разной скорости, размытыми слоями. Девятая форма однозначно убьет верблюда. Смертельно ранит льва. Но ребенок, которым, надеюсь, тебе удастся стать, возможно, сможет уцелеть. Помни об
279
этом, когда будешь стоять на краю мира, на Верхнем Пределе. Помни об этом, когда все они погибнут, а ты останешься один на высокогорном пастбище напротив ясного неба. Помни обо мне в этот день и о моменте, который мы сейчас здесь проживаем, и помни фразу, которую я сейчас произнесу, каждое слово в ней. Ты меня слышишь, Сов?
— Да.
— Помни, что забвение — единственная по-настоящему активная сила. Не память: забвение!
— И почему я должен тебе верить, Карак? Без шуток! Откуда мне знать, серьезно ты сейчас или снова за нос меня водишь? Ты каждый день выдаешь по предсказанию, одно чуднее другого, только как убедиться в их
достоверности?
— Вы убедились не в одном из них. Но пусть! Ничто, конечно, не позволяет тебе поверить мне сегодня. И я не прошу тебя мне верить. То, что я сказал, случится через пять лет. Я к этому времени буду мертв. Я тебя просто прошу запомнить то, что я говорю. Когда ты останешься последним выжившим ордийцем, у тебя будет доказательство, которое ты требуешь от меня сегодня, и которое я, разумеется, не могу тебе предоставить. Будущее не доказывают, не для вашей логики, во всяком случае! Но когда это произойдет, ты, может, вспомнишь об Аэробашне и об этом странном разговоре.
— Верблюд, лев и ребенок?
— «Ты должен», «Я хочу», «Я создаю»: три превращения духа. Послушный ордиец, взбунтовавшийся ордиец, жаждущий свободы, и ребенок, вновь обретенный благодаря мужеству взрослого. Ребенок, что создает свой собственный голос. Голос, который услышат.
— И как это должно мне помочь?
—
Что значит быть живым — вот твой вопрос, если Нэ Джеркка мне правильно все передал. Быть живым значит
278
быть в движении & быть связанным — сплетенным в своем нутре & связанным с другими. На Верхнем Пределе ты встретишься с полнейшим одиночеством. Тебе придется придумать смысл жизни без нас. Земля под твоими шагами. Только твой…
— А ты что ищешь, трубадур? Зачем ты пришел в Орду? Тебя Преследование подослало? Какую тебе дали миссию, предать нас? — раздался вдруг над нами голос из темноты.
Я подпрыгнул. Это была Ороси. Она наверняка слышала весь наш разговор, но Караколь не выказал ни малейшего удивления. Не отвлекаясь, он снова обратился ко мне и с таким нарочито важным тоном, что это даже превзошло важность сказанных им слов:
— Только твоя любовь сможет помочь уцелеть чему-то, кроме твоих собственных воспоминаний об Орде. Понимаешь? В тебе есть связь, которая сплетает то, что держит Орду. И ты должен будешь воссоздать эту связь сам, в одиночку, чтобы хоть что-то из Орды нас пережило.
— Как? Через ваши вихри? Я не понимаю, Карак! Ты можешь объяснить?
Но он отвернулся, сделав какой-то странный знак, и обратился к Ороси:
— Я не ищу ничего сверх оригинального, Принцесса. Скажем что-то вроде:
Как оставаться живым? Такой ответ тебе подходит? Я владею чудом скорости, я нахожу место на ночлег в движении. Я ищу
содержание, которое даст мне продолжение. Я ищу связь. Поэтому я оказался среди вас, в вашей плотно сплетенной Орде! Вот в чем я вам завидую, особенно Пьетро, Сову и тебе…
Ороси замолчала на несколько долгих протяжных секунд, и вдруг спросила:
— Кто ты на самом деле?
(обратно)
XIV
ВЕРАМОРФ
) 
Я никогда не пытался расчистить гравий, нанесенный шквалами моего прошлого. Мои воспоминания состоят из плотностей, ветров и пыли. Я протекаю в пространстве, продвигаюсь эластичными шагами. Я как обтесанный камень, я сжимаюсь до самого густого состояния, до собственной основы.
Мне кажется, мы начали этот путь еще до нашего рождения. Мы были на ногах всегда, вся Орда, выстроенная дугой, твердо стоящая на бедренных костях; так было всегда, мы шли вперед, царапая скалы плюснами, шли с оскобленными каркасами и обнаженными ребрами, с коленными чашечками, заржавевшими от песка. Мы шли вне времени, все вместе, в поисках нашей первой прерии. У нас никогда не было родителей: мы родились из ветра. Мы появились постепенно, посреди целины высокогорных плато. Комки летящей земли застряли в наших скелетах, цветочная стружка скопилась на поверхности, что стала нашей кожей. Из этой земли сделаны наши глаза, из маков наши губы, наши волосы окрасились ячменем, собранным непокрытой головой, лбы наши покрылись колосками. Дотроньтесь до груди Ороси, и вы почувствуете, что это фрукты, ударившиеся о ее торс и созревающие всю последующую жизнь. Так появляется все сущее на
276
свете: деревья, звери, все живое; по-настоящему
рождаются только скелеты, и шанс есть только у тех, кто возвышается над грудой своих костей и деревяшек в поисках плоти, мякоти, коры и кожи, в поисках материи, которая могла бы, проходя через них, их наполнить.
Через какой-нибудь десяток лет, когда в каркасе под жесткой кожей снова начнут просматриваться просветы между балками, когда вся податливая субстанция будет прочищена, мы снова станем собой перед лицом финального ветра, что расчленяет стыки остова. И тогда мы в последний раз посмеемся над нашей непомерной экстравагантной неукоснительностью, и наши опорные скелеты разлетятся в пыль.
Порт-Шун, Лапсанская лужа, Шавондаси, Лигримская пустыня, Альтиччио и вот теперь, наконец, Лагерь Бобан, на самой линии огня, у столь долгожданного входа в Норску? Я продвигаюсь, пропитанный забвением, вся ностальгия во мне смолота. Отчего? От столь рано принятого правила всегда смотреть вперед, на следующий этап? От привычки читать, перебирать точка за точкой пальцем вытатуированные снизу вверх карты на спинах сотоварищей — в течение трех лет это была спина Степпа, потом четыре следующих года — спина Фироста, и вот теперь последний отрезок трассы на спине Голгота? Все мое существование ордийца было словно пущенная в небо стрела, но что бы мы ни делали, небо отдалялось, пряталось за горизонтом, уходило от нас, как ловкий зверь. Верхний Предел — передвижной миф.
От этого три дня, проведенные с Ороси, Караколем и Нэ Джеркка в Аэробашне два года тому назад, имели для меня еще более неописуемую ценность. Там я получил знания не только из книг, но и от самого хранителя фареола; и я по-прежнему обязан приобретенному осмыслению
275
Караколю, а без Ороси я бы не смог так надолго сохранить значимость этого познания.
Откровенно говоря, хоть я и был скрибом и к своей миссии относился серьезно, понимая, насколько будущие Орды будут обязаны моему контржурналу, до Аэробашни я все же вел его пусть и бережливо, но слишком прямолинейно, не отдавая себе отчет в том, какую энергию могут содержать в себе книги. Письмо было для меня необходимой функцией записи и сбора знаний, но отнюдь не влиянием пережитого опыта. А потом я наткнулся на эти блоки, на эти шокировавшие меня выжимки: «Не растрачивайте лишь для того, чтобы поесть, всю естественную силу голода»; «Быть зрелым значит обрести такую же серьезность в игре, как в детстве». И, конечно, книга, которая советует проживать каждый миг, словно он одновременно первый и последний миг нашей жизни. Эти несколько фраз не делают меня аэрудитом, не открывают наивысшего знания, но все же дают ощущение, что теперь у меня под рукой, в распоряжении моей души, всегда есть такое метательное оружие, которое способно постоянно раскалывать мой череп, этот костяной куб, который иначе так и норовит захлопнуться.
Я уже два года непрерывно пережевывал и передумывал открытия, сделанные в Аэробашне.
Самым обнадеживающим для меня было то, что теперь мы знали: два главных обоснования нашего отчасти безумного существования — познать все девять форм ветра и достигнуть предела Земли, эта ввинченная в нас, как контровый ветрячок, надежда, заставлявшая вставать по утрам изо дня в день и механически толкавшая к верховью, не была нелепа.
Другое открытие меня, однако, немного беспокоило. Оно было связано с важностью хронов, которые я долгое
274
время считал обычным природным феноменом, пусть и опасным, но я сводил их, как правило, к видимым результатам их воздействия. Слушая разговоры Нэ Джеркка с Караколем и Ороси, я наконец понял поверхностность моих суждений. Через хроны можно было достигнуть глубочайшего понимания живого, хотя бы в четырех кардинальных измерениях: вихря, времени, движения и метаморфозы. Пока еще очень приблизительно, практически на ощупь, я начинал понимать, что хроны в каком-то смысле содержали первичные силы вихря. Они не только трансформируют материю, но могут также деформировать течение времени, дробя или преумножая его сегменты. Они могут впитывать и воспроизводить человеческие или животные чувства и аффекты, через психроны из которых, как говорит Нэ Джеркка, происходит большинство автохронов. Когда я заговорил с ним о девяти формах ветра, он выслушал меня с улыбкой и сказал: «Когда ты поймешь, что представляют собой хроны и на что способен ветер, девять форм покажутся тебя простым вступлением.
Формы — всего-навсего удобная обертка, средство классификации. Что на самом деле важно — это
силы».
Третье же открытие было самым худшим, самым головокружительным для моего равновесия. Я бы предпочел, чтобы Караколь огласил мне день моей собственной смерти, нежели предсказание, что всю Орду, кроме меня самого, ожидает гибель. Теперь он напрасно старался убедить меня, что все относительно, что он не может видеть будущее в том виде, в котором оно на самом деле произойдет, что он всего лишь порой, и к тому же совершенно ненарочно, натыкался на завитки времени в бесконечной трансформации, возможно, на что-то вроде хроталя (он и сам не знал), и что он уверен,
это лишь одна из вероятностей, преобладающая в видимом им грядущем, но в
273
нем также будут учитываться и менее основные варианты будущего каждого из нас, встречи, которые нас ожидают и которые могут повлиять на глубинные направленности, и что не стоит переживать о событии, которое случится через целых три года, — дело было сделано, его предсказание пустило во мне корни и стало поедать изнутри. Оно расплющивало тяжестью ответственности, которую никто никогда не готовил меня нести на своих плечах.
— Это хрон — вераморф! — крикнула Ороси.
— Да нет! — засмеялся Караколь.
— Поспорим?
— На что, Принцесса Оросишь?
— Допустим, на твое предсказание о моей смерти.
— Вы проявляете неслыханную отвагу, мадемуазель, решаясь встретиться лицом к лицу со столь ужасным будущим. Но кто вам нашептал, что у меня было подобное видение? Иль я в ваших глазах черного миндаля какой-нибудь оракул вездесущий иль пифия, безжалостно отдающая на съедение страху призрак грядущей для вас беды?
— Оракул ты или Караколь, а я имею право знать, какова будет моя смерть, не правда ли? Твой вихрь мне подсказывает, что ты знаешь.
— Почему ты думаешь, что этот большой белокурый кокон вдали — вераморф?
— Потому что ты боишься пройти через него. Я почувствовала страх по внезапной неподвижности твоего вихря, когда ты его заметил.
— Ах, святые ветра, вы делаете успехи, аэрометресса!
Порой я даже думал, не нарочно ли Караколь все это сделал. Что, возможно, он выдумал предсказание в надежде вызвать во мне теллурическое потрясение, ускорить процесс моего созревания, задеть меня. В нем было достаточно хитрости, чтобы решиться изогнуть линии моего
272
развития и искривить направление моего будущего — но если это так, то ради чего, куда он хотел меня привести, кого надеялся спасти? Значило ли это, что я умру на Норске?
Ничто не представлялось мне столь ужасным, как увидеть, как один за другим исчезают те, кого я люблю. Разве я мог вообразить себе, что переживу Ороси или самого Караколя? «Будешь тогда свои собственные шутки шутить!» — отвечал он мне. Как продолжать видеть смысл в контре, в этих абсурдных моментах повседневности, когда фаркопщики сдавались у нас на глазах, когда у Аои хватало воды едва на четверых, когда Горст отворачивался, пряча лицо, покрытое песком и слезами? Какой во всем этом был смысл, какой смысл в обгорелых щеках и сухой усталости, какой смысл в детритовых пенепленах, в абразивных землях вплоть до монохромного горизонта, какой смысл в этих разваленных деревушках из трех хижин, когда вместо ночлега в компании воздухосеятеля находишь оскобленный труп? Какой в этом смысл без них? Орда в строжайшем смысле слова — это «все, что у меня было». У меня больше ничего не было. Даже моего собственного внутреннего мира, достойного отдельного существования, настолько я был с самого детства выстроен изнутри дисциплиной коллективного сознания. Семья? Они забросили меня на корабль, когда мне исполнилось шесть. Об отце у меня сохранился в памяти образ человека сильного и несгибаемого, с громким, суровым голосом. Он, весьма вероятно, был еще жив, вполне возможно даже ждал меня там, наверху, хотя я давно уже не думал о том, что однажды снова увижу «отца». О матери мне помнилось только то, что она очень любила животных, и это я в какой-то мере от нее унаследовал. Я думаю, она меня любила, мне даже кажется, она плакала, когда
271
меня отослали в Аберлаас — хотя на самом деле я давно смял в памяти все то, что имело отношение к этому невыносимому мучению — лишить меня возможности быть ребенком.
Разве я смог бы вынести смерть Аои? Не видеть больше, как по утрам она завязывает волосы, как собирает травы нам на чай, как ластится к Степпу? А смерть Арваля, нашего светлячка, с его неотступным энтузиазмом, с той радостью, с какой мы смотрели, как возвращается он к нам с верховья, всегда вприпрыжку, всегда счастливый поделиться какой-то незначительной деталью, рассказать, какой он там увидел глиф, холмовую черепаху, понор? А смерть Каллирои, этого живого огонька с лукавыми желтыми глазками, ее всегда пахнущими дымом волосами?
Но Каллироя умерла, и умер Леарх, и так или иначе я все же научился. Научился не искать Каллирою глазами по утрам, когда она расставляла свои ветрячки над почти превратившимся в пепел костром. Научился больше не принимать ее в своих объятиях, когда Тальвег или Силамфр уходили спать, а она оставалась слушать наши разговоры с Караколем, Ларко, Пьетро.
Я, как и все, считал, что если в конце должен остаться только один, то это по умолчанию мог быть лишь Голгот. Ну или Эрг. Но не я! Я порой смотрел на Голгота, наблюдал за тем, как в метре от меня он ныряет головой в поток встречного ветра, как осколки летят ему в лицо, как он ревет ругательства в ответ, как надвигает шлем пониже, и не мог себе представить, просто не мог, что эта абсолютная сила природы, эта коренастая неотшлифованная скала, он, у кого вместо крови из ран текла лава, что этот парень, никогда за всю свою жизнь не поворачивавший вспять, он, кто обернулся к нам в последнем изгибе перед Вой-Вратами, — об этом я не мог забыть…
270
Он взглядом оценил степень ужаса на наших лицах, которую на этот раз нам не под силу было скрыть, а перед ним, за углублением, не видно было ничего. Вертикальная расщелина, прорезавшая последний коридор, прямая линия в сердце дефиле, о которой нам рассказывали, как о самом ужасном отрезке, была едва два метра в ширину, а ветер в ней свирепствовал с такой силой, с такой высотой звука, что сталь на стенах визжала так, словно попала в жернов зубчатого воздушного колеса. И в этом ужасе, в этом беспощадном пронзительном вое, Голгот всего на пять секунд пустил нас в низкое, рычащее, почти теплое укрытие своего голоса. Он дал приказ встать в цепь-полный блок, Паку идти ударными, фланговики на блокировку бокового крена с прогрессией внешним плечом вдоль стены, не менять строй, даже если будет качка и нас протащит по стене (что и случилось). Затем он выставил руку в амбразуру, просто для проверки, и мы услышали сухой звук стыка. Мы подумали, что ему ветром вывихнуло плечо. Но нет. Просто удар топора. Он досчитал до трех и
вышел. У нас не оставалось выбора, разве что бросить его на смерть одного. Я закрыл глаза, все мы закрыли глаза, и вклинились изо всех сил один в другого, опорными по шипам, а Голгот кричал нам каждые три секунды: «Пак! Пак! Пак!» на каждый толчок, чтобы держать ритм ударных по металлу ветра. Это ему, по-вашему, грозило умереть? Это он погибнет, а я останусь в живых?
— Я слишком много времени провожу с тобой и с Совом, вот и все. Я тебя хорошо знаю, трубадур. Когда ты медлишь, этому, как правило, бывает два объяснения: либо тебе скучно, потому что вокруг все слишком однородно и неразнообразно, либо ты испытываешь внезапную эмоцию, которая поглощает твое внимание, и тогда ты теряешь свою подвижность. В начале меня это удивляло,
269
потому что у других все как раз наоборот, эмоции ускоряют вихрь.
— Перерыв! Мы согласны на пари! Но если выиграю я, что вы предложите взамен?
— Не говорить Голготу, что мне о тебе известно…
— Какое вероломство!
— Голгот, стой!
— Что?
— Хрон по левому борту! Приоритетная форма! Я должна ее исследовать!
π 
Голгот развел руки в стороны и остановил контр. Четверо фаркопщиков отцепили сани и поставили флюгером винт на них. Сегодня с самого утра с неба шли короткие ливни. Сиреневые облака гнало к низовью. По пути они обдавали нас градом с дождем. Когда сквозь тучи пробивалось солнце, то на бесконечно зеленых просторах появлялись желтые пятна. Мы уже четвертый день шли через Сковеррское плато. Плоская земля меж двух хребтов. Свежесть воздуха объяснялась высотой местности. Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю. Две самки замыкали строй. А посреди между ними семенили горсята, крутя пятачками во все стороны. Когда мы к ним подходили, они не пускались наутек, а наоборот поворачивали к нам острие своего треугольника. С таким панцирем им нечего было бояться.
Ближе к полудню над нами иногда проплывали розовые медузы, с которыми, орудуя когтями и клювами, быстро расправлялись соколы Дарбона. Но сегодня было пусто. Не знаю почему, но в такие моменты как-то особенно не хватало Леарха. И очень не хватало Каллирои. Она обожала
268
следить за полетом соколов. Уверен, Силамфру и Тальвегу не хватало ее еще больше. Мы разложили костер пирамидой и разожгли его в честь второй годовщины их смерти. Караколь сочинил прекрасную поэму с Совом в двухголосьи. Теперь костер разжигал Силамфр. Кориолис взяла на себя почти всю кухню. Голгот поднял ее на целую ступень в Паке, и она теперь была на месте Каллирои. С четырьмя раклерами в фаркопе тягачей хватало и без нее.
На них было приятно смотреть. Болд, Филам, Мозер и Декк: они так гордились, что были в Орде! Не знаю, сколько раз они переиграли в памяти переход через Вой-Врата. И как Леарх бросился к стене, чтобы остановить отходящий назад Пак. И пучок искр из-под брони на его плече, что проскребла по стене, перед тем как оторваться. И что он еще был на ногах, когда Голгот учуял блааст и крикнул «Ложись!». Они рассказывали всем, кому охота было слушать в селах по пути, что Леарха подняло вверх и отбросило на двадцать метров за нами, в излучину коридора. Но никто не повернулся, чтобы проверить, как он. Леарх отлично умел держать опору. Он просто был еще немного оглушен, когда Голгот крикнул «Ложись!», вот и все. Он сорвался. А одному, без укрытия впереди, без подпоры сзади, в этом коридоре продержаться было невозможно. Что же насчет Каллирои, то ее не снесло валом. Она потеряла шлем от сильного удара о стену коридора. И ей тут же в лицо полетел щебень, пока она пыталась спрятаться за уступом. Классический эффект ротора. Вихрь вырвал ее из укрытия и бросил в самое русло ветра. Я знал, что если бы на секунду раньше протянул руку, я бы ее удержал. Я не хотел об этом думать.
) 
Рядом с нами, в русло гальки, тянувшееся к верховью, занесло охровый кокон, размером с небольшой дири-
267
жабль. Его форма, матовое глубокое свечение, его манера тихо скользить над самой землей, глифы, что покрывали его оболочку, все это не оставляло ни малейших сомнений насчет природы этого феномена: это был хрон. Арваль прибежал к нам с верховья. Он был такой невысокий и легкий, что, казалось, почти летит к нам над землей. В глазах его блестело возбуждение новых открытий, на лбу трепало черную прядь, рубаха развевалась над штанами. Арваль:
— Вылез из-за камней, вон там, пффюит, — и сквозь камни, — оп! — на поверхность! — объяснил он, не отдышавшись.
— Ты в него что-нибудь бросил, чтоб проверить? — спросила Ороси.
— Просто камень.
— И что?
— Странно, Ош-Ош!
— Что странно? Камень вылетел с другой стороны?
— Як! Такой же! Не изменился! Но внутри был уже не просто камень!
— А что было? Как будто огонь, правильно?
— Як!
— Это вераморф, голову даю на отсечение.
— Так давай! Можешь засунуть ее в хрон для начала! — пошутил Ларко.
π 
Караколь, Ороси и Сов подошли к хрону поближе. Они старались расшифровать глифы на подвижной поверхности. Мне было не по себе, что они так близко к хрону. Порывом ветра эту массу могло снести, и тогда бы она поглотила их. Ороси провела палкой внутри хрона. Тот был достаточно прозрачный. Конец палки было отлично видно сквозь оболочку. Внутри палка взорвалась на ветви самшита! Ороси вытащила ее, та была нетронута! Почти
266
убедившись в своей идее, Ороси осторожно засунула в хрон свою правую руку, сначала до запястья, потом по локоть, а потом по самое плечо.
— Осторожно, Ороси!
— Это же может быть анитал! Преобразователь животного и растительного царств! Как тот, что задел Степпа, он тебя может превратить в дерево!
Ороси ничего на это не ответила. Она слегка отодвинулась в сторону, чтобы всем хорошо было видно ее руку внутри хрона, и сказала:
— Смотрите внимательно, вы такого больше не увидите!
) 
Я ближе всех стоял к Ороси и поначалу рефлекторно захотел вытащить ее руку. На погруженной в хрон конечности словно рассосалась кожа, показалась сеть обнаженных мускулов, сухожилий и кровеносных сосудов, обволакивающих серую кость. Но вскоре я понял, что это, скорее, было сплетение канатов и узлов из троса, с той разницей, что они были не пеньковые, это было переплетение из жидкого ветра, протекающего от бицепса до дельты пальцев. Цветные линии сплетались, истончались и сплавлялись воедино, в некоторых местах подозрительно образовывались целые озера, но затем рассасывались и формировались снова. Пальцы Ороси были подняты кверху, ладонь раскрыта, а в центре находилось ярко-красное крутящееся кольцо, словно выписанное каллиграфом, способным окунуть свою кисть в самый ветер. Кольцо было таким явственным, но ни взять, ни дотронуться до него было нельзя. Наконец Ороси вытащила руку из хрона и протянула к нам: мы все выдохнули с облегчением!
— Итак. Мы имеем дело с хроном безобидным, но крайне особенным, — сообщила она. — Это вераморф, его
265
можно отнести к психронам, но я не буду вдаваться в подробности. Вераморф обладает уникальной способностью: он придает существам и предметам, которые в него попадают, истинную форму того, чем они являются.
— Истинную форму?
— Он изобличает правду о том, кто мы есть.
— Как это?
— Я не могу объяснить ни лучше, ни точнее! Если вы хотите понять, то должны попробовать. Кто хочет? Кто не боится?
Я украдкой стал наблюдать за Караколем, который тихонько пробрался поближе к раклерам и постарался раствориться в толпе.
— Кто хочет попробовать? Давайте, не стесняйтесь! Такой случай вам больше не представится. Это настоящая удача!
Голгот вышел вперед, и, не задавая лишних вопросов и не устраивая сцен, целиком вошел в хрон. «Едреный блааст», — единственное, что у нас вырвалось, когда мы увидели, как тело Гота изменилось. Нужно сказать, что метаморфоза на этот раз была неумолимой точности. В хроне появился крепкий на вид горс, с темно-красным панцирем, рвущийся к верховью (но не двигающийся с места). Но самое главное было то, что из мощной шеи горса росло сразу две головы: левая безостановочно рвалась вперед резкими рывками, а правая отвечала ей жесткими ударами рыла.
— Голгот себя сейчас видит? — спросил я у Ороси.
— Насколько я знаю — нет. Когда целиком погружаешься в хрон, то сам не видишь, что с тобой происходит.
— А что он тогда видит?
— Не знаю. Вероятно, ничего. А когда выйдет, то все равно ничего не будет помнить.
264
— То, что хрон нам показывает, это и есть он?
— Да. По крайней мере проекция того, что глубже всего лежит в основе его существа. — Она на секунду замолчала. — Однозначно то, что в нем и правда живет вихрь его брата. Это вторая голова, та, что рвется вперед.
— Как он может с этим жить? Это же ужасно!
— Голгот невероятно сильный. Любого другого на его месте, я думаю, разрушило бы такое соседство. Нужно обладать немыслимой ментальной силой, как минимум равной чужаку, устроившемуся в тебе, чтобы принять и впитать его вихрь. Мне также кажется, но это моя личная точка зрения, что в его случае все сработало, так как он
любил брата. Так или иначе, он принял его, сумел создать динамический симбиоз с ним.
— Симбиоз? Посмотри на эти головы! Они же друг друга заживо сожрут, Ороси!
— Нет, они просто грызутся. Каждая хочет прийти первой.
Голгот вышел из хрона с суровым видом. Он был белый, как снег. Вся Орда смотрела, как он поднимается на холм, с огромным уважением, подкрепленным ступором. Голгот покачнулся от внезапного порыва ветра. Ороси подошла к нему и сказала:
— Ты что-то видел внутри?
— Да…
) 
Но никто не решился спросить у него, что именно. Я почувствовал себя как любопытный непрошеный зритель, что подсмотрел сцену обнажения. Из уважения к Голготу я решил в свою очередь тоже рискнуть и спустился с холма. В три осторожных шага я преодолел стенку хрона и, дрожа, погрузился в вибрирующий пузырь… Вскоре я почувствовал, как воздушные браслеты закрутились
263
вокруг моих ног, прохладные диски стали проходить через живот, через спину. Ледяная волна захлестнула меня, я весь напрягся, потом расслабил мускулы и пропустил ее через себя, снова напрягся, пока не появилось четкое ощущение, что вместо крови в моих венах течет ветер.
— Стремно все это, — сказал Болд.
— Я туда свой пятак совать не буду! — ответил Филам. — Я не хочу, чтобы все видели, какой я на самом деле. Зачем это надо?
— Голгот пошел, значит, и ты должен. А то он тебя выгонит!
— Он фаркопщиков не выгоняет!
— Как бы не так! Он что хочет, то и делает! Он начальник. Ты тут не в Альтиччио, тебя Ганза защищать не прибежит! Раз Голгот пошел, и ты пойдешь!
x 
Я редко бывала столь возбуждена в интеллектуальном плане. Я с девяти лет знала про вераморф, и изо всех хронов, что будоражили мое воображение, повстречать этот оставалось мечтой детства: увидеть сквозь внешнее обличье недостижимую иначе истину. Какое счастье! Аэрудигы, конечно, вели споры насчет точной природы того, что можно было увидеть в вераморфе. Они исследовали понятия
истинной формы, указывали на полисемию символов, которые хрон совмещал в один образ. Если в целом они готовы были согласиться, что хрон передавал образ вихря, то ценность этой передачи разделяла их точки зрения: зеркало себя самого? Проекция запрятанного сознания? Отражение желаемого? Эхо будущего? Автофикция?
Для присутствующих здесь ордийцев это, наверное, был просто очередной хрон. Они не осознавали, какой исключительный шанс всем нам выпал, но для меня… Я бы ни за что на свете не пропустила то, что передо мной
262
происходило. Сам ярветер не сдвинул бы меня с места, пока я бы не увидела, как Сов и Пьетро, Степп и Аои, Силамфр, Тальвег, Эрг и Дарбон, ну и, конечно, Караколь проходят через кокон. Простое любопытство? Да, с ожиданием подтверждения или опровержения моих интуитивных предположений о каждом из них. К тому же, думаю, во мне крепло вопиющее желание понять, что скрывалось под панцирем наших «да все в порядке», под очерствевшим отрицанием физических страданий, под гладкой оболочкой любой жалобы, которую каждый из нас шлифовал, как умел, под суровой маской, словом — какой уголок тела еще нуждался в ласке. После тридцати лет совместной жизни я хорошо знала нашу стойкость. Но это не значило, что дикие звери, прятавшиеся внутри нас, не нуждались в том, чтобы их приручили.
Когда Сов вошел в хрон, то сначала исчезли его ноги и руки. Туловище превратилось в длинные охровые нити, образовав необъяснимую форму то ли столба, то ли дерева на месте, где было тело. Вокруг появились хорошо различимые клубки ветра, круглые и блестящие, как звезды, связанные с его остовом, размытым потоками прекрасного желто-солнечного ветра. Силуэт продвигался вперед, а вместе с ним и окружающие его звезды, так что невозможно было сказать, откуда исходила энергия, что освещала всю эту систему и что кого питало светом. С каждой секундой одни янтарные узлы уплотнялись, другие разглаживались, превращаясь в кольца, а центральная ось, то всасываемая сама, то всасывающая все вокруг, уплощалась в диск и снова выгибалась в ответ на эти тонкие обмены потоком. «Не очень-то ясно, что у него там», — разочарованно заметил Фирост. «Ну и бардак», — прокомментировал один из раклеров. Но никакого беспорядка я в этом не видела, я бы даже сказала, что все было устроено
261
очень элегантно и вполне ясно для того, кто умел читать, и даже была взволнована. Когда Сов наконец вышел, он опустился на колени в траву, весь замерзший, и не вставал, пока я не подошла ему помочь.
Ω 
«Здорово, хрю-хрю», — это меня теперь так Фирост на каждом шагу подкалывает. Надо мной поржать так он готов, а сам-то он себя видел?! Дикий кабан в упряжке, пропахивает себе рылом борозду, тоже мне, нашел чем гордиться!
Есть, конечно, в Паке экземплярчики, таких раскусить — раз плюнуть, как их себе представляешь, такие они и есть: Степп дерево деревом, Альма — куча розового дерьма, Аои — пучок травы какой-то, правда крепкой. А Эрг вот у нас — набор винтов и ножей во все стороны торчком, все как на подвеске, на скоростях, все крутится, смещается, в шар сворачивается, такой быстро кого хочешь успокоит, в общем, я не удивлен, Эрг как Эрг, он в сухом доке сидеть не умеет, у него всегда рука на буме, никогда себе задницу не отсиживает, шустряковый он у нас.
А за ним Пьетро пошел. Я его, честно говоря, краем глаза высматривал. Не по-злому, просто глянуть, что у него там. Так он нас, чертяка, прямо пригвоздил! Вошел и ничего, и близко не изменился! Стоит такой же, как всегда, прямой, чистюля весь из себя, разве что щеки чуть побронзовели, чуть на статую стал похож, да и все на том. Какой внутри, такой снаружи! Он и в хроне тот же Пьетро, без прикидонов, ему прятать нечего, расходитесь… Он что показывает, то у него на самом деле внутри и есть, точка! Не то, что мы. Дарбон вот, например, не очень-то приятная картина, как посмотришь. У ястребника спектакль посимпатичнее вышел, с голубой стеной его и птицами, что в ней через прорехи пролетали, типа проходы в русле ветра находили,
260
это, что ли, хоть надежды немного придавало. А у Дарбона сплошной прожорливый клев, натравил на кусок тухлятины на земле и рад, это тебе не птички в небе. Горст мне тоже настроение подмял. У него там два пацаненка толстощеких по кругу гоняют, в полной тишине, в общем, было странно, мрачно, как говорится, погребательно.
x 
Вслушиваясь в реакцию каждого из нас, я понимала, что видения, вызванные хроном, у нас сильно разнились. Эти расхождения беспокоили меня. Если допустить, что вераморф отображал истинную сущность, могли ли в таком случае существовать подвижные варианты или даже несколько возможных сущностей? Или из этого нужно было заключить, как заявил мне Сов с апломбом, от которого меня слегка покоробило, что сущность «сама по себе» не существует, что есть только сущность «для и среди других», что каждый ордиец был всего лишь «определенным сгибом на общем листе», «узлом на веревке, существующей благодаря другим»?
В Альме я ясно разглядела два десятка сферических ладоней, чьи пальцы защищали клубки ветра, спрятанные внутри, тогда как Сов был поражен, увидев в этом розовую аркаду из вытянутых пальцев. В Аои я увидела пучок высоких, хрупких огоньков пламени, а Степп расчувствовался, потому что увидел согнутые ветром асфоделии и «текущий вверх источник». У Ларко всем было видно одни и те же облака света, скользящие сквозь хрон, и странные нечеткие тросы, которые привязывали их к земле и отвязывались, словно застенчиво рыбача в небе, пытаясь уловить ускользающие сгустки воздуха. Из облаков по тросам попеременно опускалась энергия, к сложному, очень запутанному узлу, который я определила как вихрь Ларко.
259
— Тальвег, твоя очередь! Давай, не отлынивай, нет ничего плохого в том, что ты покажешься нам горсом!
— Я не отлыниваю! Но на ваши лица как посмотришь, когда вы оттуда выходите, так желание сразу пропадает!
— Там внутри просто ветер, пронизывающий кровь! Немного проберет до мозга костей, но ничего страшного, оно того стоит, вот увидишь!
— Ладно, ладно, иду. Расскажете потом?
) 
Я Тальвега хорошо знал, я понимал, что у него с ветром сложились особые отношения. Он из-за своей науки геомастера имел точное убеждение, что у ветра есть происхождение, сознание и цель. Ветер был великим Шлифовальщиком с присущим ему свойством высекать и обтесывать своим потоком землю и все ее рельефы. А следовательно, он был первым архитектором мира, его осязаемым демиургом. До появления ветра не существовало ничего, кроме илистого месива, бесформенной лавы, которую нужно было осушить, вымесить, отшлифовать. Тальвегу была близка вековая идея, согласно которой ветер целился в купола холмов, в ровные линии каньонов, в плоские плато и равнины. Он даже в каком-то смысле сажал и подстригал линейные леса. Его дыхание повсюду удаляло лишнее, сглаживало нелепые бугры и глыбы, срезало гребни препятствий, что стесняли его мирное течение.
В паре с видением Силамфра, придававшем всему музыкальную окраску, концепция Тальвега выглядела весьма соблазнительно, потому что придавала смысл наименьшей флуктуации потока: если коротко, то везде там, где дуло очень сильно, ветер создавал дополнительную силу шлифовки; если же дуло слабее, это значило, что скульптор уже добился нужной ему формы. А проходящая по
258
этим формам музыка ветра, гармония, что из нее исходила, была лишь слуховым подтверждением того, что видел глаз геомастера.
В какой мере эта теория была основой их сущности? Сможет ли вераморф выдать ядро соответствующего образа? Я ждал их преображения с нетерпением.
x 
С самого начала наших вераморфных откровений я украдкой, с бьющимся сердцем, надеялась и просила об одном — заметить в одном из нас пусть слабое, пусть едва уловимое эхо вихря Каллирои. Пару раз Караколь оговорился, что, возможно, ее вихрь не рассеялся в тоннеле Вой-Врат. Когда Каллирою подорвало блаастом, ее пронесло над половиной Орды. Мне показалось, что я заметила крохотный отблеск пламени в Аои. Но больше всего ждала, что увижу Каллирою в Тальвеге и Силамфре, которые ее по-своему так любили.
Сов снова подошел ко мне и тихо взял меня за руку. Сначала я отняла ее, смущенная взглядом Пьетро. Сов молча устранился, и тогда уже я подошла к нему и взяла за руку. Ладонь его была такая ласковая.
Тальвег вошел в хрон и опустился на колени, приняв так называемую позу капли, уперев локти и колени в землю, округлив спину и опустив лоб на сложенные ромбом на земле руки. Это была защитная позиция при сильных шквалах. Я была заинтригована.
Вскоре ноги Тальвега растворились, руки слились воедино с головой, вся масса тела сомкнулась в единый темный моноблок, который обтекали порывы темно-синего ветра. Моноблок вытянулся, принял элегантную аэродинамическую форму и постепенно из коричневого превратился в фиолетовый. Порывы ветра по-прежнему плотно накрывали его. Похоже было, что синий растворился в
257
центре скалы, потому что фиолетовый, в свою очередь, перешел в индиго. Одновременно весь блок стал как будто легче, утратил плотность, превратившись из камня в сиреневую лаву, из лавы в воду, из воды в чистый воздух. Ветер по-прежнему огибал то, что в начале было телом Тальвега, но оно больше совершенно не походило на плотную материю, теперь это была обтекаемая капля, жидкий кокон и, если уж высказать мою мысль сполна, — возможно, хрон. Я прищурилась, стараясь рассмотреть, что внутри этого хрона, чья оболочка была совсем не так прозрачна, как оболочка вераморфа. Внутри….
— Ты тоже видишь два узла, Сов?
— Какие два узла?
— В хроне!
— В каком хроне? В скале? Лично я вижу два огонька, большой и маленький.
— Это она!
— Кто она?
— Маленький огонек, это она, это Каллироя!
) 
Глаза у Ороси были как два черных рубина, которые неожиданно погрузили в воду. Не предупреждая, она бросилась к хрону, из которого еще не вышел Тальвег. Как только она прошла через оболочку, то Ороси не стало, а на ее месте появился красивый рыжий хищный зверь. Он приблизился к кокону и стал мордочкой что-то вынюхивать. Кокон весь засветился, зверь широко раскрыл пасть и сомкнул ее, ухватив оранжевый огонек внутри, вырвав его, как из плаценты. Затем зверь побежал к нам со светящейся добычей в зубах, точь-в-точь как если бы львица хотела перенести своего детеныша. Она еще не вышла из хрона, как огонек рассеялся сначала по всей мордочке, а потом и по всему телу зверя. Ороси с Тальвегом вышли
256
из хрона одновременно, Тальвег весь бледный, ползком, а Ороси на четвереньках.
— Получилось, я взяла немного себе! — в конце концов, немного успокоившись, проговорила Ороси.
— Немного ее вихря?
— Да! Я последовала за огоньком, прислушалась, откуда идет тепло. Вихрь не такой сильный, как был у Свезьеста, в выдре, помнишь?
— Да.
— Но это она, это Каллироя! Крохотный клубочек огня, если бы ты только видел, едва ли размером с кулачок а все-таки живой, горящий… Не знаю, как я это сделала инстинкт… Она сама пришла, она меня узнала…
Ороси была на седьмом небе от счастья. Эмоции переполняли ее, ей казалось, она совершила невиданный подвиг. И, откровенно говоря, так оно и было.
— Понимаешь, Сов? Я ее спасла! Со мной она будет в безопасности! Она будет мне помогать, а я буду ее защищать. Мы вместе будем сильнее! Как Голгот с братом! Даже лучше, гармоничнее!
— А как же Тальвег? — не мог не спросить я.
Она посмотрела на меня озадаченно, почти смущенно:
— Ну… у него осталась частичка… Я не все взяла… Это, конечно, может показаться самонадеянным… Но, мне кажется, я лучше смогу ее защитить… У меня больше опыта в аэрологии… Ты так не думаешь?
Я посмотрел на нее растроганный, изумленный. Да, несомненно, Каллироя будет с ней в тепле и уюте. Они всегда были так близки, все трое, вместе с Аои, еще с детства, еще с Аберлааса, уже тогда Ороси была сильнее и умнее, она еще с тех пор взяла их под опеку, поддерживала и оберегала.
— Ты сделала, что должна была. Знаешь, я очень тебе завидую. Если я умру раньше тебя, ты тоже приютишь
255
мой вихрь? Он совсем маленький, он не займет много места!
— Ошибаешься. Я наблюдаю за тобой еще с Аэробашни, ты набираешь сил с каждым месяцем, Сов, ты разворачиваешься! Однажды ты станешь таким же мощным, как Эрг, по-своему, конечно, благодаря твоему уму, твоей силе связи. Жаль, что ты не видел себя в хроне, ты обладаешь уникальной способностью переплетать связи между нами, вплетаться в других. Ну и потом, ты слышал Караколя: ты единственный останешься в живых! А значит, мне пора научить тебя чувствовать вихри, ха-ха, я серьезно!
Она засмеялась от радости, дотронулась пальцем до кончика моего носа, а потом бросилась мне на шею и заодно, как бы невзначай, поцеловала в губы.
— Ка-ра-коль! Ка-ра-коль! Ка-ра-коль!
— Эй, смотрите, Караколь пошел! Сейчас зайдет в хрон!
Ω 
Заставил себя поупрашивать, трубадуришка, святые чертовы Ветра! Пришлось локтем его выталкивать, чтоб он пошел, свой скелет окунул в шаровину эту. Это был последний из нас, самый что ни на есть последний, что еще пытался увильнуть, думал, может, у него скелетов внутри побольше нашего, что лучше закопать их все поглубже. За восемь лет он нам, конечно, выдал всю серию маскарадов целиком! Это еще поискать надо типа полицемернее, большего притворщика, чем эта всюду шарящая башка, да с выкрутасами поизощреннее, ищите-ищите, как найдете — скажете. Чтоб был такой же прирожденный шут, мастак в дудки дудеть, из разряда «я тебя за нос до предела доведу», разведет свою тарабарщину — в жизни не отгадаешь, что он на самом деле думает! Арлекин всецветный! Всем шутам шут! Так что тут странного, что перед этим хроном, так он сразу в кусты. Только тут вся Орда в унисон
254
горланить взялась, на этот раз не удерет. Жеманщину разыграл, но все равно идет! А я его тут как раз у турникета жду, и не я один, это уж стопудняк…
) 
Был ли среди ордийцев тот, чьего превращения ждали больше, чем превращения Караколя? Судя по силе увещеваний, обращенных к нему, по любопытству, дошедшему до крайней точки и перешедшему в выжидательную тишину, ответ был очевиден — нет. Еще секунду назад пребывавшая в эйфории Ороси вдруг обрела всю силу сосредоточения и стала повторять мне шепотом: «Смотри внимательно, смотри внимательно…», как будто я мог зазеваться и вместо этого зрелища в небо уставиться.
Караколь вошел в хрон и тут же испарился. Его тело не изменилось, а просто исчезло без малейшего следа. Секунд через пять по всему хрону пошла реакция: хрон издал глухой рев, и мы, ошарашенные, попятились на несколько метров назад. На панцире хрона проступили цветные лужицы, в них еще чернее и четче выступили глифы. Кокон засветился всеми цветами, словно янтарный самородок, пронзенный солнечным лучом. Внутри при этом по-прежнему не прорисовывалось никакой формы, никакого образа, не было даже и близко формы Караколя, одни только скорые вихрики и воронки, что
буравили то там, то тут оболочку хрона и закручивали с собой сверхскоростные нити света и ветра. Перейдя от глухого к звонкому, хрон принялся шипеть, издавая звуки, похожие на проткнутый воздушный шар, и тут началось что-то вовсе ненормальное: напротив нас в оболочке хрона образовался поток воздуха и из отверстия засвистел выхлопной газ. Вскоре феномен распространился по всему кокону, тот раскачивался и гудел, словно неисправный аэроглиссер, так что нам в панике пришлось отойти еще дальше.
253
— Творится что-то неладное!
— Нужно пойти за Караколем!
Но никто не двинулся с места. Хрон стал уменьшаться и размерах прямо на глазах по мере того, как потоки воздуха вырывались наружу из все новых и новых зияющих и панцире дыр. Это был бы прекрасный педагогический маневр, чтобы объяснить ребенку, что хрон состоит исключительно из воздуха. Поскольку из него не выходило ничего другого, ни одного лоскута материи, никакой иной субстанции, хрон разрывался и рассеивался, сливаясь с воздухом, чьей структурированной и сверхживой концентрацией и являлся, строго говоря. Мы лишь заметили мимолетные огоньки, но они тотчас растворились. Я никогда не видел, как умирает хрон, а теперь присутствовал при его имплозии — или эксплозии, как знать? Хрон уменьшался, а Караколь все не появлялся, и нас начинал охватывать страх, что он рассеялся вместе с воздухом…
— Он же вернется, вернется же? — вопрошала дрожащим голосом Аои в пустоту.
Хрон от размера аэроглиссера сдулся до размера двух лежащих тел, не более, и не похоже было, чтобы процесс редукции остановился. Напротив, он только усилился: янтарный овал вдруг сделался ярко-желтым, стал размером с голову, потом с яйцо. И исчез совсем!
Перед нами было голое пространство. Равнина открывалась вплоть до горизонта. От хрона остались только странное журчанье и улюлюкающие вибрации, что, нарастая, наполняли воздух вокруг, создавая явное ощущение присутствия — но присутствия рассеянного, разбросанного, как если бы глифы хрона обрели легкость и свободу и занялись автокаллиграфией в движении под взором наших невидящих глаз.
252
Кто мог бы сказать, сколько прошло времени? Только вдруг, как будто проступив из воздуха, на месте хрона появился Караколь. Я бы поклялся, что появился он мазками, отдельными фрагментами, но все произошло так быстро, так неописуемо быстро, что я не мог сказать наверняка, как именно, но вот он снова был перед нами цел, невредим, с улыбкой на лице.
— Ну как, что было? — осведомился он с обезоруживающей простотой. — Каким ваш вераморф меня показал?
Мы были настолько оглушены случившимся, что, если бы с нами не было Ороси, молчание затянулось бы еще на четверть часа. Но она подошла к Караколю и, светясь от счастья, сказала:
— Таким, какой ты есть.
— Это как? — не унимался он.
— Ах, ну не знаю. Скажем, воздушным и…
— И?
— Полиморфным, или даже…
— Полислойным?
— А тебе непременно нужно придумать собственное самоопределение… Красиво ты все провернул, трубадур, только на этот раз я наконец увидела твое лицо.
(обратно)
XV
ПОРОДИВШИЕ НАС НА СВЕТ
— Папа-мама впереди! Папа-мама впереди!
π 
Бежал нам навстречу сирота Арваль с вытаращенными от увиденного глазами. Он стрелой примчался назад с линии хребта. Казалось, будто он не бежит, а скользит по облаку мелкого песка. Значит, я надеялся не напрасно — родители действительно вышли нас встречать. Я тридцать три года не видел ни отца, ни мать. До меня доходили только редкие, однако регулярные вести по оси Беллини, раз в три-четыре года. Затем, по мере того как мы все дальше продвигались по линии Контра, чем ближе подходили к ним, новости приходили все чаще. Последнее сообщение мы получили четыре месяца назад: «Мы придем вас встречать». Порою письма все же были длиннее.
Не могу вам объяснить, что я почувствовал, услышав Арваля. Слишком много эмоций за раз. Проливной град. Это было словно снова обрести самого себя. Как если бы мне наконец удалось заделать в себе огромную брешь, зияющую дыру сплошной контровой жизни. То, что мы до них добрались, уже значило, что наша миссия выполнена, путь Орды пройден. Все, что последует за этим, можно считать дополнением. Почти что люксом.
250
Я думал о родителях, о том, сколь многим им обязан. О том, чем они вынуждены были пожертвовать, чтобы я сегодня оказался здесь. На меня вдруг обрушился весь помост ожиданий последних двух лет контра. Я столько раз пытался представить себе этот момент. Я столько раз мысленно пережил его, что реальности было трудно пробиться сквозь толщу тысячу раз проигранных сцен. Родители шли нам навстречу, как я и предполагал — пешком. С линии горизонта, медленно, цепочкой. Пыль сламино затуманивала их контуры, но шаг их был размерен, согласно возрасту. Слова здесь были излишни: я, Сов, Ороси, Степп, Альма, Фирост и ястребник… Нас было семеро, мы вышли из Пака и бросились бежать, как обезумевшие от радости дети, в объятия к единственным на свете людям, которые могли понять ценность того, через что мы прошли, единственным, кто ждал нас все это время. Я не мог себе представить, что в этот момент чувствовали они. Мне было шесть, и я бежал навстречу своему прошлому.
x 
Напрасно я готовилась к этой встрече. Меня повергло в шок лицо моей семидесятилетней мамы. Я узнала ее по черным глазам и тому, как ровно она держала голову, несмотря на возраст, старость не отняла у нее этого. Мама. Вокруг ее носа пролегли стигматы вихря: начало спирали, безусловно несравнимой с той, что скрутила лица Тэ и Нэ Джеркка. Чему я была только рада. Я почувствовала ее в своих объятиях, настоящую, такую живую, из плоти и крови, и такую счастливую от встречи со мной, и все мои шлюзы рванули один за другим. Впервые в жизни я поняла, что могу позволить себе утонуть, и все поднялось наверх, и переполнилась вся чаша. Мама! Как же сильно мне ее не хватало, как сильно, и это я поняла только сейчас. Все, что я так хотела ей сказать, все, что заточила в самой себе, все эти
249
бесконечные диалоги, которые я мысленно вела с ней все тридцать лет, почти что каждый день… Я выросла, созрела, состарилась, храня ее образ с ее щедрыми ответами, которые сама себе выдумывала, чтобы преодолеть, утешиться. Легенда о ней всегда была со мной, она читалась во взглядах азрудитов, что оказывали мне прием и для кого я в первую очередь была ее дочерью, дочерью первого аэромастера среди женщин — Мацукадзе Меликерт. Я и сама стала аэромастером в первую очередь ради нее, чтобы ей никогда не было за меня стыдно. Я жила так, словно вынашивала в себе сокровенные истины, которые не могла породить на свет, а потому хранила в себе, высиживала, берегла. Берегла.
— Мама!
— Восьмой Голгот не пришел с вами? — словно между прочим спросил Пьетро.
— Он остался в Бобане. Он ответственный за лагерь, он не может просто так надолго отлучиться, — тактично попытался оправдать Голгота-старшего отец Пьетро.
— Сколько дней пути отсюда до лагеря?
— Четыре-пять месяцев.
— Так долго?!
— Да, но мы так хотели поскорее вас увидеть… Год назад один Диагональщик сообщил нам, что вы прошли Вой-Врата. Мы провели подсчеты и решили выйти вам навстречу. Нам так не терпелось с вами встретиться… К тому же удовольствие пройти вместе с вами пару месяцев, подняться контром в строю Пака…
— Вы можете пойти с нами и на Норску. Вы же пойдете?
Арриго делла Рокка улыбнулся Мацукадзе Меликерт.
Сифаэ Форехис, мать Степпа, указала на его сестру, Фускию Форехис:
— Может быть, она проведет вас в начало дефиле. Но с нашей стороны это было бы неразумно…
248
— Это настолько трудно?
— Нам сказали, что вы потеряли там половину Орды, это правда?
— Половину? Кто вам это сказал?
— Фреольцы.
— Кто именно? Легкая эскадра?
— Да.
— Не знаю, зачем они решили вас пожалеть. Мы потеряли три четверти Орды менее чем за три недели. И это не считая ампутированных.
— Сколько вам было лет на момент вашего захода?
— В среднем, около сорока пяти. А вам?
— Голготу сорок три. Кориолис, самой младшей из наших, — двадцать семь. В целом в районе сорока.
— У вас должно быть побольше хватки, раз так. Последние двадцать лет мы перекручиваем историю снова и снова, прибавляя к ней все новые «если бы». Перемалываем в памяти случившееся, пересматриваем карты дефиле, пытаясь отыскать самый лучший путь. Это вам поможет, хотя не стоит питать иллюзий на этот счет. При самой тонкой науке мира, когда на вас идет лобовой кривец в 11 баллов на ледяном подъеме в 45°, тут либо заледенеешь на ходу, либо молись. Это место не создано для людей.
— Слишком рано обо всем этом говорить, Арриго. У них еще будет время узнать, что их ждет. Мы вам все расскажем с максимальной объективностью. Но знайте, что нет стыда в том, чтобы предпочесть жизнь. Умение вовремя отказаться — порой достойнее, нежели упорно двигаться в абсурд.
< > 
«Фенелас и Лемтер Дейкун, мы родители Каллирои». Два еще молодых на вид старика пытались отыскать свою дочь в этом потоке излияний. Их потерянный,
247
тревожный взгляд скользнул по Кориолис, остановился на Альме, переметнулся на меня. Они подошли, представились. «Каллироя не с вами?» — осторожно спросил отец. Он с достоинством держал жену за руку, а та вся тряслась, глаза ее порхали с одного лица к другому, словно испуганные воробушки, не узнавая лиц, не желая ничего понимать. Степп был в объятиях сестры. Я была совершенно одна. «Каллироя покинула нас в дефиле у Вой-Врат. Она так хотела вас увидеть, она очень много о вас рассказывала». Я сама не знала, что говорила. Лапсанская лужа всплыла в моей памяти, как наяву, я думала о предсказании Калли, о ее видении на краю сифона, как отец обнимал ее, просил прощения. Только ничего этого не случилось. Это было лишь (как там говорит Сов?) «преобладающее будущее». Но зачем тогда все это? К чему было это видение? Мать Каллирои упала на колени. Она больше не могла удержать собственное тело, голова ее соскальзывала с плеч. «Она… она что-то оставила… для нас?» — спросила она. «Да», — ответила я на последнем дыхании. Слезы сдавливали мне горло, я едва дышала. Я вытащила из кармана заскорузлый сложенный вдвое конверт, бумага заскрипела, конверт раскрылся, и на нем показалась почти стершаяся надпись «Моим маме и папе». Женщина протянула руки к письму. «Она была особенной девочкой, знаете». «Превосходная огница… как ее отец». Я больше не могла на них смотреть. Я больше не могла.
‘, 
Вам уже случалось проживать моменты полнейшего счастья? Целых пять месяцев рядом со мной был на расстоянии поцелуя, на расстоянии улыбки самый прекрасный бродячий сад, о котором только можно мечтать, хотя было в нем всего две рощицы да один ручеек, которых звали Сифаэ, моя мама, Фуския, моя сестричка, и Аои,
246
моя легкая любовь, мой светлый ручеек, из которого я так любил испить воды, словно сервал в теплую ночь.
Мама моя была бойкая, говорливая, днями напролет рассказывала про свой сад в Бобане. Я был в восторге от размеров ее парка, ее мании все время что-то черенковать, пересаживать, прививать, от ее пускающего ростки бесконечного поиска, что так походил на мой. А затем, с искрящимся взглядом, она объявила мне о существовании небольшой долины, укрытой от ветра, с плодоносной почвой, напитанной влагой, где она высадила самые редкие из своих зерен. А я показывал ей свои, доставал с саней бесценные мешочки зерен, и она вся дрожала от радости, что видит во мне ту же страсть к высокоростным злаковым и устойчивым стелящимся, что застилали ковром все русло в реке ветра. Они с Фускией посвятили этой долине целых два года, вложили в нее все, что было в их руках от растительного разума, мякоти и прикосновения. Они окрестили долину «Степь». Так просто! С тех пор как они узнали, что я выбрался живым из Лапсанского болота, они не сомневались, что скоро меня увидят. И они стали работать еще усерднее, полные энтузиазма, высадили для меня этот зачаточный подвижный подарок в виде секретного парка, что рос густо, поливаемый любовью, в ожидании дня, когда мои ноги ступят на его землю, мой нос вдохнет шелестящие ароматы и рука обрежет в свой черед фруктовые ветви… Парк ждал лишь того, чтобы я выбрал для себя хижину среди архипелага домиков, разместившихся на ветвях деревьев, по краю каньона или по обе стороны реки, которые местная детвора, будучи в восторге от этой затеи, решила — сами решили, настаивала сестра, — построить к моему прибытию. А пока что они приходили туда играть, а иногда и оставались ночевать, чтобы на рассвете увидеть пуму или винторогого оленя. Аои была очарована мыслью,
245
что скоро увидит сад, что мы сможем там остаться. Она ненасытно целыми днями пила рассказы моей мамы и сестры, как молоко. Она составила себе о долине насколько могла богатый образ, она уже представляла нас там…
Так, однажды ночью, после любовных ласк, когда мы с ней лежали поодаль от остальных, она сказала:
— Знаешь, я бы выбрала хижину на реке.
— Там, должно быть, сыро…
— Утром и вечером к реке наверняка приходят звери на водопой. Да и вода на месте, под рукой. Может быть, даже можно ловить рыбу прямо с балкона.
— Фуския говорит, что хижина совсем маленькая…
— А мы ее расширим! Силамфр сделает нам мебель, а Ороси — ветряки и флюгер!
— Думаешь, у них хватит времени? Мы недолго в Бобане пробудем, ты же знаешь Голгота, он захочет сразу идти дальше!
Аои ответила не сразу. И молчание ее было не двусмысленно. А затем она влила мне в уши вот какие слова:
— Я хочу, чтобы мы именно в этой хижине сделали ребенка. И на этот раз я его не брошу. Я хочу видеть, как он растет. Я хочу, чтоб у него были отец и мать.
Я не сразу нашелся что ответить. Я был взволнован, ошеломлен:
— Значит ли это, что ты хочешь… что ты готова отказаться от Верхнего Предела?
— Нет никакого Верхнего Предела. Ороси мне все сказала. Там, наверху, там сплошной лед до бесконечности. Мы все умрем, если пойдем туда!
Я подскочил на месте, сел на колени и посмотрел ей в лицо:
— Как ты можешь такое говорить? Тебе не стыдно? На Дальнем Верховье нас ждет Мать-Земля! Там сад Истоков!
244
Сад всех растений, которые ты когда-либо видела, всех деревьев, всех зерен. Все, что ты знаешь, происходит оттуда! Там родилась, рождается и будет рождаться жизнь! Там мы и устроимся жить вдвоем. Девятая форма ветра — это сила прорастания, сила, благодаря которой все растет, Аои. Это ветер оплодотворяет всю землю вплоть до низовья! Я это знаю, и ты это знаешь, разве нет?
— Девятая форма, Степп, — это смерть. Ты во сне разговариваешь. В тебе говорит растительный мир, а не человек. Ты как только выпьешь воды, ты сам не свой! Ороси все знает, она аэрудит! Она мне все сказала!
— Ороси — человек, а не божество. Я слышал, как она с мамой говорила, они даже между собой не согласны насчет девятой формы. И насчет восьмой, кстати, тоже!
— Ты не хочешь от меня ребенка?
— Хочу.
Аои зарылась мне в грудь. Тело ее было такое легкое, такое подвижное. Я закрыл глаза. Слушал, как порыв ветра прокатывался к нам с верховья, как, приближаясь, проделывал дыры в ветвях линейного леса. Вот он прошел над нами и полетел дальше.
— Хочу. Но я хочу увидеть Верхний Предел. Я хочу прикоснуться к Матери-Земле.
— К Матери-Земле? Мать-Земля — это мы с тобой, дурачок…
π 
Были родители, кто не нашел своих детей. А было и наоборот. Когда Тальвег увидел окаменелое тело своего отца в Лигримской пустыне, то он об этом хотя бы знал заранее. А вот что мать Альмы Лакмила Капис утонула в Лапсанском болоте двадцать пять лет назад, никто Альме об этом так и не сказал. «Да, да, сестричка жива», — продолжали твердить Альме. Вообще, для нас родители
243
впервые умирали, когда нам было лет шесть, от силы семь, в момент разлуки. Затем они умирали во второй раз, от руки известного убийцы: забвения. Но воскресали снова. Для наиболее удачливых. Или же, напротив, умирали в третий раз. Самый худший. Тот, что убивает очнувшуюся надежду увидеть их вновь. Альма так и не пришла в себя.
— Дело не в том, что она мертва. Дело в том, что я столько лет думала о том, кого больше нет, как если бы я все это время была совершенно одна, не зная об этом. Все мои мысли, обращенные к ней, падали в пропасть… Это ужасно.
Вскоре те шестеро из нас, кому посчастливилось увидеть своих родителей в живых, стали вести себя как можно тише. Я старался как можно меньше уединяться с семьей. Хотя удовольствие от этих встреч было глубоко искреннее, и искушение остаться наедине меня не покидало. Ороси оставалась примером такта и понимания. А ее мама мужественно вела с Альмой беседы о Лакмиле. Как можно чаще. Она словно оживляла ее в своих разговорах. Она чувствовала мучительную и неутолимую потребность Альмы знать,
какой была ее мама. Степп же пребывал в совершеннейшем счастье. Он не осознавал, какой мукой его радость отпечатывалась на других. Сов решил ввести отца в наш круг, благо у него был такой же прямой, веселый и располагающий к себе характер, и отношения с Эртовом у нас сразу сложились дружеские. Гектиор де Торож, отец Фироста, был почти незаметным, он растворялся в группе. Ястребник частенько оставлял своему отцу птиц, но в остальном привычное добродушие затмевало его ликование.
Оставался, конечно, Голгот. Сказать, что он мало радовался этому семейному единению, было бы страшным эвфемизмом. Возраст наших родителей и их медлительность давали ему повод для бесконечных и суровых насмешек.
242
А присутствие в строю новых людей, пусть даже место им было отведено в самом хвосте Пака, явно было ему не по духу. И это помимо того, что он предчувствовал присущий подобного рода встречам риск того, что наша группа распадется. Что, возможно, некоторые откажутся от цели. Наш смешанный караван на пути к Бобану для него больше не был Ордой. Больше не был его Ордой. А был просто «стадом».
Что же касается его отца, то никто не осмеливался об этом обмолвиться даже полусловом. Только за неделю до прибытия в Бобан Голгот вышел из поглотившей его немоты. Он растолкал всех нас на рассвете, дал попить чаю и встал перед нами. Он коротко остриг бороду, побрил голову. Он был весь напряженный. Взгляд ясный, пронзительный. Голос его звучал шлепками:
— Так вот. Мы наконец заявились в Норску. Для вас, папы-мамы, тут конец пути. А для нас вот — самое начало. Я тут в последнее время всякого наслушался в Паке. Что Верхнего Предела нет, говорят. Что наверху, что б мы ни делали, все равно не пройдем, что там все типа скалами перекрыто, на ледяной засов заперто, что человеку там не быть. Что нам бы лучше усадить свой зад здесь, в теплом месте, наложить песчаника гору и выделать себе гнездо, да по детенышу выстрочить. И точку на этом поставить. Это мечты старья, которому по семьдесят зим пришлось на позвоночник, кому охота прилизываться друг к другу по-семейному и кому кажется, что и мы пойдем делать свои дела под те же кусты. Я всю жизнь вас протащил, как нос корабля, лебедкой вас тянул, чтоб сюда приволочь, я название этой горы с трех лет знаю: вот она — Норска! Я ничего против ветеранов не имею. 33-я свое дело сделала. Вам просто начальника не хватило. Знаю, вы нам сдадите все ваши каналы, и снаряжение скалолазное, и результа-
241
ты ваших подсчетов. Спасибо заранее. Но знайте вот что: если я вас и уважаю, так только потому, что вы нам предки. Но почтения у меня к вам нет. И пусть вас тут зовут Торож, делла Рокка, Меликерт, для крытней вы, может, и герои, но не для меня. Герои для меня те, кто оттуда не вернулся. Кто отдал то, что еще оставалось в жилах теплого, чтоб проложить дорогу через дефиле! Кто в лед зубами вгрызался, когда рук больше не было. А вы, раз стоите сегодня тут, то значит, вы свое сало с мышц не соскоблили! Что вы в живых остались — и того хватит: раса полувялых ходоков…
Но это было слишком и для моего отца, и для Гектиора до Торож. Они поднялись и стали напротив Голгота:
— Кто ты такой, девятый Голгот? Что ты сам доказал? Ты говоришь о том, чего не знаешь! Ты понятия не имеешь ни о холоде, ни о седьмой форме ветра, с которой вам придется сразиться наверху, ни о льдах! Да что ты вообще знаешь о Норске? Чужие пересказы? Всякие байки? И ты решил, что можешь об этом говорить? Что вправе нас судить, потому что на тридцать лет моложе, руки в карманах греешь, щеки порозовели. Заберись сначала наверх! Померяйся сначала силами с верхветром, вот тогда будешь иметь право говорить о других! Даже отец твой, так и тот отступил! Слышишь?
От-сту-пил!
— Кто?
— Твой отец!
—
Кто, говоришь? — съерничал Голгот с ледяной иронией.
) 
Атмосфера вокруг нас натянулась, как вот-вот готовый лопнуть трос. Ороси готова была вспыхнуть, настолько была задета ее гордость нападками на честь ее семьи. Как обычно и бывало в похожих ситуациях, Пьетро взял на себя роль того, кто ослабляет тетиву:
240
— Голгот, ты не можешь упрекнуть других в том, что они предпочли выжить. Если условия нечеловечны — всегда можно выбрать смерть. Но в таком случае ты выбираешь самоубийство, а не жертвенность. Принесение себя в жертву имеет смысл только в том случае, если остается хотя бы мизерная возможность выжить. А насколько мне известно, когда они приняли решение отступить, дела обстояли ровным счетом наоборот. Если ты продолжаешь идти, когда совершенно уверен, что тебе не выжить, то никакой ты не герой, а просто тупица, что идет навстречу смерти ради славы. Ложной славы!
— Настоящий героизм, девятый Голгот, — это признать стыд того, что ты выжил, — заключила острой стрелой Мацукадзе Меликерт.
Под этим двойным обстрелом Голгот сохранил молчание, которое не означало согласия с его стороны, но по крайней мере говорило о том, что он нас услышал. Атмосфера вокруг потеплела на пару градусов:
— Так, в общем, следующее, что я хотел бы ввинтить вам в башку, так это то, что я не собираюсь плесенью покрываться в вашем Бобане. У вас целых четыре месяца со стариками было, считайте, что вам повезло. В худшем случае проторчим там месяца два, пока прочертим трассу, отшлифуем снаряжение, заполним резервы, ну и первые подходы сделаем к подъему, попривыкаем, что ли, чтоб хорошенько опорные заточить, контр выдубить: каплей, дельтой, алмазом и так далее! Нам крепко повезло, что мы тут оказались в теплый сезон. Но только нечего рассиживаться. Если среди вас есть нытики, которых страх берет смотреть с высоты вниз, или те, кому охота заделаться выбравшим жизнь героем в теплых тапочках, то я никого не держу! Улепетывайте! Я предпочитаю отделывать снега с тесно скрещенным Паком, чем тащить за собой свору
239
беременных баб и промозглых белоручек. Доходит там, на задних рядах? Раклеры, все понятно? По этому поводу хочу добавить, что если у некоторых есть идеи тут вылупить детеныша, так пусть с моей стороны все будет четко: право ваше. Я вам ударом башмака в пузо аборт устраивать не планирую. Но вы сами знаете, что нас ждет. Вам решать!
Насколько я знал, ни Альма, ни Аои, ни Кориолис, ни Ороси беременны не были, кроме как нарастающим желанием быть беременными, и окольными путями, сами в это не веря, они просились задержаться в лагере хотя бы на год. Предложение это исходило главным образом от Альмы и Ороси, как и от Аои с Каллироей до них, в свое время отказавшихся от радости материнства под напором конфликтов, обеспеченных Голготом на этот счет. Им как раз было около сорока, что по словам Караколя значило быть «у подножья горы по имени Дети». Говоря коротко, либо они выбирали Верхний Предел и навсегда отказывались от мысли иметь ребенка, либо оставались в лагере навсегда, зная, что шансы пройти Норску в одиночку равны нулю.
Теоретически оставалась, конечно, возможность договориться с Голготом, но кто в это верил? В его столь необычном мире хотеть ребенка значило выказать неуверенность в Орде. Для него ребенка могли хотеть только те, кто потерял веру в наши шансы быть первыми, быть теми, кто дойдет до Верхнего Предела. Ребенка он мог воспринимать исключительно как предмет переложения надежды на следующую Орду, что было для него неприемлемым. То, что существовали и иные причины хотеть ребенка, было ему совершенно недоступно. «И с чего это ты поверишь в своего сопляка, если сама в себя не веришь?» — бросил он однажды Ороси. Он видел в этом не более чем симптом декадентства, трусости, и в каком-то смысле я был с ним согласен: моя уклончивость в ведении журнала
238
тоже отчасти объяснялась этим. Если наш контр увенчается успехом, так зачем все это? Для кого? Тогда эпоха Орд закончится — в величии, абсурдности, ужасе, да почем мне знать как, — но одно точно, в Знании.
Как бы то ни было, Голгот всегда мог рассчитывать на Арваля, Эрга и Фироста в качестве подпоры у себя за спиной и на Горста с Дарбоном, чтоб выстроить крепкий Пак. И даже на Степпа, Тальвега, да даже на нас с Пьетро. Что тут хитрить, я не был готов бросить Орду в случае, если назреет разрыв. Моя надежда была на то, что после Норски, если выживем, мы обретем знание. И тогда у Ороси мог бы быть мальчик или девочка. Может быть, даже от меня? Ее мама в прошлом месяце спросила меня на повороте какого-то разговора, не хочу ли я детей. Я усмотрел в этом знак, что-то вроде побуждения к намерению. Точнее, я сам захотел увидеть в этих словах тонкий и ненавязчивый намек от Ороси. И я правда об этом думал, но при одном условии: не приумножать число сирот в этом мире!
— Ну и последняя ерундень, о которой хочу вам сказать.
π 
Голгот выдержал долгую паузу. Все молчали. Он обвел взглядом всю нашу ассамблею и продолжил:
— Я через неделю встречусь с одним стариком, которого тут некоторые моим отцом зовут. У меня к нему пара-тройка вопросов есть. И я вас кое о чем хочу заранее попросить. Что бы вы ни увидели, что бы ни произошло, вы не вмешивайтесь. Ясняк?
— Что ты задумал, Голгот?
— Если кому не ясно и кто-то из вас решит свой рыльник в мои дела сунуть, то Эрг того в горизонтальное положение быстро приведет. Он мне слово дал. Шутить с ним не советую. Усекли?
237
Он бросил на нас еще один каменный взгляд, решив убедиться, что мы все поняли. Но мы и без того боялись себе представить, что будет. Мы ждали худшего. «Я не хочу этого видеть», — прошептала Аои Степпу. «Если хочешь знать мое мнение — будет бойня», — прогнозировал без особых чудес один из раклеров. «Я б на это посмотрел! Представляешь, два Голгота лицом к лицу, тридцать пять лет спустя?! Вот это будет зрелище», — добавил другой. И в каком-то смысле он был прав, зрелище вышло еще то.
) 
Наше прибытие в лагерь походило на сказку. Лагерь был отлично защищен, он находился во впадине в форме подковы, у подножия массива с высокими оранжевыми колоннами и водопадами, что стремительно неслись вниз, наполняя целое переплетение рек и ручейков, стелившихся по земле. Ветер там был чистый, ни пылинки, он скользил вдоль заснеженной горной цепи, что величаво загораживала горизонт к верховью. Ночью катабатические ледяные потоки опускались в котловину, но по утрам, благодаря резкому разлому в скале, ротор тихонько втягивал нагретый воздух равнины до самого вечера, принося растениям и людям вполне милосердные условия существования.
Когда мы пересекли амбразуру огромного природного цирка, дрожь радости пробежала у меня по телу, как только я увидел эту цветную мозаику. Пшеничные, ячменные, ржаные поля очеловечивали пространство. Тут чередовались желтая целина утесника, зелень диких, а местами и пастбищных прерий, сиреневый снег цветущих фруктовых садов. В зазорах этого узора просматривались небольшие ухоженные холмики и несколько долин, где угадывались отдельные облагороженные участки земли, расходившиеся каплей к низовью. Время было после полудня, и заходящее солнце протягивало свои длинные,
236
мягкие, почти осязаемые лучи в направлении цирка, так что уйма ребятишек, опрометью бежавших к нам наперерез через поля и ручейки, с долгим завывающим криком радости, казалась мне в таком освещении группкой золотистых львят. За ними, обгоняя, бесшумно шли четыре аэроглиссера в самом русле реки, а еще далее — элиолодки и джонки с голубыми парусами. В целом, пожалуй, около сотни человек вышло нас встречать, собственно говоря, весь лагерь, да с такой радостью, что могла сравниться разве что со счастьем наших родителей снова нас увидеть. Детишки наспех надергали нам пару охапок цветов, а карманы у них были полны бабеолек и подарков, которые они вывалили перед нами все сразу, разведя веселый бедлам.
Я сразу понял Фреольцев, что засиживались здесь месяцами. И Диагональщиков на их велесницах, которые под предлогом того, что привозят вести с низовья, оставались тут сначала на пару дней, затем на неделю, затем на три… Знаменитый лагерь Бобан долгое время оставался простой базой у подножья Норски, потом превратился в деревню с весьма элегантной и округленной архитектурой, стал тихой гаванью, где ниспадающий ветер тут же пробирал наши запрятанные вглубь мечты о доме. Говоря прямо, это место было настоящей ловушкой. Свет, обилие воды, свежий, чистый ветер, определенно плодородная земля — все это привлекало благоприятную энергию. Все, начиная с вычерченных по размерам фонтанов дорожек, с сети орошения, привязанной к расположению ветряков, с места установки двух винтовых фареолов, служивших мельницами, материалов, используемых для бесшумного передвижения глиссеров, от детских игрушек до ткани одежды, все выдавало след и вкус сдержанной и прагматичной элиты, чьи технические навыки и понятия объясняли уместность всего сделанного. Разумеется, лагерь был
235
обязан матери Ороси ее знаниями в аэрологии, а матери Степпа — долговечностью растений и стойкостью бродячих садов. И конечно же, по части политической организации и щедрых традиций приема гостей, а также Фреольцев и Диагональщиков, все бы это не достигло таких высот, если бы не отец Пьетро, а без Голгота-старшего не было бы самых рискованных предприятий по части отвода вод по центральным водопадам и гордого возвышающегося фареола номер восемь, стоящего на вертикальном выступе и пятьсот метров в высоту над входом в цирк. Фареол был оснащен лопастями из луженого стекла, и солнечный свет колесом отблесков разносился от него на полсотни метров к низовью. Но, помимо личных заслуг, в устройстве лагеря явно ощущалось общее участие пяти последовавших друг за другом Орд. Именно общие знания и усилия придавали ему столь благородный вид, так легко и быстро меня привлекший. Если Орде и заканчивать где-то свои дни, так уж, пожалуй, здесь, в лагере Бобан, а не в каком-нибудь селе или даже в Альтиччио, чья горделивость и привычка смотреть на всех сверху вниз были столь невыносимы нам с нашей придирчивой и непримиримой своевольностью.
— Восьмой Голгот здесь?
— Он скоро будет, Арриго. Он пошел рубить ступени на Дженском столбе.
— Он знал, что мы на подходе?
— Да, Ассель вас увидел еще сегодня утром с фареола, в подзорную трубу. Он нас по проводу всех предупредил, прямиком оттуда. А потом и сам спустился по виа феррата — не мог устоять на месте.
— А как Голгот отреагировал?
— Сказал готовить банкет. Ну ты же знаешь его, никогда понять невозможно, что у него на уме. Ни довольный, ни злой. Не знаю. Видно, и сам не знает, как быть.
234
— Ничего удивительного! Его сын нам…
— Да, знаю, нам уже успели сообщить. Никто с места не двинется. Это их дела. Зрелище, видимо, будет малоприятное. Так что постараемся держаться поодаль, когда они встретятся.
Мы были кочевниками до мозга костей, и, где бы ни находились, в каком бы городе или захолустье ни оказывались, в сухой пещере или же в долине, в укрытии или под открытым небом, мы всегда и везде чувствовали себя одновременно и в своих чертогах, и чужаками. Имея с детских лет лишь весьма размытое и отдаленное представление о домашнем очаге, мы испытывали неясное стремление к нему, что пробивалось сквозь уют ночлегов, нашего переносного очага, созданного нагромождением саней, пристроенных один к одному спальников, центрального костра и легкой мебели, что бесконечно строил и ломал Силамфр. Когда отец показал мне «наш» дом, когда провел в эту элегантную, отшлифованную вручную, куполовидную постройку с застекленными окнами, и с чувством, почти несдерживаемым, столь оно было сильным, подвел к спальне, на двери которой было написано «Сов», меня вдруг охватило ощущение, что я наконец пришел домой — в тот дом, которого никогда не было, но который он придумал в силу своего ожидания, дом, где не было и не могло быть никаких детских воспоминаний, на которые я мог бы опереться, — во всяком случае так я думал, пока не решился войти в комнату… Глядя на кровать, я увидел то, что меня потрясло. На мягкой подушке, — невиданная роскошь, — лежал крохотный горсенок, сшитый из простой ткани и набитый опилками… И в этот момент во мне произошел какой-то надрыв, через который выплеснулось далекое воспоминание, тонкий приток крови. Это была моя первая игрушка, да и, собственно говоря, моя единственная
233
игрушка, с которой я спал в обнимку, пока мне не исполнилось шесть, и тут всплыла вся пережитая мной трагедия, когда отец погрузил меня на корабль, отходящий в Аберлаас, и не разрешил мне взять ее с собой. Горсенка звали Ворк! Ворк, да, точно! «Ты теперь взрослый, Сов! Взрослый! Там не будет ни нежности, ни плюшевых игрушек, ты должен будешь к этому привыкнуть!» И вот, они все-таки сберегли Ворка как память обо мне, или, быть может, для меня, все эти годы, все эти нескончаемые годы контра. Я медленно подошел к кровати, я погружался в атмосферу этой одинокой, необитаемой комнаты, сделал несколько шагов по ковру, по ворсу и пыли которого еще никто не ступал, и я почувствовал себя счастливым и словно освобожденным от обиды сроком в тридцать лет… Хотя нет, не освобожденным, но готовым наконец простить… И лишь сейчас понимая, до какой глубины отец был прав: я взрастил в себе независимую, несгибаемую силу благодаря этому жесткому, невыносимому, намеренному лишению, этой дыре, где в качестве компенсации могла устроиться только моя остервенелость. Но я не мог сказать ему спасибо, да и никто не мог, ни один из ордийцев. И все же…
— Узнаешь? — спросил отец с тревогой в голосе. — Помнишь его?
Но я был не в состоянии ответить, я сжал Ворка и утонул в воспоминаниях, сотрясаясь от слез.
∂ 
«Порой требуется целая жизнь, чтобы найти тот самый звук», — сказал мне как-то один старик в Шавондаси, погрузившись в кожаное овальное кресло, стоявшее на остатках выступающего сквозь мокрую грязь решетчатого настила. Старик сидел с непокрытой головой на полном шуне в низовье поселка, подставляя дождю спину. Меня, разумеется, привлек этот комок из кожи, вросший в ко-
232
роткий горизонт тумана вдали от лицемерного городского приема, но помимо этого меня в первую очередь приманил воркующий звук амарантового ветрячка, пристроенного к креслу: от тонких древесных пластинок раздавался тихий, нашептывающий спокойствие звук, словно то щебетала горлица. У старика были крепкие, похожие на доски руки, и он не был ни музыкантом, ни мастером музыкальных инструментов. Он был ремесленником, долгое время проработал специалистом по большим насосным ветрякам, но далее, с возрастом, как он сам себя оправдывал, он отошел к изготовлению «безделушек» и уже уйму лет изготавливал домашние ветрячки, предназначенные для украшения жилья меломанов. Его подлинной страстью был звук, чистый, безмятежный, единственный, по его мнению, достойный того, чтобы сопроводить журчащий повсюду дождь. Не знаю, почему меня так сильно впечатлил этот человек с глубоким, словно проглоченным голосом, которого жители поселка оставили прогнивать в отдалении, покупая у него время от времени в виде почти оскорбительной жалости его неприменимое искусство: я слушал, как он с усердием сосредоточенно молчал чуть больше часа, а на следующий день услышал четыре его ветрячка на частных террасах, во время долгого кровавого заката. Этого мне было достаточно, чтобы понять, как велика его выдержка.
С тех пор и я стал искать звук для своих собственных ушей, хотя знал: во мне нет такого гения, который позволил бы изготовить нечто подобное своими руками, но, возможно, я смогу хотя бы расслышать его, если однажды он попадет в поле моего восприятия.
Мы наконец отправились посмотреть «Степь» — умопомрачительный сад Форехисов. Пошли целой группой. Возглавляли нас Фуския и Сифаэ, разумеется, с нами был
231
Степп, и еще Альма с Аои, к которым с радостью присоединились все четыре раклера.
— А почему бы нам не остаться здесь?
— Как это?
— Остаться здесь жить, в этом саду, устроиться в одной из хижин!
— На всю оставшуюся жизнь?
— А почему нет?
x 
Продолжай, Аои, продолжай, говори дальше… Степп растерянно отвернулся, сестра посмотрела на него с нежностью, а его мать Сифаэ взглядом требовала ответа. Но он не отвечал. Продолжай…
— А тебе самому этого не хочется? Остаться здесь, заниматься садом?
— Хочется.
— Создать наконец что-то, чему ты будешь хозяин! Сделать из этого парка настоящее чудо, ботанический шедевр!
— Это и так уже шедевр. Тут и без моей помощи обошлись! И потом…
— Что потом? — вмешалась Сифаэ. — Или ты боишься? Боишься ослушаться Ордана? Боишься отказаться от своего запрограммированного существования контровщика ветра? Боишься наконец стать собой, так и хочешь всю жизнь оставаться ордийным флероном, пока не кончишь свои дни на Норске, как и все остальные? Боишься выбиться из ряда, сынок? Показать фигу большому и страшному Голготу? Или, может, хуже того: боишься, что у тебя появится ребенок, что придется его воспитывать, учить его жизни?
— Жизнь — это бой, это ветер…
— Какой бой? О каком бое ты говоришь, Степп? О том, где нужно тщетно искать источник ветра, который найти
230
невозможно? Или о том, где надо жить и давать жизнь, порождать, выращивать, создавать, опылять, удобрять зерна, черенковать, пересаживать, ждать цветения, собирать спелые плоды? Где жизнь, о которой ты говоришь? В ледяной пустыне Норски или здесь, у этого ручья? Ты видел, вон куница пробежала? Слышишь, там коты? А запах эвкалипта чувствуешь? А укроп под ногами, а ладанник вон там?
— Я все чувствую, мама, и даже больше, намного больше, ты даже не догадываешься, как много я всего чувствую… Я знаю, где все скрытые источники. Атам, за холмом — пруд с лотосами, а на северо-запад от нас торфяник с мягким мхом и плотоядными…
— Ну так и?
Я готова была встать на колени, лишь бы он нам сказал в ответ: «Ну так будь по-вашему! Мы с Аои здесь останемся. Кто хочет с нами? Альма, ты хочешь? Как тебе такая мысль? А вы, раклеры, что скажете, вы же из Альтиччио бежали не ради того, чтобы теперь погибнуть на Норске?» А Силамфр бы ко мне обернулся и с улыбкой сказал: «А мы с Альмой вот эту хижину-мельницу возьмем. А Голгот пусть сам
отправляется к чертям собачьим на свою Норску!»
∂ 
Аои разрыдалась еще до того, как Степп успел взорваться и послать все куда подальше. Резкость его реакции говорила о силе желания, которой он вынужден был противостоять, чтобы отказаться от соблазна иметь свой дом. Я на секунду подумал, что он уступит этому мощнейшему порыву, этому магниту, который нас всех притягивал к идее, что мы найдем в этом поистине умопомрачительном саду надежный рай, где возможно пришвартовать свои хрупкие любовные союзы, тонущие под грузом Орды; это была надежда обрести то самое избранное место, которое
229
будет дарить нам бесконечное и непреложное счастье; лишенное сомнений и пустоты, оно сможет компенсировать неумолимое воздействие на нас мысли о Верхнем Пределе. Один я бы не осмелился отречься от того, за что держался всю свою жизнь. Если бы я на это и решился, то только из любви к остальным: к Альме в первую очередь, к Аои, к Степпу и даже к раклерам, брось они здесь свой якорь, я бы остался вместе с ними, сегодня я в этом ничуть не сомневался. Да я только того и ждал: увидеть подтверждение моей собственной усталости в отказе других. Наконец получить разрешение распрягать, которое я не мог дать сам себе, а мог только получить и принять от остальных. Отказавшись от зеленого гамака, сплетенного из листьев райского сада этими двумя девочками, Степп (понял ли он это сам?) отказал в этой возможности и нам, Аои, Альме, да и мне. Он своим ором в один присест сделал выбор в пользу контра, против сестры, против матери, против всех жизненных соков, текущих в его жилах, которые жаждали лишь одного: чтобы цвел этот сад.
Именно в этот день раклеры из Альтиччио как раз решились выложить нам свои планы на жизнь. И пошли они сразу к Голготу, который без лишних разговоров принял их решение не идти дальше: присутствие раклеров на Норске, если бы даже они туда и сами рвались, было бы для нас скорее риском, нежели поддержкой с их стороны. В лагере им сразу же пообещали местное гражданство, в «Степи» их ждали четыре отельных хижины, и на лицах их проступило такое облегчение, что на них радостно было смотреть. Здесь путь для них кончался самым что ни на есть счастливым образом: они получили свободу.
Когда я наконец отправился спать в тот вечер, то не мог не думать о том, что завидую им. Грудь моя еще вздымалась от накопленных переживаний. У нашей мельничной
228
хижины (это Альма меня растолкала) какой-то зверь пришел утолить жажду, лакая прямо из ручья. Я как можно тише встал и подошел к перилам,
чтобы получше рассмотреть: это был кугуар. Зверь поднял голову и напряг шею. Он весь словно передернулся, по телу его прокатилось что-то и вылилось глубоким рыком, вырвавшимся откуда-то из недр одним накатом. Вибрация сначала достигла всех моих внутренностей и лишь затем ушных раковин. Я покачнулся, охваченный услышанным, это был тот самый звук. Звук, который я искал с того самого дня в Шавондаси. Я наконец его нашел. Это было мое вознаграждение. Так мне, по крайней мере, показалось.
π 
В жизни часто все выходит не так, как следовало бы. Здесь спору нет. И Голгот мог бы пойти навстречу отцу. Поговорить с ним за пределами города. Ну или, во всяком случае, не на центральной площади. Не на глазах у всех. Но…
< > 
Восьмой Голгот вышел на площадь. Мне хотелось сбежать отсюда и хотелось остаться. В голове звенел голос: «Аои, уходи!» — но я так и осталась стоять, крутясь на месте, глядя вокруг на остальных, и все мы, не сговариваясь, в каком-то животном инстинкте страха, попятились прочь от центра площади. Только Эрг вышел вперед. И Пьетро с отцом не сдвинулись с места. Поверить трудно, как они друг на друга похожи. Я имею в виду Голготов, их и нашего, одни и те же черты. Голгот-старший был чуточку выше, коротко стриженые волосы местами белели, лицо у него было горькое и неприступное, такие же скулы, словно засечки топором, такой же приплюснутый нос, тяжелый взгляд, то же крепкое телосложение, все один в один, но только старше, разумеется, и с чертами еще более жесткими, более выраженными и обветренными. У меня пронеслась надежда,
227
что, быть может, их потрясет это простое чудо сходства, что их взволнует чувство родства, что они в конце концов примирятся, увидев, насколько они близки, насколько в них видны отец и сын… Спустя столько лет разлуки!
π 
Голгот-старший направился к сыну. Тот не двинулся с места. Все разговоры вокруг смолкли. На улице было еще светло. Солнце только-только зашло. Цвета вокруг потускнели. Отец сделал пару шагов, спустился со ступени, подошел ближе к сыну, что не двигаясь ожидал его посреди площади. Остановился. И внезапно протянул ему руку, как будто шпагу обнажил.
— Добро пожаловать, сын.
Но рука его одна осталась в горизонтальном положении. Голгот-младший и пальцем не пошевелил. Глаза его вперились в глаза отца. Он даже не посмотрел на протянутую руку. Он не смотрел на площадь. На нас. На небо, на землю. Он смотрел только на отца. Не моргая. Не переводя взгляд. Только на него. Прошли невыносимо долгие тягучие секунды. Он наконец протянул руку в ответ. Вложил ее в руку отца.
— Так тому и быть! — ухмыльнулся отец.
x 
Это непросто объяснить, но я почувствовала, что это случится
сейчас, поняла по резкому сжатию воздуха. Один из вихрей Голгота взорвался внутри и вырвался наружу. От внезапного толчка Голгот на какое-то время застыл, как заторможенный, тень, отделенная от своего источника. Снаружи в нем ничто не выдало происходящего, разве только для того, кто неотрывно смотрел на его руку. Весь вихрь целиком ворвался в его правую руку.
π 
Рука Голгота сжалась вокруг руки отца. Он сдавил ее. Зажал в тисках. Отец, не ожидавший такого приветствия,
226
постарался освободиться. Но было поздно. Послышался звук ломающихся костей. Четкий треск перелома. Затем еще один. И еще. Тишина. Еще один. Сухо. Глухо. Ужасно. Палец за пальцем. Фаланга за фалангой.
—
Фъярска! Фъярска! Къёрскра!
) 
Когда эти сокровенные, изрубленные, сверхвысокие крики вырвались из его глотки, я содрогнулся от ужаса. У Голгота больше не было ни горла, ни голоса. Вместо этого был клюв, клацающий, дробящий слоги, выбрасывающий их в пустоту. Он был похож на вибрирующую глыбу гранита. Вся его ярость была заключена в хватке ладони, необузданная ярость билась в этой руке, и ни одна иная часть тела не двигалась — это впечатляло куда больше, чем град ударов, это леденило куда сильнее, чем самая отъявленная озлобленность. Он грубо и прямо дробил с неслыханной жестокостью каждый палец, каждый твердый стержень в костяном остове руки своего отца. От нестерпимой боли тот рухнул на колени, из гордости, из не знаю какого идиотского кодекса чести он старался принять и выдержать схватку такой, какой ее выбрал сын, вместо того, чтобы постараться освободиться, ударить его свободной рукой, впиться в него ногтями, да хоть укусить до крови — все что угодно, лишь бы он разжал свой захват. Но нет! По лицу Голгота-старшего лился пот, сопли стекали из носа в рот, он впивался зубами в губы, чтобы сдержать вопль, не подарить сыну того, что тот жаждал получить, — это варварское, отвратительное унижение, из истерзанных губ сочилась кровь, стекала по подбородку, сбегала на камзол. А Голгот-младший продолжал сжимать. Он сжимал изо всех сил, скопившихся за целую жизнь ожидания этого момента, он сжимал сведенными судорогой пальцами, опьяневший от собственной силы,
225
утонувший в своей ярости, что так долго подчинялась жесточайшей дисциплине жажды мести, все более и более ужесточал степень пытки, инстинктивно определяя все, что в этой кисти оставалось хрупкого, и раздавливал эту арматуру из кальция.
Но вдруг зажим стал ослабевать. Сын, похоже, слегка отпустил пасть своих пальцев, возможно, в порыве жалости, хотя скорее от усталости. Рука его отца походила на бескостную жижу. Он хотел подняться, но Голгот, охваченный новым приступом ярости, свернул ему запястье с омерзительной жестокостью. Отец заорал, горло ему схватило спазмом, и вдруг его стошнило прямо на себя, у него даже не сработал рефлекс наклониться. И тогда, утратив всякое самообладание, поняв, что речь идет о жизни, он начал отбиваться и стараться другой рукой разжать кровавые тиски. Но все его хаотичные жесты лишь соскальзывали по мраморному монолиту сына. Голгот уже переместил свои тиски над запястьем, впившись в предплечье. Докуда? Докуда, Святые Ветра? Вокруг некоторые жители лагеря, не выдержав, бросились ему на помощь, но Эрг уложил каждого из них одним захватом.
— Хватит! Остановись! Сжалься! — кричала Ороси, и Пьетро, а за ними и вся Орда.
Но у Голгота больше не было ни барабанных перепонок, ни языка.
—
Фъярска! — заорал он снова. —
Квискер!
При этих словах его отец, словно в порыве гордости, нашел в себе силы нанести левым локтем удар по щеке сына. Голгот не стал уклоняться от удара, хотя замах был достаточно сильным, не отпустил правую руку отца. Он сделал два жеста очень резких и очень жестоких. Звук переломанных костей был непереносимый; плечевая кость торчала из локтя. И тогда Голгот-младший отступил. Но
224
даже на земле панцирь восьмого Голгота выглядел крепко, несмотря на возраст, и мне даже показалось, что он сейчас снова встанет на ноги. Но помимо переломов та немыслимая ненависть, которую питал к нему собственный сын, прибила его к земле еще больше, чем пытка, которой он подвергся, если это вообще было возможно. И, сотрясаемый спазмами, он рухнул навзничь и замер — сестрички бросились ему на помощь.
Голгот, словно пьяный, отошел на пару шагов и сел на лавочку. Он вытер кровь с щеки, словно натирая сталь на бумеранге, и посмотрел на нас. Никто не захотел встретиться с ним взглядом. Разве только Караколь, по своему обыкновению шедший вразрез со всеми остальными, широко ему улыбнулся, подошел и уселся рядом с ним, потрепав по плечу. Голгот не стал его прогонять.
— Ну так что, Гого, молодца?! Папаша твой не из первых рук! Свои старые кости греть не будет! Ваш поединок не обошелся одним пожатием руки! Не будет больше твой патриарх свою железную хватку демонстрировать, а?!
Я, наверное, был единственным, кто на этой игре слов выразил что-то вроде улыбки. Остальные покинули площадь, за исключением Эрга, верного Фироста и Ороси, которая без лишних дискуссий стала перематывать руку Голгота бинтом с камфорой. Не знаю, испытывал ли я жалость к отцу Голгота. Думаю, я, как и все, был совершенно ошарашен, не в состоянии понять, как можно сделать
нечто подобное по отношению к собственному отцу, и я в свою очередь тоже ушел с этого места, повторяя себе по кругу, словно заклинание экзорциста, словно в потоке излияния чувств; «По крайней мере он его не убил…»
π 
Праздник в честь нашего прибытия состоялся вечером без Голготов. Мой отец подготовил речь. Приветствен-
223
ную? Куда более того. Он стал зачитывать ее, стоя плечом к плечу с Мацукадзе. Затем свернул свиток. Несмотря на кутерьму, разведенную детворой, праздник едва теплился. Буфет, разноцветные воздушные змеи, броски винтов, метровая арфа — все при этом было на месте. Это могло бы стать невообразимым примирением через тридцатилетнюю пропасть. Соединением двух наконец сплоченных Орд. Единением. Прощением. Взаимным. Все это еще могло произойти. Если бы мы забыли о наших Трассерах. Тогда бы все было иначе. Мой отец объявил, что праздник перемещается на поляну, и все последовали за ним. Пройдя по укрытой листвой галерее, мы очутились в так называемой «Лесной Опере». Это был концертный зал под открытым небом. Сценой служила прерия. А ясени, окружившие ее подковой, возвышались на пятнадцать метров в высоту. К стволам привинтили красные сиденья. Подняться на них можно было по винтовым лестницам, обвивавшим деревья. Всего было с сотню мест. С ветвей свисали прозрачные шарики с обдуваемыми угольками внутри. Светлячки. Отец вышел на середину поляны, в темноте его не было видно. Холодный ветер шуршал листвой. Отец дождался полной тишины и заговорил в специальный конус, голос его громко раскатился по всей округе:
— Из двадцати ордийцев, отправившихся на Норску тридцать лет назад, тринадцать не вернулись. Для вас здесь это просто цифра, пропорция, процентное соотношение. Порою просто имена, знакомые по книгам. Для меня, для нас, для тех, кто выжил, без стыда, они были частью нас самих. Не братьями, нет. Не дочерьми, не сыновьями: вы в то время ничего конкретного для нас не представляли, ты в моем сердце больше ничем особым не был, Пьетро, теперь я могу это признать, — воспоминание о мальчугане, изрядно потрепанное временем, даже близко
222
не напоминало то, кем были для меня они. Моя семья, моя плоть, — Алк Сербель, Карпик, Подберски. Когда я вошел в Лофенскую излучину, то прекрасно понимал, зачем я здесь: я шел к Верхнему Пределу. Мы все этого хотели. Но три недели спустя я больше ничего не понимал и не хотел. Во мне не осталось ничего, ни единого чувства, белая душа. Наша Орда была мертва. По факту она еще существовала, в ней еще оставалось семь ордийцев, она могла продолжать контр. Но она была мертва.
< > 
Стоял запах влажной прерии, угля и холодного воздуха, спустившегося с вершин. Я поглубже устроилась в кресле, закутавшись по самый подбородок в шерстяной плед. Степп был на два сидения выше на том же стволе, не сказать, что успокоившийся.
— Итак, сегодня вы мирно восседаете в креслах нашего амфитеатра, вам меня не видно, но слышите вы меня хорошо. Вы 34-я Орда. И вы считаете себя лучшими из-за вашей скорости, ваших трех лет форы по отношению к нам. Потому что вы идете прямой трассой, потому что вы молоды, еще достаточно молоды. Но вот что я скажу вам на этот счет. Ваш переход через Вой-Врата, стоя, Паком, цепным блоком, — единственный в анналах контра. Ваша переправа через Лапсан — почти легенда. Вы пережили пять ярветров, если не ошибаюсь. Нам повезло наблюдать за вами изнутри целых четыре месяца, укрываясь за вашими спинами, оценить ваши опорные, испытать ваши спайки, вашу компактность в дельте, в капле, диаманте, конусе. И что, скажете вы? Да то, что вы действительно заслуживаете вашу неслыханную репутацию. Вы себе не представляете, сколько ожиданий на вас возлагается по всей линии Контра. И не только среди обычных подветренников. Мы получаем регулярные отчеты по ветрякам оси Беллини.
221
Мы приняли сотню проходящих Диагональщиков, весь Фреольский авангард, массу исследователей. Вы думаете, что Совет Ордана вас бросил. Что его фаланга, Прагма, направила по вашему следу Преследователей. Вам кажется, что в Аберлаасе только о том и думают, как бы сделать так, чтобы фреольские эскадры вас обошли, потому что вы считаете, что они оставили сам принцип пеших Орд, но пока просто не решаются об этом заявить. Вы полагаете, что вы последняя Орда, устаревшая элита, без какой-либо надежной поддержки, что Предел, к которому вы стремитесь, недостижим, что сразиться с Норской и умереть там будет просто нелепо. И вы правы. Это нелепо. Вы правы относительно каждого из этих утверждений. Так вот…
π 
Голос отца поник на последней фразе. Ветер свистел холоднее возможного. В тишине повсюду раздавался кашель. Я испугался, что он на этом и остановится. Меня охватила грусть, я был убит его словами. Какое разочарование. Но Мацукадзе взяла слово своим хриплым голосом под светящимся шаром:
— Здесь вы в лагере Бобан. Это своего рода рай. И если бы мы могли — Арриго, Гектиор, Сифаэ, я, — мы бы привязали вас к этим деревьям, к крышам наших хижин, мы бы оставили вас здесь до конца наших дней. Мечта стариков, не правда ли? Вы стали смыслом нашей жизни. И в то же время… В то же время вы наверняка и сами понимаете, что мы так и не смирились с провалом, который потерпели на Норске. Мы долго думали, как вам передать то, чему научила нас наша собственная трасса, там, наверху. Как поделиться с вами техническими данными, ключами ледяной аэродинамики, как считывать лавины… Эти знания будут вам крайне полезны, не недооценивайте их. Мы гордимся тем, что вы здесь, чтобы
220
продолжить наш путь. Гордимся и очень завидуем. И еще мы ужасно боимся за вас, за то, что вам придется выдержать. Я могла бы завести с вами разговор в манере Голгота, припомнить Святой Затрав, сказать вам, что если вы не готовы оставить собственные кишки на норском снегу, так даже не суйтесь. Но это было бы слишком просто. На Норске одного затрава будет мало. И крепость характера вам тоже не поможет. Она скорее вас погубит. Это высшая ловушка для любой Орды, присущий ей соблазн. Не ищите силы, ищите ясности. Что касается нелепости пути по отношению к погибшим, к заплаченной вами цене, здесь судить вам самим. Я уважаю мнение Арриго. Но я считаю иначе. Я лишь хотела бы вам напомнить, что тридцать три Орды положили свои жизни ради того, чтобы вы сегодня были здесь. Понимаете вы это или нет, считаете ли вы себя лучшей Ордой в истории или нет, не забывайте о том, что в первую очередь вы — конечный продукт восьмивекового контра! Все ваши приемы, трасса, которой вы придерживаетесь, даже сама ваша физическая конституция — все это инкарнация общего наследства, которое вы сумели чудесным образом принять, я это в полной мере признаю, но оставайтесь трезвы. Там, наверху, каждый шаг, что вы совершите, сделайте его в первую очередь для себя, чтобы выжить. Сделайте его и для нас, если это может вам помочь. Но главное — сделайте его для них! Быть может, в самые мучительные моменты вы почувствуете, что ведете за собой армию мертвецов, что пойдет вслед за вами толпой, и может, вас порой поддержит чей-то затерявшийся вихрь, порой ваша собственная вера, порой любовь, а порой просто костыль, подставленный инстинктом. Это все, что я хотела вам сказать. И даже этого уже слишком много. Спасибо вам и доброй ночи. Да хранит вас Ветер!
219
Следующие дни те, кому выпало такое счастье, провели со своими семьями. Для других нетерпение увидеть Норску было настолько сильным, что небольшой отряд в составе Арваля, Эрга, Фироста и Тальвега под предводительством Голгота отправился в дефиле на разведку. Три дня спустя от них все еще не было вестей, и в лагере начала подниматься паника, но к вечеру они вернулись.
— Ну как там наверху? — спросил я без околиц.
Вся Орда была в курсе и собралась в крут. Нас буквально лихорадило от любопытства. Фирост опустил голову к шнуркам, которые никак не мог развязать, потому что делал это только одной рукой. Другая была перебинтована. Арваль был весь прозрачный, он ничего не говорил. Эрг достал крыло и развернул его на земле. Оно было изодрано в клочья. Он вздохнул и свернул его в комок. У Тальвега лицо было изрезано сотней красных засечек. Голгот снял кожаный шлем и положил его на каменную лавку. На лбу у него красовалась фиолетовая гематома. Шлем внутри был перепачкан кровью. На щеках бороздами пролегли порезы. Я снова повторил вопрос. Голгот ответил:
— Честно говоря, я такого никогда не видел. Это жестко, народ. Очень жестко.
— Как ярветер? — помедлив, спросил Сов, чтобы стало яснее.
— Ярветер не бесконечный. И от него хоть спрятаться можно, засунуть рожу в землю поглубже, если сильно понесет.
— А тут нельзя?
Голгот усмехнулся в ответ. Он переглянулся с Эргом и Фиростом, которые разматывали веревки, вернее то, что от них осталось. Одни оборванные куски.
— Мы хотели пойти по-быстрому, дойти до их долбаной Лофенской излучины, там, где, как они говорят, все
218
самое как раз и начинается. В общем, для начала, мы не слишком тепло оделись. Ну да ладно, проехали. Вчера, где-то через час после рассвета, мы дошли до излучины.
— И что там?
— Ты рот закрой и слушай! Арваль высунул голову за поворот. Там как прямой угол получается, типа того. Через две секунды так назад и отскочил, еле собрали. Тогда я пошел. Я как только повернул, сразу ледорубом по стене заехал. Даже не присматривался. Ледоруб встрял, но совсем слегка, у меня вся рука до локтя волной пошла. Я левой рукой второй врубил, как если б в гранит его вбить хотел. В общем, кое-как закрепил! И открыл глазюки. А передо мной никакого коридора с двумя стеночками не было, как до этого. Вместо него стена ледяная, белее белого, даже типа красивая, зеркало такое, градусов там… Сколько там было, Тальвег?
— 60° наклона, высота пятьдесят метров до первой площадки. Скат из чистого льда. Мы никогда ничего подобного не видели, даже около!
— И это единственный проход, — добавил Фирост, — сколько вверх ни смотри, другого пути нет. Мы все осмотрели. Поверить не могли! Или этот уклон, или просто вертикальные стены везде! Да еще и повыше, чем на Вой-Вратах!
— Так и что вы сделали?
— Я попробовал три-четыре захвата, посмотреть, как пойдет, — снова заговорил Голгот. — Ледоруб-крюк. На силе. Как только руку поднимаешь, ее ветром сразу за спину откидывает. Кривец мне в рукава заливался холодом до самого плеча, ледяной хоть вой. На одном ухвате я сорвался. У меня глаза заледенели, я не видел ни зги. Так и бахнулся с четырех метров рожей в скалу. Как Арваль. Бах! Уносите! Там если сорвался, то все, не остановишь-
217
ся. Лед льдом и есть. Скатишься, как камушек по мрамору! Был бы я на пять метров выше, так бы ёкнулся — и не было бы у вас больше Голгота, ложечкой бы соскребали. Эpra бы на мое место поставили и конец истории!
) 
Голгот сгримасничал, поморщив шишку размером с яйцо, что выскочила у него на лбу. В его глазах не было упадка духа, который явно читался во взгляде Арваля — ему потрепало позвоночник, и Альма его как раз осматривала, — скорее матовый отблеск глубокой вдумчивости. Такой же отблеск, как был у Эрга в момент схватки с Силеном, взгляд, который, наверное, присущ всем тем, кто знает: им предстоит сразиться с соперником настолько сильным, что не может быть никакой уверенности в победе. И весь рассказ об их разведывательной вылазке, все их раны, что напоминали нам о пережитых ярветрах, о некоторых особо мощных кривецах, что встречались на переходах горных массивов, все это блекло по сравнению с состоянием души Голгота, которое ясно давало понять, какое испытание нас ждет. Одним ясным днем отец полугордо, полупокорно показывал мне заснеженные вершины, что заслоняли высокой цепью весь горизонт. И я был крайне впечатлен, я никогда за тридцать лет контра не видел ничего подобного.
Норска была не просто горным массивом, через который лежал наш путь, это был, как и повторял мне все четыре месяца отец, «отдельный мир», мир высокогорья, где обнулялись все наши знания в геофизике, весь накопленный доселе опыт, все техники и тактики контра по ровной поверхности и горам средней высоты. Я ушел к себе в комнату с подбитым настроением. Отец постучал, молча вошел и сел рядом на кровать. Он заговорил сам:
— Вам придется всему учиться заново, Сов. И вашему разведчику, и Голготу, пусть он для вас лучший из лучших,
216
и вашему фланговику Горсту, хоть он и очень хорош, я его в деле видел, и столповику Фиросту, и фаркопщикам… Как бы тебе это объяснить? Все это там, наверху, не будет иметь никакого смысла! Единственные, кого вам стоит постараться уберечь, это, пожалуй, ваш геомастер Тальвег и аэромастер Ороси. Они вам пригодятся.
— Почему они?
— Потому что сложность будет не в том, чтобы продолжать контр, а в том, чтобы карабкаться метр за метром
вверх и не сорваться вниз. Нужно хорошо понимать трансформации снега, наблюдать за скалистой породой, льдом, просчитывать уклон, риски, принимать во внимание степень освещенности солнцем и экспозиции, замораживания и оттаивания. Да, вам придется идти под жуткими ветрами, особенно на определенных участках перевала, на хребтах и в ущельях, особенно вначале. Но мы снарядим вас ледорубами, одеждой из специальной ткани, интегральными шлемами, и если ставить крюки регулярно, то с ветром вы справитесь. Проблема в том, что на Норске ветер — не единственный противник. Нельзя забывать про высоту, уклон, расселины и лавины, послеобеденные обвалы снежных блоков… Ну и холод, холод и еще раз холод. Ты увидишь, как леденеют тела тех, кого ты любишь, как они срываются вниз, разбиваются вдребезги, один за другим. Порою это просто счастье — умереть первым…
— Как же нам быть?
— Поступай как хочешь, Сов, иди, раз такова твоя судьба, судьба вашей Орды. Ты не простишь себе, если останешься. Если даже не попробуешь. Но иди только в том случае, если ты всей глубиной души решил, что готов умереть за Верхний Предел. А главное — видеть, как умирают другие.
(обратно)
XVI
НОРСКА, ЧЕРЕЗ БРЕШЬ

— Голгот, стой! Стой!
— Крючьев больше нет, ты же видишь! Это точно не здесь!
π 
Голгот ничего не ответил, только поднял голову и посмотрел вверх на ледяную стену.
— Эта сторона уже три часа как в тени. После дождя все заледенело! На скалу посмотри, слепота куриная! Это же лед сплошной! Нужно спускаться, пока не стемнело.
— И куда ты хочешь спускаться? — перебил меня Эрг.
— На каровый ледник!
— Ты сдурел, что ли? У нас три веревки на восемнадцать человек! Мы туда в жизни не доберемся дотемна!
— У нас выбора нет! Здесь же мы спать не можем.
— Можем.
Эрг захлопнул забрало на шлеме и резко повернулся ко мне спиной. Он скрутил веревку восьмеркой и продел ее в карабин, потянулся к щели и закрепил в ней распорку, проверил и зацепился.
214
— Можешь подниматься, Гот!
Фескатт Тер!
Я даже не пробовал спорить. У меня все равно на это больше сил не было. Пусть делают, как хотят. Уступ, на котором мы держались, был два на десять, если не меньше. Балкон без перил над бездной. Вниз я уже даже не смотрел. Метров двести, а то и триста до фирнового склона. Отвесной стеной. С небольшими выступами кое-где, слишком маленькими для бивуака. Я с трудом разогнул квадрицепсы. А какого было остальным я даже представить себе боялся, особенно, что касается девочек. Степп страховал Аои. Вернее, втаскивал ее наверх весь последний час подъема. Тальвег вбил шипы в твердеющий снег, — они вместе с Фиростом поднимали Альму силой рук. Вот обеих наконец вытащили из-за ребра уступа. Оказавшись на ровной поверхности, те не сели, просто рухнули. Ни вопросов, ни благодарности. Они были за гранью всего этого, они просто хотели выжить. Механическим жестом я счистил намерзший на стену снег. Постучал кулаком по шлему, чтобы сбить с него лед. Голгот снова решил идти первым. Его никто не подменял уже шесть-восемь, если не десять мер. Сначала мы протестовали: Арваль, Фирост, Эрг. Даже Караколь вызывался. «Спокойно, обезьянки, приберегите ваш затрав на потом», — ответил Голгот. Какое потом? Он себя изводил из гордости, непонятно что и кому хотел доказать. Абсурд, да и только…
— Эрг, лучше бы ты его сменил…
Но Эрг сделал вид, что не услышал. Он смотрел на Голгота, поднявшегося на два метра, и негромко подбадривал его:
—
Фескатт Тер! Иди по щели! Еще четыре-пять метров и точно крюк найдешь! Они не могли в другом месте пройти!
—
Бернак! Скользко, как дно у бутылки!
213
— До уступа метров тридцать, не больше. Сможем на нем устроиться на ночлег.
— Ага…
—
Савек?
— Як…
— Тебя сменить?
— …
— Эй, Гот?!
Тер шоми?
—
Савек.
) 
Он карабкался вверх, как мог, цеплялся руками и ногами за щель. Единственный проход был только наверх. Со стороны было ясно насколько ему тяжело. Ледяной ветер доносил с вершин до наших ушей сквозь толстые кожаные шлемы звук карабинов, бряцавших на обвязке Голгота при каждой смене зацепок. Это немое стальное щелканье, лишенное привычного бурчания и брани, делало очевидным его страх и подтрунивающую над телом тетанию, овладевавшую мышцами. В теле Голгота стали проявляться однозначные признаки критической усталости, предупреждение: сначала трясущаяся нога в районе голени на серии опасных перехватов, выполненных на кончиках пальцев, затем руки, подверженные в течение слишком долгого времени подтягиваниям с захватами на одних пальцах, и теперь связки расплачивались за усилия. К тому же ему мешал нескончаемый мелкий снег, похожий на воду, затекавший в рукава, бежавший по лицу. С огромным трудом Голгот себя все-таки протащил по ледяной стене метров на десять вверх. Теперь он был на самой сложной точке этого участка: ему предстоял внушительный наклон с нависшим над ним снежным карнизом, который то застывая, то снова тая в течение дня, образовал настоящий ледниковый купол. Черная скала под ним блестела гладким льдом.
212
— Крюк! — прорычал он наконец. — Тут крюк!
— Бери на карабин!
— Як…
Голгот с трудом закрепился ногой и локтем в щели. Под порывом ветра веревка закачалась змейкой у него за спиной, он слегка пошатнулся, что выдало пуще прежнего его запредельное физическое истощение.
— Крюк заледенел…
Пласк! — крикнул он бесцветным голосом.
Эрг обвел взглядом наш уступ, нашел Фироста и тихо подозвал его. Он вполголоса сказал ему взяться за страховочную веревку и быть наготове.
— Он упадет.
— Не говори ерунды, макака!
— Как только он сорвется, ни секунды не теряй: тяни веревку, сколько сможешь. Чем больше намотаешь метров, тем короче будет падение! Ты меня понял?
— Понял, только ничего он не упадет. Это Голгот, черт дери! Он знает, что делает!
Затем Эрг снова обратился к Голготу, мягким и успокаивающим голосом — я был в панике.
— Сбей с крюка лед ледорубом и зацепи оттяжку!
На одном дыхании Голгот вытащил правую руку из щели и стал на ощупь искать за спиной нужный карабин, чтоб отцепить ледоруб, но вместо этого только отстегнул две оттяжки, которые загрохотали по стенке вниз и врезались в снег. Пьетро их подобрал. Голгот не бросил идею с ледорубом, и, придвинувшись всей грудью к стене, стал бить по крюку ударным треугольником, прикрученным к шлему — раз, два…
— Давай! — поддерживал его Фирост. — У тебя получится!
— Держись!
211
Голова Голгота снова бахнула по льду, как клювом по стеклу. И снова. И еще раз. Правая рука у него задрожала, задергалась в конвульсиях, и я машинально стал считать метры, отделяющие Голгота от выступа, — десять, одиннадцать, двенадцать — я бросил взгляд в пропасть и, задыхаясь от ужаса, стал хватать горлом ледяной воздух, «держись, Гот, давай держись!», но вскоре спазм судороги одержал верх и прокатился дрожью по всему его телу…
— Прыгай, отпусти руки! — крикнул Эрг.
Но Голгот уже разжал пальцы. Немыслимым рефлексом он оттолкнулся от стенки ногой и в безнадежности смирился с неминуемым. Оценить длительность падения в процессе невозможно, а память воссоздает лишь реконструкцию в замедленном виде. По правде говоря, все случилось так быстро, что никто не успел отскочить от кучи плоти и одежд, грохнувшихся на нас. Тело Голгота натянулось, все конечности вытянулись, и оно ударилось о гребень, окаймлявший откос. От удара сжалось в комок, отскочило от снежного матраса и полетело прямиком в бездну.
π 
Я посмотрел на распору. Затем на Эрга. На Фироста. На веревку. Вся система выдержала удар. Голгот пролетел в метре от меня. Но все произошло так быстро. Я боялся двинуться. Боялся наклониться и посмотреть, что… Что там осталось на конце веревки… Фирост снял шлем, посмотрел на Эрга. Он был сокрушен. Он удержал веревку, это правда. Но у него не сработал рефлекс, Фирост не начал тянуть во время падения. «Пойди посмотри!» — сказал ему Эрг. Вес падающего тела пришелся ему как раз на уровень таза. Трос, зацепленный за обвязку, прибил Эрга к скале, когда груз тела маятником полетел вниз. Махаон расшиб себе плечо. Ему здорово досталось по почкам. Он морщился от боли. Веревка, словно металлическим
210
тросом, разодрала ему руки и прошлась по бедру. «Пойди посмотри» — повторил он.
— Голгот! — крикнул Тальвег. — Голгот!
Арваль сбросил спасательную веревку. Он не ждал распоряжений. Тот, кто последние тридцать пять лет давал ему приказы, теперь болтался под отвесом. А значит, нужно было идти на помощь.
— Арваль, ты его видишь? — спросила Ороси сдавленным от страха голосом.
— Як!
— Как… Какой?
— Весь обмяк, Ош-Ош! Не очень!
— Он жив?
— …
— Эрг его сейчас поднимет! Держи веревку так, чтоб его не качало, если можешь!
— Альма! Силамфр ранен, — позвал ястребник.
— Кто?
— Силамфр!
— Что такое?
— Ледоруб Голгота угодил ему прямо в голову. Он сознание потерял! Похоже рана серьезная!
) 
На уступе началась гистерезисная паника, время как будто замедлилось, пошло с отставанием. Неразборчивые крики раздавались из подшлемников, вырывались из шлемов, выброшенные в воздух приказы сливались с ледяным туманом, медленно спускавшимся на нас с вершины. Действия, которые должны были соответствовать приказам, словно притрусило снегом, они сдвинулись во времени. Катастрофа была настолько очевидна, что все во мне отказывалось ее принять. Затем шлюз открылся, и реальность рванула полной мощью. Если на конце веревки мы сейчас
209
тянем мертвеца, то 34-й Орде конец. Я это понимал, как и все остальные. Это было написано на их обнаженных лицах, все поснимали шлемы и стояли, держа их в руках, с потерянным, глупым видом, это было видно по резким жестам Фироста и застывшему ужасу на лице, его чувство вины бросалось в глаза еще больше, чем всеобщее исступление. Ни Эрг, ни Фирост, ни кто бы то ни было другой никогда не будет Трассером уровня Голгота, никогда. Я даже не знаю, был бы я сегодня здесь, если бы ни его харизма, ни ведущая за собой остервенелость, не знаю, был бы здесь Пьетро, решились бы мы выйти из лагеря, продержались бы эти шестнадцать дней в самом сердце Норски, после всех этих шквалов, противоречащих друг другу предупреждений, что обрушились на нас в Бобане, после сдержанных, но чудовищных рассказов наших родителей, после ледяной смерти, которую они пережили до нас и которая теперь отнимала у нас Трассера. Тальвег отстегнул его и положил на покрывало; Ороси, что-то ему нашептывая, склонилась над его лицом, пытаясь понять, дышит ли он, приподняла его голову и освободила шею. Изо рта у него стекала струйка крови. Она перевернула Голгота набок, расстегнула куртку и положила руку ему на сердце. На ее сжатом лице показался проблеск, гримаса ужаса стала понемногу расползаться, раздвигая ткани испуга:
— Сердце бьется ровно.
π 
Альма оставила Силамфра и подошла к Голготу. Она прочистила ему рот от сгустков крови. Ощупала кости по всем конечностям. Определила контузии и раны, оценила их степень. После этого решилась снять шлем. Крайне осторожно. Кровь слиплась у него на затылке. Она стала аккуратно счищать ее снегом. Вид у нее был совершен-
208
но изможденный, Альма дрожала. Мы столпились вокруг Голгота, мешали ей. Вот прозвучал вердикт:
— Он потерял сознание. На первый взгляд переломов нет. Нужно следить, чтобы он не задохнулся. Удар головой был сильный, но думаю, ему крупно повезло, его отбросило рикошетом от снега, это амортизировало шок. А вот Силамфр…
— Что с ним? — еле прошептала Аои.
— Похоже, что при падении ледоруб Голгота пришелся ему прямо по голове. У него кровоизлияние из носа и из ушей. Это значит, что у него черепная травма.
— С ним все будет в порядке?
— Если травма неглубокая, то возможно. Но чтобы спасти, его нужно немедленно переправить в лагерь. Как можно быстрее.
— Но скоро ночь, Альма. Нам нужно срочно ставить привал. Я даже не уверена, что мы все вместе поместимся на платформе. Нас восемнадцать. Вместе с Эргом трое раненых, и мы все еле живы. Предлагаю принять это решение завтра. Сейчас главное пережить ночь и устроить их в тепле.
x 
Никто не стал со мной спорить. Насколько хватало взгляда, перед нами синели склоны, тень наползала на морену, по которой мы шли сегодня утром. Свет еще держался на вершинах хребтов. А если Голгот не очнется? Альма достала все свои пузырьки, пытаясь привести его в чувство, пока Тальвег мерил ширину уступа и подсчитывал количество спальных мест:
— Мы все не поместимся. Только пятнадцать, максимум шестнадцать.
— И что же делать?
— Нужно двое добровольцев, согласных спать рядом, в гамаках. Мы закрепим их в щели и подвесим. С двойными
207
одеялами из шкуры яка, должно быть терпимо. Главное, чтоб ветер не поднялся, иначе…
— Что иначе?
— Иначе будет на два трупа больше.
) 
Но грань между черным юмором и белой правдой стала почти неразрешимой. Уступ был узкий, пропасть совсем рядом, усталость и подавленность настолько массивными, что установка палатки превратилась в медленный кошмар малопроизводительных действий, никто не знал, что делать, за что браться, каждый перекладывал дело на других, неловко жался к стене, старался держаться как можно дальше не в состоянии быть полезным… Только Ороси и Горст совершали какие-то осмысленные действия; Пьетро тяжело дышал, стоя в снегу на коленях; Фирост и Дарбон не отходили от Голгота; Эрг вправлял себе позвонки и перевязывал пораненную ногу; у Арваля стучали зубы, пока он сматывал веревки. Посреди уступа кучей лежали Аои, Кориолис, Ларко и, кажется, Стреб, может кто-то еще, я не в силах был разобрать. Они были в полубессознательном состоянии и не могли даже шар зажечь, чтобы отогреться, не то чтобы помочь с палаткой.
Что касается меня, то я старался следовать указаниям Ороси, оставаться в контакте с остальными, сознательно, насколько мог, а про себя думал об отце, по кругу прогонял наши разговоры, снова составлял и перекручивал слова, которые он мне вдалбливал, пока я наизусть их не выучил за эти два месяца: «Самое трудное, это когда все становится настолько абсурдным, что начинаешь терять ясность ума. Старайся всегда отстраняться от своей усталости, хотя бы мысленно. Постарайся сохранять то, что Мацукадзе зовет
сознательностью, оставайся вовлеченным,
206
но найди место где-то внутри себя, где сможешь укрыться в такие моменты. Не позволяй телу заразить тебя, завладеть тобой. Если у тебя получится, то ты выживешь. Разумеется, нет ничего проще, чем рассуждать об этом, сидя в тепле, сытым и отдохнувшим. Но когда опускаешься на самое дно изнеможения, Сов, когда машина отказывается функционировать, тогда все представляется совсем иначе. Самое сложное — это смерть вокруг. Никто не готов смотреть, как на его глазах умирают, никто, можешь мне поверить. Смерть близкого хуже самого жуткого ярветра, хуже седьмой формы ветра. Она разрушает изнутри, убивает частичку тебя, лишает надежды, все делает напрасным. Мы не смогли справиться с невыносимостью повторяющихся смертей. Не смогли. Поэтому мы сейчас здесь, в лагере. Поэтому мы проиграли эту схватку. Если вы готовы увидеть, как умирают пять, десять, пятнадцать ордийцев, пусть даже ваш Голгот, и все равно продолжать путь, то у вас все получится. Во всяком случае у вас будет на это шанс. Не спрашивай меня, стоит ли оно того, Сов. Ни о чем меня не спрашивай. Я ничего не знаю. Я так и не смог ответить себе на этот вопрос, ни в восемь лет, ни в сорок, ни в семьдесят».
π 
Мы наконец установили палатку и закрепили ее крюками в восьми местах. Аои зажгла масляную горелку. Снег начал таять. Нескончаемо долго. Я упирался головой в крышу палатки. Сидя, мы помещались все вместе, но лежа на всех места не хватит. Степп вызвался спать в гамаке, несмотря на просьбы Аои. И Тальвег вместе с ним. Я на них молиться был готов. Я был без сил. Голгот по-прежнему без сознания. Силамфр в полусне что-то бормотал, но его продолжало тошнить, и кровь из ушей так и не прекратилась, продолжала вытекать капля за каплей. Альма уснула
205
над ним, не в состоянии остановить эти извержения. Она спала, согнувшись вдвое, вся скрюченная.
∂ 
Я чувствовал обволакивающее тепло, кокон из ткани с подкладкой из овцебычьего меха, тепло и тишина, гудящая тишина… Снаружи еще доносится свист шквалов и тягучий, скользящий по самой земле ветер, что не дает мне уснуть… Где-то вдали, с глухим грохотом обрушился гигантский серак… Резкое заледенение перед наступлением ночи вызвало каменистую осыпь в ущелье недалеко от нас… Этот сухой звук кавалькады казался мне барабанным боем, минеральной игрой перкуссии… До тех пор, пока я могу слышать музыку в шуме мира… пока я слышу, как лавины сотрясают воздух… пока у меня есть силы сочинять мелодию звуков… Как в прекрасной сказке Караколя, где все начинается, все порождается звуком: ветер, воздух, все это звук, активная кровь, подвижный звук, густая кровь, что толкает и разливается, звук…
π 
Мысли мои унесло в лагерь, к отцу. К широкой, открытой улыбке матери. Туда, к ним. Я знал, что они надеялись только на одно: что мы откажемся и вернемся, пока еще не поздно. Они продержались месяц. И еще три ушло у них на обратный путь. Мы же пока просто шли по их трассе. Следуя их советам. И мы неплохо справлялись. Вернее, неплохо
справлялись вплоть до сегодняшнего вечера. Но эта стенка… Я никогда еще не поднимался по такому отвесу. Страх поглотил половину моих сил. Страх упасть, страх утащить за собой других. Хуже всего были переходы выступов, где мы шли одной связкой, без страховочных крюков. Кто из нас не боится высоты? Кроме Арваля с Караколем, которым ловкости не занимать, да Эрга, у кого хватает и сил, и проворности, всем
204
остальным в горах не место. Мы научились карабкаться вверх, это верно. Голгот поднимается благодаря своей силе, лезет из мужества. Но соотношение вес-сила играют не в его пользу. Он дошел до предела своих возможностей. И вот… Его загорелое лицо походило на статую в свете фонаря. Если бы я во что-то верил, то я бы за него помолился… Но я ни во что не верил. Разве что в Верхний Предел. Да, может быть, еще чуть-чуть. Хотя даже если бы я в него и не верил, то все равно сегодня был здесь. Посреди этой стены. Вместе с Ордой. Это единственное, в чем я был уверен. Меня ведет не Верхний Предел. Меня ведут они: мы. Я, как и Сов, считаю, что все наше величие, наше истинное достоинство умещаются здесь, в этой палатке. Неважно куда мы идем. Я больше этого не скрываю. Неважно, что ждет нас в конце. Что значимо, что после нас останется, это не число пройденных высокогорных хребтов. Не место, куда мы наконец вобьем нашу орифламму, будь то посреди снежного поля или на вершине последнего пика, с которого нам никогда не спуститься. Не расстояние, которое мы сможем преодолеть, пройдя за флаг, оставленный нашими родителями. Все это вздор. То, что останется — это особого качества дружба, выстроенная на уважении, украшенная парой улыбок, парой вспышек мужества и удальства, что мы смогли друг другу подарить. И за все это я каждому из нас говорю спасибо. Спасибо.
— В этот прохладный вечерок, братья по восхождению, я рассчитывал на публику пободрее, но что ж. Сказка дружбы не портит, спящий хлеба не просит, и зверь на ловца бежит, и будь чему не бывать! Как вы сами в том можете убедиться, наша аудитория порядком поредела, одни делают вид, что рухнули с большой высоты и нуждаются в сне и покое, другие списывают все на летающие ледорубы, пурпурный сговор, лишь бы заткнуть себе уши, иные
203
жалуются на усталость от свежего воздуха, а некоторые и совсем расхрабрились и расхрапелись… Да будет так!
) 
Его быстрый говор, темп речи, тембр, ясность и точность слов, ловкие и емкие обороты — все это
вывело меня из оцепенения. Я приподнялся на локте и увидел, что Аои спит, сидя над бурлящей кастрюлей. Я стал разливать и раздавать миски дымящегося супа тем, кого не сморил сон. Уложил Аои рядом со Степпом, что грелся перед холодной ночью, которая ему предстояла. И приправляя суп ячменной мукой, чтобы было посытнее, слушал трубадура, который в полном измождении все же нашел в себе дыхание, чтоб нас развеять; к тому же он уже два дня как ничего путного не мог нам рассказать, а потому радовался, что на этот раз застигнет нас врасплох. Так и вышло:
— Ну так что, хотите знать, по ком звонит колокол? Забили ли Голготу гол? Подать ли Силамфру камфоры? Так же ли крепок наш Эрг, как айсберг? Оракул караулил, а снег, а снег с него летел, да куда замело? Вещун иль колдун, пророк иль провидец, не то прорицатель будущего, не то выдумщик грядущего — вот как вы меня видите, и в этом правы, потому что я
по воздуху гадальщик и кто знает? вдруг я и впрямь видел фрагмент из ненасущной сущности нашей будущности. И я б молчал? Шутил бы шутки? Дудки! Но раз уж вы меня торопите рассказать вам больше, да побыстрее, снять с себя оковы пустозвонства, то вам скажу, что завтра будет… завтра будет…
— Давай быстрее…
Караколь обернулся к Ларко на его усталое требование. Тот в полусне прижимался к Кориолис и грел ее руки собственным теплом, засунув их под толщу своих одежд. От этой реплики трубадур свернул с темы, и совершенно
202
иным тоном признался тихо, сдержанно, что зачастую предвещало ловушку двусмысленности в его словах:
— Я, как и многие из вас, почти на грани. Во мне творятся такие вещи, которые мне долго бы пришлось вам растолковывать. Я иссякаю от этой плоской белизны. Меня терзает жажда цвета, мне нужна яркость. Где они, раскаленно-красный, яично-желтый, оранжевый в огне? Мы здесь в белесом мире, а Каракольчику нужно полиморфное
Разнообразие, а то вы его знаете, он начинает затухать и гаснуть, у него сворачивается кровь в жилах… Понимаете?
— Почти. Давай дальше…
— Неведомо мне почему, но чем больше я ослабеваю, тем чаще посещают меня видения, тем чаще я перехватываю клубки ветра. От вас их столько сейчас исходит, и с каждым днем все больше, целыми стайками, они просачиваются через ваши поры, вырываются из ваших ртов… Если б вы только знали! Когда кашляете, говорите, вздыхаете, да постоянно. Сегодня вдоль стены летали сплошные клубки ветра, разматывались с ваших губ, то с крепкими воздушными узлами, то мгновенно рассеивающиеся комочки, но все живые, активные…
— И что?
— Я не могу их не проглатывать! Я в них нуждаюсь. Они меня питают, придают мне сил!
— Так что в этом плохого, Караколь? Ты впитываешь обрывки наших вихрей, которые мы теряем от перенапряжения. Тем лучше для тебя, раз они тебя питают, раз помогают тебе оставаться в строю, — сказала Ороси.
— Проблема в том, что эти обрывки заряжены…
— Заряжены? Чем?
— Вашими… вашим будущим. Они несут в себе эмоциональный заряд, полярность будущего, которая от вас
201
ускользает. Большинство из них крутится вокруг собственной оси, как колесики, да, все правильно, это похоже на колеса. Колеса, слетевшие с осей, но продолжающие крутиться рядом с буером! Сам буер я не вижу, но могу догадаться, куда он движется, глядя в каком направлении крутятся колесики…
— Только вот колесиков слишком много, не так ли? — отреагировала еще боровшаяся со сном Ороси. — И разбегаются, наверняка, во все стороны…
— Иногда выглядит так, словно колесики существуют отдельно от буера; они свободно катятся сами по себе, гуляют в пустоте. Ты не можешь узнать, где они, ведь они сделаны из ветра, но ты все равно передвигаешься на своем буере, на глаз, и оп! вдруг попадаешь на колесики, и твой буер уносит на всех парах, он попадает в то будущее, которое до этих пор оставалось в своей латентной форме…
— М-да уж, невесело, наверно, всю жизнь быть Караколем… — отвесил Ларко, не то шутя, не то всерьез.
— У тебя есть соображения, почему мы здесь, на Норске, теряем так много частичек вихря? И почему ты их все яснее ощущаешь? — спросила Ороси практически на автомате.
— Я бы так не сказал… А у тебя?
— Мне кажется, мы очищаемся, отбрасываем все лишние варианты будущего, чтобы сконцентрироваться на выбранном пути, чтобы выжить. Это было бы весьма логично.
— А я? Почему я вижу все эти колесики? Ты их видишь?
— Некоторые из них, смотря у кого. Вижу Сова, Голгота, Эрга, Степпа. Самые отчетливые…
Ороси сменила позу, чтобы размять тело. Я видел, что она не решалась продолжить разговор. Она взглянула на меня, опустила голову и стала подкручивать мерцающий
200
в лампе огонек. Порывы ветра усиливались. Тальвег собрался с духом и пошел устанавливать крюки для гамаков, пока окончательно не стемнело.
— Караколь, ты уже
видел свое собственное будущее? — спросила она в конце концов.
Караколь выпрямился, он был удивлен этому вопросу. Под нарастающим в палатке теплом волосы его завились пуще обычного, а по свежеотросшей бороде покатилась пара капелек пота. Он снял свой песцовый тулуп, словно хотел показать нам, что под ним по-прежнему носит свой извечный арлекинский наряд, к которому пришил новые клочки ткани, собранные с одежд наших родителей и детворы из Бобана. Он помолчал с отсутствующим видом, а потом произнес:
— Да, я видел свое будущее. (…) Оно будет кратким.
— Когда, по-твоему, ты должен умереть? — спокойным голосом продолжила Ороси.
— Я умру, когда вокруг не будет больше цвета.
— Даже на твоем арлекинском сюртуке? — постарался пошутить я.
— Этот сюртук меня переживет, Сов. И носить его будешь ты. Знай это отныне и впредь.
Я взорвался:
— Ты меня достал своими предсказаниями! Понял? Плевать мне на то, что там тебя переживет! Я не хочу, чтоб ты подыхал! И пока я здесь, ты не сдохнешь! Ясно тебе? Это мое предсказание. И если однажды все цвета закончатся, и будет сплошная белизна на земле и на небе, я себе вены перережу, чтоб тебе
красный цвет показать! Понятно?
У меня нервы были на пределе и Караколь прекрасно это понял. Он пару секунд посмотрел на меня в изумлении от услышанного, и глаза его заблестели, да я и сам был взволнован. Ороси не знала, что на все это сказать.
199
— Мы все выживем, успокойтесь. Мы выходим Голгота, и Силамфра тоже. Они поправятся. Эрг амортизировал удар Голгота, он себе перчатки стер до дыр, но жизнь ему наверняка спас.
< > 
Степп открыл палатку и обернулся, перед тем как выйти. Он посмотрел на нас, окинул каждого взглядом, остановился на мне, смотрел на меня долго, пристально, а затем вышел. Он должен был выйти, мы все не помещались, нас было слишком много, и все эти сумки, шипы, крюки, нельзя было рисковать, мы таким образом могли задушить Голгота или Силамфра, понимаешь, нельзя, ручеек, приговаривал он, чтобы получить мое согласие и выйти с чистым сердцем, унести мою улыбку с собой, это было все, что я могла ему дать, свою улыбку и свою любовь, укрыть его этим поверх толстой шкуры быка и полярного лиса, в которые он закутается, в меховом спальнике, в шапке из горностая, а поверх нее еще одна, из нутрии, с ним будет столько животных, это хороший знак.
Я уже неделю молчу, ни Альме, ни Ороси ничего про Степпа не говорю. Это началось еще в первый кривец, который нас всех истерзал на Лофенском плато. Его трансформация. В тот вечер, перед тем как залезть в общий спальный мешок, он отказался раздеться. Сказал, что ему холодно. Но ему никогда не бывает холодно, лисенку, я его знаю, он меня всегда этим поражал! Я прыснула со смеху, хотела засунуть руку ему под одежду, но он меня остановил. Я не стала настаивать. На пороге сна я крепко прижалась к нему и вдруг почувствовала, поняла на ощупь, по запаху. По вкусу его шеи. От него пахло свежим деревом. Я провела рукой по его спине, и мне показалось, что я глажу ствол дерева, он весь стал жесткий, твердый, пальцы едва погружались в новую плоть. Он был еле теплый, как
198
ручка ложки. Кожа как грубая, шершавая бумага, и я отвела руку. У меня перехватило дыхание, я зажгла лампу и подняла его рубашку. Спина у него была совершенно белая, вся испещренная темными полосками. Береза. Он вошел в стадию растительной трансформации, хрон одержал над ним верх…
— Ты все поняла? — прошептал он в ответ.
Я уже потушила лампу, вся вздрогнула от его голоса.
— Да, кажется.
— Обними меня покрепче… Обними меня крепко, мой ручеек, сильно-сильно… Я больше не чувствую твоих рук, твоего тепла… Я ничего не чувствую…
Он повернулся ко мне и его соски оцарапали мне грудь. Я положила руки ему на затылок, дотронулась до лица, оно еще было теплым и мягким, щеки — влажными, он тихо плакал.
— Я ухожу, Аои. Ухожу… Понимаешь?
— …
— Ты будешь меня любить, когда я превращусь в…?
— …
— Ты меня еще любишь?
— Да.
Нетронутым остался только его голос и отчасти руки. Ногти обтрепались, стали как листва, сгибы фаланг стали узловатыми, но гибкость в руках осталась. Белая кора добралась ему до шеи, на затылок, до самого лица; одни это заметили, другие сделали вид, что ничего не увидели… Что здесь говорить? Чем помочь? «Все решает инстинкт выживания, — объясняла мне Ороси. — Растительный мир опережает его человеческий облик из-за экстремальных условий: береза может выдержать температуру минус сорок, а человеческая плоть — нет… Его тело выбрало симбиоз. Остается надеяться, что ему удастся соблюдать равнове-
197
сие между двумя силами, борющимися в нем…» Да, остается надеяться… Он вызвался спать снаружи, так как знает, что перенесет холод лучше, чем кто-либо из нас. Днем он двигается, кровь разгоняется и мясистость его плоти снова отвоевывает свои права, так что я каждый вечер, хоть и знаю, это глупо, цепляюсь за надежду, что он еще может стать прежним… Но ночью… Ночью одеревенение прогрессирует, пользуясь неподвижностью конечностей, и по утрам ему ужасно сложно встать. Колени, таз, затылок, все так деревенеет, что мне приходится разминать их изо всех сил. Я растираю его, пока руки себе не сверну, заставляю наклоняться, хрустеть задеревеневшими суставами, один за другим размять позвонки, но я ничего не могу сделать с растительными волокнами, что разрастаются по мышечной массе. Я как могу пытаюсь разогнать ему кровь, чтобы вышла смола, что скапливается по позвоночнику, я борюсь за него, но он не борется сам за себя, он отдал себя в подчинение нового мира, я даже не знаю, чего он на самом деле хочет, я вижу, что его притягивает эта мысль, «мне не страшно, мне этого даже почти хочется, ручеек, по ту сторону все так спокойно, так полно…»
— Кровотечение за ночь остановилось. У Силамфра образовался сгусток на уровне барабанной перепонки. Но он не сможет идти дальше. У него сильнейшие головокружения, даже сидя.
— Мы могли бы остаться здесь еще на пару дней.
— Это слишком опасно. Как только солнце прогреет стену, начнутся лавины с камнепадом. Нам нужно выбраться из вон той горловины максимум через два часа после того, как появятся первые лучи…
— А Голгот?
— Он ночью храпел, но до сих пор без сознания. Я опасаюсь худшего.
196
— Кто-нибудь разбудил Тальвега и Степпа?
— Я пойду.
x 
Гамак Степпа был пуст. Я на секунду испугалась, что он ночью вывалился и полетел в пропасть. Но правда была еще хуже: в гамаке лежали притрушенные снегом одеяла и его одежда; значит, он сам встал из гамака и разделся. Что случилось дальше, не сложно было догадаться. Я подняла глаза и у подножия диэдра, в расщелине, увидела дерево. Ствол его как раз был метр восемьдесят, а две единственные ветки, размером с руки, расходились на конце пятью веточками. Вчера этого дерева здесь не было. Никаких сомнений не осталось.
— Я его здесь не брошу.
) 
Голос Аои прозвучал ясно, четко, не предполагая контраргументов: она с полнейшей уверенностью поставила точку без разговоров. Ни Ороси, ни кто либо другой из нас не стал с ней спорить, мы даже не пытались предлагать альтернативные варианты, хотя дерево на вид так крепко вросло в расщелину, что сложно было себе представить, как его можно оттуда выкорчевывать, разве что срубить ледорубом, но никто из нас не решался себе такое даже представить. Не в силах оправиться от случившегося, мы оставили Аои саму принять решение, на которое только она имела право. Она взобралась наверх, приникла к дереву и зашептала неслышные нам нежные слова. Затем взяла ледоруб и ударила по левой руке. Щепки из не поддающейся описанию плоти разлетелись во все стороны, непонятная липкая светлая жидкость потекла по стволу, но Аои решила не смотреть: когда ветка поддалась и оторвалась от ствола, она осторожно засунула ее в рюкзак и спустилась. Ороси, стоя с растрепанными волосами, с трудом выговорила то, что и
195
так было очевидно:
— Ты возвращаешься в лагерь… да?
— Да. Только там я смогу его спасти.
— Но что ты планируешь делать?
— Подожду, пока черенок пустит корни, и посажу его к саду, рядом с хижиной, где родится наш ребенок.
— Ты ждешь ребенка?
— Да.
x 
Хаотичное чувство радости забилось у меня в животе. Мне так хотелось ей сказать, что она права, что я рада за нее, что я даже завидую ей. Но вместо этого вышли совершенно нелепые слова:
— Ты понимаешь, что отказываешься от Верхнего Предела, если вернешься в лагерь? Мы не сможем ждать пока ты… Мы должны идти дальше… Не принимай решений сгоряча!
— Да, я все знаю, Ороси. Ты как всегда права, ты всегда для меня была как старшая сестра. Да, я никогда не попаду на Верхний Предел. Но я по-своему прошла свой путь до конца…
— Мне будет тебя не хватать… Мы столько пережили вместе, Аои, ты мне нужна…
) 
Аои готова была разрыдаться, но взяла себя в руки, почувствовала в себе прилив мужества и твердости.
— Мне повезло найти на своем пути то, что я искала. Я хотела любви, и Степп стал чудом моей жизни. Я пошла на Норску ради него, вы это знаете. Он был уверен, что в конце концов мы дойдем до Первородного сада, он считал, что все растения происходят оттуда, что оттуда берутся все зерна, которые засевают наш мир вплоть до
194
низовья. Он в это верил. Одна его часть останется здесь навсегда. Другая…
— Другая в ветке, что ты сломила. В ней его вихрь. Иди и дай ему новую почву, пусть он растет там.
— Думаешь ты сможешь дойти до лагеря сама? — встревоженно вмешался я. — Это минимум десять дней хода по льду и снегу, и очень опасные участки на пути.
— Я пойду с ней, — вдруг сказала Альма. — И Силамфр с нами. Если мы доберемся до Бобана быстро, то у него будут шансы выжить. На Норске они равны нулю. К тому же он будет вас тормозить.
π 
Все решилось очень быстро. Силамфр смотрел на нас, неловко выстроившихся друг за другом на уступе. Солнце уже начало прогревать стену в двухстах метрах кверху от нас. Кривец дул не сильно, но он был ледяной.
— Я хотел вас поблагодарить за то, что вы столько лет меня терпели с моей музыкой, моими деревянными бумами, ложками, ветряками. Металлические у Леарха были покрепче, конечно. Дойдите до конца и возвращайтесь рассказать нам, что там! У вас закала хватит, с Голготом или без него!
— Спасибо, Силамфр, — ответил Стреб.
— В голове не укладывается вот так вот вдруг прощаться после тридцати пяти лет контра… У меня слов нет… Надеюсь оно там наверху того стоит… чтобы с вами вот так расстаться! — сказал Тальвег.
— Альма, будь осторожна на Лофенской излучине! — повторяла Ороси.
— Это вы будьте осторожны! Меня рядом не будет, чтоб вам помочь! Я вам оставила весь запас вербовой кислоты. Если будет слишком сильно болеть голова на высоте — спускайтесь. Не доводите себя до эмболии.
193
И главное, давайте без обморожений. И без гипотермии! И воды побольше пейте.
— Мы тебя любим, мама!
— Я вас тоже.
) 
Мы оставили им веревку и запас провизии на десять дней. Они закрепили страховку, и со скрежетом шипов по оледенелому снегу исчезли за краем уступа. Сначала Альма, за ней Силамфр. Только Аои осталась завернуть ветку в спальник, перед тем как уложить ее назад в рюкзак. Она поцеловала всех нас по очереди. «Заботься об Ороси, любите друг друга и сделай ей ребенка», обняв, прошептала мне Аои и поцеловала меня в губы. Оставался только лежавший на своем одеяле Голгот. Она почтительно подошла, опустилась на колени и погладила его по лицу, что-то приговаривая. А потом поцеловала его. Голгот фыркнул, брыкнулся, приоткрыл глаза и забормотал: «Все, мы на месте? На месте?» «Не совсем — ответила ему Аои, — но вы уже близко, а я далеко, я вас оставлю здесь». «Почему?» — сразу будто очнулся Голгот, и на лице его отразилось более чем искреннее недоумение. «Ты мне нужна, нам нужен огонь, вода, травы». «Спасибо, — просто ответила ему Аои, — спасибо, что всегда относился ко мне с уважением». Она встала, взялась за страховочную веревку и, не глядя вниз, стала спускаться.
— Будьте сильными! — крикнула она. — Я буду мысленно с вами!
Она плакала и голос ее дрогнув, разбился о ледяную стену.
— Смотри за котами в саду Степпа, их там слишком много. — кричала вдогонку Ороси.
— Что?
— Слишком много котов! — повторила Ороси, и до нас донесся растроганный смех Аои.
192
— А вы растолкайте Гота, он вам еще может пригодиться! Если бы он не просил, чтоб его ни живым, ни мертвым в Бобан не возвращали, то мы бы его с собой взяли!
Это был голос Силамфра.
— Мы его съедим, если он идти откажется!
— Прощай, мама, — кричали Арваль и Тальвег.
— Прощай, Светлячок! Прощай, Таль! Не запускай спину!
— Прощай, музыкант! — крикнули почти одновременно Кориолис и Ларко Силамфру.
— До свидания, Ларко, небесный рыбак! Береги Кориолис! До свидания, Орда, мы еще встретимся, вот увидите! — отвечал нам Силамфр.
Это были последние слова, которые мы от них услышали. И все мы прекрасно знали, что мы больше никогда не увидимся, и мы рыдали, как дети, и нам стало так холодно. Смертельно холодно.
— Никто не жалеет о своем выборе? Пока еще не поздно к ним присоединиться, — обеспокоенно спросил Пьетро.
Но все отвернулись, пряча заплаканные лица.
— Ладно, — вернул нас к реальности Эрг. — Нужен кто-то, кто будет прокладывать путь? У меня плечо в мясо, а Голгот еле на локтях приподняться может. Кто готов?
— Он самый! — ответил Караколь, хватая скрученную кольцами веревку, карабины, распоры, которые под шумок подавал ему Эрг. — Вперед за обезьянкой!
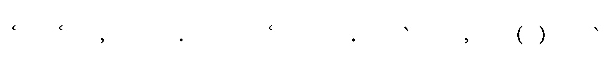 π
π 
«Пока погода хорошая, то условия на Норске вполне терпимые, — говорил мне отец. — Но как только увидите, что небо затягивает, даже не думайте идти дальше. Копай-
191
те иглу и ждите, пока буря пройдет». Первые восемнадцать дней погода была на нашей стороне. Арваль видел в этом предзнаменование. И не он один. Нам повезло, что мы вышли на Норску в конце лета. В укрытом от ветра месте, в полдень было почти жарко. Отсвечивающее от снега солнце окрасило наши лица в красно-коричневый цвет. К тому же нам было довольно легко ориентироваться: карты были полные и точные. Видимость с вершин хребтов и перешейков отменная. После Антоновского пика, с которого полетел Голгот, технические трудности прекратились. На какое-то время. Мы шли по широкой долине на высоте двух тысяч метров, по словам Тальвега. Стада яков и мускусных быков побаловали нас вкуснейшим свежим мясом. Ястребы вылавливали зайцев-беляков. Соколы Дарбона лакомились сурками с красной шкуркой, которые встречались на незаснеженных участках. То был короткий промежуток счастья.
К Голготу быстро возвращались силы, и вскоре он был почти в былой форме. У него еще время от времени случались головокружения, и он валился на колени. Но быстро поднимался и отказывался от всякой помощи. Гематомы почти сошли. Ему трудно было поднять левый ледоруб, впрочем, как и Эргу: давало знать о себе плечо. Но ни тот, ни другой не обладали талантом жаловаться.
То, что и с Голготом такое могло приключиться, сблизило нас с ним. Его падение заполнило пропасть высокомерия, которая часто отделяла его от остальных. Не потому что он изменился. Внутри он по-прежнему чувствовал себя неуязвимым. И мы с недоумением и восторгом наблюдали за этой инстинктивной уверенностью после подобного падения. Просто первые два дня мы вынуждены были его нести, мы вытащили его с этой стенки, спасли. На эти два дня он превратился в обычного человека, в тело из плоти,
190
подверженной ранам. Как мы. Нас теперь было всего четырнадцать, и вся Орда сплотилась вокруг него. И все же напряжение между нами неминуемо возрастало в этих нечеловеческих условиях. Все мы реагировали на холод по-разному. Разброс акклиматизации к высоте особенно проявлялся на крутых склонах. На высокогорье Тальвег лучше других мог проложить траекторию. Голгот даже здесь сохранял свою манию к прямой трассе, в то время как топография требовала идти в обход. Передавая свои обязанности Трассера, он переходил к своей первой, примитивной и самой лучшей роли: он становился Тягачом. Силу его веры в Верхний Предел невозможно было описать. Она ошеломляла. Кто кроме него способен был нести в себе эту непоколебимую уверенность, что мы дойдем до конца? Когда мы подходили к вершине перевала, глаза у него светились так, словно мы проходили через ворота с надписью «Верхний Предел — Добро пожаловать!». Это вечно толкающее вперед остервенение никогда не покидало Голгота, и его одержимость распространялась на нас. Она тем сильнее укреплялась, чем больше отражалась в нас. После периода жгучих сомнений я снова и сам начинал в это верить. Мой оптимизм возвращался. А вот карты указывали на серьезное препятствие на пути. Перевал на высоте пять тысяч семьсот, до которого можно было добраться только одним путем: через кулуар Гардабера — склон под 60°. На верхнем хребте небо быстро затягивало. И мы скорее угадывали кулуар, чем видели его на самом деле: оледеневшая S, отделенная по обеим сторонам отрогами. Вертикальная горка длиной в две тысячи триста метров, которую нужно было пройти за раз. Ну фактически. Здесь выложиться нужно будет по полной. И мы начали подъем в самый неподходящий момент: в разгар бури.

189
) 
Сдерживаясь на одном гвозде, Эрг изо всех сил пробивал ледяной панцирь горы. Острие ледоруба со скрежетом вошло на сантиметр, от проделанного отверстия разлетелась окалина, и ее тут же разметал шквал ветра. Я вонзился в зарубину, спазматически хватаясь за жизнь, как насекомое в стакане, и впервые в жизни стал молиться. Секунд через пять сводившая ногу судорога отпустила, мне удалось слегка повернуться спиной к склону и вдохнуть. За мной необъяснимым образом поднимались остальные. Это больше были не люди, не ордийцы, а просто холмики снега, ни одного различимого силуэта. Кривец нарастающими порывами дошел до пика и его рев напоминал скрежет металла по стеклу, затем краткий спад — и порывы снова покатились водопадом по поверхности склона. По щекам резанула картечь ледяной крупы, слезы выступили на глазах, мой подшлемник разорвало… А может он и так уже был разорван, я больше ничего не понимал.
Пьетро вышел первым из бесконечной белизны. Лица его больше не было видно. Затем появился Арваль, походивший на паука, надсекающего лед своими лапами, с обезумевшими желтыми глазами, что кричали единственным цветным пятном сквозь отверстие в деревянном шлеме. А Караколь? За ними шли бесформенные массы, покрытые снегом, пучки людей, вслепую взбирающихся по заледенелой броне. Караколь?
— Где Караколь?
— Что?
— Караколь! Где Караколь? Я его не вижу!
π 
Здесь невозможно разбить бивуак. И вниз спуститься, не сорвавшись, тоже невозможно. И вверх ползти
188
больше немыслимо. Вот что без сомнения думал Эрг. Это было очевидно.
— Караколь!
) 
Я чуть не слетел от внезапного крика Арваля. Я снова стал вглядываться вниз, но на шлем налипло столько снега, что я ничего не видел сквозь щиток, а соскоблить лед больше не получалось. Я приподнял визор из раковины медузы, в нем было столько дыр, что он все равно уже ничего не защищал, и стал всматриваться перед собой. Я искал какую-нибудь шероховатость на поверхности, какой-то рельеф, намек на цвет, но передо мной была нескончаемая белизна. Предсказание Караколя сдавило сердце, хотя я все время отбрасывал его от себя как можно дальше, оно все равно так или иначе таилось во мне.
— Нужно подождать Караколя! — крикнул я.
— Мы не можем ждать здесь! — отрезал Эрг.
— Фирост тоже отстал. У него рукоятка ледоруба гуляет. Нужно их подождать!
— Фирост идет в своем темпе. Он справится. Мы здесь околеем их ждать.
x 
Эрг пошел дальше. Никто не отважился настоять. Группа делилась надвое. Это могло быть фатальной ошибкой. Голгот шел вверх по прямой, по самому опасному, почти вертикальному участку; он больше не оборачивался назад. Ларко и Кориолис единственные шли в связке, они находились метрах в тридцати от нас. И это уже было очень далеко. Приблизительно на том же уровне следом за огромной снежной массой, — то был Горст, — поднимались птичники. Караколя и Фироста нигде не было видно. Пьетро в нерешительности — ждать отставших или нет — снова принялся выбивать в снегу ступени. Для Арваля.
187
Он, как и все мы, подыхал от холода. Как только остановишься на полминуты — сразу леденеешь. Он бил ногами, короткими, сухими ударами, бил кулаками в рифленых железом перчатках, локтями с шипами, когда рука больше не слушалась, коленями, когда нога трещала, как кусок льда. Тальвег расширял захваты дисковой бороной на винте — очень ценный для нас подарок моей мамы. Ветряк на ней крутился на все сто двадцать оборотов в минуту под кривцом. Вполне достаточно, чтобы алмазные лезвия просверливали лед. Перевал был в двухстах — двухстах пятидесяти метрах кверху, я это видела по ротору, что искривлял порывы ветра. Я концентрировалась на каждой детали, за которую можно было зацепиться. Нужно было сохранять точность. Точность. «Сознательность, — повторяла мне мама. — Рассудительность в самой крайней точке мучений. Дыши, Ороси, давай воздух своему нефешу!» Я дышу, мама, дышу, когда у меня это еще получается. Иногда я чувствую вихрь Каллирои в своих руках, она защищает меня от обморожения. Спасибо, Лучик, я бесконечно тебе благодарна, что ты здесь, со мной…
) 
Я повиновался, послушался их, переставляя ноги в шипованных ботинках с одной выбитой ступени на другую, я повиновался малодушию всей нашей группы, Голготу и Эргу, идти за ними следом было так обнадеживающе… Но вдруг мне представилась эта ужасная картина, как Караколь бьется в агонии один на склоне. И это было выше моих сил:
— Стойте! Стойте!
— Эрг!
— Что?
— Нужно дождаться остальных! В группе дыра! Мы потеряли Караколя и Фироста! Они в опасности!
186
Он повернул голову, изогнувшись на своих ледорубах, уперев локти и колени в склон, ему нужно было отдышаться, порыв ветра чуть не сорвал с него шлем, он смерил меня взглядом и вздохнул:
— Я знаю.
— Знаешь и идешь вперед? Так остановись, черт возьми!
Он ничего не ответил, только сурово качнул головой. Но ветер донес мои слова до Пьетро и Арваля.
— Мы не можем здесь оставаться в таком положении на кончиках пальцев, не двигаясь, это гарантированная судорога! Мы все заледенеем!
— И что ты предлагаешь?. Пожертвовать Караколем?
— Спустись за ним, если можешь! Не останавливай всю связку!
— Какую связку? Ты веревку здесь видишь, может?
x 
Фирост сорвался и полетел вниз по ледяной горке. Я поняла это по разрыву в потоке. Жуткий скачок вниз. Он соскользнул и никто этого не видел и не слышал. Да мы и не просто так решили дальше не идти в связке, никто из нас больше не в состоянии был удержать не только другого, но даже самого себя. Если бы Эрг упал, или я упала, мы бы утащили за собой всю Орду, одного за другим, утянули бы собственным весом под таким уклоном… Если Эрг больше не сможет пропахивать лед своим ледорубом, он упадет на всю нашу Орду. Я это понимала и не понимала одновременно, я больше ничего не думала и ничего не осознавала. Но одно почувствовала хорошо: Фирост сорвался! Сорвался!
— Фирост! — вырвалось у меня.
— Где он? — заревел Голгот, который как раз поравнялся с нами и по горизонтали подошел к группе.
185
— Фирост упал, его вихрь вырвался из тела, он поднимается к нам…
— Кто?
— Вихрь поднимается… Вихрь…
— У него с ледорубом был непорядок! Я же вам говорил!
— Мы ничего не слышали, Сов, прости, — с искренней горечью ответил Пьетро.
— Эрг не стал его ждать! Нужно было держаться блоком, всем вместе! Не бросать друг друга, черт возьми!
— Я прокладываю трассу для всех вас! Я не могу за всеми следить! Вас десять человек здесь, и вы все обледенеете и в судорогах посрываетесь с захватов, если мы тут стоять будем. Я должен вас из этого кулуара вывести любой ценой! Мы почти дошли! Выбор простой — либо вы все, либо они двое. Меня по-другому не учили, мне очень жаль… — пролаял Эрг, а не проговорил. Он совершенно одурел от боли.
Последовавшую за этим тишину перекрыл невыносимый звук, как будто стекло небесного купола лопнуло и разлетелось на куски. Осколки льда полетели по склону прямо на нас. Я схватился за шлем, стараясь его удержать, пока куски льда не хлынули рекой и не искромсали нам веки и нос.
— Нужно за ними спуститься, — настаивал Сов. — Караколь остался один. Он упадет, если будет без поддержки! А Фирост возможно еще жив! Мы не можем его бросить!
¬ 
Но Сов и сам не верил ни слову из того, что говорил. Мы его бросим. Мы его бросим, потому что он мертв. И все мы это знаем. Эрг сощурил глаза, вглядываясь вниз склона. Подождал какое-то время, как по мне, совсем недолго, и сказал:
184
— Все, идем дальше.
Фирост был его лучшим другом.
 < >
< > 
Ручеек, ручеек, я старалась припомнить тон, которым он это произносил, смех, что мутил воду его зеленых глаз, когда он смотрел, как я кормлю котов в саду. «Слишком много котов, — улыбался он, — тут слишком много котов». Ороси тоже так сказала, прощаясь. Я, кажется, ошиблась кулуаром, слишком много котов, этот слишком крутой, а у меня слишком много котов, четыре или два крюка, один? Спускайся ровно, не садись, иди на пятках, вжимай их всем весом, слышишь Аои, иди ПРЯМО! — кричит Ороси, а мне так хочется сесть, опуститься на пятую точку, мне так страшно, да, наверняка котов слишком много, это точно, ветер меня все толкает, снег подрагивает и их шкурки лоснятся под его поглаживаниями, они бегут, ах, как это весело, бегут передо мной, комочки шерсти, белой пушистой шерсти, как красиво, Степп, правда? Котята бежали по склону, я брала их на руки, они были легкие, как комочки снега, ты бы это видел, на, держи, возьми одного, слишком много котов, мурлычет, слишком котов, ксссс, слишкоммногокотов, слишкомкотов, котов слишком, много слишком, слишком много котиков, слишком много котят, снежных лап, медвежьих лап, котят-утят, повсюду коты, катятся кувырком, котята-коты…
) 
Мы с Ороси и Пьетро остались посреди кулуара, втроем на одном крюке, не в состоянии вытащить из рюкзака страховочную веревку. Снег хлестал нас, как струи дождя, шлифовал и вытачивал наши силуэты. Пальцы, вертикаль-
183
но цеплявшиеся за стену, были на грани критического обморожения. Мы втроем рисковали жизнью ради одного человека, ради друга, ради Караколя. Не знаю, насколько к подобные моменты действенны ценности, которые формируют нас в обычное время. Это решетка, которую мы прогибаем. А остается только узел, комок из внутренностей, только он один. Узел, который связывал меня с Караколем, моя цепь смеха, нить из ничего, взаимопонимание и взгляды, одно к одному волокна радости, сплетенные в узел нити, и этот узел вибрировал во мне сильнее, чем металл, почти как вихрь. Я не судил других, ни строгость Эрга, ни даже Голгота, что не пожелал ждать. Голгот всегда открыто говорил, что он никогда не принесет в жертву свой «путь» ради кого бы то ни было, пусть даже своего друга — Фироста. Что если он окажется единственным выжившим, то сам пойдет на Верхний Предел, пойдет один, ничто его не остановит. И он держал свое слово: Фирост упал, а он пошел дальше. Я смотрел, как Голгот надевает свой шлем и снова уходит в трассу, даже не обернувшись назад, снова бросается в контр по этому склону, где поскользнуться значит умереть. Но восхищения он у меня не вызывал, не здесь, не в этот раз… Ни один идеал, пусть даже единый для всех на этой земле, пусть все мы положили жизнь, чтобы добраться до Истока ветра, но ни один идеал в моем сердце не стоил той животной ощутимой связи, того дочеловеческого чуда быть связанным с другим. Ничто никогда не заменит для меня связи души, кровного тока, нервных соединений, что соединяли меня с Ороси, Пьетро, Арвалем, Тальвегом, Аои, где-то там, в низовье, она была жива, я это знал — и разумеется с этим синеющим вдалеке призраком, который наконец появился на горизонте, мигом уничтожив мою тревогу. Он шел по ледяному кулуару Гардабера прямо к нам…
182
— КАРАК!
— Яй! Савек?
∂ 
…как этот Диагональщик играл на ветровой арфе… и хоть он просто-напросто время от времени передвигал рамку инструмента, и, на первый взгляд без особых на то причин, ставил арфу под разными странными углами по отношению к ветру, музыка его была одной из самых трогательных, что свернулась в моей ушной раковине, я и до сих пор иногда ее слышу, а еще слышу его самого, его любимые слова: «Музыка, как ветер, никогда не прекращается; это мы перестаем слушать», «двигай ушами под ветер», «двигай ушами…». Я сказал Аои и Альме оставить меня здесь, на склоне хребта, чтобы лучше было слышно кривец, а потом бежать, быстро-быстро, спасать свои шкурки. Они были со мной великолепны, до самого конца, лечили меня, несли меня километрами, но в моей голове осталось слишком мало крови, и я все равно не хотел кончать свои дни в Бобане, поток туда доходит весь сжатый, его как будто выдувают из искривленного рога, и к тому же без особого таланта.
 Пусть холод здесь царит, в фальшивой тишине
Пусть холод здесь царит, в фальшивой тишине… Боль от обморожения прошла и мое тело спокойно начало принимать температуру снега и неба. · Прощаясь, я посоветовал Аои, если она попадет в ужасные условия, что было вполне вероятно, зацепиться за знакомую мелодию, строчку из песни, что-то близкое ей, слова, чей звук был бы для нее, как спрятавшееся в груди солнце (которое бы ее согревало), и она мне ответила, что у нее есть любимая фраза, которая часто ей вспоминается, в одиночестве
181
или в момент усталости она мне ее сказала, но я забыл очень жаль, она мне показалась очень красивой, и вот… Они сказали, что я должен сжать свой вихрь, как Каллироя и Свезьест, что это «первостепенно важно» ’ но я никогда особо не вникал в аэрологию и клубки вихрей · моя область была музыка и дерево , — так что за все мое шлифовальное существование я из ветра так ничего и не извлек, кроме мелодических линий. , Я, конечно, хотел бы повидать Верхний Предел хотя бы ради них, музыкантов
Орхаостра, как звал их Караколь, · просто посмотреть на что они похожи и как играют поговорить немного о музыке о технике. Как мы придумали столь изящную систему транскрипции ветра ‘ ‘ и при этом не смогли правильно расшифровать партитуры по которым играли на Верховье, · ˙ и даже толком не старались их передать в камерной музыке хотя бы ради удовольствия? ‘
~
Сжать вихрь, если б знал где ‘ находится и как его связать, хоть может инстинктивно, я бы не отказался, чтобы без и быть уверенным что что-то из меня останется навечно, ну а если нет — если мой слух кроме ( ) меломания никогда не была сильной стороной нашей Орды, а ведь сколько раз трасса была очевидна по одному только звуку, но им нужно было вынюхива˙ь, высма˙ рива˙ь, с ума сой˙и сколько раз Голого˙ решал по нюху всю свою жизнь ˙ак и умре˙ рылом вперед, у него рыло вмес˙о вихря
¬ 
Голгот весь подобрался, вытянулся во весь рост и двумя руками одновременно ударил по стене белого металла. Завидев перевал, он приподнял заледеневший визор,
180
вдохнул так сильно, как только мог в снежный туннель своего носа, и плюнул в ветер. Тут он заметил, что я был рядом, справа от него, и в нем стал подниматься этот крик, несдерживаемый, сначала глухой, как лавина, но на последних словах ясный, как звон камня:
— Нооооррр…. Нннннооорррр… Ннннноооооррррр… НОРС-КА!
Нооооррр… Ннннооорррр… Ннннноооооррррр… НОРС-КА!
) 
Глоток обезумевшей свободы, голос Голгота прорвался, словно вытолкнул из живота тяжелый фрагмент его вихря, прогремел на все бескрайние гигантские просторы цирка Шнефеллеркрафта и гулким эхом прокатился по всему Гардаберскому кулуару вплоть до нас. Рев древнего, возникшего из прошлого мамонта. Он потряс нас до самых позвонков. Я на секунду испугался, что Голгот сейчас пустит на нас лавину своими криками, но радость приближения к вершине была настолько велика… «Вихрь Фироста перешел в Эрга, — радовалась Ороси. — Дошел до нас по встречному ветру, представляешь? Я поверить не могу, но он с нами. С ним мы сильнее». Я не успел ей ответить, что он как-никак умер, и ничто не могло его заменить, как Пьетро, вторя Голготу с разрывом в сто метров, тоже заорал:
— Ннннннннннооооооооооооорррррррррррррр… НОРС-КА!
π 
Четверть часа спустя мы перешли Гардаберский уступ.
— Видишь там, внизу? Это Бракауэрский цирк, ледяная долина, настоящий тупик. За ним стена две тысячи метров!
179
— Я в курсе! И есть только один способ выйти к верховью.
— И какой? — повеселел Караколь.
— Рядом со стеной стоит столб, отец говорит, что поверхность у него вполне пригодная для восхождения. Он по высоте такой же, как и сама стена, и между ними проходит естественный соединяющий их мост. Это единственный путь, это трасса.
— Если мы пройдем этот столб, то будем Ордой, прошедшей дальше всех за всю историю Орд!
— Знаешь, что мне отец сказал про Бракауэрский столб?
— Нет.
— Что это самое высокое надгробье, которое он когда-либо видел…
— Если я все правильно понял, то мост наверху еще хуже. Они потеряли шестерых…
— Но им все-таки удалось пройти. Отец сказал тебе что будет дальше?
— Да, Сов, но…
— Но что? Скажи что они видели! Мой отец не захотел мне ничего говорить!
— Я поклялся хранить это в тайне. Извини.
— Все настолько ужасно?
— Забудь…
— Скажи хотя бы, хорошо или плохо.
— Это просто-напросто невообразимо. По правде говоря, я ему не поверил. Они собой не вполне владели к этому времени…


178
< > 
История сохранит в памяти, что я добралась до лагеря за двенадцать дней и что я упала, не дойдя сто метров до поселения, держа в руках ветку березы, в которой Фуския сразу разгадала своего брата. Будут рассказывать о моей любви к Степпу, как мы посадили березу и с какой заботой ухаживали за ней, чтобы дерево принялось. Я выбрала место в нескольких метрах от хижины, где мы провели последнюю ночь вместе, в его саду; будут говорить и о том, как наш сын, Йоль, в едва ли годовалом возрасте сам по траве добрался до дерева и устроился в его корнях. А еще будут говорить о моем мужестве и о том, что я отказалась от Верхнего Предела ради любви, и постараются бальзамом добрых слов залечить в моей памяти воспоминание о лице Силамфра, смотрящего нам вслед, будут снова и снова убеждать меня, что я ни за что не смогла бы отыскать Альму в лавине, которая ее унесла, когда она прокладывала для меня трассу в дефиле Клавела. Но я знаю, что они все врут, что Ороси наверняка разыскала бы ее по вибрациям вихря, что я должна была продолжать копать снег.
Я не знаю, что приключилось с остальными, с теми, кто остался там, наверху. Быть может, я когда-нибудь узнаю, мне бы так этого хотелось… Я очень люблю Фускию и маму Степпа, обожаю говорить с Мацукадзе, но мне очень не хватает нашей Орды. Я дико по ним скучаю.
Мацукадзе говорит, что лет через пять в заболони дерева возможно образуется новая смола, более жидкая, похожая на кровь. Она считает, что в дереве сохранилась человеческая частичка Степпа, и если правильно и терпеливо выхаживать вихрь, то, возможно, получится вернуть его в прежнюю форму или даже вернуть совсем. Я не знаю, что об этом думать, знаю только одно: месяц назад Тэ Джеркка сказал мне, что он знает случай
подобной ретромор-
177
фозы, произошедшей с одним сервалом, из животного в человека.
Йолю скоро будет три. Он часто спрашивает меня, где папа, и я отвожу его к дереву и говорю: «Он здесь». «Где здесь?» — спрашивает он, проказник, он эту игру знает наизусть. «Вот здесь, он спит, он отдыхает в стволе дерева!» — отвечаю я ему. И он смеется и крепко-крепко обнимает дерево изо всех сил, и ласково целует. Но он не глупенький, прекрасно знает, что случилось с его отцом, я все ему рассказала.
— Мозет быть, если мы все влемя будем здесь, то папа велнется как ланьше, мам? Мозет ему плосто стлашно? Звели иногда боятся, мозет и ему стлашно, а, мам? Нутлии вот инода боятся, когда к ним…
— Да, но мы его приручим, Йоль, ты прав…
— Как котов? Мы его плилучим как котов, котолые тебя спасли в снегу?
— Да, Йоль, мы его вернем. Мы вместе обязательно вернем папу.
) 
Мы застряли, мы просто безнадежно застряли у этих чертовых Бракауэрских ворот. Мы поднялись по столбу, и, надо сказать, провели восхождение мастерски, хоть на него и потребовалось два дня чистого скалолазания. Мы были уверены, что, поднявшись наверх, сразу выйдем из цирка… Теперь мне даже вспоминать об этом смешно.
На противоположной стороне моста, прямо напротив нас, возвышались обозначавшие вход два отрога, выраставшие прямо изо льда. Между нашим бивуаком, разбитым на каменистой платформе столба и Бракауэрскими воротами, что служили выходом из цирка, было всего каких-то сто пятьдесят метров! Если не считать того, что эти сто пятьдесят метров были самыми головокружитель-
176
ными на всем белом свете, и того, что вместо «скалистого перехода», как говорили наши родители, перед нами оказался мост из отшлифованного льда, шириной в два тела, гладкий, как стеклянный стол, и к тому же выгнутый в центре. Этот так называемый «мост» проходил над пропастью в тысячу девятьсот метров, заверенных Тальвегом, вдоль ледника, на который мы уже третий день пялились с нашей платформы. На ледник то наползали тучи, и валил снег с утра до ночи, то он сверкал на солнце всеми оттенками льда. Ни Голгот, ни Арваль, ни Эрг не смогли сделать по мосту больше двадцати шагов. Каждая попытка кончалась тем, что они оказывались подвешенными над пропастью, качаясь на страховочной веревке, и это пока еще повезло, что никто из них эффектом маятника в столб не влетел. Лед на мосту (хотя Тальвег не перестает нас поправлять, де-это не просто лед, а что-то другое, чистое стекло, ну или я не знаю, что там еще) был настолько тверд и гладок, что наши шипы, стершиеся за месяц скитаний, не вонзались в него достаточно, чтобы мы могли удержаться под порывами ветра. Голгот попробовал ползти на животе, передвигая под собой служивший ему мобильной страховкой ремень, который он закрепил вокруг моста, но ширина последнего была неравномерной, а регулировать ремень на ходу было крайне опасно. Голгот дважды опрокинулся под мост, и чтобы вернуться назад ему потребовалось приложить немыслимые усилия.
При восхождении по столбу Эргу несколько раз удалось развернуть свой параплан и подстраховать нас сверху, и я попытался настоять, чтобы он рискнул сделать небольшой перелет и здесь. Он выслушал мое предложение и сразу же поставил меня на место:
— Так-так, скриб, тихо… Ты крылом хоть раз управлять пробовал? Ну-ка, попробуй приземлиться на стенке напро-
175
тив! Или на столбе! Ты порывы между ними видел? Ты головой подумал вообще?! Взлететь я, конечно, могу… А вот приземлиться целиком у меня примерно столько же шансов, сколько и расшибиться о стену, врезаться в мост или в облака улететь. Ты соколов видел? Здесь огромные провалы в воздухе. К тому же этот чертов кривец весь в роторах!
— Да, здесь сплошной аэрологический хаос, — подтвердила Ороси упавшим тоном.
— А если тебя привязать, как воздушного змея?
— Это вообще глупее не придумаешь. Я вокруг моста обмотаюсь на вашей веревке!
π 
Прошло три дня. Шквальный ветер не прекращался. Мы были на грани отчаяния. Порывы ветра били по мосту под всеми мыслимыми и немыслимыми углами. С неба, снизу, сбоку. В придачу ко льду эти шквалы защищали Ворота лучше, чем любой ярветер. Наши резервы закончились. Ястребник выпускал свою птицу, но скорее просто, чтобы размять крылья. Соколы Дарбона охотились, но приносили только галок. Этого было слишком мало, чтобы накормить нас и придать сил, чтобы можно было бороться с холодом. К тому же они все время улетали к низовью, подальше от хребта, на который мы так стремились попасть, что немало говорило о силе потоков в этом месте. Когда я увидел мост, то поначалу даже удивился. Как это наши родители умудрились потерять здесь шестерых? Если не считать самой пропасти, то в чем проблема? Но мы решили не рисковать. Поклялись, что не потеряем ни единого ордийца. Это у нас пока получилось. А в остальном — три дня провала. Бездействие нас окисляло. Мы никак не могли найти решение, идею. На завтра программа была вполне тривиальная: раздобыть еду. Или пересечь мост.

174
Ω 
Четвертый день торчим тут лицом в стену. Уже все силенки повыдохлись. Вечер себе втихаря заявился. За нами весь цирк весь этот гигантский начал натягивать свое желтое одеяло, красиво смотреть, хоть вой. У меня зубы от слюны скоро во рту рассосутся. Так клыками можно и в землю вгрызться. Я сопли свои глотал, чтоб было впечатление, что еще могу что-то проглотить, кроме собственных кишок. Атмосфера мрачненькая, ничего не скажешь, только на рожи наши скисшие глянуть чего стоит. Зубы у всех стучат, сидят все рыльниками клюют. Мы сегодня всё перепробовали. Этот понтон мне все мозги вынес. Сто шагов всего по прямой, хоп и готово! Ага… Я в первый день подумал: видали и похуже. Сопляки эта ваша 33-я, а? Как бы ни так! Эрг сегодня раз десять кряду кувыркнулся. Он со зла даже крыло свое вытащил, и это явно не лучшая идея была. Его вверх зашпулило прямо к соколам дарбоновским. Не знаю сколько он там проторчал, пока не сообразил, как назад приземлиться, руки обморозил, плечо, как, домкрат скрепит. Мы его стали расспрашивать, что там за Воротами, нам же отсюда ничего не видно. Ну так что там, Эрг, на что похоже, а? Ничего не сказал, как в рот воды набрал. Но из арбалета своего на ту сторону стрелу пустил, с веревкой на конце. Не дурак. Она когда встряла, я себе подумал: ну все, готово! Надо было теперь только веревку натянуть, и будет поручень,
как положено. Мы втроем за канат дернули — рвануло в ту же секунду! Ну все, хватит мне тут мозги пудрить, кто короткую соломину вытянет, то и потащит свое сало по мосту с веревкой в заднице. Кто упал, тот упал, кто первый дошел, тот и выиграл…
π 
Арваль показал мне конструкцию из сжатых колец, прикрепленных на крюках на углу диэдра, ровно на восточной вершине столба. На ней еще держался кусок кожи.
173
Это все, что осталось от флага 33-й Орды, установленного нашими родителями. Я целый час перед ним простоял. Голгот его еще три дня назад заприметил, но никому не сказал. Он ко мне подошел и процедил: «Сбивает пыл, а?»
x 
За два часа до захода солнца произошло нечто совершенно невероятное: белый зверек, что-то вроде горностая с двумя веретенообразными крыльями по бокам, вдруг появился на снежном куполе над Воротами, спустился по склону и без малейших колебаний спокойно пошлепал по трапу прямо к нам! Если бы не зоркий глаз Арваля, мы бы ничего и не заметили. Зверек был размером с небольшого сервала, а значит мог служить добычей хищной птице. Дарбон в тот же миг расклобучил своих соколов и запустил их на охоту. Они тут же взмыли вверх, но как-то неуклюже, и мы скоро потеряли их из виду. Дарбон принялся свистеть их назад, нетерпеливо окрикивать и со зла топтаться на месте, но птиц сносило к низовью. Это задело его самолюбие, и он разобиженный сел на место. Обида быстро перешла в злость, а злость в уныние. Ястребник в этот момент замечтался, и мне пришлось его встряхнуть, чтоб он очнулся. Но к счастью, он оставил своего ястреба гулять по выступу, и хищник сам завидел добычу. Прибегнув к своей любимой тактике, ястреб спланировал к мосту, а затем бросился на зверя машущим полетом, как только тот его заметил. Странный зверек с впечатляющей ловкостью ушел от атаки, но, потеряв равновесие, сорвался вниз. Он пролетел с десяток метров и вдруг раскрыл крылья и за пару легких взмахов был уже на той стороне моста. Ястреб не хотел упускать добычу, но ему помешал снежный порыв, и Стреб позвал его назад, перенимая тактику охоты на себя:
— Какого размера животное? — спросил он.
172
— Как небольшой сервал, примерно. Шист на него кинулся!
— Это значит, что он может его схватить. Где спрятался зверь?
— За холмом. Прямо по оси Ворот.
Ястребник погладил птицу по перышкам, соскребая налипшую снежную крошку и лед.
— Думаешь, Шист может пробиться через ветряной заслон у холма? У соколов не вышло… — включился я в разговор.
— Соколы этих мест избегают. Они летают короткими, но сильными взмахами крыльев. Ястреб же легко парит в воздухе, он ловчее держится в условиях бури. К тому же он голоден, как и мы…
) 
Стреб отпустил птицу, и она снова ринулась за добычей. Минутой раньше вся Орда лежала скопом на земле, кто где упал, замотанные во все что было теплого, с настроением тяжелым, как чугун, но теперь надежда заискрилась в наших глазах и поникшие головы снова потянулись наверх. Все мы, не сговариваясь, вдруг поняли, сколько зависит от исхода этой охоты. Надвигалась ночь, запасы кончились, голод рыл в животах туннели, если мы останемся без ужина, то всем нам грозит гипотермия, а шансы напасть на зверя, который мог бы накормить наши тринадцать тел были мизерные. Вернее, они были равны нулю за исключением этого посланного провидением горностая. Следовательно, будет ли у нас еда зависело от того, сможет ли Шист принести добычу.
Ястреб завис совершенно обездвиженный на уровне верхней точки в проеме Ворот, которую я в отчаянии окрестил краем Рамы — нечто вроде обрезанного горизонта, хребет, перелом, да как угодно, в общем
противополож-
171
ный недостижимый склон цирка. Шист был теперь на двести метров ближе к верховью и походил на выгнутый блок из покровных перьев, застывший на полном ветру. Он не мог продвинуться ни на йоту. Но и не сдвигался назад. Злостность порывов над хребтом цирка позволяла ему совершать лишь редкие и очень короткие движения, едва заметные прорывы вперед. Я смотрел на него и боялся, что если он раскроет крылья чуть шире нужного, их разорвет потоком, и эта мысль наверняка его парализовала.
¬ 
Все мы, как один, встали и подошли к мосту. Мы стояли в наших обледеневших одеждах, сжавшись, как вязанка металлических колышков, и бились друг о друга на каждом порыве ветра. Мы были укутаны по самый нос, и лишь зеркало глаз выдавало в нас еще что-то человеческое, и в них угадывалась страшная мысль: «Если даже ястреб не в состоянии преодолеть этот хребет, то никто через него не пройдет».
) 
Стреб был словно привязан к каждому движению птицы, словно сплетен с ней уймой тончайших нитей, с каждым мельчайшим маневром, взмахом, долетавшей до нас трелью, каждым штопором, на который ястреб шел под шквальным ветром. Но бедная птица и так уже больше ни на что не решалась. Шист развернул все свои силы, поднялся вдоль невысокого заснеженного склона и стремглав бросился к хребту, где, распустив хвост и слегка наклонив крылья, попробовал прорваться через завиденную им брешь — но кривец бурлящим потоком смел его с вершины и выбросил вверх. Шист проделал три, пять, десять диких поворотов, спикировал к нам, пролетел далеко за нами, огибая Бракауэрский столб и с покрытыми инеем крыльями снова ринулся на штурм хребта машущим полетом. Он со
170
свистом пронесся между отрогов Ворот, слегка задев снежный холм, что из пологого склона вдруг резко уходил ввысь.
Ω 
Но каждый, каждый блааст тебе в руки раз, чудовищная сила хватала его за шиворот, трепала шквалом и отшвыривала, как сопливую муху.
π 
Но на этот раз, то ли по жесту, то ли по крику ястребника, Шист решил пикировать прямо. И лететь напролом. Не выискивая никаких углов по отношению к ветру, напрямую во встречный поток. Он вошел в массу крутящегося льда. Нырнул в нее, как тяжелый камень в горный ручей, и застыл на несколько секунд, круша надежды всех наших немых прогнозов.
¿' 
А потом, значит, как сказать? Как и сразу можно было предположить, что все пойдет насмарку, резвый летун потерял сначала нормативную единицу, а затем и целых пять метров поля боя, прямо сказать, по моему скромному мнению специалиста по уточкам, дело было худо-плохо… Взгляд мой по недосмотру наткнулся на Пьетро, качавшего головой, извергающей эликсир ясности в форме «ничего у него не выйдет», на что я отвечал улыбкой. Но не будем ходить вокруг да около
голубятни, тут
и соколу ясно, что такое упрямство могло закончиться парой вспышек гордости у птичников. И кислая мина Дарбона, исподлобья глядевшая на своего коллегу, была этому только в подтверждение… Могу ли я сказать, чего нам ждать? Скажем, что диспропорция меж свирепостью шквалов и несгибаемой хваткой красавца Шиста, оставляла витать в небе не только птицу, но и стаю сомнений…
x 
Ястребник трижды застрекотал высоким голосом. Потом еще два раза и еще один, протяжно, монотонно, и
169
ястреб перестал сдавать позиции. Вдруг, движимый немыслимой силой, за три-четыре невероятных коротких взмахов крыльями он нагнал метр за метром потерянную дистанцию…
— Давай, Шист! Давай! Быстрее! У тебя получится!
— Пробей этот хребет! — рассеивались в снежной буре наши с Кориолис крики.
) 
Я был поражен, как ястребу удавалось дециметр за дециметром идти против гладкого ветра. Он был как потерявшийся горсенок, что бежал догонять остальных в шлюзе Вой-Врат. Было не совсем ясно, продолжает ли он продвигаться вперед на самом деле, но так во всяком случае казалось, и он долетел до начала хребта. Мы смогли разглядеть его, поскольку луч заходящего солнца вдруг выхватил Шиста из снежной мглы, и перья его осветились новым, полярным желто-металлическим светом, небрежно брошенным закатом на последние верхушки выступов. Ледяная крошка стегала его со всех сторон огромными вертикальными и горизонтальными лезвиями, обматывала в свои истрепанные, издырявленные ветром, белые простыни, путала в своих сетях, не давая ни отдыха, ни надежды.
x 
Никто в этот момент не мог предсказать, прорвется ли Шист вперед, войдет ли в историю как первопроходец, ограждающей линии Верховья.
) 
Он застыл в зените, на самом краю цирка, пытаясь лететь примерно с таким же успехом, как плыл бы камень. Он
отчаянно бил крыльями, короткими резкими взмахами, замерев в воздухе, словно подвешенная стрела. Вся Орда была вне себя от волнения. Мы забыли про холод, голод, усталость. Мы были с ним, наверху, били крыльями,
168
то прижимая их вдоль корпуса, то снова машущим полетом пытались прорваться, упрямо, непреклонно.
Ястребник свистел и каркал, залпами, короткими жутковатыми криками, совершенно безумными для любого постороннего. Дикий лязг, а не звуки, нечеловеческие, словно звучащие из ледяной гармоники. Но, честно говоря, учитывая дистанцию и рокот ветра, сложно было сказать, слышал ли Шист своего хозяина, да и сам Стреб вдруг перестал издавать свои странные звуки. В гулкой тишине блиццарда Кориолис в очередной раз невпопад крикнула, с раздирающим волнением в горле:
— Быстрее!
Ястребник положил ей руку на плечо, не спуская глаз с птицы, и сказал (никогда этих слов не забуду):
— Дело не в
скорости.
Скорость вообще никогда здесь роли не играла. Ни один зверь на свете не может двигаться быстрее этого ветра.
Ястреба теперь качало сверху вниз, бросало рывками, он болтался в воздухе, как приспущенный флаг. Он был на пределе сил, на растерзании у ветра, с каждой секундой рос страх, что перья его вот-вот разорвутся. Это был конец. Ему оставалось только вернуться к нам, если он еще мог. Давай, пикируй вниз и возвращайся к нам! Я машинально завертелся, не зная, в какую сторону смотреть, откуда искать помощи. Взгляд мой упал на ястребника, и я увидел по его глазам, что он улыбался.
π 
Раздался крик. Один. Неслыханный. Кол из чистого звука, пронзивший воздух до самой птицы. Даже сам Шист, несмотря на расстояние, словно подпрыгнул от удивления.
) 
Его кинуло вертикально вверх и затем, необъяснимым образом, без малейшего движения крыльев (насколько
167
нам было видно), он стал нарезать промежутки воздуха, совершая немыслимые прорывы, то боковые, то сверху вниз, продвигаясь скачками, подаваясь назад гладко, он артачился изо всех сил, молнией складывая крылья, словно…
x 
Я не могу тщательным образом изложить случившееся. Прошло время, неопределяемое в цифрах. Мне показалось, ястреб что-то искал. Я думаю, искал он это что-то на острие своего инстинкта, нацелив клюв и когти на незнакомую и более важную добычу, экстравагантную и менее осязаемую, чем снежные путы, менее ясную, чем разгорающийся свет. Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости, лишь следовать за местом, где откроется прорезь в давшем трещину полотне ветра, где появится брешь в холсте потока — даже и того меньше: где случится простой спад скорости, проем с чуть меньшей яростью воздуха, что, едва открывшись, сомкнется снова, если не успеть вонзиться в него в тот же миг.
) 
На лице ястребника, по обыкновению спокойном и уверенном, отразилось такое напряженное волнение, словно двадцать лет упорной и ежедневной дрессировки были подвешены на тончайшие нити и держались за верхушку хребта, как эквилибрист на канате.
π 
Он закрыл глаза как в молитве, как будто в поисках ответа.
x 
Я видела, как он украдкой затаил дыхание, больше не глядя на птицу. Стреб почти отвернулся, словно знал, что ровно в этот миг (да, Сов) дрессировка, тончайшее и
166
неблагодарное мастерство, которым он занимался в течение двадцати лет, эта дрессировка, построенная на эмпатии между хозяином и птицей, являвшейся полной противоположностью механике стимула-реакции, применяемой сокольником, эта дрессировка, что была его гордостью и светлой нитью жизни, наконец встретится с правдой лицом к лицу.
Мы узнали об этом позже, но крик, брошенный ястребником своему воспитаннику, не был отчаянной командой, его невозможно было запомнить и воспроизвести, — это был не приказ, а пароль, он не взывал к какому-то известному птице действию, не предполагал послушания, но рассчитывал только на понимание (с долей безысходности), этот крик лишь подбивал хищника броситься в пропасть навстречу своей свободе с той разницей, что Шист должен был почувствовать и исполнить приказ, данный самому себе.
π 
Ястребник снял шлем. У Дарбона, стоявшего рядом с ним, глаза выкатились от волнения, и вопреки всяким ожиданиям я услышал, как он прошептал:
— Он пройдет.
) 
Ястреб оставил свой машущий полет и плавным движением проскользнул в проем. Без малейшего усилия или движения прошел через стену ветра и скрылся за снежным холмом. Когда мы увидели его снова, несколько секунд спустя, он держал в когтях горностая и планирующим полетом поднес добычу хозяину.
Не знаю почему, но в это мгновение у меня было впечатление, что он принес в когтях весь Верхний Предел.
∫ 
«Слушай, Ларко, если ты завтра не пойдешь и не расскажешь о своей идее, то я сама это сделаю», — сказала мне
165
Кориолис. Ну я и пошел поговорить с Совом, чтоб тот передал Пьетро, а Пьетро Голготу. Меня позвали. Голгот ждал:
— Это тебе в голову пришло?
— Да.
Я был готов под землю провалиться, Караколь захохотал. Сегодня утром было ужас как холодно. Мы с Кориолис даже спали каждый в своем спальнике, чтоб в общий ветер не сифонил.
— Идея настолько дурацкая, что даже Караколю бы такое в голову не пришло. Я даже пару раз серьезно думал сбросить тебя в пропасть, когда ты ныл посреди столба, что у тебя, видите ли, руки болят. Помнишь?
— У меня ладони были сожжены веревкой. Перчатки порвались.
Кориолис посмотрела на меня, я видел, что в тот момент она посчитала меня жалким и отвернулась.
— Но я забыл, что иногда тебя идеи посещают! Такие, что поверить тяжко, но все-таки идеи, как ни крути!
π 
Голгот взглядом потребовал подать пятидесятиметровую веревку. Эрг принес. Гот завязал коровий узел на конце и застегнул его за обвязку стоявшего смирно Ларко.
— Сейчас пример нам покажешь. Дойдешь до середины моста и ляжешь на живот. Ты не переживай, тебя ноги сами понесут. А мы хоть время выиграем.
— Моя идея не в этом заключалась…
— Твоя идея — эй, кому охота ларковский план послушать?! — это чтоб один из нас на метр прошел и лег на живот поперек моста. Второй по нему сверху проходит и через метр тоже ложится. Потом третий по этим двоим переступает и тоже ложится. Получится типа моста из человеческих тел в пятнадцать метров длиной с противоскользящей поверхностью. Потом первый встает и шагает по
164
остальным телам и снова ложится. За ним второй. Ну и так далее, пока мост не перейдем. А, Ларко? Если я правильно понял, то мысль в том, что лежа поперек, ногами к скатывающемуся краю, можно ледорубами за другую сторону зацепиться, чтоб вниз не улететь. Так?
— Так.
— И что если по другим идти, то меньше шансов в пропасть загреметь.
— Да.
— Ну и мыслишка!
Не знаю, что на него нашло. Голгот стоял прямо у моста. Ларко перед ним. Он ему четыре раза сказал идти. Ларко не двигался с места. И вдруг Голгот схватил его за обвязку, сделал три шага для разгона, и зашвырнул Ларко ровнехонько по мосту со всей дури. Я опешил. Ларко заскользил по оси, не издав ни единого крика. Веревка разматывалась за ним вслед, пока он не остановился, словно камень, посреди моста, как раз в том месте, где выгиб начинал идти вверх. Никто за все четыре дня так далеко еще не забирался.
— Ты страховку в своем плане не учел, Ларкуша! Ты про поручень не подумал. Ну так спасибо, что сам на его место вызвался. Вбивай ледорубы, сейчас натягивать буду!
x 
Приступ гнева? Нисколько. Голгот знал, что мы на этот замысел не решимся. Во-первых, потому что идея поступила от Ларко, во-вторых, потому что это требовало всеобщего и одновременного участия, а следовательно, найдутся несогласные, разве что если один из нас окажется на мосту в беде, и нам придется идти ему на выручку. Что мы и сделали. По правде говоря, идея Ларко заслуживала всех похвал. Разве только вот лежать и терпеть пока на тебя пятьдесят раз наступят шипами в поисках опоры, боясь угодить
163
в пропасть, было занятие не из… Но забудем об этом. Мы перешли и обязаны этим были Ларко. И Кориолис…
) 
Я первым оказался на том берегу, но ждал пока доберутся остальные, чтобы всем вместе взобраться на снежный холм и наконец увидеть, что за ним. Караколь, как обычно, строил гипотезы и множил предположения.
— Ну и что там за этой горкой? — подыгрывал ему Тальвег.
— Бог камня и горных пород, который хочет с тобой пообниматься!
— Вот меня что в тебе удивляет, Карак, так это то, что весь наш контр, весь наш путь, для тебя можно подумать просто прогулка и лишний повод подурачиться!
— Примерно так оно и есть. Если не учитывать того, что завтра я умру…
— Опять? — сыронизировал Тальвег. — Ты уже несколько недель кряду умираешь!
— Я бы даже сказал целых сорок лет! Все со дня на день… — и Караколь окинул взглядом холм, который отделял нас от будущего. Он был разочарован отсутствием реакции с нашей стороны. И, признаюсь, я не сразу понял, что это было от того, что он говорил правду. Он посмотрел на Голгота, на Арваля, что карабкался по снежной шапке и вернулся к вопросу Тальвега, чего не делал никогда.
— Говоришь: «Опять?» Ну да, опять, если хотите! А ведь это было бы прекрасной темой для беседы: сколько раз в жизни нам грозит умереть. Но для меня, веришь ли, это впервые… А для тебя, дружок Тальвег?
— Ты подразумеваешь, что я тоже должен завтра умереть? — спросил неспокойным голосом Тальвег пару секунд спустя.
Мы начали подниматься на холм.
— Я ничего не
подразумеваю. Я разумею вслух.
(обратно)
XVII
КРАФЛА
— Ну что там слышно наверху?
— Как вид, народ?
) 
Нам оставалось сделать всего несколько шагов, которые я проделал с крайней осторожностью, аккуратно переставляя ноги со ступени на ступень. Склон был обращен на запад, время было утреннее, и солнце еще не успело растопить потрескивающий под шипами лед. Я в этот момент, как, думаю, и все мы, испытывал возбуждение, граничащее с эйфорией. Я не ждал ничего определенного, или, вернее, ждал всего. Первое, что я увидел, выйдя на вершину, был Арваль, стоявший на коленях лицом к низовью, осенявший себя тройным крестным кругом; на нем лица не было. Чуть поодаль стоял, закрывая лицо руками Голгот вместе с Эргом. Рядом, в пол-оборота билась в слезах Ороси, словно перепутанный мотылек, угодивший в паутину.
— Святая матерь всех Голготов!
— Сов…
Я подошел и стал рядом с Ороси, по спине у меня пробежал нервный холодок, я поднял голову и решился принять ожидавший меня удар. Первое впечатление было такое, будто меня поглотило открывшееся пространство.
161
Бракауэрский ледниковый цирк поражал размерами своей арены и высотой стен, и в особенности массой бездны, которая открывалась глазу с высоты столба. Здесь же все обстояло куда хуже… Что к северу, что к югу, по всем направлениям контра, нагромождалась друг на друга безбрежная арматура пирамидальных скал и острых вершин. Но прямо перед нами, там, где вставало солнце, и куда лежал наш путь, взгляд ни во что не упирался ближайшие двадцать, если не тридцать километров. В ледяном утреннем воздухе, прозрачном на километры вперед, все стало непоправимо ясно.
π 
Это и правда был кратер. Гигантский овальный кратер. С головокружительными склонами. Перейти его было совершенно немыслимо. Даже спуск не представлялся осуществимым, что уж говорить о подъеме! Нужно будет идти по кромке очень, очень осторожно, Пьетро. Отец тебя предупреждал.
Но меня в первую очередь путал даже не рельеф, а поверхность… Отец говорил, что это лед. Но это был не лед, папа, отнюдь не лед. Нечто другое — чище, тверже. Три серых конуса в центре кратера были почти прозрачными. Они мерцали. Дно кратера словно остекленело. Его затянуло толстым слоем стекла. Вся поверхность сверкала. Солнечные лучи преломлялись под разными углами падения. Застывшие пятна воды, неподвижные потоки. Голубые заледенелые жилы. Схватившиеся льдом ручьи. Чуть выше на склонах виднелся снег. И я был ему почти что рад.
¬ 
Я достал из сумки треногу и секстант, сделал несколько подсчетов. Вытянутый с востока на запад эллипс идеальной формы. Двенадцать километров в ширину. Двадцать один в длину. Перепад высот от бортика кратера до
160
его дна — тысяча шестьсот семьдесят метров, возможно, с небольшой погрешностью. Три центральных конуса возвышались на триста сорок, двести девяносто и триста семьдесят метров. Стенки кратера, слегка вогнутые к центру, шли в вертикаль по мере приближения к линии хребта: 40° уклона на шестистах метрах над самой нижней точкой кратера; 50° — на тысяче метров и 60° начиная от тысячи двухсот и выше. Что беспокоило меня больше всего, так это анабатический ветер, что поднимался вдоль стенок кратера. Аэротор Ороси показывал термический поток куда выше обычного для этого времени суток.
— Вы слышите?
— Нет.
— Ничего не слышите? Если бы Силамфр был с нами, он бы…
x 
Я, конечно, все слышала, но к чему нагнетать атмосферу еще больше? Они и так были потрясены увиденным и пока еще не вполне отдавали себе отчет в том, что нам предстояло. Караколь все сразу понял. Он держался в стороне от обрыва, подальше от нараставших с каждой минутой терминов. Я спрятала назад аэротор, мамин подарок, — пока было рано им пользоваться, к тому же я хотела сначала все прочувствовать, перед тем как замерять. Пользуясь тем, что бриз был еще относительно стабильным, Эрг развернул крыло, и, пролетая по внутренней стороне бортика, стал изучать стенки кратера в поисках выступов, в надежде на проход по косой. Эрг, осторожнее… Первый короткий термический поток сотряс воздух…
— Эрг, давай назад!
Он отреагировал незамедлительно. Он тоже почувствовал термик. Но внезапный порыв ветра подхватил его в конечной фазе приземления и швырнул кувырком
159
по заснеженному склону. Эрг слишком устал за последние пару дней.
) 
Я постепенно начинал привыкать к гигантским размерам пейзажа и чуть лучше фильтровать стресс нереальности, внушаемой этим местом, как вдруг в середине кратера, далеко-далеко, в самом низу, взорвалась ледяная шапка жерловины! Обломок серака взмыл вверх до самого гребня, а затем рухнул вниз в ледяную котловину со звуком стальной ягоды, падающей на кафельный пол. Гигантская трещина пробежала по ледяному дну кратера, выпуская на поверхность скрипящий, режущий выброс жестких осколков. Слуховая камера, окруженная стенками кратера, была настолько хорошо защищена от рассеивания звука, что он поднялся к нам нетронутым, прокатившись волной по нашим костям. От силы тектонических волн глухие лавины раскатились по ободу кратера единым фантастическим потоком. Ороси схватила меня за руку и стала оттягивать всех нас назад, говоря привязаться для страховки. Арваль остался один, в сотне метров, у самого края котловины, созерцая феномен.
— Арваль, отойди! Слышишь? Отойди! — закричала она.
— Иди сюда, Светлячок!
— Там опасно!
— Да отойди же ты, ради бога!
Он рысцой направился к нам вдоль бортика кратера, с улыбкой на устах, полный энтузиазма, но вдруг откуда ни возьмись налетел шквальный ветер. Он с ревом поднимался из самого центра кратера. Мы упали там, куда успели добежать, и как можно крепче рефлекторно врылись в землю. Я видел, как чудовищная масса лавины, летевшая вниз по южной стенке кратера, вдруг
зависла на середине
158
склона, и на несколько секунд снег вспенился, разбиваясь о волну летящего на него ярветра, срывающего на пути ледяной нарост предгорья, словно его соскоблили лопатой, размером с Бракауэрский столб…
— Арваль!
Поглощенный этим зрелищем, Арваль сидел на корточках на краю обрыва и наблюдал за последним чудом в своей жизни разведчика, которая показала ему столько чудес. Он наверняка разглядел, как под силой напора перевернулись сераки, как снег, гонимый ветром, пронесся назад вверх по склону и вырвался с бешеной силой в воздух. Лично я не видел, как он поднялся вверх, я давно уже закрыл глаза, зарывшись в снег, будто это могло помешать ветру оторвать меня от земли, но Эрг говорит, что видел, как Арваль молнией метнулся в небо. И я ему верю.
 x
x 
Извержение продлилось с полминуты, не больше. Но как же было страшно… Я боялась, что мы недостаточно далеко отошли. Линию гребня снесло на полтора метра. Арваль задохнулся от распыленности частиц еще до того, как его накрыло обратной лавиной. Он не успел испугаться. Это была внезапная смерть без мучений… Светлячок, почему он? Он избежал стольких смертельных опасностей за свою жизнь! У него был темперамент истинного первооткрывателя, у него был нюх! Я его обожала. В нем было больше животного начала, чем во всех нас, он обладал немыслимой интуицией… Но в этот раз не почувствовал опасности. Это я виновата. Я должна была ему сказать, предупредить, он бы отошел. Нужно всем было сказать с самого начала, даже еще до Бракауэра. Сразу,
157
Ороси! Все не сейчас… А что теперь? А теперь слишком поздно.
— Уходим за холм! Привал! — бросил Голгот, поднявшийся первым.
Он пытался сдерживать мощность контрудара, что валила его к земле, но покачнулся и повалился в гору нанесенного контрлавиной снега у нас за спиной. Не совещаясь, мы инстинктивно принялись утрамбовывать снег в большой прямоугольник пять на шесть, выстраивая оградительную стену из блоков, что Тальвег механически нарезал шлифмашиной. По щекам его катились слезы. Ларко и Кориолис вытащили палатку из рюкзака Горста, который, отвернувшись, что-то бормотал, обращаясь к Карсту, он все время с ним разговаривал еле слышными фразами, в которых ничего нельзя было разобрать. Сокольник позвал назад своих птиц, он, наверное, здорово за них испугался. А чуть поодаль сидел на снегу ястребник и гладил ястреба. В такие моменты полного отчаяния нам особенно не хватало тепла Альмы, заботы Аои, и Каллирое не могло быть замены. Они умели разделить случившиеся с другими беды, без них мы все съеживались, уходили в себя. Нас осталось всего двенадцать. Каждый день с нашего выхода из лагеря мне казалось, что среди нас кого-то не хватает, я то и дело вынуждена была себя контролировать, чтобы с моих уст не срывались неуместные вопросы «А куда делся?.. А где запропастилась?..», которые и так часто звучали от Голгота. Он до сих пор думал, что ему достаточно в ладоши хлопнуть, и Каллироя из-за холма появится, и костер нам разведет. С огнем, между прочим, становилось все сложнее, запасы масла подходили к концу. А про еду и говорить нечего: вчера нас от голодной смерти спас горностай, но если птицы сегодня не принесут добычи, то как быть? На нас страшно
156
было смотреть, на лицах пролегли морщины до самой глубины души.
π 
Утро было в самом разгаре. Солнце светило вовсю. Но это была единственная хорошая новость. Голгот дождался, пока в лагере установится относительный порядок. Ороси настояла на том, чтобы устроиться на верхушке купола и наблюдать за кратером. Он выглядел спокойным и совершенно безобидным, ровно как до взрыва.
— Так, ладно, я сервала за хвост тянуть не буду, — начал Голгот. — Я себя как в трясине чувствую, до меня сейчас туго доходит. Мне одно понятно: перед нами кратер подрывной и как через него перебраться я ума не приложу. А если в обход по гребню идти, то тут крылья нужны, чтоб вовремя в космос драпануть, только нас такому не учили… В общем, если кто из вас что-то умное сказать может, то валяйте…
) 
Он встал и высморкался в снег. Ороси, как мне показалось, была рада, что поле для разговора чистое. Она завязала черную копну волос, сняла куртку и повесила ее просушить на солнце. Она была очень красива в этом черном свитере. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и, немного грустно улыбнувшись, сказала:
— Я должна вам кое-что объяснить, — начала она и все сразу обратились в слух, — но сначала должна перед вами извиниться, пусть теперь это все и напрасно. Я знала, что нас ждет, но не осмелилась вам сказать. Я хотела вас уберечь. Моя мама…
— И была права! — отрезал Голгот. — Пьетро вон тоже был в курсе и все равно оклематься не может!
— Пьетро, что тебе сказал отец?
155
— Он мне много рассказывал про мост. Об ошибках, которые они совершили из упрямства, из нетерпения, из-за голода. Потом сказал, что за мостом они наткнулись на вот этот вулкан…
— Так и сказал? Вулкан?
— Да. И у них тоже был в прошлом опыт контра вдоль кратеров. А на Ланкманнаро они даже попали на извержение. Но он сказал, что на этот раз все будет выглядеть совсем иначе, что мы будем сбиты с толку…
— Он объяснил тебе, что они сделали?
— Он был очень немногословен. Их оставалось всего десять и некоторые угодили в пропасть, это все, что мне известно. У них кончились запасы еды, они были на грани жизни и смерти. Они проголосовали и решили вернуться.
Ороси чуть поморщила лоб, и я понял, что ни Пьетро, ни кто-либо другой не мог облегчить груз правды, который она на себе несла. Она наверняка знала что-то такое, о чем никто из нас даже не догадывался. Я злился на отца за то, что тот не посчитал меня достаточно сильным, чтобы услышать правду. Мать Ороси поверила в свою дочь, в отличие от него.
— Версия твоего отца слегка подслащенная, Пьетро. Думаю, он не хотел тебя запугать. Реальность случившегося на самом деле жуткая.
Наши лица напряглись. Запоздалая лавина из обломков сераков загрохотала за спиной. Тяжелые куски льда загудели по дну котловины.
— Когда они обнаружили вулкан, мама сразу поняла, что они оказались перед седьмой формой ветра…
— Седьмая форма ветра? — переспросила Кориолис.
— Разумеется. Они быстро выработали стратегию и разделились на три группы. Первая группа отправилась прокладывать трассу по северному краю хребта и
154
расставить ледобуры на самых опасных участках. Вторая группа шла следом, с дистанцией в триста метров, и должна была высечь по пути небольшие платформы, что-то наподобие укрытий на случай извержения. Третья, в которой была и моя мама, осталась в лагере, примерно там же, где мы сейчас, насколько я понимаю. Принцип следующий: первая группа проделывает километр и возвращается в лагерь, а третья выходит им на смену, ну и так далее. Так во всяком случае было задумано…
— Что произошло?
— Произошло то, что извержение началось в момент, когда первая группа подходила к концу своего километра. И извержение продлилось семь часов…
— Семь часов!
— Да, семь бесконечно долгих часов. Первая группа была в двадцати метрах от последнего ледобура, когда их накрыло волной. Они лишь успели захлопнуть шлемы и приготовиться к шоку. Их оторвало от земли и подбросило в воздух. Но вот только они были пристегнуты металлическим тросом к ледобуру…
— Все трое?
— Да. И крюк, и трос, все выдержало удар. Ветер поднимался по стенкам кратера с такой мощностью, что их абсолютно вертикально подбросило на двадцать метров над хребтом, как если бы Ларко прицепил три клетки одну над другой на своей веревке и запустил их вверх. Представляете себе картину?
— И они так и провисели в воздухе на конце троса все семь часов у ярветра на растерзании?!
— Время от времени поток стихал, и они то болтались наверху, как воздушные змеи, то падали на землю, но их тут же снова подкидывало вверх. Кузнец, который был к земле ближе остальных, пытался первое время
153
пробраться к ледобуру, передвигая по тросу свой дюльфер. Он так проделал всего метр и больше не сдвинулся. Вполне возможно, что к этому времени у них были переломаны поясничные позвонки от обвязки. Но это только предположения. А вот что точно, так это что на третий час вулкан начал выбрасывать обломки стекла. Это была настоящая бойня. Осколки хлынули прямо на них, сначала разорвали им одежду, а потом и их самих. С кузнеца, оказавшегося на передовой, содрало кожу по всему телу. Мама говорит, что она из укрытия видела, как из-под истерзанной плоти сначала показалась ключичная кость, а затем и все ребра до одного. Обвязки у них были такие крепкие, что их разорвало в последнюю очередь. Так или иначе, но к этому времени это были уже не люди, а растерзанные, болтавшиеся на веревочке, скелеты.
x 
Кориолис встала немного отдышаться. Для нее это было слишком. Ларко на вид было не лучше, он весь побелел. Единственный, кто улыбался, к тому же широко, был Голгот. Он и подбил меня продолжать.
— А вторая группа что? Тоже под воздушного змея заделалась?
— Нет, они зарылись в снег на своей платформе. Бортик укрытия защитил их от несущегося снизу ветра, правда всего на пару минут, потому что карниз скоро сдуло. Но у них все-таки получилось подняться по склону и забиться в нишу.
Только ветер быстро ее забил снегом, и они оказались в ледяной ловушке. Они практически не могли дышать.
— Почему?
— Из-за компрессии, нехватки воздуха, холода. Их замуровало в ледяной гроб. Они выжили, но гипотермия у них была настолько сильная, что им пришлось ампутиро-
152
вать фаланги пальцев на ногах и на руках. После этого они были не в состоянии идти дальше.
— А твоя мать что?
— Моя мама все семь часов наблюдала, как разделывало на куски человека, которого она любила, не имея никакой возможности ему помочь.
— Алка Сербеля, что ли?
— Да, Алка Сербеля, сокольника. Он был третьим на тросе. После этой трагедии они проголосовали, чтобы решить, как быть дальше. Их осталось всего семеро. Все решили очень быстро. Один только восьмой Голгот проголосовал за. У него был выбор или идти одному, или вернуться с остальными. Дальше вы все знаете…
— Какая соплячина! — взбесился Голгот. Он, разумеется, говорил об отце. — Вы все, да вы, Орда, все меня слышат? Вы на мой отказ не рассчитывайте! Ясно? Я никогда от страха не обделаюсь и контр не брошу. Никогда! — Подскочил он в приступе ярости. — НИКОГДА!
Голгот схватил по ледорубу в каждую руку и направился прямо к кратеру, остановился на краю бездны и, буквально говоря, начал что-то лаять. Из горла его вырывались неистовые блоки звуков, то глухие взрывные, то фрикативы и все это неслось в кратер…
— Все назад. Застегните костюмы и наденьте шлемы. И все в укрытие, в палатку.
— Прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
Я дождалась, пока все вошли в палатку, проверила надежно ли закреплены крюки, и пошла за Голготом. Вихрь брата ввел его в транс, и он же, а не сам Голгот, грубо провоцировал вулкан, бросая коротковолновые вибрационные шоковые волны. Через пару минут плиты войдут в резонанс, и начнется новое извержение. Нужно было
151
действовать. Времени было мало, и я оборвала транс Голгота резким Ки, которому научил меня Тэ Джеркка. Как только к Голготу вернулось сознание реальности, я усадила его, и, пользуясь этой передышкой, переговорила с ним с глазу на глаз. Мы тут же пришли к согласию. Мы вернулись в палатку, как раз когда
хрустальная корка вулкана пошла трещинами. Неизбежный вопрос ждал меня на месте.
— Ороси, извини, наверное, совсем глупо такое спрашивать, но… — неуверенно начала Кориолис.
Из всех нас на ней меньше всего сказался физический надрыв. На ее молодость было так приятно смотреть, не только мужчинам, но и мне самой. Постоянная физическая нагрузка придала ее формам атлетичности, но она не утратила ни своих щечек, ни своего очарования, что главным образом держалось на мнимой хрупкости, зелени глаз, тембре голоса, который было столь приятно слышать по утрам.
— Я не аэромастер, я простой фаркопщик, которого вы взяли в Орду по доброте душевной, и я мало что смыслю в науке. Но я бы просто хотела понять что перед нами… Вот.
Она хотела продолжить, но Ларко приостановил ее.
— Все очень просто. Перед нами обычный вулкан. В полной активности. С жерлами магмы, извергающейся лавой, выбросами пепла, лапиллей, шлаков… Вот только разница в том, что он никак не связан с земной корой. Он в каком-то смысле подвешен над подушкой твердого воздуха. А извергающаяся из него лава состоит не из кремния и плавящихся горных пород, а из воздуха, пребывающего в различных состояниях, а проще говоря, из ветра.
— Ты хочешь сказать, что…
— Я хочу сказать, что мы имеем дело с ветровым вулканом. Его извержения — это выбросы шквалов и
150
компактных блоков воздуха. Я хочу сказать, что перед нами то, чего аэромастер, вроде меня, ждет всю свою жизнь. Перед нами последняя геофизическая форма ветра — седьмая форма.
— Последняя? Но я думала, их девять, — смутилась Кориолис.
Мы все озадаченно переглянулись от очередного неуместного вопроса, отчего она совсем покраснела и прикрыла глаза прядью волос. В таких вот мелких деталях и заключалось ее обаяние, что так нравилось Сову, хоть он и не хотел этого признать.
— Восьмая и девятая — это духовные формы, Кориолис. Я надеялась, что ты и сама это поймешь. В них, разумеется, заключается большая физическая сила, и они во многом управляют жизнью, но сами по себе они не поддаются контролю, который можно выработать по отношению к линейным ветрам, таким, как сламино или кривец, например. Эти две формы действуют внутри нас. А следовательно седьмая — последняя, с которой мы можем встретиться вне нас самих, если так понятнее.
— Понятно, прошу прощения, — засмеялась она своей оплошности.
Ларко впивался в нее глазами, и казалось, у него вот-вот выскочит сердце от обожания. Все мы расхохотались вслед за ней. Какой прекрасный, добрый миг.
— И что в ней такого особенного, в этой седьмой? — продолжала Кориолис, утвержденная нашими улыбками в своем простосердечии. В каком-то смысле я была этому даже рада, так как она задавала вопросы, которые другим было бы тяжело сформулировать, но на которые они все же искали ответа. Я старалась отвечать как можно проще, отбросив арсенал теории и всевозможных трений среди аэрудитов. Я стремилась к конкретной ясности.
149
— Во-первых, речь идет о вертикальном ветре, дующем снизу вверх, от земли к небу. Остальные шесть форм дуют горизонтально.
— Возможен ли эффект всасывания в обратную сторону, сверху вниз? — встревожился Пьетро.
— Насколько мне известно, нет, эффект сифона не наблюдается. Во-вторых, особенность этого ветра заключается в том, что воздушные массы в нем сжимаются и расширяются. Он обладает полной гаммой различных типов компактности, от летучих форм газа до алмазного ветра, отсюда его крайне опасная и хаотичная специфика. Это вопрос исключительно важный и вы ничего не поймете в его функционировании, если не разберетесь в этом.
— Так объясни нам. Только подробно и медленно, — попросил ястребник.
— Принято. В седьмой форме ветер может встречаться как в своей газообразной форме, так и в виде более или менее жидкой лавы, очень схожей с предельно ледяной пылеобразной водой, что, поступая в организм, замораживает трахею и бронхи, порою вплоть до легких. Он также может принимать форму ледяной магмы, очень густой, похожей на тесто из стекла, через которое можно провести рукой. Когда ветер сжимается еще больше, то он превращается в стекло или, как говорят аэрудиты, в
хрусталь, то есть в самую прочную и устойчивую форму ветра, что служит геологическим фундаментом кратера, формирует кальдеры, и с которой мы рискуем встретиться при извержении в виде осколков и гиперплотных блоков воздуха. Когда же ветер достигает крайней сжатости, хрусталь превращается в алмаз.
— Я правильно понимаю, что этот хрусталь образуется из жидкого воздуха, который переходит в твердообразную форму при температуре близкой к абсолютному
148
нулю? Я сначала из-за эффузивности подумал, что поверхность кратера состоит из вулканического стекла. У меня в голове не укладывается, но раз ты говоришь, что это хрусталь… — почти про себя проговорил Тальвег, вытаращив глаза.
— В обычной среде, когда газ сжимается, это сопровождается выбросом высокой температуры. И, противоположным образом, газ охлаждается, расширяясь. Что может ввести в заблуждение, так это мысль, что ветер по своей сути является просто воздухом в движении, как считают подветренники. Труднее придумать умозаключение более нелепое и ошибочное. Ветер — первичная форма вселенной, а четыре известных нам элемента природы — не более чем классификация его форм, к тому же в весьма вольной интерпретации. Огонь, например, происходит из стеши. А вода — замедленная и загустевшая форма ветра. Отличает их друг от друга главным образом степень сжатия потока, от которой зависит вибрационная мощность молекул, внутренняя топология циркуляции и, разумеется, скорость. Но опустим все это, чтобы не забираться в ветрологические дебри.
— А что такое воздух, в таком случае?
— Воздух, как и другие элементы стихии, происходит из ветра, а не, как принято думать, наоборот. Воздух, изначально, — это стационарный ветер. Для начала нужно принять постулат, что движение первично по отношению к статике. Неподвижность — всего лишь производная движения. Так вот, что касается твоего вопроса, Тальвег, то алмаз не является кристаллизацией ветра при очень низкой температуре. Это признак крайней сжатости ветра, что выражается в движении потока с абсолютной скоростью. Представьте себе, что ветер, существуя в определенной форме и в определенном месте, отсутствует во
147
всех остальных своих потенциальных формах и точках нахождения. Соответственно, там прерывается поток и образуются пустоты. При абсолютной скорости, ветер присутствует одновременно во всех проявлениях материи, через которые проходит. Именно в этом заключается его немыслимая плотность, его неделимость. Это состояние ветра среди аэрудитов называется
алмазным ветром. Я у себя в ботинке только что нашла осколок. Смотрите.
) 
Я, как и все остальные, был буквально прибит глубиной познаний Ороси и даже почти завидовал ей. Тальвег взял осколок размером с большой палец руки и, открыв палатку, выставил его на свет, чтобы рассмотреть на открытом воздухе. Затем он вынул свой стальной молоток и провел по нему алмазом — появилась царапина. Караколь, всегда приводивший всех в недоумение своей ловкостью рук, выхватил у него алмаз, и, напустив на себя вид эксперта по драгоценным камням, заявил:
— Все это ветром надуло…
Он зажал алмаз между большим и указательным пальцами, и подул на него. Раздался звон кристалла и воздушный камень испарился. Молодец, Карак! Справился! Разочарование расползлось по нашим улыбкам, и ни одна рука не дрогнула хлопком аплодисментов. Караколю оставалось лишь исполнить одинокий реверанс перед безмолвной публикой.
Извержение подошло к концу, и все мы высыпали из палатки наружу. В сотне метров от нас Горст увидел стеклянный куб, и побежал за ним, решив устроить себе настоящий трон. Тот оказался неожиданно тяжелым и Горст потащил его, оперев о живот. Он утрамбовал снег, поставил куб и сел на него, когда подошла Кориолис и с самой неотразимой улыбкой попросила уступить ей место. Куб
146
был слишком мал для Горста и он без малейших колебаний а скорее даже напротив в порыве щедрости, освободил ей место. Горст был похож на мягкое тесто, его можно было просить о чем угодно, он был гигантским монстром беспредельной щедрости. Он так и не оправился от смерти брата и впадал поочередно то в состояние ребяческой эйфории, то в оцепенение кататонии. Тем не менее, предсказание Караколя, еще с Лапсанского болота пророчащее, что на Верхнем Пределе они снова встретятся, удерживало его на солнечной стороне склона жизни, и какой жизни! После смерти Фироста он стал главной опорой для Голгота, назначившим его столпом, и вместе с Эргом они втроем взяли на себя основной груз снаряжения. Горст родился на ледяных склонах линии Контра и нисколько не боялся холода, а его физические данные были почти что наравне с Эргом, за исключением, пожалуй, ловкости.
— Так я продолжу? Опасность составляет не только алмазный ветер, но его обратная форма — разреженный воздух. Мы можем столкнуться с пустотой, в которой невозможно будет дышать. Вы меня еще слушаете?
— Да, да… — пробормотал Ларко, но было совершенно очевидно, что мыслями он уже далеко. После взрыва небо затянулось изумительными облаками янтарно-голубого цвета, и он в воображении запустил свою клетку в эти высокие небесные воды.
— Я вам расписываю все формы в подробностях не для того, чтобы своими знаниями похвалиться, — начала нервничать Ороси. — Мы рискуем столкнуться с ними лицом к лицу в любой момент. Это в обычных вулканах видно оранжевую лаву, серый пепельный дождь и вулканический шлак. Здесь же все наоборот, и мама не раз меня предупреждала: здесь все прозрачно, и лава, и осколки стекла, и ледяной пепел!
145
— То есть ты хочешь сказать, что ничего нельзя понять заранее на вид?
— Можно различить ледяные блоки по преломлению света. Но если вокруг все белым-бело…
— Но можно же на слух ориентироваться?
— Да, но не у всех такой же острый слух, как у тебя, Сов. Ладно, хватит с вас теории. Я хочу, чтобы вы одно поняли, самое главное: перед нами седьмая форма ветра. Она сильнее кривца, то есть пятой. Сильнее ярветра — шестой. Если мы попытаемся противостоять ей как противостояли ярветрам, начиная с пятнадцати лет, как пытались преодолеть Норску до сих пор, то всем нам конец. Здесь нам не поможет ни наш опыт, ни наша сила воли, ни наша атлетическая подготовка. Решение будет за ветром.
— Какое решение?
— Выживем мы или нет!
— У тебя наверняка есть какая-то стратегия? — спросил Пьетро.
— У меня было три месяца, чтобы разработать план, и все знания, которыми располагает моя мама, но…
— Что но?
— Ничего. Я просто хочу, чтобы вы поняли: наш путь сегодня принимает совершенной другой поворот.
Ороси изложила нам свою стратегию и за ней не последовало ни замечаний, ни комментариев. Голгот поднялся и сказал: «По турбинам, малышня!» Как и все, что делала Ороси, план ее был тонок, точен и обстоятелен. И во многих отношениях просто блестящ. Особенно своей трезвостью. Только что пережитое нами извержение и рассказ о жуткой гибели 33-й Орды навели на меня тревогу, но предложенная Ороси стратегия отвечала на это своей уместностью, прорисовывала линии поведения и придавала уверенности. Во многом это чувство было связано
144
еще и с ясностью солнца в зените над вновь обретшим покой вулканом. Но вот ко мне подошел Караколь, и что-то в его развязном виде меня сразу встревожило, и я мигом все вспомнил…
— Я пришел попрощаться с лучшим и самым живым из всех моих друзей, — начал он с широченной улыбкой, озаряющей все его лицо. — Ее Величество Ороси назначила меня в паре с геопастырем Тальвегом на посадочную платформу, что по расчетам Махаона у нас на северном хребте. Так что, скажем, нам предстоит прогулка… А потому, давай-ка хлопни его по плечу и скажи ему словечко на прощанье, пока от него след не простыл…
— Ты на этот раз серьезно?
Но вместо ответа он скинул на снег свою овцебычью шубу, снял рубаху арлекина, и протянул мне ее двумя руками на раскрытых ладонях:
— Вот, возьми и надень, Советник. Она принесет тебе удачу.
— Нет.
— Бери же, сильф.
— Перестань!
— Я оставлю ее здесь. Ты все равно ее натянешь рано или поздно. Я про рубаху, не про Кориолис! Смотри-ка мне, маленький проказник!
— Зачем ты это делаешь?
— Что, где, куда?
— Зачем ты идешь на хребет, если знаешь, что погибнешь там?
— Да потому что вам нужна эта платформа!
— Почему ты не отправишь кого-то другого вместо себя? Кто угодно может снег утрамбовать и шлифмашиной на куски порезать!
— Ты хочешь, чтоб я кого-то другого вместо себя на смерть послал? Это твой совет, магистр?
143
Я не знал, что на это ответить, ком в горле перекрыл трахею, щеки намокли, я едва ли осознавал, что плачу.
— Я… пойду… с тобой…
Он окинул меня взглядом. Его непослушные локоны то и дело скрывали улыбку. Он стоял с бумом в руке.
— Ороси доверила тебе самую важную из всех миссий, Севченко. Ты должен оставаться здесь и следить за хребтом. У тебя три флажка, по одному на каждый уровень сигнала тревоги — зеленый, желтый, красный. У тебя у одного со слухом все в порядке. Силамфр сдрапнул, и я туда же. Пойдем, если хочешь, будет на одного героя больше! Но только часового не будет, чтоб предупредить тех, кто мало ли еще останется в живых. Пойдем! Давай! Ну, побежали!
— Ты заранее знаешь, что я не пойду. Так ведь?
Он сменил улыбку на серьезность со скоростью, с какой снимают маску:
— Я знаю, что ты один неразрывно связан со всеми нами. Эта Орда — не Голгот и даже не Ороси, хоть она ее и ведет, это ты. И какова бы ни была сила твоей дружбы по отношению ко мне, ты сначала спасешь остальных. И будешь прав.
— Ты сожмешь свой вихрь?
— У меня нет вихря, Совенок. Я
сам есть вихрь.
Он обнял меня так крепко, и в объятиях его было столько тепла, что во мне, как в кузнице, выковалась память об этом миге, вечно горящая огнем. Когда он отошел, я еще хотел ему сказать… но он, схватив с собой Тальвега на лету, уже бежал вперед, как и сказала им Ороси, в направлении узкой линии обрыва вдоль хребта. Я еще мог догнать их, если бы побежал следом. Но спустя полминуты было уже поздно: я принял то, что смерть их неминуема.
«Я вас люблю!» — крикнул я им вслед, пока еще голос мог до них долететь. Они обернулись, и Караколь вместо
142
ответа забросил свой бум над пропастью. Долетев прямо ко мне, бумеранг изобразил в полете букву С, описал крут буквой О, и дважды крутанулся буквой В, а затем плавно, словно мертвый листик, лег мне в руку… Я поднял рубаху Караколя и, утирая слезы, надел.
π 
Эрг решил рискнуть и перелететь над вулканом. Говорит, сможет вовремя выскочить из кратера, если начнется извержение. С крылом и пропеллерами на ногах полет туда-обратно должен занять не больше часа. Он будет держаться северного хребта, по возможности. Его задача — определить те редкие места, где хребет расширяется достаточно, чтобы можно было разбить лагерь для передышки. Ороси была права: кратер был словно подвешен в воздухе. Чем дальше по линии хребта, тем отвеснее становился внешний склон. А потому за редким исключением идти можно было только по внутреннему краю кратера.
Кориолис дали задание построить укрепление в виде стенок из спрессованного снега для нашего базового лагеря. Дарбон и Стреб остались с ней, их задача была запустить птиц к низовью. И чтобы те вернулись с добычей! Ларко пошел рыбачить со своей клеткой к югу от лагеря. Для рыбалки годился совсем небольшой участок. Поверхность холма была широкой только к западу, откуда мы пришли, но чуть дальше влево и вправо снежная равнина быстро сужалась до размеров лезвия. Но голову даю, он все равно изловит нам пару медуз.
Нас с Горстом и Голготом определили копать одиночные окопы каждые сто метров. Сначала нужно вырыть яму, а потом укрепить ее, утрамбовав снег по всему цилиндру. В случае извержения мы тогда все будем не далее, чем в пятидесяти метрах от укрытия. Идея Ороси, разумеется.
141
«Всего двести пятьдесят окопов на двадцать пять километров линии хребта. Из окопов можно будет перескочить сразу в лагерь, а когда условия будут позволять, то будем бежать. Всего можете считать сто восемьдесят два окопа». Это, конечно, очень много, но я все равно рад, что меня распределили на эту работу. Я так чувствовал себя более защищенным. Работа была изнурительная, мы часто натыкались на ледяные пласты. А снег из легкого и рассыпчатого то и дело переходил в колотый лед. В таком случае я доставал винт. А Горст орудовал только лопатой, впрочем как и Голгот. «Работа для крытней. — начал ворчать Голгот, когда Ороси сказала ему идти копать. — Риск нулевой!» И она дважды права: и в том, что защищает его таким образом, и что использует его немереную физическую силу для такого труда. Это работа не для Ларко, тут не поспоришь. Больше всего меня поразило то, что сама она отправилась вперед с разведкой перед Тальвегом и Караколем. «Я умею читать ветер, Пьетро, я уверена, что лучше вас пойму, когда нужно залечь в укрытие. Я должна пойти первой». Горст отдал ей ротофрезерный станок. Очень мощный инструмент, им в кривец можно высечь яму в полметра за тридцать секунд.
) 
Когда послышались первые глухие посвистывания ветра, я сразу поднял желтый флажок, привязанный к концу палки, и подошел к краю. Под непрерывными стеклянными потоками там и тут виднелись темно-синие пятнышки, расходившиеся друг от друга все дальше. Эрг был всего лишь точечкой на другом конце вулкана, он начинал обратный путь по южному хребту. Я вытащил из сумки рог и подал три длинных и два коротких сигнала — тревога второго уровня. Я заколебался, не хотел разводить панику, но наверняка нужно было давать красный сигнал.
140
Тальвег и Караколь были всего в километре от лагеря, они, кажется, нашли подходящую платформу для укрытия на хребте и притаптывали ногами снег.
Раскаты загрохотали с такой силой, что мои сигналы больше были ни к чему, все и так всё слышали. Но я поднял красный флажок и загудел длинный протяжный сигнал тревоги. Волны оповещения раскатились по всей поверхности кратера, и мне стало не по себе от этого почти медного, тяжелого звука, но я должен был предупредить остальных, дать приказ идти в укрытие. Сию же секунду. Я подхватил рюкзак и рванул наверх купола. Ветер внезапно усилился, я бросил рюкзак вниз со склона, прямо к Кориолис, что смотрела на меня в панике: «Где Ларко?», я снова уставился в подзорную трубу, навел ее на Тальвега с Караколем, и стал дуть в рог, что есть мочи, задыхаясь, и сам того не замечая, я дул, разрывая свои легкие, прячьтесь, в укрытие, ложись!
x 
Первый шквал — сплошной блааст силой в 8–9 баллов — задел меня в траншее. Я стояла на коленях с ротофрезерным станком в руках, теряющим мощность оборотов. Я наклонила голову к земле и подождала, пока пройдет волна, затем снова вскинула на плечо станок, подставив отверстие инструмента под поток, подождала, когда сожмется воздух, и снова нырнула в траншею. Станок проделал еще тридцать сантиметров в толще снега и льда. Теперь можно было держаться на корточках. Аэросферическое давление изменилось очень быстро. Воздух начал становиться жидким. Я вдохнула последний глоток ледяного воздуха, замедлила сердцебиение, и подготовилась задержать дыхание. Новый поток еще не начался, и я рискнула выглянуть из своего укрытия. Обомлев, я увидела, что Караколь и Тальвег бегут ко мне! Они не успели вырыть
139
нишу для укрытия, и теперь были в восьмидесяти метрах от меня. Я тут же схватила станок, воздух был бледно голубой, у меня было секунд двадцать, и металл вгрызся в стенку льда. Нужно было расширить траншею как можно быстрее, чтобы мы могли поместиться втроем…
) 
Началась новая, ни в чем не походившая на предыдущую фаза извержения. На этот раз не было ни лавин, ни выбросов твердых пород, а только ветер, чистый ветер, так мне во всяком случае в начале показалось с места, где я находился, но до того, по слуховым и визуальным ощущениям жидкого потока, поднимающегося по стенкам кратера, я понял, что происходит на самом деле. Они были метрах в сорока от укрытия Ороси, не более. Тальвег, ослепленный метелью, бежал впереди. Тело его содрогалось от налетавших порывов, и он старался держаться внутренней части кратера, в страхе, что его унесет в бездну по ту сторону хребта. Караколь шел, запрокинув голову вверх, и, казалось, даже
не торопился — и в этот миг ветер вошел в свою седьмую форму.
¿' 
Воздух, скажем прямо, чтобы сразу прояснить ситуацию, перейти через черту и не оставаться на поверхности вещей, становился действительно жидким — не как вода, прошу заметить, и даже не как дождь в тоскливый шунский день в тени на берегах Лапсана, он становился жидким, словно жидкий воздух, именно так, а значит, был скорее холодноват, так как в минус двести с чем-то градусов дышать становится тяжеловато полной грудью, так сказать, разве если кто решит внутри себя отлить нагрудник из чистого стекла, а, кстати говоря, чем плоха идея? Но в общем-то меня особенно все это не смущает, как автохрону мне скорей грозит замедление тайком, в груди —
138
давай, встряхнись, Тальвешка, подвигай хоть ушами, чтоб продолжить этот фарс, дыши еще, дыши… А хочешь дам прием от аэромастеров: «Дыши, как на одном дыхании…»
x 
Пошел отток, за ним второй. Я выглянула из укрытия и подняла визор на шлеме. Тальвег был от меня всего лишь в пятнадцати метрах, но мне потребовалось какое-то абсурдное количество секунд, чтобы понять, что он больше не двигался. Правая его нога была впереди, торс наклонен вперед, а лицо выражало непоколебимую решимость. Но он в буквальном смысле остекленел. Я вдруг услышала, поняла именно по звуку, что на нас со дна кратера движется залп высокой плотности. От исходивших от него волн, сотрясающих воздух, тело Тальвега взорвалось на мелкие осколки и разлетелось по ледяным просторам.

Караколь был по-прежнему жив, он шел, пританцовывая по линии хребта мне навстречу. Он ступил шаг, затем другой, легкий, невесомый, и его лодыжки вдруг растворились в воздухе, а вместе в ними куда-то исчезло и плечо, и фрагменты лица, словно стертые ветром, за ними бедра, почти целиком, и вот он вышел из своей одежды, что осталась болтаться у него за спиной на ветру, словно наконец решил пройти сквозь нее… Он быстрым и легким скачком приблизился ко мне, он был всего в пяти метрах, у него почти исчезло тело, но это все еще был он, я видела это по лукавому взгляду, по складке не сходящей с щеки улыбки, по живой копне светлых кудрей, что еще цеплялась за человеческий облик, который он принял и так долго берег. Но под ним теперь виднелись все тайны восхитительной архитектуры ветра, что была его остовом все эти десятки,
137
а может даже сотни лет. Теперь можно было рассмотреть все мощнейшие витки мускулов, струящиеся голубые тубусы костей, которые вдруг лишились внутренней подвижности, необходимой скорости, чтобы сомкнуть виток ускорения, что делал их компактными — это было уникальное и совершенно немыслимое зрелище, он умирал, и ему, очевидно, совершенно не было больно, он не страдал, казалось, он просто устал от загустения крови, словно больше был не в силах выносить то жуткое замедление, которое вдохнул в него жидкий воздух, и что, наверняка, затронуло всю живость разума, утяжеляя весь нечеловеческий блеск его ума, оставив после себя там, где только что находилось его лицо, лишь светящийся виток, что еще долго сиял ультрамарином, пока линейный ветер не разметал его с отвратительной жестокостью.

— Брось, Ларко, брось клетку!
— Там медуза внутри!
— Брось, тебе говорят, тебя вместе с ней сейчас унесет!
≈ 
Он не хотел возвращаться с пустыми руками, хотел выйти молодцом. Но клетка тянула его вверх, отрывала от земли, как бы он ни сопротивлялся.
— Сов, помоги мне!
Ларко ни в какую не хотел бросать клетку, я хваталась за него, как могла, но его то отрывало от земли на метр и швыряло вниз, то снова поднимало в воздух, то тащило по земле. Со щупальцев медузы, через прутья, стекала жидкость. Медуза была еще жива и то всасывала воздух, то выпускала его…
136
— Сов!
Ларко намотал веревку вокруг руки и тянул изо всех сил, не слушая меня.
— Я не могу бросить клетку! Помоги мне!
Я бросилась на него, схватила за пояс, нас безжалостно швыряло шквалами ветра.
— Брось!
Он не заметил края хребта, и чуть не сорвался вниз, но удержался, застыв спиной к обрыву. Слишком поздно сообразил, где оказался. Я стояла перед ним, боясь пошевелиться, схватить его, не в силах крикнуть «брось!», я так хотела крикнуть, но не могла издать ни единого звука… Его подхватило очередным шквалом, и он повис в воздухе со своей медузой в клетке, вот его подняло на метр, потом на три, потом на десять, теперь было слишком высоко, чтобы отпустить веревку. Его уносило вверх очень быстро, и он не испустил ни малейшего звука, ни малейшего крика.
Δ 
Не знаю, как я его вычислил. Привычка. Я шел прямиком на лагерь с облета вулкана. Довольный, что остался жив. Я от извержения вовремя на два километра на север ушел. А тут точка в поле зрения. Узнал его по красной куртке. Не зря он такую хотел. «Вы меня так быстрее в лавине отыщите», ну или что-то в этом роде, в духе Ларко, короче. Ну я по цвету и узнал. Он хватанул тепловой поток в конце извержения и его стрелой вверх понесло. Заледенеет. Внизу. Стрелка на девять. На краю хребта. Кориолис. Разумеется. Принцесса стоит, при формах, та еще штучка. Я согнул колени, поднял винты в позицию и вошел в термик…
— Держись, Ларкон!
Но только он меня не слышит, вертит головой во все стороны. Решил, что уже в раю, что ли? Над головой у него
135
медуза. Розовая, не очень крупная, но пожрать есть что. Кориолис снизу орет. Я б ее заставил покричать время от времени. Но вот Ларко у нас делиться не мастак. Она ему дорога. Да только меньше, чем его любимая клетка, судя по всему. Какого черта его наверх понесло? Он, если на глазок, за двести метров перемахнул. Замерзнет, тут без вариантов. А если замерзнет, то веревку бросит. Меня встряхнул адреналин. Я просчитал траекторию падения. Время переключать винты не было. Я их настроил под вулкан. Так чтоб меня тянуло вниз, если снизу будет сильно дуть. Принцип контраса, ничего особенного. Пахнет жареным, макака. Я встроился в поток в его надире, заблокировал винты, но вверх пошел слишком медленно. Ларко шел выше на тридцать метров, и медуза его вверх тащила, как на воздушном шаре. Его начало сносить в сторону. Главное, чтоб щупальца не трогал. Кориолис внизу орала. И ее понять можно. Схватился за щупальце. Рефлекторно бросил. Мертвым грузом пошел вниз. Я зародил арбалет. Все на рефлексах. Гарпун наготове. Выстрелил, не раздумывая. Попал. Рискнул. На обвязку сейчас возьму семьдесят килограмм камнем с неба. Крыло амортизирует шок. Спикируем на шестьдесят метров. Есть запас, должно пронести.
≈ 
Эрг его спас! Он его спас! Поймал на лассо, прямо на лету! Поверить не могу! С ума сойти, что он умеет вытворять на своем параплане! Он опустил Ларко на землю и сам рядом приземлился. Я сразу к ним бросилась, я так испугалась, ужас просто как я —
— Ты его…
— Такое случается, Кориолис…
— Я думала, что ты его…
— Что я, по-твоему, должен был сделать? Дать ему рухнуть камнем вниз с двухсот метров?
134
— …
— Легко думаешь попасть из гарпуна в движущуюся цель в свободном падении? Сама попробуй! Я целился в ягодицы. Он тогда был бы ранен, но живой.
— Ты его насквозь продырявил…
— Мне очень жаль.
Δ 
Гарпун ему пробил грудную клетку. Он ко мне лицом был повернут. Я в лучшем случае мог ему в бедро попасть. Но я старею, это факт. В бою с Силеном я бы так не промахнулся. Но время идет. Теперь вместо спасенья — стыд. Но мне не перед Ларко стыдно, он бы здесь все равно долго не протянул, это и так чувствовалось. А вот перед ней стыдно. Да и еды он нам ловил как-никак. Кривой ветер… Да и любили у нас его вообще. Я, правда, так себе. Хотя иногда и меня повеселить мог.
 )
) 
Когда солнце рухнуло за горизонт, далеко за горами, на запад к лагерю Бобан, Арваля с нами больше не было, чтоб поприветствовать закат круговым знамением по воздуху, как того требовал его привычный ритуал. Караколь был мертв. Тальвег был мертв. Ларко… «Видеть, как умирают» — говорил мне отец. Видеть, как умирают… Я тогда ничего не понял. Мой крепко сложенный мозг, вся моя черепная коробка, все начинка, все винтики, все это, конечно, приняло информацию, папа, я понял, это будет очень тяжело, но я сильный… Он только посмотрел на меня, но настаивать не стал, наверняка понимал, что передать это невозможно. Зияющая дыра внутри. Разверзнувшаяся бездна. Сокольник вернулся с охоты с пустыми руками. Голгот ему все объявил про Ларко и спросил, хочет ли он
133
увидеть тело, перед тем как его похоронят. Дарбон спросил, что с остальными телами. И тут во мне что-то лопнуло, словно косточку щипцами раздавили. Чувство было такое, будто весь мой растекшийся от боли и страдания позвоночник вдруг снова затвердел от одного лишь упоминания об Арвале. Все швы треснули, я больше не держался на ногах, все вылилось прямо из легких, без слез, сухо, сухо:
— Я бросаю.
Эти два слова сами выпали из моего рта.
— Я тоже, — в оцепенении проговорила Кориолис.
— Я с вами, — сглотнул Дарбон.
— Я возвращаюсь с вами, — сказал Пьетро.
— Я тоже с вами, — пробормотал ястребник.
π 
Ороси встала, не глядя на нас. Она тронула Сова за плечо, поцеловала в шею и сделала пару шагов по направлению к вулкану. Он снова был коварно и вызывающе тих. Голгот молчал. Думаю, если бы он открыл рот, Сов бы его прикончил. У нас совершенно не осталось еды. Последнюю фляжку масла допили сегодня в обед. Каждый по глотку. Даже муки не осталось, чтоб в сухомятку проглотить. Я сегодня утром мешок выбросил. Запасы подошли к концу. Мы тоже. Наша Орда пала. Нас оставалось девять. Продолжать контр без разведчика, без геомастера, без браконьера? Продолжать без крохи во рту? Это было немыслимо. Нужно принять стыд того, что выжил. Мацукадзе была права. Как я их теперь понимал. Мы перейдем мост обратно по технике Ларко. Спустимся с Бракауэрского столба на страховке. Мы прошли не дальше них. Ставить свой флаг? Смешно… В цирке ястреб наверняка сможет нам раздобыть сурка или полярную лисицу. Спуск можно выдержать и на голодный желудок, дотерпеть до цирка. Через три недели, если вести себя аккуратно и
132
внимательно, будем уже в Бобане. Там нас ждут Альма и Аои, и наверняка Силамфр, если он, конечно, перенес путь. Родители будут на седьмом небе. Нас всех ждет новая жизнь. Еще не поздно.
— У меня к вам есть предложение, — сказала Ороси, вернувшись.
Она вытащила все свои бабеольки и распустила волосы.
— Мы тебя слушаем.
— Мы это обсуждали, перед тем как выйти из Бобана. Не знаю, помните ли вы об этом. Я про тела погибших…
— Нет! — тут же вскочила Кориолис. — НЕТ! Я тебе его на съедение не отдам, дрянь ты такая! — Она набросилась на Ороси и почти залаяла ей в лицо. Ороси попятилась. — Он не хотел, чтобы его съели! Он это сам сказал!
— Мне кажется, он говорил ровным счетом обратное, — не растерялась Ороси. — Пьетро, ты помнишь этот разговор?
Я сначала ничего не мог понять. Просто смотрел по очереди то на одну, то на другую. Ороси пришлось повторить вопрос, чтоб до меня дошло:
— Да, я помню. Ларко сказал, что будет рад, чтоб его съели, если он умрет. Если это может нас спасти. Он дал свое устное согласие.
— Он даже сказал… что… эта идея ему чем-то нравилась… что у него тогда будет впечатление, что… его жизнь продолжается… в нас… если вдруг так случится, — подтвердил Сов сбивающимся голосом.
— Вы ВРЕТЕ! — рыдала Кориолис.
Но мы не врали. Мы хотели почтить его желания и его память. Голгот пошел за телом. Эрг развел огонь из вещей Караколя, что подобрала Ороси. Затем вытащил гарпун из грудной клетки Ларко. Разделал труп со скоростью врача. При помощи охотничьего бума. Ороси пошла поговорить
131
с Кориолис. Они обе удалились. Послышались крики. Час спустя Кориолис вернулась. Она была убита, но полна решимости. Попросила первую часть тела. Вся дрожала, но стала жевать, затем проглотила. Из девятерых оставшихся только Дарбон отказался есть. Это было его право. Он был на грани. Его сотрясали приступы рыданий, которые он, весь такой гордый перед тем, как оказаться здесь, на Норске, теперь даже не сдерживал.
— Тебе нехорошо, Дарбон? — постаралась успокоить его Ороси.
Он сначала ничего не мог ответить, он стоял, держась за живот:
— Мои птицы… У меня соколы, как увальни… Они добычи не приносили уже… Ястребник куда сильнее меня… Я не справляюсь со своими обязанностями…
— Это не страшно, Дарбон. Никто из нас не справляется.
— Стреб и его Шист справляются…
— Я сегодня тоже ничего не раздобыл, Дарбон. А что делает Шист, то это только его заслуга. Его морфология лучше адаптирована к горным шквалам.
Не совсем так, но это было очень мило. Господи всех Ветров… Как он мог? То, что случилось потом — был залп, от которого стеш переливается через край. Это был верх абсурда в этом бесконечно отвратительном дне.
Сотрясаемый новым приступом рыданий, Дарбон опрокинулся навзничь, и из-под его куртки выскользнул сокол. Совершенно неподвижный. Я глазам своим не поверил: он был действительно мертв! «Своими руками его задушил», — сказал нам Дарбон с гордостью и со стыдом в голосе одновременно. Затем достал второго. Тоже мертвого. Обе птицы, своим же хозяином! Ни у меня, ни у кого-либо другого не нашлось сил обругать его за безумие
130
того, что он натворил. Мы все были на пределе, за гранью. Он пожарил соколов на том же огне, что и Ларко, и съел обоих. Даже не закоптил хоть немного на потом. Даже не заморозил во льду! Даже никому из нас не предложил.
— У тебя вообще винты сорвало, Дарбон? Ты хоть понимаешь в какое дерьмо ты нас всех вляпал, идиота кусок? — обрушился на него наконец Голгот.
Это были первые слова с тех пор, как не стало Тальвега с Караколем. И последние за этот день. Ночью в палатке было очень просторно. Так просторно, что можно было подохнуть от холода.
Ω 
Не то, чтобы вчетвером с Махаоном, Ороси и Горстом мы бы не справились с этим стеклянным кюветом. Частично аэропереноской, частично перескакивая по укрытиям со всей прыти по линии хребта, с ротофрезером наготове, чтоб новую дыру себе вырыть, на случай если. Но дело скорее в том, что меня всего проскребло от мысли, что Пьетро с Совом вдруг решили сдаться, с птичниками, да еще с этой малявкой в придачу. Решили вдруг взять и поручень отпустить.
Не знаю, что там в их черепушках за ночь перетарахтело, вскочили утром все пятеро на рассвете, собрались над кучей пепла, от холода кочевряжась, лясы свои опять завели. Ороси снова разгорланилась, к ним пошла, я только в спальник поглубже залез, чтоб и не слышать ничего.
То, что у нас теперь мяса на неделю было, дело, конечно, сильно меняло. Только его еще проглотить как-то нужно было. А дрова на исходе. Мы до края мира дошли, это уж точняк. Никто еще не заходил со шлемом ровно над ботинками дальше этой мамонтовой уборной ямы, я за это готов свое добро на гранитный стол выложить, тут я уверен, что такого еще не было. Еще! не было. Тут факт,
129
теперь придется один на один седьмой стрекача задать, запустить винты в коробочке с чудесами и не забывать, что мы с Ороси еще ни под одним ярветром спуску не давали. К тому же с нами махач с крылом своим. Он эту дыру за полчаса пролетает! Я насколько знаю, у 33-й ни бойца, ни крыла тут уже не было, одни крюки! У нас картина другая!
— Раз уж я вас убедила, то давайте подведем итог: Горст, Пьетро, Дарбон и Голгот, вы пойдете дальше по северному хребту и будете копать одиночные окопы. Как далеко вам вчера удалось дойти?
— Два километра навскидку.
— Хорошо, я думаю, все поняли, что в случае извержения это эффективное решение. Главное задерживать дыхание, как только почувствуете, что консистенция ветра меняется! Иначе… Эрг перенесет Сова на платформу лагеря номер 1 — там, где я вчера начала утрамбовывать снег. Таким образом, первый лагерь будет в трех километрах отсюда по хребту. И намного ближе по траектории полета на параплане. Сов возьмет ротофрезерный станок и подготовит нам на платформе девять дыр, плюс десятую пошире, чтобы спрятать снаряжение. Затем он по вашим окопам, то есть с укрытием каждые сто метров, переберется к вам, на пересменку. Эрг перенесет снаряжение. За десять перелетов должен уложиться. Стреб, ты продолжай охоту по южному хребту. Кориолис, будешь следить за лагерем и готовить сумки для Эрга. Он, как закончит, вас со Стребом заберет. Если нам повезет, то Эрг успеет всех нас парапортировать на позиции по одному, пока не началось новое извержение. Так будет быстрее.
— А почему нам всем не остаться в базовом лагере, а Эрг бы всех нас по одному перенес на ту сторону кратера? Смотри как тихо, с самого утра ни разу не колыхнулся, — поинтересовалась Кориолис.
128
— И по всей видимости не колыхнется. Пока мы сами не начнем двигаться.
— Так а зачем они тогда будут мучаться, копать все эти двести дыр?! — не слушала она.
— Потому что вулкан взаимосвязан с нами.
— Как это?!
— Кориолис… Ты не хочешь немного повзрослеть, ну хоть чуть-чуть, а? Внутри кратера идет непрерывное движение ветра, и мы являемся его частью. У него очень хрупкое, а главное, крайне реактивное строение. Каждый раз, когда ты делаешь вдох или выдох, ты впускаешь вибрации в этот непрерывный поток. Даже сами наши вихри, и те распространяют круги волн на многие километры. Когда Эрг поднимается в воздух, за ним тоже тянутся волны вибраций, он неминуемо нарушает установившееся равновесие. Вчерашнее извержение во многом было спровоцировано перелетом Эрга.
— Из-за крыла?
— И из-за крыла, и из-за винтов. Из-за двойного вихря, который он в себе несет, в первую очередь.
— То есть ты хочешь, чтобы мы минимизировали аэрологическое вмешательство? — заключил Сов.
— Я боюсь сказать вам слишком много, поймите. Но еще больше боюсь дать вам недостаточно информации… Некоторые из вас наверняка и сами знают, моя мама разработала невероятную гипотезу о Крафле…
— Крафла?
— Да, так она назвала вулкан. Ее гипотеза заключается в том, что вулкан подвешен в воздухе без какой-либо опоры на землю, весь вулкан целиком, от подошвы до кровли пласта, все стенки, весь конус, все склоны, снег, лава…
— Подвешен где? Что за ерунда?!
127
— Подвешен просто в пространстве, в космосе. Она считает, что Верхний Предел начинается в Бракауэрском цирке. А Крафла — своего рода воздушная навесная палуба, выступающая над пропастью. Как ледяной карниз, нависающий над хребтом.
— Выступающая над какой пропастью?! Чушь какая-то!
— Над бездной космоса.
Крафла, в таком случае, — это нос корабля. Представьте себе, что вся наша земля — гигантский корабль, он несется вперед сквозь космические просторы. Знакомый нам линейный ветер — это результат движения корабля. Мы родились на корме, что называем Аберлаас, и всю свою жизнь шли по верхней палубе, пока не добрались до носа корабля, до Крафлы. Нос у нашего судна хрупкий, он принимает на себя турбулентности от любого угла атаки. Он состоит из буферного материала между атмосферой, в которой мы дышим, и бездной космоса. Этот материал, разумеется, — ветер, сжимаемый спереди силой прорыва судна вперед, тягучий в виду обтекаемости по бокам судна, ледяной в результате контакта со звездными просторами, в общем, турбулентный.
— Если бы твоя мама была права, — вздыбился Голгот, — то мы бы сейчас линейным ветром получали прямо по рыльнику. Только если ты не заметила, тут напора восток-запад как-то нет! Мы наоборот как в нише тут, за ширмой какой-то! Ее теория тут и близко не работает!
— Как раз напротив, все сходится. Нас защищает передний свод кратера. Мы находимся в ложбине, под ребром атаки.
— Я лично в это не верю. Как по мне, так это просто сказки.
— Я тоже.
— А ты сама-то веришь, Ороси?
126
— Скажем так, я хочу увидеть, что ждет нас по ту сторону кратера, хочу знать, во что верить, а во что нет. Эрг говорит, там сплошное море из облаков. Иначе мы бы уже сейчас все знали! Я долгое время думала, что мы находимся на корабле, что составляет нашу землю, и мчимся на нем в космическом пространстве, и что осевой ветер вызван именно этим движением вперед. Дойти до Верхнего Предела, согласно этой теории, для меня значило принять управление судном, даже если придется сменить курс. Но годам к двадцати я отошла от этой мистики. Я углубилась в имманентность ветра, в его свойства и проявления: в хроны, вихри, его девять форм — вещи, которые всегда находили себе подтверждение.
) 
Каждый из нас понимал, что скорость действий, быстрота выполнения задач имеют первостепенное значение, особенно после объяснений Ороси о континууме, который вплетал любое наше действие в свое несжимаемое вибрационное воздействие на хаотические слои воздуха в вулкане. Как только Эрг высадил меня, я сразу принялся бурить дыры ротофрезером. Я был в изумлении от его эффективности, но не забывал следить за прозрачной голубизной стеклянного покрова и тремя светло-серыми конусами, что могли взорваться в любой момент.
Ω 
Этот гад Дарбон никогда в грязь лицом не падал, я вот сколько в котле своем ни роюсь, так только одно помню — всегда он со своими соколами к себе уважение вызывал, паршивец, и добычи всякой, хоть пернатой, хоть нет, тоже сколько приносил, сколько раз нас от кутежа на одной муке спасал! Я думал у него коробок крепкий, думал захват попрочнее, думал не из мягкожопых и вот тебе… Поехал чердак на всех парусах, аж в ушах засвистело.
125
Соколов своих съесть? Может и мне пойти руку себе отгрызть? Или, может, раз зашли в такие дали, пусть Сов свой контржурнал сожрет, чтоб поржать? До чего бы он так еще дошел? Это уж суицидом мозгов попахивает. Скормить сокольнику рассол из соколов, так что из него получится? Я вам не Сов, конечно, но тоже позубоскалить словесами умею, если что. Раскольник из него получится, вот что. Я смотрел, как он прорубил одну дыру, потом вторую, третью, его всего лихорадило, у него плечи ходуном ходили, его качало, как матросика в первую качку, я подошел ему подзатыльника дать, чтоб ровнее стоял, а он возьми да поскользнись на стекляшке под снегом, да как покатился вниз по горочке под ручку с новой подружкой Лавиной. Только не надо думать, что я тут теперь расплачусь от чувств, с меня хватит. С этим восемь насчитал. Достал его лопату из дыры и Эргу крикнул, чтоб тот вдоль схода снега слетал, глянул на всякий случай. Так себе конец истории, ничего не скажешь. Мы благодаря этим соколам в небо смотрели, на них глянуть приятно было, и Дарбон был в своем деле асом, чуток загорделый, конечно, но дрессировал своих пташек что надо, ему краснеть перед Стребом не за что было, хотя Стреб, между нами, тот еще перец…
 π
π 
Когда Эрг высадил ястребника, мы все уже сидели по нашим окопам и застегивали шлемы. Ороси вышла сделать замеры по аэротору. Она повертела им, наклонив по всем углам. Для нас этот предмет так и оставался самоделкой, состоящей из чашечек, жируэток и крошечных рокочущих мельничек. Для нее же это было чудо техники. К тому же его сделала ее мама, а значит это было
124
неоспоримо гениальное изобретение. Ороси не торопилась забраться в свой ледяной цилиндр. А это, можно сказать, был хороший знак.
— Похоже, будет относительно спокойно… — сказала она, наблюдая за чашечками и ползущим вверх меркурием.
— «Спокойно», это как? Потеряем двоих-троих не больше? — пошутил Голгот, с нахлобученным до бровей шлемом.
— Вулкан выбросит кривец в 7 баллов, не более, я так думаю. Трещины в воронке весьма широкие, хрусталь тает медленно. Эффузивное давление будет держаться приблизительно на одном и том же уровне, а в таком случае не должно быть слишком выраженных сотрясений или взрывов. Просто анабатический поток будет затруднять для нас продвижение по хребту.
— Думаешь стоит подождать?
— Нам — да. Но думаю, Эрг без особых затруднений сможет перенести одного из копальщиков на вторую платформу.
— Это в восьми километрах без остановок, — напомнил Эрг.
— Мы выждем четверть часа, чтобы проверить мои предположения. Закрепим лопасти винтов тебе на подошвы. Толкающая сила вулкана будет мощная, но вращательная инерция винтов скомпенсирует ее, притягивая тебя к земле. Если хорошо уравновесить работу крыла и винтов, то получится стабилизировать полет и спокойно перенести остальных.
— При условии, что будет правильно просчитана степень нагрузки.
) 
Ороси ничего не ответила, она была занята тем, что вела расчеты, разумеется, в уме, и записывала пальцем
123
на снегу полученные результаты. Винты, привинченные к ботинкам Эрга, были настолько тяжелые, что я плохо себе представлял, как он мог бы подрезать эту каленую сталь ротофрезером. Так или иначе, но он отчасти контролировал скорость вращения при помощи уклона стопы, с большей или меньшей силой проводя пяткой по выпуклой части винтов. Трудности скорее возникнут, если усилится ветер. Если крыло надуется, то управлять им станет сложно.
— Одного твоего веса будет мало, Эрг. Тебе лучше взять с собой кого-то покрупнее, иначе улетишь в облака.
— Я первым Горста перенесу. Он самый тяжелый из нас. Ты как, Горст, согласен?
— Без проблем. Возьму с собой станок и как раз вам местечко подготовлю. Каждому по окопу, подходит?
— Ну тогда вперед и не задерживайтесь. Извержение понемногу начинает подниматься.
x 
Утонув в расчетах, в успокаивающей рациональности цифр, я допустила ошибку… Это был промах не технического характера, но нечто иного плана, ужасный промах… Когда я это осознала, Эрг с Горстом были уже далеко. Они летели над кратером в нескольких километрах от нас, покачиваясь от восходящих порывов ветра. Они с трудом держали высоту и то пикировали вниз, то вздымались вверх. Горст крепко держался за спиной Эрга. Сов первый понял, откуда ждать беды, но вопрос его прозвучал так простодушно и наивно:
— А ты не боишься, что от их вихрей пойдут турбулентности? У них на двоих четыре как-никак. У Горста вихрь брата, а у Эрга — Фироста…
Сов был в смежном с моим окопе, и порыв ветра, несущий на нас снежную крупу, перекрыл для остальных его
122
замечание. Я кивнула головой и знаком сказала молчать. Да, Сов, это катастрофа…
Ω 
Так, ну вроде все по плану. Эрг на себе Горста, конечно, еле прет — еще бы, эдакого мамонта тащить, да еще и по ветрюгану такому, у него весь парус ходуном ходит, но все равно вперед на полном ходу идут. Ввосьмером быстро прорвемся, Эрг нас на раз-два перетаскает, если надо по балласту из ледяных блоков можно взять, если все сработает, то у нас нехилый скачок получится, идея что надо, придраться не к чему…
Только что-то все по борозде вдруг пошло… Что-то в воздухе такое завертелось, что любого орла пошманает. Я в своей норе так сидеть не могу, мне видеть надо… Ороси орала что-то, чуть глотку себе не сорвала, только вот до меня не сразу дошло, хотя ветер в котловине вдруг резко стал. У меня чуть глаза не вылупились смотреть, как Горст с Махаоном высоту от безветрия терять стали, полетели прямиком в кратер…
) 
Я по лицу Ороси понял, что она ничего больше не понимала в происходящем и даже интуитивно не догадывалась. Она, как кошка, выскочила из своего укрытия и подобралась к краю платформы, я последовал за ней. Казалось, ничего не изменилось, только внезапная глухая тишина вдруг заполнила кратер. Редкие оползни, вызванные ударной волной, шипя, скользили по дальним склонам. Когда, скатившись до стеклянного дна кратера, они остановились, тишина загудела всей своей всеохватностью. Эрг с Горстом за спиной медленно пикировал к вулкану. Отсюда его телодвижения со сменой галса, в попытке поймать несуществующий восходящий поток, выглядели почти комично.

121
π 
Солнце блестело на застывшем стекле недавних оползней. Длинные белые склоны сверкали нетронутым лавинами снегом. Воздух был свежий. Ни слишком густой, ни слишком жидкий. Ни одно дуновение его не тревожило. Отражавшийся отовсюду свет жег сетчатку глаз.
— Ороси, ты что-нибудь понимаешь? Вулкан вроде как застыл.
— Какая-то сила поглотила вибрации воздуха, это что-то, чего мы не видим…
— Оно движется? Перемещается?
— Оно поднимается в направлении Эрга… Туда стекаются остаточные ветра…
— На них?
— Нет, к этой силе…
— Что это может быть? — спросил я и сам понял, насколько напрасным был мой вопрос.
) 
Ороси бросила беглый взгляд на аэротор и сделала стремительный вдох. На выдохе выбросила серию взрывных «Ба» в направлении Эрга и Горста. Залп заглох на лету.
— Это может быть только хрон… Из вулкана вырвался хрон…
При этих словах все остатки нашей Орды были уже на хребте, судорожно вглядываясь в кратер вулкана.
— Только хрон может с такой скоростью поглотить подобную турбулентность потока и заключить ее в своем коконе. Он чистит следы волн и оставляет вокруг себя совершенно гладкий и неподвижный воздух. Другого объяснения нет.
— Почему не видно его панциря? У всех хронов есть панцирь!
120
— Нет, далеко не у всех… Рядом с нами каждый день пару хронов проходит, которые мы даже не замечаем. Нужно пройти вперед по хребту. Мы должны быть как можно ближе к Горсту с Эргом, когда хрон дойдет до них. Надевайте рюкзаки и вперед!
— Пошевеливайтесь! — добавил Голгот.
При отсутствии ветра пробежка по хребту почти привела меня в замешательство своей простотой. Мы меньше, чем за четверть часа преодолели три километра, отделявшие нас от места, где шли ко дну Горст с Эргом. Это была уникальная возможность продвинуться вперед и Голгот сразу это понял:
— Пьетро, Кориолис, Стреб и Сов, вы давайте дальше вперед по хребту до упора. Как снова затрещит — копайте. Мы останемся здесь! Ну, вперед, быстро! Не оборачиваться!
x 
Он был прав, и мы с Голготом могли бы тоже побежать, если бы не давящее на меня чувство ответственности перед Эргом и Горстом. Они были на четыреста метров ниже нас по склону. Эрг перевернул винты, стараясь воспользоваться малейшим восходящим потоком, но все равно терял высоту со скоростью почти что метр в секунду, так что даже намеренно, как скребком, проходился по откосу, чтоб хоть немного притормозить. Вдруг из-за хребта вылетели две галки, и я подпрыгнула от удивления. Птицы мигом спикировали вниз, привлеченные красным парусом параплана, но вдруг воздух вокруг них потускнел и затрещал… А секунду спустя вместо двух галок… стало четыре. Голгот посмотрел на меня в недоумении:
— Ты это тоже видела или мне померещилось? Их не две только что было?
— Кажется да…
119
Воздух снова задрожал, на этот раз вокруг красной парусины, что на несколько секунд расплылась свежим акварельным пятном, пока не… пока не вытянулась и не отделилась от исходного красного прямоугольника… Сначала выглядело так, будто цветной мазок зажил своей собственной жизнью, но только расплывчатые линии второго прямоугольника вдруг приняли четкие очертания и вскоре никаких сомнений в том, что это не иллюзия не осталось. Теперь перед нами было два красных паруса, идущих один за другим на расстоянии двадцати метров.
— ЭЙ, МАХАОН! — Заорал Голгот, что было мочи. — ГОРСТ!
— Савек!
— Савек!
— КЕПЕСК?
— Ветер слишком слабый!
— Ветер слишком слабый!
Ω 
Ороси на меня уставилась, а мне б самому кто что объяснил, у меня пот прям из-под шлема ручьем пошел, стою на нее смотрю, как с катушек отъехал, а у нее видимо тоже в коробок все это не укладывается. Нам отсюда только два полотна красных маячат, а вот что там под ними? Но я сюда чую, хронированием пахнет, аж в обе ноздри смердит, чистой воды хронаж, прямиком из блаблаэрудитских книжонок, напичканных всей этой шутовой кучей теорий всяких несбыточных, понаписывали сказок своих, легенды поразводили, им бы только лишнюю категорию дописать, да чтоб пострашнее было, такое только для сопляков малолетних годится, мозги припудрить, чтоб в люльки их побыстрее поукладывать, пускай им сны бзиковатые снятся, ни один Диагональщик
118
такого вживую не видел, и на тебе, чтоб нам такое на голову свалилось…
x 
Не могу с уверенностью сказать, почему сразу за этим снова началось извержение вулкана, может аэрологическая структура кратера резко исказилась из-за восьми вихрей, сконцентрировавшихся на десяти кубических метрах, может клонирование, проделанное хроном, впитало слишком много энергии. Как бы там ни было, но все бреши снова открылись и выпустили наружу мощный порыв ветра. Под напором воздуха оба крыла быстро набрали высоту и когда они поравнялись с нами, то немыслимое подтвердилось: Эрг и Горст на самом деле
раздвоились! Еще немного оглушенные эффектом хрона они по всей очевидности не осознавали, что произошло, и машинально поднимались вверх над хребтом, не замечая своих двойников! Обе пары пролетели мимо нас с совершенно одинаковым снаряжением, одинаковой физиологией и в один и тот же момент. Единственное, что их различало, это положение в пространстве.
Горст среагировал первым, наконец увидев своего двойника. Мы не могли поверить своим глазам, мы были потрясены, его молниеносная способность принятия и объяснения ситуации повергла нас в ступор:
— Карст! Каааарст! Ты вернулся?
— Ага! Я тут!
— Каааар, это правда ты?
— Хе, ну да! Ты как, братишка? Видел, скачок ветра какой был? Я думал до дна достанем!
— Это да! Тут неслабо трясет!
На мгновение в глазах Горста, или Карста, я точно сказать не могла, промелькнуло сомнение бездонной странности; они теперь были совсем близко к нам, описывали
117
восьмерки над хребтом, и вдруг абсолютная детская радость озарила лицо Карста, или Горста. Он осознал, что его брат действительно здесь, витает в лучах солнца прямо напротив, в каких-то двадцати метрах, настоящий, из плоти и крови, говорит с ним знакомым голосом, возможно он на миг даже вспомнил предсказание Караколя, они не отводили друг от друга глаз, смотрели друг на друга, словно впервые увиделись и вместе с тем словно никогда не расставались. Не один ли у них был на двоих (конечно один) клубок прожитых моментов и воспоминаний? Они по-прежнему были все теми же братьями Дубка, бесконечно родными и неразлучными, и они это знали…
— Ты про Лапсан наверно не забыл, а, Горст?
— Еще бы такое забыть, ты меня тогда так перепугал!
— Думал, небось, что меня Дубильщик прикончит?
— А то! Хотя я, конечно, все равно знал, что этого маловато будет, чтоб тебе булки отморозить! Мы с тобой Дубка, а не губка!
— Ха-ха, Дубка не губка!
И оба они расхохотались от этой шутки, такой ребяческой на наш взгляд, и смеялись так долго, пока оба Эрга не опустили их на землю и не отстегнули карабины и тогда они оба бросились друг другу в объятия, и я не знала, что сказать. Сов с Пьетро вернулись к нам и в изумлении наблюдали за этой сценой, а я все пыталась понять, где настоящий Горст, а где его копия, и имеет ли попытка их различить какой-либо смысл, и как вообще возможно то, что одно тело и один разум, удвоенный в пространстве, способен признать себя за
отдельную единицу и воспринимать все в столь прекрасной и ладной шизофрении, поскольку они немедленно, с первых секунд, определились один как Карст, другой как Горст, тогда как никакого Карста больше быть не могло, а был просто дубликат, идеальная
116
копия, созданная хроном, двойник содержащий в себе один лишь вихрь Карста, и это было единственным объяснением, только вихрь мог толкнуть подсознание на такое радикальное воссоздание горячо любимого брата, близнеца, чья смерть так и не была принята и пережита, только вихрь мог найти решение этой ничем не заглушимой нехватки, решение столь странное, созданное как бы нарочно, столь леденящее само по себе, поскольку его результатом не было обретение реального брата, а лишь дубликата самого себя, принимающего на себя проекцию, даже лучше того,
воплощающего его во всей его полноте, а значит и все общие воспоминания за исключением Лапсана, а может и нет, поскольку фантазматическая сила души Горста наверняка давно придумала другой исход этой истории, такой, благодаря которому одной надеждой он смог удержать в себе живым любимого брата со дня сражения с Дубильщиком. И это было головокружительно…
Δ 
Он стоял напротив меня, стрелка на девять. Два винта на подошвах, один за спиной. Охотничий бум за поясом. Крепкий. Опасный. Технике пилотирования обучался в Кер Дербане.
Технике пилотирования обучался в Кер Дербане. Опасный. Крепкий. Охотничий бум за поясом. Два винта на подошвах, один за спиной. Он стоял напротив меня, стрелка на девять.
Я ждал этого дня, я ждал этого боя. Я всегда был к нему готов. Это было неизбежно, я это знал. Этот бой ждал меня здесь, на Верхнем Пределе. У него было время. Последняя битва, та, что оправдывает всю прожитую жизнь. Я горжусь тем, что дошел до конца. Мне всегда хотелось знать, какого противника Они выберут для меня. Я долгое время думал, что это будет мастер молнии или автохрон
115
размером с Дубильщика. А все же Тэ Джеркка меня предупреждал. Для каждого бойца свое сражение, свой вызов. Но я знаю, что они выбрали для меня: я бы сам должен был догадаться, с кем мне предстоит сразиться. Это боец,
которым я сам должен был стать. У тебя точь-в-точь такие же технические и физические данные, как и у него, Махаон. Та же ярость. Та же изуродованная шрамами маска. Черный гребень волос точно такой же. На теле виднеются те же порезы. Только вот он развил свои способности
до максимума. До их полной мощности. Он умеет делать все то же, что и ты. В точности. Но способен на большее. Потому что дошел до крайней точки потенциала, который у тебя был всего на восемь. Он. Не ты. Теперь схватка заключается в том, чтобы узнать, могу ли я в этом бою подняться до уровня бойца, которым мог бы стать. Они хотят знать. Они хотят, чтобы я сам знал. Так что давай, вперед!
Так что давай, вперед! Они хотят, чтобы я сам знал. Они хотят знать. Теперь схватка заключается в том, чтобы узнать, могу ли я в этом бою подняться до уровня бойца, которым мог бы стать. Не ты. Он. Потому что он дошел до крайней точки потенциала, который у тебя был всего на восемь. Но он способен на большее.
— Не трогай его!
— Не надо, Махаон!
Он занял верхнюю позицию. Еще бы. Быстрее на подъемах. Лучше отработана практика на тепловых вертикальных потоках. Он в пяти метрах надо мной, винты в положении щита, готовый к защите. Метательная техника отработана по паре предплечье-запястье, значит может замаскировать удар вплоть до самого броска.
Он
намеренно выбрал позицию подо мной! Настолько осознает свое превосходство. Собирается меня унизить, убив из слабой позиции. Молниеносная петля, парус
114
наизнанку, выброс ногой, лезвием винта по сонной артерии, я этот прием завалил в бою с Силеном. Но этот умеет. Это будет его урок, мой последний урок. Но мне бы все равно хотелось, чтобы Тэ Джеркка посмотрел на мой бой. Не то, чтобы он смог мной гордиться. Просто это был единственный человек, который меня любил. Он бы меня поддержал до самого конца, он бы выручил меня в этой дуэли, он бы понял, что иначе я проиграю, и защитил бы меня. А как только дуэль бы замяли, он бы снова взял меня на обучение, потому что знает, чего я стою: «Не так уж плох, Махаон, твой храбрый потенциал, но жесткий жест, лучшее лезвие — гнущееся лезвие, запомни отныне и впредь!»
Он занес свой бум, не маскируя движение. Уверенный в скорости своей руки. Ему даже не нужно балансировать с галса на галс. Это и есть уверенность в себе. Та, которой я так и не смог добиться. Уверенность, которая исходит от бойца, когда тот достигает непогрешимой полноты в своем деле. Та, что заставляет его противников отказываться от схватки. Мне нужно подняться на его высоту. Отдать честь бою. Я сделал ложный маневр. Он сделал вольт, чтобы избежать удара, я воспользовался этим промежутком времени, чтоб подняться на его высоту. Вышло неплохо: он был весьма удивлен.
— Прекратите, остановитесь ради бога!
— Вы же одинаковые!
— Святые Ветра! Эрг, ты же не будешь драться против самого себя?
— Ну, пожмите друг другу кулаки, пара идиотов!
— Только не атакуйте! Вы же кишки друг другу выпустите!
Он уже вернулся на позицию. Ложный удар был настолько быстрый, что мне показалось, он в меня попал.
113
Маневр выполнен чисто, я даже перегнул с уходом от атаки. Превосходная техника полета. В скорости мне до него далеко. Я запустил винт ему по стропам. Рывок-натяжка. Затем бум двойной петлей в спину. Он повернул парус. Ответил бумом, затем винтом, та же тактика, только плавнее. Быстрее, чем я. Я с трудом увернулся, ухватил его винт, отправил назад.
Я с трудом увернулся, ухватил его винт, отправил назад.
Он с трудом увернулся, ухватил мой винт, отправил назад.
Тэ Джеркка мне бы помог. Я бы чувствовал его поддержку. Я бы знал, что он прощает мне то, чего я так и не добился, что ему бы все равно понравилось, как я сражаюсь, что он бы нашел в моей технике верные движения. Он бы похвалил меня за то, что я всегда так хорошо защищал Орду в течение всего нашего пути. «Твой великий защитник, Махаон, и великий боец тоже. Не лучший, возможно, но гордым быть можешь за пройденный путь». Он отыщет мой вихрь и примет его в себя так же, как и вихрь Фироста. Я это знал и был от этого спокоен. Все, что во мне есть самого чистого, самого живого, будет жить в нем. Остальное не заслуживает продолжения. Остальное всего лишь мешок из кожи, наброшенный на мой вихрь сверху, словно грязное пальто.
Я зарядил арбамат на очередном уклоне от удара, так, чтобы он не увидел, что я отвел локоть назад. Я разгадал его следующий маневр. Он пошел по траектории 28 лентой по вертикали, сразу после неудачной наклонной 343. Я дважды такую на дуэлях проделывал. Оба раза фатально. Это мой личный выпад, совершенно секретный. Только Тэ Джеркка видел, как я его тренировал. Это удивительная фигура. Она позволяет пройти через девять углов, открывающих точки для смертельных ударов. В ней только один
112
недостаток: она дважды проходит по одной и той же оси, вначале и в конце восьмерки. Нужно просто разместиться на этой оси. И дождаться момента.
Он просчитал мою траекторию. Иначе бы вошел в защитный зигзаг, как минимум из предосторожности. Но он пошел перевернутой Г. Я начал свою двойку. Я разгадал его следующий маневр. Я зарядил арбамат на очередном уклоне от удара, так, чтобы он не увидел, что я отвел локоть назад.
Он все понял. Он знает, что я планирую сделать. Стреляй!
Стреляй! Он знает, что я планирую сделать. Он все понял.
— Рэээк…
— Рэээк…
π 
Эрг Махаон выстрелил в Эрга Махаона. Который в свою очередь выстрелил в Эрга Махаона. Четырежды. Каждый. Стрелы арбамата проделали дыры в прямоугольнике между солнечным сплетением и ключицами. Их раны были абсолютно симметричны. И совершенно смертельны. Лишенные пилотов крылья безвольно полетели по ветру, как два мертвых листика. Подвешенные на них тела унесло за кратер. Голгот попробовал отчаянным броском бума перерезать стропы и удержать хотя бы одно из тел. Но они были уже слишком высоко. Мы стояли бессильные и смотрели, как они уносятся вдаль. Красное пятно в синем небе. Потом просто точка. Потом всего лишь желание рухнуть от боли и безысходности. Голгот посмотрел на меня. К нам подошел Сов. Ороси бросилась в наши объятия. Кориолис и Стреб присоединились к нам. Мы крепко прижались друг к другу, словно потерянные щенки.

111

— Нужно выйти отсюда… Мы должны выйти из этой мертвой зоны… — пробормотал Голгот. — СЕЙЧАС!
) 
Мы были в пятнадцати километрах от противоположного края вулкана. Мы не знали, есть ли что-то по ту сторону кратера, ни, тем более, существует ли малейшая вероятность того, что это «что-то» можно преодолеть пешком.
По звукам, доносившимся со дна, нетрудно было понять, что извержение набирает силу. Газ вырывался отовсюду, трещины свистели по голубой ледяной поверхности кратера, блоки стекла и едва заметные осколки вылетали из конусов и падали металлическим градом на поверхность. Вертикальные порывы ветра кромсали линию хребта и, словно клещи, пытались оторвать меня от земли, но я был вне всякой животной ясности инстинкта или осторожности, мне было абсолютно наплевать: сломленный в нас позвонок гордости снова сросся с позвоночным столбом, и у нас остался лишь один выбор — выбраться из кратера живыми или мертвыми, сегодня или никогда.
Голгот снова занял позицию вожака. Он не стал ни произносить речи, ни отдавать приказы, он лишь выстроил наш гнев, придал ему форму, взвалил на себя и выплеснул в то единственное, в чем всегда был безупречен: в Трассу, в Пак, в ритм. По отношению к нашей траектории движения по хребту, ветер был латеральный, поток стегал ледяной струей и был столь же опасен, что и ярветер, только дул из-под наших ног. И что? То, что Голгот умел делать в горизонтальной плоскости, он взял и применил к вертикальной, одним продуманным ударом плеча: выбрал ход крабом, по встречному ветру. Выстроил ударный треуголь-
110
ник: сам он стал на острие, Горст и Карст, два его любимых фланговика, подпорой сразу за ним, затем Пьетро, Ороси и я, третьим рядом, и, наконец, Кориолис и Стреб за нашими спинами в шлейфе, чтобы облегчить выход турбулентных потоков в кильватере.

Он сказал нам достать веревки, и мы перевязались, все восьмеро, по осям и по латерали. Он набил наши полупустые рюкзаки снегом, тяжелым стеклом и колотым льдом, чтобы максимально их утяжелить. Дал по ледорубу в каждую руку. И подал сигнал к выходу, крикнув «ху-ха». Все это заняло не более четверти часа.
π 
Голгот нырнул прямо вниз по склону. Горст и Карст последовали за ним, рывком потащив нас за собой. Мы шли прямой дорогой к суициду. Я закрыл глаза. Уклон был под 70°. Тошнота подступила к горлу, как при падении. Я увидел перед собой лица отца и матери…
x 
Я думаю, что поведя нас таким путем, бросившись вниз по склону, Голгот принял самое экстремальное решение, что мог бы принять Трассер его уровня. То, что он не захотел оставаться на хребте, слишком заостренном и более чем незащищенном от ускорявшихся порывов ветра, это можно было понять. Но то, что он одним рывком бросился вниз, никого не предупредив, прямиком в пропасть, со всей Ордой за спиной, оставалось действием
109
высочайшего безумия, которым я, по прошествии времени, могу лишь восхищаться.
Ω 
Шипы на подошвах затрещали по полной, было б можно, так все б в кусты поразбежались от страха, но потом Блок рухнул на меня. Тут мяться было некогда, нужно идти в контакт с напором волны в семь, если не в восемь центнеров, в столкновение с потоком, чтобы найти нужный угол противостояния и закрепиться в волне. Нас чуть как кусок каменюки по льду не пронесло, до этого, типа, уступа, на который я целился, и мы чуть прямиком весь кратер не пересекли. Мы б, конечно, все равно затормозили, только на тыщу метров ниже. Но десять минут спустя, вклинившись друг в друга, мы еще держались на своих двоих, а шипованные опорные, с дополнительным грузом у нас за плечами, четко буравили снег по наклонной. Мы опирались на шни, как на закрытую дверь, только вот дверь эта время от времени открывалась и хлопала на сквозняке…
) 
Так мы и прошли два часа в упряжке. Как только ветер стихал, разворачивались в нужном направлении и шли вперед, принимая удар на бедра, ребра и плечи; а как только он снова усиливался, снова входили во фронтальный контр, опустив голову и согнув колени, с опорой на поток, подвешенные над бездной, туловище перпендикулярно склону, доверяя свои судьбы определяемому на ощупь равновесию между гравитацией и подъемной волной. Если бы этот непрерывный поток остановился, или даже просто прервался на каких-то пять секунд, падение было бы неизбежно, всем Блоком. Но так же неизбежно было и то, что иди мы в одиночку, а не в связке, каждого из нас отправило бы волной вверх на небеса. Мы задраили
108
визоры на шлемах и шли по блиццарду вслепую, снег, разлетавшийся в воздухе от извержения, сплошной волной несло нам в лицо, и все же мы шли вперед, шли вдоль этого повисшего в воздухе парапета из зернистого ветра, по косой по краю кратера, шли под струями снежной крупы, с обмороженными голенями, словно распятые ледяными гвоздями, пропитанные холодом, но ничего не чувствовали, нам помогало наше горе, с нами оставалось слишком много теплых, улыбающихся лиц, слишком долгое блуждание по миру, требовавшее отмщения, так что в глубине себя мы знали, что это извержение, верное своим потокам и надежное по консистенции, будет последним, и нужно было что-то посильнее простого ярветренного кривца, чтобы разделать нас на части живьем.
Два, четыре, шесть, восемь раз, я сбился со счета, поток достигал такого кубического объема воздуха в секунду, что нас отрывало от стенки и относило плашмя на животе, с колотящими по льду касками на десятки метров наверх, к фатальному хребту; мы царапали ледорубами по льду, словно когтями, скрежетали по гладкой поверхности, с которой сдуло весь снег. Но даже в эти моменты, даже среди этой свирепствующей стихии, я своим нутром ни разу не усомнился в том, что передо мной Горст и Карст Дубка вгоняют свои колья в каждую трещину, что вслед за ними, рядом со мной, Пьетро делла Рокка и Ороси Меликерт расплющивают железо своих ледорубов, и что за нами Кориолис и ястребник тормозят изо всех оставшихся сил неподвластный им откат назад, и что в довершение всего, у нас есть некий Голгот, девятый в своем роду, один на острие, с двумя ледорубами, вонзенными в кольчугу ледяной стены, способный проломить ударом подбородка собственный визор, чтобы впиться зубами во льды Крафлы, если вдруг почувствует воздушную тягу хребта.
107
— Так как, Ороси, что скажешь? Твоя мама была права? Мы на носу корабля?
Ороси посмотрела на меня, устало улыбнувшись. Мы стояли лицом к верховью, вулкан был у нас за спиной. Она подошла и обняла меня. Обцеловала легкими мелкими поцелуями, неспешно, впервые за все время с момента той глубоко прекрасной ночи в Бобане, перед выходом на Норску…
— Моя мама всегда права, Сов. Мы действительно на носу корабля… Мы на нем еще с тех пор, как нам исполнилось десять. Все зависит от того, каких размеров для тебя корабль…
— Но ты думаешь, мы почти дошли, самое трудное позади?
— Я ничего не думаю. Я познаю.
(обратно)
XVIII
ВИХРЬ
) 
По ту сторону вулкана нас не ждал никакой Первозданный сад, источник всех посевов на земле, как думал Степп, ни тигры, тянущие землю вперед, как представлял себе Арваль, ни бездонная пасть придуманного Ларко бога, что по его теории должен был то глубоко вздыхать, то всхрапывать, то петь или плеваться, выдыхая весь воздух нам в лицо. Мы также не услышали Голос ветра, нашептывающего нам что-то день и ночь на непонятном языке, что так часто встречался в лучших сказках Караколя и в который мы по итогу были почти готовы поверить. Не было также и бездны или открытого космоса, ни черного, ни синего, как считала Ороси, ни фиростского хрона, засасывающего в себя пространство впереди, ни бесконечной стены из сжатого воздуха, железа или огня, на который думали однажды наткнуться Каллироя с Аои. Мы не встретили ни мать Альмы, ни первого Голгота, ни веселый орхаостр Силамфра с его аккордеолами и невиданными духовыми. Мы не вышли к океану из фантазий Кориолис, где ветровые волны катятся по пляжу длиною с мир. За кратером Крафлы была земля. А за этой землей, за первой пройденной мореной, — снова земля, целое плато. А за этим плато, другое плато, шире и положе, покрытое полуталым снегом, а затем — снова земля, необозримая
105
даль, насколько хватало сил идти, до горизонта надежды, до предела смысла.
Итак перед нами продолжалась Норска, в своем пустынном изобилии вершин и пиков, перекрестных гребней и долин, с той разницей, что высота и вертикальность склонов весьма заметно пошла на спад, и от высотных рельефов, таких как Гардабер, вскоре осталось лишь геофизическое эхо фирновых полей и вполне податливых холмов, где снег порой терял свое до сих пор систематическое господство.
Первая неделя прошла в ослеплении от гипотезы Мацукадзе. На пороге каждого перевала, на линии каждого хребта, достигнутого в срез по прямой, нас охватывало неистовое чувство, что Верхний Предел вот-вот окажется перед нами, и мы теряли всякую ясность мысли. Мы с детства были приучены к логике испытаний, и не найти за Крафлой, за ужаснейшим из них, никакого вознаграждения, достойного принесенной жертвы, сначала было невыносимо — невыносимо и бессмысленно —…
Затем чувство глубокого ужаса стало разъедать нас вплоть до самой арматуры, до прямоугольного основания всей нашей битвы.
∫  Маревое облако предрассветный образ зверь спустившийся с небес с обновленной шерсткой может дымка мимолетная завьется и развеется над степью (пышной кучкой снега в небе) Маревое облако лучше ледяной медузы распластавшейся в русле ветра Маревое облако материнства лоно (подушка из надтреснувшего мха) поймать в мою клетку источник знаков на каждый улов в атмосфере личный диалог только для меня Порой скромнейшие идеи бывает вдруг вздуваются и сворачивают в вертопрашество, и заявляют себя отныне и с тех пор
Маревое облако предрассветный образ зверь спустившийся с небес с обновленной шерсткой может дымка мимолетная завьется и развеется над степью (пышной кучкой снега в небе) Маревое облако лучше ледяной медузы распластавшейся в русле ветра Маревое облако материнства лоно (подушка из надтреснувшего мха) поймать в мою клетку источник знаков на каждый улов в атмосфере личный диалог только для меня Порой скромнейшие идеи бывает вдруг вздуваются и сворачивают в вертопрашество, и заявляют себя отныне и с тех пор
104
Отмаревавшие побуркивают Смотрят как по небу плывут новые маревые Как толстощекие упитанные ангелочки-шутники (а иногда юркие как перышки как обтрепанное кружево) Что они несут Дождь без влаги Дождь метафор (подстрекатель) разносчик любви и жизни что ветвится наконец осязаемой надеждой Нужно дальше поразмыслить Маревое облако предрассветный образ зверь спустившийся с небес
) 
Откровенно говоря, признавались мы друг другу тайком с Ороси (и не в присутствии Голгота, конечно), не было ни малейших причин на то, чтобы Верхний Предел оказался сразу за вулканом, ни даже просто за границей Норски. А все, что было сказано или написано на эту тему, свидетельствовало лишь о той же доктрине, основанной на испытаниях и вознаграждениях, что видела неоспоримым условием мир морали, конец для каждого пути и землю преодолеваемых размеров, то есть нечто, не имеющее никаких подтверждений и оснований существовать. Редкая уверенность в наших убеждениях опиралась лишь на исторические факты, изученные и собранные аэрудитами, записанные в контржурналах не канувших бесследно Орд, да на некоторые достойные внимания рассказы Диагональщиков и кочевых бойцов, таких как Тэ Джеркка, способных зайти в одиночку за сам Бобан. Эта «история», по крупицам разлетавшаяся по фареолам, искаженная слухами и коллективными мечтами, распущенная на всех ветрах фреольским фанфаронством, раздутая вслед трубадурами, наконец подобранная Орданом, который обладал достаточной силой и связями, во всяком случае от Аберлааса до Альтиччио, чтобы добиться ее официальной, героической и вознаградительной записи, идеально подходящей на роль легенды истории Орд в назидание
103
подветренникам, эта «история» в своей наилучшим образом изложенной версии заканчивалась там, где начиналась наша, та, что была ее продолжением, та, что брала свое начало за кратером Крафлы, царством седьмой формы и конечным сегментом известного нам верховья, или, выражаясь с точностью Ороси, «предельного верховья, зафиксированного в достоверных источниках». Я еще никогда не относился к своему призванию скриба так серьезно, как после Крафлы, несмотря на проблематичность вопроса передачи журнала: кому и как? Ястребник напрасно пытался меня убедить, что Шист отнесет его в низовье, если я погибну, я с трудом мог в это поверить, — наш ястреб был искусным хищником, не раз спасавшим нас от голодной смерти, а не почтовым голубем.
Δ  Он занял верхнюю позицию. Еще бы. Быстрее на подъемах. Лучше отработана практика на тепловых вертикальных потоках. Он был в пяти метрах надо мной, винты в положении щита, готовый к защите. Метательная техника отработана по паре предплечье-запястье, значит, может замаскировать удар вплоть до самого броска. Он занес свой бум, не маскируя движение. Уверенный в скорости своей руки. Ему даже не нужно балансировать с галса на галс. Это и есть уверенность в себе. Та, которой я так и не смог добиться. Уверенность, которая исходит от бойца, когда тот достигает непогрешимой полноты в своем деле. Та, что заставляет его противников отказываться от схватки. Мне нужно подняться на его высоту. Отдать честь бою. Я сделал ложный маневр. Он сделал вольт, чтобы избежать удара, я воспользовался этим промежутком времени, чтоб подняться на его высоту. Вышло неплохо: он был весьма удивлен. Он уже вернулся на позицию. Ложный удар был настолько быстрый,
Он занял верхнюю позицию. Еще бы. Быстрее на подъемах. Лучше отработана практика на тепловых вертикальных потоках. Он был в пяти метрах надо мной, винты в положении щита, готовый к защите. Метательная техника отработана по паре предплечье-запястье, значит, может замаскировать удар вплоть до самого броска. Он занес свой бум, не маскируя движение. Уверенный в скорости своей руки. Ему даже не нужно балансировать с галса на галс. Это и есть уверенность в себе. Та, которой я так и не смог добиться. Уверенность, которая исходит от бойца, когда тот достигает непогрешимой полноты в своем деле. Та, что заставляет его противников отказываться от схватки. Мне нужно подняться на его высоту. Отдать честь бою. Я сделал ложный маневр. Он сделал вольт, чтобы избежать удара, я воспользовался этим промежутком времени, чтоб подняться на его высоту. Вышло неплохо: он был весьма удивлен. Он уже вернулся на позицию. Ложный удар был настолько быстрый,
102
что мне показалось, он в меня попал. Маневр был выполнен чисто, я даже перегнул с уходом от атаки. Превосходная техника полета. В скорости мне до него далеко. Я запустил винт ему по стропам. Рывок-натяжка. Затем бум двойной петлей в спину. Он повернул парус, ответил бумом, затем винтом, та же тактика, только плавнее, быстрее, чем я. Я с трудом увернулся, ухватил его винт, отправил назад.
) 
И все же я писал. Писал, потому что об этом меня попросил Голгот, впервые попросил; писал, так как настаивала Ороси, чтобы зафиксировать свои аэрологические открытия о седьмой форме; писал, ведь после того, через что мы прошли на Крафле, мне было стыдно, что я выжил и теперь гуляю под этим бесцветным бризом. Я отказывался признавать Ордой нашу нелепую группку из восьми человек, для меня каждый оставался на своем месте в строю, впереди и позади меня, все вихри были здесь, я берег Пак нетронутым, собранным, для себя, только для себя… Но теперь мы были просто толпой, разрозненной кучкой, человеческими существами, бредущими цепочкой, отрядиком, потерпевшим поражение. Что бы ни было дальше, мы проиграли… Сколько лет нам еще идти к Верхнему Пределу? Сколько лет еще тащить расщелины нашей памяти ввосьмером? Не сомневаясь отныне, что мы идем по миру, в котором нет людей, что слепо углубляемся в него, сколько? Состариться здесь, сгнить на собственных ногах посреди какого-нибудь плато с небольшим уклоном, в один прекрасный день, вдали от лагеря Бобан, похоронив в себе ту единственную надежду, что еще способна была вырвать у меня улыбку, — надежду в конце концов вернуться туда, где ждут нас Аои, Силамфр, Альма. Сколько еще?

101
π 
«Где Арваль, черт возьми?» Голготу никто не отвечал. Он обернулся, ища взглядом Фироста. «Он что решил, что я могу в этом скалистом бардаке вам трассу просто так пропилить, без флажков, на нюх? Куда его опять унесло?» До него все не доходило, и он принялся искать Эрга, сказать ему, чтоб тот летел на поиски. Глаза его светились приглушенным светом. Он поднял голову к
небу, рыская по голубой плоскости глазами в поисках соколов. Они частенько любили кружить над Арвалем и нам так легче было определить, где он. Голгот даже не старался. Не хотел. Он не смирился ни с одной из наших потерь. Разве что только с фаркопщиками, Барбака и Свезьеста он, кажется, забыл. Его заклинило, начиная со смерти Леарха и Каллирои. Он глубоко любил эту Орду в двадцать одно звено. Она была его продолжением, ему в ней было хорошо. В ней он чувствовал себя непобедимым. Как и я. У него осталась привычка говорить, не оборачиваясь, по ходу контра. Мало. Редко. Но у него всегда находилась отповедь в адрес Каллирои или Аои. Если видел какой-то куст, то всегда подначивал Степпа. Медуза на горизонте — сигнал для Ларко. Когда песок в лицо — обсудить с Тальвегом плотность крупинок. Всегда просто детали, мелочи. Движение в Паке. Близкий зигзаг. И Тальвег отвечал, порою криком через встречный ветер. Ларко хвастался «В клетке!», когда за медузой захлопывалась створка. И еще Караколь его все время о чем-то спрашивал. Он это любил. Я не понимал, во что мы превратились. Мне казалось, что все они вернутся. Что они ушли вперед, что ждут нас там. Я ждал чуда. Какого? Я ждал Верхнего Предела. Ороси сказала, что все они там: Арваль, Леарх, Каллироя, Тальвег, Ларко, Фирост, Эрг. Она их чувствовала. Я же не ощущал ничего определенного. Я верил в вихри, но понимал, что никаких мостов не существует. Они, конечно, могут вжиться в нас, как Каллироя в Ороси
100
или Ларко внутри Кориолис. Это да. Они даже могут витать вокруг. И наверняка имеют локальное воздействие на течение ветра. Но они больше никогда не смогут встать с нами рядом, засмеяться, пошутить. И именно это было важно. Тальвег больше не предупредит нас о расщелинах. Эрг не защитит своим винтом. Ларко не словит ни одной сороки и не посмотрит на Кориолис как на бесценную принцессу. И да, Голгот, Арваль больше не поставит ни одного флажка.
)-  флажок не поставить но прокладываю путь все равно) — разведчик остается) — покажи голготу линии ветра) — мчись впереди мчись сквозь фирн славный ротор) — пробивная простая на юго-восток метка) — левой рукой вдоль обвала) — сделать вешку) — след по помёту) — следы норской серны) — пересечь под крючковатой сосной голова тапира сильная тепловая значит) — взобраться прямо лицом стенка вверх перешеек) — перевал теневой склон трасса диагональ диагональ на убыль) — держаться линии тальвега всегда лучшее укрытие лощина) — идите за светлячком идите…
)
флажок не поставить но прокладываю путь все равно) — разведчик остается) — покажи голготу линии ветра) — мчись впереди мчись сквозь фирн славный ротор) — пробивная простая на юго-восток метка) — левой рукой вдоль обвала) — сделать вешку) — след по помёту) — следы норской серны) — пересечь под крючковатой сосной голова тапира сильная тепловая значит) — взобраться прямо лицом стенка вверх перешеек) — перевал теневой склон трасса диагональ диагональ на убыль) — держаться линии тальвега всегда лучшее укрытие лощина) — идите за светлячком идите…
) 
Мне сорок два и ничто не заставит меня повернуть вспять после тридцати одного года контра, хотя мне не раз приходила в голову мысль, что мы разрушаем сам миф Орды. Мы раз и навсегда докажем, что человек не способен дойти до края Земли. Во всяком случае пешком. В скором времени Фреольцы построят эоликоптеры, способные удержаться под кривцом и понесутся вверх, как стрелы, и доберутся до самого конца, и все узнают раньше нас. Еще лет десять ветряковых исследований, и они будут готовы. Мы же упокоимся где-то за горизонтом, пусть дальше на пятнадцать, а может целых тридцать лет от Крафлы, и никто об этом, разумеется, никогда не узнает. Настанет то
99
утро, когда один из нас не сможет больше пройти ни шага, когда больше не станут держать ни мышцы, ни колени, чтобы поднять каркас костей, однажды даже у самого Голгота задрожат ноги — тогда как по всему низовью нас давным-давно будут считать пропавшими без вести, как 31-ю Орду, чьи тела так и не нашли, и которую так поспешно (теперь я это понимаю) записали как сгинувших в лавине на предгорье Гардабера, найдя лохмотья их одежды.
Мы оставляли вешки где только могли, выкладывая из камней огромный символ «Ω 9» на обезснеженных хребтах, в знак нашего прохода для следующей Орды или какого-нибудь Диагональщика, что сумеет перелететь Норску на своем крыле или на автожире, — всегда же можно верить в чудо. Мы расставляли ориентиры еще и потому, что мы с Пьетро иногда размышляли о том, чтобы вернуться, не потому что готовы были все бросить, не из слабости — из реализма. В Аэробашне говорилось о бесконечном расстоянии. Но тогда нужно будет все же вернуться и рассказать, что из себя представляет этот Верхний Предел, если окажется, что он не заслуживает других почестей, кроме как вернуться обратно к людям, чтобы поведать им всю обезнадеживающую истину.
Я сам не понимаю, что говорю.
Мы ставили вешки, потому что нам было страшно, потому что мы были
одни, потому что никто и никогда до нас не разгуливал по склонам этих гор, и это ощущалось на каждом перевале. И мы больше не испытывали от этой мысли ни капли гордости, а лишь чувство покинутости в бескрайней белизне, мы чувствовали себя брошенными здесь на погибель.
◊  раз все равно где-то размажет так уж лучше тут и сейчас в Вой-траншее позвонки на повторную закалку в
раз все равно где-то размажет так уж лучше тут и сейчас в Вой-траншее позвонки на повторную закалку в
98
холодной лаве жестким каркасом по граниту не чувствую плеча рубанком по скале фланговик держи Пак блокируй задний ход до самых костей струя жидкого металла застыл топор в лицо быстрее «Леарх врубай крыло» орет Голгот «держи» удар плечом в стену нас сносит каркас интегрально скребком по камню клянусь вверху треснуло ключица я удержал нас дальше не снесло я удержал вот так вот раз все равно где-то размажет так уж лучше тут
Ω 
Не знаю, что я там раньше думал, пока на Норске снега не нажрались. Думал, настругаем вместе сухарей в конце, не всем составом в двадцать три, конечно, не надо палку гнуть, но хоть нормальной кучкой какой-то! Я нас себе на верховье с Махачом и с Фиростом представлял, думал, вот компост этот у нас под ногами кончится, и гуляй себе прямиком в небо. Думал, там все как-то по-особенному будет, башку вверх запрокинешь, а над тобой черные статуи бородатых колоссов, мы им, громадинам, едва до верха подошвы достаем, а голоса у них, как раскаты щебня, и они нас поздравляют, мол, никогда не видели, чтоб такие как мы, с плотью да кожей на костях, сюда дойти смогли, что мы, мол, такие первые! Парни, которых мы давным-давно считали сошедшими с финишной прямой, всякие там Бобаны, Бракауэры, Гардаберы, первый Голгот, все настоящие герои Орды, все они были здесь, ждали нас, потому что мы пришли наконец дать им свободу! Я протягивал им пятерню, дотрагивался до них, и они снова оживали и орали нам спасибо, так задолбались тут, бедолаги, свои вихри крутить в пустоту! А потом что было, а, дырявая башка? Потом, кажется, девки потрясные повалили, потаскушки в водянистых платьях, которые только этого и ждали и мы внутрь входили, как к себе домой, по незнакомым дырам, у них их было сколько хочешь, и в пупке, и на грудях, и
97
мы извергались чугуном, искры во все стороны, настоящий сок жизни, так что ребятня у них в животах сразу в золотые шары формировалась, а через час уже вылупливалась, — только из скорлупы, а уже красавцы, резвые, зубастые сразу, ничего не боятся! Ну а мы продолжали трясти из удовольствия наших красоток из драгоценных отверстий, пока малышня плодилась кучками, и выпивка текла прям из фонтанов, и мы ходили плескаться по винищным ручьям, а потом бежали голышом рожи помыть в ветряном бассейне…
Это было до Крафлы… Теперь как ветер чуть зашкв-лит, так сзади сразу по всем дырам свистит, нет тебе больше массы, нет тебе больше Пака… Шпарит вовсю, по швам трещим, и еще хорошо, когда на восьми баллах вообще с контра не уносит… У меня затрава не всегда хватает. Не хочу я лезть на этот перевал, за которым пятнадцать тысяч ровно таких же будет. Раньше я тянул Орду, был Трассером Пака, который хоть на что-то походил, вполне приличный даже. Мы раньше знали, что по дороге будет или село с крытнями, или что можно на банду контровых пиратов с их велесницами брелочными наткнуться, или на Диагональщика потерявшегося, в общем на кого-то, как мы, прямоходящего на двух лапах. Кто уставится на блазон у нас на плече, глаза вытаращит и сразу поймет, кто перед ним. Это нам настроение как подъемным краном поднимало. Я теперь вожу остальных за нос. Делаю вид. Ору, чтоб не подумали, будто я больше не верю. Такая у меня теперь работа. Не будем тут писсуары для слез устраивать, не сидеть же теперь на хребте и не ждать, пока Верхний Предел сам к тебе придет и по плечу похлопает. Нужно к нему идти, пока кишки на месте, он, чертяка, далеко быть не может. Надо хвостом вильнуть и вперед галопом! Мчать хотя бы ради тех, кого в Паке больше нет, кто трепыхается
96
теперь в клубке из собственного вихря, в ожидании кто бы знал чего…
x 
Месяц спустя мы все еще были на Норске и гипотеза моей матери становилась неоспоримо ложной: Крафла не была носом никакого корабля, земля продолжалась. Но я не была уничтожена этой новостью. Со мной все чаще случались проблески, в моменты усталости передо мной все отчетливее всплывали краткие видения. «Чем ближе ты подберешься к вихрю, тем яснее все увидишь», говорила мне мама, и, пожалуй, следовало полагать, что я продвинулась в этом пути на несколько ступеней.
Среди остатков нашей Орды настроение колебалось от посттравматической депрессии до механического оцепенения. Сов все время освежал наши воспоминания, он то и дело говорил о Караколе, Каллирое, Тальвеге, Ларко, он рассказывал Кориолис о боях Эрга, которые она не видела, о бродячем детстве Арваля, о том, как я помогла Аои выйти в финал на Страссе. Эти беседы одновременно и ранили, и радовали. Сову необходимо было подпитывать эту связь, плотность ее нитей за пределами их телесной смерти. Он заселял себя изнутри дружбой, важнейшими для нас историями, подвигами, словно раз и навсегда решил быть памятью в действии. Он с каждым днем все больше привязывался ко мне и все больше к Кориолис. Он так и не мог на самом деле выбрать одну из нас, то ли потому что моя природная сдержанность обескураживала его, то ли потому что Кориолис привлекала Сова намного больше, чем он готов был признать. Я ни на чем не настаивала. Из всех зрелостей, присущих мужчине, та, что касается его чувств, наименее развита. Сов во многом оставался все тем же ребенком, которого я впервые встретила в Аберлаасе, когда нам было по семь: он мог воспри-
95
нимать человеческие взаимоотношения исключительно в слиянии. О столь понятной мне разнице между дружбой и любовью у него были лишь теоретические представления, чуждые как его поступкам, так и его сердцу. Он был «в любви», как говорил о нем Караколь, в любви полифонической и бесконечно меняющей свою форму, он совершенно не понимал того, что всегда отдавая, как он думал, он сам же первый в ней и нуждался, в нем была неутолимая потребность в общении, взаимопонимании, сердечности и эта потребность изнашивала и его, и нас. При этом я хорошо отдавала себе отчет в том, насколько важна будет эта сила, а это действительно была сила, для
возрождения Орды в будущем. Сложность состояла в том, чтобы разжечь в Сове способность мыслить, сделать так, чтобы ребенок в нем наконец возмужал.
≈  Это время когда головы полны ветра сердце бьется только для следующего шага оно омыто от мечтаний от какой-либо любви оно ни на кого не злится не надеется и не ждет оно бьется для крови кровь для мышц мышцы для шага шаг для шага что идет след за следом ноги гонят по склону угольки восемь силуэтов колышутся голова поникла лоб упирается в пламя ветра словно это его опора как в подушку желая отдыха
x
Это время когда головы полны ветра сердце бьется только для следующего шага оно омыто от мечтаний от какой-либо любви оно ни на кого не злится не надеется и не ждет оно бьется для крови кровь для мышц мышцы для шага шаг для шага что идет след за следом ноги гонят по склону угольки восемь силуэтов колышутся голова поникла лоб упирается в пламя ветра словно это его опора как в подушку желая отдыха
x 
Пьетро же шел ко дну. Здесь, в этой снежной пустыне, ввосьмером, он утратил самое главное в своем назначении: улаживание напряженных взаимоотношений, четкую организацию и дипломатию в Орде. От его княжеского статуса осталась лишь царская осанка, да кое-какая забота о гигиене тела и внешнем виде, но мы ничего не могли поделать с очевидностью того, что среди этих пустых гор он становился бродяжничающим князем. Голгот
94
оставался нашим Трассером, лишенный разведчика, он выполнял еще более жизненно важную функцию, чем прежде. У Сова был ресурс в виде контржурнала, и я просила его писать, как можно чаще, отчасти по необходимости, отчасти потому что он обожал делать мне приятно. От ястребника зависело наше пропитание и эта ответственность поддерживала его в строю, во всяком случае она немного умеряла гнетущую его угрюмость. Кориолис росла на глазах, за два месяца в ней появилось самоуверенности больше, чем за все двадцать восемь лет, и она наконец вышла из своего периода постподросткового нарциссизма, в том числе благодаря центростремительному желанию крутившихся вокруг нее самцов. Горст и Карст никак не могли нарадоваться тому, что снова вместе, ни в ком более не нуждаясь, но все же стали постепенно вновь впускать нас в свой круг. Одним словом, только у Пьетро не было объективных причин вытаскивать себя из давящей тоски по всем, кого с нами больше не было.
Их с нами больше не было. И именно в этом моя роль была решающей. Я, разумеется, могла бы заклеймить всеобщую подавленность. Но из чего, как не из понимания вихрей, я сама черпала силы, чтобы ее избежать? Без этого я была бы в таком же состоянии, что и остальные, на грани безнадежности. По сколько раз в день через меня проходили эти диалоги, представали передо мной короткими и длинными фрагментами, будто спускались из будущего прямо ко мне, или будто я пересекала их блуждающую траекторию:
— Вы знаете, что девятую форму можно всегда определить издалека и заранее? Она присутствует в нас с рождения, как и восьмая. Просто она относится не к нынешнему измерению времени, а к будущему. Это измерение существует в нашей плоти вместе с созидательным
93
настоящим, которое дает нам жизнь и позволяет создавать каждое мгновение нашего существования. Это настоящее и есть восьмая форма. Но всегда наступает момент, когда девятая вырывается на свободу и становится самостоятельной. Она воплощается в какую-нибудь внешнюю оболочку, чаще всего в хрон. И возвращается из будущего назад, чтобы столкнуться с нами.
— Это что еще за тарабарщина для аэроумников? Хочешь сказать, что мы тут все откинемся на этом чертовом куске пастбища. От смертельной смерти, в костюмчике с капюшоном, с косой и всеми причиндалами? Ты мне хочешь сказать, что я всю свою чертову жизнь контровал, чтоб теперь тут на Верхнем Пределе серпом по башке получить? Где шлюшки в прозрачных платьях, я тебя спрашиваю? Где Бобан с Гардабером?
— Они в тебе, Голгот, в тебе одном. Я только хочу сказать, что каждый из нас столкнется здесь со своей смертью. Но что возможно победить свою смерть. Это всегда возможно. Ничто не решено заранее!
— Ты навоза переела, красивая моя, такую белиберду нести? Иди опорожнись и присядь, отдохни…
Я всегда, с самого Аберлааса жила в клетке клятв и обещаний. Я давала клятвы своим учителям: первому аэромастеру, второму, всем последующим; давала клятвы всем встреченным аэрудитам, обещала хранить каждое приобретенное знание, каждый открытый мне секрет и передать их лишь тогда, когда буду готова, и только одному, тщательно выбранному приемнику. Долгое время эта догма казалась мне излишней и претенциозной, я не понимала ее важности. Пока однажды, в Аэробашне, мне не повстречался Нэ Джеркка.
Но настал тот день, когда я должна передать знание. Сегодня ночью или никогда. Я слишком долго ждала, слишком
92
уж уважительно относилась к своим учителям. Прилежная ученица. Я хорошо помню язвительную колкость, которую отпустил мне Нэ Джеркка: «Ты вне всякого сомнения была отличной послушницей, Ороси Меликерт: трезвомыслящая, жаждущая знаний, умная. Но лучшие послушники те, кто умеют предавать. Ты еще ничто и никого не предавала. Ты еще учишься по книгам, это значит».
На Крафле я познала седьмую форму, теперь в моем знании девяти форм было меньше брешей, даже если о восьмой и девятой я пока имела представление весьма абстрактное и недостаточно подтвержденное опытом. Это была первая причина: мне необходимо равновесие в моем знании. Затем появилась и вторая, это были вихри Орды, витавшие вокруг нас, — не могло быть и речи, чтобы вот так их бросить. Нужно спасти их, как я спасла Каллирою, как Голгот спас своего брата, как Горст спас Карста, а Кориолис, сама о том не догадываясь, спасла Ларко. Хотя «спасти» было не совсем подходящим термином. «Приютить» более уместно, мы были беззащитны, скоро тела наши покинут этот мир и не останется никакого приюта.
Я смотрела как они разворачивают спальники, как достают с заново собранного прицепа все необходимое. Мешок с двадцатью килограммами желаний подветренников и раклеров, которые мы должны были доставить на Верхний Предел упал с повозки и раскрылся. Даже в самые тяжелые дни на Норске мы его так и не бросили. Кориолис стала собирать выгравированные таблички охапками и складывать их назад, не в силах не задержаться и не прочесть хоть одну из них. Затем она снова вернулась к костру, дерево было мокрое и дымило, сгущая и без того влажный, обволакивающий нас туман. Луг, на котором мы устроились на ночлег, изобиловал дичью и зеленел еще свежими весенними красками. Стреб разделал зая-
91
чью тушку, которую принес Шист. Голгот попал в куницу с первого броска и был крайне доволен собой. Пьетро с Совом чинили колеса на прицепе, а близнецы умчались в туман ловить кроликов, бережно и осторожно, не в состоянии свернуть зверушкам шею. Они нарочно притворялись неповоротливыми неумехами, позволяя зайчатам убежать. Я смотрела на них и мне было ясно по их жестам, по улыбкам которыми они мне отвечали, что они не знали и не предчувствовали ничего из того, что их ожидало.
Мне так хотелось им сказать, что еще не поздно, что нужно повернуть назад и что есть мочи броситься к низовью. Что дальше ничего не будет, что нам нечего ждать, кроме встречи с нелюдимой тенью изнанки собственной души. Я смотрела на них и понимала, что не смогу им помочь, как и они мне. Путь каждого из нас был сугубо личным, а искания наши порой необозримы даже для нас самих, и встреча каждого из нас с девятой формой будет столь же уникальной, я это знала. Я смотрела на них и мне было тяжело дышать, мне хотелось обнять их, прижать как можно крепче, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноко, когда наступит этот миг. Но вместо этого я лишь отошла в сторону, намеренно установив дистанцию. Я слишком хорошо понимала, что ничего не смогу для них сделать. Единственное, что я могла, единственное, что было в моих силах, это создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы могли выжить наши вихри. Единственное, что я могла, это научить Сова тому, о чем известно мне самой. Я подозвала его знаком. Он бросил Пьетро чинить колесо одного, и сразу подошел:
— Сов, я бы хотела, чтобы мы спали вместе сегодня ночью, желательно в стороне от остальных…
— Ну вот, наконец хорошие новости… Снова подумываешь обзавестись потомством? — спросил он и тут же растерялся от своей бестактности.
90
— Я главным образом хотела с тобой поговорить, Сов.
Он заметно помрачнел.
— А я только для разговоров гожусь?
— Конечно нет, глупенький, сам знаешь…
В общем. Если Караколь прав, и если этот «Антихрон», который он уловил в видении на Бракауэрском столбе, действительно всплывет в будущем, только Орда в полном составе сможет его остановить. Проблема в том, что за пределами Орды целостность наших вихрей не может быть гарантирована. Силы Тэ и Нэ Джеркка шли на спад. Редкие порядочные аэрудиты были слишком разрозненны по линии Беллини, чтобы действовать сообща. Никто из Совета Ордана не был заинтересован в том, чтобы сохранить наши вихри, разве что для использования их в программе по автохронам, чему как раз нужно было помешать во что бы то ни стало. Мы же рано или поздно растворимся под силой линейных ветров и энтропии, если не от насильной инхронизации. Один-единственный человек мог найти в себе способность нас спасти, сберечь в живом и активном виде самую благородную часть нас самих. И этот человек, догадывается он об этом или нет, понимает он это или нет, мог быть только он — Сов Севченко Строчнис. Вот так вот.
) 
Я обожал, когда она предлагала уединиться на ночь вдали от остальных. Случалось это нечасто, но когда Ороси звала меня к себе, я был беспредельно счастлив и каждый раз радовался своей удаче, упивался этим редким мигом, потому что следующего придется ждать, быть может, целый месяц, и вот она вдруг распахивала дверь своего тела так легко и широко, и казалось немыслимым, что она так долго думала сделать это снова, и я просыпался утром наполненный, целый, словно тепло ее кожи было моим продолжением, и я надеялся, что это продлится еще хоть
89
немного, и наслаждался, считая секунды, прижавшись к ней со спины, рука моя покоилась под ее головкой, нос зарывался в ее волосы, и я знал, что она вот-вот проснется, как только Голгот рявкнет: «Подъем, голубчики!». Тогда она быстро отодвинется, не оборачиваясь соскользнет, как по невидимым перилам вдоль моей руки, не прикоснувшись, и тут же выпрямится, поднявшись, оборвав связующий нас поток, выпутавшись из клубка моих объятий, полная решимости отдаться своим аэрологическим интерполяциям. Как только она оказывалась на ногах, более ни один квадратный сантиметр ее кожи не был доступен ни для чего другого, кроме гипертрофированного восприятия ветра, в котором, помимо разума, так же была задействована вся ее вибрационная, термическая, тактильная, слуховая, зрительная и обонятельная способность чувствовать, исключавшая какое-либо желание или влечение. Я думаю, ей нравилось заниматься любовью и проводить со мной время больше, чем она это показывала, но аэромастерство, достигшее такого уровня не могло мириться, или во всяком случае недолго, с тем, что она отвлекалась от вибрационной и мелодической сети, которую ей необходимо было беспрерывно испытывать во всех трех измерениях высоты, глубины и толщины, чтобы по ним определять ход волн, и дабы не оскудело и не пришло в упадок ее искусство аэромастера, она не могла себе позволить жить плотской любовью, которая, глядя на полноту ее чувственности, была бы для нее волнующей и сладострастной. Она это знала, считалась с этим и шла вперед.
Через двести семьдесят дней после Крафлы, сбившись с курса на этом огромном травянистом плато, через двести семьдесят дней после того, как не стало Арваля и Караколя, Ларко и Эрга, на неизвестной нам высоте, потому что с нами больше не было Тальвега, который мог хотя бы
88
примерно сказать, где мы, так далеко от Аберлааса, что счет можно было вести лишь в единицах пройденных лет, Ороси Меликерт пригласила меня присесть вдали от всех, посреди прерии. Мы устроились у дымящего костра, поодаль от шести других ордийцев. Их бивуак, тонувший в плотном вечернем тумане, не мерцал сегодня вдалеке. Она заговорила. Я, сам того не замечая, стал вглядываться в ее живое красивое лицо, и подметил, что щеки у нее слегка округлились. И вдруг я понял: она беременна! Беременна, вот в чем дело! Я чуть не бросился ее обнять, как она вдруг заговорила о своей роли аэромастера, о передаче тайных знаний, да с такой серьезностью и сосредоточенностью в выборе слов, что я позабыл о своем предположении и стал слушать.
— Сов, я решила тебя посвятить в аэромастера. Готов ли ты стать моим учеником?
Шок мигом выбил меня из созерцательного состояния. Помимо того, что это было знаком высочайшего доверия, помимо престижа, которым она меня удостоила, более всего меня тронуло и взволновало то, что ее выбор пал именно на меня, я стал ее избранным, и я не мог не усмотреть в этом доказательства любви. Я ответил тут же, не задумываясь, но:
— А почему ты не выбрала Пьетро? Он больше меня заслуживает этой чести.
— Потому что он слишком привязан к вопросу благородности. Ему не хватает чуткости в обращении с вихрями. Я безгранично уважаю этого человека за его порядочность. Но эта порядочность мешает ему видеть вещи за пределами этических требований. Для меня этика исходит из отношения к вихрю, а не наоборот.
— Есть и другие причины, я полагаю…

87
x 
Я не отвечала. Я не знала, с чего начать. То, что я должна ему рассказать за столь короткий промежуток времени, было слишком объемно… Для чего было ждать столько лет? У меня была тысяча возможностей сделать это раньше! Но нет, тебе обязательно нужно еще подумать, Ороси Меликерт, дождаться последнего момента. Откровенно говоря, через два месяца после Крафлы я перестала надеяться, что мы когда-нибудь куда-то дойдем. К чему все это вообще, думала я. Но затем вдруг появился первый признак: зыбь, расходившаяся очень долгими волнами. С каждым днем волнение потока усиливалось, утверждалось все глубже — догадка, знак, намек на доказательство, доказательство? Не настолько, чтобы понять, что мы так близко. Я неправильно истолковала вихревой шлейф, плохо просчитала отделяющую нас дистанцию, но хроны так быстро растворялись там, в верховье. Сов достаточно быстро освоился в повисшей паузе, и в каком-то смысле освободил меня от терзаний с чего начать:
— Ороси, перед тем как ты скажешь то, что хотела, я бы хотел разобраться с одним вопросом, который тебе наверняка покажется непроходимой глупостью, но тем не менее. Я тридцать лет слышу слово
вихрь. Мне надавали с полсотни разных объяснений этого понятия, я перечитал все, что только можно было найти на этот счет в Аэробашне и в фареолах… И тем не менее, несмотря на это, или, быть может из-за этого, я чувствую себя совершенно потерянным в вопросе, у меня не получается выстроить ясное понимание самого концепта, я не могу четко очертить для себя все то, что об этом знаю. Я знаю либо слишком много, либо недостаточно. Так вот, мой недалекий вопрос заключается в следующем: что такое вихрь? Что это на самом деле значит?
— Знаешь, твой вопрос более чем уместен. Это даже самый лучший вопрос, с которого можно начать. Так вот…
86
Какого уровня ответ ты хочешь получить? Конкретный, физический, энергетический? Может, духовный? Ты предпочитаешь, чтобы я тебе сказала, что
может вихрь или чем он
является? С чего начать?
— Начни с конкретики.
) 
Ороси с трудом оперлась спиной о холмик. Сделала она это с усталостью, с какой двигаются беременные женщины. Она напомнила мне Аои десять лет тому назад… Хотя никаких намеков на живот не было заметно.
— Вихрь такой, каким ты его видел в вераморфном хроне. Это своего рода клубок из чистого ветра, размером примерно с большой кулак. У клубка может быть бесконечное количество форм. Самые простые похожи на колесо без спиц, как наспех очерченный круг, или на вытянутые восьмерки. Хотя у большинства все-таки просматривается сложная топология, которая называется
узлом. Узел — это траектория, по которой проходит ветер, чтобы вернуться в свою изначальную точку. Движение это, как тебе известно, всегда круговое, замкнутое, так как именно это кольцо обеспечивает компактность вихря.
— Можно ли разрубить этот узел или развязать его?
— Теоретически — да. Но на практике ветер циркулирует внутри узла на абсолютной скорости. Ты помнишь, что я говорила вам на Крафле по поводу алмазного ветра?
— Да.
— Эта абсолютная скорость не выдумка и не преувеличение. И у нее вполне конкретные характеристики. Во-первых, это обозначает, что ветер присутствует во всех точках траектории
одновременно. При относительной скорости, пусть даже невероятно высокой, ветер всегда находится в
определенной зоне, в
определенный момент. Здесь
85
же он находится во
всех точках узла постоянно, понимаешь?
— Это я знаю.
— Вихрь, соответственно,
держится именно благодаря этой скорости. Он черпает из нее свою плотность. Как только он замедляется, то сразу оказывается под воздействием линейного ветра, который может его рассеять. Он сам развязывается. Оригинальность вихря заключается в том, что он делает совозможным движение и определенную стабильность личности. Нужно понимать, что ни один атмосферный ветер в движении, ни один линейный поток не может сопротивляться энтропии. А вихрь может, благодаря своем узлу. Узел критически важен, в первую очередь, чтобы предотвратить рассеивание, но еще и потому что от формы петли зависят вибрационные свойства вихря. В отличие от утверждений некоторых аэрудитов, вихрь нельзя определить по скорости, поскольку она всегда абсолютная, ни по материи, потому что все они состоят из чистого ветра. Они различаются исключительно по своей топологии: общей форме, плотности потока и развитию траектории в пространстве. Каждый клубок уникален. Каждый вибрирует и приводит в движение воздух вокруг по-своему. Он производит поток волн, свойственной только ему амплитуды и частоты колебаний. Следовательно, у каждого вихря свой тембр. Опытный аэромастер может узнать вихрь издалека, просто по его звучанию, особенно в незамутненной среде. Сложность в том, что вихревые волны почти всегда доходят до нас в амортизированном, деформированном, отраженном и преломленном виде. Нужно действительно хорошо владеть техникой аэромастерства, чтобы определить вихрь на большом расстоянии. Зато с расстояния меньше ста метров это просто детская забава, если немного приноровиться.
84
— А вот сейчас, например, ты сколько вихрей чувствуешь?
— Ох, много, Сов… Очень много! С вихрем Каллирои во мне способность чувствовать их отточилась и расширилась. Я беспрерывно вслушиваюсь в них, я всегда начеку. Это меня выматывает. И в то же время мне это по душе, мне нравится эта обостренность чувств. У меня ощущение, что я соткана из самой жизни. Даже сегодня в полном тумане я следовала за траекторией зайцев.
— Думаешь, звери тоже обладают такой способностью?
— Да, но похоже, что они не отдают себе отчет в собственном жизненном сиянии! Красный лис, например, так осторожничает, так старается подкрасться незаметно, а при этом излучает такую мощную вибрацию, что заприметить его не составляет ни малейшего труда… Только великим мастерам, таким как Тэ или Нэ Джеркка, под силу заглушить свое присутствие, если они этого захотят. У Эрга, например, никогда не получалось. Его было заметно за километры! Согласно Аликорне, одной из аэрудиток с которой я познакомилась в Шавондаси, по нашему следу шли все время с момента нашей переправы через Лапсан! Что не удивительно, Орда из двадцати трех человек — живой маяк из вихрей, для любого, кто решит преследовать нас по линии Контра!
— Ты дала мне определение вихря в физическом плане, теперь я бы хотел…
— Я дала тебе определение в физическом плане, но не полностью. Я рассказала только о внешних выражениях вихря, его воздействии.
— Это верно. Продолжай.
— Нужно было с этого и начать: с происхождения, формирования вихря. Но тут сразу начинаются разные интерпретации…
83
— Не важно. Откуда они вообще берутся? Как формируются? Я массу всего слышал на этот счет…
— Существует две линии, два варианта происхождения, которые многие путают. Эндогенное происхождение, свойственное растениям и животным, в среде которых вихрь формируется в процессе зачатия. И есть экзогенное происхождение, более впечатляющее, где вихрь появляется из самого ветра, весьма скромным и случайным образом, зачастую на краю хронов, в начале и в конце ярветра, в шлейфах ветрового кильватера. Всегда там, где наблюдается очень высокая скорость, а также в зонах мощной турбулентности. Я считаю, что вихрь есть чистая сила, происходящая напрямую из хаоса. Он появляется из хаоса и
благодаря ему, но в каком-то смысле он также возникает в
противодействие хаосу, чтобы
противостоять его взрывному распаду. Вихрь, по всей очевидности, — первая
самодостаточная и самодвижущаяся сила. Появление вихря сливается с появлением организованной жизни, отчасти потому что жизнь, происходящая из хаоса, не может не привнести в него своего рода прирост консистенции всей совокупности рассредоточенных сил и веществ; и отчасти потому что необходимая для этой консистенции энергия, ответственная за сгущение, скрепление и установление взаимосвязей, энергия, что заполнит пустоты и трещины, напитает материю, наслоит силы, расставит интервалы, дающие воздуху свободно передвигаться, а значит насытит и упорядочит жизнь, эта энергия может происходить только из страшной, пусть и неуловимой силы, которая есть вихрь. Вихрь, в прямом смысле этого слова,
исходит из хаоса, и потому что он из него происходит, и потому что он от него отделяется. Он сталкивается с силами чистой, неукрощенной магмы, из которой исторгается и которую реорганизует.
82
— Как именно?
— Благодаря ритму. Ответный удар, наносимый вихрем хаосу, — это ритм.
— И своего рода заслон. Вихрь защищается, смыкая оба конца ветра в одно кольцо, он замыкается, так ведь?
— Да, это правда, но удивительным образом его защищает не замкнутость, а скорость.
— Сверхнапряженная скорость в замкнутой системе…
— Ты прав только отчасти, Сов, потому что твое видение обусловлено формой, которую принимает вихрь в своем сиротском состоянии, не привязанном к принимающему его телу. Возьми, например, твой собственный вихрь, или мой, да любого живого существа, появившегося на свет привычным нам путем, наш вихрь не замкнут, он связан с телом. Он сохраняет структуру сжатого узла, но не держит в узде твое тело, а, напротив, как бы «отдает ему поводок», он подпитывает ток твоей крови, лимфы и питается от него. Его дыхание закупорено на твоей собственной системе циркуляции воздуха, он дышит в тебе и заставляет дышать тебя самого.
— Это я понимаю. И он обретает свою способность к автономии, только когда мы умираем, тогда он закупоривает все свои связные каналы и готовится к новому перевоплощению. Он отделяется от принимающего его тела, вроде как душа, что ли.
На лице у Ороси выразилось явное раздражение. На долю секунды мне даже показалось, что она уже пожалела о том, кого выбрала в качестве своего приемника. Но она взяла себя в руки, постаралась улыбнуться, потрепала меня по плечу и продолжила:
— Забудь, пожалуйста, про эту аналогию с душой, Сов. Я знаю, что она сама напрашивается, но вихрь не имеет ничего общего с душой. Он не вечен. Он все время нахо-
81
дится под угрозой, как и любая другая форма жизни. Его не ждет никакой рай, будь то Верхний Предел или дворец Эола. А главное он не хранит в себе дух человека, в котором пребывал.
— Как это?
— Он хранит в себе жизненную силу умершего человека. А еще точнее, то, что было в нем наиболее глубокого и наиболее живого и в симбиозе с чем он жил. Вихрь млекопитающих и есть симбионт, созданный его обладателем.
— Я читал, что каждый человек, умирая, высвобождает вихрь, который остается после его смерти. Но некоторые аэрудиты наоборот утверждают, что вихри редко выживают… Так что же…
— Вихри редко переживают принимающее их физическое тело. Я бы даже сказала очень редко.
— С чем это связано? С самим телом или с тем, как именно человек умирает?
— Это связано с силой жизни, которая заключалась в теле. Это непосредственное следствие дисциплины движения, внутренней проворности, что может выражаться не только на физическом и церебральном уровне, но и на чувственном и эмоциональном. Большинство человеческих вихрей слишком запрятаны в «свернувшиеся» тела и сознания, как сказал бы Караколь. Они развиваются витками в округлых узлах, которым не присуща эластичность, а мобильность всегда является лишь ответной реакцией. Они безусловно способны к адаптации и даже испытывают чувства через беспрерывные вязкие потоки. Им присущи мысли оседлого характера, доступные всегда и всюду, но на этом все. Как только эти вихри оказываются вне тела, они сразу утрачивают свою плотность и рассеиваются при первом же порыве ветра. После них ничего не остается. И это правильно.
80
— Это своеобразная форма имманентной справедливости. Только великие оставляют по себе след и не исчезают…
— Скажем точнее: жить и оставаться живым возможно только в том случае, если ты воплощаешь в реальность саму жизнь, которая есть движение и созидание, бесконечное творение, скачками, вспышками. Караколь знал это лучше, чем кто бы то ни было: вихрь движется силой примитивной метаморфозы, что-то вроде элементарной, но неотъемлемой способности меняться, перемещаться, бесконечно обновляться. Эта способность, — именно в этом и заключается фундаментальная особенность вихря, Сов, — не имеет ничего общего с обычной способностью к адаптации, с гибкостью по отношению к внешним обстоятельствам, позволяющей реконфигурироваться. В вихре это свойство заложено и так, оно само собой разумеется. Но им также обладает и человек, и растение, и даже камень! Особенность вихря состоит в том, что он способен самоотличаться. Он непрерывно отличается от самого себя, от того, чем является, им движет внутренняя эксцентрическая пылкость. Его главная загадка состоит именно в этом неистовом побеге, в инстинктивном прыжке вне себя. Может ли сила пережить саму себя? Раз все живое призвано разрушиться и умереть, раз энтропия воздействует на любое организованное тело, как поверить в то, что клубок ветра размером с кулачок способен выжить?
— Он способен выжить как раз благодаря энтропии, используя ее для самообновления. Я думаю, что вихрь извлекает для себя выгоду из метаморфоз, происходящих от распада. Он не старается оставаться таким, какой есть, возобновить свою сущность: он выживает путем преображения.
— Да. Отсюда же и его неоднозначное положение по отношению к принимающему его телу. Разворачиваясь
79
внутри человека, вихрь находит центр воплощения и стабилизируется. Но в то же время он загоняет себя в ловушку плоти, которую создает.
— Которую создает?
— Да, Сов, вихрь порождает, он создает органы в генезисе эмбриона. Он обеспечивает развитие ребенка. Он в нас с самого начала. В зрелом возрасте движение застывает, его пути затвердевают и уплотняются. Живое в нас замыкается в оболочке из кожи или меха; вихрь начинает крутиться вокруг собственной оси. Он теряет связь с подвижным хаосом, который всегда представлял для него угрозу, но который его подпитывал. А главное, он начинает повторяться и стремиться удержать свою форму вместо того, чтобы безостановочно трансформироваться и следовать своему ритму.
x 
Сов придвинулся поближе и коснулся моей шеи губами. Я погладила его по непослушным волосам, пахнувшим дымом костра, тихонько отстранила его голову от своей и посмотрела ему в глаза. В нем чувствовалась какая-то влюбленная веселость, что мне очень нравилась. Я загубила столько лет…
— Я хочу быть уверена, что ты все правильно понимаешь, Сов. Я не случайно решила тебе все это объяснить сегодня вечером.
— Разумеется.
— Так вот. Я хочу, чтобы все было ясно. Ответственность, которая ляжет на тебя в будущем, — огромна. Она почти… почти нечеловечна. Я попросила тебя удалиться со мной, чтобы подготовить к тому, с чем тебе придется столкнуться, когда мы окажемся на Верхнем Пределе. А быть может, и за ним…
— За ним? Не существует никакого за ним! И Верхнего Предела не существует, ты же это знаешь еще со дня, когда мы были в Аэробашне!
78
— Надеюсь, что для тебя существует.
Отреагировал он плохо, как я и предполагала:
— Опять это дурацкое предсказание Караколя! Не знаю, где тут носится его вихрь, но увижу — съем живьем, пусть только попадется! Видела завещание, которое он мне оставил? Этот уж точно себя пережил! Шуточки его никак не закончатся. Даже ты, так и то повторяешь! Вот это трубадур! Вот это молодец!
— Сов, послушай меня, пожалуйста. Повзрослей! Ты должен…
— Повзрослей? Повзрослей?!
— Сделай это для меня, даже если сам не веришь.
— Ну, давай, валяй. Что я там должен понять? Что вы все помрете у меня на глазах? Что передо мной в открытом космосе будут кувыркаться ваши полтора десятка осиротелых вихрей, и что мне нужно будет своими ручонками все их защитить? Что за два года обучения с тобой ученичок Сов станет аэромастером с нуля, будет сборщиком вихрей, спасителем Орды? Что там еще? А, буду должен вас в себе поселить, да? Ничего что один только Голготов вихрь меня на куски порвет?!
— Да, все примерно так и есть, Сов, только…
— Только что?
— Только у тебя не будет двух лет на обучение…
— А сколько интересно: пять, восемь, да хоть десять! Какая разница? Все равно не хватит!
— Сов…
— Что?
— Ты должен быть готов завтра.
) 
Я вскочил, раскидал в ярости остатки бревен в костре, сел, снова встал, и стал кидать бум прямо к верховью. Не останавливаясь, по кругу. Получалось с трудом,
77
и я чуть было его не потерял, я старался успокоиться, как мог:
— Ладно, теперь объясни, что ты имела в виду! Только медленно! А то многовато всего за раз!
— Интеллектуальное понимание природы вихря, разумеется, только часть знания, которым ты должен овладеть. Ничто не заменит недостающего опыта и интуиции, которая в тебе пока только в зародыше, и которую нужно будет развить очень и очень быстро. Но знание — единственная сторона вихря, которой я могу обучить тебя за ночь. Я тебя заваливаю концептами, потому что это поможет тебе правильно определять феномены и тоньше чувствовать; понимание того, на что способен вихрь избавит тебя от фатального искажения смысла в интерпретации.
— Хорошо, тут я согласен.
— Ну так мне продолжать?
— Да.
— Есть одна загадка, свойственная вихрю…
— Одна из тысячи!
— … по части его «психологии».
— Вот оно что… А я-то думал, что вихрь —
сплошная чистая слепая сила!
— Я постараюсь быть краткой: никто не знает обладают ли вихри сознанием, ни даже способны ли они на какие-либо побуждения. Вполне вероятно, что нет. И тем не менее, они, как правило, в качестве принимающего тела находят то, которое будет для них благоприятно, как, например, в случае Ларко с Кориолис. Почему? Наверняка благодаря определенному остаточному вибрационному магнетизму, близости ритма, ощущаемого в теле того, кого любишь. Притяжение вихря происходит на подсознательном и физическом уровне.
76
— То есть мне ничего особенного делать будет не надо, чтобы вас всех собрать? Как-то слишком идиллически это выглядит… И как мне войти с вами в связь?
— На пятнадцать вихрей одного ощущения близости будет маловато!
— Не очень-то ты мне помогаешь, Ороси! С вихрем можно общаться, можешь ты мне сказать или нет?! Можно с ним какой-то контакт наладить, объяснить ему что-то, сам он может как-то изъясняться, сигналы подавать какие-то?
— Я не знаю. Предполагаю, что да, через…
— Через что?
— Через все тот же ритм. Если взять Каллирою, например, то она себя проявляет тремя основными ритмами: первый очень томный, словно мертвый листок, ностальгический, почти грустный. Второй жгучий и непрерывный, очень бурный. И третий, самый мягкий, теплый, близкий и утешающий, вот как сейчас.
— Думаешь существует связь между тем, какой она была при жизни? Я считаю в Каллирое были эти три фазы, она проходила через эти состояния…
— Думаю, да.
— Так значит, есть все-таки связь между умершим человеком и вихрем, который после него остался? Ты только что говорила обратное!
— Потому что здесь нельзя говорить о личности или сознании… Остается только ритм, сам жизненный ритм, присущий человеку. От Арваля я слышу легкое дребезжание, вроде как потрескивание по металлу; у Тальвега звук ниже, как в барабане, тише, спокойнее.
— Я иногда чувствую, что Тальвег рядом, не знаю, как его поблагодарить…
— Я подхожу к самому важному, Сов. Тут ты должен запомнить абсолютно все…
75
— Давай!
— На то, что я выбрала именно тебя в качестве своего преемника, есть несколько причин: как ты уже сам упомянул только что, есть предсказание Караколя. Оно небезосновательно и имеет некую вероятность. Также в тебе есть врожденное чувство связи с другими, которое подтвердил вераморф, и на которое мы смеем надеяться, полагая, что ты сможешь собрать вокруг себя воедино наши вихри.
— Кто мы?
— …И еще, несмотря на мою несколько отстраненную натуру, я тебя люблю, мне нравится твоя щедрость и твоя нежность, твоя любовь к живому, к животным, к людям; мне нравится в тебе поиск смысла, который преследует нас обоих, присущая нам жажда знания; а еще мне нравится, что ты так и остался ребенком, хоть и не знаю каким чудом тебе это удалось, что в самый разгар своей зрелости тебе удалось сберечь в себе нетронутой свежесть детства. Но главное не в этом…
— Жаль…
— Главная причина — это твой талант скриба.
— Да нет у меня никакого таланта! Скриб — это должность, я с ней справляюсь хорошо, на этом все, точка.
— Сов, а знаешь ли ты, что в самом начале функция скриба и аэромастера в Орде были связаны теснейшим образом?
— Да, слышал… Где-то в контржурналах про это говорится.
— Изначально скриб выполнял совершенно другую задачу; между прочим тогда говорили не «скриб», а «глифер». Уверена, ты этот термин слышал.
— Глифер должен был вести учет ветров, не более. Только позднее его функция расширилась до скриба, постепенно, по мере новых поколений Орд…
74
— Расширилась? Да у глиферов было куда больше возможностей, чем у любого скриба! Ты правда думаешь, что их задачей было вести учет ветров? Не вели они никакого учета, во всяком случаем в письменном виде! Работа глиферов была устная, в высшей степени устная, она ничего общего не имела с тем, чтобы записывать в контржурнал, что и как делала Орда, она состояла в создании и изречении глифов, а также в их обнаружении в русле ветра! Глифер был мастером блоков дыхания! Он разговаривал с вихрями! Ты это понимаешь?
— Во-первых, не существует никаких доказательств эффективности глифов…
— А Фонтанная башня на Лапсанском болоте?
— Дай мне сказать! Во-вторых, большинство глифов начертаны на стенках хронов, они не просто так по ветру гуляют…
— Ты шутишь, я надеюсь?
— Да, я пару раз замечал глифы на кромке винтов, под линией хребта… Но это просто следы ветра, Ороси. Простые мимолетные следы! Единственное, что в них есть — это эстетический аспект. Они только появятся, как сразу раз — и испарились!
— Но это же выбросы вихря, считай, это след от его дыхания! Он передвигается и дышит. Я понимаю, это странно, но эти обрывки, эта непонятная каллиграфия — наш единственный путь к нему. Во-первых, потому что глиф как минимум видно; во-вторых, потому что его можно услышать. Его можно произнести! В былые времена глиферы умели их произносить…
— Допустим, ты права, но сама-то понимаешь, о чем меня просишь? Ты хочешь, чтобы я вдруг обрел древнее, совершенно забытое искусство! Меня учили вести запись ветров, определять размер потока, а не глифы произно-
73
сить. Это же просто обрывки ветра, вихревые отбросы! И уж тем более меня не учили их изрекать, как Тэ Джеркка! Я никогда не практиковал нефеш, я не умею выкрикивать ки или запускать воронку! У меня горло есть для того, чтобы говорить, и то не всегда…
x 
У меня на четверть минуты перехватило дыхание. Я почувствовала себя совершенно раздавленной под этой волной опасений и уверток. Нужно было, чтоб он радикально избавился от уничижения собственной персоны, от удобного принятия поражения. Он должен был перестать бежать, он должен был встретиться лицом к лицу с тем, что его ожидало, должен был обрести силу…
— Ладно, не надо, я и так знаю, что ты думаешь: я для тебя в роли скриба не на высоте. Вполне возможно, в самом начале запись велась устно, голос господствовал над письменностью, запись была лишь второразрядным инструментом, нужным только для хранения слов, и у нее была совершенно другая задача, нежели эта блеклая передача событий, в которую превратились контржурналы. Но меня учили именно этому, Ороси!
— Я понимаю. Но это не оправдание. Значит, ты должен превзойти свое дело и свои умения!
— Давай короче и яснее!
— Я просто хочу, чтобы ты знал: существует возможная коммуникация с вихрями! По крайней мере в теории! И этот мост держится на глифах. Сов…
— Что?
— Ты понимаешь насколько это важно?
— Не думаю, что ты понимаешь, какую ответственность хочешь на меня возложить. Ты меня просишь, чтобы я взял на себя всю Орду! Сначала ты меня заваливаешь кучей откровений и тайн, а потом говоришь: это не
72
сложно, просто читай глифы, придумывай их, говори блоками дыхания, стань Тэ Джеркка, собери наши вихри, приголубь их и удачи тебе!
— Ты никогда не думал о том, почему Караколь был трубадуром? Почему из столь огромного спектра профессий он выбрал именно эту?
— Думал. Потому что это было наилучшим прикрытием для такого необычного существа, как он, потому что он спокойно мог выделывать свои выкрутасы и крутить метаморфозы, не привлекая особого внимания.
— Чем для тебя был Караколь?
— Моим лучшим другом.
— Это я знаю, но чем он был?
— Чем?
— К какой природе он принадлежал, если тебе так понятнее…
— Думаю, он еще подростком наткнулся на психрон и извлек из него сверхчеловеческие способности, не знаю, что-то в этом роде… Знаешь, я никогда не пытался толком выяснить, я как-то сразу себе это запретил. Это для меня был вопрос уважения к тому, кем он был, ну и любви тоже. Он для меня был из рода человеческого, но только… немного видоизмененный. Ты так не думаешь?
— Я правда думала, что ты все понял…
) 
Ороси встала потянуться и немного пройтись. Тяжелые морщины пересекали ее лоб, прочерчивали щеки. Я понимал: она берет на себя то, что не решается возложить на меня, и берет не мешочками, а целым мешком страхов и забот, что еще в силах поднять сама, но должна будет скоро передать мне, дырявый и ненадежный. У меня, разумеется, были свои мысли насчет Караколя, но что-то удерживало меня, не давая о них сказать. Я ждал подтверждения, и не напрасно:
71
— Караколь был автохроном. Возможно одним из древнейших, которые аэрудиты когда-либо встречали. Он, между прочим, нагонял на них страх…
— Сколько ему было лет?
— Мне говорили, что он знал еще первого Голгота, а значит минимум двести пятьдесят. Но для него эти цифры ничего не значили, его внутреннее время было иным.
— Когда ты поняла, что он автохрон?
— Когда Тэ Джеркка обезвредил Дубильщика. Если помнишь, после боя он подошел к этой застывшей массе… И в этот миг, не знаю почему, но меня вдруг осенило, у него был такой взволнованный вид. А ты…
— Я понял во время ярветра, когда он взобрался на холм ровно перед первой волной. Ни один человек, пусть даже самый храбрый из безумцев такого бы не сделал. Даже Голгот! Ничто в нем не выражало страха, ничто! Он был в своей стихии, он ликовал!
— Это правда. Так было и на Вой-Вратах, и на Фонтанной башне…
— Я только раз видел, чтобы он испугался, — на состязании в Альтиччио.
— Ты должен знать, что Караколь изначально был в самой первой испытательной секции Преследователей. Его подобрал один аэромастер из Аберлааса, когда Караколь был в полнейшем процессе рассеивания, он ему помог стабилизироваться и обрести человеческий вид. В виде оплаты своего долга Караколь должен был присоединиться к Преследователям, а его миссией было внедриться в Орду, сбить ее с пути и уничтожить. Он справился с первой частью, но вскоре изменил свой курс и предал своих заказчиков.
— Да он наверняка просто-напросто забыл о них!
— Достаточно долгое время у Преследователей не было в планах схватить Караколя. Да они и не смогли бы
70
приблизиться к Орде из-за Эрга в любом случае. Караколь это знал и понимал, что с нами он вне опасности. Но в Альтиччио они могли устроить ему свертывание; то есть такой риск реально был.
— Вот этого я никак не возьму в толк. Какой именно риск? Как можно произвести свертывание над кем-то вроде него?
— Они бы поместили его в компрессионную камеру под пресс. Сжимали бы и растягивали, снова и снова, сотни раз, пока бы в нем не затвердела и не раздробилась вся его гибкость и упругость. На это ушли бы месяцы, но они бы все равно своего добились, можешь мне поверить. Но что я хотела тебе сказать насчет Караколя, так это то, что он стал трубадуром
через глифы, путем наиболее естественного развития: от глифов к изрекаемому голосу. Именно голос создал его рот, горло, гортань и легкие. Функция создала орган.
— То есть ты думаешь, что он принял человеческую форму посредством
одного только голоса?
— Несомненно были и сотни других процессов, сопутствующих этому становлению, но голос был решающим элементом, да. Я так думаю. Голос находится на секущей между двумя мирами, и для него это был единственный мост аналогии, ведущий к человеку.
— Но как ему удавалось сохранять человеческую форму, блааст дек? Это же немыслимо для автохрона, если он был чистым автохроном! В нем наверняка должна была существовать частица человеческой природы, с самого начала!
— Не обязательно. Он просто уловил эту частицу, воссоздал ее на основании вибрационных последовательностей, близких ему ритмов. Да и его накидка арлекина тоже во многом помогала ему хранить свой облик…
69
— Как это?
— Она соткана из вихрей. Каждый лоскут материи в ней — фрагмент вихря повстречавшихся ему людей, поделившихся с ним живым лоскутом своей сущности. Эта накидка была для него сродни человеческой кожи. Вернее было бы сказать, очеловечивающей кожи, что делала его настоящим человеком, благодаря этой оболочке из вихрей.
Так вот почему он непременно хотел оставить мне свою накидку… Всякий раз как я ее надевал, меня охватывало какое-то необъяснимое утробное чувство. Мне было в ней так хорошо. Я думал, это связано с силой воспоминаний… Как же глупо я себя теперь чувствовал перед Ороси, продолжавшей мне растолковывать:
— Это необыкновенная накидка. Ее нельзя ни порвать, ни промочить, она способна остановить стрелу арбалета, принять на себя любой удар… Она работает на манер локального силового поля.
— И к тому же она дышит, ее так приятно носить, она такая легкая на ощупь… Знаешь, Ороси, я должен признаться, что сам бы никогда не догадался… Видишь сколькому мне еще надо научиться. Это же позор настолько ничего не чувствовать… Ведь немыслимо же, что я сам этого не понял?!
Ороси обняла живот обеими руками и слегка поморщилась. Ее целый вечер мучили газы. Она ничего не ответила, но взгляд говорил достаточно о замешательстве.
— Ты никогда не пытался прислушиваться к вихрям, потому что у тебя не было такой необходимости. Но острота слуха придет вместе с опасностью и неотложностью. Эта накидка придаст тебе стабильности, она сливается с твоим собственным вихрем, ее энергия практически прозрачна для тебя. Не переживай.
68
— Ты сказала, что я должен быть готов завтра. Но что случится завтра?
— Завтра Орда распадется.
— Почему? Несчастный случай? Поле хронов? Что нас такого завтра ждет? Объясни же в конце концов! Может тебе Пьетро сказал, что он все бросает и возвращается в Бобан? В этом проблема?
Я все не мог набраться духу высказать мысль, терзавшую меня с самого начала разговора. Я видел, что и Ороси никак не решалась, а потому взял, да и выпалил:
— Ты беременна и хочешь сделать остановку на несколько месяцев. Но думаешь, что Голгот не захочет, а значит Орда распадется надвое. Потому что я тоже с тобой останусь. И потому что и Пьетро с Кориолис, и может даже ястребник с нами тоже захотят остаться. В этом дело?
— Нет.
— Ты не беременна?
— Беременна. Но мне не придется останавливаться, не дойдя до Верхнего Предела. В этом не будет необходимости…
— У тебя уже неделю живот болит, я же вижу! Тебе нехорошо, тебе нужно остановиться! Дай же себе время родить и воспитать этого ребенка!
— Сов, ты не понимаешь…
Ороси вдруг разрыдалась и вся обмякла в моих объятиях. Она подняла на меня свои черные глаза, с заметным страхом стараясь отыскать в моем взгляде какой-то проблеск интуиции и я вдруг понял, понял нечто такое, что словно проткнуло меня, и я чуть не швырнул ее в огонь.
— Это же мой ребенок? Отвечай! Мой?
Она подскочила одним прыжком, с неизменной ее ловкостью, выпрямилась, утерла рукавом слезы и посмотрела на меня. Губы ее еще были искривлены силой пронизыв-
67
ающих эмоций, но она сделала над собой усилие, глубоко вдохнула, выдохнула, и сказала:
— Твой, Сов. Наш с тобой… Но не только…
— Это еще как? Ты надо мной издеваешься? Он мой или не мой, я тебя спрашиваю!
x 
Он орал на меня, тряс, языки пламени пробегали у меня по спине, его ослепило паническое разочарование, он больше ничего не слышал и не понимал, я не знала как мне быть, не знала, как ему сказать:
— Он твой, но не только твой… Этот ребенок одновременно от нас троих…
Я снова сделала глубокий, полный влажности и дыма, опустившийся в самые легкие вдох, и наконец выложила в звуковое пространство куб из смысла и звуков:
— Я беременна от тебя и от Караколя. Я жду гибридного ребенка от вас обоих и не знаю, сможет ли он на самом деле родиться. Но я сделала свою ставку.
— Сделала ставку?!
— Я хотела дойти до конца своего пути, изнутри понять, что такое ветер…
Сов бросил меня, сам того не заметив, и я упала рядом с костром и поранила локоть о догоравшую головешку. Меньше чем за полминуты по лицу Сова пронеслось столько налетевших друг на друга эмоций, что я застыла с открытым ртом, не зная, что произойдет в следующий миг — бросит ли он меня в костер, поцелует, обрушится бранью, сбежит, улыбнется, ударит. Но он утих, глаза его остановились на мне, он поднял меня одной рукой и спросил, глубоким, низким голосом:
— Ты обо мне подумала?
— Конечно.
— Ты же знаешь, как я хотел этого ребенка.
66
— Знаю, но он же будет…
— Когда у вас с Караколем это было?
— У нас с ним ничего не было, ничего такого, что ты имеешь в виду, это было по-другому…
Караколь проник в меня через оба мои отверстия, через ноздри, через рот, через ушные раковины, повсюду одновременно, даже сквозь саму кожу, словно теплый и свежий ветер, то короткими, то раскатистыми ударами, и я никогда за всю свою жизнь не испытывала столь пронзительного, безудержного наслаждения. Но я не могла ему об этом сказать. Впрочем, он и сам не стал меня спрашивать.
— Как ты можешь знать, что ребенок от нас двоих? Откуда ты знаешь, что он не его? У тебя и намека на живот никакого нет, он у тебя плоский, как доска. Твой ребенок даже не человеческий!
—
Наш ребенок, Сов…
— Отвечай на мой вопрос!! Откуда ты знаешь?
— Ребенок вибрирует во мне по тем же частотам, что и твой вихрь, никаких сомнений в этом быть не может. Но в то же время он и правда растет, не занимая места. Я на одиннадцатом месяце, а период вынашивания так и не заканчивается. Я начинаю переживать…
Я не решалась продолжать дальше. Сова била дрожь, он отходил все дальше, все дальше…
— Ты совершенно сумасшедшая, Ороси, как минимум такая же ненормальная, как и Голгот. Но я тобой восхищаюсь. Ты ни на йоту не изменилась за все те годы, что я тебя знаю. Ты всегда шла до конца, всегда следовала за своей пытливостью, непременно хотела все знать. Ты меня правда всегда впечатляла. Но у меня от тебя внутри все холодеет. Я мечтал о таких простых вещах, банальных до слез, мечтал для нас обоих. Но ты все решила за меня…
65
— Мне очень жаль. У меня не хватило духу сказать тебе раньше… Это ведь Караколь все придумал, я думала только о нас, Сов! Но просто… просто это была такая уникальная возможность… Знаешь, я так много говорила о тебе с мамой, когда мы были в Бобане; она считает, мы очень друг другу подходим, она уже видела себя бабушкой, представляла, как нянчит своего хорошенького внучка… Я и сама об этом мечтала!
— Я надеюсь, что он хотя бы и правда родится, что будет живой, что у него хотя бы будет лицо и тело, а не только ураганы вместо ног, и кривец в волосах…
Я не смогла ничего сказать в ответ. Разочарование его было настолько ужасным, что он весь словно осел изнутри.
— Пойдем спать. Ты меня размазала за сегодня. Поговорим об этом завтра…
— Нет-нет, никакого завтра, это категорически невозможно.
— Значит через пару дней поговорим, по дороге обсудим!
—
Барнак Сов… Закончилась дорога! Мы уже на Верхнем Пределе! Все! Мы пришли.
(обратно)
XIX
ДЕВЯТАЯ ФОРМА
— Подъем! Подъем, дохляки!
— Сов! Ороси!
— Куда эти двое подевались уже? Не могли в лагере дела свои порешать, раз приспичило?
π 
Я первый забил тревогу. Из-за внезапного яркого, ни на что не похожего света. В совершеннейшем тумане, глубокой ночью. Голгот тут же выскочил из своего спального мешка. В руке у него наверняка был бум наготове. Я Голгота не видел. Я вообще никого не мог различить. Горст и Карст что-то бурчали, ястребник звал Шиста. Кориолис, похоже, даже не двигалась. Я старался нащупать ее ногой. Напрасно. Ее, как и всех остальных, поглотила кромешная темнота. Я следил за траекторией крохотных хронов. Они спускались с верховья сотнями. Большинство не превышало размером золотую бусинку, или яйцо. Они плыли по воздуху, как стая светлячков. Словно звезды, упавшие с опустившегося небосвода. Некоторые, проходя мимо, задевали нас, и можно было рассмотреть поближе эти светящиеся желто-оранжевые коконы. Они мерцали изнутри. Я не сразу понял, отчего именно меня пробирала тревожная дрожь. Дело не в количестве, хотя их было огромное множество, словно капель дождя в летней грозе.
63
Дело было в том, что они не источали никакого света вокруг себя! У них не было ореола. Они ничего не освещали. Напротив, поглощали свет и заточали его в себе, питались им. К тому же эти светящиеся шарики притягивались друг к другу, превращались в целые гроздья, взаимопоглощались. Бесшумно. Я пытался отыскать Ороси во тьме. Среди коконов царила абсолютная темнота. Я старался избегать малейшего соприкосновения с ними. Но я не видел даже собственных рук. Ни Сов, ни Ороси не отвечали на наши крики. А пламя их костра, видимо, тоже попало в ловушку коконов.
— Смотрите! Там!
Ω 
С верховья на нас косо-криво ползла какая-то огромная черепаха, так посмотришь — настоящий кусмень стейка, вырезанный прямо из солнца, так глаза слепит. А вокруг сплошняком, словно волдыри светящиеся, вскакивают, клокочут повсюду, можно подумать, фонарь в котле сварили, ползет вкось да наперекосяк, у меня чуть зенки от такого зрелища не повывалились. А черепаха все на нас ползет, да жрет на ходу весь свет, так что собственных причиндалов без фонаря не рассмотришь. А тут еще брательники разгорланиться время нашли, Кориолис в своем углу что-то воет, Стреб петуха своего найти не может, а Ороси так вообще унесло в чисто поле нашему эксперту по перу да по чужим перинам бубенчики свои показывать — один только Пьетро в строю остался, только и князек наш не меньше меня попутался, стоит что-то вопит в темнотище, выход у ночи из заднего прохода небось ищет, понять не может, что за фейерверк и каким ветром его сюда занесло!
) 
Ороси проснулась раньше меня и теперь вела за руку по равнине. Она не переставала со мной говорить, стара-
62
лась заставить меня прочувствовать населявшие ее вихри. Они были то крохотные, то огромные. «Доверься исходящему от них дуновению. Чувствуй его всей поверхностью кожи. Ты можешь ощутить расходящиеся от них волны костной и мышечной тканью. Слух сегодня ночью будет тебе ни к чему, забудь о звуках». Она шла быстро, с закрытыми глазами, и тем не менее без труда обходила заполнившие пространство огненные шарики, тогда как я по ее просьбе пытался докричаться до остальных. Это было безнадежно, не слышно было ни малейшего намека на эхо, но я все равно продолжал кричать, глухим, сдавленным голосом, словно расплющенным толстенным слоем снега. Чем дальше мы шли, тем четче становилось ощущение, что звуки заглушались, голос мой вырывался, будто закутанный в одеяло, и падал к ногам, как в кучу хлопка.
— Ни свет, ни звук больше не проходят, вся система волнового распространения нарушена. Волны стекаются к хронам. Ты заметил, Сов?
— Кто же такое не заметит?
— Ты себя недооцениваешь. Твои наблюдательные способности куда выше, чем считает твое сознание. Что еще ты чувствуешь? Что-то более глубокое, более скрытое…
Мне не хотелось говорить глупостей, но казалось, что также пропал запах дыма и влажности, и что даже звук шагов в траве затягивало куда-то вправо, словно его что-то всасывало, и к тому же… Но все это происходило одновременно и вперемешку, как будто мы были на распутье дующих во все стороны ветров. Время от времени мне слышались отголоски фраз, они взрывались, словно шарики где-то рядом, эти звуковые осколки были достаточно крупные, чтобы в них можно было угадать голос Голгота, но определить, о чем шла речь, все же не получалось.
61
— Я слышу обрывки звуков, но они все время прерываются…
— По правую сторону от нас идет звукохрон в шестидесяти метрах. Он разбивает и поглощает все, что издает вибрации на расстоянии квадратного километра вокруг него. Он стремительно набирает силу, всасывая акустические шлейфы. Вполне возможно, через пару минут ты и собственного крика не услышишь. Не бросай мою руку, ты меня потом не найдешь. Если вдруг почувствуешь, что запахи тоже исчезают — предупреди меня, я простужена. Это будет значить, что скоро пропадет и осязание.
— Запахи уже исчезают, Ороси…
— Тогда сконцентрируйся на вихрях. Они будут нашими маяками, пока не взойдет солнце. Все это по сути отличная тренировка для тебя…
— Ты можешь объяснить, что вообще происходит?
— Судя по всему, черный хрон налетел на скалу и взорвался, из него разлетелись все компакторы. Мы идем по полю, заминированному поглощающими хронами: один поглощает звук, другой — свет, третий — запахи. Классический эффект хронокса. Ничего катастрофического, учитывая то, что компакторы находятся в стадии распада и через несколько часов сами рассосутся. Просто ближайшие пару часов нам придется нелегко, в психологическом плане.
— Из-за тишины?
— Да, из-за сенсорного заслона в целом, это может толкнуть человека на худшее. Я непременно должна предупредить Кориолис и остальных тоже, нужно их успокоить.
π 
В итоге нам все-таки удалось друг друга отыскать. Теперь мы стояли вшестером. В последний момент нашлись. Теперь мне слышались голоса, и не мне одному. Кориолис
60
дрожала и плакала, она слышала, как ее зовет Ларко. Голгот дергал себе голосовые связки криками. Чтобы Ороси смогла нас отыскать по звуку? Частично. Но скорее потому что слышал голос своего брата, говорил с ним. Пытался его перекричать. Мы уже много лет не попадали в такие стаи хронов. Меня будто лишили органов чувств. Я был словно отрезан от остальных. Я прижал к себе Кориолис, взял Голгота за плечо. Он раздавал нам тумаков, чтобы немного взбодрить, но я практически ничего не чувствовал. Тишина расползалась. Я говорил, но кто мог мне ответить? Все было невпопад. Отрывками. Огненных шаров становилось меньше. Но их объемы разрастались. Голгот зовет их черепахами. Мне же они напоминают плоские полусферы. Слежу за ними, чтобы не заснуть. Кто это опять кричит? Каллироя? Слышу разжеванные слоги, произнесенные голосом моего отца. Вдруг вырвались откуда-то, очень громко. Затем уши снова будто ватой заложили. Мозг накрыли покрывалом.
) 
Легко, конечно, утверждать что-то постфактум, но мне кажется, я бы и без помощи Ороси нашел остальных, по интуиции. Когда мы к ним подошли, совершенно невидимый звукохрон вибрировал в тридцати метрах от нас. Мы не могли произнести ни слова, у нас словно украли голоса, слова, не рождаясь, исчезали прямо в горле, я стал хлопать в ладоши, хлопал, хлопал, пускал беззвучные крики, яростные свистки. Во мне разрасталось чувство беспомощности, поглощало меня от этой безголосости еще больше, чем от отсутствия осязания и обоняния. Поглотившая нас тишина напоминала приступы удушья, которые случались со мной в детстве, в Аберлаасе, когда глубокой ночью к нам в спальню пробирался весь дортуар Трассеров и наглухо закрывал нас, спящих, в спальных мешках, пока мы не начнем задыхаться, и я просыпался
59
в панике, и хватал ртом воздух, чтобы успокоиться, а однажды ночью один из ребят так и не проснулся, но и после этого ритуал все равно продолжился… Совсем близко с нами звукохрон издавал пульсации гонга, глубокие, но не протяжные, глухие, сухие удары вырывались из его улавливающего звуки брюха, и он снова их заглатывал, словно наполняя воздухом легкие, что испускают и снова втягивают назад свой выхлоп.
Ω 
Ночка ожидалась веселенькая, с моим брательником у меня во флигеле за стеночкой, он никак уняться не мог, орал мне, что надо двигать дальше, рыть носом землю прямо по курсу, что я был на финишной, что осталось каких-то жалких сто шагов, орал, что еще несчастных сто шагов и мы будем первые, ты это сделал, сделал, заладил он по кругу у меня в башке, а я-то как раз не очень понимал ни где я, ни что! — барабанный хрон справа набирал обороты, стучал с каждым ударом глуше, жестче, выходил из ритма, засранец. Я свою ордяху подхватил и давай драпать отсюда куда подальше, главное на яйца огненные всмятку не налетать по ходу. Не знаю, кто там по этому барабану стучал, но молоток у него был отбойный. Голоса бряцали хоть отбавляй, клац-клац, впереди и сверху, рев упаренных горсов, молотый камень в ушные раковины — кисты чистого звука на каждом ударе, резкие, иногда такие что и трухануть можно, а иногда и по мировой, как сервал мурчащий, так, порыв ветра просто, пучки травы примятые — но четко все слышно, порядок. А потом один хрон вообще в поля занесло! У этого запасов до утра хватило, всю ночь бросался в нас кирпичами звуков, пока не опорожнил весь свой арсенал криков со шквалами, целую кучу голосов, которые мы никогда раньше и не слыхивали, с акцентом низовья от какого-то ветра, мерзовастенький
58
такой, медляковый, растянутый, как у крытней. А посреди всей этой возни опять брательник мой заодно: «Ты дошел, Гого, дошел!» и тут не поспоришь: я точно дошел, до ручки дошел.
x 
В общем-то так было даже лучше, что первые спустившиеся на нас хроны были из звукохронов и люменов: они достаточно затмевали восприятие, чтобы скрыть… когорту других хронов. Те, что шли на нас с верховья, не имели ничего общего с обычной постярветренной пролиферацией: все равно что сравнивать снегопад с лавиной. Мы находились в передней у хаоса. Психроны, сихроны и хротали — все это шло на нас беспрерывной взаимопожирающей волной и переполняло аэропластический план, за чем я наблюдала с ужасом, настолько это превосходило все известные мне методы оценки происходящего. Я всегда видела только, как хроны ведут себя в открытом пространстве, они всегда были достаточно изолированы и развивались беспрепятственно. Здесь же, насколько я понимала, они наталкивались на другие хроны, как только вылуплялись. Силами метаморфозы управлял их инстинкт выживания, они грабили, поглощали и захватывали. Достаточно было только посмотреть, как звукохрон расчищал проходившие мимо него люмены!
Я следила за Кориолис больше, чем за остальными, потому что она была в буквальном смысле сама не своя. Неясный мне феномен, не связанный с компакторами, вытягивал вихри из их принимающих тел, как будто какая-то непреодолимая сила влекла их наружу. Каллироя во мне металась в районе горла, периодически поднимаясь в самый зев, так что мне приходилось ее сдерживать; брат Голгота норовил вылететь через ушную раковину; а Ларко в Кориолис держался у самого рта, все не решаясь
57
выбраться в открытое пространство. Я с диким трудом пыталась пробиться сквозь белый шум, создаваемый шлейфом волн от люменов и звукохронов, и у меня только в редкие промежутки получалось услышать ритмику вихрей, чтобы оценить их импульсы.
π 
Восход солнца стал для нас освобождением. До самого рассвета нарастающая ясность неба была невидима по линии земли. Коконы втягивали в себя малейшие проблески света по всей поверхности травы, в воздухе. Но когда поднялось солнце, произошел незабываемый феномен. При первом же ярком луче мириады коконов засверкали, как слитки жидкого золота. Несколько секунд ночь по-прежнему оставалась нетронутой. А затем коконы раздались в размерах и взорвались в черном небе золотыми солнцами. Изумительное цветение света на краткий миг. Затем солнце выкатило весь свой диск на горизонт и коконы стали отходить к верховью, где поднималась вверх звезда. Их размеры и хрупкая ночная сила наконец стали казаться не столь страшными. Они снова обрели свою материнскую среду. Они мчались к ней молнией. По телу пробежала дрожь и вдруг все стало ясно: они мигрировали. Они отступали, притягиваемые солнцем. Наимощнейшим из всех хронов.
— Я снова вас вижу! Ура!
— Мы снова друг друга слышим!
Барнак! Наконец-то!
— Твою ж орду! Я думал сдохну! Я вообще ничего не понимал, что там мой старший хочет, слепо-глухо-немо!
— Да, у нас тоже так же было…
— Что это было, Ороси? Ты что-то поняла?
Ороси нас почти на слушала. Она смотрела на Кориолис. Та выглядела совершенно изнуренной этим испытанием, ее голубой взгляд был пуст, у нее текла слюна.
56
— Кориолис, все в порядке?
— Я слышу голос.
— Чей голос? — спросила Ороси. — Голос Ларко?
— Мой голос!
Мой голос! — закричала она.
— Что этот голос тебе говорит?
x 
Я не сразу все поняла. Ни из того, что она говорила, ни почему она это говорила. Вихрь Ларко вырвался наружу и витал перед ней, узел разросся, укрепился, и вертелся рядом. Вихрь же Кориолис едва чувствовался. Передача жизненных сил? Она с трудом поднялась. Вихрь Ларко летел перед ней, а может, даже вел ее к верховью. Мы не стали ее останавливать, а пошли следом. Она сказала, что ей нужно проветриться, и все мы нуждались в свежем воздухе после этой тяжелой ночи, проведенной в черной глухоте. Она шла смело, почти небрежно, пряди волос вольно трепались на ветру, и она не старалась откинуть их с лица. Она шла прямо к солнцу, и мы шли рядом с ней, не то эскорт, не то заслон. Ни одно из моих видений в последние месяцы не предвещало ничего подобного. И все же это было так, самым простым и легким образом, за какие-то сто шагов, мы дошли до Верхнего Предела.
Как бы мне хотелось сберечь в памяти лица Горста и Карста, их оторопелое простодушие, ворчливую физиономию Голгота в этот самый момент, как ястребник разжал ладонь, чтобы выпустить на волю свою птицу, как Пьетро весь помрачнел на последних метрах; мне бы так хотелось услышать, что Ларко нашептывал Кориолис. Но из этого всего я буду помнить только лицо Сова, его силуэт, склонившийся над морем с катящимися волнами облаков, складочки его прищуренных глаз, глядящих на зависшее в воздухе перед нами солнце. Из всех семерых, после моих вчерашних откровений он был единственным, кто мог тут
55
же и в полной мере осознать важность того, что появилось перед нами. Его первой реакцией было упасть на колени на краю оборвавшейся вдруг земли. Он протянул руку над открывавшейся перед ним пропастью, словно в поисках невидимого стеклянного пола или воздушного моста, по которому можно было бы пройти на метр дальше к Верховью, но перед нами был один лишь обрыв, а за ним бездна. Он набрал в ладони земли и долго вдыхал ее запах. Вид у него был непроницаемый. Он словно завис в пустоте.
— Это и есть тот самый легендарный Верхний Предел?
— В каком-то смысле да…
— А как же блок из Аэробашни? Эта фраза, помнишь? Там же говорилось…
— Да, и в блоке говорилась правда. Нет ведь никакого Верхнего Предела, Сов.
Он бросился в мои объятия. Ничего другого я ему сказать не могла.
) 
Я открыл глаза и посмотрел поверх плеча Ороси за обрывавшееся внезапно, будто топором обрубленное плато и не смог принять то, что видел. В глубине моего естества я продолжал идти вперед, изгибался под утренней струей восходящего тумана, шел контровать против ветра, пусть там бушует шун, пусть шершавый град стегает по щекам, я шел и вглядывался в поисках очередного холма, и телу моему стало так тесно, оно уже рвалось вперед, далеко за этот рельеф из белых катышков, вдаль по зыбкой снежной земле облаков без почвы под ногами, по которой никогда не скрипнет шаг, в которую никогда не войдут шипы наших подошв, кремообразный океан — мечта для фантазера из низовья, вот значит каков был наш конец пути?
Первые минуты у меня просто лились слезы, но я оказался не в силах ответить даже самому себе, были то слезы
54
безмерной гордости за пройденный нами путь, за выполненный долг, или же дерзкой, чудовищной, ребяческой гордости за то, что мы стали первыми, гордости, что поднималась из самого нутра и охватывала все тело, или же то были слезы моего сознания, повторной зрелости, пришедшей ко мне совсем недавно, но укоренившейся столь прочно, что теперь перед лицом очевидной ничтожности цели нашего пути, она крушила одну за другой героические статуи, возведенные во мне, оставляя впереди лишь белое море да металлическо-синее небо возможно все того же мира, в котором мы шли все эти годы, а возможно совершенно неизвестного нам доселе космоса. А в довершение всего над этой бездной венцом сверкало солнце, которому больше нечего было ни греть, ни освещать. Одну лишь тайну.
— Вот дерьмище! Со вчера ярмарка выкидонов, что ли, началась?
— На вход в цирк Гардабера похоже. Ты откос видел?
— Не видел, нет. Что тут в этих облаках вообще рассмотреть можно!
— Да не может быть, чтоб было очень глубоко. Норску же мы давно прошли.
— А сколько у нас веревок осталось?
— Две по пятьдесят метров, кажется.
— Да уж, с этим далеко не уйдешь…
— Ка, что делать будем?
— По страховке пойдем, Го! Спуск по страховке, смена, привал на откосе, и так пока до самого низа…
— У нас ни одного крюка не осталось, Карст, шиш!
— Думаю нам стоит идти вдоль скалы. Где-то наверняка должен быть проход, крутой склон какой-нибудь, может, обвал. Не надо горячиться. Ночь была сложная, нам нужно отдохнуть.
53
— Вот иди и отдыхай, Пьетро-нехитро. А у меня от таких стеночек штопор в одном месте!
Я вдруг подумал, что нужно сесть и подождать: что-то должно произойти, что-то обязательно произойдет, появится в небе, придет к нам, заговорит со мной. Я наблюдал за траекторий облаков, за тем, как ветер окаймлял обрыв и уходил дальше, катясь к низовью: я старался представить себе, что мы на носу корабля из чистой земли и мчимся сквозь открытый космос вперед, навстречу солнцу, и… Но что-то не клеилось в этой истории, у меня не было ощущения, что мы находимся в движении, форма скалы была слишком плоской для форштевня, я смотрел, как летает и возвращается к ястребнику на руку Шист, и не замечал, чтобы нас как-то сносило по отношению друг к другу, как то было с медузами, которых мы оставляли за бортом фреольского
Физалиса. Ороси молча разглядывала меня, прижимала к себе с любовью, и много плакала, но видимо совсем по другим причинам, о которых я не решался спрашивать, ибо слишком боялся узнать то, что известно ей. Рядом со мной бушевал Голгот, переговариваясь с напряженным Пьетро, братья-близнецы обнаружили красную лисицу и старались ее приручить кусками мяса. Кориолис? Не знаю, она молчала, как и ястребник, как будто они инстинктивно поняли невероятность момента, которого мы ждали всю нашу жизнь.
Верхний Предел, черт побери… Как и при всех событиях, к которым я готовился долгие годы: визит в Аэробашню, встреча с отцом, смерть Караколя — осознание происходящего отставало за событием. Удар опережал звук, вспышка смысла меня еще не ослепила. Цепляясь за память, разум отказывался поддаться жестокой правде фактов. Образ океана из ветра, пришедший из фантазий Кориолис, был первым, и он отстаивал свое место. Про-
52
зрачная водяная стена Аои, через которую наши дети бежали к нам сквозь время, плотина жидкого огня Каллирои, из которой появлялась пылающая плоть всего живого, горящие угли природы, сад Степпа, где маки были ростом с человека, даже оркестр Силамфра с его ветровыми арфами и струнами из молний — все это было сильнее этой банальной скалы с видом на… ничто. Их идеи оправдали бы наши контровые жизни, но не это: не эта равнина, не эта серая заводь, смывающая волна за волной наши мечты, не это пастбище для горсов. Пожалуйста…
Но разве на самом деле я все представлял себе иначе? Хуже всего как раз то, что нет. Хуже всего было то, что Верхний Предел, по сути, в своей жалкой пресности, оказался именно моим. Он был мне под стать, в тысячу лье вдали от любой Караколады, как и любого, даже самого крохотного чуда.
x 
Это был самый подходящий момент, а может и наоборот; в общем, выбора у меня не осталось:
— Ребята, вы можете все сюда подойти, присесть ненадолго? Мне что-то важное нужно вам сказать.
Никто на мою просьбу реагировать не спешил. Голгот с Пьетро продолжали ругаться. Сов поднялся их успокоить, ястребник пошел за близнецами, которые тянули арканом перепуганную лисицу. Кориолис подняла на меня голову, за эту ночь она постарела лет на пять.
— Что ты там еще придумала, аэромастериня? Сначала в Аберлаас бежишь ночевать, когда мы все в коричневой жиже по колено барахтались, а потом нам коллоквиумы устраиваешь? Нужно было в лагере сидеть, как все! — сказал Голгот.
— Я и была, если ты не заметил…
— Ага, через сто лет после потопа!
51
— Думай, как хочешь. У меня времени на эти разговоры нет (…) Садитесь. Я должна вам кое-что сказать, но сначала хотела предупредить, что некоторым тяжело будет в это поверить. И еще тяжелее принять. Тем более, что у меня нет ни одного доказательства моих слов. Веского доказательства, я имею в виду.
— Выкладывай уже!
— Так вот. Сегодня утром мы дошли до края нашей Земли. Мы с вами на Верхнем Пределе.
) 
Горст с Карстом подскочили и стали вопить в неожиданном и трогательном порыве радости, они стали обниматься, тычась головами друг другу в плечи, подхватили лисицу и стали целовать ее в красный мех, они поднимали кулаки вверх в знак победы и смотрели на нас, явно не понимая нашей сдержанности после такого объявления:
— Мы дошли! Мы это сделали! Мы первые! Эй, Голгот!!! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА!
…и на этих словах нас всех проняло, это был наш прощальный крик в Аберлаасе, нам было одиннадцать лет, это был крик приободрения, подарок детей, провожавших нас в путь, они шли вместе с нами по нескончаемым сотам местных пыльных окраин, старый забытый крик, убитый годами контра, нашей поношенной зрелостью и безнадежностью. Этот крик вырывался у них изнутри, шел от сердца. «34-я — ДО КОНЦА!». В нашем же круге никто не подхватил радости близнецов, и они не стали бросаться к нам с поцелуями, они были разочарованы,
и это понятно, но в них не было осуждения, они не стали нас ни о чем спрашивать, а просто пошли разгружать тележку, и только Пьетро сразу встал им помочь. Они втроем стащили с прицепа мешок с пожеланиями для Верхнего Предела.
50
Желания эти были собраны по всей линии Контра, вверены нам как подветренниками, так и Фреольцами. Они высыпали содержимое мешка на траву. Золотые таблички зарумянились в бледных рассветных лучах. Пьетро поднял одну и прочитал:
— Я бы хотел, чтобы моя фея меня любила, — гласила надпись. Он поднес табличку к губам, поцеловал и бросил в пустоту перед собой, в промежутке между двумя порывами. На какой-то миг он, казалось, надеялся, что произойдет хоть что-нибудь, появится какой-то свет, раздастся эхо, но табличка лишь закрутилась в воздухе и исчезла в пучке тумана. Но слегка растерянный стоявший рядом Горст уже держал в руках другую:
— Хочу, чтобы Верховники жили внизу, а мы наверху, в их башнях.
— А, ну это точно раклер писал!
— Тут работы надолго! Но нужно будет все перечитать. А, Карст?
— Ну не зря же мы их сюда тащили, Горст! Люди на нас рассчитывают, как никак! И желания все должны сбыться, так что будем читать!
Кориолис тоже поднялась поучаствовать в этом спонтанном ритуале, а за ней и ястребник, и вскоре их было уже пятеро, они стояли вдоль обрыва и отдавали честь тридцати годам обещаний, данным незнакомцам и их мечтам. Ороси смотрела на них с таким же удивлением, как и я, она улыбалась, глядя на красоту происходящей у нас на глазах сцены и наверняка думала, что им нужны были эти слова, эта трогательная литания желаний, чтобы позабыть о своих собственных и отсрочить тот миг, когда придется признаться самим себе в правде случившегося. Я же думал о совершенно конкретных людях, о Фитце Бергкампе, скрибе 33-й Орды, утонувшем в Лапсане, и о его сыне,
49
моем друга Антоне, которого столкнул в пропасть один из учителей Ордана за ошибку в записи турбулентности. Мне было десять, и я поклялся, что если когда-нибудь дойду до Верхнего Предела, то одно из моих трех желаний оставлю для него. Я не знал, о чем мог попросить, кроме как достичь однажды нужного уровня в аэромастерстве, чтобы отправиться туда, где он теперь находится, найти его вихрь и сквозь этот клубок ветра привести его сюда, чтобы он мог полюбоваться тем, чего заслуживал не меньше моего. Это получалось одно желание из трех.
x 
Голгот за все это время не пошевелился, не произнес ни слова. Ни колкости, ни издевки. Потом наконец встали направился прямиком к тележке, достал свернутую кольцами веревку, перекинул ее через правое плечо и пошел к растущему особняком дереву в нескольких шагах от обрыва. Нетрудно было догадаться, что у него на уме: он хотел на страховке поискать выступ, чтобы можно было спуститься по цепочке. Он мне, разумеется, не поверил. Его вихрь был тяжелый, сжатый, налитый гневом. В нем говорил не разум, в нем говорил инстинкт. И его инстинкт был прав: я врала. Я врала, потому что это был единственный способ подготовить их к девятой форме.
— Что ты там затеял, Гот? Иди лучше почитай с нами желания! — крикнул ему Горст.
π 
Он пошел один. Завязал веревку восьмеркой вокруг ствола. Надел обвязку. Закрепил спускное устройство. Подошел спиной к самому краю обрыва. И одним прыжком исчез из вида. Был бы это кто другой, я бы пошел проследить, все ли в порядке. Но это был Голгот. А он терпеть не мог, чтоб его опекали. «Спаси нас от контровых пиратов и ярветров», — прочитал я пятидесятую по счету записку
48
и взял паузу передохнуть. Сов с Ороси оставались вдвоем чуть в стороне ото всех. Они и правда друг другу подходили. Их история приобретала смысл. Установившееся между ними взаимопонимание бросалось в глаза, еще начиная с Крафлы. Я был рад за них. Я бы хотел, чтобы у нас с Кориолис тоже было нечто подобное. Но «что-то не срабатывает», как она говорит. «У тебя фантазии не хватает». С каждым месяцем становилось все более очевидно, что детей у меня не будет. Будет только гордость за то, что продержал свою линию до самого конца. Какого конца? Конца света? Я, в сущности, чувствовал себя так же, как Голгот. Мне нужна был уверенность. Хотя бы для того, чтобы вернуться назад к родителям с высоко поднятой головой. Не знаю, как Ороси пришла к этому выводу. Мне не хотелось радоваться раньше времени. Не хотелось догадок и предположений. Нужно будет все проверить, убедиться, что нет никакого прохода. Что за этой линией не существует больше ничего. На нас лежит ответственность восьмивекового контра. Здесь не место каким-либо «фантазиям». Вся линия Контра от Альтиччио до Аберлааса ждала нашего открытия. Так или нет?! Это вообще хоть кто-то еще понимал? В низовье о нашем достижении никому не было неизвестно. Ни один Преследователь не прошел бы за нами сквозь Норску. Ни один Фреолец ни за что не преодолеет горную гряду на эоликоптере, что бы там ни говорил Сов. Нам принадлежало совершенно уникальное знание впервые за всю историю. А значит перед нами была строжайшая задача:
— Я предлагаю следующее. Если это плато и есть край Земли, то значит, у нас есть миссия: вернуться в Бобан и сообщить об этом. А затем проинформировать Совет Ордана в Аберлаасе.
— Да забудь ты об этих гробокопателях из Ордана! — запротестовал ястребник. — Если мы действительно до-
47
шли до Верхнего Предела, то у меня план простой: вернуться к Альме, Аои и Силамфру! А 35-я Орда пусть сначала в Лапсане поплавает и у Вой-Врат поползает, да про Бракауэрский столб с Крафлой пусть не забудут! Ордам конец! Вы это вообще понимаете или нет? История Орд заканчивается здесь, с нами! И если я всю жизнь шел, чтоб в конце концов на этом пастбище оказаться, то оно того не стоило, знаете ли!
— Оно того стоило, как бы там ни было! — отрезала Ороси. — Не говори ерунды!
— Разумеется стоило! — взбунтовался я. — Наше достоинство, наша порядочность построены на контре, в бою! Это испытание имело смысл само по себе, вне зависимости от результата. Его целью был сам путь! Нам есть чем гордиться. Лично я ни о чем не жалею!
— Я тоже. Только вот… А как же Караколь, Арваль, Степп, Каллироя — все они? Никакое знание не стоило их смерти.
— Они не умерли, Сов! — рассердилась Ороси. — Они здесь, с нами! Их еще можно спасти. Неужели ты вообще ничего не понимаешь?
— Да оставь ты меня в покое, кабер! Я говорю об их плоти, улыбках, взгляде, а не о вихрях! Ты Арваля тут видишь? Или, может, Степпа? Он, по-твоему, травы собирает? Ты кроме как своими вихревыми узлами больше ничем думать не можешь!
— Мое предложение заключается в следующем, — продолжил я, пока не началось, — нужно исследовать линию обрыва на юг и на север так далеко, как только сможем. Лучше разделиться на две группы. Если мы найдем спуск, это будет значить, что Ороси ошиблась. К тому же, если толща облаков вдруг разойдется, то мы и так увидим есть там что-то или мы и правда стоим на носу корабля по имени Земля…
46
— Пьетро, эти облака никогда не разойдутся! Они формируются путем трения атмосферы о носовую часть. И нет здесь никакого прохода! Вы это понять можете или нет?
— Дай нам проверить, Ороси. Нам нужна уверенность, а Голгот сомневается. Посмотри, где он!
— Да. За ним бы кстати лучше присмотреть. Здесь много хронов…
— Остальные, вы как, согласны?
— Да, я тоже хочу быть уверен. И вообще я предпочитаю идти, чем тут на месте круги наматывать!
— А ты, Кориолис?
— Я как Стреб. Я хочу сама все увидеть, хоть я и знаю, что Ороси права.
— Близнецы, вы что скажете?
— Мы с вами! Но нам вообще и здесь неплохо, а, Карст?
— Да, тут дичи хоть отбавляй! Даже ветросули и те водятся!
— Сов?
— Я останусь здесь с Ороси. По нашим подсчетам мы находимся ровно на линии Беллини. Мы для вас будем ориентиром. Сколько времени вам нужно?
— Допустим две недели для первого захода: неделя туда, неделя обратно. Идти будем быстро. На латеральном ветру это будет легко. Если этого окажется недостаточно, значит сделаем второй заход, на два месяца, пока не получим точное доказательство нашего предположения или его опровержение. Мы не можем себе позволить вернуться в низовье, не будучи абсолютно уверенными.
— Само собой. Как минимум из уважения к аэрудитам, — согласился Сов.
— Если кто-нибудь из нас в живых вообще останется, чтоб было кому назад возвращаться… — запустила наша аэромастерица свой кривец.
45
Темно-синий хрон шел в четырех метрах от нас. Он спускался к нам от обрыва. Ороси молча следила за нашей реакцией. Затем собрала волосы и воткнула в пучок деревянную бабеольку. И снова взяла слово:
— Если вы планируете идти, то я сначала должна еще кое-что вам сообщить. Это крайне важно.
— Тебя послушать, так у тебя все крайне важно! Рассказывай давай…
— Вы все видели, что произошло этой ночью. Мы попали в стаю хронов. Эти хроны были остатками
хронокса, то есть «ночного хрона» на языке аэромастеров, или, как его часто называют, «черного хрона». Черный хрон поглощает любую материю, свет, ветер, звук в периметре своего воздействия. Он сжимает материю до размеров шарика, путем нарастающего гравитационного притяжения. Длится это как правило несколько часов. В земле после ночного хрона остаются огромные дыры — сферические кратеры, вы их скорее всего сами увидите, не перепутаете. Если вы окажетесь рядом с хроном в момент его формирования, он поглотит вас без остатка — тело и душу с вихрем включительно. Если будете рядом в момент его взрыва — вас изрешетит осколками материи, разорвет на лохмотья.
— Как его определить заранее?
— По течению ветра. Если русло вдруг сменит угол, бегите в противоположном направлении, точно так, как мы делали, когда попали в Лапсанский сифон.
— Ты точно не хочешь с нами пойти, Ороси?
— Черный хрон — всего-навсего один из сотней хронов, с которыми вы столкнетесь по пути, Кориолис. Большинство из них безопасны для человека. Но среди них наверняка окажутся и психроны. Девятая форма ветра пройдет через один из этих психронов. Для каждого через свой. И вам придется с ней столкнуться, вы не сможете
44
этого избежать. Вот, собственно говоря, именно это я и хотела вам сказать. Вы отправляетесь навстречу вашей судьбе.
— С чем мы на этот раз должны столкнуться? Это еще что за история?
— Я не знаю, с чем вы столкнетесь. Это будет известно только вам. Я даже сама про себя этого не знаю. Аэрудиты утверждают, что девятая форма — это обратная сторона нашего пути. Его потайная изнанка. Это то, от чего вы бежали и с чем всю жизнь боролись, чему всегда противостояли. Любители популяризировать тайны аэромастерства говорят, что девятая форма — это
живая смерть. Но это обычное обобщение. Девятая форма — это активная смерть в каждом из нас, в любой возрастной точке нашего существования. Я не имею в виду телесный распад или разрушающую энтропию, это скорее сильнейшая форма усталости. В течение всей вашей жизни эта усталость проявляется в тысячах разных обличий: временный упадок духа, например, потеря уверенности в себе, банальная потребность душевного комфорта или чувственной стабильности, повторяющийся позыв к отдыху… Она зачастую прикрывается маской лености в мыслях, нехваткой любознательности, может выразиться в отказе от неизвестного, страхе что-либо поменять, в выборе действовать по привычке, в желании быть уверенным заранее, не рисковать… Какие у нее еще обличья есть? Ну, скажем, бесчисленные упрощения, к которым прибегает человек, когда он не на высоте своих собственных способностей. Короче говоря, все то, что составляет привычную жизнь подветренников! С точки зрения аэрологии, я это называю
выдыханием. Подветренники, если не углубляться в критику прочих их недостатков, в первую очередь —
выдохшиеся. Запомните главное, что девятая форма способна к накоплению и экскарнации этой
43
полиморфной усталости, простыми словами, она может извлечь ее из вас и дать ей… тело. Это может быть какое-то событие или человек, крайне болезненное чувство, воспоминание… Опять же, это будет зависеть от каждого из вас. Точно только одно, здесь, на этом плато, девятая форма покажет вам лицо вашей смерти. Ваш блок тени.
— И… у нас есть шансы выжить?
— Это прежде всего вопрос присущей вам жизненной силы. Девятая форма наносит удар по вихрю, по самому узлу жизни. Вы выживете, если справитесь со всем тем, что она обнаружит в вас истощившегося.
— А если мы останемся здесь с тобой и с Совом? Ты же сможешь нам помочь…
— Нет, не смогу. Я даже самой себе помочь не смогу, Кориолис. Так что идите, раз вам необходимы доказательства. Отправляйтесь вдоль скалы. И…
— И что?
— Ничего… Удачи вам. Я… Я вас люблю.
Эффект от сказанного Ороси читался на наших искривленных страхом лицах. Голгот только что вернулся. Он был без веревки. «Хрон сожрал. Пришлось карабкаться наверх самому, думал, там и квакнусь», — пробурчал он недовольно. Я оповестил его о наших планах. Он качнул головой в знак согласия.
— Предлагаю разделиться на две группы. Мы с Кориолис и ястребником пойдем на север, а ты с близнецами на юг. Идет?
— А Сов с Ороси что? Тут шлендать будут?
— Они здесь останутся в качестве фиксированного ориентира.
— Камень у меня под задом тоже может тут остаться в качестве фиксированного ориентира!

42
) 
Мы не привыкли затягивать, а потому сразу отправились немного отдохнуть — после изнурительной ночи это всем нам было просто необходимо, а затем собрались за полчаса. Хоть я и чуть стыдился, что не шел рисковать жизнью, как остальные, а оставался здесь, под саркастические замечания Голгота, я все же был рад придерживаться стратегии Ороси. Я не горел желанием умереть, проверяя, есть ли где-то конец этой скалы или нет. Мне нужно было учиться и как можно быстрее. Две недели с Ороси посреди хроновых полей могли пойти мне только на пользу. Я пошел попрощаться с Кориолис, ощутить последний раз прикосновение к ее коже, осыпал ее советами под веселым и поощряющим задорным взглядом Ороси, которая дала нам время поговорить наедине и подошла только в конце.
— Не прыгай в пропасть! Что бы ни случилось, что бы ты там не увидела! Держись от обрыва подальше. Хорошо?
— Хорошо, аэромастер. Я буду держаться от пропасти подальше.
— Что говорил тебе твой голос сегодня утром? Ты помнишь?
— Ах, да-да… Он говорил мне, что придет Ларко. И что в этот раз
нужно будет его любить. Это звучало как угроза, ужасно. Я никогда не была влюблена в Ларко, не могла, он мне нравился, но как друг.
— Послушай меня, Кориолис…
— Слушаю, — слезы страха и волнения застилали ей глаза.
— Ларко действительно вернется. Он придет из тебя. Он появится либо с земли, либо из бездны, не важно. Как только он подойдет, ты должна достать свой бум и убить его. Ты меня поняла? Он будет перед тобой такой же живой, как я сейчас, такой же настоящий. Будет говорить с
41
тобой, как я говорю, глаза в глаза. Он захочет обнять тебя, поцеловать. Но ты должна его убить! Немедленно! Если не выйдет с первого удара, то убей его собственными руками, перережь ему глотку. Поняла меня?
— Ни жалости, ни угрызений. Убить его.
— Правильно.
Я отдал Пьетро свой охотничий бум. За него и за ястребника я не переживал, был уверен в их здравомыслии и ясности сознания. В другой группе Голгот меня проигнорировал, и я пошел помочь близнецам загрузить дичи с собой в дорогу, когда ко мне подошла Ороси и прошептала:
— Попрощайся с ними по-настоящему, они не вернутся.
— Ты хочешь сказать, что они… умрут?
— Нет. Просто они не вернутся.
— Почему?
— Потому что они забудут про свою миссию.
— Они переживут девятую форму?
— Сов, они
уже встретили свою девятую форму, Святые Ветра! Ничего более страшного с ними произойти не может! Горст пережил разлуку с братом!
) 
Ороси с близнецами удалились поговорить на четверть часа. Она расцеловала их в щеки, в лоб, держала за руки, шутила с ними. Эти двое, с их круглыми крошечными носами и торчащими во все стороны рыжими космами, казались из всех нас самыми беззаботными и по-здоровому счастливыми. Мысль о том, что мы дошли до Верхнего Предела их ослепляла, она светилась у них на лицах, отливая гордостью, наполненностью и желанием разделить радость хоть с кем-нибудь. Я смотрел, как они уходят и завидовал их нетронутой ребяческой свежести пред лицом испытания, вся серьезность момента словно
40
соскальзывала с их колоссальных плеч. Они «забудут» про свою миссию?!
π 
Первые четыре дня были ужасно монотонными… Плато простиралось на север, вдаль за горизонт. В день нам попадалось три-четыре холмика для поддержания ритма. Ничего больше. Линия обрыва слегка петляла, и всякий раз мы подходили к самому краю уходящей острием вперед кромки. С выступа мы внимательно осматривали стенки обрыва, стараясь не подходить слишком близко к краю. Тальвег бы справился с такой задачей без труда. Мы пришли к выводу, что это, должно быть, очень твердая порода гранита. Местами совершенно гладкого. Практически без трещин и расколов. Ни одной зацепки на все двести метров, которые удавалось охватить взглядом, пока не упрешься в толщу облаков. Ни единого уступа, где можно было бы закрепиться. Мы втроем шли очень быстро. Иногда даже бежали. По ночам сверкали люмены, Ороси нас заверила, что они вовсе не опасны. Иногда слышались звуки вспышек. Днем нас слегка подталкивал шун. Утром и вечером опускался туман. Я насчитал по пути шесть полусферических дыр типа хронокса.
Мы соблюдали бдительность и следили за хронами. У Кориолис начались какие-то странные фобии. Она то говорила, что помолодела, то преодолевала «пятна страха». Стреб отпускал Шиста так часто, как только мог. В плане психического состояния он тоже был не лучше. Ему часто вспоминался сокольник. Он мысленно возвращался к Бракауэрскому столбу, к полету своего ястреба над ледяным мостом. Заново переживал эту сцену. Признавался, что никак не может от нее отделаться. Ему так же часто вспоминалось, как Дарбон бросил перед нами
39
собственноручно задушенных соколов. И ему казалось, что он несет ответственность за смерть Дарбона.
Пятый день начинался хорошо. Шист поймал двух зайчат, и мы зажарили их на завтрак. Туман рассеялся раньше обычного. Спустя час пути Стреб обнаружил в одном из кратеров хронокса дыру в подземный ход. Тот уходил в направлении скалы на восток, углубляясь в плато под весьма интересным углом и можно было предположить, что выход окажется прямо на склоне скалы. Мы очень обрадовались. Проход выглядел вполне надежным. Он был достаточно высоким и уходил вниз примерно под 30° градусов, словно проложенная в скале труба. Меня беспокоило только одно:
— Мне кажется или тут воздушная тяга?
— Да, слегка. Судя по звуку, чуток засасывает.
— Ветер, наверное, втягивает в галерею. Это подтверждает, что с другой стороны идет забор воздуха.
— Да, только в таком случае ветер должен идти на нас, учитывая направление, а не втягиваться…
— Может там внутри повороты, или грот. Нужно спуститься посмотреть.
И мы, не задерживаясь, спустились. Первым пошел Стреб с факелом в руках. За ним Кориолис. Я замыкал ряд. Метров через двести мы дошли до вертикального колодца, глубиной в тридцать метров, связывающего проход с гротом внизу, освещенным с востока дневным светом.
— Отлично! Значит, он все-таки выходит на склон скалы!
Тридцать метров. Это было ровно на пять метров больше, чем позволяла наша веревка. Значит последние пять метров нужно будет спускаться по стенке. Но ястребник у нас был ловкий на это дело и колебаться не стал. Птица, сидевшая у него на плече, издала несколько напутанных «йек!», когда он начал спускаться. Мы с Кориолис
38
держали веревку. Внизу проем расширялся конусом. В стволе колодца время от времени завывали ветровые шквалы. И все слышался этот звук всасывающегося воздуха, но никак не было понятно, откуда он идет.
— Все в порядке, Стреб? Что-то видно?
— Тут пол весь в дырах. Как будто решетку в скале проделали.
— Может быть хронокс сначала здесь взорвался, а потом наверх поднялся…
— Не знаю… Не знаю…
Нужно было его сразу оттуда вытащить. Я по тембру голоса почувствовал. Ровно в это мгновение он вдруг ушел в испуг. Я на слух понял.
— Что-то не так? Что-то случилось? Стреб! — тут же отреагировала и Кориолис. Ястреб взлетел. Я нагнулся ниже над колодцем. Стреб был почти в самом низу. Конец веревки свободно болтался у него над головой. Он упирался в стенки колодца руками и ногами. Ветер вдруг заревел, охватив полость, и от внезапной втягивающей волны я чуть было не загремел вниз.
— Эй, Стреб!
Освещение в гроте вдруг стало очень яркое и я смог рассмотреть решетку, о которой он мне говорил. Сквозь отверстия видно было какое-то свечение, что-то яркое, непонятно, что именно. На решетке, словно приклеенный, виднелся четкий контур ястреба с распростертыми крыльями. Он издавал короткие звуки. Он бился не в силах оторваться от присасывающего его к решетке потока. Я перекинул веревку через сталактит и спустился на десять метров. Рев ветра принимал пугающие масштабы. Мощный поток засасывал меня вниз. Перепуганный видом свой птицы ястребник все же держался и трель за трелью звал Шиста к себе. Но тот лишь вздрагивал в ответ.
37
— Поднимайся! Оставь его!
— Я не могу его бросить! Он же умрет!
— Поднимайся! Тебя засосет вниз! Поднимайся ко мне! Хватай меня за ногу! Давай!
— Он умрет!
— Ты сам сейчас умрешь! Поднимайся!!!
Соскользнул он или намеренно упал? С двух метров он рухнул на решетку. Прямо слева от Шиста.
— Дарбон! — подскочил он с ледяным криком. — Дарбон!! Оставь его!
С минуту он простоял на коленях, пытаясь оторвать птицу от решетки, но взявшийся из ниоткуда вертикальный ветер, всасывал воздух с такой силой, что Стреб сам еле держался под этим потоком. Его неоднократно присасывало к решетке, но каждый раз он поднимался с видимым нарастающим усилием. Затем сила притяжения стала невыносимой. Веревка врезалась мне в спину от напряжения. Я боялся, что она вот-вот порвется. Там, внизу, ястребник снова упал ничком на решетку. Прямо на свою птицу. Больше он не поднимался. Я продолжал звать его сквозь завывающий ветер.
^ 
Лети, лети, Шист, полетай еще для меня, моя птица… Лети сквозь усталость, прорвись через прутья моих ребер, разверни в граните скал свои крылья и умчись стремглав через толщу неба, а потом возвращайся ко мне рассказать, что увидишь по ту сторону синевы, на той стороне старого ветра, в который я превратился…

Хлопай крыльями еще и еще, бей, маши для меня ˙˙˙ Я не стану тебя душить, я лишь прилег на тебя, чтоб свить из
36
своих рук гнездо, защитить тебя от балобанов — тех, что разучились летать и лишь могут подняться в небо, чтобы камнем-сорваться-вниз взмывают вверх чинами и рангами, чтобы рухнуть с высот хищники иерархии сверх уверовавшие
v v v Ты всегда будешь мчаться вдоль земли, мой верный проворный парусник, ‘ мой новобранец низкого полета, всегда будешь мчать параллельно нашим шагам — потому что ты сумел сохранить пламя горизонтального полета — потому что ты лучше знаешь ветер, ‘ Шист, ˆ лучше других знаешь, что ветер это стена продырявленная шквалами ` ` твоя единственная добыча разумом, твоя находка к нам ˆ ` проход, через который лежит мой путь `, где я создаю и воспитываю твою расу ˙˙˙
Лети лети, ’ ˆ мой ястреб, ’ лети сквозь мои руки ˆ сквозь мою веру —, ’ соколы короли, ’ но принцы летают в ногу сквозь поросль и беспорядок нашего поиска себя ˙ ˙ ˙
π 
Не знаю, сколько времени я так провисел на веревке посреди колодца. Я смотрел на ястребника. Вскоре тот перестал двигаться. Но продолжал дышать, в этом я был уверен. Долго. Когда поток ветра остановился, я развернул веревку в одну длину и спустился. Кориолис умоляла меня этого не делать. Но что с того. Я взял Стреба за правое плечо и повернул его. Всю одежду с него сорвало ветром. Он лежал совершенно обнаженный. И по-прежнему держал в руках свою птицу, прижимая ее к грудной клетке. Хотите верьте, хотите нет, но птица была жива. Ястреб расправил крылья и взглянул на меня своим оранжевым глазом. Я оторопел. Он отряхнулся и взмыл, шелестя крыльями, прямо к выходу в скале. Вот.

35
Ω 
Вопрос нескольких дней, я этим двоим толстощеким так и сказал. «Держите кураж по курсу, надыбаем мы скоро этот спуск, и снова рванем к верховью! У Ороси тормоза поехали с тех пор, как Сов ее дыроколить взялся, нечего ее слушать, рты позакрывали и марш на юг», — так им и сказал. Ну они что, посмеялись, как обычно, двух таких удальцов, конечно, еще поискать надо! Бужу их, значит, сегодня утром, — ну да, я на карауле был, и что с того? Смотрю с низовья несется стадо ветровых жеребцов! Я таких только в загоне видел, да и то сто лет назад! Это вам не лошаденки, что у подветренников орало тягают. Во-первых, ветровые жеребцы стройнее, и грива у них на ветру развевается, они друг другу все соринки из нее выщипывают. А главное морды у них более вытянутые, тонкие, как лезвие, это им придает вид поблагороднее, да еще и с их мастью блестяще-серебристой, красота! Ну я братишек растолкал тогда, знаю, что они к этим скакунам не ровно дышат, так они раз-два и вперед, так босиком и погнали все стадо галопом. Потом прыти приспустили чуток, тихонько подойти хотели, но жеребцы в отказ, слегка подступить дали и снова деру, ищи за горизонтом! Я к полудню уже хороший отрезок успел пройти, и тут слышу у меня за спиной целая кавалькада, два моих резвуна несутся каждый на своем коне, да еще и мне третьего в придачу тянут. Я его быстренько приручил и погнали, ровнехонько на юг, скачи моя лошадка, в три раза быстрее, чем пешком, вот это я понимаю!
Ладно. Хорошего понемногу. Стали мы на привал, а они мне: «Мы за другими сгоняем, еще парочку жеребцов приведем, а ты поспи пока, ты всю ночь на карауле простоял! А мы тебе еще и дичи заодно раздобудем». Только они так и не вернулись. Без шуток. Я целый день прождал. Думал, может заблудились. Ночью тоже никого. Я и утро
34
все прождал. У меня внутри такая размазня началась, хоть воем вой через намордник, едкий туман по крови пошел. Оставил им сигнальный флажок, что я обратно в лагерь пошел, мы уже девять дней как в пути были. Не знаю я куда они подевались. Хрон их что ли проглотил. Непруха, мало сказать.
— Давай вот этого, Горст! Видел, грива какая?
— Как пламя костра!
— В жизни такого стада не видал!
— А там вон еще горсов куча!
— Где?
— Да вон, на берегу реки! И олень ветророгий!
— Может тут и заночуем?
— А и с радостью. Я бы и вообще на пару дней остался! А ты что скажешь?
— Скажу, что я только за. Да и вообще у нас времени с головой. Какие у нас еще дела, а?
— Не знаю, Карст, я думал мы что-то сделать вроде были должны, но вспомнить не могу.
— И я по ночам все забываю, я вот светлячков собираю и все мои заботы куда-то сразу оп!
— И я их тоже собираю, мы сегодня ночью вместе целую кучу насобирали, помнишь?
— Да ты, наверно, лучше помнишь. Но я себя так хорошо чувствую, как никогда прямо, а ты?
— И я как ты… только лучше!
— Ты когда хочешь, так аж смешнее трубадура!
— Правда, еще и трубадур был, такой парень умора… Помнишь?
— Может быть! Иди смотри, тут голубики сколько!
) 
Четырнадцать дней истекло, а ни одна из групп так на горизонте и не появилась. За это время живот у Оро-
33
си округлился в ускоренном темпе — феномен, который она отчасти объясняла присутствием хронов, а отчасти тем, что с каждым днем все больше принимала сам факт родов, мысль о которых всячески от себя отгоняла до этого. Она обучала меня самым сокровенным тайнам мастерства и это заметно облегчало ее ношу, Ороси понимала, что сможет передать свою миссию дальше, или во всяком случае встретиться с ожидавшим ее испытанием, не опасаясь того, что оно поглотит духовные завоевания целой жизни, и что она так и не успеет их передать. Хотя двух недель, разумеется, было недостаточно, чтобы покрыть огромный отрыв в моих познаниях, ритм и компактность, с которой учила меня Ороси, уже стала проявляться видимой концептуальной конструкцией, состоящей из того, что я усваивал быстрее и проще всего.
Она решила не углубляться в сферу механики потоков и сосредоточиться на функционировании хронов, свойствах вихря и на том, что называла
Тканью. Под словом «ткань» она подразумевала аэропластичную сетку, из нее были сотканы все живые существа, она вплетала их в материю ветра, это была ткань, которую все живые существа вышивают, рвут, прошивают стежками и неустанно ткут дальше. К каждому переданному мне знанию Ороси давала либо урок по распознаванию вихрей, хотя бы несколько упражнений, либо по определению разрывов в сети, по аэрологическим изгибам, по предугадыванию метаморфоз… Упражнения были крайне увлекательны, хоть мне и не хватало тонкости восприятия, и еще как! кроме разве что слуховой сферы, а главное, мне не хватало способности активизировать органы чувств: я не был силен в вопросах термических потоков, не многим лучше разбирался в шлейфах волн, моя мышечная проприоцепция по-прежнему оставалась слишком грубой, чтобы начать
32
чувствовать вибрационное поле с расстояния двадцати метров… В общем, мне «было к чему стремиться», согласно эвфемизму, подобранному Ороси, но я чувствовал в себе новое стремление и потенциал.
В моих глазах профана способности Ороси (которые она вынуждена была тщательно от нас скрывать все эти тридцать лет!) достигали порой чистой магии. Правда заключалась в том, что она не жила в том же мире, что мы с Голготом и Пьетро: мы путались и спотыкались в складках ветра, в то время как она жила в самой материи — она принимала в ней участие душой и телом. В упражнении под названием «
чтение структуры» (существовал целый словарь зашифрованных терминов, нелегкий в изучении) она становилась посреди поля с завязанными глазами и должна была описать все видимое и невидимое, что происходило вокруг нее. Перебежки лисиц и зайцев, круги, описываемые в небе хищными птицами, испаряющуюся из лужи воду, хруст сломавшейся ветки, проходящий вдали хрон, ритм порывов ветра у скалы и форму закручивающихся вихрей, надвигающиеся угрозы и красоту протекающего момента, падающий лист или ложащийся в траву бумеранг, мои внутренние чувства, она описывала абсолютно все — «главное из того, что нужно почувствовать», — поправляла она меня, только вот ее «главное» покрывало весь спектр событий, от мельчайших до грандиозных, во всех трех царствах окружающего мира, и я терял дар речи от восхищения.
Ω 
Я навскидку пять сотен километров на север на своем вороном проделал, перед тем как слезть на свои ходули и галопом к Сову с Ороси, проверить не наплодили ли они там малышни за это время. Жеребец мне попался крепкий, не из пугливых, я его к дереву привязывал, когда у
31
меня задняя точка, как в печи, пылать начинала, или если хотел пару-тройку опорных проконтровать, когда зашквал поднимался. Чисто для формы, чтоб затрав не расплескать. В общем, я на своем коне весь север прочесал, и еще наугад обрыв пообследовал. Скала вам, конечно, не шуточки. Вертикаль скользющая, и это еще хорошо, когда не отвесная! А по ней ветер волнами бац-бац. Не облака, а пена изо рта, да завихрений по хребту завались, но это еще ладно,
дак, вдоль стенки еще хуже было, там вообще одни сплошные вихри штопором шли. Я по страховке раз спуститься попробовал, так думал там и весь мой мешок с костями в придачу останется, а не только веревка, хронов там как грязи, хотя что удивительного вообще?! В общем, если коротко, то гусеницей мы вниз не поползем, забыли-проехали…
За два дня до того, как до лагеря снова дойти, я одним глазом вдруг на уступ наткнулся, который мы с близнецами из-за тумана не усекли в прошлый раз. Скала уходила вперед узким выступом, больше двоих за раз не пройдут, метров триста в длину, а на конце небольшое плато, островок из травы такой себе. Если уж мы и были на Верхнем Пределе, что, по правде сказать, в моем котелке уже вариться начинало, то островок этот был самой дальней точкой земли на верховье, крайний пик кормы. Я, естественно, пошел, не смотреть же теперь на него, да и зашквала в лицо давно не было. Постоял на краю, поглядел на горизонт. Хорошо… Только вижу вдруг в двадцати метрах ниже другой такой же выступ уходит, чуть подальше, форштевень короче… И на самом конце… На самом конце….
— Как это вышло, Пьетро?
— Это было почти на рассвете, Кориолис была на карауле. Я спал. Не знаю, что меня разбудило, крики Шиста
30
или приказы, которые она ему отдавала. Я выпрямился, сидя. Дело шло к утру, но еще было плохо видно. Кориолис стояла против света, у края скалы. Смотрела на что-то, перед ней что-то шевелилось, прямо у нее над головой, и Шист встревоженно вскрикивал. Я вылез из спальника и подошел к ним. Это была ивовая клетка, я ее по форме сразу узнал. Она держалась на тросе, конец которого болтался на уровне линии хребта. Я сразу закричал, что это галлюцинация, и что нельзя ее трогать! Но клетка была как настоящая, я был готов поклясться!
— Мы тебе на слово верим…
— На конце троса был привязан деревянный цилиндр, выкрашенный в белый цвет. Его-то Кориолис и просила Шиста принести. Птица, видимо, поняла и спикировала прямо к свертку. Схватить его было непросто, клетку сильно раскачивало на ветру, но ястреб ухватил его с первого раза и принес Кориолис. Она что-то вытащила из цилиндра и прочитала. Я с ней почти поравнялся к этому моменту. Она застыла на месте от прочитанного. Сказала мне отойти. Я не хотел. Не нужно было ее слушаться… Она вдруг взяла разбег и прыгнула в пропасть, прямо на клетку! В моем видении она ухватилась за прутья и обвила веревку вокруг ног… Но под ее весом клетка потеряла высоту и…
— Исчезла? Все исчезло?
— Да…
— Как это все нелепо… Какая глупая смерть…
— Не знаю, что она увидела на этом свертке. Его унесло ветром, а может свертка и вовсе никогда не было… Но клетка точно была от Ларко. Стребу тоже Дарбон привиделся.
— Стребу удалось переместить свой вихрь в Шиста. Это очень странно, что Кориолис…
— Да, продолжай…
29
— Я думаю, Шист способен принимать вихри. И если бы Кориолис умерла, он бы бросился подхватить ее клубок или вихрь Ларко, который она в себе сохранила…
— Доскажи свою мысль до конца… Ты думаешь она жива?
— Я думаю, иногда девятая форма приходит к нам в реальности. Посмотри на Горста, он прожил смерть брата в настоящем времени. Или Ларко, его унесло в маревые облака, о которых он всю жизнь бредил. Кориолис, насколько я ее знала, всегда стремилась к неизвестному. Она оставила свой поселок, чтобы уйти с нами, все бросила, не зная, куда ее это приведет. Все ради ощущений от чувства неизвестности. И в Караколе ее привлекало это же, его загадочность, он каждое утро становился для нее новым незнакомцем. Поэтому она и прыгнула вперед, чтоб ухватиться за клетку. Она последовала своей собственной логике…
— Психрон принес ей последнюю нить к неизвестному…
— Возможно, что и не было никакого психрона на самом деле.
— Ты хочешь сказать, клетка была настоящая?!
— Я ничего не хочу сказать. Я лишь ищу ответ.
x 
Голгот, весь словно обмякший, сидел, поджав под себя ноги. Он вернулся на три дня раньше Пьетро, на ветряном жеребце, который еле тащил ноги. Как только мы его заметили, то сразу бросились навстречу. На нем лица не было, он не просто был не в форме, он был на грани того, чтобы наложить на себя руки. Мы его раздели, искупали, он был не в состоянии ответить ни на один наш вопрос; щеки у него обросли щетиной, вокруг глаз пролегли трещины, заскорузлые сопли перепачкали пол-лица. Он
28
был в состоянии полнейшего шока. Мы только через пару часов заметили, потому как и сами сильно растерялись, но Голгот не разжимал правый кулак, его свело как в конвульсии, до судороги. Это была единственная часть тела, которой он еще владел. Его двойной вихрь дышал внутри. Я попросила Сова попробовать разжать ему кулак, но это оказалось невозможным. При первой же попытке Голгот показал клыки — это была его первая и единственная реакция… Сов вовремя отдернул руку, пока Голгот в нее не впился.
— Мы даже не знаем, живы ли близнецы, — сменил тему Пьетро, увидев, что я переключила внимание на Голгота.
— Они живы. Я в этом уверена. И в любом случае он в таком состоянии не из-за того, что они пропали. Они бы могли биться в агонии у его ног, он бы все равно выдержал. Он достаточно прошел, чтобы и это вытерпеть. Ты же справился со смертью ястребника…
— Я справился? Ни с чем я не справился, Ороси… Я еще одной смерти не переживу. Это я тебе точно говорю. Я не смогу больше смотреть, как на моих глазах умирает человек, и ничего при этом не сделать. Я выбрал спасти свою собственную шкуру. Когда я увидел, что Стреба живьем высасывает ветер, я подумал, что это моя девятая началась. Я только поэтому выдержал, благодаря тебе. Я решил, что вот и мое испытание, смотреть, как умирает другой. Но я сам себя больше не выношу после этого…
— Не забывай, что говорила моя мама. Она в свое время вынуждена была смотреть, как Алка Сербеля, ее возлюбленного, часами разрывало на мелкие кусочки на Крафле. Годы спустя, вспоминая об этом, она говорит, что быть героем значит…
27
— Что быть героем значит принять стыд за то, что выжил. Я этого не забыл. Но видимо никакой я не герой, а просто…
— Ты был и остаешься нашим князем, Пьетро. Без тебя наша Орда никогда не стала бы такой, какой была.
— Когда я представлял себе Верхний Предел, то мечтал о том, что обрету свое истинное лицо, увижу таким, каким его выточил ветер и весь мой жизненный путь. Всмотрюсь в его черты, выражение, в настоящие складки и морщины, в красоту души, отраженную в нем, если таковая во мне еще имеется. Но теперь мне страшно… Я потерял свое обличье…
π 
Ороси ничего не ответила. Меня разрывало изнутри. Видеть Голгота таким… Он никогда не сдавался. Никогда, ни разу! Ни на Лапсанском сифоне, ни перед Дубильщиком, ни на Бракауэрском столбе, ни когда пришлось закинуть Ларко на ледяной мост. Ни после своего жуткого падения с Антоновского пика. Он всегда поднимался, цеплялся, шел! А на Крафле? Как он всех нас одним рывком на полуотвесный склон потянул. Это какую смелость надо иметь! Для меня, для всех нас, Голгот… Ничто не могло его остановить. Абсолютно ничто. Кто угодно на этом свете мог рухнуть, только не он. Небеса могли скорее обрушиться и разбиться вдребезги, как кусок стекла. Но только не Голгот. Смотреть, как он валяется у нас под ногами, с опустошенным взглядом, воняющий мочой, было все равно что видеть, как погибает наша Орда. Она медленно удалялась вместе с ним и с памятью о том, кем мы когда-то были.
— Он очень похудел…
— Он уже пять дней ничего не ел. Он пищу не глотает. Сов ему насильно каждый раз в рот еду запихивает. Дичь измельченную, почти пюре считай. Он даже не выплевы-
26
вает. Оно само все изо рта вытекает. У него глотательный рефлекс вообще не срабатывает. Ужасно на это смотреть.
— Он не разговаривает? Не кричит?
— Нет, просто плачет иногда.
—
Плачет?
) 
34-я Орда Встречного Ветра заканчивалась вместе с нами, в слезах и испражнениях. Быть может там, в низовье, у водопадов лагеря Бобан, еще смеялись и думали о нас Альма Капис, Аои Нан и Силамфр: может, близнецы Дубка скакали на ветровых жеребцах по бескрайним степям, на сотни километров забытья на север, а Кориолис тихонько скользила вдоль небесной глади навстречу космосу на своем канате провидения, а в клетке ее груди вместе с ней был Ларко, и может в Шисте оставалось что-то от безграничной щедрости ястребника, от его дрессировки, заключавшейся не только в приказах и наказаниях. Все может быть. Ороси говорила нам о девятой форме, но я до сих пор так и не встретил свою. Она говорила о невыносимом личном испытании, через которое каждому из нас предстоит пройти, но то с чем я уже здесь столкнулся было даже хуже: на моих глазах рушилась вся арматура неистребимой веры, мужества и любви, что звалась Ордой и во главе которой шел Трассер, или
Трактор, как говорил о нем Тальвег, он был блоком из живого свинца, Голгот девятый, лучший во всем своем оглушительном роде, как и за всю историю Орд. Мне казалось, он так и унесет свой секрет в зажатом кулаке по окончании своего протеста о конце пути.
— Ты планируешь продолжать делать ему массаж?
— Я стараюсь поддерживать его связь с внешним миром.
— У меня получилось залить ему в горло немного воды, он хотя бы обезвоживаться не будет.
25
— Его вихрь начинает шевелиться, — сказала Ороси, поглаживая Голгота по руке. — Я его потихоньку притягиваю к плечу, может он разожмет кулак…
π 
Два дня мы занимались исключительно им. И наконец что-то стало происходить…
— Есть, он начинает передвигаться, пальцы понемногу расходятся…
Ни у кого из нас троих не хватило смелости разжать кулак. Рука его лежала на ноге, чуть повыше колена, ладонью кверху. Мы дождались, пока все пять пальцев сами разомкнулись.
Внутри ладони и правда что-то было. Скомканный комок. Кусок синей ткани. Вылинявшая под дождем и под солнцем лента. Сов бережно ее развернул. Сначала нам показалось, что на ней ничего нет. Но перевернув лоскут и вглядевшись повнимательнее, мы рассмотрели два знака, оставленные черными чернилами: «Ω 6».
— Где он это нашел?
— Где-то на обратном пути.
— Если бы шестой Голгот побывал здесь раньше нас он бы оставил флаг, сделал курган!
— Это не обязательно был шестой Голгот. Это мог быть кто угодно из 31-й Орды. Кто-то, кому удалось выжить… Я, например, тоже за собой знак «Ω 9» оставляю…
— Значит мы не первые, кто дошел до Верхнего Предела.
— Нет, не первые. У нас в руках доказательство, что не первые.
x 
На этих словах, одним несогласованным рефлексом, мы все трое обернулись к Голготу. Глаза его загорелись. Он распрямил позвоночник в вертикальную ось и тяжело втягивал носом воздух. Вдруг оба вихря наложились друг
24
на друга и из его солнечного сплетения вырвалось вибрирующее солнце. Энергетический толчок ударил меня со всей силой, я отскочила, казалось, Голгот вот-вот взорвется от гнева и ярости. Он поднялся, мы уже успели отбежать на пять метров, но его рев проникал в нас со всей яростью выталкиваемого изнутри нефеша:
— ДАЙТЕ МНЕ ЗЕМЛИ… ДАЙТЕ МНЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ КОНТРА!
То, что я не поверила в происходящее, никакого значения не имеет. Так как это было на самом деле. Вихрь Голгота и его брата соединились. В воздушной сети, в ниспадающих лучах солнца, с траектории сошли с полдюжины хронов. Ветровая ткань разорвалась на добрую сотню метров под напором мощнейшего потока. Все это не спровоцировал никакой психрон, за это я ручаюсь как аэромастер, не было никакого другого спускового крючка, кроме эндогенного остервенения самого Голгота. Он сам вошел в девятую форму, он вызвал ее из своих же нервов, костей и мускулов, породил своим костным мозгом, магмой собственной крови, он вырвал ее с мясом из самого себя, чтобы поставить напротив, столкнуться с ней впритык. Лоб в лоб. И он пошел к обрыву. Он не примерялся и не пробовал, не проверял компактность воздуха подошвой, он знал, знал, что может, и пошел, не дрогнув, не задержавшись ни на миг там, где земная твердь обрывалась и превращалась в небо. Он сделал шаг в пустоту, это было немыслимо — безумный шаг. Линия обрыва не сдвинулась. Она ни на метр не выступила вперед к верховью, никаких чудес подобного рода не было, нет.
Это Голгот, сам Голгот создал почву под своими ногами.
Он сделал еще один шаг, за ним третий, так, словно сила, благодаря которой он держался в воздухе наперекор гравитации, лилась по его голеням, разливалась по
23
бедрам, била ключом из подошв, подкованных вихрем. Сов, как и я, как и Пьетро, все мы оторопели так, что у нас самих почва уходила из-под ног. В глазах Сова читался крик о помощи, он умолял бросить ему спасательный круг рациональности, с надписью «объясни мне что тут происходит, скажи, что мы не сошли с ума», но мне не хватило присутствия духа, я не владела ситуацией, все было…
— Он растворится… — выдавила я в конце концов.
— Что?
— Он не выдержит, он не сможет… Он сжигает свой вихрь…
π 
Голгот шел по воздушному мосту. С каждым новым шагом я ждал, что Голгот сейчас упадет. Но он не падал. Он уже был в пятнадцати метрах от края скалы. Каждый раз, когда он поднимал и ставил свой ботинок, до нас доносился звон стекла под железным ударом. Он контровал. Контровал прямо по небу. Шел вперед для самого себя. Я думаю, что он наверняка в своем представлении решил обойти шестого Голгота, хоть на пару метров. И еще думаю, что он позволил себе последнюю и никому непосильную роскошь — проложить последнюю Трассу, которую никому не был должен, кроме себя.
— Контровый диамант! Стать в опору! Опору сзади давай! Плотной цепью!
— Трассер! — закричал Пьетро надтреснувшим от волнения голосом.
— Что там, князь? Как дела в Паке? Не отставать! Слышу дыры в шлейфе! Компактнее, парни! Резче! Забить дыры!
— Иду, Голгот, Пак со мной! — прокричал в ответ Пьетро.
22
— Куда ты?! Оставайся, где стоишь! Ты не можешь за ним пойти, никто не может! Одумайся, ради ветра! — взмолилась Ороси.
— Крепче опорные! Крепче! Не вихлять на зашквалах!
) 
Пьетро добрался до брошенного Голготом мостка раньше, чем я успел повалить его на землю. Он сделал это не из безумия, в этом я был уверен, а потому что больше не мог выдержать ни одной смерти в качестве зрителя, потому что Голгот звал его, потому что все достоинство его жизни вкладывалось в эти несколько слов, в этот зов контра, из которого мы были сплетены. И когда эти слова произносил наш Голгот, они звенели в каждом нашем позвонке, всю жизнь, с самого детства. Пьетро не повел за собой Пак, не пошел по расстилающемуся перед ним небу, он лишь завис над бездной на несколько секунд, с верой в Орду. Весь наш путь оказался нелепой затеей, уничтожено было восьмивековое алиби, что оберегало нашу битву, чью ценность больше не было смысла искать вне нас самих. Он унес с собой редкое благородство, что черпал из самодисциплины, как, впрочем, и все мы, а также из врожденной порядочности и глубочайшего альтруизма, размах которого не смогла оценить оттолкнувшая его Кориолис.
Победить девятую форму значило бы для Пьетро преодолеть в третий раз свой стыд за то, что остался в живых, тогда как Голгот столь ярко рисковал своей жизнью; это предполагало низость и малодушие, которые многолетнее формирование самого существа князя делало невозможным принять и тем более олицетворить. Он не мог пойти на такое финальное предательство, и этот выбор ни к чему обсуждать, ему можно только отдать честь. И замолчать.

21
x 
Этот путь не был проложен для того, чтобы кто-либо иной из ордийцев пошел по нему следом. Этот мост был реален только для Голгота и благодаря нему. Пьетро упал мгновенно. Не знаю, какие черты приняло лицо, истинный облик которого он так мечтал увидеть в конце пути. Вихрь же князя прочно завис в воздухе, и вся масса его плоти пронеслась сквозь него, не утащив вихрь за собой. Я была готова его принять. Пьетро и сам давно был к этому готов. Ассимиляция прошла самым естественным образом. Только малыш плохо отреагировал на постороннего, стянув и закрутив мне живот. Мне было больно, хотелось лечь, но я сдержалась и выпрямилась. Голгот продолжал идти вперед…
Ω  Двадцать туазов всего осталось, Голготище, и трассировщица твоя, ну, давай галопом! жми вперед, уже вижу, как ты ей мослаки все перегрызешь, клыками в колеса хрясь, зубами хлоп! коренными прямо в ось как шмякнешь и волчью пасть свою, смотри, не разжимай пока из-под десен металлическая стружка не полетит. Длиннее шаг, маломерок, десять туазов еще, клыками вопьешься я тебе говорю! в колеса вгрызешься! как дисковый тормоз в нее вцепишься, чтоб искры из глотки полетели, грызи стальную лепешку! хватай ее… —
Двадцать туазов всего осталось, Голготище, и трассировщица твоя, ну, давай галопом! жми вперед, уже вижу, как ты ей мослаки все перегрызешь, клыками в колеса хрясь, зубами хлоп! коренными прямо в ось как шмякнешь и волчью пасть свою, смотри, не разжимай пока из-под десен металлическая стружка не полетит. Длиннее шаг, маломерок, десять туазов еще, клыками вопьешься я тебе говорю! в колеса вгрызешься! как дисковый тормоз в нее вцепишься, чтоб искры из глотки полетели, грызи стальную лепешку! хватай ее… — Захлопни-ка клюв Голготина, ты сам в этой жизни ничего не видел, только балясы точить и умеешь, тебя первым же ярветром перед всей родней так и размазало, так что смотри и помалкивай, ты мне вообще всем обязан, я этой трассировщице сейчас все позвонки перетряхну, я тебе ее набок завалю таким зашибоном, что тебе и не снилось, у тебя б вывих туловища от такого случился, я — лучший, так себе и заруби, я первый на свете
— а про шестого Голгота ты не позабыл, он эту землю первый своими копытами протоптал, или у
20
тебя память отшибло? — Теперь я перед ним, хоть туазы от обрыва меряй, хоть мерным шнуром считай!
— еще пока нет, ты его пока еще не обошел, братишка, нужно держать Трассу дальше, вместе, давай на полную, гори! — А трассировщица несется как больная, я ее если сейчас не цепану, так она всю линию перережет
— и они снова с нуля запустят всю программу обучения, только на этот раз без тебя, другого Трассера вместо тебя поставят, и дело с концом, а ты так и останешься ничем, и вся твоя жизнь к чертям ветрячим, останется только кишки вспороть — страшновато мне как-то, сердце стопорит, не могу больше, у меня вместо бедер свинец каленый, чую, скоро судорогой сведет, идет судорога, слышу…
— держись-держись, помягче, плавнее, я спущусь тебе на мышечные волокна подую, и все пройдет, будешь лететь, а не идти, смотри, как сразу понеслись! —
— Как у него это получается? Как такое возможно?
— Он… Он использует свой собственный вихрь для постройки этого моста… Он черпает материал из самого источника…
) 
Голос Голгота больше не гремел, он больше не звал за собой ни Пьетро, ни Пак. Он держался в воздухе, на краю своей трассы из голубой земли, едва ли на расстоянии пущенной с обрыва и недолетевшей стрелы, в ожидании силы для нового шага. Он шел неровно, прокладывая путь вперед собственным шлемом, сотканный из потоков мост подрагивал под его ногами, искрился и поблескивал под восходящими ударами шквалов. Голгот снова заорал, потоки латерита били из его колен и растекались перед ним ручьями, он обрушил свой левый ботинок на стелющуюся впереди поверхность, занес правый, чуть заметно покачнулся, и обрушил следующий шаг. Поднял голову,
19
и, похоже, стал вглядываться в какую-то фантастическую форму, и…
— Вернись! Ты еще можешь вернуться!
Едва уловимо, линия за линией, в двух кабельтовых прямо перед Голготом, стала проявляться арматура — сначала чугунная трапеция с четырьмя сплошными колесами, затем пустотелая пирамида, приваренная к шасси, вскоре и сами трехметровые ветровые лопасти, привинченные к самой верхушке, а затем и вся трассировщица целиком словно отделилась от лазурного неба, и с громким скрипом обогнала Голгота на метр, пока я пытался как-то осмыслить этот мираж. Видение сначала было неотчетливое, расплывчатое, смутное, но вскоре вырисовалось с основательной точностью. Ржавые пятна изъели металл по всем винту. Правое ребро было заметно вмято внутрь от удара. А сама трапеция в некоторых местах была так выскоблена песком, что сверкала стальным блеском. До меня донеслась ясность нетронутых временем звуков, с которой скрежетала вся эта вырвавшаяся из прошлого металлическая конструкция, тяжеленная, как и тридцать лет назад, какие делали во времена… Да, так и есть, во времена, когда Голгот проходил Страссу, определившую его дальнейшее предназначение.
Менее чем за минуту, на манер сверходаренного скриба, который единым росчерком пера, в последней фразе, выплеснул всю мощь своего литературного таланта в надежде выдернуть из своего воображения отрывок жизни, чистый и неделимый, более наполненный и самодостаточный, чем любая из действительно прожитых сцен, Голгот спалил у нас на глазах всю оболочку плоти, все свое нутро и все мечты, с которыми целых сорок пять лет был единым целым, и все для того, чтобы в этот финальный миг оголить сердцевину сути своего пути, а вернее — ее ядро. Он
18
не просто шел по земле, которую он один был способен создать. Он не только на многие километры обошел крайнюю точку на самом верховье человеческого мира. Это он сделал, так и знайте! Он показал нам, что единственная трасса, которая стоит того, чтобы по ней идти, — та, которую создаем мы сами, когда находимся на грани собственных возможностей. Он использовал материю собственного тела, чтобы проложить трассу, обеспечить надежный путь для тех, кто идет за ним следом. Тело его пылало факелом, огненный силуэт неутомимо шел вперед по мосту, а трассировщица все продолжала контровать. Так они и уходили вдаль, пока наконец у Голгота больше не осталось ни мышц, ни плоти для горючего, ни капли внутренней субстанции, питающей видение ядра, и тело его разлилось по горизонтали, продлевая мост тонкой струйкой язычков пламени, раздуваемых вихрем —
А трассировщица перед ним продолжала свой путь, идя навстречу ветру, не сгибаясь,
адажио, удаляясь под ритм более глубокий, и, как мне показалось, даже более тихий. Вскоре ржавчина растворилась, начищенная линия ребер трапеции стала едва заметной, помятые стальные колеса и шасси рассеялись, и в воздухе остались только лопасти винта, мерно секущего синеву неба, пока и они окончательно не расплылись за горизонтом. И только звук еще долго отсчитывал каждый мах винта, тяжело рубившего вихри на своем пути. Мне кажется, что лопасти эти крутятся до сих пор, просто трассировщица теперь так далеко, что человеческому уху ее уже не услышать. И все-таки они вертятся…
— Сов, иди скорее, Сов! У меня схватки! Роды начинаются!
— Ты же не приняла еще и вихрь Голгота? Только не говори, что да!
17
— У меня не было выбора. Не могла же я его оставить тут блуждать по линейному ветру!
— В тебе и так уже вихрь Каллирои и Пьетро! Ты ждешь ребенка, у тебя организм не выдержит, это слишком рискованно!
— Слишком поздно, они уже здесь!
— И брат его тоже?
— Нет, его брат спалил весь свой вихрь, чтобы создать мираж. Это он стал трассировщицей.
— Как ты себя чувствуешь?
— Весь живот вихрем крутит. Такое впечатление, что у меня настоящий шквал внутри. Малыш очень плохо воспринял посторонние вихри. Он принимает только Каллирою. Думаю, он хочет наружу.
— Значит, он выйдет наружу! Я тебе помогу. Только умоляю, не умирай, слышишь, я тебе запрещаю умирать!
К счастью, это была просто ложная тревога. Ороси родила лишь два дня спустя и все прошло, насколько возможно близко к обычному биологическому процессу у людей, с той только разницей, что ребенок в конце сам выскочил из отверстия с шипящим звуком и что…
x 
За этим, можно сказать, последовали две недели безмятежного счастья. Мы позабыли о тех, кого с нами больше не было, о том, что наша Орда уничтожена, о Верхнем Пределе — обо всем на свете! Ребенок вырвал нас у нас самих и забросил в бесконечное и все время обновляющееся ослепленное восхищение. Он не походил ни на что из того, что можно было себе представить, он был невесомый, он не был ни хорошо ни плохо сформирован, вернее сказать, у него вообще не было формы, не было определенного постоянного лица. И тем не менее он оказался невероятно красив. У него было круглое
16
подвижное личико из светлых вихриков ветра, время от времени принимающее человеческий облик, с лицом и кожей, и к тому же, то и дело складывающееся в улыбку. От автохрона он унаследовал строение внутренних вихрей и потоков и способность к непрерывным метаморфозам, которой пользовался вовсю. Но и от человеческого начала ему достались эмпатия и любовь, он все время находился рядом, играл с нами, пусть и в своей манере, но с такой сообразительностью, что я просто таяла, глядя на него, и так гордилась им. Он частенько старался принять облик настоящего малыша, намного чаще, чем это замечал Сов во всяком случае, он протягивал к нам свои воображаемые ручонки, дергал ножками, вертел кругленькой головкой, и пусть все это выходило неловко, но он все-таки старался, чувствовал, что нас это радует. Как и Караколь, его первый отец, он начал принимать человеческий образ через голос, посредством глоссолалий и легкого присвистывающего лепета, пока у него не образовался ротик. А когда я впервые дала ему грудь, мы с Совом оба засияли от радости и энтузиазма — «у нас получится, — все повторял взволнованный Сов, — мы его потихоньку приручим, он понемногу превратится в человеческого малыша, ты была права, этот ребенок — настоящее чудо жизни».
) 
Три дня спустя Ороси не стало. Волчок, Грохотун, Вихренок, Эоло, Карасовчик, Орокарсик — мы решили не давать ему точного имени, он был слишком переменчив, чтобы ограничиться одной единственной личностью, слишком подвижен и многолик. И он осушил Ороси, вобрал в себя все живое в ней. Он развивался очень быстро, ему нужна была материя для усвоения, человеческие клеточки. Ороси прекрасно поняла, что ее ждет, но и не поду-
15
мала прекратить кормление, а лишь сжала и подготовила свой вихрь, чтобы передать его мне в самых благоприятных условиях, и сама выбрала момент. Она сделала это ночью, полной любви, она открылась мне, как никогда, отдала мне себя без остатка, до последнего крика наслаждения, до последней капли веры в меня. Она вложила в меня свой вихрь и теперь он жил у меня внутри, поддерживал и даже возвышал. Ее вихрь вдруг открыл все ее разветвленное восприятие воздушной ткани, дал столь новую свободу принять другого и стать для него приютом, одарил способностью черпать и являться источником нечеловеческих сил, потоков цвета и звука, сквозных ветров, научил чувствовать силы в их зародыше, пользоваться ими, я ощущал себя ближе к дождю, к горящим углям, к ручью, что протекал сквозь меня, к траве, которую поливал и что давала мне сил расти.
На следующее утро я поцеловал ее в губы и оставил лежать на открытом ветру, на радость хищным птицам, как она сама того хотела.

От Ороси у меня осталась не просто память, а постоянное внутреннее присутствие, настойчивость, что все время подталкивала изнутри, неутомимый поиск смысла, который она беспрестанно обновляла во всех клеточках моего тела и из которых изгоняла любой замеченный ею намек на усталость с моей стороны. Конечно я больше не мог с ней поговорить, услышать льющийся из гобоя звук ее голоса, подивиться бессменно царской осанке, заглянуть в черные миндалины пытливых глаз, полюбоваться на забранные в воронку угольные пряди, на смастеренную поутру и заколотую в них бабеольку — «мои союз-
14
ницы», как она их называла. Не будет больше ни секунды чуда наших ночей любви, столь редких, но столь драгоценных для моих собственных жизненных сил. Я просто чувствовал, что она здесь, во мне. И это помогало мне держаться.
Почему я отправился на север вдоль обрыва? Во-первых, у меня была хоть и слабая, но все-таки надежда отыскать близнецов, во-вторых, я пообещал Пьетро, что пройду по линии скалы вплоть до ледяных гор по обе стороны от линии Контра, чтоб доказать или опровергнуть гипотезу о том, что Земля и впрямь заканчивается здесь, а значит мне нужно было выбрать сторону, и выбор мой пал на эту.

Наш сын, моя дочь, наше что-то блуждало за мной по пятам — это была моя вторая клятва — у меня не хватило духу прогнать его после того, что он сделал с Ороси. Я знаю, что она не вынесла бы мысли об этом. Он сделал это не со зла. Он был автохроном, искал свой путь, способы стабилизировать энергию, обеспечить свою плотность. Обезвихривал животных вдоль моего пути, иссушал деревца и кусты, он поглотил Каллирою и, быть может, прикончит и меня, сам того не желая. Вместе с ним, с вихрями Голгота и Пьетро, кружащими неподалеку, с Шистом, что не бросил меня в беде, у меня образовалась моя маленькая орда, хаотичная и полная завихрений, но я понемногу учился ладить с ее причудами и нравом и даже немного ими управлять.
Я хорошо помню нашу последнюю ночь, и как Ороси снова завела со мной разговор о девятой форме. Она думала, что умрет при родах, ее преследовала эта мысль,
13
она боялась, что ее разорвет на части сын, созданный из ветра. Она долгое время думала, что это и будет ее девятая форма — суровая изнанка аэрологических исканий. Так оно и было, но несколько иначе. Я спросил у нее, какова будет моя девятая форма, если мне предстоит однажды встреча с ней… И когда. Она улыбнулась в ответ, как несмышленому ребенку, и, погладив меня по голове, сказала:
— Ты уже ее встретил… Но она потребует от тебя выносливости и терпения, волчонок, она будет долгой, она просто так тебя не оставит…
— Так что это такое для меня? Рожай давай…
— Уже родила, — пошутила она, — Улыбнись хоть немного… В чем заключается весь смысл твоего пути, что дает тебя желание жить?
— Вы. То, что нас связывает… связывало. Наша совместная общая сила, наше переплетение. Сберечь любовь, с которой мы друг к другу относились, продлить ее, не знаю…
— Ты только что описал восьмую форму, что живет в тебе. Это связь. Твоя девятая исходит из нее, стоит за ней тенью. Не догадываешься?
— Нет.
— Это одиночество, Сов.
Эти слова въелись в стенки моего сердца, я так и не смог соскоблить их горечь.
— И как я должен это пережить, как я могу продолжать свой путь, если тебя не станет…
— Благодаря твоей способности населять твой собственный мир. Ты всех нас оживишь, своим талантом скриба. Ты обретешь нефеш, постигнешь блоки дуновенья, создашь нужные глифы, построишь мост для наших вихрей своим собственным голосом.
12
— Да это невозможно. Прекрати! Я даже не понимаю, о чем ты говоришь! Ты меня переоцениваешь…
— Тебе поможет Караколь… и Вихренок. И конечно же я, я обязательно тебе помогу!

Но неправда, никто не пришел мне на помощь. Я шел один, неся груз безысходной горечи на своих плечах, и шаги, которые мне пришлось сделать после того, как я оставил Ороси стервятникам, все мои суровые скитания по бескрайней земле, то опустошенной, то заполненной хронами, то снова пустынной, то опять запруженной, и так до бесконечности, на протяжении всех трех тысяч километров хода вплоть до простирающихся по краю линии Контра, расщепленных, расколотых кривцом ледяных скал, всему этому я был обязан сам себе. Девятая форма не явилась мне в одном образе, в виде одного немыслимого испытания, которое бы подвело черту под моей жизнью и вывело бы из нее сжатую суть. Она ледяными осколками заполнила все созданные ею зазоры между моей любовью и теми, кого я любил. Повсюду, где мое тепло просачивалось к ним, на каждую крохотную мысль, что меня связывала с ними, с каждым из них, она напоминала мне об их отсутствии и резко обрывала ткань нашей близости. Вот она, моя девятая. Разумеется, повсюду оставались эти многочисленные нити, — воспоминания, но теперь прошлое вынуждено было светить так же ярко и живо, как и настоящее, в котором их больше не было. И к этому я не был готов. Мне приходилось огромным усилием воли, со всей сосредоточенностью и тщательностью, переносить с заднего плана прожитых событий в настоящее ощущение присутствия настолько явное, чтобы им можно было бы
11
заполнить пустоту этого мира, лишенного Орды, и трассы, лишенной Голгота. Мне не хватало памяти, но не простого свойства воспроизведения событий прошлого, а памяти, запечатлевшей в сознании каждый прожитый миг, готовый взбурлить и выплеснуться изо рта вместо слюны, мои воспоминания о пережитом вместе были обескровлены.
Моя первая неделя одиночества была наполнена бездонной пустотой. Собрать хворост. Вернуться. Развести огонь. Один. Пойти охотиться без Фироста, без Голгота, без Стреба. Я не умел напускать Шиста, подзывать его назад, он мне даже зайца ни разу не принес. Я понятия не имел, какие растения можно собирать в еду, как их готовить, я мысленно взывал к Аои, пытался вспомнить, как и что делал Степп, что из этого выучила Кориолис, которая так ловко смогла их подменить в этом деле. Все это мне теперь казалось трудом исполинским. Готовить пищу. Есть в одиночку. Говорить с кустами. Искать место для ночлега. Обходить стороной хроны, зоны люменов в ночи, упреждать ловушки звукохронов.
Напрасно вихри моих спутников звучали эхом снаружи и внутри меня, напрасно били в свои барабаны, чтобы поддержать меня, спасти от беспощадной пустоты. Со мною был пронизывающий, полный разнообразных волн и ритмов вихрь Ороси, сверхсжатый и взрывной вихрь Голгота, спокойный и размеренный вихрь Пьетро, я тщетно пропускал их силу сквозь себя, это ничего не давало, этого было слишком мало, чтобы уберечь от самоубийства, по краю которого я гулял столь же часто, сколь и вдоль обрыва.
На девятые сутки я угодил в поле психронов. Я не мог их всех обойти, и, откровенно говоря, сам не знаю, как его прошел, помню только удары от столкновений и как, вырвавшись из него, очутился у края обрыва, на грани того,
10
чтобы броситься вниз, и только тогда пришел в себя. Во мне больше ничего и никого не было, ни звуков, ни волн, одна пустая оболочка, нацепленная на хребет, и того меньше, всего лишь один шаг, расслабить съежившийся каркас, ослабить мышцы, слегка обмякнуть и уйти вперед, как это было просто, как маняще. Спрыгнуть на покров из облаков… Отправиться туда, где Ороси…
Я вытянул шею навстречу белому облачному пляжу, подошел еще ближе, так, чтобы ничего не могло помешать моему падению, Шист, кажется, что-то беспокойно высвистывал вокруг меня, у меня больше не было предпочтений между жизнью и прыжком, не было сомнений, я был выше всего этого, я словно спал наяву на краю конечной точки мира, и в глубине души был уверен только в бесцельности огромного фарса под названием Орда… Завитками разлетались выдумки мудрецов из Совета Ордана, ученья, вбиваемые нам в головы в Аберлаасе, бесконечное вранье, в которое все мы, как стадо овечек, верили с самого детства. Всех нас, еще крошек-горсят, учили верить сильно-пресильно, честно-пречестно, вся моя смехотворная ретроспективная гордость за переправу через Лапсан, за переходы не в обход, а прямиком через ледяные озера, через ущелья, за то, как сотню тысяч раз мы взбирались в гору, и все это, чтобы по итогу оказаться здесь, в степи, вот уж достижение, есть чем похвастаться, ничего не скажешь! А все пройденные нами ветры, под каким только углом мы не шли, какие только построения не принимали, весь наш литаничный идиотский контр, день за днем, то каплей, то диамантом, то спинифексом, а девять форм, которые мы завоевывали по крупицам, ну и куда они нас привели, к вот этому так называемому чуду, ради чего все это было, чтоб ухватиться кончиками пальцев за край стола, травы на этом пастбище пощипать, и что мы из всего
9
этого поняли, а? Что нет у ветра никаких истоков, что ниоткуда он не берется, а просто есть, идет себе спокойненько с неба, несется с востока на запад, смывает все на своем пути, а мы, видите ли, элита, обученная биться головой о его струи, ослы, навьюченные тяжелющими безмозглыми мифами, обвешались по бокам тюками, полными норм и правил, прем за собой телеги с деревянными колесами, счесываем о песок вечности шипы на подошвах, молодцы, все как на подбор, и помереть не жалко, лишь бы узнать что там в конце пути, нашли секрет, умнее не придумаешь, всю жизнь идти за тем, что кучке аэрудитов уже давным-давно известно, ну-ну, сидите, смейтесь над нами с ваших фареолов, отведи душу, Нэ Джеркка со своей Аэробашни, как тут над нами не похохотать… Вот и для Сова очередь подошла… Иди же, Сов…

—
Девятая форма убьет в тебе верблюда. Смертельно ранит льва. Но ребенок, которым тебе, быть может, удастся стать, сможет ее пережить. Все эти три метаморфозы могут быть этапами и в жизни, и в любви, и в поиске истины… Вспомни мои слова, когда окажешься один на краю мира. Вспомни об этом, когда всех нас не станет, а ты будешь стоять у края Верхнего Предела и вглядываться в чистое синее небо впереди. Вспомни обо мне и о сегодняшнем дне, об этом миге, который мы сейчас проживаем вместе, и о моих словах. Запомни каждое мое слово, Сов. Ты меня слышишь?
— Да.
Именно это воспоминание и уберегло меня от самоубийства. Этот легкий, ненавязчивый тембр, вырвавшийся из онемевшей памяти, прорвав в ней все слои. Эти при-
8
чудливые слова, сказанные Караколем в Аэробашне, одно из тысяч предсказаний, окрик, бросивший мне конец веревки из прошлых лет. Бывают фразы, что вдруг раскрывают весь свой смысл лишь много лет спустя.
Но был еще и вихрь Ороси, все время жужжащий около меня моторчиком, он тоже помогал в эти тянувшиеся бессмысленной чередой, неделя за неделей, дни. И был Волчок. Любовь моя к нему была полна неоднозначности, ко всем моим чувствам к этому шарику светлого ветра, цвета восходящего солнца, примешивалось недоверие. Он следовал за мною по пятам, и что бы я там себе не думал и не решал, он был привязан и ко мне, и к вихрю своей матери. Меня спас и образ моего отца, всматривающегося, однажды в будущем, в проход в подножье Норски, так и не утратив веры в то, что я вернусь. Я представлял себе, как он будет счастлив вновь меня увидеть, пусть даже я и принесу с собой страшную весть о том, что побывал на самом краю мира, и не обнаружил там никаких чудес, новость о том, что никакого источника у ветра нет. Тепло моих воспоминаний льнуло к светлому личику Аои, к смеху близнецов, рассекающих на ветровых скакунах по просторам Верхнего Предела, к надежде, что где-то в неведомых мне широтах бытия Кориолис привычным жестом отбрасывает прядь каштановых волос со своего лица прекрасной нимфы.
Я выжил не потому, что мне удалось их всех забыть. Я не победил одиночество, сосредоточившись на собственном эго, не черпал из своего ядра сугубо
личное желание продолжать существовать. Тело не одолело девятую форму, обрубив тянувшиеся ко мне ветви прошлого, не отняло руки от простирающихся ко мне рук, не отвернулось от лиц тех, кто меня не покидал, все было полностью наоборот, я справился благодаря силе нашей связи, этому
7
крепчайшему узлу, закрученному из веревки памяти, благодаря неутомимому внутреннему воссозданию того, что осталось от них во мне живого и продолжение чего мне удалось в себе сберечь. На мой взгляд, эта жидкая, пока еще не замершая частичка жизни, сумевшая выжить в моем сознании, остаться нетронутой, сохранить бытие в каждой крупице, заслуживала того, чтобы звать ее вихрем, так как она высвобождала исключительно живое из моих отношений с каждым из ордийцев и ничего более (хоть иногда это и сопровождалось легкой пылью минувших сцен). Все эти отголоски укрывали мое вспоминающее тело покрывалами любви. Из них струились хрупкие жесты, перешептывания, огоньки. Сколько в них было уникального, неповторимого: искренняя полуулыбка Каллирои, что так отличала ее от всех встречавшихся мне на свете женщин, венценосный силуэт ума Ороси, что она расправляла каждое утро, едва открыв глаза, а Пьетро, всегда в своей обеспокоенной порядочности, как он выбивался из ряда своих собратьев благороднейших кровей.
Я справился, так как понял, осознал из самой сути моего крушения, что Орда по-прежнему шла со мной благодаря моей способности всех их оживлять. Что одиночества не существует. Никто никогда не появлялся на свет в одиночку. Что одиночество — это всего лишь тень, отбрасываемая усталостью быть связанным, она бредет за тем, кто более не хочет продолжать идти, неся в себе тех, кого любил, не разбирая, что ему было дано. И я понес за собой нашу Орду, а вслед за мною шли их вихри. Во мне обрушились все те структуры, что столько лет служили мне опорой — происхождение ветра, девять форм, Верхний Предел, все наши ценности и догмы, больше ничто, пусть даже сама смерть, не могло лишить того, что зависело
6
всецело только от меня: никто не мог забрать ту детскую любовь, что связывала меня с ними.
Спустя два месяца и три тысячи километров я дошел до края северной линии контра и тут же повернулся к ней спиной, чтобы отправиться в обратный путь. За этой чертой по земле больше не стелился ни один лишай, ни один зверь не захаживал за эту ледяную преграду. За ней царил полярный ярветер, и я не знал ни одного Диагональщика, будь он хоть из Флибустьеров, хоть из контровых, кто отважился бы хоть на денек отправиться да посмотреть, что там за. Такие поиски велись разве что за столом таверны, да и то, какой в этом был смысл. От северной границы контра мне, по всей логике, предстояло четыре месяца пути, чтобы добраться до южной стороны, и моя клятва, данная Пьетро, будет исполнена, и я с чистой совестью отправлюсь назад до самого лагеря Бобана, взяв в обход Крафлу и молясь всем богам вечной мерзлоты, чтоб дали мне пройти Норску, не сорвавшись на первом же кулуаре с теми остатками обмундирования, которыми я еще мог похвастаться.
Но воля случая распорядилась так, что мне не довелось снова сразиться с Норской, и даже не пришлось идти до южной черты контра. В день, когда на горизонте показался знакомый мне пейзаж, где располагался наш первый лагерь, и что мы приняли за нулевую точку нашего отсчета, примерно в километре от места, где Голгот принес себя в самосожжение своей мечте, я вдруг увидел показавшийся из пропасти совершенно невообразимый предмет —
Это был букет. Букет из красных, полусферических парашютов, сложенных зонтиками. У меня перехватило дыхание, и я помчался прямиком к обрыву. Я не сразу заметил трос, скреплявший это соцветие, и вверх от которого тянулись стропы прямо к куполам парашютов. Три пара-
5
шюта из двенадцати так и не раскрылись, зато остальные были вполне работоспособны и этого было достаточно, чтобы натянуть основной трос и сделать из букета настоящего воздушного змея на веревочке, созданного более чем искусным аэрологом на случай экстремальных условий выживания.
Такова во всяком случае была моя первая реакция, так как подойдя поближе, я понял, что парашюты были сделаны вовсе не из ткани, а трос не из крученой стали, как у Фреольцев. Это были огромные пурпурные медузы, а вместо троса было одно единственное на всех щупальце, растущее из клубня… Нет, это мне, к счастью, показалось, хотя, как сказать, реальность сбивала с толку ничуть не меньше, так как букет оказался исключительно растительного происхождения. Гигантский цветок из семейства зонтичных, и был это никакой не трос, а стебель, а парашюты оказались перевернутыми цветочными чашечками, выстеленными изнутри бархатом лепестков, чья резистентность к абразии и прочим осколкам повергли в изумление все мои ботанические навыки.
Я больше двух часов провел на краю скалы, разглядывая это фантастическое явление. Цветок поглощал влагу тумана, его обтрепанные и подвявшие чашечки снова расцветали. У меня перед глазами был идеальнейший воздушный змей и, очевидно, что раса, изобретшая нечто подобное, обладала умом сверхчеловеческим и по определению превосходила нас. Меня молнией проняла мысль о том, что возможно там, у подножья скалы, простирался целый новый мир. В моем воображении возникла даже не земля, а целый космос, зависший в воздухе, витающая в небе флора, гигантские растения, произрастающие гроздьями из щедрой почвы облаков, самоопыляющиеся ветром. Клетка, которую увидела Кориолис, и впрямь
4
существовала. И не дававшая мне покоя фраза, вычитанная в Аэробашне, наконец пустила сок своего смысла: «Там земля синяя, как апельсин» — внизу открывался растительный космос, своего рода тот самый долгожданный Первозданный Сад, который так мечтал увидеть Степп, он так же черпал силы из гумуса плодородных ветров, он был источником всего Живого. И этот мир подавал нам знак, забрасывал бутылку в просторы синей Высоты, в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь ответит на его зов. И это буду я! Я стану связью двух миров!
Сам не свой от охватившего меня воодушевления я натянул обвязку и перчатки, хорошенько пристегнул рюкзак, закрепил два последних оставшихся у меня после Норски карабина, прихватил страховку и спусковое устройство, на случай если стебель внизу вдруг окажется недостаточно прочным. Подождал, пока ветер немного стабилизируется, мне даже удалось предугадать короткую фазу затишья (чему-то я все-таки научился), и, дождавшись, когда очередной достаточно мощный залп прибьет цветок к скале, после секундного сомненья, — прыгнул!
Когда я ухватился за стебель, меня обдало сильным цветочным запахом. Поверхность стебля была шершавая и твердая, похожая на ветвь. Я не стал мешкать и сразу стал соскальзывать вниз вдоль по оси, подхватываемый восходящими потоками, что не давали мне упасть.
Так я проделал (ну не знаю) метров двести. Вихренок скользил со мною вниз чуть впереди и его присутствие сильно обнадеживало меня, к тому же он играл своего рода роль аэродинамического щита, защищая, намеренно или нет (мне все-таки хотелось думать, что намеренно) от самых скверных шквалов.
Я опустился до слоя кучевых облаков и вокруг сразу стало заметно темнее. По внезапному холоду, про-
3
нявшему кожу сквозь перчатки, я понял, что структура стебля изменилась: теперь я скользил вниз по настоящему стальному тросу и первобытный энтузиаст во мне притих. А что если цветы вверху — это просто черенок? Что если все это результат работы растительного хрона? Я проскользил еще несколько метров и вдруг наткнулся на старое ржавое кольцо, к которому был пристегнут карабином небольшой цилиндр из нержавеющей стали. Я зацепился за кольцо, прославляя посланный мне момент отдыха, — ладони у меня были счесаны в кровь, несмотря на кожаные перчатки, а руки начинало сводить судорогой от нервного перенапряжения и от усталости. Крышка, закрывавшая цилиндр, была вся измята, и я весь изошелся от нетерпения, пока ее открыл. Я умирал от беспокойства и любопытства. Внутри цилиндра лежала медная табличка, я бережно ее достал, сжимая изо всех сил, чтобы она, чего доброго, не вылетела из рук. На медной поверхности просматривались три гравюры: первая изображала птицу с расправленными крыльями, на второй было не то облако, не то медуза, а третья представляла то ли солнце, то ли луну, то ли шар. Все три изображения были наивны и беззаботны. Созданные человеком? Тут я не мог ничего утверждать. Скорее инфрачеловеком, отставшим, недоразвитым! Что это могло быть? Знак, предупреждение? Я ума не мог приложить. Я снова вспомнил об отце, ждавшем меня в Бобане, об Аои. Мог ли я еще вернуться назад? Должен ли был? Что бы сделала Ороси на моем месте? — но вопрос этот не имел смысла, так как я прекрасно знал ответ на него: она бы, не задумываясь, понеслась дальше вниз, она мне об этом сообщала необузданной пульсацией в затылке. И в конце концов, между двух желаний, я отдался тому, что шло из самого нутра: я выбрал спуск в неведомый хаос.
2
Были и другие кольца, но все пустые, а некоторые и вовсе изъеденные ржавчиной, и так на протяжении сотни метров, а затем трос стал гладким и слишком широким в диаметре, и мое тормозное устройство на нем больше не держалось.
На тысячу метров вниз сквозь толщу облаков аэрологические условия ухудшились катастрофическим образом. Я быстро понял, что трос в моих руках был пуповиной, что еще связывала меня с восьмой формой — он был для меня нитью жизни, за которую мне хватило ума зацепить карабин на уровне пупка, чтобы меня не сорвало и не расплющило о скалу зашквалами. В одну из передышек ветра мне даже удалось достать из рюкзака ярветренный шлем и опустить на нем забрало. Мне неоднократно приходилось нырять головой вниз и тащить себя по тросу руками, настолько были сильны термические потоки. Вскоре затишья прекратились вовсе. Оставался один бесконечный головокружительный спуск во чрево туч, под неутихающую ярость шквалов, раскачивающих взад-вперед убийственно дрожавший в руках трос, удары отдавали в каждый мускул, звенели в щиколотках и коленях.
Не знаю, сколько времени я так продержался, пока руку все же не схватило судорогой и я не отпустил трос. Помню, что, пытаясь затормозить в паническом рефлексе, содрал кожу с голеней. Также помню, что в какой-то момент боковые потоки стали настолько жесткими, что мое тело скользило вдоль троса по горизонтали, словно по карнизу, удерживаемое одной только обвязкой, а из-под центрального карабина, скоблившего металлическую поверхность троса, летели искры. А затем, на очередном толчке, меня подкидывало на десятки метров вверх и с той же скоростью бросало вниз, меня словно захлестывало в
1
гигантскую волну ветра, что била мною о скалистый берег, то отступая, то вновь вздымаясь на дыбы.
Помню, попросил прощения у Ороси, когда понял, что умру. Помню, что Вихренок неотступно мчал за мной, и я никак не мог понять, как это его не швыряет ни на скалу, ни даже просто вверх или вниз, если какой-либо «низ» вообще существовал, потому что я падал уже какое-то несметное, не поддающееся описанию количество часов подряд.
Не имеет особого значения отчего именно я потерял сознание: от полного изнеможения или от того, что стал задыхаться, а может мне по шлему угодил какой-то предмет, попавший в шквалистый поток, а может просто для того, чтобы больше не ощущать дичайшей боли в теле, истерзанном осколками. Может, у меня центральный карабин стерся и распался, может, обвязка отвалилась. Я видимо еще долго так летел кубарем в пустоту, подлетая на волнах шквального прибоя, я, наверное, даже стал притормаживать на восходящих, а в конце концов невообразимая толща слоев воздуха вероятно даже смягчила мой полет, когда я…
— Да уберите кто-нибудь эту тушу! Он мне решетку на роторорубке забьет!
— А вдруг он жив еще? Марсиа, иди проверь!
— Может, не будем время зря тратить, а?
— У него татуировка! У него карта на спине!
— Ага, а десятого Голгота ты там по близости не видишь часом? Убери этот мешок с костями, говорю! По фареолу волну в 11 баллов передают через четыре минуты или у тебя уши надуло?
— Черт!
— Ну что еще, Мики?
— Он живой!
0
— Да чтоб тебе! Ну и что он говорит, раз он живой?
— Эй, парень… Раклюха ты! Тебя как звать?
— (…) Сов… Сов… Севченко… Строчнис…
— Ты чего в мертвой зоне забыл? Жить надоело или как? Опилок наскоблить решил, что ли?
— Где… я?
— Где ты? Эй, слышали, спрашивает, где он?!
— Вот идиота кусок! Совсем двинулся, что ли?
— Убери его с зоны, Мики, через две минуты зашквал!
— Ну этот прям под счастливой звездой родился. С нее и свалился!
— Как-то его покромсало со всех сторон, он как из мясорубки выпал!
— Где… я?
— В задней клоаке мира, дружбанище! В худшем месте, в котором ты за свою раклеровскую жизнь побывал! Ты в мертвой зоне, на Зашквальной!
— Где?..
— Западная окраина Аберлааса, Нижний Предел, Краевая скала! У тебя с географией проблемы? Или ты заново на свет родился?
(обратно)
Вы необязаны это читать…
Вы не обязаны это читать…
Придите, придите, будьте как дома, не уходите.
ЛИЦА, ФИГУРЫ
Бертран Канта
Расхожей мыслью было бы считать, что подобный роман, являющийся результатом трех наполненных лет, проведенных в полнейшем уединении на Кап-Корс, трех лет труда над текстом и запала, должен писаться в одиночестве.
Он и писался в одиночестве.
С тем лишь значительным нюансом, что, как сказал бы Ж. Делёз, речь идет об одиночестве необычайно населенном. Оно населено расколотой семьей, разрозненными людьми, друзьями, подругами, заполнено их вихрями — этой наиболее живой, ярко очерченной и совершенно уникальной частью их самих. Той, что приводит меня в волнение и приносит радость, когда я о ней думаю.
Именно им, населившим мое одиночество, я бы хотел выразить здесь свою признательность.
-
Не важно, что эти имена тебе ничего не скажут, дорогой читатель, ничто тебя не обязывает читать дальше, на этом ты можешь закрыть и отложить эту книгу. Но можешь и продолжить путь, привет, турист!
Заходи, у нас тут хорошо, вот увидишь:
В первую очередь, и еще с самых первых дней, хочу поблагодарить тебя, дорогой брат, за твою веру в эту эпопею, за уместность всего того, что ты привнес в рассказ, за твою порою бурную, но всегда столь явную и глубоко ощутимую любовь, что питает меня даже тогда, когда я, как может показаться, даю на нее скупой ответ.
Спасибо и тебе, сестра, за твое столь тонкое и пылкое прочтение, за твою увлеченность этой книгой, за плед любви, что ты и дети набрасываете мне на плечи прямиком из юго-западного уголка Франции в те дни, когда мне бывает особо холодно.
Моим отцу и матери. Спасибо тебе, папа, — вот истинный Голгот, — за твою неиссякаемую, пульсирующую энергию, за теплоту, что разливается по моим венам. Спасибо, мама, за твое поднимающее дух присутствие, за твою опеку львицы надо львенком. За внутреннюю силу и за самостоятельность, которыми я вам обязан, ваш сын вам говорит спасибо.
Пару строк и для тебя, Клэр, чтобы сказать тебе, что сила нашей связи, твоя преданность, были мне помощниками все три года моего корсиканского уединения. Твой ум, твоя неспокойность и смелость всегда поддерживают во мне желание продолжать бороться, как и ты, сестра по оружию.
 Если многие из моих друзей поселились во мне во время написания книги, то некоторые из них разбили целый лагерь в рядах Орды, столь многое я у них позаимствовал, порой сегментами, а порой и целыми длинными чертами, чтобы вооружить моих персонажей и дать им опору, на манер того, как вкладывают прутья в железобетон. Пусть найдут для себя в этих строках полагающуюся им дань за наиболее проявившееся сходство:
Степп Форехис практически всем обязан тебе, Стефен, (здорово, друг!), за твою столь крепкую и тонко выстроенную силу прорастания. Силамфр — плавное и чуткое эхо Кристиана, Каллироя — пылкой хрупкости Доминик, потерянной из виду, но всегда остающейся со мной, Кориолис переняла некоторые черты от далекой Маривонн, а Аои зачерпнула артистической и подвижной мягкости Эммануэль.
Ороси, хоть и является сложным переплетением различного женского влияния, обязана своей возвышенностью и упрямством в поиске смысла, а также столь особенным сочетанием строгости и чувственности, Анне и Клэр, так непохожим друг на друга.
Пьетро достались его благородство и сдержанность от Оливье и Юбера, этих двух мраморных колонн.
Караколь перехватил у Эмерика его былые выходки, его заостренную внимательность к происходящему и его многочисленные ответвления, чтобы совместить их с жаждой встреч и с букетом повседневного искусства Cappizzano, этим Всецветным даром!
Эрг Махаон то и дело отсылает нас к Лео своей порядочностью, важностью, которую он неукоснительно придает понятию ответственности и своим пристрастием к боевым искусствам.
А Голгот, спросите вы? А Сов? Ярость Голгота исходит только из меня. Сов близок мне, хоть его силуэт с самого начала романа и восходит к моему другу Бобану, этому столь дорогому мне хорвату, вымощенному из поэзии, привязанности и мужественного упрямства.
Я также хотел бы поблагодарить на лету моих друзей из Веркора, за их теплоту и за их энергию: в первую очередь Марианн, а еще Стефа, Брюно и Тифен, Дидье, Сумасшедшего Тофа, Кати, Жюльена, Кристиана, Рыжую Сесиль, Рафа, Армелль и еще многих других, чьи имена сопротивляются перу…
В моей монашеской жизни в Нонзе, благодарю тебя, Давид, за потоки свежего воздуха и смеха, которые ты так часто приносил с собой; так же тебя, Жерар, за твой неповторимый, литой из камня, характер, и тебя, Элен, за улыбку, которой ты каждый раз озаряла свое появление.
А о котиках ты, случайно, не забыл? Конечно, нет, спасибо и вам, корсиканские медвежата на мягких лапках, мои попрыгунчики, Мама-Кошка, Кот-Голгот, Заводила, Айола и Айоло, и уйма других. Не раз единственным источником нежности и ласки за весь мой день бывали только вы!
Из Парижа, через все Средиземноморье, я частенько ощущал энтузиазм чтения Скрытного Мики, и тихое уважение Мудреца Марсьяля, полноту щедрости Наташи, и юмор грека Себа — ничто иное, как чистое дыхание разума. Из Австралии ко мне поднималось тепло Эстель, а из Нантер — ценнейшая доброжелательность Бернара, смех Пьера и умение слушать Виржини. Из Лиона ко мне порой доносилось эхо Жана-Кристиана, а из Пуатье — прерафаэлитские отблески Лоранс, которой я обязан первыми набросками книги. Из Меца, от поэта Венсана Валя, вживую и в переписке, я получил один из полезнейших уроков стиля, но для меня столь трудно применимый: урок намекающей сдержанности. Спасибо Венсан, но дай мне время научиться…
Когда роман был окончен, продолжателями этого мира для меня стали мой брат вместе с Софи посредством интернет-сайта, Арно — путем переложения на музыку и звук, Борис через иллюстрации, и все это с увлеченной готовностью, далеко превосходящей мои ожидания. Я даже не уверен, что заслуживаю такой подарок. Спасибо вам четверым за эту творческую переплавку, которая обязана красотой своих лезвий исключительно вам.
Я не могу окончить эти реверансы, не сделав самого уважительного и ироничного из всех, я имею в виду тот, который я в полной мере должен Матиасу, моему темноволосому невысокому тренеру, моему рьяному издателю, моему Ги Ру на поле правок, а также моему первооткрывателю. Матиас, щедрый, неуемный, пробивной, как ткач-ремесленник, сплетающий все воедино, не делающий ничего в одиночку, позволь мне здесь на свой манер воздать тебе огромную благодарность за то, что ты поверил в книгу, в меня, в проект, в нас двоих. Пусть рожденное из этого издательство «Вольта» будет по твоему образу живым и «человечным, слишком человечным»…
Моя книга изначально должна была выйти во «Фламмарион», но внезапная смерть скосила Жака Шамбона. Я обедал с ним раза четыре или пять, ему очень нравился этот роман, и он поддерживал проект с энтузиазмом, который теперь, с оглядкой в прошлое, кажется мне совершенно чудесным. У меня осталось о нем яркое и счастливое воспоминание, и я хотел бы поприветствовать его здесь, на лету вихря.
Если многие из моих друзей поселились во мне во время написания книги, то некоторые из них разбили целый лагерь в рядах Орды, столь многое я у них позаимствовал, порой сегментами, а порой и целыми длинными чертами, чтобы вооружить моих персонажей и дать им опору, на манер того, как вкладывают прутья в железобетон. Пусть найдут для себя в этих строках полагающуюся им дань за наиболее проявившееся сходство:
Степп Форехис практически всем обязан тебе, Стефен, (здорово, друг!), за твою столь крепкую и тонко выстроенную силу прорастания. Силамфр — плавное и чуткое эхо Кристиана, Каллироя — пылкой хрупкости Доминик, потерянной из виду, но всегда остающейся со мной, Кориолис переняла некоторые черты от далекой Маривонн, а Аои зачерпнула артистической и подвижной мягкости Эммануэль.
Ороси, хоть и является сложным переплетением различного женского влияния, обязана своей возвышенностью и упрямством в поиске смысла, а также столь особенным сочетанием строгости и чувственности, Анне и Клэр, так непохожим друг на друга.
Пьетро достались его благородство и сдержанность от Оливье и Юбера, этих двух мраморных колонн.
Караколь перехватил у Эмерика его былые выходки, его заостренную внимательность к происходящему и его многочисленные ответвления, чтобы совместить их с жаждой встреч и с букетом повседневного искусства Cappizzano, этим Всецветным даром!
Эрг Махаон то и дело отсылает нас к Лео своей порядочностью, важностью, которую он неукоснительно придает понятию ответственности и своим пристрастием к боевым искусствам.
А Голгот, спросите вы? А Сов? Ярость Голгота исходит только из меня. Сов близок мне, хоть его силуэт с самого начала романа и восходит к моему другу Бобану, этому столь дорогому мне хорвату, вымощенному из поэзии, привязанности и мужественного упрямства.
Я также хотел бы поблагодарить на лету моих друзей из Веркора, за их теплоту и за их энергию: в первую очередь Марианн, а еще Стефа, Брюно и Тифен, Дидье, Сумасшедшего Тофа, Кати, Жюльена, Кристиана, Рыжую Сесиль, Рафа, Армелль и еще многих других, чьи имена сопротивляются перу…
В моей монашеской жизни в Нонзе, благодарю тебя, Давид, за потоки свежего воздуха и смеха, которые ты так часто приносил с собой; так же тебя, Жерар, за твой неповторимый, литой из камня, характер, и тебя, Элен, за улыбку, которой ты каждый раз озаряла свое появление.
А о котиках ты, случайно, не забыл? Конечно, нет, спасибо и вам, корсиканские медвежата на мягких лапках, мои попрыгунчики, Мама-Кошка, Кот-Голгот, Заводила, Айола и Айоло, и уйма других. Не раз единственным источником нежности и ласки за весь мой день бывали только вы!
Из Парижа, через все Средиземноморье, я частенько ощущал энтузиазм чтения Скрытного Мики, и тихое уважение Мудреца Марсьяля, полноту щедрости Наташи, и юмор грека Себа — ничто иное, как чистое дыхание разума. Из Австралии ко мне поднималось тепло Эстель, а из Нантер — ценнейшая доброжелательность Бернара, смех Пьера и умение слушать Виржини. Из Лиона ко мне порой доносилось эхо Жана-Кристиана, а из Пуатье — прерафаэлитские отблески Лоранс, которой я обязан первыми набросками книги. Из Меца, от поэта Венсана Валя, вживую и в переписке, я получил один из полезнейших уроков стиля, но для меня столь трудно применимый: урок намекающей сдержанности. Спасибо Венсан, но дай мне время научиться…
Когда роман был окончен, продолжателями этого мира для меня стали мой брат вместе с Софи посредством интернет-сайта, Арно — путем переложения на музыку и звук, Борис через иллюстрации, и все это с увлеченной готовностью, далеко превосходящей мои ожидания. Я даже не уверен, что заслуживаю такой подарок. Спасибо вам четверым за эту творческую переплавку, которая обязана красотой своих лезвий исключительно вам.
Я не могу окончить эти реверансы, не сделав самого уважительного и ироничного из всех, я имею в виду тот, который я в полной мере должен Матиасу, моему темноволосому невысокому тренеру, моему рьяному издателю, моему Ги Ру на поле правок, а также моему первооткрывателю. Матиас, щедрый, неуемный, пробивной, как ткач-ремесленник, сплетающий все воедино, не делающий ничего в одиночку, позволь мне здесь на свой манер воздать тебе огромную благодарность за то, что ты поверил в книгу, в меня, в проект, в нас двоих. Пусть рожденное из этого издательство «Вольта» будет по твоему образу живым и «человечным, слишком человечным»…
Моя книга изначально должна была выйти во «Фламмарион», но внезапная смерть скосила Жака Шамбона. Я обедал с ним раза четыре или пять, ему очень нравился этот роман, и он поддерживал проект с энтузиазмом, который теперь, с оглядкой в прошлое, кажется мне совершенно чудесным. У меня осталось о нем яркое и счастливое воспоминание, и я хотел бы поприветствовать его здесь, на лету вихря.
 Как и все благодарственные речи, этот список бесконечен и утомителен, но он еще не кончен…
Статус тех, кто заставил нас страдать, вернее скажем «той», практически неразрешим в создании произведения. Я поверил в фею, которая не оказала мне никакой литературной помощи, и которой я обязан столь малой толикой чудес, что мне непросто говорить спасибо. «Орда», вполне вероятно, была бы книгой куда более радостной и исполненной вдохновения, без этой муки, что стала для меня невольным свинцом. И все же, без тени ненависти, спасибо тебе, Фанетт, за пир из крох. И за былое волшебное взаимопонимание.
Как и все благодарственные речи, этот список бесконечен и утомителен, но он еще не кончен…
Статус тех, кто заставил нас страдать, вернее скажем «той», практически неразрешим в создании произведения. Я поверил в фею, которая не оказала мне никакой литературной помощи, и которой я обязан столь малой толикой чудес, что мне непросто говорить спасибо. «Орда», вполне вероятно, была бы книгой куда более радостной и исполненной вдохновения, без этой муки, что стала для меня невольным свинцом. И все же, без тени ненависти, спасибо тебе, Фанетт, за пир из крох. И за былое волшебное взаимопонимание.
Ален Дамазио, 30 августа 2004
(обратно)
Приложение
Графические концепты
(почерпнуто из французского источника — [La Horde Du Contrevent] Damasio, Alain — h Imagier (2013), Les Hérétiques)
ПЕЙЗАЖИ
Лапсанская лужа
 Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.
Линейный лес
Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.
Линейный лес
 Слушал, как порыв ветра прокатывался к нам с верховья, как, приближаясь, проделывал дыры в ветвях линейного леса.
Глиф
Слушал, как порыв ветра прокатывался к нам с верховья, как, приближаясь, проделывал дыры в ветвях линейного леса.
Глиф
 (от Вирджинии Петратос)
Бракауэрский столб
(от Вирджинии Петратос)
Бракауэрский столб
 — Знаешь, что мне отец сказал про Бракауэрский столб?
— Нет.
— Что это самое высокое надгробье, которое он когда-либо видел…
Степь
— Знаешь, что мне отец сказал про Бракауэрский столб?
— Нет.
— Что это самое высокое надгробье, которое он когда-либо видел…
Степь
 Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша…
Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша…
АРХИТЕКТУРА
Город Альтиччио
 Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита…
Ветряк
Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита…
Ветряк
 (от Вирджинии Петратос)
Деревня крытней
(от Вирджинии Петратос)
Деревня крытней
 Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками…
Фонтанная башня
Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками…
Фонтанная башня
 Никогда не говори: „Фонтан, я не стану пить твою воду”
Никогда не говори: „Фонтан, я не стану пить твою воду”
ОРУЖИЕ
Механический арбалет
 Я зародил арбалет. Все на рефлексах. Гарпун наготове. Выстрелил, не раздумывая. Попал.
Бумы
Я зародил арбалет. Все на рефлексах. Гарпун наготове. Выстрелил, не раздумывая. Попал.
Бумы
 Когда он запускает свой бум, противник просто падает. И все. И ты еще думаешь, кабер, сейчас поднимется, осторожно… Но никто никогда не поднимается.
Метательные винты и диски
Когда он запускает свой бум, противник просто падает. И все. И ты еще думаешь, кабер, сейчас поднимется, осторожно… Но никто никогда не поднимается.
Метательные винты и диски
 Если он достанет диск, или винт, или еще что в этом духе, то он его запустит, и можешь ты себе бежать, подпрыгивать, можешь забиться в какую-нибудь дыру. Можешь спасать свою шкуру как хочешь, имеешь право. Но как только добежишь, тебя все равно приколотит.
Если он достанет диск, или винт, или еще что в этом духе, то он его запустит, и можешь ты себе бежать, подпрыгивать, можешь забиться в какую-нибудь дыру. Можешь спасать свою шкуру как хочешь, имеешь право. Но как только добежишь, тебя все равно приколотит.
ЖИВНОСТЬ
Ястреб-тетеревятник
 Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости…
Сокол
Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости…
Сокол
 Мы благодаря этим соколам в небо смотрели, на них глянуть приятно было…
Горс
Мы благодаря этим соколам в небо смотрели, на них глянуть приятно было…
Горс
 от Лоренс Дешамп (раскраска Коринны Гобер)
Горсы
от Лоренс Дешамп (раскраска Коринны Гобер)
Горсы
 Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю.
Ветряные медузы
Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю.
Ветряные медузы
 С неба упали первые медузы: мы наткнулись на нескольких огромных, развороченных, прямо на земле, — значит, ветер уплотнялся и на высоте
С неба упали первые медузы: мы наткнулись на нескольких огромных, развороченных, прямо на земле, — значит, ветер уплотнялся и на высоте.
ТРАНСПОРТ
Аэроглиссер
 За ними, обгоняя, бесшумно шли четыре аэроглиссера в самом русле реки, а еще далее — элиолодки и джонки с голубыми парусами.
Буер
За ними, обгоняя, бесшумно шли четыре аэроглиссера в самом русле реки, а еще далее — элиолодки и джонки с голубыми парусами.
Буер

Так парус буера держится с помощью ветра, что его надувает, мачты с гиком, троса, который ею управляет, руки, что натягивает трос, карлингса, что держит мачту, веса тела, что удерживает человека на земле.
Контрас (трассировщики)
 …крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали…
Физалис
…крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали…
Физалис
 Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта.
(обратно)
Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта.
(обратно)
Оглавление
(орда)
I
ФАРЕОЛ
II
ХРОНЫ
III
КОСМОС — МОЕ ПРИСТАНИЩЕ
IV
КРЕПОСТЬ ОСТОВА
V
ЛЕГКАЯ ЭСКАДРА
VI
БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО СБИЛ…
VII
ПОСЛЕДНЯЯ ОРДА?
VIII
ДУБИЛЬЩИК
IX
ФОНТАННАЯ БАШНЯ
X
СИФОН
XI
ПОМИМО И ПОСКОЛЬКУ
XII
АЛЬТИЧЧИО
XIII
АЭРОБАШНЯ
XIV
ВЕРАМОРФ
XV
ПОРОДИВШИЕ НАС НА СВЕТ
XVI
НОРСКА, ЧЕРЕЗ БРЕШЬ
XVII
КРАФЛА
XVIII
ВИХРЬ
XIX
ДЕВЯТАЯ ФОРМА
Вы не обязаны это читать…
Приложение
Графические концепты











 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)
 Голгот, трассер
Голгот, трассер
 Пьетро делла Рокка, князь
Пьетро делла Рокка, князь
 Сов Строчнис, скриб
Сов Строчнис, скриб
 Караколь, трубадур
Караколь, трубадур
 Эрг Махаон, боец-защитник
Эрг Махаон, боец-защитник
 Тальвег Арсиппе, геомастер
Тальвег Арсиппе, геомастер
 Фирост де Торож, столп
Фирост де Торож, столп
 Ястребник, птичник-ловчий
Ястребник, птичник-ловчий
 Степп Форехис, флерон
Степп Форехис, флерон
 Арваль Редхамай, разведчик
Арваль Редхамай, разведчик
 Сокольник, птичник-ловчий
Сокольник, птичник-ловчий
 Горст и Карст Дубка, фланговики
Горст и Карст Дубка, фланговики
 Ороси Меликерт, аэромастер
Ороси Меликерт, аэромастер
 Альма Капис, сестричка
Альма Капис, сестричка
 Аои Нан, сборщица и лозоходка
Аои Нан, сборщица и лозоходка
 Ларко Скарса, небесный браконьер
Ларко Скарса, небесный браконьер
 Леарх Фюнглер, ремесленник по металлу
Леарх Фюнглер, ремесленник по металлу
 Каллироя Дейкун, огница
Каллироя Дейкун, огница
 Боскаво Силамфр, ремесленник по дереву
Боскаво Силамфр, ремесленник по дереву
 Кориолис, фаркопщик
Кориолис, фаркопщик
 Свезьест, фаркопщик
Свезьест, фаркопщик
 Барбак, фаркопщик
Барбак, фаркопщик


 Голгот
Голгот


 Роль Князя традиционно была церемониальной. Он занимался внешним представительством Орды и шел против ветра, прикрытый со всех сторон массой Пака. Через несколько поколений князья уже вовсю потели, контря во втором ряду, сразу за Трассёром. Это только добавило им уважения.
Пьетро — кульминация этой тенденции. Он превратил статус князя в реальную роль в организации и структурировании Орды. Он улаживает напряженности, поддерживает в трудную минуту, разрешает конфликты, дисциплинирует и при необходимости делает перестановки в группе. Он служит буфером между Голготом и Паком и выступает в защиту фаркопщиков, которым лично помогает — когда это необходимо.
Короче говоря, в каркасе коллектива Пьетро — главная несущая балка.
Роль Князя традиционно была церемониальной. Он занимался внешним представительством Орды и шел против ветра, прикрытый со всех сторон массой Пака. Через несколько поколений князья уже вовсю потели, контря во втором ряду, сразу за Трассёром. Это только добавило им уважения.
Пьетро — кульминация этой тенденции. Он превратил статус князя в реальную роль в организации и структурировании Орды. Он улаживает напряженности, поддерживает в трудную минуту, разрешает конфликты, дисциплинирует и при необходимости делает перестановки в группе. Он служит буфером между Голготом и Паком и выступает в защиту фаркопщиков, которым лично помогает — когда это необходимо.
Короче говоря, в каркасе коллектива Пьетро — главная несущая балка.

 Скриб — это тот, кто ведет летопись Трассы и путешествия для последующих орд. В юности он получает доступ ко всем записям «Контржурналов» — дневников тех прежних орд, которые не были уничтожены, и тем, копии которых удалось восстановить. Он изучает их с 10 до 20 лет, заучивает их (запоминание — базовый навык Скриба) и составляет компактный требник, который берет с собой и будет хранить всю свою жизнь.
Помимо Трассы, «Контржурнал» сводит в себе встретившиеся трудности, события, деревни, оказанный прием, совершённые ошибки, которых следует избегать, а также советы на будущее.
Таким образом, это настоящий роман, у которого будет всего один читатель, но он будет полезен сыновьям и дочерям нынешней Орды и последующим участникам. Еще он включает философские размышления, максимы, послания и сомнения. Он — память Орды, опора их легенды.
Помимо работы скрибом Сов — правая рука Пьетро в организации повседневной жизни.
Скриб — это тот, кто ведет летопись Трассы и путешествия для последующих орд. В юности он получает доступ ко всем записям «Контржурналов» — дневников тех прежних орд, которые не были уничтожены, и тем, копии которых удалось восстановить. Он изучает их с 10 до 20 лет, заучивает их (запоминание — базовый навык Скриба) и составляет компактный требник, который берет с собой и будет хранить всю свою жизнь.
Помимо Трассы, «Контржурнал» сводит в себе встретившиеся трудности, события, деревни, оказанный прием, совершённые ошибки, которых следует избегать, а также советы на будущее.
Таким образом, это настоящий роман, у которого будет всего один читатель, но он будет полезен сыновьям и дочерям нынешней Орды и последующим участникам. Еще он включает философские размышления, максимы, послания и сомнения. Он — память Орды, опора их легенды.
Помимо работы скрибом Сов — правая рука Пьетро в организации повседневной жизни.

 Функции трубадура никогда не существовало в орде. Ее придумал и привнес в своем лице Караколь.
Очевидно, что в группе он — глоток воздуха, ее кислородная подушка, ее кусочек лазури среди серости изматывающего похода. Его каждодневные байки, интригующие своей оригинальностью, наполняют удовольствием вечера. Его проделки, его безрассудства, его причудливый и непредсказуемый характер, его вспыхивающий огонь оживляет затертые кодексы и ритуалы орды.
Не менее важную роль он играет по отношению к внешнему миру, поскольку в лицах и звуках представляет в нем похождения орды и многое добавляет в легенды о ней.
Функции трубадура никогда не существовало в орде. Ее придумал и привнес в своем лице Караколь.
Очевидно, что в группе он — глоток воздуха, ее кислородная подушка, ее кусочек лазури среди серости изматывающего похода. Его каждодневные байки, интригующие своей оригинальностью, наполняют удовольствием вечера. Его проделки, его безрассудства, его причудливый и непредсказуемый характер, его вспыхивающий огонь оживляет затертые кодексы и ритуалы орды.
Не менее важную роль он играет по отношению к внешнему миру, поскольку в лицах и звуках представляет в нем похождения орды и многое добавляет в легенды о ней.

 Роль воина-защитника чрезвычайно проста: защищать орду от нападений извне — будь то люди или животные. Эрг — отличный охотник и в совершенстве изучил опасных животных, иметь дело с которыми его учили с шести лет.
Эрг обучался около двадцати лет у мастеров боевых искусств, засчитывая сюда кое-какие деревни, по которым проходила Орда, справился с множеством подготовленных ей засад. Он опытен в большинстве боевых искусств, сложившихся на земле, и овладел воздушным боем (практиковался в схватках на арене с прикрепленным парапланом). В дополнение к техникам защиты, составляющим суть его искусства, Эрг разработал уникальный стиль атаки, отчасти взятый из древних сводов орд, который хранится в секрете (а именно, скажем напоследок, это старинный стиль, который использует несущий воздушный змей и пару острых трехлопастных пропеллеров, прикрепленных к подошвам — атаки выполняются ногами, пропеллеры служат как рубящим оружием, так и помогают сохранить равновесие).
Крепко сложенный и широкоплечий Эрг играет заодно в походном строю роль столпа.
Роль воина-защитника чрезвычайно проста: защищать орду от нападений извне — будь то люди или животные. Эрг — отличный охотник и в совершенстве изучил опасных животных, иметь дело с которыми его учили с шести лет.
Эрг обучался около двадцати лет у мастеров боевых искусств, засчитывая сюда кое-какие деревни, по которым проходила Орда, справился с множеством подготовленных ей засад. Он опытен в большинстве боевых искусств, сложившихся на земле, и овладел воздушным боем (практиковался в схватках на арене с прикрепленным парапланом). В дополнение к техникам защиты, составляющим суть его искусства, Эрг разработал уникальный стиль атаки, отчасти взятый из древних сводов орд, который хранится в секрете (а именно, скажем напоследок, это старинный стиль, который использует несущий воздушный змей и пару острых трехлопастных пропеллеров, прикрепленных к подошвам — атаки выполняются ногами, пропеллеры служат как рубящим оружием, так и помогают сохранить равновесие).
Крепко сложенный и широкоплечий Эрг играет заодно в походном строю роль столпа.

 Геомастер сочетает обязанности и познания геолога и географа. Он обучался геоморфологии, геодинамике, минералогии, и так далее.
То, как он предугадывает рельеф и характер скал по частицам, принесенным ветром, неоценимо при выработке Трассы. Вместе с Ороси они — главные советники Голгота на маршруте.
В частности, он может определить характер местности, с которой столкнется Орда, тип эрозии, сильнейшие из поддающихся предсказанию эффектов ветра, расположение рек или источников… Также он может работать с камнем, распознавать типы конструкций, оценивать их прочность.
Дополняя флерона и аэромастера, геомастер замыкает треугольник геофизических знаний.
Геомастер сочетает обязанности и познания геолога и географа. Он обучался геоморфологии, геодинамике, минералогии, и так далее.
То, как он предугадывает рельеф и характер скал по частицам, принесенным ветром, неоценимо при выработке Трассы. Вместе с Ороси они — главные советники Голгота на маршруте.
В частности, он может определить характер местности, с которой столкнется Орда, тип эрозии, сильнейшие из поддающихся предсказанию эффектов ветра, расположение рек или источников… Также он может работать с камнем, распознавать типы конструкций, оценивать их прочность.
Дополняя флерона и аэромастера, геомастер замыкает треугольник геофизических знаний.

 У Клинка есть три столпа: Эрг, Талвег и Фирост, роль которых заключается в том, чтобы служить поддержкой ветролому (Голгот, Сов, Пьетро), когда ветер крепнет. Как и в регби, они обеспечивают сцепление всего Пака и предотвращают откат Клинка к Паку.
Ну, все понятно: Фирост — это здоровяк, который защищает с тыла и подпирает идущих навстречу ветру.
Помимо этого он неплохо мечет диски и пропеллеры, и несравненный добытчик дичи.
У Клинка есть три столпа: Эрг, Талвег и Фирост, роль которых заключается в том, чтобы служить поддержкой ветролому (Голгот, Сов, Пьетро), когда ветер крепнет. Как и в регби, они обеспечивают сцепление всего Пака и предотвращают откат Клинка к Паку.
Ну, все понятно: Фирост — это здоровяк, который защищает с тыла и подпирает идущих навстречу ветру.
Помимо этого он неплохо мечет диски и пропеллеры, и несравненный добытчик дичи.

 По традиции в каждой Орде есть два человека, охотящихся с птицами: один — с низколетящей (ястребом), другой — с высотной (соколом).
Их роль прозрачна: добывать с помощью своих охотничьих птиц дичь (зайцев, кроликов, куропаток, разных птиц…) для Орды.
Ястребник охотится с двумя ястребами-тетеревятниками и обеспечивает больше добычи, чем сокольник.
По традиции в каждой Орде есть два человека, охотящихся с птицами: один — с низколетящей (ястребом), другой — с высотной (соколом).
Их роль прозрачна: добывать с помощью своих охотничьих птиц дичь (зайцев, кроликов, куропаток, разных птиц…) для Орды.
Ястребник охотится с двумя ястребами-тетеревятниками и обеспечивает больше добычи, чем сокольник.

 Разведчик — это тот, кого отправляют вверх против ветра, чтобы проверить предполагаемую трассу и, возможно, ее подправить. Его высылают эпизодически — при выходе на пересеченный рельеф, при обходе озер, переходе рек. Иногда — на поиски деревни, которая затерялась где-то выше по ветру (проблема ориентирования).
Разведчик должен обладать двумя ценными качествами: скоростью и интуицией. Он должен уметь расчищать дорогу и пробираться, карабкаться, проходить опасные области в одиночку и быстро возвращаться, чтобы доложиться в Орду, которая зачастую продолжает продвигаться. Иногда, при появлении развилки, с разведкой альтернатив (пройти слева или справа от горы?) Арвалю помогает Караколь.
Разведчика могут попросить встать пораньше, чтобы провести аван-трассировку и не дать Орде сбиться с пути по сложным тропам. Он может разведать место для вечернего лагеря, или направить сборщиков к богатым местам. Во всех таких случаях он использует визуальные (стрелки, пирамиды из камней, огни, привязанный воздушный змей) или звуковые сигналы (сирены-фареолы).
Разведчик — это тот, кого отправляют вверх против ветра, чтобы проверить предполагаемую трассу и, возможно, ее подправить. Его высылают эпизодически — при выходе на пересеченный рельеф, при обходе озер, переходе рек. Иногда — на поиски деревни, которая затерялась где-то выше по ветру (проблема ориентирования).
Разведчик должен обладать двумя ценными качествами: скоростью и интуицией. Он должен уметь расчищать дорогу и пробираться, карабкаться, проходить опасные области в одиночку и быстро возвращаться, чтобы доложиться в Орду, которая зачастую продолжает продвигаться. Иногда, при появлении развилки, с разведкой альтернатив (пройти слева или справа от горы?) Арвалю помогает Караколь.
Разведчика могут попросить встать пораньше, чтобы провести аван-трассировку и не дать Орде сбиться с пути по сложным тропам. Он может разведать место для вечернего лагеря, или направить сборщиков к богатым местам. Во всех таких случаях он использует визуальные (стрелки, пирамиды из камней, огни, привязанный воздушный змей) или звуковые сигналы (сирены-фареолы).

 С их внушительными широкими плечами быть бы им столпами, но происхождение определило их во фланговые, которые почти не прикрыты с тыла. Встав на свои места, Дубка образуют удобную ветрозащиту для Фаркопа. В дополнение к этому они обладают незаурядной грузоподъемностью, что скрашивает долю фаркопщиков и позволяет время от времени перегружать на братьев излишки (дичи, фруктов и так далее). Наконец, у них так развита эмпатия с животными, что они обучились приручать зверей: они нередко приспосабливают под поклажу буйволов, лошадей, диких ослов или горсов (Кодекс Орды запрещает животных запрягать или седлать, но разрешает перевозить на них грузы).
Близнецы так добры, что часто помогают и сильно облегчают жизнь другим: они и сборщики, они и охотники, они носят сумки, они ищут деревяшки для Силамфра, они таскают руду для Леарха, они служат Махаону спарринг-партнерами и прочее. Они чуточку мастера на все руки.
С их внушительными широкими плечами быть бы им столпами, но происхождение определило их во фланговые, которые почти не прикрыты с тыла. Встав на свои места, Дубка образуют удобную ветрозащиту для Фаркопа. В дополнение к этому они обладают незаурядной грузоподъемностью, что скрашивает долю фаркопщиков и позволяет время от времени перегружать на братьев излишки (дичи, фруктов и так далее). Наконец, у них так развита эмпатия с животными, что они обучились приручать зверей: они нередко приспосабливают под поклажу буйволов, лошадей, диких ослов или горсов (Кодекс Орды запрещает животных запрягать или седлать, но разрешает перевозить на них грузы).
Близнецы так добры, что часто помогают и сильно облегчают жизнь другим: они и сборщики, они и охотники, они носят сумки, они ищут деревяшки для Силамфра, они таскают руду для Леарха, они служат Махаону спарринг-партнерами и прочее. Они чуточку мастера на все руки.

 Ранг аэромастера — самый высокий в иерархии эолистов. Он подразумевает очень глубокие познания, эмпирические и теоретические, в аэродинамике и механике жидкостей, применительно к конструкциям, а также к движущимся объектам и существам, к растительности, к рельефу.
Быть аэромастером по праву считается элитной функцией, требующей исключительных интуитивных и интеллектуальных качеств. Испытания на присвоение ранга проходят при ярветре и с крайне ограниченными подручными средствами в пустынной местности, и на каждых экзаменах (раз в три года) погибают три четверти соискателей, а выжившим даже не гарантируется получение статуса! Количество ныне живущих аэромастеров оценивается в двадцать человек, из которых только двое — женщины.
На практике Ороси конструирует все ветряные турбинки и приводы Орды, предсказывает ветры и хроны, дает советы Голготу относительно Трассы, подгоняет обмундирование и корректирует построение в Орде, приглядывает за кильватерными эффектами воздушного потока и за тем, как переносят турбулентность фаркопщики, профилирует сани и бумеранги… Она читает ветер куда лучше Голгота, хотя ему никогда об этом не узнать. Ее пост — единственный, который нельзя продублировать. Однако она понемногу тренирует Арваля на тот случай, если сама погибнет.
Ранг аэромастера — самый высокий в иерархии эолистов. Он подразумевает очень глубокие познания, эмпирические и теоретические, в аэродинамике и механике жидкостей, применительно к конструкциям, а также к движущимся объектам и существам, к растительности, к рельефу.
Быть аэромастером по праву считается элитной функцией, требующей исключительных интуитивных и интеллектуальных качеств. Испытания на присвоение ранга проходят при ярветре и с крайне ограниченными подручными средствами в пустынной местности, и на каждых экзаменах (раз в три года) погибают три четверти соискателей, а выжившим даже не гарантируется получение статуса! Количество ныне живущих аэромастеров оценивается в двадцать человек, из которых только двое — женщины.
На практике Ороси конструирует все ветряные турбинки и приводы Орды, предсказывает ветры и хроны, дает советы Голготу относительно Трассы, подгоняет обмундирование и корректирует построение в Орде, приглядывает за кильватерными эффектами воздушного потока и за тем, как переносят турбулентность фаркопщики, профилирует сани и бумеранги… Она читает ветер куда лучше Голгота, хотя ему никогда об этом не узнать. Ее пост — единственный, который нельзя продублировать. Однако она понемногу тренирует Арваля на тот случай, если сама погибнет.

 Функция сборщицы стара как орда, но никогда не считалась привилегированной. Ее не передают от матери к дочери, и сборщицы часто набираются из простонародья. Множество девочек мечтают присоединиться к Орде, и множество родителей их в этом поддерживают, поскольку пристроенная дочь гарантирует, что родные будут избавлены от нужды до конца их дней (по иронии судьбы неблагодарная семья Аои извлекла выгоду из этого шанса, будучи ни при чем).
Сборщица всегда укрыта на марше внутри Пака и развивает бурную деятельность во время привалов и вечернего отдыха, когда она старательно ищет зерна, съедобные растения, фрукты, воду для всей Орды, и в особенности для Клинка. В этом ей помогают флерон и Альма, Каллироя, а иногда и Ороси; время от времени — и Дубки.
Ее роль жизненно важна. Количество и разнообразие собранного влияет на боевой дух отряда и его здоровье. Грязная вода может придержать орду на несколько дней. Ядовитый фрукт может уложить ордийца и так замедлить всю группу.
В каком-то смысле эта роль напряженная и довольно щекотливая в пустынных местностях, где Аои обязана нарвать полную корзину плодов, не говоря уже о продолжительности дня на ногах: Аои начинает работать тогда, когда остальные наконец устраиваются на отдых.
Функция сборщицы стара как орда, но никогда не считалась привилегированной. Ее не передают от матери к дочери, и сборщицы часто набираются из простонародья. Множество девочек мечтают присоединиться к Орде, и множество родителей их в этом поддерживают, поскольку пристроенная дочь гарантирует, что родные будут избавлены от нужды до конца их дней (по иронии судьбы неблагодарная семья Аои извлекла выгоду из этого шанса, будучи ни при чем).
Сборщица всегда укрыта на марше внутри Пака и развивает бурную деятельность во время привалов и вечернего отдыха, когда она старательно ищет зерна, съедобные растения, фрукты, воду для всей Орды, и в особенности для Клинка. В этом ей помогают флерон и Альма, Каллироя, а иногда и Ороси; время от времени — и Дубки.
Ее роль жизненно важна. Количество и разнообразие собранного влияет на боевой дух отряда и его здоровье. Грязная вода может придержать орду на несколько дней. Ядовитый фрукт может уложить ордийца и так замедлить всю группу.
В каком-то смысле эта роль напряженная и довольно щекотливая в пустынных местностях, где Аои обязана нарвать полную корзину плодов, не говоря уже о продолжительности дня на ногах: Аои начинает работать тогда, когда остальные наконец устраиваются на отдых.

 Если описать роль Ларко в двух словах, выходит довольно обтекаемо: просеиватель небес, воздушный браконьер, облачный рыбак, охотник за мясом, зверолов — таких терминов предостаточно. Скажем так: вооружившись воздушным змеем с прицепленной плетеной клеткой с дверцей, он отлавливает все, что в нее попадает на высоте десяти метров. Поэтому во время перехода он тянет над собой свою летающую клетку и тащит ее вниз, как только чувствует резкий рывок. В зависимости от ветра он еще может ловить на шар с иглами, сеткой, на клей, помещая в клетку живую или неживую приманку (насекомые, цветы, мед…)
В основном его улов составляют птицы, но также могут в летающую ловушку попадаться ветряные медузы, легкие зверьки, оторванные ветром от земли, предметы (листья для разжигания огня, семена, фрукты, разные материалы и так далее).
Улов Ларко, зачастую скромный, скрашивает обычный рацион, а иногда оказывается бесценным в пустынных районах. Тем более, что с вечера он ставит дюжину клеток, а ночью ловится лучше. На следующее утро завтраком часто угощает Ларко (ловушки на земле он тоже ставит, но давайте продолжим).
Если описать роль Ларко в двух словах, выходит довольно обтекаемо: просеиватель небес, воздушный браконьер, облачный рыбак, охотник за мясом, зверолов — таких терминов предостаточно. Скажем так: вооружившись воздушным змеем с прицепленной плетеной клеткой с дверцей, он отлавливает все, что в нее попадает на высоте десяти метров. Поэтому во время перехода он тянет над собой свою летающую клетку и тащит ее вниз, как только чувствует резкий рывок. В зависимости от ветра он еще может ловить на шар с иглами, сеткой, на клей, помещая в клетку живую или неживую приманку (насекомые, цветы, мед…)
В основном его улов составляют птицы, но также могут в летающую ловушку попадаться ветряные медузы, легкие зверьки, оторванные ветром от земли, предметы (листья для разжигания огня, семена, фрукты, разные материалы и так далее).
Улов Ларко, зачастую скромный, скрашивает обычный рацион, а иногда оказывается бесценным в пустынных районах. Тем более, что с вечера он ставит дюжину клеток, а ночью ловится лучше. На следующее утро завтраком часто угощает Ларко (ловушки на земле он тоже ставит, но давайте продолжим).

 Огница — мастерица огня и огненных искусств.
Прежде всего она должна уметь зажечь походный костер где угодно, когда угодно и так, чтобы он продержался всю ночь. Затем, ей следует обеспечивать годные костры для приготовления пищи, для копчения, для кузнечных дел Леарха и закалки кое-каких пород древесины для Силамфра. Она сама готовит посуду и дичь, а также фаянс, который может понадобиться для мастеровых. Заодно она и сушит одежду.
Каллироя знакома со всякими видами древесины, их процессом горения, природой получаемых углей, способами использования ветра для разжигания или притушивания, температурой, которой следует достичь для нужд мастеров, а также превращениями материалов, связанными с теплом. Она знает, как избежать пожара в прерии и как его устроить.
Огница — мастерица огня и огненных искусств.
Прежде всего она должна уметь зажечь походный костер где угодно, когда угодно и так, чтобы он продержался всю ночь. Затем, ей следует обеспечивать годные костры для приготовления пищи, для копчения, для кузнечных дел Леарха и закалки кое-каких пород древесины для Силамфра. Она сама готовит посуду и дичь, а также фаянс, который может понадобиться для мастеровых. Заодно она и сушит одежду.
Каллироя знакома со всякими видами древесины, их процессом горения, природой получаемых углей, способами использования ветра для разжигания или притушивания, температурой, которой следует достичь для нужд мастеров, а также превращениями материалов, связанными с теплом. Она знает, как избежать пожара в прерии и как его устроить.

 Фаркопщик, также известный как тягловая собака, берет на себя самую неблагодарную роль в Орде: буксировать сани в хвосте Стаи. В этих санях, замечательно обтекаемых и стоящих на трех колесах из стали и дерева, содержатся личные вещи ордийцев, в частности — оборудование, необходимое для их работы.
Саней трое, они весят от 30 до 40 килограммов каждые.
Фаркопщик надевает обвязку, от которой отходят две веревки, зацепленные за передок саней.
Благодаря Ороси, которая во многом доработала сани, уже шесть лет как к задней части этих повозок прикрепили осевые ветряные турбины, обеспечивающие тягу скромную, но облегчающую фаркопщикам жизнь.
Конечно, фаркопщики всегда защищены, а во время отдыха и лагерной стоянки они освобождаются от любых работ.
На подъемах, особенно длинных, нередко можно увидеть, как Пьетро, Сов, Эрг или Фирост отходят назад, чтобы помочь фаркопщикам. Для Кориолис это большое подспорье…
На спуске эффективное торможение обеспечивается регулируемым крылом.
Фаркопщик, также известный как тягловая собака, берет на себя самую неблагодарную роль в Орде: буксировать сани в хвосте Стаи. В этих санях, замечательно обтекаемых и стоящих на трех колесах из стали и дерева, содержатся личные вещи ордийцев, в частности — оборудование, необходимое для их работы.
Саней трое, они весят от 30 до 40 килограммов каждые.
Фаркопщик надевает обвязку, от которой отходят две веревки, зацепленные за передок саней.
Благодаря Ороси, которая во многом доработала сани, уже шесть лет как к задней части этих повозок прикрепили осевые ветряные турбины, обеспечивающие тягу скромную, но облегчающую фаркопщикам жизнь.
Конечно, фаркопщики всегда защищены, а во время отдыха и лагерной стоянки они освобождаются от любых работ.
На подъемах, особенно длинных, нередко можно увидеть, как Пьетро, Сов, Эрг или Фирост отходят назад, чтобы помочь фаркопщикам. Для Кориолис это большое подспорье…
На спуске эффективное торможение обеспечивается регулируемым крылом.


 (обратно)
(обратно)


 , « - ». , . ,
, , .
, « - ». , . ,
, , .


 а ско — , лови , «я» , при сть, мос. лен в ир , жизни,
до спеш , стал рости.
а ско — , лови , «я» , при сть, мос. лен в ир , жизни,
до спеш , стал рости.


 на але бы а лько скорость — но , неулови же , «ветер- о н ». , обрет и плот , стал космос. от нас медление, мир обит , жизни, вас.
, добро , неспеш пут оков и у , стал пле сти.
на але бы а лько скорость — но , неулови же , «ветер- о н ». , обрет и плот , стал космос. от нас медление, мир обит , жизни, вас.
, добро , неспеш пут оков и у , стал пле сти.


 начале олько скорость — сплош , уловимо и , «в -молния». тем, прио очертан плотно , различи космос. лишь ст заме ние, дел при дным дл итания, я жи , в .
Итак, пожаловать, спеш путник в узах, летел скорости.
начале олько скорость — сплош , уловимо и , «в -молния». тем, прио очертан плотно , различи космос. лишь ст заме ние, дел при дным дл итания, я жи , в .
Итак, пожаловать, спеш путник в узах, летел скорости.


 Вначале была только скорость — сплошное, неуловимое движение, «ветер-молния». Затем, приобретая очертания и плотность, стал различим космос. И лишь потом настало замедление, сделав этот мир пригодным для обитания, для жизни, для вас.
Итак, добро пожаловать, неспешный путник в оковах и узах, усталый плетельщик скорости.
Вначале была только скорость — сплошное, неуловимое движение, «ветер-молния». Затем, приобретая очертания и плотность, стал различим космос. И лишь потом настало замедление, сделав этот мир пригодным для обитания, для жизни, для вас.
Итак, добро пожаловать, неспешный путник в оковах и узах, усталый плетельщик скорости.




 ¿'
¿'  , .
, .

 Мы созданы , котор
Мы созданы , котор


 материи,
материи,


 из сотканы
из сотканы


 даны из , ветра.
даны из , ветра.


 ¿'
¿'  Мы созданы из материи, из которой сотканы ветра
Мы созданы из материи, из которой сотканы ветра




 (обратно)
(обратно)
 На пятом залпе ударной волной проломило ребро заградительной стены, и сквозь зияющие стыки гранита деревню вмиг занесло песком. Я как можно ближе пригнулся к Пьетро, кварцевые стрелки его контрмаски трещали, от жуткого звука скрежещущего камня шлем пробивало до дрожи в зубах. Мы укрылись в переулке. Рядом с нами, прямо на земле, лежали два насмерть изрешеченных песком старика, — бедолаги наверняка замешкались, заколачивая ставни. Чуть поодаль, на перекрестке, всего пару минут назад хорохорилась ватага мальчишек — корчили из себя смельчаков, носились по улице без шлемов, бросали ветру свои ребяческие вызовы, да такие, на которые при подобной мощности и вязкости ветра не отважились бы даже мы сами. Теперь я тщетно вглядывался вперед, пытаясь отыскать их, но на перекрестке было пусто. Вся Орда прижалась к западному фасаду какой-то постройки, которая показалась нам не столь жалко сколоченной, как все остальные; мы ждали отката волны, короткой паузы в ускорении, когда можно будет проконтровать в лабиринте улиц вплоть до стены и уже оттуда выдвигаться дальше. Если, конечно, мы вообще решимся выйти за заградительный вал. В затишье было слышно, как стонал изогнутый металл куполов, как скрипел захлебывающийся песком ве-
На пятом залпе ударной волной проломило ребро заградительной стены, и сквозь зияющие стыки гранита деревню вмиг занесло песком. Я как можно ближе пригнулся к Пьетро, кварцевые стрелки его контрмаски трещали, от жуткого звука скрежещущего камня шлем пробивало до дрожи в зубах. Мы укрылись в переулке. Рядом с нами, прямо на земле, лежали два насмерть изрешеченных песком старика, — бедолаги наверняка замешкались, заколачивая ставни. Чуть поодаль, на перекрестке, всего пару минут назад хорохорилась ватага мальчишек — корчили из себя смельчаков, носились по улице без шлемов, бросали ветру свои ребяческие вызовы, да такие, на которые при подобной мощности и вязкости ветра не отважились бы даже мы сами. Теперь я тщетно вглядывался вперед, пытаясь отыскать их, но на перекрестке было пусто. Вся Орда прижалась к западному фасаду какой-то постройки, которая показалась нам не столь жалко сколоченной, как все остальные; мы ждали отката волны, короткой паузы в ускорении, когда можно будет проконтровать в лабиринте улиц вплоть до стены и уже оттуда выдвигаться дальше. Если, конечно, мы вообще решимся выйти за заградительный вал. В затишье было слышно, как стонал изогнутый металл куполов, как скрипел захлебывающийся песком ве-
 Друзья просторов и широт, мое вам вновь и вновь почтенье! Пожалуй же и к нам, старик-ярветер, наш неуемный папаша-свистун, как же мне мило предвкушать твое парящее на крыльях приближенье, сумбурное, конечно, но хотя?!. Ах, разумеется, пожалуйте и вы, молодые песочные глифы, хроны и антихроны! О, вы заявите о себе без лишних церемоний. Но я того лишь только и хочу, я жажду встречи с вами! Польщен и окрылен!
Я не представился? Не может быть! Прошу простить, но миг сей вдохновляет на лиризм, позвольте, мы… да, здравствуйте, а вы? Да-да, я Караколь, итак, о чем я? Ах да, он самый, трубадур, рассказчик, стало быть. Для чьих ушей? 34-й Орды, господа, Встречного Ветра, само собой, а как иначе? Ведет же нас не кто иной, как свирепейший и почтеннейший из всех, от одного лишь имени его у вас сейчас же перехватит дух, да здравствует Голгот IX, наш Трассер. Бок о бок с ним — боец-защитник, да будет вам знаком, — Эрг Махаон, рубильщик ветров и врагов; с ним рядом — столп, которому нет равных, оплот на двух ногах, Фирост де Торож. Будьте любезны с ним, прекрасные сударыни, так как не более чем через час вы будете счастливы укрыться за его спиной, когда мои отцы и матери извергнут вам в лицо песочной крошки из своего нутра. Так! Но кто же выступает вслед за неукротимой тройкой? Кто ободряет и дает совет? Конечно же князь Пьетро, из рода делла Рокка, из благороднейшей семьи, да его верный спутник, всегда по левое плечо, сын оборванца, но с
Друзья просторов и широт, мое вам вновь и вновь почтенье! Пожалуй же и к нам, старик-ярветер, наш неуемный папаша-свистун, как же мне мило предвкушать твое парящее на крыльях приближенье, сумбурное, конечно, но хотя?!. Ах, разумеется, пожалуйте и вы, молодые песочные глифы, хроны и антихроны! О, вы заявите о себе без лишних церемоний. Но я того лишь только и хочу, я жажду встречи с вами! Польщен и окрылен!
Я не представился? Не может быть! Прошу простить, но миг сей вдохновляет на лиризм, позвольте, мы… да, здравствуйте, а вы? Да-да, я Караколь, итак, о чем я? Ах да, он самый, трубадур, рассказчик, стало быть. Для чьих ушей? 34-й Орды, господа, Встречного Ветра, само собой, а как иначе? Ведет же нас не кто иной, как свирепейший и почтеннейший из всех, от одного лишь имени его у вас сейчас же перехватит дух, да здравствует Голгот IX, наш Трассер. Бок о бок с ним — боец-защитник, да будет вам знаком, — Эрг Махаон, рубильщик ветров и врагов; с ним рядом — столп, которому нет равных, оплот на двух ногах, Фирост де Торож. Будьте любезны с ним, прекрасные сударыни, так как не более чем через час вы будете счастливы укрыться за его спиной, когда мои отцы и матери извергнут вам в лицо песочной крошки из своего нутра. Так! Но кто же выступает вслед за неукротимой тройкой? Кто ободряет и дает совет? Конечно же князь Пьетро, из рода делла Рокка, из благороднейшей семьи, да его верный спутник, всегда по левое плечо, сын оборванца, но с
 Я ждал, что скажет Голгот, — ясно было, что вся эта деревенька была ему по меньшей мере отвратительна, но он молчал, только покачивал головой, то и дело пинал ботинком глинобитку. В конце переулка виднелась заградительная стена. В проулках между домами вовсю свирепствовал эффект Лассини. Посеревшую от пыли и утрамбованную бесконечным ветром землю накрыло полотном латерита. Небо сделалось цвета моего метательного диска, превратилось в один сплошной поток металла и неслось над нами, неумолимо набирая скорость. Улицы наконец совсем опустели. Некоторые семьи все-таки вышли забрать своих стариков в укрытие. Все двери и ставни захлопнулись — ни взгляда, ни слова в нашу сторону. Самые опытные спустились в шурфы, тщательно заперев за
Я ждал, что скажет Голгот, — ясно было, что вся эта деревенька была ему по меньшей мере отвратительна, но он молчал, только покачивал головой, то и дело пинал ботинком глинобитку. В конце переулка виднелась заградительная стена. В проулках между домами вовсю свирепствовал эффект Лассини. Посеревшую от пыли и утрамбованную бесконечным ветром землю накрыло полотном латерита. Небо сделалось цвета моего метательного диска, превратилось в один сплошной поток металла и неслось над нами, неумолимо набирая скорость. Улицы наконец совсем опустели. Некоторые семьи все-таки вышли забрать своих стариков в укрытие. Все двери и ставни захлопнулись — ни взгляда, ни слова в нашу сторону. Самые опытные спустились в шурфы, тщательно заперев за
 Как ты бесхитростно права, милая Кориолис, но, думаешь, хоть кто-то из Клинка тебя послушает? Ты всего-навсего фаркопщица, контруешь себе в самом конце строя, тянешься у других за спинами и понятия не имеешь, что такое лицевой ветер. Ты в Орде еще слишком новенькая. Сколько ты с нами, восемь месяцев? Меня они хоть и уважают как сборщицу и лозоходку, но и мне, заикнись я спорить, просто посмеялись бы в ответ: «Ну так иди, Аои, вперед, девочка, прикрой нас, раз тебе так хочется…». Но разве нам с тобой это под силу…
Если уж умирать с животом, пробитым куском бревна, то они уж точно предпочтут, чтоб это случилось на равнине, на открытом ветру, а не в колодце под завалами, с перебитыми под тяжестью балок позвонками. В этих вещах нет ничего рационального. Там, снаружи, опасность будет запредельной. Здесь же ее можно приручить — достаточно выбрать стену понадежнее и привязаться к ней. Но нет, мы все сделаем иначе. Сначала все переругаемся, но так, не всерьез, на лету: одни проголосуют за, другие против. Силамфр с Ларко вряд ли захотят идти, и Альма тоже, а Свезьест и так в ужасе от ран Кориолис. Затем
Как ты бесхитростно права, милая Кориолис, но, думаешь, хоть кто-то из Клинка тебя послушает? Ты всего-навсего фаркопщица, контруешь себе в самом конце строя, тянешься у других за спинами и понятия не имеешь, что такое лицевой ветер. Ты в Орде еще слишком новенькая. Сколько ты с нами, восемь месяцев? Меня они хоть и уважают как сборщицу и лозоходку, но и мне, заикнись я спорить, просто посмеялись бы в ответ: «Ну так иди, Аои, вперед, девочка, прикрой нас, раз тебе так хочется…». Но разве нам с тобой это под силу…
Если уж умирать с животом, пробитым куском бревна, то они уж точно предпочтут, чтоб это случилось на равнине, на открытом ветру, а не в колодце под завалами, с перебитыми под тяжестью балок позвонками. В этих вещах нет ничего рационального. Там, снаружи, опасность будет запредельной. Здесь же ее можно приручить — достаточно выбрать стену понадежнее и привязаться к ней. Но нет, мы все сделаем иначе. Сначала все переругаемся, но так, не всерьез, на лету: одни проголосуют за, другие против. Силамфр с Ларко вряд ли захотят идти, и Альма тоже, а Свезьест и так в ужасе от ран Кориолис. Затем
 Я, как только унюхал блааст, по запаху холода сразу понял, что сейчас шибанет. Нахлобучил пониже кожаный шлем, затянул ремни на камзоле. Жестко. По самое рыло. Пригнул голову и нырнул. Прямиком в шни. В переулке по щекам клевало так, что хоть наотмашь руками отбивай. Уложил поток плечом, слева, справа, кадрированный, опорный. Мне каким-то стулом по колену шибануло будь здоров. Черепицу с крыш у нас над головами разметало, только пригибаться успевай. Лучше было держаться подальше от лачуг, там прицепленные за крюк буера в стены лупили как ненормальные. Насчет Кориолис я сразу просек. Она в штаны наложит, понятное дело, — это ее первый ярветер. Девственница еще, ляжки сжимает. Но мать твою, мы же и так ее все время прикрываем! По максимуму. Даже телегу у нее забрали, чтоб шла налегке. Да, заботимся мы о ней. Они так уж точно. Девчонка еще, конечно, но ничего, вопль выучит. Затрава у нее хватит. Я крикнул «Стоп!», и все сбились в кучу, спиной к укрепительной стене. Оставшиеся позади хибары разнесло в щепки. Деревню накрыло красным брюшным потопом. Горы песка хлестали с неба так, будто его оттуда нам на голову мойщицы ведрами хлобыстали.
Я, как только унюхал блааст, по запаху холода сразу понял, что сейчас шибанет. Нахлобучил пониже кожаный шлем, затянул ремни на камзоле. Жестко. По самое рыло. Пригнул голову и нырнул. Прямиком в шни. В переулке по щекам клевало так, что хоть наотмашь руками отбивай. Уложил поток плечом, слева, справа, кадрированный, опорный. Мне каким-то стулом по колену шибануло будь здоров. Черепицу с крыш у нас над головами разметало, только пригибаться успевай. Лучше было держаться подальше от лачуг, там прицепленные за крюк буера в стены лупили как ненормальные. Насчет Кориолис я сразу просек. Она в штаны наложит, понятное дело, — это ее первый ярветер. Девственница еще, ляжки сжимает. Но мать твою, мы же и так ее все время прикрываем! По максимуму. Даже телегу у нее забрали, чтоб шла налегке. Да, заботимся мы о ней. Они так уж точно. Девчонка еще, конечно, но ничего, вопль выучит. Затрава у нее хватит. Я крикнул «Стоп!», и все сбились в кучу, спиной к укрепительной стене. Оставшиеся позади хибары разнесло в щепки. Деревню накрыло красным брюшным потопом. Горы песка хлестали с неба так, будто его оттуда нам на голову мойщицы ведрами хлобыстали.
 Чтобы хоть немного унять нервы, я села и положила голову на плечо Ороси — так удобнее было наблюдать, как силуэты продвигаются вперед и выходят через отверстие в укреплении. В паре метров к верховью от портика каменный навес пресекал основной поток, и сквозь
Чтобы хоть немного унять нервы, я села и положила голову на плечо Ороси — так удобнее было наблюдать, как силуэты продвигаются вперед и выходят через отверстие в укреплении. В паре метров к верховью от портика каменный навес пресекал основной поток, и сквозь
 В этом шквале я почти не слышал разговора Ороси и Степпа. Но я точно знал, что ярветер неизбежен. Что если пойдем дальше вверх, Свезьеста в два счета снесет вместе с его прицепом. Но еще больше меня беспокоили девочки. Мы прекрасно понимали, что случится в самый разгар: Пак развалится. Его продырявит порывами ветра. В прошлый раз именно так и было. И я решил взять слово, стараясь кричать симметрично вдоль стены, так, чтобы вся Орда меня услышала:
— Благоразумнее всего было бы остаться здесь! Свезьест вряд ли выберется живым. Каллироя и Аои тоже. Нам предстоит встреча с самым мощным ярветром, который мы когда-либо видели. Латерит, утяжеленный
В этом шквале я почти не слышал разговора Ороси и Степпа. Но я точно знал, что ярветер неизбежен. Что если пойдем дальше вверх, Свезьеста в два счета снесет вместе с его прицепом. Но еще больше меня беспокоили девочки. Мы прекрасно понимали, что случится в самый разгар: Пак развалится. Его продырявит порывами ветра. В прошлый раз именно так и было. И я решил взять слово, стараясь кричать симметрично вдоль стены, так, чтобы вся Орда меня услышала:
— Благоразумнее всего было бы остаться здесь! Свезьест вряд ли выберется живым. Каллироя и Аои тоже. Нам предстоит встреча с самым мощным ярветром, который мы когда-либо видели. Латерит, утяжеленный
 Э-эй, Голгот, ты что, решил дать ордище волю поконфабулировать, как на торгах, по парочкам, чтоб на всех хватило — дебаты, ссора, спор? Чего ты им не влепишь? А нет, смотри-ка, наконец все-таки встал да потащил к нам свою длиннющую и широченную физиономию, не нос, а сопло с раздутыми ноздрями, модель исходная, без изощрений, с такой удобно сопли вышибать. Проходит мимо нас, верзила с нависшим лбом, бурлит, бушует, впрочем, как всегда, а как деликатно расплевывается во все стороны, давай его, ату! Как ты прекрасен, элегантен! Вот вытирает струйку слюны, потекшую по порыжевшей бороде. Подходит к Степпу, возвращается к Тальвегу, кидает пару слов Ороси, смотрит на Пьетро — один сплошной балет, весь гибок, бороздит. Дает нам знак, чтоб выстроились полукругом. Все исполняют, я — первее всех, да поживей. Сейчас он будет говорить!
— Помните последний ярветер, который мы отгребли? Когда это было, два года назад? Могу вам целиком выгрузить, как все было. И как Верваля санями сорвало. И как Ди Неббе потеряли, хотя крепкий был фланговик. Он столько песка сожрал за один-единственный зашквал, что даже встать не смог, а когда на колени перекатился, чтоб выблевать, его скосило куском забора, который снесло вместе с Карстом и Фиростом верхом.
Э-эй, Голгот, ты что, решил дать ордище волю поконфабулировать, как на торгах, по парочкам, чтоб на всех хватило — дебаты, ссора, спор? Чего ты им не влепишь? А нет, смотри-ка, наконец все-таки встал да потащил к нам свою длиннющую и широченную физиономию, не нос, а сопло с раздутыми ноздрями, модель исходная, без изощрений, с такой удобно сопли вышибать. Проходит мимо нас, верзила с нависшим лбом, бурлит, бушует, впрочем, как всегда, а как деликатно расплевывается во все стороны, давай его, ату! Как ты прекрасен, элегантен! Вот вытирает струйку слюны, потекшую по порыжевшей бороде. Подходит к Степпу, возвращается к Тальвегу, кидает пару слов Ороси, смотрит на Пьетро — один сплошной балет, весь гибок, бороздит. Дает нам знак, чтоб выстроились полукругом. Все исполняют, я — первее всех, да поживей. Сейчас он будет говорить!
— Помните последний ярветер, который мы отгребли? Когда это было, два года назад? Могу вам целиком выгрузить, как все было. И как Верваля санями сорвало. И как Ди Неббе потеряли, хотя крепкий был фланговик. Он столько песка сожрал за один-единственный зашквал, что даже встать не смог, а когда на колени перекатился, чтоб выблевать, его скосило куском забора, который снесло вместе с Карстом и Фиростом верхом.
 Начался откат, и в этой нависшей, почти успокаивающей тишине слова Голгота как будто рикошетили о гранитную стену:
— Вы — лучший Блок, который я когда-либо тянул. Не самый крепкий физически, это да, но самый ударный в контре. Самый компактный. Мы с вами связаны, народ, не могу вам лучше этого объяснить…
— Узлом…
— Узлом, да, Сов, завязаны одним узлом из собственных кишок. Я знаю, что с вами смогу протрассировать дальше, чем когда-либо доберется мой папаша. Знаю, что с вами дойду до упора. Я не хочу потерять ни одну каменюку из нашего Блока. Даже того же Свезьеста, хоть он еще и малость легковат для контра, даже Альму и Каллирою, хотя они как две занозы в заднице. Да даже этого клоуна Караколя, который ни черта не понимает, что такое Пак, но каким-то макаром чует все зашквалы. Я вам вот что скажу: если нас все равно размажет, так пусть уж лучше всех вместе и по ту сторону стены, чем в этом селе у крыжовников за пазухой, тут даже флаг присобачить некуда! Лучше сразу выйти, и нечего тут об этом часами кудахтать, так и досидеться можно… Ни один Трассер, у которого шарики за ролики не задуло, не взял бы на себя такой риск.
Начался откат, и в этой нависшей, почти успокаивающей тишине слова Голгота как будто рикошетили о гранитную стену:
— Вы — лучший Блок, который я когда-либо тянул. Не самый крепкий физически, это да, но самый ударный в контре. Самый компактный. Мы с вами связаны, народ, не могу вам лучше этого объяснить…
— Узлом…
— Узлом, да, Сов, завязаны одним узлом из собственных кишок. Я знаю, что с вами смогу протрассировать дальше, чем когда-либо доберется мой папаша. Знаю, что с вами дойду до упора. Я не хочу потерять ни одну каменюку из нашего Блока. Даже того же Свезьеста, хоть он еще и малость легковат для контра, даже Альму и Каллирою, хотя они как две занозы в заднице. Да даже этого клоуна Караколя, который ни черта не понимает, что такое Пак, но каким-то макаром чует все зашквалы. Я вам вот что скажу: если нас все равно размажет, так пусть уж лучше всех вместе и по ту сторону стены, чем в этом селе у крыжовников за пазухой, тут даже флаг присобачить некуда! Лучше сразу выйти, и нечего тут об этом часами кудахтать, так и досидеться можно… Ни один Трассер, у которого шарики за ролики не задуло, не взял бы на себя такой риск.
 Голгот спрашивал наше мнение! Это было настолько невероятно, что меня это даже порядком озадачило… Он впервые так выговорился. Впервые говорил с нами, а не со своим умершим братом, не с ненавидимым отцом, а с нами. Не могло быть и речи, чтоб я дал ему уйти одному. Он отлично это знал. Но уже то, что он предоставлял нам право выбора, пусть даже чисто теоретически, для меня и этого было вполне достаточно. С его стороны этим все было сказано — уважение, которое он к нам таким образом проявил, пусть и скупое на слова, было оттого только трогательнее. Я стал считать поднятые вокруг себя руки: Альма, Аои и Каллироя, Кориолис, Свезьест, Силамфр, ястребник, Ларко, Тальвег и Степп… Чувствовалось колебание. Десять ордийцев за то, чтобы остаться в укрытии. Наверняка недостаточно.
— Теперь кто за то, чтобы выйти? Поднимите кулак!
Десять кулаков взметнулось вверх! Мой — последний, я не хотел ни на кого повлиять своим решением. Оставались Караколь и братья Дубка, которые, по всей вероятности, не хотели никого огорчить. Сов спросил Караколя, который, пользуясь откатом, запустил свой бум. Небезопасно.
— Караколь, можно узнать, что ты думаешь?
— Да, разумеется!
— И что же?
Голгот спрашивал наше мнение! Это было настолько невероятно, что меня это даже порядком озадачило… Он впервые так выговорился. Впервые говорил с нами, а не со своим умершим братом, не с ненавидимым отцом, а с нами. Не могло быть и речи, чтоб я дал ему уйти одному. Он отлично это знал. Но уже то, что он предоставлял нам право выбора, пусть даже чисто теоретически, для меня и этого было вполне достаточно. С его стороны этим все было сказано — уважение, которое он к нам таким образом проявил, пусть и скупое на слова, было оттого только трогательнее. Я стал считать поднятые вокруг себя руки: Альма, Аои и Каллироя, Кориолис, Свезьест, Силамфр, ястребник, Ларко, Тальвег и Степп… Чувствовалось колебание. Десять ордийцев за то, чтобы остаться в укрытии. Наверняка недостаточно.
— Теперь кто за то, чтобы выйти? Поднимите кулак!
Десять кулаков взметнулось вверх! Мой — последний, я не хотел ни на кого повлиять своим решением. Оставались Караколь и братья Дубка, которые, по всей вероятности, не хотели никого огорчить. Сов спросил Караколя, который, пользуясь откатом, запустил свой бум. Небезопасно.
— Караколь, можно узнать, что ты думаешь?
— Да, разумеется!
— И что же?
 Это что, очередное видение? Такое с ним иногда случалось, всегда очень точно, как наяву, но, как правило, он доверял их только мне, опасаясь вызвать беспокойство…
— Откуда ты знаешь?
— Помню. Из будущего.
Никто толком не понял, рассмеяться в ответ или обругать его. Время поджимало. Тальвег решил отнестись к нему всерьез:
— На какой долготе твой порт, Карак?
— Десять градусов на юг.
— Придется контровать немного наискось.
— Ты серьезно, трубадур? Это не шутки, — настаивал Пьетро.
Это что, очередное видение? Такое с ним иногда случалось, всегда очень точно, как наяву, но, как правило, он доверял их только мне, опасаясь вызвать беспокойство…
— Откуда ты знаешь?
— Помню. Из будущего.
Никто толком не понял, рассмеяться в ответ или обругать его. Время поджимало. Тальвег решил отнестись к нему всерьез:
— На какой долготе твой порт, Карак?
— Десять градусов на юг.
— Придется контровать немного наискось.
— Ты серьезно, трубадур? Это не шутки, — настаивал Пьетро.
 Тело Караколя, обыкновенно такое гибкое, слегка напряглось, утратив свою естественную грациозность. Светлые курчавые волосы, прибитые шквалами ветра, падали ему на лицо. На плечах — рубаха арлекина (сшитая из мириад лоскутков ткани, взятых с одежд несчетного множества людей: мужчин, женщин, ребятишек, с которыми он, как он сам говорил, «немало повидал»), слегка побагровела и топорщилась во все стороны.
— Совершенно серьезно. Порт в получасе контра, в десяти градусах к югу, с двумя драккаэро-крюками, ржавыми, но крепкими.
— Никто там не пришвартован?
— Нет, пустой. Только для нас.
— Откуда ты знаешь? — повторила Кориолис, морщась от боли, пока Альма перевязывала ей руку.
Тело Караколя, обыкновенно такое гибкое, слегка напряглось, утратив свою естественную грациозность. Светлые курчавые волосы, прибитые шквалами ветра, падали ему на лицо. На плечах — рубаха арлекина (сшитая из мириад лоскутков ткани, взятых с одежд несчетного множества людей: мужчин, женщин, ребятишек, с которыми он, как он сам говорил, «немало повидал»), слегка побагровела и топорщилась во все стороны.
— Совершенно серьезно. Порт в получасе контра, в десяти градусах к югу, с двумя драккаэро-крюками, ржавыми, но крепкими.
— Никто там не пришвартован?
— Нет, пустой. Только для нас.
— Откуда ты знаешь? — повторила Кориолис, морщась от боли, пока Альма перевязывала ей руку.
 Голгот сам помог подняться и Кориолис, и всем остальным девочкам по очереди. Поправил шлем из профилированной кожи, — настоящее чудо техники, — и повернулся к нам:
— Все, выходим, дождь скоро начнется. Слушайте сюда: контровать будем каплей! Горст и Карст, вы на прицепах вместе с Барбаком. По флангам: Леарх слева, Степп — справа. Если мы впереди рухнем, Эрг, Тальвег и Фирост — вы подпираете! Если Клинок застрянет, Пак поджимает сзади и блокирует отступ. И живо! Пока мы силенок не наберемся, чтоб снова рвануть вперед. Если Пак разнесет — лечь и ползком назад в строй, пока не заору: «Встать!». Фаркопщики, вам совет: когда хлынет первая волна, сработает рефлекс открыть рот. Мы все это уже схавали, вы точно так же вляпаетесь. Если хотите сдохнуть на месте, то идея хорошая. Если нет, закройте глотку. Это вам продлит жизнь до второй волны. Усекли?
— Да.
— И не вздумайте пытаться дышать. Апноэ, апноэ, апноэ! Начиная с секунды, как выйдем за портик, слушать только двоих: меня и Ороси!
Голгот сам помог подняться и Кориолис, и всем остальным девочкам по очереди. Поправил шлем из профилированной кожи, — настоящее чудо техники, — и повернулся к нам:
— Все, выходим, дождь скоро начнется. Слушайте сюда: контровать будем каплей! Горст и Карст, вы на прицепах вместе с Барбаком. По флангам: Леарх слева, Степп — справа. Если мы впереди рухнем, Эрг, Тальвег и Фирост — вы подпираете! Если Клинок застрянет, Пак поджимает сзади и блокирует отступ. И живо! Пока мы силенок не наберемся, чтоб снова рвануть вперед. Если Пак разнесет — лечь и ползком назад в строй, пока не заору: «Встать!». Фаркопщики, вам совет: когда хлынет первая волна, сработает рефлекс открыть рот. Мы все это уже схавали, вы точно так же вляпаетесь. Если хотите сдохнуть на месте, то идея хорошая. Если нет, закройте глотку. Это вам продлит жизнь до второй волны. Усекли?
— Да.
— И не вздумайте пытаться дышать. Апноэ, апноэ, апноэ! Начиная с секунды, как выйдем за портик, слушать только двоих: меня и Ороси!
 Ороси вышла вперед. Она была стройна и красива, а жесты ее точны и изящны. Она развязала свой хаик, распустила его по ветру и затем снова завязала на ногах и руках, на животе и на груди, до самой головы; затянула маково-красные шелковые ремешки на местах, где разлеталась бежевая ткань. Она была готова. Ее волосы цвета темного каштана были причудливо забраны в гульку, в которой привольно крутилась бабеолька — шпилька с
Ороси вышла вперед. Она была стройна и красива, а жесты ее точны и изящны. Она развязала свой хаик, распустила его по ветру и затем снова завязала на ногах и руках, на животе и на груди, до самой головы; затянула маково-красные шелковые ремешки на местах, где разлеталась бежевая ткань. Она была готова. Ее волосы цвета темного каштана были причудливо забраны в гульку, в которой привольно крутилась бабеолька — шпилька с
 Альма как раз заканчивала перевязывать руку Кориолис, у которой лицо побелело от услышанного. Мне хотелось ее как-то успокоить, но ничего не приходило на ум. Этот ярветер мне сильно не нравился. Земля никуда не годится, судя по физиономии нашего геомастера Тальвега, а это ничего хорошего не предвещало, да и от шума у меня уши скручивало, а Силамфра, нашего меломана, всего прям морщило. Он даже решил достать свой кожаный фиксирующий воротник и еще один дал Свезьесту. К тому же мы запаздывали. Я начинал бояться, что мы выйдем слишком поздно… Все мешкали… Наконец Кориолис поднялась, бледность немного сошла с ее лица, и она решилась на последний бой:
— Здесь у всех сегодня цель отправиться на тот свет? Вы слышали, что сказала Ороси? Нас ждет самое худшее! Так почему не остаться здесь? Почему? Вы что хотите доказать? А?! Кому? Вы мое плечо видели? Мы сдохнем все!
Альма как раз заканчивала перевязывать руку Кориолис, у которой лицо побелело от услышанного. Мне хотелось ее как-то успокоить, но ничего не приходило на ум. Этот ярветер мне сильно не нравился. Земля никуда не годится, судя по физиономии нашего геомастера Тальвега, а это ничего хорошего не предвещало, да и от шума у меня уши скручивало, а Силамфра, нашего меломана, всего прям морщило. Он даже решил достать свой кожаный фиксирующий воротник и еще один дал Свезьесту. К тому же мы запаздывали. Я начинал бояться, что мы выйдем слишком поздно… Все мешкали… Наконец Кориолис поднялась, бледность немного сошла с ее лица, и она решилась на последний бой:
— Здесь у всех сегодня цель отправиться на тот свет? Вы слышали, что сказала Ороси? Нас ждет самое худшее! Так почему не остаться здесь? Почему? Вы что хотите доказать? А?! Кому? Вы мое плечо видели? Мы сдохнем все!
 Тебя уж точно девственности лишит, красивая моя…
Тебя уж точно девственности лишит, красивая моя…

 Я подошла к Кориолис и обняла ее. Ларко посмотрел на меня с завистью. На расстоянии можно было почувствовать, как сильно он хотел бы оказаться на моем месте.
— Почему не остаться здесь, за стеной, Ороси? — повторила она.
— Потому что стена рухнет под ударной волной раньше, чем сам вал докатится сюда.
— А деревня позади нас?
— Деревня, которая была позади нас. Нет больше деревни.
— Ее снесет? Все эти люди, они…
— Все циклонические признаки налицо. Там посрывает крыши, дома затянет турбулентным вихрем в центрифугу. Ты должна быть готова. Я сама тебе перевяжу голову, когда пора будет выходить. Будешь контровать прямо за мной, в Паке. Не надо бояться раньше времени. Просто делай то, что я тебе скажу, ровно в тот момент, когда я тебе скажу.
Я подошла к Кориолис и обняла ее. Ларко посмотрел на меня с завистью. На расстоянии можно было почувствовать, как сильно он хотел бы оказаться на моем месте.
— Почему не остаться здесь, за стеной, Ороси? — повторила она.
— Потому что стена рухнет под ударной волной раньше, чем сам вал докатится сюда.
— А деревня позади нас?
— Деревня, которая была позади нас. Нет больше деревни.
— Ее снесет? Все эти люди, они…
— Все циклонические признаки налицо. Там посрывает крыши, дома затянет турбулентным вихрем в центрифугу. Ты должна быть готова. Я сама тебе перевяжу голову, когда пора будет выходить. Будешь контровать прямо за мной, в Паке. Не надо бояться раньше времени. Просто делай то, что я тебе скажу, ровно в тот момент, когда я тебе скажу.
 Снаружи нас ждал буш, опустошенный и прекрасный, в своем наряде из красного латерита. Несколько пустынных дубов слегка прочерчивали курс контра. В остальном царил хаос. Холмы вокруг были хилые, дюны ненадежные. Их подорвет ярветром, как на мине. Равнина изрезана бороздами, по которым в более милосердную погоду идти было бы легче. Сегодня же они были смертельно опасны и вскоре превратятся в русла песочных рек. Голгот двинулся решительно, почти бегом, выбрал осевой гребень хребта и потрассировал. Почва под опорными была достаточно твердая, но слишком холмистая, и фаркопщикам несладко приходилось на буграх. Пьетро и Эрг время от времени отделялись от строя и отходили назад помочь им, но еще немного, и продолжать так станет
Снаружи нас ждал буш, опустошенный и прекрасный, в своем наряде из красного латерита. Несколько пустынных дубов слегка прочерчивали курс контра. В остальном царил хаос. Холмы вокруг были хилые, дюны ненадежные. Их подорвет ярветром, как на мине. Равнина изрезана бороздами, по которым в более милосердную погоду идти было бы легче. Сегодня же они были смертельно опасны и вскоре превратятся в русла песочных рек. Голгот двинулся решительно, почти бегом, выбрал осевой гребень хребта и потрассировал. Почва под опорными была достаточно твердая, но слишком холмистая, и фаркопщикам несладко приходилось на буграх. Пьетро и Эрг время от времени отделялись от строя и отходили назад помочь им, но еще немного, и продолжать так станет
 Вся Орда вмиг бросилась наземь. Из-за поворота выскочила тележка велесницы и понеслась прямо на нас, перекашиваясь с борта на борт, осколки свистящих камней разлетались во все стороны, она влетала то слева, то справа в стенки оврага, пока не врезалась в выступ скалы, и десяти метрах от нас. От удара подлетела на метр вверх и приземлилась прямо за прицепом. Нам чертовски повезло… Мы отдышались пару секунд и снова встали на ноги.
— Арваль! Предтрассировка! Арваль!
— Что?
— Оставайся впереди в поле зрения! Выкинешь белую тряпку, если что опасное!
Вся Орда вмиг бросилась наземь. Из-за поворота выскочила тележка велесницы и понеслась прямо на нас, перекашиваясь с борта на борт, осколки свистящих камней разлетались во все стороны, она влетала то слева, то справа в стенки оврага, пока не врезалась в выступ скалы, и десяти метрах от нас. От удара подлетела на метр вверх и приземлилась прямо за прицепом. Нам чертовски повезло… Мы отдышались пару секунд и снова встали на ноги.
— Арваль! Предтрассировка! Арваль!
— Что?
— Оставайся впереди в поле зрения! Выкинешь белую тряпку, если что опасное!
 Как только Арваль вышел из Пака, я сразу лишилась защиты, то и дело оказываясь в воле полного ветра. Было холодно, мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что меня постепенно протыкают наголо, прошивают волокна моего тела. Штаны полоскались на голенях, ткань стягивало на рукавах, вокруг шеи — для такой скорости ветра одежда вообще никогда не бывает достаточно плотной, достаточно непроницаемой. Я завидовала кустарникам, тому, как они отводили между ветвей пространство, чтобы пропускать особенно крупные хлопья воздуха… С самого детства меня преследовала одна и та же дурацкая мысль: в такие моменты мне всегда хотелось стать самшитовой изгородью, а не этим парусником из кожи, что трепещет поперек потока, этим распластавшимся голым
Как только Арваль вышел из Пака, я сразу лишилась защиты, то и дело оказываясь в воле полного ветра. Было холодно, мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что меня постепенно протыкают наголо, прошивают волокна моего тела. Штаны полоскались на голенях, ткань стягивало на рукавах, вокруг шеи — для такой скорости ветра одежда вообще никогда не бывает достаточно плотной, достаточно непроницаемой. Я завидовала кустарникам, тому, как они отводили между ветвей пространство, чтобы пропускать особенно крупные хлопья воздуха… С самого детства меня преследовала одна и та же дурацкая мысль: в такие моменты мне всегда хотелось стать самшитовой изгородью, а не этим парусником из кожи, что трепещет поперек потока, этим распластавшимся голым
 Все превратилось в сплошное месиво. Латеритная глина ничего не впитывала. Голгот вытащил нас из оврага и снова отправил Арваля на разведку. Он лавировал, забирал как можно шире, но ничего не мог сделать с грязью, что налипала на шипы обуви. Дождь усиливался. Ветер ускорялся. Мы ругались в куче мокрой глины. Насквозь
Все превратилось в сплошное месиво. Латеритная глина ничего не впитывала. Голгот вытащил нас из оврага и снова отправил Арваля на разведку. Он лавировал, забирал как можно шире, но ничего не мог сделать с грязью, что налипала на шипы обуви. Дождь усиливался. Ветер ускорялся. Мы ругались в куче мокрой глины. Насквозь
 Показался силуэт, согнутый почти вдвое, исполосованный дождем. Его шатало, ливень раскачивал человека из стороны в сторону долгими шлепками и ударами… Он рухнул, с трудом приподнялся на одно колено и снова тяжело повалился наземь, головой вперед, оглушенный, как пьянчуга к концу попойки. Попытался было ползти, но, находясь к ветру спиной, естественно, никак не мог предугадать, когда налетит порыв, крытень несчастный… Повернись лицом! Голгот ни на йоту не отклонился от курса, но сделал мне знак выйти из Пака, глянуть, что с бродягой. Тем временем парень нашел себе полоску грязи и, счастливый, влез в нее весь целиком… Увидев, что я приближаюсь, он потянулся к поясу за бумерангом, но я успокоил его, разведя руки. От плотности ливня я толком не мог выговорить ни слова и заикался:
— Вы так далеко не уйдете, повернитесь лицом к ветру!
— У меня сломалась мачта на велеснице… у всей эскадры переломались…
— Вы из Диагональщиков?
Показался силуэт, согнутый почти вдвое, исполосованный дождем. Его шатало, ливень раскачивал человека из стороны в сторону долгими шлепками и ударами… Он рухнул, с трудом приподнялся на одно колено и снова тяжело повалился наземь, головой вперед, оглушенный, как пьянчуга к концу попойки. Попытался было ползти, но, находясь к ветру спиной, естественно, никак не мог предугадать, когда налетит порыв, крытень несчастный… Повернись лицом! Голгот ни на йоту не отклонился от курса, но сделал мне знак выйти из Пака, глянуть, что с бродягой. Тем временем парень нашел себе полоску грязи и, счастливый, влез в нее весь целиком… Увидев, что я приближаюсь, он потянулся к поясу за бумерангом, но я успокоил его, разведя руки. От плотности ливня я толком не мог выговорить ни слова и заикался:
— Вы так далеко не уйдете, повернитесь лицом к ветру!
— У меня сломалась мачта на велеснице… у всей эскадры переломались…
— Вы из Диагональщиков?
 Сокольник сорвался, сбив с ног Степпа и Аои, но молча поднялся и вернулся на свое место в крыле. Его искусно скроенная одежда была вся покрыта глиной. Это оказалось не последнее падение в строю, пока Голгот, дико сосредоточенный, натянутый как трос, не учуял наконец выход на ровную поверхность, отчего нам всем сразу
Сокольник сорвался, сбив с ног Степпа и Аои, но молча поднялся и вернулся на свое место в крыле. Его искусно скроенная одежда была вся покрыта глиной. Это оказалось не последнее падение в строю, пока Голгот, дико сосредоточенный, натянутый как трос, не учуял наконец выход на ровную поверхность, отчего нам всем сразу
 «Связанные», сказал Голгот. «Связанные собственными кишками». Нет, это я ему это сказал не так давно. Удивительно, как некоторые слова пробивают панцирь и вклиниваются внутрь, чтобы некоторое время спустя выйти наружу уже присвоенными. «Сцепленные». Мы никогда не поймем, на чем это зиждилось. Я то и дело оборачивался, ища глазами Аои, мою маленькую капельку, такую легкую, подрагивающую от дождя; высматривал поверх плеча Каллирою, рыжеватое пятнышко, такую же хрупкую, похожую на огонек пламени, который вот-вот задует от малейшего порыва ветра; просил, чтобы присмотрели за Свезьестом, который шагал так далеко позади, что мне его было не разглядеть. Я все время что-то говорил, подхватывал за Пьетро, когда тот подбадривал всю группу. Он, как всегда, был безукоризнен, он никогда и ни при каких обстоятельствах не выходил из себя и без малейшего бахвальства всегда оставался для нас князем. И на словах, и на деле. Благодаря ему наша Орда и держалась, да и сдерживалась тоже, невзирая на Голгота и его вспышки гнева.
«Связанные», сказал Голгот. «Связанные собственными кишками». Нет, это я ему это сказал не так давно. Удивительно, как некоторые слова пробивают панцирь и вклиниваются внутрь, чтобы некоторое время спустя выйти наружу уже присвоенными. «Сцепленные». Мы никогда не поймем, на чем это зиждилось. Я то и дело оборачивался, ища глазами Аои, мою маленькую капельку, такую легкую, подрагивающую от дождя; высматривал поверх плеча Каллирою, рыжеватое пятнышко, такую же хрупкую, похожую на огонек пламени, который вот-вот задует от малейшего порыва ветра; просил, чтобы присмотрели за Свезьестом, который шагал так далеко позади, что мне его было не разглядеть. Я все время что-то говорил, подхватывал за Пьетро, когда тот подбадривал всю группу. Он, как всегда, был безукоризнен, он никогда и ни при каких обстоятельствах не выходил из себя и без малейшего бахвальства всегда оставался для нас князем. И на словах, и на деле. Благодаря ему наша Орда и держалась, да и сдерживалась тоже, невзирая на Голгота и его вспышки гнева.
 Дождь совсем прекратился. Песок высыхал с немыслимой скоростью. Куда ни глянь, ни единого следа порта. Я начинал сомневаться. Я действительно начинал сомневаться, что нам стоило верить Караколю. Я опасался
Дождь совсем прекратился. Песок высыхал с немыслимой скоростью. Куда ни глянь, ни единого следа порта. Я начинал сомневаться. Я действительно начинал сомневаться, что нам стоило верить Караколю. Я опасался
 Мой голос их по итогу все же успокоил. Немного. В контржурналах, которые мне доводилось читать во
Мой голос их по итогу все же успокоил. Немного. В контржурналах, которые мне доводилось читать во
 На нас обрушилась настоящая песочная река. Мы отсюда не выберемся! Никаких шансов, слишком поздно. Даже если порт в ста метрах, даже если в десяти, мы его все равно не найдем. Может, мы вообще его уже прошли… Может, он остался позади. Справа, мне показалось… А может слева, кто его знает? Как мы его найдем, во имя Святого Дуновения? Паника неудержимо разрасталась, у меня в животе все сводило, я прижалась к девочкам, оперлась на Альму…
— Сомкнуть Клинок!
— Что?
— Держать! Держать!
— Резче! Блок! Блооооок!
На нас обрушилась настоящая песочная река. Мы отсюда не выберемся! Никаких шансов, слишком поздно. Даже если порт в ста метрах, даже если в десяти, мы его все равно не найдем. Может, мы вообще его уже прошли… Может, он остался позади. Справа, мне показалось… А может слева, кто его знает? Как мы его найдем, во имя Святого Дуновения? Паника неудержимо разрасталась, у меня в животе все сводило, я прижалась к девочкам, оперлась на Альму…
— Сомкнуть Клинок!
— Что?
— Держать! Держать!
— Резче! Блок! Блооооок!
 Клинок увалило под ветер от напора. Ускорение было настолько мощное, что фланговиков механически прибило в середину Пака, но они старались держать ряд, чтобы защитить заднюю часть строя. Сов одним рывком встроился на место и весь выгнулся дугой. Пак зафиксировал опорные и весь подтянулся, сомкнув ряды. Но надолго ли? Плотность воздуха перешла от жидкого к полутвердому состоянию. Каждое колыхание било по блоку, как кувалдой. Расшатывало его. Сокольника снова выбросило. Он ползком вернулся назад, встал и снова повалился.
— Дарбон, цепляйся!
Клинок увалило под ветер от напора. Ускорение было настолько мощное, что фланговиков механически прибило в середину Пака, но они старались держать ряд, чтобы защитить заднюю часть строя. Сов одним рывком встроился на место и весь выгнулся дугой. Пак зафиксировал опорные и весь подтянулся, сомкнув ряды. Но надолго ли? Плотность воздуха перешла от жидкого к полутвердому состоянию. Каждое колыхание било по блоку, как кувалдой. Расшатывало его. Сокольника снова выбросило. Он ползком вернулся назад, встал и снова повалился.
— Дарбон, цепляйся!
 К этому моменту сама земля стала подниматься пластами. То, что на нас неслось, больше не имело никакой формы, только цвет — краснокирпичный, и звук — звук ледяной горной реки в разливе. Четырежды Голгот давал команду лечь. Четырежды поднимал нас на ноги. Никто из Пака не в силах был контровать дальше, но его голос, его ярость тянули нас вперед. Можете сколько угодно поносить Голгота, если хотите, но никогда не делайте этого в моем присутствии. Он без устали следил, не сбились ли мы с курса. И мы не сбились. Наступил предел, когда оставаться на ногах долее было невозможно, и мы стали пробираться на четвереньках, оглушенные песком и осколками камней, ослепшие под кожаными шлемами и шапками, с обмотанными головами, в джутовых подшлемниках, которых хватало, чтоб амортизировать абразив, но не ударный шок от блааста.
Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша в свирепствовавшем линейном
К этому моменту сама земля стала подниматься пластами. То, что на нас неслось, больше не имело никакой формы, только цвет — краснокирпичный, и звук — звук ледяной горной реки в разливе. Четырежды Голгот давал команду лечь. Четырежды поднимал нас на ноги. Никто из Пака не в силах был контровать дальше, но его голос, его ярость тянули нас вперед. Можете сколько угодно поносить Голгота, если хотите, но никогда не делайте этого в моем присутствии. Он без устали следил, не сбились ли мы с курса. И мы не сбились. Наступил предел, когда оставаться на ногах долее было невозможно, и мы стали пробираться на четвереньках, оглушенные песком и осколками камней, ослепшие под кожаными шлемами и шапками, с обмотанными головами, в джутовых подшлемниках, которых хватало, чтоб амортизировать абразив, но не ударный шок от блааста.
Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша в свирепствовавшем линейном

 Я на ощупь отыскала стену дамбы, присела, опершись о нее спиной, и приоткрыла глазную повязку, чтобы как можно точнее проанализировать местность. По легкому затишью поняла, что до волны оставалось всего две минуты. Дамба, в четыре метра высотой и в десять шириной, была построена из нагроможденных друг на друга гранитных блоков, посреди которых — Караколь оказался прав — торчали два швартовых крюка. Котловину, в которую вписывался порт, очерчивал острый хребет, метрах в шести от нас. Под ногами были плиты, покрытые толстым слоем песка. Сомнений не оставалось: это полноветровой порт, недостроенный и едва ли защищенный от потока.
— Достать шлемы и канаты! Заблокировать сани, закрепить их за крюки.
Впадина была овальной формы, с небольшим уклоном кверху и резким книзу. Я наблюдала за течением ветра. Время от времени катабатический поток нырял, отскакивал от плит, долетал до заднего холма и вырывался из дамбы. С волной будет совсем по-друтому. Отражение от ударной волны сначала отбросит нас на дамбу, а затем нас засосет вверх круговоротом.
— Построиться в каплю, семь рядов! Отступить пятнадцать метров от дамбы и привязать к ней Голгота.
— Какие на фиг пятнадцать метров? Мы же выйдем из защищенной зоны. Я не хочу получить волной по морде! Нужно приклеиться к самой дамбе, иначе не выберемся!
Я на ощупь отыскала стену дамбы, присела, опершись о нее спиной, и приоткрыла глазную повязку, чтобы как можно точнее проанализировать местность. По легкому затишью поняла, что до волны оставалось всего две минуты. Дамба, в четыре метра высотой и в десять шириной, была построена из нагроможденных друг на друга гранитных блоков, посреди которых — Караколь оказался прав — торчали два швартовых крюка. Котловину, в которую вписывался порт, очерчивал острый хребет, метрах в шести от нас. Под ногами были плиты, покрытые толстым слоем песка. Сомнений не оставалось: это полноветровой порт, недостроенный и едва ли защищенный от потока.
— Достать шлемы и канаты! Заблокировать сани, закрепить их за крюки.
Впадина была овальной формы, с небольшим уклоном кверху и резким книзу. Я наблюдала за течением ветра. Время от времени катабатический поток нырял, отскакивал от плит, долетал до заднего холма и вырывался из дамбы. С волной будет совсем по-друтому. Отражение от ударной волны сначала отбросит нас на дамбу, а затем нас засосет вверх круговоротом.
— Построиться в каплю, семь рядов! Отступить пятнадцать метров от дамбы и привязать к ней Голгота.
— Какие на фиг пятнадцать метров? Мы же выйдем из защищенной зоны. Я не хочу получить волной по морде! Нужно приклеиться к самой дамбе, иначе не выберемся!
 В реакции Ороси не проскользнуло даже намека на раздражение. Эрг повернулся к ней спиной и натянул свой стальной шлем. Когда он обернулся, то вид его впечатлял
В реакции Ороси не проскользнуло даже намека на раздражение. Эрг повернулся к ней спиной и натянул свой стальной шлем. Когда он обернулся, то вид его впечатлял
 Канаты размотаны. Я проверила дистанцию: пятнадцать метров, все в порядке.
— Восемь канатов, по четыре на каждое кольцо. Прямое крепление: Голгот двумя канатами, затем Сов и Пьетро, Эрг и Фирост, Горст и Карст. Каждый цепляется за своего соседа карабином, сначала по рядам, затем спереди и сзади. По две точки крепления спереди. Держитесь на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Почему не сомкнуто? Чтобы оставить место для потока, он будет гранулярный.
Напор ветра чуть стих: скоро волна. Я бегом заняла свое место в середине Пака. Карабины наготове. Карст слева и Альма справа пристегнули меня к своим поясам. Я схватила концы ремней ястребника и Степпа впереди себя и завинтила кольцо. Затем услышала, как за мой ремень сзади защелкнулся Ларко. Но не Караколь…
— Караколь? Зацепись!
— Караколь, ты куда?!
— Он с ума сошел!
— Держите его!
Канаты размотаны. Я проверила дистанцию: пятнадцать метров, все в порядке.
— Восемь канатов, по четыре на каждое кольцо. Прямое крепление: Голгот двумя канатами, затем Сов и Пьетро, Эрг и Фирост, Горст и Карст. Каждый цепляется за своего соседа карабином, сначала по рядам, затем спереди и сзади. По две точки крепления спереди. Держитесь на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Почему не сомкнуто? Чтобы оставить место для потока, он будет гранулярный.
Напор ветра чуть стих: скоро волна. Я бегом заняла свое место в середине Пака. Карабины наготове. Карст слева и Альма справа пристегнули меня к своим поясам. Я схватила концы ремней ястребника и Степпа впереди себя и завинтила кольцо. Затем услышала, как за мой ремень сзади защелкнулся Ларко. Но не Караколь…
— Караколь? Зацепись!
— Караколь, ты куда?!
— Он с ума сошел!
— Держите его!
 В то время как Орда геометрически, нервными маленькими шажками выстраивала свои ряды, как тяжелые, полностью закрывающие лицо деревянные и стальные шлемы надевались на головы тех, кому каркас позволял выдержать вес не согнувшись, Караколь вытворил нечто
В то время как Орда геометрически, нервными маленькими шажками выстраивала свои ряды, как тяжелые, полностью закрывающие лицо деревянные и стальные шлемы надевались на головы тех, кому каркас позволял выдержать вес не согнувшись, Караколь вытворил нечто
 Канаты заскрипели, и вся Орда разом отпрянула назад. Было слышно, как идет волна. Восемь секунд.
Канаты заскрипели, и вся Орда разом отпрянула назад. Было слышно, как идет волна. Восемь секунд.
 Можно было четко различить момент, когда ветер перестал свистеть и перешел на совершенно нечеловеческую скорость, невыносимую даже для камней и кустов. Звук лишился своей острой чеканности, вышел из пятой формы и превратился в то, что, однажды услышав, ни один ордиец не сможет стереть из физической памяти, этот жуткий факел из соскобленной земли, что назывался ярветром. По прокатившемуся грому ударную волну слышно было за сотню километров к верховью. И, хоть я и не был новичком, хоть это и был пятый ярветер на моем счету, холодный ужас разлился по моему позвоночнику и в
Можно было четко различить момент, когда ветер перестал свистеть и перешел на совершенно нечеловеческую скорость, невыносимую даже для камней и кустов. Звук лишился своей острой чеканности, вышел из пятой формы и превратился в то, что, однажды услышав, ни один ордиец не сможет стереть из физической памяти, этот жуткий факел из соскобленной земли, что назывался ярветром. По прокатившемуся грому ударную волну слышно было за сотню километров к верховью. И, хоть я и не был новичком, хоть это и был пятый ярветер на моем счету, холодный ужас разлился по моему позвоночнику и в
 (обратно)
(обратно)
 Те, кто вам скажет «я во время волны думал о том-то и о сем-то», — соврут. Во время волны не думаешь. Во время волны не помнишь, чего хотел, о чем мечтал, на что считал себя способным. Одно только тело дает отпор. Как может. Оно испражняется, мочится в штаны. Проглатывает собственный рот, вместе с зубами, как кусок мяса. Сжигает в судорогах сухожилия, пытаясь удержаться за ремень. Обливается слюной. После каждый может рассказывать, что захочет, рассусоливать, толковать, раскалывать словами эту глыбу неотесанного страха… Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками, сейчас или через недельку, но я вас вижу насквозь, вас, отсидевшихся в удобненьких укрытиях, с порозовевшими под конец вечера личиками, под краснощеким солнцем, поблескивающим в ваших стаканах, в ожидании, пока вам расскажут, пока отполируют перед вами груду подвигов, что я хотел бы вам сказать о ярветре… Но хватит трепа. В ярветре не говорят. В ярветре пытаются выжить, пока он молотит тебя в самый лоб, потому что он не обволакивает и не «поглощает» или каких вы там еще слащавых словечек понапридумывали, он бьет как убойный молот,
Те, кто вам скажет «я во время волны думал о том-то и о сем-то», — соврут. Во время волны не думаешь. Во время волны не помнишь, чего хотел, о чем мечтал, на что считал себя способным. Одно только тело дает отпор. Как может. Оно испражняется, мочится в штаны. Проглатывает собственный рот, вместе с зубами, как кусок мяса. Сжигает в судорогах сухожилия, пытаясь удержаться за ремень. Обливается слюной. После каждый может рассказывать, что захочет, рассусоливать, толковать, раскалывать словами эту глыбу неотесанного страха… Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками, сейчас или через недельку, но я вас вижу насквозь, вас, отсидевшихся в удобненьких укрытиях, с порозовевшими под конец вечера личиками, под краснощеким солнцем, поблескивающим в ваших стаканах, в ожидании, пока вам расскажут, пока отполируют перед вами груду подвигов, что я хотел бы вам сказать о ярветре… Но хватит трепа. В ярветре не говорят. В ярветре пытаются выжить, пока он молотит тебя в самый лоб, потому что он не обволакивает и не «поглощает» или каких вы там еще слащавых словечек понапридумывали, он бьет как убойный молот,
 Изо всех щелей раздавался фыркающий рокот. Мы, словно звери, извивались и отряхивали после ливня свои шкуры. Впадину еще время от времени промывало дождем, раскидывая песок; пара красных вихрей свистели на бровках котловины, опадали и растрепывались на новые, поменьше, но самые крупные воронки были уже позади. Близилась передышка, где-то на полчаса, главное только, чтобы хроны не стали формироваться в турбулентности кильватера. В общей сложности все прошло, как я и предполагала. Всегда есть надежда на лучшее, как говорится, хотя пронесло на волосок. Но худшее впереди, его принесет со вторым валом.
— Ороси… Ороси! Что это было?
Аои легонько потрясла меня за плечо. Лицо у нее было светло-зеленое. Она размотала свой тюрбан, чтобы вдохнуть немного воздуха, но краски еще не отважились вернуться на ее лицо, омыть прелестную кожу, мягкую и свежую, как ни у кого в Орде. Даже в этом полном помешательстве Аои удавалось сохранить присущую ей грациозность и детскую легкость.
— Ты правда хочешь знать?
— Да, я хочу понять, что с нами произошло.
— Видишь выступающий гребень, там, на хребте?
— Да.
— Поток отскочил от ребра гребня и ударил в самую середину Пака, как раз там, где были мы. Впереди давление
Изо всех щелей раздавался фыркающий рокот. Мы, словно звери, извивались и отряхивали после ливня свои шкуры. Впадину еще время от времени промывало дождем, раскидывая песок; пара красных вихрей свистели на бровках котловины, опадали и растрепывались на новые, поменьше, но самые крупные воронки были уже позади. Близилась передышка, где-то на полчаса, главное только, чтобы хроны не стали формироваться в турбулентности кильватера. В общей сложности все прошло, как я и предполагала. Всегда есть надежда на лучшее, как говорится, хотя пронесло на волосок. Но худшее впереди, его принесет со вторым валом.
— Ороси… Ороси! Что это было?
Аои легонько потрясла меня за плечо. Лицо у нее было светло-зеленое. Она размотала свой тюрбан, чтобы вдохнуть немного воздуха, но краски еще не отважились вернуться на ее лицо, омыть прелестную кожу, мягкую и свежую, как ни у кого в Орде. Даже в этом полном помешательстве Аои удавалось сохранить присущую ей грациозность и детскую легкость.
— Ты правда хочешь знать?
— Да, я хочу понять, что с нами произошло.
— Видишь выступающий гребень, там, на хребте?
— Да.
— Поток отскочил от ребра гребня и ударил в самую середину Пака, как раз там, где были мы. Впереди давление
 Она все предусмотрела. Как же я ею восхищалась.
— Ты знала, что так будет. Это благодаря тебе мы все еще живы.
Она все предусмотрела. Как же я ею восхищалась.
— Ты знала, что так будет. Это благодаря тебе мы все еще живы.
 Она поцеловала меня в щеку. Да ничего я не знала, Аои. Я эмпирически постаралась уравновесить основную и ответную волну, недооценив разницу в давлении, и, что самое страшное, я даже представить себе не могла, что наша двухтонная гроздь из человеческой плоти будет парить в облаках, как воздушный змей на веревочке. Что бы сказал на это мой учитель? Аэроси, есть ли в таланте доля удачи? И затем, с подводящей итог улыбкой, добавил бы: «Удача — союзник мимолетный и смертоносный. Он может убить тебя с той же легкостью, что и спасти. Умей свести этого хищника до размеров котенка. Очерчивай
Она поцеловала меня в щеку. Да ничего я не знала, Аои. Я эмпирически постаралась уравновесить основную и ответную волну, недооценив разницу в давлении, и, что самое страшное, я даже представить себе не могла, что наша двухтонная гроздь из человеческой плоти будет парить в облаках, как воздушный змей на веревочке. Что бы сказал на это мой учитель? Аэроси, есть ли в таланте доля удачи? И затем, с подводящей итог улыбкой, добавил бы: «Удача — союзник мимолетный и смертоносный. Он может убить тебя с той же легкостью, что и спасти. Умей свести этого хищника до размеров котенка. Очерчивай
 Близнецы смеялись. Эти двое и с переломанными ногами хохотали бы. Они мерились ранами, метили в них песком. Они вообще никогда не унывали, ничего не боялись. Горст и Карст. Карст и Горст. Ка-Го. Два щекастых детины. Неотделимые, неразъемные, лучшие фланговики, которых только можно себе представить.
— Кто-нибудь еще?
— У Свезьеста плечо вывихнуто. У Ларко бедро разодрано!
— И Силамфр!
— Что с ним?
— Предплечье сломано!
— У Леарха деревянные осколки в груди.
— Легкие задеты?
— Нет, но ему сильно досталось.
— Аои, займись им! Альмы на всех не хватит. Это все, остальные в порядке?
Близнецы смеялись. Эти двое и с переломанными ногами хохотали бы. Они мерились ранами, метили в них песком. Они вообще никогда не унывали, ничего не боялись. Горст и Карст. Карст и Горст. Ка-Го. Два щекастых детины. Неотделимые, неразъемные, лучшие фланговики, которых только можно себе представить.
— Кто-нибудь еще?
— У Свезьеста плечо вывихнуто. У Ларко бедро разодрано!
— И Силамфр!
— Что с ним?
— Предплечье сломано!
— У Леарха деревянные осколки в груди.
— Легкие задеты?
— Нет, но ему сильно досталось.
— Аои, займись им! Альмы на всех не хватит. Это все, остальные в порядке?
 Да, это все. Почти все мы были в состоянии шока. Я был совершенно разжиженный, оглушенный, ключи-
Да, это все. Почти все мы были в состоянии шока. Я был совершенно разжиженный, оглушенный, ключи-
 Тут без трупов не обойдется! Или убьет, или покалечит так, что Орду с ее контром придется бросить, если еще в живых останутся после переломов и внутренних кровотечений, которые я не смогу остановить… Кориолис сломала лодыжку, когда рухнула на камни. Сухожилия не затронуло, но кость треснула. Не все обладают такой же ловкостью, как Арваль или Караколь, этих хоть в небо забрось, они все равно приземлятся на свои две! У одних заложен инстинкт самосохранения, другие ровным счетом ничего не смыслят в собственном теле. Хоть тресни.
Остаться здесь умирать, когда можно было без малейшего стыда выпросить у кого-нибудь местечко в укрытии и переждать? Я даже не пыталась никого лечить, я только облегчала им мучения. Все. Тебе конец, Альма. Как орешек расплющит о плиты волной, бах — и открытая черепная коробка. Хорошо, быстро. Я больше не паниковала, не
Тут без трупов не обойдется! Или убьет, или покалечит так, что Орду с ее контром придется бросить, если еще в живых останутся после переломов и внутренних кровотечений, которые я не смогу остановить… Кориолис сломала лодыжку, когда рухнула на камни. Сухожилия не затронуло, но кость треснула. Не все обладают такой же ловкостью, как Арваль или Караколь, этих хоть в небо забрось, они все равно приземлятся на свои две! У одних заложен инстинкт самосохранения, другие ровным счетом ничего не смыслят в собственном теле. Хоть тресни.
Остаться здесь умирать, когда можно было без малейшего стыда выпросить у кого-нибудь местечко в укрытии и переждать? Я даже не пыталась никого лечить, я только облегчала им мучения. Все. Тебе конец, Альма. Как орешек расплющит о плиты волной, бах — и открытая черепная коробка. Хорошо, быстро. Я больше не паниковала, не
 Крепкое дерьмо этот ярветер, суп с камнями. Лет в тридцать меня б такое даже позабавило. Хоть на одной ходуле. Двумя пальцами за крюк. Если по чистяку, то спереди, конечно, не так жестко хлопнуло: так, хорошая затрещина, девчачий пук, отрыгон обычный, ничего особенного. А вот сзади долбануло конкретно, жестяково их вздернуло; они там хорошенько шлифанули себе ноги-руки, обтесали нагрудники. С другой стороны, они там все привыкли сидеть как под наседкой в Паке, от малейшего блааста у них, понимаешь ли, кровь из носа льет! Повытирайте сопли, щенячья банда, скоро накроет по полной! Ороси, она, конечно, не может так, чтоб свои пять копеек не вставить, ходит, дотошничает по всякой дребедени, но без ее башки с системой самонаведения и ветряком в гульке мы бы все булыжников нажрались. Я в первую очередь. Хоть в шлеме, хоть без. Контрволна как в колокол проколотила по всей котловине. А Эрг еще хотел стать поближе, в двух метрах от колец. Давай, боец, покажи нам! Шмяк! Чтоб всю Орду размазало о гранит. Нефигово бы смотрелось в нашей легенде: «34-я Орда, под предводительством девятого Голгота. Многообещающая, отличная трассировка. Погибла по-идиотски, раздавленная о стену из-за погрешности в считывании данных промоины. Похоронена со всеми собранными частями тела». Да здравствует 35-я, верховье ждет вас!
Крепкое дерьмо этот ярветер, суп с камнями. Лет в тридцать меня б такое даже позабавило. Хоть на одной ходуле. Двумя пальцами за крюк. Если по чистяку, то спереди, конечно, не так жестко хлопнуло: так, хорошая затрещина, девчачий пук, отрыгон обычный, ничего особенного. А вот сзади долбануло конкретно, жестяково их вздернуло; они там хорошенько шлифанули себе ноги-руки, обтесали нагрудники. С другой стороны, они там все привыкли сидеть как под наседкой в Паке, от малейшего блааста у них, понимаешь ли, кровь из носа льет! Повытирайте сопли, щенячья банда, скоро накроет по полной! Ороси, она, конечно, не может так, чтоб свои пять копеек не вставить, ходит, дотошничает по всякой дребедени, но без ее башки с системой самонаведения и ветряком в гульке мы бы все булыжников нажрались. Я в первую очередь. Хоть в шлеме, хоть без. Контрволна как в колокол проколотила по всей котловине. А Эрг еще хотел стать поближе, в двух метрах от колец. Давай, боец, покажи нам! Шмяк! Чтоб всю Орду размазало о гранит. Нефигово бы смотрелось в нашей легенде: «34-я Орда, под предводительством девятого Голгота. Многообещающая, отличная трассировка. Погибла по-идиотски, раздавленная о стену из-за погрешности в считывании данных промоины. Похоронена со всеми собранными частями тела». Да здравствует 35-я, верховье ждет вас!
 Ороси подошла ко мне, поправляя флюгер на плече, ее бабеолька вертелась во все стороны.
— Они на подходе, что будем делать?
Ороси подошла ко мне, поправляя флюгер на плече, ее бабеолька вертелась во все стороны.
— Они на подходе, что будем делать?
 Я наклонилась к земле. Песок шуршал. Мне сделалось неспокойно. Если бы Альма это увидела…
Я наклонилась к земле. Песок шуршал. Мне сделалось неспокойно. Если бы Альма это увидела…
 Эй, здорово, братишки! Длиннющая орава малышни, что высидел папочка Ветроворот, топайте сюда, разводите ваше волшебство по всей округе, давайте, заворожите нас! Цикроны и психроны, хротали в полном сборе, навалом, по пять штук зараз, кучками по дюжине, металлически-серые, мареново-красные, тыквенно-синие, не бегите от нас, побудьте с нами еще миг! Пока не испытаете на нас свои таланты! На что способны, пускай пыль в глаза! Пусть дружище Сов, и наша элегантность с флюгером, Аэрофифи, измеряют и анализируют, сколь пожелают — тут все равно придется собственной кожей занырнуть поглубже да глянуть хорошенько, кто там где, во что все это превратится, поскольку хрон, да-да, приближает будущее, ускоряет блуждание, но жребий ваш, тяните карту… Наука вас не успокоит на их счет, лишь интуиция, тронь свет, иль запах, уж лучше следуйте за моим даром, я трубадур, ну а скорее, молодой метатель, чего же? Судеб и причуд, открою голос и кричу:
— Хрон идет! Полный порт! Отвязать стадо! Овечки на склоне! Беееее!
Эй, здорово, братишки! Длиннющая орава малышни, что высидел папочка Ветроворот, топайте сюда, разводите ваше волшебство по всей округе, давайте, заворожите нас! Цикроны и психроны, хротали в полном сборе, навалом, по пять штук зараз, кучками по дюжине, металлически-серые, мареново-красные, тыквенно-синие, не бегите от нас, побудьте с нами еще миг! Пока не испытаете на нас свои таланты! На что способны, пускай пыль в глаза! Пусть дружище Сов, и наша элегантность с флюгером, Аэрофифи, измеряют и анализируют, сколь пожелают — тут все равно придется собственной кожей занырнуть поглубже да глянуть хорошенько, кто там где, во что все это превратится, поскольку хрон, да-да, приближает будущее, ускоряет блуждание, но жребий ваш, тяните карту… Наука вас не успокоит на их счет, лишь интуиция, тронь свет, иль запах, уж лучше следуйте за моим даром, я трубадур, ну а скорее, молодой метатель, чего же? Судеб и причуд, открою голос и кричу:
— Хрон идет! Полный порт! Отвязать стадо! Овечки на склоне! Беееее!
 Ни я, ни Ороси его не заметили. Только Караколь. Почти идеальной формы яйцо, десять метров в длину, с шероховатой кожурой. Не подсказка ли это? Ордийцы отвязались, отщелкнули карабины, часть группы подошла поближе с крайней осмотрительностью, хотя никто не стал так близко, как Караколь, который поглаживал хрон ладонью, не осмеливаясь, однако, на большее. Безотчетно для самих себя Пьетро и Голгот обернулись к нам, Альма отошла вглубь впадины, Аои и еще несколько человек с
Ни я, ни Ороси его не заметили. Только Караколь. Почти идеальной формы яйцо, десять метров в длину, с шероховатой кожурой. Не подсказка ли это? Ордийцы отвязались, отщелкнули карабины, часть группы подошла поближе с крайней осмотрительностью, хотя никто не стал так близко, как Караколь, который поглаживал хрон ладонью, не осмеливаясь, однако, на большее. Безотчетно для самих себя Пьетро и Голгот обернулись к нам, Альма отошла вглубь впадины, Аои и еще несколько человек с
 Хренов труба-дур! Я тебя сейчас в хрон запихаю, а потом отгадывать буду!
Хренов труба-дур! Я тебя сейчас в хрон запихаю, а потом отгадывать буду!
 Он вообще может понять, я уж не говорю согласиться, просто понять, что есть моменты, когда шутки уместны, а когда…нет?
Он вообще может понять, я уж не говорю согласиться, просто понять, что есть моменты, когда шутки уместны, а когда…нет?
 Глифы были как застывшие, как выгравированные на оболочке хрона.
Глифы были как застывшие, как выгравированные на оболочке хрона.
 Я его просто обожала. Он меня завораживал. Совершенно сумасшедший, сплошной ветер в голове. Если уж мне суждено сегодня отправиться на тот свет, то я хотя бы смогу унести с собой этот образ, его вольную жизнь, его смех. Он был так не похож на остальных.
— Три… Два… Один… Проиграли! Это петрификатор!
Я его просто обожала. Он меня завораживал. Совершенно сумасшедший, сплошной ветер в голове. Если уж мне суждено сегодня отправиться на тот свет, то я хотя бы смогу унести с собой этот образ, его вольную жизнь, его смех. Он был так не похож на остальных.
— Три… Два… Один… Проиграли! Это петрификатор!
 Он был прав. Верно подмечено.
Он был прав. Верно подмечено.

 Я уже раньше видел такой хрон. В контржурнале, на рисунке. Та Орда потеряла двоих прямо посреди ночи: окаменели в спальных мешках. У этого та же текстура поверхности, тот же тип глифов, иератический, резкий.
— Кориолис! Силамфр! Юхууу! Вы спасены! Идите быстрее!
Я уже раньше видел такой хрон. В контржурнале, на рисунке. Та Орда потеряла двоих прямо посреди ночи: окаменели в спальных мешках. У этого та же текстура поверхности, тот же тип глифов, иератический, резкий.
— Кориолис! Силамфр! Юхууу! Вы спасены! Идите быстрее!
 Я бы с радостью его послушалась, но я не могла наступить на ногу.
— Разойдись! Пусть подойдут у кого лапы переломанные! Восстановление безотлагательное и безболезненное! Запетрифицирован, или деньги назад!
— Что ты несешь?
— Пусть Силамфр сунет руку внутрь хрона, у него кость срастется!
Я бы с радостью его послушалась, но я не могла наступить на ногу.
— Разойдись! Пусть подойдут у кого лапы переломанные! Восстановление безотлагательное и безболезненное! Запетрифицирован, или деньги назад!
— Что ты несешь?
— Пусть Силамфр сунет руку внутрь хрона, у него кость срастется!
 Как обычно с Караколем, никто не знал, где начинается фарс и начинается ли, и если да, то где его конец. Серьезность у него переплетена с игрой, соткана из той же ткани слов и жестов, того же неуловимого лукавства. Он являл собой наипрекраснейшее из воплощений трубадура, чистейший блеск исполнения изо дня в день, неутомим… и утомителен. Земля — подмостки его сцены, а небесный занавес для него всегда распахнут. И чем серьезнее происходящее, тем причудливей его размах, тем легкомысленнее выходки.
— Ты снова шутишь или…
— Можете не сомневаться! Посмотрите на бум! Волокна заминерализовались!
— А если это не оно? Если это что-то другое? Ты что, бум запустил — и хлоп, все готово, можно делать выводы?
Как обычно с Караколем, никто не знал, где начинается фарс и начинается ли, и если да, то где его конец. Серьезность у него переплетена с игрой, соткана из той же ткани слов и жестов, того же неуловимого лукавства. Он являл собой наипрекраснейшее из воплощений трубадура, чистейший блеск исполнения изо дня в день, неутомим… и утомителен. Земля — подмостки его сцены, а небесный занавес для него всегда распахнут. И чем серьезнее происходящее, тем причудливей его размах, тем легкомысленнее выходки.
— Ты снова шутишь или…
— Можете не сомневаться! Посмотрите на бум! Волокна заминерализовались!
— А если это не оно? Если это что-то другое? Ты что, бум запустил — и хлоп, все готово, можно делать выводы?
 Альма бросилась к нам, пересилив панику.
Альма бросилась к нам, пересилив панику.
 Караколь то улыбался во всю ширь, то хмурился, то снова расплывался в улыбке. Я бы рискнула, если бы он попросил. Учитывая мое состояние, из второй волны мне все равно было не выбраться.
— Не думаю. Хроны, как правило, селективны. Они сначала влияют на то, что им ближе по структуре, и лишь затем на все остальное, как по спирали, ослабляя эффект. Этот закон почти всегда доказывается на практике…
— «Почти всегда…», Ороси? Как нам «почти всегда» везло под ярветром? А сегодня? Вы хотите избавиться от Кориолис и Силамфра? Сделать из них груду камней?
— Хрон в первую очередь подействует на кости…
— Мы понятия не имеем, Альма права, — вмешался 11ьетро.
— Да это безумие какое-то, Кориолис, не делай этого!
— Караколь несет какую-то чушь, развел тут цирк, как всегда.
— Какую-то чушь? Это я несу какую-то чушь?
Караколь то улыбался во всю ширь, то хмурился, то снова расплывался в улыбке. Я бы рискнула, если бы он попросил. Учитывая мое состояние, из второй волны мне все равно было не выбраться.
— Не думаю. Хроны, как правило, селективны. Они сначала влияют на то, что им ближе по структуре, и лишь затем на все остальное, как по спирали, ослабляя эффект. Этот закон почти всегда доказывается на практике…
— «Почти всегда…», Ороси? Как нам «почти всегда» везло под ярветром? А сегодня? Вы хотите избавиться от Кориолис и Силамфра? Сделать из них груду камней?
— Хрон в первую очередь подействует на кости…
— Мы понятия не имеем, Альма права, — вмешался 11ьетро.
— Да это безумие какое-то, Кориолис, не делай этого!
— Караколь несет какую-то чушь, развел тут цирк, как всегда.
— Какую-то чушь? Это я несу какую-то чушь?
 Трубадур обошел Тальвега сзади и свистнул у него молоток, присмотрел плоский камень, присел, положил на него руку и протянул молоток Эргу.
— Давай бей.
Эрг озадаченно посмотрел на него и рефлекторно взял молоток.
— Ну, давай, раз я несу чушь.
Трубадур обошел Тальвега сзади и свистнул у него молоток, присмотрел плоский камень, присел, положил на него руку и протянул молоток Эргу.
— Давай бей.
Эрг озадаченно посмотрел на него и рефлекторно взял молоток.
— Ну, давай, раз я несу чушь.
 Звук был глухой и очень чистый. Голгот и на полмеры не затормозил. Перебил Караколю пальцы. Трубадур скорчился в песке от боли.
— Придурки! Да вы двинутые все!
Караколь встал и проковылял прямо к хрону. С видимым усилием зажал неповрежденные пальцы и погрузил указательный и средний в оболочку хрона. Полминуты спустя он достал руку, улыбаясь, четко выговорил «смотрите!» и разогнул два пальца в знак победы. Сомневаться больше было не в чем, я подошел и сунул руку по локоть в хрон.
Звук был глухой и очень чистый. Голгот и на полмеры не затормозил. Перебил Караколю пальцы. Трубадур скорчился в песке от боли.
— Придурки! Да вы двинутые все!
Караколь встал и проковылял прямо к хрону. С видимым усилием зажал неповрежденные пальцы и погрузил указательный и средний в оболочку хрона. Полминуты спустя он достал руку, улыбаясь, четко выговорил «смотрите!» и разогнул два пальца в знак победы. Сомневаться больше было не в чем, я подошел и сунул руку по локоть в хрон.
 Затем четверо хлопотливых самцов поднесли к хрону Кориолис, чтобы закальцифицировать ее лодыжку. Отлично: она снова держалась на ногах, достаточно крепко, чтобы встретить вторую волну стоя. Разумеется, мы были совершенно не готовы к этой встрече морально. Я тщетно анализировала нашу воронку, вымеряла размеры, интерполировала уровни наклона и точки перелома профиля склонов, моделировала сток ветра, я никак не могла определить, какова будет амплитуда вихря, в который нас засосет. По какой оси вращения? С каким числом
Затем четверо хлопотливых самцов поднесли к хрону Кориолис, чтобы закальцифицировать ее лодыжку. Отлично: она снова держалась на ногах, достаточно крепко, чтобы встретить вторую волну стоя. Разумеется, мы были совершенно не готовы к этой встрече морально. Я тщетно анализировала нашу воронку, вымеряла размеры, интерполировала уровни наклона и точки перелома профиля склонов, моделировала сток ветра, я никак не могла определить, какова будет амплитуда вихря, в который нас засосет. По какой оси вращения? С каким числом
 В конечном счете хроны устроили нам неплохую диверсию: перехитрили страх и рассеяли тревогу. Но теперь, когда мы снова стояли в ожидании вала, утробный ужас опять расползался по телу. Стратегия Ороси, несомненно лучшая для группы в целом, для нас, Клинка, была самым худшим вариантом. Я догадывался, на что она надеялась: рогатка, благодаря своей у-образной форме, должна канализировать поток в направлении Голгота, поместить Пак под давление и, таким образом, ограничить боковой размах. Допустим… Но в тридцати метрах от дамбы, без какого-либо заслона, волна нас попросту разнесет на куски. Мне страшно было думать о том, что нас ждало. Невозможно представить себе свою собственную смерть. Мысленно я перенесся в «после ярветра». Я видел, как завтра мы станем на привал в очередном селе, как рядом будут Аои и Кориолис. Я думал о них, об этой крохотной
В конечном счете хроны устроили нам неплохую диверсию: перехитрили страх и рассеяли тревогу. Но теперь, когда мы снова стояли в ожидании вала, утробный ужас опять расползался по телу. Стратегия Ороси, несомненно лучшая для группы в целом, для нас, Клинка, была самым худшим вариантом. Я догадывался, на что она надеялась: рогатка, благодаря своей у-образной форме, должна канализировать поток в направлении Голгота, поместить Пак под давление и, таким образом, ограничить боковой размах. Допустим… Но в тридцати метрах от дамбы, без какого-либо заслона, волна нас попросту разнесет на куски. Мне страшно было думать о том, что нас ждало. Невозможно представить себе свою собственную смерть. Мысленно я перенесся в «после ярветра». Я видел, как завтра мы станем на привал в очередном селе, как рядом будут Аои и Кориолис. Я думал о них, об этой крохотной

 Смысл тут что-то рассказывать? Вы, крытни, все равно ни черта не поймете. Разводите свой базар о наших жизнях в ваших чистеньких хибарах с ветряками. Отвяжитесь уже от нас. Блааст взорвался. Я еще по звуку понял, что будет полная жопа. Поток камней прямо в рожу. Не песок, не щебень врубит по нагруднику: каменища. Крепко вжарят. Альма сопли распустила, смотрит на меня. Мне на себя смотреть нечего. У меня кровь хлещет из ушей, стою на коленях, прибитый, стараюсь дышать, глотать кирпич воздуха за кирпичом… Без кожаной брони, без шлема, лучшего за всю историю Орд, заякорите себе на лбу, всем шлемам шлем, монстр отпора и амортизации, без набедренников, ракушек, деревянных налокотников, разломанных вдребезги, я бы в живых не остался. Железные колы повырывало и закрутило вместе с нами, два каната спереди рвануло, нас шарахнуло о край впадины, перепахало по оси, перевернуло, ослепило… Мы все чуть не сдохли, я в том числе. Я чувствовал, как эта огромная сенокосилка дубасила меня прямо в грудину и говорила: все, Гого, приехали, снимай шлем, я за тобой… Отправишься к своему брательнику, вам там обоим место. Этот сопляк тебя там уже тридцать четыре года ждет не дождется…
Смысл тут что-то рассказывать? Вы, крытни, все равно ни черта не поймете. Разводите свой базар о наших жизнях в ваших чистеньких хибарах с ветряками. Отвяжитесь уже от нас. Блааст взорвался. Я еще по звуку понял, что будет полная жопа. Поток камней прямо в рожу. Не песок, не щебень врубит по нагруднику: каменища. Крепко вжарят. Альма сопли распустила, смотрит на меня. Мне на себя смотреть нечего. У меня кровь хлещет из ушей, стою на коленях, прибитый, стараюсь дышать, глотать кирпич воздуха за кирпичом… Без кожаной брони, без шлема, лучшего за всю историю Орд, заякорите себе на лбу, всем шлемам шлем, монстр отпора и амортизации, без набедренников, ракушек, деревянных налокотников, разломанных вдребезги, я бы в живых не остался. Железные колы повырывало и закрутило вместе с нами, два каната спереди рвануло, нас шарахнуло о край впадины, перепахало по оси, перевернуло, ослепило… Мы все чуть не сдохли, я в том числе. Я чувствовал, как эта огромная сенокосилка дубасила меня прямо в грудину и говорила: все, Гого, приехали, снимай шлем, я за тобой… Отправишься к своему брательнику, вам там обоим место. Этот сопляк тебя там уже тридцать четыре года ждет не дождется…

 «С котенком, Ороси, не с тигром». Вся впадина была забрызгана кровью. Без песочного матраса нас бы раздробило на куски откидными волнами. Построение рогаткой уберегло от худшего. Ламинарный поток, слава Петру, прошел в доминантной позиции над турбулентными. Это нас спасло. Но какой ценой для Голгота… Фироста, Сова, Пьетро… Они отцепили свои карабины и корчились от боли, лежа на земле. Сову раздробило весь правый бок, раны забило песком и осколками. Его врачевала Аои. У Пьетро было вывихнуто правое плечо. Он, наверное, налетел на какой-то пень во время маятника. Но Альма вправит его на место, как у Свезьеста после первой волны. Только первые три ряда относительно пронесло, но это было ожидаемо. Их я теперь поставлю на передовую под третью волну.
«С котенком, Ороси, не с тигром». Вся впадина была забрызгана кровью. Без песочного матраса нас бы раздробило на куски откидными волнами. Построение рогаткой уберегло от худшего. Ламинарный поток, слава Петру, прошел в доминантной позиции над турбулентными. Это нас спасло. Но какой ценой для Голгота… Фироста, Сова, Пьетро… Они отцепили свои карабины и корчились от боли, лежа на земле. Сову раздробило весь правый бок, раны забило песком и осколками. Его врачевала Аои. У Пьетро было вывихнуто правое плечо. Он, наверное, налетел на какой-то пень во время маятника. Но Альма вправит его на место, как у Свезьеста после первой волны. Только первые три ряда относительно пронесло, но это было ожидаемо. Их я теперь поставлю на передовую под третью волну.
 Снова появились хроны, поприветствовали и удалились (втихомолку), но я не узнал ни одного приятеля. Одни деревья снова зацвели, другие выплюнуло полностью засохшими, третьи окотило котами, кактусовые повылазили прямо из песка, показались буера, какие-то животные, из юрких, неуловимых, оставили за собой немыслимые следы. И как бы вас это все не эпатировало, все это было ничто по сравнению с тем, что они там наверху (лучшие из них) умели делать. Слово Ларко! Они, марева, умеют создавать из ничего, из чистого ветра, капли воздуха и воды (из света), ткут из звезд и лун, запрятавшихся в небосводе, кроят погоду как хотят, выращивают леса на толщах тумана, строят корабли (без парусов, со всеми удобствами), подбрасывают нам с них немного дичи, когда знают, что мы с охоты бредем без улова.
Прошла третья волна (не такая свирепая), мы выстояли ее аркой: Сов, Пьетро и Голгот, зацепленные за крюки
Снова появились хроны, поприветствовали и удалились (втихомолку), но я не узнал ни одного приятеля. Одни деревья снова зацвели, другие выплюнуло полностью засохшими, третьи окотило котами, кактусовые повылазили прямо из песка, показались буера, какие-то животные, из юрких, неуловимых, оставили за собой немыслимые следы. И как бы вас это все не эпатировало, все это было ничто по сравнению с тем, что они там наверху (лучшие из них) умели делать. Слово Ларко! Они, марева, умеют создавать из ничего, из чистого ветра, капли воздуха и воды (из света), ткут из звезд и лун, запрятавшихся в небосводе, кроят погоду как хотят, выращивают леса на толщах тумана, строят корабли (без парусов, со всеми удобствами), подбрасывают нам с них немного дичи, когда знают, что мы с охоты бредем без улова.
Прошла третья волна (не такая свирепая), мы выстояли ее аркой: Сов, Пьетро и Голгот, зацепленные за крюки
 (обратно)
(обратно)
 Я все это бесконечно любил, что уж тут скрывать, все эти просторы послеволновых руин: деревни, лишенные всякого заслона, открытые всем ветрам, груды крепостей, вмиг утратившие всю свою претенциозность, словно состарившиеся за ночь, их разложенные на песочном ковре, как на прилавке, за бесценок, камни — точь-в-точь разбросанные драгоценности. Я упивался ощущением того, что был человеком, устоявшим на ногах, был лезвием из плоти, что рассекает ветер наперекор всему угоризонталенному миру; я стоял перед полем боя, где не было врага, готового дать отпор, не было побежденных, где омытая шквалами земля была нетронута, вновь первозданна, она давала нам право сделать новый шаг, готовая принять наш путь. Эта упрямая мечта, верх глупости, химера — в один прекрасный день достичь края Земли, дойти до самого верховья, до Верхнего Предела, испить глоток чистого ветра из самого источника — вот он, конец наших исканий, или начало? Да, я все это обожал. А может, просто сегодня утром, в столь непривычно ярком, плавном, кристальном свете, мы лучше понимали, какое это чудо — жить? Небо было вопиюще прозрачно, равнина еще дымилась, мерцала развеянною дымкой, свежайше припорошенные поля словно ждали наших
Я все это бесконечно любил, что уж тут скрывать, все эти просторы послеволновых руин: деревни, лишенные всякого заслона, открытые всем ветрам, груды крепостей, вмиг утратившие всю свою претенциозность, словно состарившиеся за ночь, их разложенные на песочном ковре, как на прилавке, за бесценок, камни — точь-в-точь разбросанные драгоценности. Я упивался ощущением того, что был человеком, устоявшим на ногах, был лезвием из плоти, что рассекает ветер наперекор всему угоризонталенному миру; я стоял перед полем боя, где не было врага, готового дать отпор, не было побежденных, где омытая шквалами земля была нетронута, вновь первозданна, она давала нам право сделать новый шаг, готовая принять наш путь. Эта упрямая мечта, верх глупости, химера — в один прекрасный день достичь края Земли, дойти до самого верховья, до Верхнего Предела, испить глоток чистого ветра из самого источника — вот он, конец наших исканий, или начало? Да, я все это обожал. А может, просто сегодня утром, в столь непривычно ярком, плавном, кристальном свете, мы лучше понимали, какое это чудо — жить? Небо было вопиюще прозрачно, равнина еще дымилась, мерцала развеянною дымкой, свежайше припорошенные поля словно ждали наших
 По правой стороне, в трехстах метрах от нас, была деревня, вернее просто кучка дюн. Засевшие по сточным ямам на время бури жители стали единственными выжившими, которых мы за сегодня встретили, но они были настолько не в себе после случившегося, что даже не взяли в толк, кто мы такие и чего хотим: глоток чистой воды, куда
По правой стороне, в трехстах метрах от нас, была деревня, вернее просто кучка дюн. Засевшие по сточным ямам на время бури жители стали единственными выжившими, которых мы за сегодня встретили, но они были настолько не в себе после случившегося, что даже не взяли в толк, кто мы такие и чего хотим: глоток чистой воды, куда
 В лучах солнца деревушки ясно просматривались на горизонте. Темные холмы на медной отмели. Бурей замело большинство впадин, сровняло дюны. Не могло быть выбора однозначнее: обойти все деревушки одну за другой, протянуть руку помощи, откопать трупы, быть может, спасти чью-то жизнь. Или же пройти мимо, оставить все на произвол судьбы. Те, из Орды, кто шел передо мной, свой выбор сделали: они все прошли мимо. И что же следовало сделать? Да, оставить все как есть, на произвол судьбы. Но не своей.
В лучах солнца деревушки ясно просматривались на горизонте. Темные холмы на медной отмели. Бурей замело большинство впадин, сровняло дюны. Не могло быть выбора однозначнее: обойти все деревушки одну за другой, протянуть руку помощи, откопать трупы, быть может, спасти чью-то жизнь. Или же пройти мимо, оставить все на произвол судьбы. Те, из Орды, кто шел передо мной, свой выбор сделали: они все прошли мимо. И что же следовало сделать? Да, оставить все как есть, на произвол судьбы. Но не своей.
 Какая-то старушка отчаянно рыдала в три ручья. Из колодцев вылезали дети, покрытые летучей золой, щелевой пылью. Они мотали головами, хлопали себя по рукам и ногам, вытряхивали ее из волос. Мало-помалу приходили в себя, силились понять, что с ними случилось… Это я услышала удары о крышку трапа. А Альма нашла вход в колодец, заваленный песком и грудой камней. В колодце, как это чаще всего и бывает в заброшенных деревеньках, сидела вся местная ребятня: с два десятка малышей, с мамами и бабушками. В восьми метрах под землей, в обычной дыре. Из-за нехватки места мужчины укрылись в хижинах, на поверхности. Ни один из них уже не расскажет, как все было. Деревню рассеяло на три километра к низовью, словно пронесло комету из обломков. Если бы мы сюда не зашли, кто бы разобрал завал над колодцем? Лучше об этом не думать, трап был открыт, и они живы, по крайней мере эти.
Старушка продолжала плакать. Она долго-долго держала нас за руки, благодарила. Затем присела на бортик фон-
Какая-то старушка отчаянно рыдала в три ручья. Из колодцев вылезали дети, покрытые летучей золой, щелевой пылью. Они мотали головами, хлопали себя по рукам и ногам, вытряхивали ее из волос. Мало-помалу приходили в себя, силились понять, что с ними случилось… Это я услышала удары о крышку трапа. А Альма нашла вход в колодец, заваленный песком и грудой камней. В колодце, как это чаще всего и бывает в заброшенных деревеньках, сидела вся местная ребятня: с два десятка малышей, с мамами и бабушками. В восьми метрах под землей, в обычной дыре. Из-за нехватки места мужчины укрылись в хижинах, на поверхности. Ни один из них уже не расскажет, как все было. Деревню рассеяло на три километра к низовью, словно пронесло комету из обломков. Если бы мы сюда не зашли, кто бы разобрал завал над колодцем? Лучше об этом не думать, трап был открыт, и они живы, по крайней мере эти.
Старушка продолжала плакать. Она долго-долго держала нас за руки, благодарила. Затем присела на бортик фон-
 Кориолис была на седьмом небе. До тех пор, пока восемь месяцев назад Орда не зашла в ее село, она влачила существование весьма никчемное, между девичьими мечтами и рутиной золотоискателя. Ее работа заключалась в том, чтобы ставить сети на равнинах, в краю, где за целый день фильтрации не заполнить зерном и двух тарелок. И вот вчера она пережила свой первый ярветер, увидела свой первый хрон; сегодня открыла для себя статус скриба, узнала, как обозначается поток и, кто знает, может, встретила свою первую любовь, этого шалопая Караколя, чьи шутки выбивали у нее почву из-под ног, поднимали ввысь и уносили вдаль. Без малейшего труда. Мы не знали, где остальные — сзади или впереди? — но сделать передышку посреди дня, здесь на лугу, на этом, вероятно, возникшем вчера из хрона островке — была такая роскошь для бродяги.
Вне группы Кориолис чувствовала себя уверенней: спрашивала о вещах, для нас элементарных, но о которых ей было бы стыдно спросить при Голготе и других. И я не без удовольствия расстилал перед ней свои познания…
Кориолис была на седьмом небе. До тех пор, пока восемь месяцев назад Орда не зашла в ее село, она влачила существование весьма никчемное, между девичьими мечтами и рутиной золотоискателя. Ее работа заключалась в том, чтобы ставить сети на равнинах, в краю, где за целый день фильтрации не заполнить зерном и двух тарелок. И вот вчера она пережила свой первый ярветер, увидела свой первый хрон; сегодня открыла для себя статус скриба, узнала, как обозначается поток и, кто знает, может, встретила свою первую любовь, этого шалопая Караколя, чьи шутки выбивали у нее почву из-под ног, поднимали ввысь и уносили вдаль. Без малейшего труда. Мы не знали, где остальные — сзади или впереди? — но сделать передышку посреди дня, здесь на лугу, на этом, вероятно, возникшем вчера из хрона островке — была такая роскошь для бродяги.
Вне группы Кориолис чувствовала себя уверенней: спрашивала о вещах, для нас элементарных, но о которых ей было бы стыдно спросить при Голготе и других. И я не без удовольствия расстилал перед ней свои познания…

 Крыша в форме купола рухнула, но стены уцелели. Это был добротный особняк: у архитектора вышла красивая капля, с мягкими изгибами, без изломов. Два небольших свода перед центральным куполом прежде напоминали дворец. Сегодня же это сходство скорее нагоняло тоску.
— Он был под южным сводом, когда ударила волна… Если он жив, то должен быть там…
— Почему вы сами туда не пошли?
То, что осталось от женщины, которая наверняка приходилась ему женой или любовницей, пристально посмотрело на меня, ничего не отвечая. Она оглядела улицу: чистильщики, вооруженные лопатами, перебрасывались указаниями, раскапывали завалы. Без особого рвения. Заводили к соседям, тоже из знатных. На чем процветала эта деревня? Похоже, тут не бедствовали.
— Я не хочу увидеть его мертвым.
— Проводите меня до входа в зал. Дальше я сам разберусь.
Больше не было никаких винтовых ворот, двойных дверей: ярветер облегчил правила этикета. Без привычных церемоний мы попали в зал. От вида вторжения бедствия в это прекраснейшее, каплевидной формы без единого угла помещение щемило сердце. Высокий потолок зиял дырой прямо в небо. Купол обрушился на инкрустированную мебель, кресла из профилированной кожи, овальный ковер. Черепица искорежила ветровой орган, и его трубы больше не возвышались над сводом. По-прежнему тактично моя спутница предупредила мой вопрос:
— Вся система ветряного распределения разрушена. Фрикционная плита, камин с принудительной системой вентиляции, паровой двигатель для ванной. Даже стол с воздушной подушкой, на котором мы играли в шайбу.
— Куда идти?
Крыша в форме купола рухнула, но стены уцелели. Это был добротный особняк: у архитектора вышла красивая капля, с мягкими изгибами, без изломов. Два небольших свода перед центральным куполом прежде напоминали дворец. Сегодня же это сходство скорее нагоняло тоску.
— Он был под южным сводом, когда ударила волна… Если он жив, то должен быть там…
— Почему вы сами туда не пошли?
То, что осталось от женщины, которая наверняка приходилась ему женой или любовницей, пристально посмотрело на меня, ничего не отвечая. Она оглядела улицу: чистильщики, вооруженные лопатами, перебрасывались указаниями, раскапывали завалы. Без особого рвения. Заводили к соседям, тоже из знатных. На чем процветала эта деревня? Похоже, тут не бедствовали.
— Я не хочу увидеть его мертвым.
— Проводите меня до входа в зал. Дальше я сам разберусь.
Больше не было никаких винтовых ворот, двойных дверей: ярветер облегчил правила этикета. Без привычных церемоний мы попали в зал. От вида вторжения бедствия в это прекраснейшее, каплевидной формы без единого угла помещение щемило сердце. Высокий потолок зиял дырой прямо в небо. Купол обрушился на инкрустированную мебель, кресла из профилированной кожи, овальный ковер. Черепица искорежила ветровой орган, и его трубы больше не возвышались над сводом. По-прежнему тактично моя спутница предупредила мой вопрос:
— Вся система ветряного распределения разрушена. Фрикционная плита, камин с принудительной системой вентиляции, паровой двигатель для ванной. Даже стол с воздушной подушкой, на котором мы играли в шайбу.
— Куда идти?
 Итак, еще раз:
— Если говорить фундаментально, то ветер это: 1 — скорость, 2 — коэффициент вариаций — ускорение-
Итак, еще раз:
— Если говорить фундаментально, то ветер это: 1 — скорость, 2 — коэффициент вариаций — ускорение-
 Прошло минут пятнадцать. Меньше? Мне все же удалось найти подходящую точку опоры, и, стоя на какой-то квадратной доске, я методично стал окапывать завал вокруг себя. Тщетно.
Песок размеренно стекал с амбразуры крыши. Он ниспадал тонким занавесом, то желтым, то красным. Я присел на корточки, сдвинулся на шаг в сторону по доске и… И мне послышался какой-то хрип. Дыхание, где-то совсем рядом. Я поднял доску из песка и переставил ее на новое место, чтобы продолжить копать с другой платформы. Ровно в том месте, откуда я убрал доску, показалось что-то синее, засыпанное песком. Ткань. Рубашка. Я стал раскапывать руками… Торс. Холодный.
Прошло минут пятнадцать. Меньше? Мне все же удалось найти подходящую точку опоры, и, стоя на какой-то квадратной доске, я методично стал окапывать завал вокруг себя. Тщетно.
Песок размеренно стекал с амбразуры крыши. Он ниспадал тонким занавесом, то желтым, то красным. Я присел на корточки, сдвинулся на шаг в сторону по доске и… И мне послышался какой-то хрип. Дыхание, где-то совсем рядом. Я поднял доску из песка и переставил ее на новое место, чтобы продолжить копать с другой платформы. Ровно в том месте, откуда я убрал доску, показалось что-то синее, засыпанное песком. Ткань. Рубашка. Я стал раскапывать руками… Торс. Холодный.
 Поскольку начинать все равно нужно было с основ, то для транспозиции я выбрал зефирин. Воспоминания. Когда мне было восемь, ордонатор, который обучал новичков-скрибов, сказал нам выйти из Дырявого Зала и и порядке исключения подняться на самый верх башни. Там, в сорока метрах над Аберлаасом, он рассадил нас по одному, с глиняной табличкой и стилосом в руках, на самом краю башни, ноги наши свисали над пропастью. «Закройте глаза и транспонируйте ветер, который на вас дует. Кто не отметит турбулы, полетит вниз». И не добавил больше ни звука. Ордонаторы вообще никогда не говорили ничего лишнего. Это были мрачные, мелоподобные
Поскольку начинать все равно нужно было с основ, то для транспозиции я выбрал зефирин. Воспоминания. Когда мне было восемь, ордонатор, который обучал новичков-скрибов, сказал нам выйти из Дырявого Зала и и порядке исключения подняться на самый верх башни. Там, в сорока метрах над Аберлаасом, он рассадил нас по одному, с глиняной табличкой и стилосом в руках, на самом краю башни, ноги наши свисали над пропастью. «Закройте глаза и транспонируйте ветер, который на вас дует. Кто не отметит турбулы, полетит вниз». И не добавил больше ни звука. Ордонаторы вообще никогда не говорили ничего лишнего. Это были мрачные, мелоподобные
 Залп, замедление, застой. Залп и турбула, замедление, залп, застой.
Справа от меня сидел мой лучший друг, Антон Бергкамп. Он был сыном скриба 33-й, Фица Бергкампа, и, согласно всеобщему мнению, ввиду неоспоримого таланта, его прямым преемником. Когда я открыл глаза, меня всего заколотило от вида пропасти, и я в ту же секунду отвернулся, чтобы взглянуть на табличку Антона. Тот исправил турбулу в середине фразы, на тупое ударение: порыв. Порыв?
Запись ветра по самой своей природе дифференциальна, она не имеет ничего общего с точной наукой, это всем известно. Способность верно определять время между залпами, размах турбулентности, различать короткое замедление с последующим повторным залпом и простую турбулу — все это очень тонко, иногда почти неуловимо. Скрибов не учат фундаментальной точности, на манер геомастеров. Нас учат точности куда более обостренной архитектуре отклонений — этому так хорошо развитому у лучших из нас чувству синтаксиса, что есть чистейшее искусство ритма инфлексий и переломов. Писать словами после этого становится задачей пустяковой настолько, что уроки повествования, обучение изложению как таковому начинаются лишь год спустя и допускаются до них только те, кто сумел уловить в переплетении ритмов фразировку ветра.
Антон Бергкамп, как и все семеро из нас, отдал свой глиняный прямоугольник ордонатору. Меловое лицо учителя исказилось, словно треснуло, в то же время раз-
Залп, замедление, застой. Залп и турбула, замедление, залп, застой.
Справа от меня сидел мой лучший друг, Антон Бергкамп. Он был сыном скриба 33-й, Фица Бергкампа, и, согласно всеобщему мнению, ввиду неоспоримого таланта, его прямым преемником. Когда я открыл глаза, меня всего заколотило от вида пропасти, и я в ту же секунду отвернулся, чтобы взглянуть на табличку Антона. Тот исправил турбулу в середине фразы, на тупое ударение: порыв. Порыв?
Запись ветра по самой своей природе дифференциальна, она не имеет ничего общего с точной наукой, это всем известно. Способность верно определять время между залпами, размах турбулентности, различать короткое замедление с последующим повторным залпом и простую турбулу — все это очень тонко, иногда почти неуловимо. Скрибов не учат фундаментальной точности, на манер геомастеров. Нас учат точности куда более обостренной архитектуре отклонений — этому так хорошо развитому у лучших из нас чувству синтаксиса, что есть чистейшее искусство ритма инфлексий и переломов. Писать словами после этого становится задачей пустяковой настолько, что уроки повествования, обучение изложению как таковому начинаются лишь год спустя и допускаются до них только те, кто сумел уловить в переплетении ритмов фразировку ветра.
Антон Бергкамп, как и все семеро из нас, отдал свой глиняный прямоугольник ордонатору. Меловое лицо учителя исказилось, словно треснуло, в то же время раз-

 Неужели Караколь вдруг выдал что-то серьезное, бум! И Сов стоит, и голову ломает, застыл в недоумении… но нет, уже заулыбался, глаза блестят, и смотрит то на Караколя, то на текст.
— Нужно убрать буквы, да? Читать только пунктуацию и диакритику? Так, что ли: «Лей воду, мерно и ровно. Милей в округе всё, на что упал твой взор»?
Караколь дал ему время проверить. Сов в восхищении кивал головой. Я не все поняла, но они, похоже, оба были очень довольны.
— Все верно, надо же. Отлично, Караколь. Разве только длительности, здесь ты начудил, но ты никогда толком не умел их определять…
— Тебе не кажется, что так симпатичнее? Если немного постараться, то можно было бы одновременно записывать саму структуру ветра символами, а атмосферу передавать словами. Или рассказывать как историю…
— Карак, ты вообще понимаешь зачем придумали эту систему? Чтобы упростить запись, не наоборот. Описывать ветер словами, передавать «атмосферу», именно так раньше и делали. Вплоть до 8-й Орды и даже позже, пока транспозиция не устоялась. Систему придумали для эффективности. Это тебе не игрушка!
— Почему нет?
Неужели Караколь вдруг выдал что-то серьезное, бум! И Сов стоит, и голову ломает, застыл в недоумении… но нет, уже заулыбался, глаза блестят, и смотрит то на Караколя, то на текст.
— Нужно убрать буквы, да? Читать только пунктуацию и диакритику? Так, что ли: «Лей воду, мерно и ровно. Милей в округе всё, на что упал твой взор»?
Караколь дал ему время проверить. Сов в восхищении кивал головой. Я не все поняла, но они, похоже, оба были очень довольны.
— Все верно, надо же. Отлично, Караколь. Разве только длительности, здесь ты начудил, но ты никогда толком не умел их определять…
— Тебе не кажется, что так симпатичнее? Если немного постараться, то можно было бы одновременно записывать саму структуру ветра символами, а атмосферу передавать словами. Или рассказывать как историю…
— Карак, ты вообще понимаешь зачем придумали эту систему? Чтобы упростить запись, не наоборот. Описывать ветер словами, передавать «атмосферу», именно так раньше и делали. Вплоть до 8-й Орды и даже позже, пока транспозиция не устоялась. Систему придумали для эффективности. Это тебе не игрушка!
— Почему нет?
 Кориолис была в восторге. Ее красные губки, в которые так и хотелось впиться, были слегка приоткрыты. Она не просто слушала его, она пила из его уст, глотала его слова.
— Почему нет, Сов? Вместо того чтобы просто рисовать эти твои черточки, точки, запятые, почему не воспользоваться этой же структурой и не наложить на нее настоящую фразу, которая будет содержать нужную
Кориолис была в восторге. Ее красные губки, в которые так и хотелось впиться, были слегка приоткрыты. Она не просто слушала его, она пила из его уст, глотала его слова.
— Почему нет, Сов? Вместо того чтобы просто рисовать эти твои черточки, точки, запятые, почему не воспользоваться этой же структурой и не наложить на нее настоящую фразу, которая будет содержать нужную
 Где их там носит? Я и так тащусь, как муха навозная, волоку свою кучу гноя, тушу свою продырявленную, и ни один паршивец не встроился в мою борозду. Одним придуркам вздумалось, что они на ярмарке, суют по карманам всякое дерьмо, что под ногами валяется, отогревают задницы на солнышке, шаромыжники несчастные, другие вообразили, что их ждут в каждой дыре из глинобитки, вы только посмотрите на них, герои нашлись, решили мир спасать своими руками из жопы и лыбой во всю рожу, с такими только зоопарк открывать можно! Орда, называется! Стадо слюнтяев. Где Пьетро, мать его? Ударился в общественную деятельность, ходит руки всем старухам пожимает, князя из себя корчит? А Сов? Каракули свои малюет на случай, если мы и в самом деле окочуримся, чтоб им там в низовье было чем повеселить мелюзгу деревенскую, 35-ю, которую они там нам на смену дрессируют? Еще одну широкозадую готовят? Быстрее нас пойдет? Ага, разбежались. Орава блондинчиков из колодцев повылазила и
Где их там носит? Я и так тащусь, как муха навозная, волоку свою кучу гноя, тушу свою продырявленную, и ни один паршивец не встроился в мою борозду. Одним придуркам вздумалось, что они на ярмарке, суют по карманам всякое дерьмо, что под ногами валяется, отогревают задницы на солнышке, шаромыжники несчастные, другие вообразили, что их ждут в каждой дыре из глинобитки, вы только посмотрите на них, герои нашлись, решили мир спасать своими руками из жопы и лыбой во всю рожу, с такими только зоопарк открывать можно! Орда, называется! Стадо слюнтяев. Где Пьетро, мать его? Ударился в общественную деятельность, ходит руки всем старухам пожимает, князя из себя корчит? А Сов? Каракули свои малюет на случай, если мы и в самом деле окочуримся, чтоб им там в низовье было чем повеселить мелюзгу деревенскую, 35-ю, которую они там нам на смену дрессируют? Еще одну широкозадую готовят? Быстрее нас пойдет? Ага, разбежались. Орава блондинчиков из колодцев повылазила и

 Но они меня даже не слушали. Переглядывались себе, толкались локтями, повторяли друг за дружкой, веселились точь-в-точь как дети. Кориолис зарывалась в песок, перекатывалась из стороны в сторону. Темные, волнистые пряди то скрывали, то обнажали ее губы. Она снова и снова заливалась смехом. Обворожительно. Но старалась держаться с достоинством:
— А я-то думала, что быть скрибом это дело суровое!
— Это и есть суровое дело, если рядом не околачивается этот полоумный трубадуришка! Возьми линейку времени, Карак! Ты ставишь пробелы где ни попадя.
— Не сбивай меня, я считаю! А хроны ты как изображаешь?
— Никак я их не изображаю.
— Но это же формы ветра!
— Нет.
— Да!
— И чем ты это докажешь?
— Они выходят из воронок, Сов, это же очевидно! Это все знают!
— Ну, может, ты и знаешь, а я нет! Хроны — это сопутствующее явление при появлении воронок, не спорю, но с научной точки зрения ничто не доказывает подобного происхождения.
— Я не могу транспонировать ярветер без хронов!
Он снова хохотал, ставил кляксы на своем листе, размазывал их, пачкал лицо Кориолис, она злилась. Для вида.
— Хватит разводить балаган, Карак! Давай серьезнее, если хочешь стать скрибом во второй позиции, и ты тоже, Кориолис, если хочешь быть в третьей. Это вам не шутки. Если я умру, ведение контржурнала перейдет Караколю, вы это хорошо понимаете?
— Ты не умрешь!
Но они меня даже не слушали. Переглядывались себе, толкались локтями, повторяли друг за дружкой, веселились точь-в-точь как дети. Кориолис зарывалась в песок, перекатывалась из стороны в сторону. Темные, волнистые пряди то скрывали, то обнажали ее губы. Она снова и снова заливалась смехом. Обворожительно. Но старалась держаться с достоинством:
— А я-то думала, что быть скрибом это дело суровое!
— Это и есть суровое дело, если рядом не околачивается этот полоумный трубадуришка! Возьми линейку времени, Карак! Ты ставишь пробелы где ни попадя.
— Не сбивай меня, я считаю! А хроны ты как изображаешь?
— Никак я их не изображаю.
— Но это же формы ветра!
— Нет.
— Да!
— И чем ты это докажешь?
— Они выходят из воронок, Сов, это же очевидно! Это все знают!
— Ну, может, ты и знаешь, а я нет! Хроны — это сопутствующее явление при появлении воронок, не спорю, но с научной точки зрения ничто не доказывает подобного происхождения.
— Я не могу транспонировать ярветер без хронов!
Он снова хохотал, ставил кляксы на своем листе, размазывал их, пачкал лицо Кориолис, она злилась. Для вида.
— Хватит разводить балаган, Карак! Давай серьезнее, если хочешь стать скрибом во второй позиции, и ты тоже, Кориолис, если хочешь быть в третьей. Это вам не шутки. Если я умру, ведение контржурнала перейдет Караколю, вы это хорошо понимаете?
— Ты не умрешь!
 Сов весь подрагивал, как стебелек на ветру. Бедняга! Он такой милый, такой добрый ко всем. Всегда выслушает, пожалеет, защитит, если Голгот разбушуется, всегда готов помочь Свезьесту, подбодрить всех нас. Они вчера с Пьетро были на высоте. Я их очень уважаю. Сов, конечно, не красавец, слишком худощавый, суховатый, но в нем есть что-то трогательное, что-то очень настоящее. И еще он очень умный, но это скорее пугает.
— Герой — это сама Орда, ученичок! Контржурнал повествует нашу общую историю.
— Она повествует историю того, кто ее пишет. Твой грядущий путь. В этом ее единственная ценность, писака!
— А я думала, что нашим героем будет Караколь…
— Наш герой — ветер, принцесса, это ради него мы учимся писать. Только ради него.
— Но к чему все это? У каждого ветра свои выкрутасы, невозможно все зашифровать! Можно целыми днями заниматься этим бумагомарательством, рисовать точки, запятые, апострофы, кто больше, тот и молодец, и что с того? Мы станем счастливее?
— Сейчас ты его раздраконишь, нашего бумагокропателя.
Сов весь подрагивал, как стебелек на ветру. Бедняга! Он такой милый, такой добрый ко всем. Всегда выслушает, пожалеет, защитит, если Голгот разбушуется, всегда готов помочь Свезьесту, подбодрить всех нас. Они вчера с Пьетро были на высоте. Я их очень уважаю. Сов, конечно, не красавец, слишком худощавый, суховатый, но в нем есть что-то трогательное, что-то очень настоящее. И еще он очень умный, но это скорее пугает.
— Герой — это сама Орда, ученичок! Контржурнал повествует нашу общую историю.
— Она повествует историю того, кто ее пишет. Твой грядущий путь. В этом ее единственная ценность, писака!
— А я думала, что нашим героем будет Караколь…
— Наш герой — ветер, принцесса, это ради него мы учимся писать. Только ради него.
— Но к чему все это? У каждого ветра свои выкрутасы, невозможно все зашифровать! Можно целыми днями заниматься этим бумагомарательством, рисовать точки, запятые, апострофы, кто больше, тот и молодец, и что с того? Мы станем счастливее?
— Сейчас ты его раздраконишь, нашего бумагокропателя.
 Я, конечно, не злился, но вот только что ей ответить? Что потребовалось восемь веков и тридцать три Орды, чтобы скриб за скрибом, благодаря (в первую очередь!) деревенским эрудитам, человечество начало осознавать, что ветер обладает глубинной структурой? Что это не чистый хаос в движении, не высвистанная наугад разноголосица, не полнейшая бестолковщина? Что существует невероят-
Я, конечно, не злился, но вот только что ей ответить? Что потребовалось восемь веков и тридцать три Орды, чтобы скриб за скрибом, благодаря (в первую очередь!) деревенским эрудитам, человечество начало осознавать, что ветер обладает глубинной структурой? Что это не чистый хаос в движении, не высвистанная наугад разноголосица, не полнейшая бестолковщина? Что существует невероят-
 И тут придурок нашелся, посреди равнины. «Пжалста, говорит, ну пжалста!» Помощи хотел. Лет двенадцать, ну десять с мелочью, морда гладкая, откормленная, типичный крытень. «Папа под бревном, поднять не могу, поможите», — замямлил мне тут, за руку меня тянет. Я не стал сморить с откормышем. Снял нагрудник и влепил его носом прям в плечо, в свою шкуру горса с наколкой «Голгот» и цифрой 9. Тот обалдел. Не от герба, от моих ран. Сплошные куски тухлятины, шея гноится, дерьмо вонючее. Он снова за свое взялся. Сопли распустил. Ноет как девчонка, сосунок застеночный. Жопой к ветру стоит, одежонку свою боится запачкать. Я ему подкосил опорную. «Вали отсюда, харчок! Пшел!» Но нет, снова заскулил про папашу своего: «Быстро надо, живой еще». Я бы даже сходил, в конце концов. Серьезно. Клянусь. Чтоб посмотреть, как он там подыхает. Как я хотел бы своего собственного отца увидать. Как он сдохнет.
И тут придурок нашелся, посреди равнины. «Пжалста, говорит, ну пжалста!» Помощи хотел. Лет двенадцать, ну десять с мелочью, морда гладкая, откормленная, типичный крытень. «Папа под бревном, поднять не могу, поможите», — замямлил мне тут, за руку меня тянет. Я не стал сморить с откормышем. Снял нагрудник и влепил его носом прям в плечо, в свою шкуру горса с наколкой «Голгот» и цифрой 9. Тот обалдел. Не от герба, от моих ран. Сплошные куски тухлятины, шея гноится, дерьмо вонючее. Он снова за свое взялся. Сопли распустил. Ноет как девчонка, сосунок застеночный. Жопой к ветру стоит, одежонку свою боится запачкать. Я ему подкосил опорную. «Вали отсюда, харчок! Пшел!» Но нет, снова заскулил про папашу своего: «Быстро надо, живой еще». Я бы даже сходил, в конце концов. Серьезно. Клянусь. Чтоб посмотреть, как он там подыхает. Как я хотел бы своего собственного отца увидать. Как он сдохнет.
 — Предлагаю напоследок немного почитать. Я вам дам прочесть несколько транспозиций, и вы по каждой скажете, о какой форме ветра идет речь.
Я достал контржурнал из сумки и положил на колени. Загнул тонкие листики до вчерашней страницы и открыл. Я чувствовал, как кожа Кориолис касалась моего обнаженного плеча.
— Предлагаю напоследок немного почитать. Я вам дам прочесть несколько транспозиций, и вы по каждой скажете, о какой форме ветра идет речь.
Я достал контржурнал из сумки и положил на колени. Загнул тонкие листики до вчерашней страницы и открыл. Я чувствовал, как кожа Кориолис касалась моего обнаженного плеча.
 — Это ярветер!
— Это ярветер!
 — Легкотня! Но пусть наша муза поищет…
— Кориолис, мы тебя слушаем… Что ты здесь видишь, в общих чертах?
— Э-э-э… Достаточно мягко, равномерно. Это должен быть ветер не очень мощный…
— По чему ты это видишь?
— Нет циркумфлекса, значит, не должно волочить пыль; и шлейфа за шквалом тоже нет…
— Что еще бросается в глаза? Что скажешь о ритме?
— Мало турбуленций. Тройная структура, если не ошибаюсь, сначала залп, потом небольшой спад и затем шквал. И так три раза.
— Отличный анализ. Так что?
— Думаю, что сламино.
— Бравиисссссимооооо!!!
— Не глупа наша фаркопщица… Ладно, последний. Небольшая ловушка:
— Легкотня! Но пусть наша муза поищет…
— Кориолис, мы тебя слушаем… Что ты здесь видишь, в общих чертах?
— Э-э-э… Достаточно мягко, равномерно. Это должен быть ветер не очень мощный…
— По чему ты это видишь?
— Нет циркумфлекса, значит, не должно волочить пыль; и шлейфа за шквалом тоже нет…
— Что еще бросается в глаза? Что скажешь о ритме?
— Мало турбуленций. Тройная структура, если не ошибаюсь, сначала залп, потом небольшой спад и затем шквал. И так три раза.
— Отличный анализ. Так что?
— Думаю, что сламино.
— Бравиисссссимооооо!!!
— Не глупа наша фаркопщица… Ладно, последний. Небольшая ловушка:
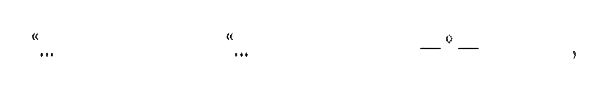 — Мерзкая штуковина… Шквал со шлейфом, дважды… потом эффект Лассини, вихрь, снова эффект Лассини… и дождевой поток? Что это? Конец ярветра?
— Нет, сосредоточьтесь на потоке.
— Шун?
— Мерзкая штуковина… Шквал со шлейфом, дважды… потом эффект Лассини, вихрь, снова эффект Лассини… и дождевой поток? Что это? Конец ярветра?
— Нет, сосредоточьтесь на потоке.
— Шун?
 Когда небо развиднелось, их по-прежнему не было видно на горизонте, ни одного из них. Я понимал, что они наверняка были вместе, втроем: Кориолис с Караколем и Сов с ними. (Вывели тебя из игры, а, Ларко?) Тем лучше, я предпочитал не видеть их вместе, не слышать, как она смеется, едва он откроет рот, чтоб рассказать очередную небылицу, изобразит какой-то фокус или затеет одну из своих игр (порой без малого дуэль). Я на него не злился, если уж честно говорить, то и на нее тоже. Пусть себе жеманничает, как только он показывается рядом, задевает его грудью, будто случайно. Этот парень, в своем арлекинском наряде, с вечно подвижным лицом, всегда таким осмысленным, был самой жизнью. А как не втюриться в саму жизнь? Я восхищался им (до одури), как и все остальные. Его ловкость меня поражала. Но еще более того, коль скоро я сам был рассказчиком и развлекателем толпы, до тех пор пока (пять лет назад) он не явился и не затмил меня в мгновенье ока, еще более меня восхищала его способность никогда не размусоливать один и тот же соус. Бесконечно выдумывать что-то новое. Караколь (я это признаю) был для меня моделью, маревом в человеческом обличье, которым я и сам хотел бы стать, хоть чуточку. Постыдно, я подбирал за ним все его каламбуры, крохи явленного из ниоткуда хлеба. Изо дня в день я получал урок, как получал пощечину. И всегда, стоило мне только у него спросить, он на лету давал мне объяснения,
Когда небо развиднелось, их по-прежнему не было видно на горизонте, ни одного из них. Я понимал, что они наверняка были вместе, втроем: Кориолис с Караколем и Сов с ними. (Вывели тебя из игры, а, Ларко?) Тем лучше, я предпочитал не видеть их вместе, не слышать, как она смеется, едва он откроет рот, чтоб рассказать очередную небылицу, изобразит какой-то фокус или затеет одну из своих игр (порой без малого дуэль). Я на него не злился, если уж честно говорить, то и на нее тоже. Пусть себе жеманничает, как только он показывается рядом, задевает его грудью, будто случайно. Этот парень, в своем арлекинском наряде, с вечно подвижным лицом, всегда таким осмысленным, был самой жизнью. А как не втюриться в саму жизнь? Я восхищался им (до одури), как и все остальные. Его ловкость меня поражала. Но еще более того, коль скоро я сам был рассказчиком и развлекателем толпы, до тех пор пока (пять лет назад) он не явился и не затмил меня в мгновенье ока, еще более меня восхищала его способность никогда не размусоливать один и тот же соус. Бесконечно выдумывать что-то новое. Караколь (я это признаю) был для меня моделью, маревом в человеческом обличье, которым я и сам хотел бы стать, хоть чуточку. Постыдно, я подбирал за ним все его каламбуры, крохи явленного из ниоткуда хлеба. Изо дня в день я получал урок, как получал пощечину. И всегда, стоило мне только у него спросить, он на лету давал мне объяснения,
 Лет десять назад Голгот бросил организовывать наш быт. Вместо этого он предпочитал то побеседовать с Ороси о предстоящей трассе, то уточнить что-то у Тальвега про рельеф, то у Степпа про растительность. Он никогда не останавливался. Ввиду отсутствия Сова мне самому пришлось выбрать место, где разбить лагерь. Что-то наподобие небольшого природного цирка, в который можно было попасть, пройдя через ущелье. Там даже уцелело несколько деревьев, земля была устлана полотном оранжевого песка. Три конусообразных скальных выступа нависали над этим покоем. Хотелось умыться. Смыть с себя засохшую хлябь. Изнутри. Забыть о человеке, которого я мог спасти… Я распределил задачи: Аои и Степпа за хворостом, Леарха на вертел. Каллирою попросил позаботиться о расстановке ветряков и запустить позиционные сигналы, по которым можно определить исходную точку огня. Тальвег, с присущим ему одному талантом, нагромоздил несколько холмиков из земли и камня так, чтобы создать преграду и обеспечить сток воздушных масс по лагерю. Силамфр обтесал деревянные щепки и сделал нам из них новые приборы к ужину. Братья резались в бум. При каждом броске бум пролетал вдоль стенок цирка. Кто первый сделает полный круг?.. Как они были беспечны… На каждом шагу мне мерещилось, что я вот-вот кого-то раздавлю в песке.
— Слышите фареол?
Лет десять назад Голгот бросил организовывать наш быт. Вместо этого он предпочитал то побеседовать с Ороси о предстоящей трассе, то уточнить что-то у Тальвега про рельеф, то у Степпа про растительность. Он никогда не останавливался. Ввиду отсутствия Сова мне самому пришлось выбрать место, где разбить лагерь. Что-то наподобие небольшого природного цирка, в который можно было попасть, пройдя через ущелье. Там даже уцелело несколько деревьев, земля была устлана полотном оранжевого песка. Три конусообразных скальных выступа нависали над этим покоем. Хотелось умыться. Смыть с себя засохшую хлябь. Изнутри. Забыть о человеке, которого я мог спасти… Я распределил задачи: Аои и Степпа за хворостом, Леарха на вертел. Каллирою попросил позаботиться о расстановке ветряков и запустить позиционные сигналы, по которым можно определить исходную точку огня. Тальвег, с присущим ему одному талантом, нагромоздил несколько холмиков из земли и камня так, чтобы создать преграду и обеспечить сток воздушных масс по лагерю. Силамфр обтесал деревянные щепки и сделал нам из них новые приборы к ужину. Братья резались в бум. При каждом броске бум пролетал вдоль стенок цирка. Кто первый сделает полный круг?.. Как они были беспечны… На каждом шагу мне мерещилось, что я вот-вот кого-то раздавлю в песке.
— Слышите фареол?
 Притащились наконец. У всех троих мины кислые, а мне от этого только снова паруса надуло. Ужин уже давно в разгаре: сервал на вертеле, фрукты и зерна, немного горячего хлеба, который испекла Каллироя. И главное — вино, бутылками, кувшинами, штофами, целые ведра вина, которые мы понатаскивали из деревушек. Крепкое вино, настоящее пиршество. Это был приятный вечер, светлый, усеянный звездами, он просто не мог закончиться иначе, чем сказкой трубадура. Караколь дал себя поуговаривать (слишком долго, как обычно), затем пошел к саням и принес пару инструментов. Отчертил на земле место для представления, разворошил горящие поленья, раздвинул их по сторонам, чтоб лучше было видно, и сел. Мы, как всегда, расселись вокруг центрального костра подковой, напротив него. Кориолис украдкой подвинула Степпа, чтобы сесть рядом со мной, затем устроилась между моих ног, опершись спиной мне о грудь, сомкнула руки на моих руках, ничего не говоря, тихонько вжалась в мои объятия. (Ее локоны пахли костром.) И меня унесло куда-то вверх, я воспарил над цирком, наполненный ею (делая в воздухе
Притащились наконец. У всех троих мины кислые, а мне от этого только снова паруса надуло. Ужин уже давно в разгаре: сервал на вертеле, фрукты и зерна, немного горячего хлеба, который испекла Каллироя. И главное — вино, бутылками, кувшинами, штофами, целые ведра вина, которые мы понатаскивали из деревушек. Крепкое вино, настоящее пиршество. Это был приятный вечер, светлый, усеянный звездами, он просто не мог закончиться иначе, чем сказкой трубадура. Караколь дал себя поуговаривать (слишком долго, как обычно), затем пошел к саням и принес пару инструментов. Отчертил на земле место для представления, разворошил горящие поленья, раздвинул их по сторонам, чтоб лучше было видно, и сел. Мы, как всегда, расселись вокруг центрального костра подковой, напротив него. Кориолис украдкой подвинула Степпа, чтобы сесть рядом со мной, затем устроилась между моих ног, опершись спиной мне о грудь, сомкнула руки на моих руках, ничего не говоря, тихонько вжалась в мои объятия. (Ее локоны пахли костром.) И меня унесло куда-то вверх, я воспарил над цирком, наполненный ею (делая в воздухе
 Караколь поднял свой ветровой посох и завертел им над головой, точно то был воздушный винт. Дерево угрожающе засвистело в его руках. Всего две фразы, и вот он уже в игре:
— Вначале была скорость — полотно из тончайшей молнии, без цвета и текстуры. Она разрасталась, стремясь из сердцевины вдаль, по расстилающемуся под ее полетом простору. Имя ее было чистветер! Чистветер не имел никакой формы: то была скорость, сплошной неумолимый бег. Ничто было не в силах выжить в этом ветре. Но настал момент, когда от натяженья полотнище лопнуло, открыв тем самым эру полноты и пустоты, мир разрозненных ветров. Ветры неотвратимо сталкивались, состязаясь в своей мощи, порою суммируя ее, порой взаимоуклоняясь и взаимоукрощаясь… Так появились первые вихри, так началась эпоха замедления. Из этого хаоса тягучей материи, замешиваемой лопастями воронок, стали выделяться завитки медлеветра, стал образовываться космос пригодных для жизни скоростей, из которого мы все берем начало. Из медлеветра, столь многообразного по своему генезису, из несметного количества наслоившихся
Караколь поднял свой ветровой посох и завертел им над головой, точно то был воздушный винт. Дерево угрожающе засвистело в его руках. Всего две фразы, и вот он уже в игре:
— Вначале была скорость — полотно из тончайшей молнии, без цвета и текстуры. Она разрасталась, стремясь из сердцевины вдаль, по расстилающемуся под ее полетом простору. Имя ее было чистветер! Чистветер не имел никакой формы: то была скорость, сплошной неумолимый бег. Ничто было не в силах выжить в этом ветре. Но настал момент, когда от натяженья полотнище лопнуло, открыв тем самым эру полноты и пустоты, мир разрозненных ветров. Ветры неотвратимо сталкивались, состязаясь в своей мощи, порою суммируя ее, порой взаимоуклоняясь и взаимоукрощаясь… Так появились первые вихри, так началась эпоха замедления. Из этого хаоса тягучей материи, замешиваемой лопастями воронок, стали выделяться завитки медлеветра, стал образовываться космос пригодных для жизни скоростей, из которого мы все берем начало. Из медлеветра, столь многообразного по своему генезису, из несметного количества наслоившихся
 Да-да, вот сейчас его действительно унесет… В этом ему нет равных.
— Слушайте и внимайте: страхом овладевайте! В вас он царит и рыщет, укрывшись под кожей, свищет: «Остаться собой, остаться собой». Но птица безумья Морфнус, несется прямиком в твой разум, присвистывая «Метаморфоза» раз за разом! И песнь ее плавна и ловка — синева земная, трель из песка, сироп из меди… «Форма не норма, она проворна, не для проформы, трансформируй мир! Плещет пламя, пылает земля, струится небо, излей и ты себя…» — насвистывает она. Не слушай страх, не слушай птицу! Страх обводит и чертит, ставит крест и проводит раздел, ему бы лишь только оставить смерть не у дел. Но птица моя быстра, изгонит тебя из себя, из женщины сделает волка, из полка — пламя огня, пронесется по жизни летя, душу в ней не щадя, отправит ее на пожарище…
Да-да, вот сейчас его действительно унесет… В этом ему нет равных.
— Слушайте и внимайте: страхом овладевайте! В вас он царит и рыщет, укрывшись под кожей, свищет: «Остаться собой, остаться собой». Но птица безумья Морфнус, несется прямиком в твой разум, присвистывая «Метаморфоза» раз за разом! И песнь ее плавна и ловка — синева земная, трель из песка, сироп из меди… «Форма не норма, она проворна, не для проформы, трансформируй мир! Плещет пламя, пылает земля, струится небо, излей и ты себя…» — насвистывает она. Не слушай страх, не слушай птицу! Страх обводит и чертит, ставит крест и проводит раздел, ему бы лишь только оставить смерть не у дел. Но птица моя быстра, изгонит тебя из себя, из женщины сделает волка, из полка — пламя огня, пронесется по жизни летя, душу в ней не щадя, отправит ее на пожарище…
 Караколь поднялся, взял крумгорн и заиграл. Лихая мелодия постепенно смягчилась, стала более благозвучной и затихла. Караколь сел, тихо положил инструмент и серьезно посмотрел на нас. Когда он снова заговорил, голос его был прям и спокоен:
— Не позволяй другим вершить, кем и где тебе быть. Под звездами мой ночлег. Я сам выбираю вино, которое буду пить, мои губы — мой виноградник. Будь
Караколь поднялся, взял крумгорн и заиграл. Лихая мелодия постепенно смягчилась, стала более благозвучной и затихла. Караколь сел, тихо положил инструмент и серьезно посмотрел на нас. Когда он снова заговорил, голос его был прям и спокоен:
— Не позволяй другим вершить, кем и где тебе быть. Под звездами мой ночлег. Я сам выбираю вино, которое буду пить, мои губы — мой виноградник. Будь
 Я повертелся в спальном мешке под звуки ветровой арфы, не открывая глаз. Залп, долгое шуршание материи, высокое, резкое звучание, затем легкое затишье, полное ласки, обволакивающее, мягкое, почти вязкое. Нарастающий порыв, новый залп, отрывистый, хлесткий. Снова затишье, протяжное, тягучее, уносящее вместе с собой к низине. Третий залп раздался форте, но сразу пошел на диминуэндо, постепенно превратившись в тихие перекаты оттенков бриза.
Я повертелся в спальном мешке под звуки ветровой арфы, не открывая глаз. Залп, долгое шуршание материи, высокое, резкое звучание, затем легкое затишье, полное ласки, обволакивающее, мягкое, почти вязкое. Нарастающий порыв, новый залп, отрывистый, хлесткий. Снова затишье, протяжное, тягучее, уносящее вместе с собой к низине. Третий залп раздался форте, но сразу пошел на диминуэндо, постепенно превратившись в тихие перекаты оттенков бриза.
 Сламино. Вторая форма ветра, в одной из своих простейших вариаций, называемой Мальвини, часто встречается посреди дюн, в краю упитанных песчаных холмов. Такой ветер нужно контровать между хребтов, в провалах между залпами, в третьем темпе и без скачков. Я открыл глаза. День обещал быть прекрасным. Все уже свернули навесы и сложили спальные мешки. Остаток чая грелся на еще не остывших углях. Пришлось проглотить его залпом,
Сламино. Вторая форма ветра, в одной из своих простейших вариаций, называемой Мальвини, часто встречается посреди дюн, в краю упитанных песчаных холмов. Такой ветер нужно контровать между хребтов, в провалах между залпами, в третьем темпе и без скачков. Я открыл глаза. День обещал быть прекрасным. Все уже свернули навесы и сложили спальные мешки. Остаток чая грелся на еще не остывших углях. Пришлось проглотить его залпом,
 Тоскливый день под сламино. Кориолис отдалилась от меня сегодня сразу поутру, моя прекрасная гончая, идущая по следу, вот только чьему? Караколя. Я контровал по прерии впереди остальных, и в какой-то момент обернулся посмотреть на нашу кучку сумасшедших. Странно. С каждым годом мы все больше приобретали цвет того, через что нам приходилось проходить. Мы пожинали высевки плохо смолотой жатвы, пыль расслаивающихся стен, стирающихся дорог, переносили дожди, которые больше не лились с небес, а текли так, словно горизонт проливал на нас свои слезы. Ветер нас пробуждал, бодрил, успокаивал,
Тоскливый день под сламино. Кориолис отдалилась от меня сегодня сразу поутру, моя прекрасная гончая, идущая по следу, вот только чьему? Караколя. Я контровал по прерии впереди остальных, и в какой-то момент обернулся посмотреть на нашу кучку сумасшедших. Странно. С каждым годом мы все больше приобретали цвет того, через что нам приходилось проходить. Мы пожинали высевки плохо смолотой жатвы, пыль расслаивающихся стен, стирающихся дорог, переносили дожди, которые больше не лились с небес, а текли так, словно горизонт проливал на нас свои слезы. Ветер нас пробуждал, бодрил, успокаивал,
 Вдали послышался какой-то свист, но не бумеранга и не метательного диска, что-то массивное, тяжелое, несущееся во весь опор… Внезапно раздался гудок трубы… земля в верховье равнины задрожала, глухо разрываясь.
Вдали послышался какой-то свист, но не бумеранга и не метательного диска, что-то массивное, тяжелое, несущееся во весь опор… Внезапно раздался гудок трубы… земля в верховье равнины задрожала, глухо разрываясь.
 Когда это случилось, впереди меня никого не было, даже Голгот и тот остановился где-то позади посмотреть на горса. Я искал лучшую трассу. Покатая равнина стелилась вперед, насколько хватало глаз, нежно-зеленая, с металлическими отблесками. По левую сторону тянулся, задавая направление для трассы, линейный лес в три дерева толщиной. По правую ему вторила местами продырявленная кустарниковая изгородь. Контровать ближе к изгороди представлялось мне наилучшим решением: она вернее разобьет нижний поток ветра, нежели лес, где турбулентность порой бывала весьма жесткая. И я стал скашивать по диагонали.
Когда это случилось, впереди меня никого не было, даже Голгот и тот остановился где-то позади посмотреть на горса. Я искал лучшую трассу. Покатая равнина стелилась вперед, насколько хватало глаз, нежно-зеленая, с металлическими отблесками. По левую сторону тянулся, задавая направление для трассы, линейный лес в три дерева толщиной. По правую ему вторила местами продырявленная кустарниковая изгородь. Контровать ближе к изгороди представлялось мне наилучшим решением: она вернее разобьет нижний поток ветра, нежели лес, где турбулентность порой бывала весьма жесткая. И я стал скашивать по диагонали.
 Они затормозили так, как никто другой этого сделать бы не смог, ши-рек-рам, не сворачивая парусов,
Они затормозили так, как никто другой этого сделать бы не смог, ши-рек-рам, не сворачивая парусов,
 Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта. Через восемь секунд он был уже перед нами. То там, то здесь над корпусом, прихлестывавшим траву к земле, были подвешены велесницы и парапланы, крылья которых перекрещивались высоко над рангоутом. Не знаю, как они нас заметили, как затормозили, знаю только, что корабль пронесся в десяти шагах от меня, пробороздил всю Орду и никого не задел. Когда земля перестала содрогаться, они убрали боковые элероны, подняли лемеха и дали судну спокойно замереть. Дерево заревело на травяном ковре, и я услышал скрип колес буксировочных телег, дребезжание крыльев и шелест парусины тормозных воздушных змеев. Затем тишина вокруг нас будто заколыхалась, и вдруг раздались три звучных и протяжных гудка валторны. Чтобы у нас не осталось сомнений, кто перед нами.
Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта. Через восемь секунд он был уже перед нами. То там, то здесь над корпусом, прихлестывавшим траву к земле, были подвешены велесницы и парапланы, крылья которых перекрещивались высоко над рангоутом. Не знаю, как они нас заметили, как затормозили, знаю только, что корабль пронесся в десяти шагах от меня, пробороздил всю Орду и никого не задел. Когда земля перестала содрогаться, они убрали боковые элероны, подняли лемеха и дали судну спокойно замереть. Дерево заревело на травяном ковре, и я услышал скрип колес буксировочных телег, дребезжание крыльев и шелест парусины тормозных воздушных змеев. Затем тишина вокруг нас будто заколыхалась, и вдруг раздались три звучных и протяжных гудка валторны. Чтобы у нас не осталось сомнений, кто перед нами.
 Легкая эскадра, как они сами любили себя величать, была самой маневренной и неуловимой во всем фреольском братстве. Она всегда появлялась внезапно, никогда не швартовалась позади деревень и не становилась на якорь в убогих толстостенных портах. Благодаря несущим винтам чертовка держалась на ветру где угодно, хоть посреди пустыни! Юхууу! Планеристы! Чего только стоит их контр-адмирал Шарав да его альтер эго Элкин, коммодор низовья, который перенимает на себя управление, когда нужно исчезнуть гладко, курсом на запад, ветер в корму! Этих ребят я знаю лично! Знаком с ними в моем качестве
Легкая эскадра, как они сами любили себя величать, была самой маневренной и неуловимой во всем фреольском братстве. Она всегда появлялась внезапно, никогда не швартовалась позади деревень и не становилась на якорь в убогих толстостенных портах. Благодаря несущим винтам чертовка держалась на ветру где угодно, хоть посреди пустыни! Юхууу! Планеристы! Чего только стоит их контр-адмирал Шарав да его альтер эго Элкин, коммодор низовья, который перенимает на себя управление, когда нужно исчезнуть гладко, курсом на запад, ветер в корму! Этих ребят я знаю лично! Знаком с ними в моем качестве
 Мы уже года три как не видели ни одного судна, спускающегося с верховья. Буера — да, частенько; малокалиберные аэроглиссеры; крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали, но вот драккаэро такого масштаба — ни одного. У нас за это время даже сложилось убеждение, что помимо нескольких наиболее продвинутых городов, названия которых были набиты заглавными буквами вдоль позвоночника Тальвега, мы более почти ни с кем и не пересечемся, и уж точно не с Фреольцами. Это нас, конечно, немного беспокоило, но, откровенно говоря, также придавало сердцам чувство глубочайшей гордости, сглаживая тем самым ощущение изношенности и одиночества, въевшиеся в каждого. Как только корабль остановился и прошло охватившее нас оцепенение, я понял три вещи: во-первых, за три прошедших года Фреольцы развили ветряные технологии сильнее, чем мы могли себе представить; во-вторых, чтобы забраться так далеко в верховье — а шли они теперь как раз обратным курсом нам навстречу, — они должны были в совершенстве владеть техникой лавирования по встречному ветру; и, в-третьих, мы, по всей очевидности, были еще очень далеко от Верхнего Предела, а значит, вероятнее всего, не сможем до него добраться раньше них. Я долго стоял, ошарашенный, вместе с остальными ордийцами, застывшими то там, то тут в высокой траве. Потом стал искать Голгота. Каркас его тела весь согнулся под турбулентно-
Мы уже года три как не видели ни одного судна, спускающегося с верховья. Буера — да, частенько; малокалиберные аэроглиссеры; крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали, но вот драккаэро такого масштаба — ни одного. У нас за это время даже сложилось убеждение, что помимо нескольких наиболее продвинутых городов, названия которых были набиты заглавными буквами вдоль позвоночника Тальвега, мы более почти ни с кем и не пересечемся, и уж точно не с Фреольцами. Это нас, конечно, немного беспокоило, но, откровенно говоря, также придавало сердцам чувство глубочайшей гордости, сглаживая тем самым ощущение изношенности и одиночества, въевшиеся в каждого. Как только корабль остановился и прошло охватившее нас оцепенение, я понял три вещи: во-первых, за три прошедших года Фреольцы развили ветряные технологии сильнее, чем мы могли себе представить; во-вторых, чтобы забраться так далеко в верховье — а шли они теперь как раз обратным курсом нам навстречу, — они должны были в совершенстве владеть техникой лавирования по встречному ветру; и, в-третьих, мы, по всей очевидности, были еще очень далеко от Верхнего Предела, а значит, вероятнее всего, не сможем до него добраться раньше них. Я долго стоял, ошарашенный, вместе с остальными ордийцами, застывшими то там, то тут в высокой траве. Потом стал искать Голгота. Каркас его тела весь согнулся под турбулентно-

 Их было около сотни, и по меньшей мере половина — женщины невиданной красоты. Матросы были одеты в хищно-рыжие расцветки: от темно-фиолетового до желтого, в соответствии с неопределенными фреольскими званиями. Женщины облачены в бесконечные оттенки синего. Все, от корпуса до рангоута, было сделано из дерева. Перед нами развернулся трап. Духовики, выстроившись на парадном мостике, настраивали инструменты.
Их было около сотни, и по меньшей мере половина — женщины невиданной красоты. Матросы были одеты в хищно-рыжие расцветки: от темно-фиолетового до желтого, в соответствии с неопределенными фреольскими званиями. Женщины облачены в бесконечные оттенки синего. Все, от корпуса до рангоута, было сделано из дерева. Перед нами развернулся трап. Духовики, выстроившись на парадном мостике, настраивали инструменты.
 Фреольские фанфары зазвучали плавно, едва уловимо в увертюре, залпы сламино отбивались от корпуса. Вступил крумгорн, подхватили валторны, ворвались трубачи. Двое мужчин, один немолодой, в фиолетовом камзоле, другой в темно-фиалковом, спустились по трапу к нам навстречу без особых церемоний. Голгот и Пьетро, еще слегка одеревенелые, все же вышли вперед, немного приосанившись.
— Впереди контр-адмирал Шарав. За ним — Элкин, коммодор. Они оба капитаны. Шарав управляет при контре, Элкин — во время навигации по ветру.
— Ты их всех знаешь, Карак?
— С доброй полусотней на этом корабле знаком. Я с ними два года плавал. Перед вами авангард фреольских технологий. Они могут любой маневр сделать на одном шквале. Могут кверху пойти под ярветром.
Караколь все это сказал как будто между делом, спокойно… Под ярветром! Пойти кверху под ярветром! Как в такое вообще можно поверить? Снова сказки, вечные выдумки!
Фреольские фанфары зазвучали плавно, едва уловимо в увертюре, залпы сламино отбивались от корпуса. Вступил крумгорн, подхватили валторны, ворвались трубачи. Двое мужчин, один немолодой, в фиолетовом камзоле, другой в темно-фиалковом, спустились по трапу к нам навстречу без особых церемоний. Голгот и Пьетро, еще слегка одеревенелые, все же вышли вперед, немного приосанившись.
— Впереди контр-адмирал Шарав. За ним — Элкин, коммодор. Они оба капитаны. Шарав управляет при контре, Элкин — во время навигации по ветру.
— Ты их всех знаешь, Карак?
— С доброй полусотней на этом корабле знаком. Я с ними два года плавал. Перед вами авангард фреольских технологий. Они могут любой маневр сделать на одном шквале. Могут кверху пойти под ярветром.
Караколь все это сказал как будто между делом, спокойно… Под ярветром! Пойти кверху под ярветром! Как в такое вообще можно поверить? Снова сказки, вечные выдумки!
 Я не смог удержаться, чтобы не подойти к рулевому и не попросить его показать мне трассу к Норске, не расспросить про ветра, что дуют в каждом краю, где нам придется контровать. Я в том числе хотел оценить расстояние.
Я не смог удержаться, чтобы не подойти к рулевому и не попросить его показать мне трассу к Норске, не расспросить про ветра, что дуют в каждом краю, где нам придется контровать. Я в том числе хотел оценить расстояние.
 «Как ты себя чувствуешь?» — спросила меня Ороси, вся сияя от радости. Она была счастлива узнать, что ее мать жива, что их Орда всего в нескольких годах контра, к тому же ей явно было приятно видеть, как нами все восхищаются несмотря на то, что в некоторых взглядах поблескивала, даже не знаю, как именно это назвать… Некая ирония? «Как ты себя чувствуешь?» Как свеча, которую зажгли и с легкостью задули, свеча, которая позабыла о своем собственном тепле и не в силах понять, что и зачем ей освещать. Мы так старались скрыть свою изношенность, но сегодня она вывернулась наизнанку, будто кожа. У меня в груди все сжималось и ныло от этого чувства, которое появлялось каждый раз, когда мы встречали других
«Как ты себя чувствуешь?» — спросила меня Ороси, вся сияя от радости. Она была счастлива узнать, что ее мать жива, что их Орда всего в нескольких годах контра, к тому же ей явно было приятно видеть, как нами все восхищаются несмотря на то, что в некоторых взглядах поблескивала, даже не знаю, как именно это назвать… Некая ирония? «Как ты себя чувствуешь?» Как свеча, которую зажгли и с легкостью задули, свеча, которая позабыла о своем собственном тепле и не в силах понять, что и зачем ей освещать. Мы так старались скрыть свою изношенность, но сегодня она вывернулась наизнанку, будто кожа. У меня в груди все сжималось и ныло от этого чувства, которое появлялось каждый раз, когда мы встречали других
 Захваченный фреольской эйфорией, я всю оставшуюсяя часть дня рассказывал о себе, о нас, о нашей повседневной жизни, сколь банальной для нас, столь невероятной для них, воображая, что лица их трепещут от восторга из-за моих рассказов о том, как мы разбиваем лагерь для ночлега, как Ларко рыбачит в чистом небе, как пьем росу, что иногда едим, о бурях. Меня облепили со всех сторон, пока я рассказывал про Страссу и наш первый катастрофический ярветер, в который мы попали, когда нам было по пятнадцать; про семь месяцев, проведенных в Аливанской пустыне в полнейшей автаркии, и про ту ночь, когда Аои вдруг встала и пошла прямиком к колодцу, скрытому под четырьмя метрами соляного нароста, и никто из нас нас и не понял, как она о нем узнала. Утопая в вопросах, я не заметил, как сильно рассосалась наша Орда по широченному кораблю, и спустя три часа непрерывных рассказов, когда настал момент удалиться в туалет — действие для меня крайне непривычное, — я вдруг почувствовал пустоту. Я неожиданно для себя понял, что чертовски нуждаюсь в нашей группе. Начал искать глазами Ороси, Пьетро, но никого не находил. Мне стало очевидно, что многим из нас было просто жизненно необходимо проветриться благодаря свежим встречам и хоть ненадолго сбежать из тисков Пака. В первую очередь для Караколя. Что же касается меня, мне всегда хотелось всем делиться с Ордой, вернее открывать все новое для нас вместе. «Тебе никогда не хочется побыть одному?» — спросила у меня
Захваченный фреольской эйфорией, я всю оставшуюсяя часть дня рассказывал о себе, о нас, о нашей повседневной жизни, сколь банальной для нас, столь невероятной для них, воображая, что лица их трепещут от восторга из-за моих рассказов о том, как мы разбиваем лагерь для ночлега, как Ларко рыбачит в чистом небе, как пьем росу, что иногда едим, о бурях. Меня облепили со всех сторон, пока я рассказывал про Страссу и наш первый катастрофический ярветер, в который мы попали, когда нам было по пятнадцать; про семь месяцев, проведенных в Аливанской пустыне в полнейшей автаркии, и про ту ночь, когда Аои вдруг встала и пошла прямиком к колодцу, скрытому под четырьмя метрами соляного нароста, и никто из нас нас и не понял, как она о нем узнала. Утопая в вопросах, я не заметил, как сильно рассосалась наша Орда по широченному кораблю, и спустя три часа непрерывных рассказов, когда настал момент удалиться в туалет — действие для меня крайне непривычное, — я вдруг почувствовал пустоту. Я неожиданно для себя понял, что чертовски нуждаюсь в нашей группе. Начал искать глазами Ороси, Пьетро, но никого не находил. Мне стало очевидно, что многим из нас было просто жизненно необходимо проветриться благодаря свежим встречам и хоть ненадолго сбежать из тисков Пака. В первую очередь для Караколя. Что же касается меня, мне всегда хотелось всем делиться с Ордой, вернее открывать все новое для нас вместе. «Тебе никогда не хочется побыть одному?» — спросила у меня
 Мы надели сменную одежду и как смогли подстригли бороды. Девочки омыли лица и руки в расставленных для них чашах. Мы, разумеется, не стали выглядеть ухоженно, но, по крайней мере, были достаточно опрятны для парада. Поле для плато находилось в самом центре верхней палубы, в углублении, как и полагается, овальной формы,
Мы надели сменную одежду и как смогли подстригли бороды. Девочки омыли лица и руки в расставленных для них чашах. Мы, разумеется, не стали выглядеть ухоженно, но, по крайней мере, были достаточно опрятны для парада. Поле для плато находилось в самом центре верхней палубы, в углублении, как и полагается, овальной формы,
 Как забавно было на них смотреть, на наших храбрецов, такие все серьезные, как священники на службе. Тальвег себе щеку порезал, когда брился, на чистенькой рубахе Арваля красовалась крестообразная складочка, а Ларко надел свою самшитовую сережку, которая мне очень нравилась. Как бы мы ни старались, никто из нас не был так уверен в себе, как Караколь. Мы завидовали его раскрепощенности, присущей ему женственности, позволявшей, как, например, сейчас, элегантно надеть фетровую шляпку, которую он стащил неизвестно у кого. Кориолис просто обволакивала его желанием, не отходила от него ни на минуту с тех пор, как мы поднялись на корабль. Он же почти не обращал на нее внимания, подыгрывал ей время от времени, но по большей части избегал… Это только еще больше распаляло ее желание, она выпячивала грудь, старалась, как могла, привлечь его. Она хоть убей не понимала, хочет он ее или нет. Но я прекрасно знала. Я знала, что он ни к кому никогда не привязывается, наш трубадур, наш вертлявый котенок, он жил только настоящим, ничего не ожидая, не откладывая на потом, он лишь заскакивал в наши гнездышки, чтобы украсть у нас по перышку. Он не старался нас поцарапать, навредить. Он никогда ни о чем нас не просил, разве
Как забавно было на них смотреть, на наших храбрецов, такие все серьезные, как священники на службе. Тальвег себе щеку порезал, когда брился, на чистенькой рубахе Арваля красовалась крестообразная складочка, а Ларко надел свою самшитовую сережку, которая мне очень нравилась. Как бы мы ни старались, никто из нас не был так уверен в себе, как Караколь. Мы завидовали его раскрепощенности, присущей ему женственности, позволявшей, как, например, сейчас, элегантно надеть фетровую шляпку, которую он стащил неизвестно у кого. Кориолис просто обволакивала его желанием, не отходила от него ни на минуту с тех пор, как мы поднялись на корабль. Он же почти не обращал на нее внимания, подыгрывал ей время от времени, но по большей части избегал… Это только еще больше распаляло ее желание, она выпячивала грудь, старалась, как могла, привлечь его. Она хоть убей не понимала, хочет он ее или нет. Но я прекрасно знала. Я знала, что он ни к кому никогда не привязывается, наш трубадур, наш вертлявый котенок, он жил только настоящим, ничего не ожидая, не откладывая на потом, он лишь заскакивал в наши гнездышки, чтобы украсть у нас по перышку. Он не старался нас поцарапать, навредить. Он никогда ни о чем нас не просил, разве
 Я всегда придавал очень большое значение представлению Орды. Зачастую это была единственная четкая картинка, которая оставалась в памяти людей после встречи с нами: Клинок, Пак, Блок; разнообразные контрпостроения, которые мы использовали в зависимости от ветра; разъяснение обязанностей каждого, к которым трубадур приплетал килограммы украшательств. Но люди приходили в полное изумление даже и без этого спектакля, просто так, от самого нашего вида. Благодаря признанной за нами скорости наша репутация всегда опережала нас. Никогда прежде, за исключением, возможно, 26-й первого Голгота, которая ошеломила всех своей прямой трассой через массив Гоббарт, ни одна Орда не вселяла в людей такую надежду дойти до Верхнего Предела. К тридцати восьми годам обойти предыдущую трассу на целых три года было просто неслыханно. Мы дорого за это заплатили. Мы контровали от рассвета до заката, останавливались в поселках лишь изредка и ненадолго, всегда придерживались прямой трассировки, которую Голгот сделал законом нашего пути.
Я всегда придавал очень большое значение представлению Орды. Зачастую это была единственная четкая картинка, которая оставалась в памяти людей после встречи с нами: Клинок, Пак, Блок; разнообразные контрпостроения, которые мы использовали в зависимости от ветра; разъяснение обязанностей каждого, к которым трубадур приплетал килограммы украшательств. Но люди приходили в полное изумление даже и без этого спектакля, просто так, от самого нашего вида. Благодаря признанной за нами скорости наша репутация всегда опережала нас. Никогда прежде, за исключением, возможно, 26-й первого Голгота, которая ошеломила всех своей прямой трассой через массив Гоббарт, ни одна Орда не вселяла в людей такую надежду дойти до Верхнего Предела. К тридцати восьми годам обойти предыдущую трассу на целых три года было просто неслыханно. Мы дорого за это заплатили. Мы контровали от рассвета до заката, останавливались в поселках лишь изредка и ненадолго, всегда придерживались прямой трассировки, которую Голгот сделал законом нашего пути.
 Фреольцы встретили появление трубадура аплодисментами. Едва он показался на поле, как сразу бросился ничком на паркет, немного проскользив по полу, затем
Фреольцы встретили появление трубадура аплодисментами. Едва он показался на поле, как сразу бросился ничком на паркет, немного проскользив по полу, затем
 Умеет он все-таки говорить, придурок этот, меня всегда прям пробирает от его представлений. А этим только дай, колотят в ладоши со всей дури, на спектакль пришли.
Умеет он все-таки говорить, придурок этот, меня всегда прям пробирает от его представлений. А этим только дай, колотят в ладоши со всей дури, на спектакль пришли.
 Когда нам поприветствовать публику? Сейчас?
— Для начала небольшое напоминание для тех, кого только сегодня извлекли из трюма на поверхность. Да будет вам известно, что Орда состоит из следующих частей: Клинок, те шестеро верзил, что перед вами в самом низу трибун, Пак — шестнадцать пешеходов, наше стадо, растянулись на четырех рядах повыше и Фаркоп — три силуэта, те полуграмотные, в самом верху. Итак, по нытью почет, начнем с конца, чтоб постепенно, будьте внимательны, тут поворот сюжета, перейти к началу!
Когда нам поприветствовать публику? Сейчас?
— Для начала небольшое напоминание для тех, кого только сегодня извлекли из трюма на поверхность. Да будет вам известно, что Орда состоит из следующих частей: Клинок, те шестеро верзил, что перед вами в самом низу трибун, Пак — шестнадцать пешеходов, наше стадо, растянулись на четырех рядах повыше и Фаркоп — три силуэта, те полуграмотные, в самом верху. Итак, по нытью почет, начнем с конца, чтоб постепенно, будьте внимательны, тут поворот сюжета, перейти к началу!
 Фреольцы — публика благодарная. Они вошли во вкус, и вот уже вместо улыбок звонкий смех. Сгрудив-
Фреольцы — публика благодарная. Они вошли во вкус, и вот уже вместо улыбок звонкий смех. Сгрудив-
 Барбак первым вытащил свой огромный каркас на середину зала. Он наполовину закрывал раскрасневшегося от таких почестей Свезьеста и Кориолис, чье появление на паркете взорвало публику свистом восхищения.
— Они по крайней мере умеют кое-что выжимать из своих женщин! — раздался голос какого-то Фреольца, между двумя глотками хмеля.
— Ты еще аэромастерицу не видел!
— Перед ними, дамы и господа, в шестом ряду, но в первом по таланту, укрылись наши четверо ремесленников. Первый орудует железом, второй деревом, третья огнем. Их имена? Леарх, Силамфр, Каллироя. А кто четвертый, спросит зал? Четвертый ловит на свою удочку удачу. Красавец и ловкач, рыбак, чья удочка повисла у вас над головами, он тот, чья рыба — это облака, для кого море в небе. Не раз спасал он нас, когда привычная охота бывала невозможна иль скудна. Ему обязаны мы лучшими из яств, когда, под звездным сводом, он запускает в облака свои ловушки из воздушных змеев и оставляет там парить, чтобы с утра на завтрак их спустить к столу. Под настроение он для нас то браконьер туч, то лазури попрошайка, то дел
Барбак первым вытащил свой огромный каркас на середину зала. Он наполовину закрывал раскрасневшегося от таких почестей Свезьеста и Кориолис, чье появление на паркете взорвало публику свистом восхищения.
— Они по крайней мере умеют кое-что выжимать из своих женщин! — раздался голос какого-то Фреольца, между двумя глотками хмеля.
— Ты еще аэромастерицу не видел!
— Перед ними, дамы и господа, в шестом ряду, но в первом по таланту, укрылись наши четверо ремесленников. Первый орудует железом, второй деревом, третья огнем. Их имена? Леарх, Силамфр, Каллироя. А кто четвертый, спросит зал? Четвертый ловит на свою удочку удачу. Красавец и ловкач, рыбак, чья удочка повисла у вас над головами, он тот, чья рыба — это облака, для кого море в небе. Не раз спасал он нас, когда привычная охота бывала невозможна иль скудна. Ему обязаны мы лучшими из яств, когда, под звездным сводом, он запускает в облака свои ловушки из воздушных змеев и оставляет там парить, чтобы с утра на завтрак их спустить к столу. Под настроение он для нас то браконьер туч, то лазури попрошайка, то дел
 Ларко вышел весь взволнованный, держа за веревку свою клетку, воспарившую над мачтами. Фреольцы были к изумлении от этой должности, которая не существовала и предыдущих Ордах, а следовательно, Ларко не обучался имеете с нами в Аберлаасе. До этого он был Диагональщиком, но присоединился к нам и нашел себе применение в Орде. За ним вышла моя Каллироюшка.
— Наша огница, по части обжига, стряпни, гончарства мастерица, — объяснил Караколь.
«И наш кузнец. Скует в два счета все, что в руки попадет», — последовало за приветствием Леарха. «Наш дровосек», — за радостно машущим Силамфром, который стал доставать из сумки чаши, бумеранги, резные лопасти винтов, трассировщицы, флюгера…
— Но перейдем к пятому ряду, в котором, как и полагается…
— Пятеро ордийцев!
— Верно. А в четвертом?
— Четверо!
— В третьем?
— Трое!
— Вижу, вы искусно ведете счет… Так вот, наш пятый ряд. Не просто братья, близнецы! С оледенелых берегов, что тянутся вдоль Контра. Они росли одни и выросли получше остальных: и вверх, и вширь, и вкось! Они нужны нам в Орде по трем причинам. Во-первых, чтобы тянуть вперед наш груз, во-вторых, чтобы тянуть на себе тех, кто должен был его тянуть да не потянул, а в-третьих, чтобы получать по самой роже боковыми зашквалами и закрывать своими шкурами хвост строя… Они несъемная часть
Ларко вышел весь взволнованный, держа за веревку свою клетку, воспарившую над мачтами. Фреольцы были к изумлении от этой должности, которая не существовала и предыдущих Ордах, а следовательно, Ларко не обучался имеете с нами в Аберлаасе. До этого он был Диагональщиком, но присоединился к нам и нашел себе применение в Орде. За ним вышла моя Каллироюшка.
— Наша огница, по части обжига, стряпни, гончарства мастерица, — объяснил Караколь.
«И наш кузнец. Скует в два счета все, что в руки попадет», — последовало за приветствием Леарха. «Наш дровосек», — за радостно машущим Силамфром, который стал доставать из сумки чаши, бумеранги, резные лопасти винтов, трассировщицы, флюгера…
— Но перейдем к пятому ряду, в котором, как и полагается…
— Пятеро ордийцев!
— Верно. А в четвертом?
— Четверо!
— В третьем?
— Трое!
— Вижу, вы искусно ведете счет… Так вот, наш пятый ряд. Не просто братья, близнецы! С оледенелых берегов, что тянутся вдоль Контра. Они росли одни и выросли получше остальных: и вверх, и вширь, и вкось! Они нужны нам в Орде по трем причинам. Во-первых, чтобы тянуть вперед наш груз, во-вторых, чтобы тянуть на себе тех, кто должен был его тянуть да не потянул, а в-третьих, чтобы получать по самой роже боковыми зашквалами и закрывать своими шкурами хвост строя… Они несъемная часть
 Я была настолько удивлена, что чуть не упала, постаравшись сделать реверанс. Фреольцы только пуще захлопали, засвистели высокими нотами, раздевая меня глазами… Для них я обрела существование ровно четыре секунды назад…
— Та, что по левую от нее сторону, друзья мои, — она для вас. Те, кто с текущим носом, у кого горло першит не от стихов, — все к ней, мы вам ее дадим по выгодной цене…
— Даром, она все равно ничего не стоит! — проревел Голгот.
— Целительница наших тел и душ, психолог, врачеватель, ветеринар нашей упряжки, утешительница в трудный час. Для нас, сирот, она совсем как мама: Альма Капис!
Я была настолько удивлена, что чуть не упала, постаравшись сделать реверанс. Фреольцы только пуще захлопали, засвистели высокими нотами, раздевая меня глазами… Для них я обрела существование ровно четыре секунды назад…
— Та, что по левую от нее сторону, друзья мои, — она для вас. Те, кто с текущим носом, у кого горло першит не от стихов, — все к ней, мы вам ее дадим по выгодной цене…
— Даром, она все равно ничего не стоит! — проревел Голгот.
— Целительница наших тел и душ, психолог, врачеватель, ветеринар нашей упряжки, утешительница в трудный час. Для нас, сирот, она совсем как мама: Альма Капис!
 Мертвый груз стада, вот она кто. Хуже груженых саней эта Капис. Дойная корова, в лучшем случае. Без молока.
Мертвый груз стада, вот она кто. Хуже груженых саней эта Капис. Дойная корова, в лучшем случае. Без молока.
 Какая она сегодня красивая… Искупана, свежа, ее еще не до конца просохшие светло-каштановые кудри вьются в свете масляных фонарей. Длинное нефритово-зеленое платье подчеркивает глаза и формы. Она смеется в ответ фреольским шуткам: «Мама, мне плохо!», «Я палец поцарапал, помоги!». Степп смотрит на нее (как это забавно), как будто только сейчас заметил, что она, оказывается, хороша.
— Пятая и последняя женщина, которую я буду иметь честь и преимущество представить вам сегодня. Сейчас пред вами засверкает та, чье имя всем из вас известно. Ее мать знаменита на весь контровый мир, вплоть до самых глубин колодцев, а ее бабушка — самая что ни на есть легенда. Втроем они дали начало роду Меликерт, чья задача в Орде по части интеллекта была не менее престижна, а может, даже и превосходила обязанности скриба. Когда ей было всего десять, она выжила в ярветре, ставшем ее посвящением. Не раз она спасала нас от смерти, по дружбе! Она в списке элиты двадцати лучших аэромастеров, что высечен на мраморной доске Ордера. К тому же ей присуща элегантность, благородство, чутье потоков, которые кого угодно ошеломят и очаруют. Встречайте же с почетом, внучка Мацукадзе: Ороси Меликерт!
Какая она сегодня красивая… Искупана, свежа, ее еще не до конца просохшие светло-каштановые кудри вьются в свете масляных фонарей. Длинное нефритово-зеленое платье подчеркивает глаза и формы. Она смеется в ответ фреольским шуткам: «Мама, мне плохо!», «Я палец поцарапал, помоги!». Степп смотрит на нее (как это забавно), как будто только сейчас заметил, что она, оказывается, хороша.
— Пятая и последняя женщина, которую я буду иметь честь и преимущество представить вам сегодня. Сейчас пред вами засверкает та, чье имя всем из вас известно. Ее мать знаменита на весь контровый мир, вплоть до самых глубин колодцев, а ее бабушка — самая что ни на есть легенда. Втроем они дали начало роду Меликерт, чья задача в Орде по части интеллекта была не менее престижна, а может, даже и превосходила обязанности скриба. Когда ей было всего десять, она выжила в ярветре, ставшем ее посвящением. Не раз она спасала нас от смерти, по дружбе! Она в списке элиты двадцати лучших аэромастеров, что высечен на мраморной доске Ордера. К тому же ей присуща элегантность, благородство, чутье потоков, которые кого угодно ошеломят и очаруют. Встречайте же с почетом, внучка Мацукадзе: Ороси Меликерт!

 Аплодисменты, последовавшие за словами Караколя, зазвучали совсем в другом регистре, не так небрежно, как до этого. Сначала некая торжественность приглушила суматоху, затем вверх поднялись кулаки и руки в знак уважения. Глубочайшего уважения. Ороси медленно спустилась по ступеням своей неизменно царской поступью, с блеском в глазах, который за все тридцать проведенных вместе лет я никогда не видел хоть слегка угасшим. Она всегда искала и неустанно будет искать, пока нас всех не скосит, смысл всего того, что происходит в этом мире. Как и я. Мы связаны не титулами и не умом, но несгибаемым желанием понять. Больше других, мы бесконечно мучаемся все теми же вопросами: откуда берется ветер, где его исток? Но нет, это не так. Это ордонаторы хотят, чтобы мы задавались этим вопросом, посылают нас за ним как верных псов, думают, что мы притащим им ответ. (А может, зароем его где-нибудь? Вместе с собой. Чтобы оставить нетронутой надежду? Если, разумеется, они на самом деле до сих пор еще не знают. Или знают? Что, если они знают, что там, в конце, но все же посылают Орды испокон веков?..) Нет, вопрос скорей другой, он жестче и шершавей: зачем мы контруем? Для чего гробим наши жизни в поисках того, чего никто и никогда не мог достичь? Думаем, что именно у нас получится? Неправильный ответ! Хуже того, это даже неправильный вопрос. Продолжай искать, Сов, иди по следу, молодой щенок, ищи…
Аплодисменты, последовавшие за словами Караколя, зазвучали совсем в другом регистре, не так небрежно, как до этого. Сначала некая торжественность приглушила суматоху, затем вверх поднялись кулаки и руки в знак уважения. Глубочайшего уважения. Ороси медленно спустилась по ступеням своей неизменно царской поступью, с блеском в глазах, который за все тридцать проведенных вместе лет я никогда не видел хоть слегка угасшим. Она всегда искала и неустанно будет искать, пока нас всех не скосит, смысл всего того, что происходит в этом мире. Как и я. Мы связаны не титулами и не умом, но несгибаемым желанием понять. Больше других, мы бесконечно мучаемся все теми же вопросами: откуда берется ветер, где его исток? Но нет, это не так. Это ордонаторы хотят, чтобы мы задавались этим вопросом, посылают нас за ним как верных псов, думают, что мы притащим им ответ. (А может, зароем его где-нибудь? Вместе с собой. Чтобы оставить нетронутой надежду? Если, разумеется, они на самом деле до сих пор еще не знают. Или знают? Что, если они знают, что там, в конце, но все же посылают Орды испокон веков?..) Нет, вопрос скорей другой, он жестче и шершавей: зачем мы контруем? Для чего гробим наши жизни в поисках того, чего никто и никогда не мог достичь? Думаем, что именно у нас получится? Неправильный ответ! Хуже того, это даже неправильный вопрос. Продолжай искать, Сов, иди по следу, молодой щенок, ищи…
 Всегда из себя строит, не бог весть что, эта Ороси, нашлась принцесса, тоже мне. Смотрит все время свысока, улыбается холодно, вертит своими бабеольками. Может, конечно, она и из элиты аэромастеров, только попроще надо быть все равно. Посмотрела бы я на нее, если б ее поставили на мое место, в самый зад Орды, сани тащить!
Всегда из себя строит, не бог весть что, эта Ороси, нашлась принцесса, тоже мне. Смотрит все время свысока, улыбается холодно, вертит своими бабеольками. Может, конечно, она и из элиты аэромастеров, только попроще надо быть все равно. Посмотрела бы я на нее, если б ее поставили на мое место, в самый зад Орды, сани тащить!
 В ее изысканной прическе крутились три золото-медных флюгера. Бело-кремовый хаик нежно впитывал теплый свет фонарей. Мне очень нравилось то чувство, которое она вызывала, то, что бросалось в глаза даже быстрее всех ее соблазнов, то, чем от нее веяло: уважение.
— Раз уж мы подобрались к четвертому ряду нашей Орды, и я вижу, что вы по-прежнему внимательны, конечно, но жаждете теперь немного действия, задора, я незаметно удалюсь, оставив свое место тем, кто, можете не сомневаться, займет его куда достойнее. Один из них воспитывает соколов, другой ястребов. Один предпочитает суровость дрессировки, неукоснительное следование правилам и кодам ремесла, второй же доверяет своей птице, направляет ее, не давая приказов, ищет скорее соучастия, чем послушания. Оба они прекрасные дрессировщики, а в доказательство встречайте нашего сокольника и его собрата ястребника! Место нашим ловчим!
Разумеется, это была затея трубадура. Мы успешно опробовали ее во многих деревнях. Она, бесспорно, освежила представление, которое раньше граничило с монотонностью обычного дефиле. Наш сокольник вышел первым. Он попросил Караколя поднять воздушного змея, на крыло которого привязал куропатку.
— Кому-нибудь из вас доставит удовольствие управлять куропаткой? — спросил Дарбон у столпившихся Фреольцев.
— Пускай Сервиччио возьмет управление! Это наш лучший пилот, — сказал коммодор.
В ее изысканной прическе крутились три золото-медных флюгера. Бело-кремовый хаик нежно впитывал теплый свет фонарей. Мне очень нравилось то чувство, которое она вызывала, то, что бросалось в глаза даже быстрее всех ее соблазнов, то, чем от нее веяло: уважение.
— Раз уж мы подобрались к четвертому ряду нашей Орды, и я вижу, что вы по-прежнему внимательны, конечно, но жаждете теперь немного действия, задора, я незаметно удалюсь, оставив свое место тем, кто, можете не сомневаться, займет его куда достойнее. Один из них воспитывает соколов, другой ястребов. Один предпочитает суровость дрессировки, неукоснительное следование правилам и кодам ремесла, второй же доверяет своей птице, направляет ее, не давая приказов, ищет скорее соучастия, чем послушания. Оба они прекрасные дрессировщики, а в доказательство встречайте нашего сокольника и его собрата ястребника! Место нашим ловчим!
Разумеется, это была затея трубадура. Мы успешно опробовали ее во многих деревнях. Она, бесспорно, освежила представление, которое раньше граничило с монотонностью обычного дефиле. Наш сокольник вышел первым. Он попросил Караколя поднять воздушного змея, на крыло которого привязал куропатку.
— Кому-нибудь из вас доставит удовольствие управлять куропаткой? — спросил Дарбон у столпившихся Фреольцев.
— Пускай Сервиччио возьмет управление! Это наш лучший пилот, — сказал коммодор.

 Молодой, слегка подвыпивший матрос, с нагловатым видом нехотя поднялся под выкрики «Сервиччио! Сервиччио! Сервиччио!». С недовольной миной он взял из рук Караколя ручки катушки и, резко махнув головой, отбросил назад свои черные пряди. И в тот же миг что-то произошло. В его руках бобина оловянной нити в одну секунду размоталась на несколько метров, и воздушный змей взмыл над сценой. Несколько юнг вскарабкались на стеньгу и стали фиксировать на ней факелы и фонари, чтобы как можно лучше осветить полет змея. Несговорчивый ветер позвякивал канатами, полоскал расправленные паруса, раскручивал толчками стабилизационные ветряки, но ничто из этого не смущало молодого, крутящего лесой пилота. Он передвигался по всей поверхности поля для плато невероятными стежками, выполняя то па шассе, то глиссе. Караколь многозначно подмигнул мне и ни с того ни с сего посерьезнел, обернулся к сокольнику, чтобы подбодрить его к действию. Дарбон снял клобучок со своего любимого кречета с белоснежным оперением и, держа его за ремешки, связывавшие птице лапы, показал Фреольцам. Те восхищенно зашептались, оценив красоту самца. Воздушный змей продолжал со свистом просверливать воздух, то ныряя, то снова взметаясь вверх, готовый ринуться в бой. На кону, казалось бы, ничего не было, кроме, пожалуй, самого ценного: уважения Легкой эскадры, самой фреольской элиты, по отношению к нам или же нашего к ним.
Молодой, слегка подвыпивший матрос, с нагловатым видом нехотя поднялся под выкрики «Сервиччио! Сервиччио! Сервиччио!». С недовольной миной он взял из рук Караколя ручки катушки и, резко махнув головой, отбросил назад свои черные пряди. И в тот же миг что-то произошло. В его руках бобина оловянной нити в одну секунду размоталась на несколько метров, и воздушный змей взмыл над сценой. Несколько юнг вскарабкались на стеньгу и стали фиксировать на ней факелы и фонари, чтобы как можно лучше осветить полет змея. Несговорчивый ветер позвякивал канатами, полоскал расправленные паруса, раскручивал толчками стабилизационные ветряки, но ничто из этого не смущало молодого, крутящего лесой пилота. Он передвигался по всей поверхности поля для плато невероятными стежками, выполняя то па шассе, то глиссе. Караколь многозначно подмигнул мне и ни с того ни с сего посерьезнел, обернулся к сокольнику, чтобы подбодрить его к действию. Дарбон снял клобучок со своего любимого кречета с белоснежным оперением и, держа его за ремешки, связывавшие птице лапы, показал Фреольцам. Те восхищенно зашептались, оценив красоту самца. Воздушный змей продолжал со свистом просверливать воздух, то ныряя, то снова взметаясь вверх, готовый ринуться в бой. На кону, казалось бы, ничего не было, кроме, пожалуй, самого ценного: уважения Легкой эскадры, самой фреольской элиты, по отношению к нам или же нашего к ним.
 Дарбон напустил птицу, даже не дав ей никакой поклевки, и кречет взлетел стрелой прямиком в самый ветер. Он так высоко взмыл над мачтами и облаками в своем уверенном и горделивом полете, что я даже засомневался, заметил ли он вообще наживку, привязанную к крылу змея.
Дарбон напустил птицу, даже не дав ей никакой поклевки, и кречет взлетел стрелой прямиком в самый ветер. Он так высоко взмыл над мачтами и облаками в своем уверенном и горделивом полете, что я даже засомневался, заметил ли он вообще наживку, привязанную к крылу змея.
 Из двух наших птицеводов мне куда ближе был ястребник! Вышел он с очень простым номером: выпустил зайцев, и те разбежались по мосту, стараясь как можно быстрее спрятаться в куче разбросанных канатов. Пока зайцы отчаянно скакали кто куда, спасая свои шкуры, ястреб хватал их когтями и леденящими кровь ударами клюва добивал попавшихся под крики женщин. Мне очень нравилась жизнерадостность ястребника, его непретенциозный и открытый юмор, его привычка разделять с другими свой энтузиазм и любовь к птицам, но еще больше он нравился мне своим видением мира, столь близким во многих отношениях моему собственному. В соколиной дрессировке, как и в любом другом ремесле, первоочередным всегда был серьезный подход к вещам, и выбор птиц
Из двух наших птицеводов мне куда ближе был ястребник! Вышел он с очень простым номером: выпустил зайцев, и те разбежались по мосту, стараясь как можно быстрее спрятаться в куче разбросанных канатов. Пока зайцы отчаянно скакали кто куда, спасая свои шкуры, ястреб хватал их когтями и леденящими кровь ударами клюва добивал попавшихся под крики женщин. Мне очень нравилась жизнерадостность ястребника, его непретенциозный и открытый юмор, его привычка разделять с другими свой энтузиазм и любовь к птицам, но еще больше он нравился мне своим видением мира, столь близким во многих отношениях моему собственному. В соколиной дрессировке, как и в любом другом ремесле, первоочередным всегда был серьезный подход к вещам, и выбор птиц
 Я не стригла его уже пару недель. Он отказывается, говорит, что «точнее ощущает мир», когда на голове лес. Он красивее Караколя, мужественнее, но такой же чувственный. Караколь, он ненасытный, неутомимый, блуждающий огонек, его фавновское лицо всегда искрится, движется, смеется, он скользит по паркету, кружится в танце, так скор и ловок, не делает ни пауз, ни передышек, он ведет, за ним всегда и шаг, и слово, что теперь?
— Все мы охотно верим, что Орда — это прежде всего отличный Трассер и крепкий Клинок. Так и есть, конечно… Но, не нужно забывать, что всякой трассировке предшествует предтрассировка. Невысокий, худощавого телосложения парнишка, который отправляется вперед, он рыщет по следам, травит любой проход, всегда один, как будто хочет убежать, но неизменно возвращается назад. Пейзажи для него — живые мифы, чей сюжет необходимо разгадать. На месте насыпей песка, надутых ветром, он видит старого дремлющего горса, вместо каньонов, вымытых дождем, — след змеиного пути и свидетельства ее боев вдоль стен ущелья. Для него не существует даже ветра, но лишь хищветры, что хватают землю и уносят в своих лапах. Чтобы остановить их, мы вынуждены за ними гнаться, не поспевая за их прытью, не выдерживая их бега. Он дикий ребенок, выживший благодаря своей невероятной интуиции и воображению, чью глубину и последовательность в безумии мы можем себе лишь вообразить. В душе мы окрестили его Светлячком, а в сердце он для нас Арваль Редхамай, наш разведчик!
Я не стригла его уже пару недель. Он отказывается, говорит, что «точнее ощущает мир», когда на голове лес. Он красивее Караколя, мужественнее, но такой же чувственный. Караколь, он ненасытный, неутомимый, блуждающий огонек, его фавновское лицо всегда искрится, движется, смеется, он скользит по паркету, кружится в танце, так скор и ловок, не делает ни пауз, ни передышек, он ведет, за ним всегда и шаг, и слово, что теперь?
— Все мы охотно верим, что Орда — это прежде всего отличный Трассер и крепкий Клинок. Так и есть, конечно… Но, не нужно забывать, что всякой трассировке предшествует предтрассировка. Невысокий, худощавого телосложения парнишка, который отправляется вперед, он рыщет по следам, травит любой проход, всегда один, как будто хочет убежать, но неизменно возвращается назад. Пейзажи для него — живые мифы, чей сюжет необходимо разгадать. На месте насыпей песка, надутых ветром, он видит старого дремлющего горса, вместо каньонов, вымытых дождем, — след змеиного пути и свидетельства ее боев вдоль стен ущелья. Для него не существует даже ветра, но лишь хищветры, что хватают землю и уносят в своих лапах. Чтобы остановить их, мы вынуждены за ними гнаться, не поспевая за их прытью, не выдерживая их бега. Он дикий ребенок, выживший благодаря своей невероятной интуиции и воображению, чью глубину и последовательность в безумии мы можем себе лишь вообразить. В душе мы окрестили его Светлячком, а в сердце он для нас Арваль Редхамай, наш разведчик!
 Он выскочил из своего ряда и тут же вошел в роль под шум рукоплесканий. Степень симпатии зрителей к нему мгновенно возросла. Он достал из сумки щепки, камушки, ветроуказатели, знамена, в два счета разметил маршрут по
Он выскочил из своего ряда и тут же вошел в роль под шум рукоплесканий. Степень симпатии зрителей к нему мгновенно возросла. Он достал из сумки щепки, камушки, ветроуказатели, знамена, в два счета разметил маршрут по
 Больше ни одного Фреольца не было видно ни в воздухе, ни на реях. Все они оказались здесь. Повара и их помощники, как были с руками в масле и с половниками, так и сбежались на трибуны, столпившись на последних рядах. Машинисты побросали свои машины. Какая-то женщина стоя кормила грудью ребенка, даже не глядя на него. Внезапно голос Караколя изменился, оставил свою величавость и стал очень искренним — техника, не что иное, как очередной прием, но с таким эффектом, с которым, тем не менее, никому было не совладать.
— Во главе Клинка, рассмотрите его внимательно, не торопитесь, проникнитесь… Во главе тот, о котором вы слышали так много, что, возможно, для себя решили, что
Больше ни одного Фреольца не было видно ни в воздухе, ни на реях. Все они оказались здесь. Повара и их помощники, как были с руками в масле и с половниками, так и сбежались на трибуны, столпившись на последних рядах. Машинисты побросали свои машины. Какая-то женщина стоя кормила грудью ребенка, даже не глядя на него. Внезапно голос Караколя изменился, оставил свою величавость и стал очень искренним — техника, не что иное, как очередной прием, но с таким эффектом, с которым, тем не менее, никому было не совладать.
— Во главе Клинка, рассмотрите его внимательно, не торопитесь, проникнитесь… Во главе тот, о котором вы слышали так много, что, возможно, для себя решили, что
 Давайте, давайте, колотите вашими гребаными ручонками, бейте одну о другую, сильнее, дааааа, сильнее, чем вы там себе привыкли на своих спектаклях. Вы понятия не имеете, кто я. Ни вы, ни кто-либо другой. Орите-орите, надрывайте глотки! Это у вас машины, техника всякая. У нас ничего этого нет, от нас несет дерьмом, у нас есть только наши собственные кишки и кости, вы ни черта в этом не понимаете. Ни черта!
Давайте, давайте, колотите вашими гребаными ручонками, бейте одну о другую, сильнее, дааааа, сильнее, чем вы там себе привыкли на своих спектаклях. Вы понятия не имеете, кто я. Ни вы, ни кто-либо другой. Орите-орите, надрывайте глотки! Это у вас машины, техника всякая. У нас ничего этого нет, от нас несет дерьмом, у нас есть только наши собственные кишки и кости, вы ни черта в этом не понимаете. Ни черта!
 Нас Караколь представил сразу за Голготом. «Сов, наш скриб», «Пьетро делла Рокка, князь», «Тальвег, геомастер», «Фирост де Торож, столп Орды и охотник». Но, после выхода Голгота реакция толпы резко сникла, и нам не оставалось ничего другого, как просто достойно поприветствовать Фреольцев, не пытаясь состязаться с тем громом эмоций, с той бурей, которая разразилась при виде Голгота. Он вышел с поднятым вверх кулаком и с не под-
Нас Караколь представил сразу за Голготом. «Сов, наш скриб», «Пьетро делла Рокка, князь», «Тальвег, геомастер», «Фирост де Торож, столп Орды и охотник». Но, после выхода Голгота реакция толпы резко сникла, и нам не оставалось ничего другого, как просто достойно поприветствовать Фреольцев, не пытаясь состязаться с тем громом эмоций, с той бурей, которая разразилась при виде Голгота. Он вышел с поднятым вверх кулаком и с не под-
 Откуда-то с высоты засвистела пуля. Выстрел по кривой. Неотразимый. Эрг дернул за ручку свой рюкзак, и в одну секунду, откуда ни возьмись, в воздух поднялся тяговый воздушный змей, размером не больше полотенца, унося с собою Эрга. Еще секунда, и Эрг был уже в четырех метрах над землей. Вытянувшись, он резко смэшировал пулю прямо на трибуну…
Откуда-то с высоты засвистела пуля. Выстрел по кривой. Неотразимый. Эрг дернул за ручку свой рюкзак, и в одну секунду, откуда ни возьмись, в воздух поднялся тяговый воздушный змей, размером не больше полотенца, унося с собою Эрга. Еще секунда, и Эрг был уже в четырех метрах над землей. Вытянувшись, он резко смэшировал пулю прямо на трибуну…
 У ворот Фреольцев повисло секундное замешательство, им нужно было понять, что произошло, и выбрать тактику, придумать выигрышный жест. Этой секунды Эргу было достаточно, чтобы перегруппироваться в балансировочный полет в двух метрах над паркетом и одним движением локтя привести в действие свой механический арбалет. Он зарядил барабан (насколько я понимаю)
У ворот Фреольцев повисло секундное замешательство, им нужно было понять, что произошло, и выбрать тактику, придумать выигрышный жест. Этой секунды Эргу было достаточно, чтобы перегруппироваться в балансировочный полет в двух метрах над паркетом и одним движением локтя привести в действие свой механический арбалет. Он зарядил барабан (насколько я понимаю)
 По всей логике оставался еще один, двенадцатый. И Эрг всегда отлично умел считать. Он был с другими на полу, но у него в ноге не торчала арбалетная стрела, пропитанная ядом чилибухи. Он снял ботинок (похвальная идея!) и запустил его по паркету в нашу сторону. Ботинок заскользил по навощенному полу…
— Осторожно!
Возможно потому, что стрелять в движущуюся цель без точного угла для прицела было непросто, но скорее даже просто по привычке Эрг обернулся, одновременно отстегнув трос от гарпуна, и взлетел на попутном ветре. Первая стрела вонзилась в пол. Вторая пригвоздила ботинок к паркету. Все. Занавес.
— Эрг Махаон, господа смотрители! Боец-защитник по своему призванию, фланговик Клинка и на досуге мастер бабеолек!
По всей логике оставался еще один, двенадцатый. И Эрг всегда отлично умел считать. Он был с другими на полу, но у него в ноге не торчала арбалетная стрела, пропитанная ядом чилибухи. Он снял ботинок (похвальная идея!) и запустил его по паркету в нашу сторону. Ботинок заскользил по навощенному полу…
— Осторожно!
Возможно потому, что стрелять в движущуюся цель без точного угла для прицела было непросто, но скорее даже просто по привычке Эрг обернулся, одновременно отстегнув трос от гарпуна, и взлетел на попутном ветре. Первая стрела вонзилась в пол. Вторая пригвоздила ботинок к паркету. Все. Занавес.
— Эрг Махаон, господа смотрители! Боец-защитник по своему призванию, фланговик Клинка и на досуге мастер бабеолек!
 Лично меня этот Махаон вгонял в ужас. Я не могла не присоединиться к возмущению Фреольцев. Настойка из рвотного ореха, подумать только! Организму понадо-
Лично меня этот Махаон вгонял в ужас. Я не могла не присоединиться к возмущению Фреольцев. Настойка из рвотного ореха, подумать только! Организму понадо-
 Да, это однозначно было слишком, в рамках дружеской игры. На худой конец, Эрг мог просто подойти поближе и оглушить пару матросов, но не обстреливать их из механического арбалета! Можно подумать, от этого зависела наша жизнь! Коммодор и контр-адмирал выразили мне понимание ситуации. Они признают, что Эрг, разумеется, просто не мог действовать иначе, и более охотно выражают негодование по отношению к Караколю, который предложил этот неравный бой, зная, чем тот может обернуться. Но праздник все же состоится. Он позволит слегка смягчить возникшую натянутость. Фонари были развешаны по всему рангоуту с бесспорным мастерством по части создания уютного освещения. Местами разливы света перемежались с темными пятнами, в которых весьма приятно было вести более личную беседу. Камерная музыка прекрасно сочеталась с деревянным обрамлением палубы. Не подавая вида, я слушал, как ровно за моей спиной Фирост беседовал с каким-то человеком. Я уже где-то видел его раньше, но никак не мог припомнить где. И все же был почти уверен, что он не был членом экипажа корабля… у него были глубоко посаженные желтые глаза, лицо почти как треугольник.
— Слушай, неслабый у вас такой воин-защитник. Впечатляет!
— Боец-защитник.
— Он всегда такой? Всегда так всерьез, шутить не умеет?
Да, это однозначно было слишком, в рамках дружеской игры. На худой конец, Эрг мог просто подойти поближе и оглушить пару матросов, но не обстреливать их из механического арбалета! Можно подумать, от этого зависела наша жизнь! Коммодор и контр-адмирал выразили мне понимание ситуации. Они признают, что Эрг, разумеется, просто не мог действовать иначе, и более охотно выражают негодование по отношению к Караколю, который предложил этот неравный бой, зная, чем тот может обернуться. Но праздник все же состоится. Он позволит слегка смягчить возникшую натянутость. Фонари были развешаны по всему рангоуту с бесспорным мастерством по части создания уютного освещения. Местами разливы света перемежались с темными пятнами, в которых весьма приятно было вести более личную беседу. Камерная музыка прекрасно сочеталась с деревянным обрамлением палубы. Не подавая вида, я слушал, как ровно за моей спиной Фирост беседовал с каким-то человеком. Я уже где-то видел его раньше, но никак не мог припомнить где. И все же был почти уверен, что он не был членом экипажа корабля… у него были глубоко посаженные желтые глаза, лицо почти как треугольник.
— Слушай, неслабый у вас такой воин-защитник. Впечатляет!
— Боец-защитник.
— Он всегда такой? Всегда так всерьез, шутить не умеет?
 Фейерверки! Фривольная фреольская феерия! Фанфары тут в фаворе, пронзительные духовые! Похоже, что мой маленький спектакль с раздачей почестей для Орды был всего-навсего преамбулой, чудаческим сигналом к началу кутежа. Пусть бьет ключом пирушка! Ах, вы все те же, планеристы! Не изменились ни чуть-чуть! Все та же жажда в вас бурлит, та же неистовая тяга взвиться вверх, умчаться вдаль на крыльях ваших змеев, раздуть знамена и где-то там, за облаками, швырять куда попало бум. И ни один из вас не может смирно усидеть на палубе и насладиться гуляющей по ней изящной синевой. А ваши женщины тем временем тешатся тем, что наконец нашли в нашем лице (а нам какая манна с неба!) тех, кто почтет за счастье завести с ними разговор и на их смех ответит смехом. Над крюйселем кружит настоящий кавардак из крыльев, бутылки и фляги из рук в руки, как мяч в игре. Хоп! И давай все цепляться за реи, карабкаться на фок-мачту, как в омут с головой! Веселье, извергающееся в небеса. Кто заберется выше, кто кому перережет канат, кто кого спровадит по ветру. Давай! Вперед! И я тащу краснеющей девице пучок асфоделей, сорванных в степи! Лью воду и вино по головам и припеваю во всю глотку. Нет, ничего не изменилось! Соблазн и флирт здесь правят бал, и с палубы
Фейерверки! Фривольная фреольская феерия! Фанфары тут в фаворе, пронзительные духовые! Похоже, что мой маленький спектакль с раздачей почестей для Орды был всего-навсего преамбулой, чудаческим сигналом к началу кутежа. Пусть бьет ключом пирушка! Ах, вы все те же, планеристы! Не изменились ни чуть-чуть! Все та же жажда в вас бурлит, та же неистовая тяга взвиться вверх, умчаться вдаль на крыльях ваших змеев, раздуть знамена и где-то там, за облаками, швырять куда попало бум. И ни один из вас не может смирно усидеть на палубе и насладиться гуляющей по ней изящной синевой. А ваши женщины тем временем тешатся тем, что наконец нашли в нашем лице (а нам какая манна с неба!) тех, кто почтет за счастье завести с ними разговор и на их смех ответит смехом. Над крюйселем кружит настоящий кавардак из крыльев, бутылки и фляги из рук в руки, как мяч в игре. Хоп! И давай все цепляться за реи, карабкаться на фок-мачту, как в омут с головой! Веселье, извергающееся в небеса. Кто заберется выше, кто кому перережет канат, кто кого спровадит по ветру. Давай! Вперед! И я тащу краснеющей девице пучок асфоделей, сорванных в степи! Лью воду и вино по головам и припеваю во всю глотку. Нет, ничего не изменилось! Соблазн и флирт здесь правят бал, и с палубы
 Три прелестных исполнительницы бамбэолы подарили нам незабываемый спектакль. Бамбэола, насколько этот танец был известен мне прежде, исполнялась при помощи двухметрового бамбукового стебля, с проделанными в нем отверстиями, который располагался по ветру в серии разнообразных танцевальных фигур так, чтобы струйка ветра, попавшая в бамбуковую трость, издавала приятный звук. В лучшем случае это, как правило, представляло собой своего рода концерт игры на флейте, со звуком слегка изломанным, отрывистым, под ряд жестикуляций, более или менее хорошо вписывающихся в общую картину произведения. Но то, что я увидел в этот раз, меня просто поразило. Это было самодвижущееся выражение искусства, в котором музыка, рождающаяся из движения трости, а следовательно из жеста, а значит
Три прелестных исполнительницы бамбэолы подарили нам незабываемый спектакль. Бамбэола, насколько этот танец был известен мне прежде, исполнялась при помощи двухметрового бамбукового стебля, с проделанными в нем отверстиями, который располагался по ветру в серии разнообразных танцевальных фигур так, чтобы струйка ветра, попавшая в бамбуковую трость, издавала приятный звук. В лучшем случае это, как правило, представляло собой своего рода концерт игры на флейте, со звуком слегка изломанным, отрывистым, под ряд жестикуляций, более или менее хорошо вписывающихся в общую картину произведения. Но то, что я увидел в этот раз, меня просто поразило. Это было самодвижущееся выражение искусства, в котором музыка, рождающаяся из движения трости, а следовательно из жеста, а значит
 Большинство девчонок отправились писать горящими змеями на ночном небе эти нескончаемые, одна другой длиннее, труверские тирады. Ну и я, значит, пошел (такой
Большинство девчонок отправились писать горящими змеями на ночном небе эти нескончаемые, одна другой длиннее, труверские тирады. Ну и я, значит, пошел (такой
 Я для себя выбрал воздушно-змеиный бой. Мне нужно было спустить пар после слишком насыщенного дня. Прибить к земле летательные аппараты, обрезать им леера, остаться в небе одному, это было именно то, что нужно… Какой все-таки прием нам подготовили Фреольцы! Да даже не «подготовили», потому что они понятия не имели, что встретят нас в глухой степи! Неожиданный прием и при этом столь естественный для них. Нужно будет обдумать с Совом и Голготом, как мы могли бы их отблагодарить. Вопрос принципа и чести. Но Сов совершенно неузнаваем после знакомства со своей танцовщицей. Я никогда прежде его таким не видел. Он просто ослеплен ею, своей Нушкой, барышней немного легкомысленной, но без ножа за спиной, как отозвался о ней контр-адмирал в ответ на мои расспросы. Альма и Аои над ним слегка подшучивали, хоть и не вмешивались. Ужаленная ревность? Они и сами сегодня оставались не без внимания кавалеров. Ороси тоже, но только ее воздыхатели были
Я для себя выбрал воздушно-змеиный бой. Мне нужно было спустить пар после слишком насыщенного дня. Прибить к земле летательные аппараты, обрезать им леера, остаться в небе одному, это было именно то, что нужно… Какой все-таки прием нам подготовили Фреольцы! Да даже не «подготовили», потому что они понятия не имели, что встретят нас в глухой степи! Неожиданный прием и при этом столь естественный для них. Нужно будет обдумать с Совом и Голготом, как мы могли бы их отблагодарить. Вопрос принципа и чести. Но Сов совершенно неузнаваем после знакомства со своей танцовщицей. Я никогда прежде его таким не видел. Он просто ослеплен ею, своей Нушкой, барышней немного легкомысленной, но без ножа за спиной, как отозвался о ней контр-адмирал в ответ на мои расспросы. Альма и Аои над ним слегка подшучивали, хоть и не вмешивались. Ужаленная ревность? Они и сами сегодня оставались не без внимания кавалеров. Ороси тоже, но только ее воздыхатели были
 После поединков наш разговор возобновился. На этот раз мне было еще трудней вести беседу. Я трепыхался, словно плохо надутый парус на ветру. Я нуждался в ней, одно ее присутствие разгоняло кровь по моим венам. Глаза у нее цвета грозовой синевы, настолько глубокой, что мне думалось, когда она плачет, круги небесной лазури должны расплываться по платку, которым она утирает слезы. Но еще больше меня сводили с ума ее губы, манящие ароматом густого, дурманящего вина, которое пьют стоя, залпом, потеряв голову. Мне так хотелось коснуться ее рта, погладить его бархат, провести пальцем по влажному изгибу, смотреть, как ее губы трепещут и подрагивают в ожидании, хотел бы приоткрыть ее жаждущий рот на вдохе, медленно раздвинуть ее губы, чтобы она затаила дыхание, пока я стану испивать сок ее языка, розовеющего при каждом сказанном слоге, он словно облизывал драгоценные каменья звуков. Меня всего качало от желания впиться в ее губы, вонзиться в красно-ягодную мякоть, изведать текущей из них вкус, коснувшись шеи, позволить своей руке заключить в ладони ее груди, почувствовать, как набухают и твердеют на кончиках соски… уложить ее на пол, здесь, на палубе, прочувствовать контраст меж гибким, нежным телом и твердостью половиц, завладеть ее ртом, держа одной рукою за затылок, чтоб защитить голову от ударов палубы, другой рукой лаская грудь, и пусть кошачье безумие, что кроется под ее платьем, извивается, пока она вся не нальется соками. И тогда почувствовать, как все ее тело целиком вдруг уступает, ослабляет натяжение своих пут, как тонет в волнах платья. Вдохнуть запах, провести языком по ее телу, пунцовому от чувств, открыть ее и, оди-
После поединков наш разговор возобновился. На этот раз мне было еще трудней вести беседу. Я трепыхался, словно плохо надутый парус на ветру. Я нуждался в ней, одно ее присутствие разгоняло кровь по моим венам. Глаза у нее цвета грозовой синевы, настолько глубокой, что мне думалось, когда она плачет, круги небесной лазури должны расплываться по платку, которым она утирает слезы. Но еще больше меня сводили с ума ее губы, манящие ароматом густого, дурманящего вина, которое пьют стоя, залпом, потеряв голову. Мне так хотелось коснуться ее рта, погладить его бархат, провести пальцем по влажному изгибу, смотреть, как ее губы трепещут и подрагивают в ожидании, хотел бы приоткрыть ее жаждущий рот на вдохе, медленно раздвинуть ее губы, чтобы она затаила дыхание, пока я стану испивать сок ее языка, розовеющего при каждом сказанном слоге, он словно облизывал драгоценные каменья звуков. Меня всего качало от желания впиться в ее губы, вонзиться в красно-ягодную мякоть, изведать текущей из них вкус, коснувшись шеи, позволить своей руке заключить в ладони ее груди, почувствовать, как набухают и твердеют на кончиках соски… уложить ее на пол, здесь, на палубе, прочувствовать контраст меж гибким, нежным телом и твердостью половиц, завладеть ее ртом, держа одной рукою за затылок, чтоб защитить голову от ударов палубы, другой рукой лаская грудь, и пусть кошачье безумие, что кроется под ее платьем, извивается, пока она вся не нальется соками. И тогда почувствовать, как все ее тело целиком вдруг уступает, ослабляет натяжение своих пут, как тонет в волнах платья. Вдохнуть запах, провести языком по ее телу, пунцовому от чувств, открыть ее и, оди-
 Труба туда! Труба сюда! Без Трубадура никуда! Какое множество воспоминаний позвякивает в колоколе моего имени… Меня хватают и тащат сразу во все стороны. Все как прежде. Репутация моя ничуть не изменилась, осталась нетронута в зените и даже укрепилась долгой отлучкой и тоннами легенд. Столько людей хотят со мной поговорить. Все те, кто был со мной знаком шесть лет назад. Еще вчера. Все, кто мне и по сей день так близок. Ух! И все-таки, однако же, невзирая, тем не менее… И вместе с тем я знаю, что больше здесь не свой. Я чувствую прозрачную на вид грань, что разделяет нас теперь, но о которой им неведомо. Я становлюсь истинным номадом. Они же остаются верными себе пролетчиками в этом мире.
Это что, все, Караколишка? Накараколился? Остановишься на этом и будешь пасовать? Рикошет о поле, удар на лету, штанга, гол? Решил заделаться «истинным номадом», так, значит? Ты, рожденный новехоньким прямо из самого движения? Ты уплотнился изнутри, запекся, скис, ты даже с Совом сблизился, да ты даже Ларко стал почти понимать, когда он ноет о своей любви к Кориолис! Ты начал ощущать вашу связь, эту прочную нить, что всего тянет за прожилки, когда тебе еще приходит в голову бросить Орду, вернуть свою дорогушу-свободу, свою утраченную проказницу любовь. Утраченную? Э-э-э, может, обретенную? Быть свободным! Да ты начинаешь задаваться вопросом, не с ними ли, не в Паке ли, среди Блока твоя свобода, чего доброго, может, еще скажешь с Голготом, а?
Труба туда! Труба сюда! Без Трубадура никуда! Какое множество воспоминаний позвякивает в колоколе моего имени… Меня хватают и тащат сразу во все стороны. Все как прежде. Репутация моя ничуть не изменилась, осталась нетронута в зените и даже укрепилась долгой отлучкой и тоннами легенд. Столько людей хотят со мной поговорить. Все те, кто был со мной знаком шесть лет назад. Еще вчера. Все, кто мне и по сей день так близок. Ух! И все-таки, однако же, невзирая, тем не менее… И вместе с тем я знаю, что больше здесь не свой. Я чувствую прозрачную на вид грань, что разделяет нас теперь, но о которой им неведомо. Я становлюсь истинным номадом. Они же остаются верными себе пролетчиками в этом мире.
Это что, все, Караколишка? Накараколился? Остановишься на этом и будешь пасовать? Рикошет о поле, удар на лету, штанга, гол? Решил заделаться «истинным номадом», так, значит? Ты, рожденный новехоньким прямо из самого движения? Ты уплотнился изнутри, запекся, скис, ты даже с Совом сблизился, да ты даже Ларко стал почти понимать, когда он ноет о своей любви к Кориолис! Ты начал ощущать вашу связь, эту прочную нить, что всего тянет за прожилки, когда тебе еще приходит в голову бросить Орду, вернуть свою дорогушу-свободу, свою утраченную проказницу любовь. Утраченную? Э-э-э, может, обретенную? Быть свободным! Да ты начинаешь задаваться вопросом, не с ними ли, не в Паке ли, среди Блока твоя свобода, чего доброго, может, еще скажешь с Голготом, а?
 Голгот покачал головой. Я улыбнулся, когда услышал, что меня назвали «князь». Никто в Орде меня так больше не называл. Мы собрались на задней палубе с двумя капитанами, рулевыми и картографами. Все были максимально сосредоточены, хотя у некоторых голова раскалывалась от вчерашнего и от недосыпа. Корабль покачивало. Для нас это было очень непривычно. Деревянный пол, на котором мы устроились, был действительно великолепен. Солнце уже высоко, и оттого оранжевые паруса, свернутые на мачтах, казались еще ярче.
— Что из себя представляет это дефиле? Вы говорите, что проход местами слишком узок для Физалиса и что вы вынуждены были отказаться от этой идеи? Но вы же могли воспользоваться шлюпкой?
— Мы так и сделали, само собой разумеется. Насколько мы понимаем, нам удалось подняться примерно до середины ущелья. Весь корпус заледенел и покрылся снегом. Винты на таком морозе еле крутились. В этом месте как раз излучина, и сразу за ней начинается дичайший блиццард, он дует почти вертикально, и подъем резко увеличивается, там очень опасно.
— К тому же склон совершенно гладкий и заледенелый. Он снегом отшлифован до блеска, как этот паркет.
Голгот покачал головой. Я улыбнулся, когда услышал, что меня назвали «князь». Никто в Орде меня так больше не называл. Мы собрались на задней палубе с двумя капитанами, рулевыми и картографами. Все были максимально сосредоточены, хотя у некоторых голова раскалывалась от вчерашнего и от недосыпа. Корабль покачивало. Для нас это было очень непривычно. Деревянный пол, на котором мы устроились, был действительно великолепен. Солнце уже высоко, и оттого оранжевые паруса, свернутые на мачтах, казались еще ярче.
— Что из себя представляет это дефиле? Вы говорите, что проход местами слишком узок для Физалиса и что вы вынуждены были отказаться от этой идеи? Но вы же могли воспользоваться шлюпкой?
— Мы так и сделали, само собой разумеется. Насколько мы понимаем, нам удалось подняться примерно до середины ущелья. Весь корпус заледенел и покрылся снегом. Винты на таком морозе еле крутились. В этом месте как раз излучина, и сразу за ней начинается дичайший блиццард, он дует почти вертикально, и подъем резко увеличивается, там очень опасно.
— К тому же склон совершенно гладкий и заледенелый. Он снегом отшлифован до блеска, как этот паркет.
 Не знаю почему, но ровно в этот момент я почувствовала, что он нам врет. Может, от какого-то странного изгиба его внутренней живости, не знаю, но я была в этом совершенно уверена.
Не знаю почему, но ровно в этот момент я почувствовала, что он нам врет. Может, от какого-то странного изгиба его внутренней живости, не знаю, но я была в этом совершенно уверена.

 Голгот подскочил. Он был вне себя. Он почти набросился на коммодора с обвинениями:
— Я — не мой отец! Я девятый Голгот! Каждое новое поколение сильнее предыдущего! У меня лучшая Орда. У меня Клинок, который понятия не имеет, что значит винт поставить на попятную! Мы пройдем! Что бы вы там ни говорили! Вы обычные эологи, вы ни черта не смыслите в настоящем контре, который прокладывается собственными костями!
Воспитанность коммодора не позволила ему ответить в том же тоне. Он принял атаку мудро, не стараясь противоречить нашему Трассеру.
— Я нисколько не сомневаюсь в известных всем нам способностях Орды. Я всего лишь хочу вас предостеречь, как наверняка сделают и ваши родители. Мы измерили анемометрами скорость блиццарда в излучине. Мы даже можем воспроизвести на наших винтах эту скорость, наша техника это позволяет. Таким образом можно сделать своего рода симуляцию того, что ждет вас в дефиле, если вам это интересно. Могу сказать экипажу расставить ветряки, если хотите. Нужно будет развернуть паруса, чтобы уравновесить толчковую силу и удержать судно, пока будут крутиться задние винты. Можете стать на землю сразу за кормой, и посмотрим, как вы продержитесь на таком ветру…
Он это предложил без задней мысли, не столько чтобы нас на самом деле испытать, сколько чтобы покончить с разногласиями, проверив все на деле. Голгот окинул нас взглядом. Ничем себя не выдавая, все мы боялись унижения, которое могло нас постигнуть, но жаждали в то же время снять с себя всякий груз сомнений. Да и сбить с них спесь заодно. В конце концов, один ярветер мог оторвать нас от земли.
Голгот подскочил. Он был вне себя. Он почти набросился на коммодора с обвинениями:
— Я — не мой отец! Я девятый Голгот! Каждое новое поколение сильнее предыдущего! У меня лучшая Орда. У меня Клинок, который понятия не имеет, что значит винт поставить на попятную! Мы пройдем! Что бы вы там ни говорили! Вы обычные эологи, вы ни черта не смыслите в настоящем контре, который прокладывается собственными костями!
Воспитанность коммодора не позволила ему ответить в том же тоне. Он принял атаку мудро, не стараясь противоречить нашему Трассеру.
— Я нисколько не сомневаюсь в известных всем нам способностях Орды. Я всего лишь хочу вас предостеречь, как наверняка сделают и ваши родители. Мы измерили анемометрами скорость блиццарда в излучине. Мы даже можем воспроизвести на наших винтах эту скорость, наша техника это позволяет. Таким образом можно сделать своего рода симуляцию того, что ждет вас в дефиле, если вам это интересно. Могу сказать экипажу расставить ветряки, если хотите. Нужно будет развернуть паруса, чтобы уравновесить толчковую силу и удержать судно, пока будут крутиться задние винты. Можете стать на землю сразу за кормой, и посмотрим, как вы продержитесь на таком ветру…
Он это предложил без задней мысли, не столько чтобы нас на самом деле испытать, сколько чтобы покончить с разногласиями, проверив все на деле. Голгот окинул нас взглядом. Ничем себя не выдавая, все мы боялись унижения, которое могло нас постигнуть, но жаждали в то же время снять с себя всякий груз сомнений. Да и сбить с них спесь заодно. В конце концов, один ярветер мог оторвать нас от земли.
 Сказано — сделано. Мы спустились по трапу и стали и степи за кораблем, напротив киля. Три огромных винта по три метра в диаметре были установлены в специально прорезанных для них круговых отверстиях в самом корпусе корабля, в метре над землей. Идеальная высота для симулятора. Мы надели защитные шлемы и прочее снаряжение, закрепили шипы по 25 под заинтригованными взглядами Фреольцев, столпившихся посмотреть на нас с задней палубы, перегнувшись через борт, в десяти метрах над нашими головами. В тени корабля свежесть воздуха сразу опустилась на наши плечи и покрыла траву росой. Пьетро стал готовить нас к контру.
— Так, шутки кончились, теперь всерьез, не для хвастовства! Контровать будем как при подходе ярветра: в полусгибе, латерально, с опорой на заднюю ногу. Всем подобраться. Голова, локти, колени в одну линию…
— Вы въехали, что к чему? — оборвал его Голгот. — Они сначала запустят первый винт, это будет как бы вход в дефиле. Теоретически, у нас все должно остаться цело. Это даст нам время запаять опорные. Потом, по гудку, вкрутят нторой винт, тут нужно будет заколотить колодки в Клинке и забиться за него. Остроугольный ромб. Плечом к плечу, в месиво. Пак, вы сзади подпираете того, кто вас прикрывает. Чтоб стояли мне как несущие балки! Нас может выбросить в любой момент. Вас труханет не так сильно, но вам нужно удержать основной упор. Будете фундаментом, понятно вам, раздолбаи! Если вы обделаетесь, весь Клинок из-за вас дерьма наестся! Всем все ясно? Чтоб я не слышал ни одного бздоха. Ясняк?
Сказано — сделано. Мы спустились по трапу и стали и степи за кораблем, напротив киля. Три огромных винта по три метра в диаметре были установлены в специально прорезанных для них круговых отверстиях в самом корпусе корабля, в метре над землей. Идеальная высота для симулятора. Мы надели защитные шлемы и прочее снаряжение, закрепили шипы по 25 под заинтригованными взглядами Фреольцев, столпившихся посмотреть на нас с задней палубы, перегнувшись через борт, в десяти метрах над нашими головами. В тени корабля свежесть воздуха сразу опустилась на наши плечи и покрыла траву росой. Пьетро стал готовить нас к контру.
— Так, шутки кончились, теперь всерьез, не для хвастовства! Контровать будем как при подходе ярветра: в полусгибе, латерально, с опорой на заднюю ногу. Всем подобраться. Голова, локти, колени в одну линию…
— Вы въехали, что к чему? — оборвал его Голгот. — Они сначала запустят первый винт, это будет как бы вход в дефиле. Теоретически, у нас все должно остаться цело. Это даст нам время запаять опорные. Потом, по гудку, вкрутят нторой винт, тут нужно будет заколотить колодки в Клинке и забиться за него. Остроугольный ромб. Плечом к плечу, в месиво. Пак, вы сзади подпираете того, кто вас прикрывает. Чтоб стояли мне как несущие балки! Нас может выбросить в любой момент. Вас труханет не так сильно, но вам нужно удержать основной упор. Будете фундаментом, понятно вам, раздолбаи! Если вы обделаетесь, весь Клинок из-за вас дерьма наестся! Всем все ясно? Чтоб я не слышал ни одного бздоха. Ясняк?
 Второй гудок. Скачок адреналина. Фреольские женщины смеются у нас над головами. Центральный винт тронулся, лопасти пришли в движение. Ветер усиливается так быстро, что мне кажется, я сейчас упаду как кегля. Сзади, в хвосте строя, кого-то выбросило. Скорость лопастей ошеломительная, а звук почти такой же беспощадный, как и сам поток. Вжимаюсь поближе к Голготу и Сову. Так близко, как только могу. Эрг, Тальвег и Фирост зажали свои тиски. Их масса фиксирует наш Блок. Клинок на месте. Ощущения опорные. Хотя ноги дрожат, как мачты в шторм. Несущаяся на нас волна такая мощная, настолько ощутимая, что у меня щеки вдавливает в лицо. Правая рука, заанкеренная на колене, вибрирует под напором. Икры болят до слез. Не выдержу, сейчас отпущу! Держи строй, делла Рокка, ты князь! Князь! Держу. Шипы съезжают на рыхлой почве. Ветер стабилизируется. Стоять скалой. Скалой. Я знаю, что нижняя половина нашего ромба сорвалась, я ничего не видел и не слышал, но чувствую это по обратному затягу к винтам. Клинок остался целиком. Плюс ряд за нами. Рек. Кого-то снесло с моей стороны, справа. Это слетели Арваль и сокольник.
Третий гудок. Не знаю, как это можно выдержать. Я сорвусь. Голгот успел только крикнуть: «Блок! Блок!». Моя голова упирается в его ягодицы. Четвертый ряд сорвало.
Второй гудок. Скачок адреналина. Фреольские женщины смеются у нас над головами. Центральный винт тронулся, лопасти пришли в движение. Ветер усиливается так быстро, что мне кажется, я сейчас упаду как кегля. Сзади, в хвосте строя, кого-то выбросило. Скорость лопастей ошеломительная, а звук почти такой же беспощадный, как и сам поток. Вжимаюсь поближе к Голготу и Сову. Так близко, как только могу. Эрг, Тальвег и Фирост зажали свои тиски. Их масса фиксирует наш Блок. Клинок на месте. Ощущения опорные. Хотя ноги дрожат, как мачты в шторм. Несущаяся на нас волна такая мощная, настолько ощутимая, что у меня щеки вдавливает в лицо. Правая рука, заанкеренная на колене, вибрирует под напором. Икры болят до слез. Не выдержу, сейчас отпущу! Держи строй, делла Рокка, ты князь! Князь! Держу. Шипы съезжают на рыхлой почве. Ветер стабилизируется. Стоять скалой. Скалой. Я знаю, что нижняя половина нашего ромба сорвалась, я ничего не видел и не слышал, но чувствую это по обратному затягу к винтам. Клинок остался целиком. Плюс ряд за нами. Рек. Кого-то снесло с моей стороны, справа. Это слетели Арваль и сокольник.
Третий гудок. Не знаю, как это можно выдержать. Я сорвусь. Голгот успел только крикнуть: «Блок! Блок!». Моя голова упирается в его ягодицы. Четвертый ряд сорвало.
 Не знаю, как именно это произошло, но в какой-то момент я почувствовал, что ветер ослаб, потому что наш славно известный Голгот Девятый, озверелый сын своего королевского рода, в жутком приступе гордости решил подняться и идти вперед! Не понимаю, как он это сделал. Помню только, как он выбросил руки вперед, словно опираясь о поток, ровно так, будто хотел перекатить огромную каменную глыбу. С немыслимым усилием он сменил опорную на выпаде, чтобы ударить ветер в сам живот, выпустить ему кишки через горло. Я постарался пойти за ним, сохранить тягу, сделать шаг, который бы меня снова к нему припаял.
— Толкай! — взвыл Эрг.
Я встал с колен слишком поздно и самую малость нескладно, но ветру этого было достаточно. Он раздирал мои ключицы, мой торс был уже слишком прям, под неправильным углом, голову сносило назад, позвоночник выгибался дугой, но я держался. Сзади меня Эрг старался выпрямить меня ударом каски по хребту. Секунды на четыре я замер, опершись о стену его твердейших мускулов. «Срывайся!», «Больше не могу. Срывайся!». Я послушался, чтобы уберечь Эрга, не утащить его с собой, дать ему шанс продолжить. Прыжком вбок я выскочил из Клинка, поток скосил меня одним ударом и отбросил на пять
Не знаю, как именно это произошло, но в какой-то момент я почувствовал, что ветер ослаб, потому что наш славно известный Голгот Девятый, озверелый сын своего королевского рода, в жутком приступе гордости решил подняться и идти вперед! Не понимаю, как он это сделал. Помню только, как он выбросил руки вперед, словно опираясь о поток, ровно так, будто хотел перекатить огромную каменную глыбу. С немыслимым усилием он сменил опорную на выпаде, чтобы ударить ветер в сам живот, выпустить ему кишки через горло. Я постарался пойти за ним, сохранить тягу, сделать шаг, который бы меня снова к нему припаял.
— Толкай! — взвыл Эрг.
Я встал с колен слишком поздно и самую малость нескладно, но ветру этого было достаточно. Он раздирал мои ключицы, мой торс был уже слишком прям, под неправильным углом, голову сносило назад, позвоночник выгибался дугой, но я держался. Сзади меня Эрг старался выпрямить меня ударом каски по хребту. Секунды на четыре я замер, опершись о стену его твердейших мускулов. «Срывайся!», «Больше не могу. Срывайся!». Я послушался, чтобы уберечь Эрга, не утащить его с собой, дать ему шанс продолжить. Прыжком вбок я выскочил из Клинка, поток скосил меня одним ударом и отбросил на пять
 Обед прошел как на облаке. Гордость за то, что продержались на третьем винте? Разумеется. Но еще более того нас радовало внутреннее осознание того, что мы были готовы для Норски. Вторая половина дня протекала в безмятежности. Это был наш первый настоящий отдых за последнее время, страшно даже подумать, когда мы последний раз отдыхали. Я осведомился о новостях из Аберлааса и Ордана. Ничего принципиально нового, все те же трения между тремя группами: Хронистами, Верховенцами и Прагмой. Прагма считала, что целью Орды должно быть достижение Верхнего Предела любыми средствами и способами, в том числе моторизированным. Она, разумеется, пользовалась безусловной поддержкой Фреольцев, которые предлагали перевезти тридцать пятую прямо к подножью Норски. Полнейший абсурд, как по мне. Какой в этом смысл? Вся ценность Орды заключалась в ее контре,
Обед прошел как на облаке. Гордость за то, что продержались на третьем винте? Разумеется. Но еще более того нас радовало внутреннее осознание того, что мы были готовы для Норски. Вторая половина дня протекала в безмятежности. Это был наш первый настоящий отдых за последнее время, страшно даже подумать, когда мы последний раз отдыхали. Я осведомился о новостях из Аберлааса и Ордана. Ничего принципиально нового, все те же трения между тремя группами: Хронистами, Верховенцами и Прагмой. Прагма считала, что целью Орды должно быть достижение Верхнего Предела любыми средствами и способами, в том числе моторизированным. Она, разумеется, пользовалась безусловной поддержкой Фреольцев, которые предлагали перевезти тридцать пятую прямо к подножью Норски. Полнейший абсурд, как по мне. Какой в этом смысл? Вся ценность Орды заключалась в ее контре,
 Ах, Нушка, моя Нушка! Во все время приготовлений к празднику я не переставал следовать за ней, благоговея, весь возбужденный, словно в лихорадке, не зная, как продолжить то, что между нами произошло, где найти силы, чтобы пойти дальше, заклиная себя вести себя естественно и просто и прекрасно понимая, что тот, кто высматривал ее отражение в начищенных поверхностях, был на
Ах, Нушка, моя Нушка! Во все время приготовлений к празднику я не переставал следовать за ней, благоговея, весь возбужденный, словно в лихорадке, не зная, как продолжить то, что между нами произошло, где найти силы, чтобы пойти дальше, заклиная себя вести себя естественно и просто и прекрасно понимая, что тот, кто высматривал ее отражение в начищенных поверхностях, был на
 Я расспросил коммодора о человеке с желтыми глазами и треугольным лицом, который допытывался у Фироста про технику боя Эрга, и мои подозрения подтвердились: он не был членом экипажа Легкой эскадры. Он представился контр-адмиралу как Силен во время захода в порт какой-то непримечательной деревушки. Ороси, осторожно понаблюдав за ним на празднике и даже немного с ним поговорив, сделала мне знак, и мы незаметно вышли из освещенного круга. Разойдясь в разных направлениях, мы обошли праздничную поляну каждый по своей стороне и встретились за ней, в низовье, укрывшись в небольшой впадине. Ороси села, поджав под себя ноги, с прямой осанкой и непроницаемым лицом. В свете неполной луны травинки поблескивали металлическим цветом. Резко повернувшись ко мне, она спросила:
— Коммодор избавил тебя от сомнений?
— Да. Силен не член экипажа, он попросил коммодора взять его во внешний эскорт Физалиса.
— Да, он мне сказал. Что такое этот эскорт?
— Это та куча буеров, аэроглиссеров и контрасов, которые идут впереди или за кораблем, по ситуации. Они служат своего рода первым защитным пластом против атак наемников.
— Кто их атакует?
Я расспросил коммодора о человеке с желтыми глазами и треугольным лицом, который допытывался у Фироста про технику боя Эрга, и мои подозрения подтвердились: он не был членом экипажа Легкой эскадры. Он представился контр-адмиралу как Силен во время захода в порт какой-то непримечательной деревушки. Ороси, осторожно понаблюдав за ним на празднике и даже немного с ним поговорив, сделала мне знак, и мы незаметно вышли из освещенного круга. Разойдясь в разных направлениях, мы обошли праздничную поляну каждый по своей стороне и встретились за ней, в низовье, укрывшись в небольшой впадине. Ороси села, поджав под себя ноги, с прямой осанкой и непроницаемым лицом. В свете неполной луны травинки поблескивали металлическим цветом. Резко повернувшись ко мне, она спросила:
— Коммодор избавил тебя от сомнений?
— Да. Силен не член экипажа, он попросил коммодора взять его во внешний эскорт Физалиса.
— Да, он мне сказал. Что такое этот эскорт?
— Это та куча буеров, аэроглиссеров и контрасов, которые идут впереди или за кораблем, по ситуации. Они служат своего рода первым защитным пластом против атак наемников.
— Кто их атакует?
 Мне пришлось согласиться не на один танец, уступая зазывающему, словно вырывающемуся из ночи оркестру и приглашению дам. Несмотря на то что партнерши всячески старались мне помочь и вели танец, я путался в слишком сложных для меня танцевальных па, чем вызывал шуточки в свой адрес, в особенности от Караколя, который прохаживался меж вальсирующих, изображая ревнивого супруга, то и дело разбивал пары, чтобы поволочиться за фреольскими красотками в длинных платьях, серьгах и звенящих браслетах, которые в моих непривычных к такому зрелищу глазах еще пуще распаляли пламя костра. Что еще меня поразило, так это присущая Фреольцам элегантность, которая проявилась, когда упала завеса небрежности и разгильдяйства. Как естественно они расширяли круг, чтобы принять в него нового танцора, как выказывали почтение красоте той или иной девицы, как ненавязчиво пытались приударить! По сравнению с деревенскими того же уровня воспитания они обладали таким природным обаянием, что ни одна из их выходок не выглядела грубостью, несмотря на резкую вспыльчивость, привычку устраивать бои или
Мне пришлось согласиться не на один танец, уступая зазывающему, словно вырывающемуся из ночи оркестру и приглашению дам. Несмотря на то что партнерши всячески старались мне помочь и вели танец, я путался в слишком сложных для меня танцевальных па, чем вызывал шуточки в свой адрес, в особенности от Караколя, который прохаживался меж вальсирующих, изображая ревнивого супруга, то и дело разбивал пары, чтобы поволочиться за фреольскими красотками в длинных платьях, серьгах и звенящих браслетах, которые в моих непривычных к такому зрелищу глазах еще пуще распаляли пламя костра. Что еще меня поразило, так это присущая Фреольцам элегантность, которая проявилась, когда упала завеса небрежности и разгильдяйства. Как естественно они расширяли круг, чтобы принять в него нового танцора, как выказывали почтение красоте той или иной девицы, как ненавязчиво пытались приударить! По сравнению с деревенскими того же уровня воспитания они обладали таким природным обаянием, что ни одна из их выходок не выглядела грубостью, несмотря на резкую вспыльчивость, привычку устраивать бои или
 Ороси сделала паузу. Она заметно подрагивала. Ее серебряные флюгера в волосах поблескивали.
— И что скажешь?
— Что мне не часто доводилось видеть, чтобы так сухо метали. Как удар хлыста. Он даже виду не подал, просто ответный жест. У него очень сухой бросок.
— В кого он целился?
— В Караколя. И попал.
— Ветер небесный! Это очень плохой знак. Ты предупредила Эрга?
— Он его заметил, когда мы только поднялись на корабль. Эргу знакомо его лицо. А потом Фирост позвал Силена выпить по стаканчику и много рассказывал ему про Эрга. Только на этот раз он все выдумывал. Эрг готовится. Он думает, что, во-первых, этот тип как раз из Преследователей, а во-вторых, что он, скорее всего, тоже прошел Кер Дербан. Только его, вероятно, готовила Прагма.
— Это было бы самой плохой гипотезой.
— Это и есть самая плохая гипотеза, друзья.
Ороси сделала паузу. Она заметно подрагивала. Ее серебряные флюгера в волосах поблескивали.
— И что скажешь?
— Что мне не часто доводилось видеть, чтобы так сухо метали. Как удар хлыста. Он даже виду не подал, просто ответный жест. У него очень сухой бросок.
— В кого он целился?
— В Караколя. И попал.
— Ветер небесный! Это очень плохой знак. Ты предупредила Эрга?
— Он его заметил, когда мы только поднялись на корабль. Эргу знакомо его лицо. А потом Фирост позвал Силена выпить по стаканчику и много рассказывал ему про Эрга. Только на этот раз он все выдумывал. Эрг готовится. Он думает, что, во-первых, этот тип как раз из Преследователей, а во-вторых, что он, скорее всего, тоже прошел Кер Дербан. Только его, вероятно, готовила Прагма.
— Это было бы самой плохой гипотезой.
— Это и есть самая плохая гипотеза, друзья.
 У меня сердце встало на четыре секунды, пока я не убедилась, что это голос Эрга. Он не сразу показался, но
У меня сердце встало на четыре секунды, пока я не убедилась, что это голос Эрга. Он не сразу показался, но
 Жалковатый на первом ходу, оркестр был в духе самой крикливой фреольской прогрессивности — фанфара, брызгающая гуашью. Они ворвались с вертотрубными силами, контрабасинами, натянутыми воздушными змеями, аккордеолами и арфами, все это было подкреплено время от времени фальшивившим ветряным органом, который громоздился в самом центре танцплощадки со своими пятиметровыми трубами, отверстия которых фреольские фланговики частенько забивали тряпками, видимо, воспринимая музыкальный разнобой как эхо собственной жажды разлада. Отчасти из любопытства, отчасти бросая вызов, мне предложили присоединить ресурсы моего свистяка к общему, не особо стройному гаму их композиций, и я, к своему собственному удивлению, согласился. Меня посадили в корзину воздушного шара, пришвартованного в нескольких метрах перед органом, в месте, где ветер был наиболее стабильным. И я не без удовольствия возвысился над праздником, наблюдая за необузданностью танцоров и за непрекращающимися метаниями бумов и льющимся с небес на головы вином, короче говоря, доброй частью того, что делало слегка несносным этот в остальном весьма добродушный праздник жизни. Добавьте к этому еще то, что меня регулярно снабжали хмелем и в промежутки относительного покоя пару раз дали затянуть долгое сви-
Жалковатый на первом ходу, оркестр был в духе самой крикливой фреольской прогрессивности — фанфара, брызгающая гуашью. Они ворвались с вертотрубными силами, контрабасинами, натянутыми воздушными змеями, аккордеолами и арфами, все это было подкреплено время от времени фальшивившим ветряным органом, который громоздился в самом центре танцплощадки со своими пятиметровыми трубами, отверстия которых фреольские фланговики частенько забивали тряпками, видимо, воспринимая музыкальный разнобой как эхо собственной жажды разлада. Отчасти из любопытства, отчасти бросая вызов, мне предложили присоединить ресурсы моего свистяка к общему, не особо стройному гаму их композиций, и я, к своему собственному удивлению, согласился. Меня посадили в корзину воздушного шара, пришвартованного в нескольких метрах перед органом, в месте, где ветер был наиболее стабильным. И я не без удовольствия возвысился над праздником, наблюдая за необузданностью танцоров и за непрекращающимися метаниями бумов и льющимся с небес на головы вином, короче говоря, доброй частью того, что делало слегка несносным этот в остальном весьма добродушный праздник жизни. Добавьте к этому еще то, что меня регулярно снабжали хмелем и в промежутки относительного покоя пару раз дали затянуть долгое сви-
 Я поднял голову и вместе с остальными обнаружил, что команда матросов и впрямь установила на достаточном
Я поднял голову и вместе с остальными обнаружил, что команда матросов и впрямь установила на достаточном
 Игра в факел, черт подери! Как забыть тебя я мог? Трубадурик, Трубаумник, неужто я повесил память болтаться у себя на поясе? Но верх предела, поверьте, состоит в том, чтоб первым схватить факел, ведь тогда, тогда что? Тогда все так, как будто сам огонь протягивает вам свой факел и вам ответно объясняется в любви, и это, это, это, это настоящая история любви. Да что я такое говорю? Это история души, чей пыл не угасает, и потом вы ощущаете себя любимым каждый раз, как возгорается новое пламя, поскольку — и все это неспроста, запомните! — первое пламя вам дано самим огнем. Я, впрочем, лучше покажу…
Игра в факел, черт подери! Как забыть тебя я мог? Трубадурик, Трубаумник, неужто я повесил память болтаться у себя на поясе? Но верх предела, поверьте, состоит в том, чтоб первым схватить факел, ведь тогда, тогда что? Тогда все так, как будто сам огонь протягивает вам свой факел и вам ответно объясняется в любви, и это, это, это, это настоящая история любви. Да что я такое говорю? Это история души, чей пыл не угасает, и потом вы ощущаете себя любимым каждый раз, как возгорается новое пламя, поскольку — и все это неспроста, запомните! — первое пламя вам дано самим огнем. Я, впрочем, лучше покажу…
 Ага, вот я бы, например, расположился рядом с факелами (по ободу танцпола), в ажиотаже молодых фреольских задир… Устроил бы раздачу тумаков локтем (не по-злому), выслеживая, когда Силамфр крутанет свой барабан, и прыгнул бы в аккурат, схватив (одним ударом лапы) факел с подставки под изумленное ликование толпы. Тогда я подошел бы к Кориолис (не стыдясь и не хитря, не играя в отстраненность) и протянул бы ей факел.
Ага, вот я бы, например, расположился рядом с факелами (по ободу танцпола), в ажиотаже молодых фреольских задир… Устроил бы раздачу тумаков локтем (не по-злому), выслеживая, когда Силамфр крутанет свой барабан, и прыгнул бы в аккурат, схватив (одним ударом лапы) факел с подставки под изумленное ликование толпы. Тогда я подошел бы к Кориолис (не стыдясь и не хитря, не играя в отстраненность) и протянул бы ей факел.
 Что там ни говори, а Караколь был, есть и всегда будет Караколем, то есть чем-то фундаментально непредсказуемым. То, что он, смухлевав само собой, схватил первый факел из-под носа и едва пробивающихся пушком бородок молодых матросов, что начал потом театрально расхаживать, размахивая факелом вместо меча, изображая, будто его штормит, и проглотил целую флягу алкоголя, чтобы потом все это выплеснуть на факел, разбрызгивая облака пламени, все это оставалось для меня в пределах вероятного. Но явно не то, что он учудил после. Со временем одним из моих секретных развлечений стало пытаться угадать, что он собирается вытворить, зная, насколько его отвращала предсказуемость, незамысловатый или ожидаемый фарс, и в какой мере ему была присуща требовательность, столь редкая даже среди самых плодовитых трубадуров, к самобытной изобретательности, превращавшая в движущееся произведение искусства не его самого, я подразумеваю его тело и душу, но всю совокупность множащихся экспромтов, повадок и выходок, кото-
Что там ни говори, а Караколь был, есть и всегда будет Караколем, то есть чем-то фундаментально непредсказуемым. То, что он, смухлевав само собой, схватил первый факел из-под носа и едва пробивающихся пушком бородок молодых матросов, что начал потом театрально расхаживать, размахивая факелом вместо меча, изображая, будто его штормит, и проглотил целую флягу алкоголя, чтобы потом все это выплеснуть на факел, разбрызгивая облака пламени, все это оставалось для меня в пределах вероятного. Но явно не то, что он учудил после. Со временем одним из моих секретных развлечений стало пытаться угадать, что он собирается вытворить, зная, насколько его отвращала предсказуемость, незамысловатый или ожидаемый фарс, и в какой мере ему была присуща требовательность, столь редкая даже среди самых плодовитых трубадуров, к самобытной изобретательности, превращавшая в движущееся произведение искусства не его самого, я подразумеваю его тело и душу, но всю совокупность множащихся экспромтов, повадок и выходок, кото-
 Ветер мой, как быстро все завертелось! Факелы мечутся из рук в руки, повсюду смех, никто не решается удвоить. Кориолис протягивает факел Караколю, который потешается над ней и передает его Аои, она — какому-то Фреольцу, тот — Каллирое, а она бросает его вверх Силамфру, который передает девчонке из фланговиков, а та бросает его какому-то матросу, который отдает его обиженной Кориолис, а та возвращает факел назад… Нет, она все еще не решается. А может быть, не хочет перед Ларко? Я не смогла переговорить с Совом о Силене. Он сейчас не в форме для таких разговоров. Он пьян, он сознательно и упорно продолжает напиваться. Вот он получает факел от Аои. Сурово смотрит ей в лицо, а она мягко улыбается ему в ответ, с такой трогательной застенчивостью, лицо ее пылает. Непонятно, всерьез ли она, но очень на то похоже. Сов не знает, что делать, по нему видно, как он колеблется, не отдать ли ей факел назад — давай же, черт возьми, сделай это для нее, для вас. Осмельтесь в конце концов, пусть даже и перед такой толпой. Но он отворачивается и во второй раз ищет
Ветер мой, как быстро все завертелось! Факелы мечутся из рук в руки, повсюду смех, никто не решается удвоить. Кориолис протягивает факел Караколю, который потешается над ней и передает его Аои, она — какому-то Фреольцу, тот — Каллирое, а она бросает его вверх Силамфру, который передает девчонке из фланговиков, а та бросает его какому-то матросу, который отдает его обиженной Кориолис, а та возвращает факел назад… Нет, она все еще не решается. А может быть, не хочет перед Ларко? Я не смогла переговорить с Совом о Силене. Он сейчас не в форме для таких разговоров. Он пьян, он сознательно и упорно продолжает напиваться. Вот он получает факел от Аои. Сурово смотрит ей в лицо, а она мягко улыбается ему в ответ, с такой трогательной застенчивостью, лицо ее пылает. Непонятно, всерьез ли она, но очень на то похоже. Сов не знает, что делать, по нему видно, как он колеблется, не отдать ли ей факел назад — давай же, черт возьми, сделай это для нее, для вас. Осмельтесь в конце концов, пусть даже и перед такой толпой. Но он отворачивается и во второй раз ищет
 Расставленные по контуру танцпола факелы постепенно стали тухнуть. Атмосфера от этого переменилась, сделавшись более странной и менее беспокойной. Чернота ночи наплывала кругами. В ней еще яснее проступали три мятежных факела с синеющим ореолом. Я не спускал глаз с Эрга и Силена. Я предупредил Голгота, который был занят тем, что договаривался с коммодором о девчонке на ночь. Тот выбрал ему из всех ночных бабочек самую красивую на корабле, Оранж. Но он к ней не притронется. По крайней мере, пока не…
Факел очутился в руках у Эрга. Его могучие плечи на секунду осветились, и он передал факел дальше. Послышались возгласы. Я испугался и бросился в толпу. Эрг, совершенно оторопелый, снова держал факел в руках. Девушка, которой он его только что отдал, удвоила! В небе я увидел белые паруса. Фланговики взяли его под руки хоть и с некоторыми предосторожностями, когда узнали в нем нашего бойца. Он не сопротивлялся. Немыслимо было поступить иначе. Рыжеволосая девушка, лица которой я не видел, прижалась к нему, и их обоих стали поднимать на розовый воздушный шар под ободряющий аккомпанемент духовиков. Коммодор объявил:
— Итак, у нас совпала первая пара! Это, мои дорогие неудачники, известный всем вам боец-защитник Орды,
Расставленные по контуру танцпола факелы постепенно стали тухнуть. Атмосфера от этого переменилась, сделавшись более странной и менее беспокойной. Чернота ночи наплывала кругами. В ней еще яснее проступали три мятежных факела с синеющим ореолом. Я не спускал глаз с Эрга и Силена. Я предупредил Голгота, который был занят тем, что договаривался с коммодором о девчонке на ночь. Тот выбрал ему из всех ночных бабочек самую красивую на корабле, Оранж. Но он к ней не притронется. По крайней мере, пока не…
Факел очутился в руках у Эрга. Его могучие плечи на секунду осветились, и он передал факел дальше. Послышались возгласы. Я испугался и бросился в толпу. Эрг, совершенно оторопелый, снова держал факел в руках. Девушка, которой он его только что отдал, удвоила! В небе я увидел белые паруса. Фланговики взяли его под руки хоть и с некоторыми предосторожностями, когда узнали в нем нашего бойца. Он не сопротивлялся. Немыслимо было поступить иначе. Рыжеволосая девушка, лица которой я не видел, прижалась к нему, и их обоих стали поднимать на розовый воздушный шар под ободряющий аккомпанемент духовиков. Коммодор объявил:
— Итак, у нас совпала первая пара! Это, мои дорогие неудачники, известный всем вам боец-защитник Орды,
 Что бы я ни делал, ища с ней встречи или, напротив, избегая ее, она все время появлялась из какой-нибудь группы людей, обрушиваясь на меня весенним проливным дождем, и исчезала так же быстро и внезапно, унося с собой свой климат и смеющийся ручей своего лица, и берег неба в своих глазах, и гавань своих губ, алеющих под каплями дождя, и свой манящий рот как бездонный колодец, в котором тонули все мои надежды. Там, наверху, висел воздушный шар, на котором я сам не прочь был бы оказаться с Нушкой. Его озаряли четыре фонаря, подвешенные к балдахину, и хоть освещение было неярким, его хватало, чтобы угадать в небе парящее уютное гнездышко, где нашему счастливчику Эргу повезло предаться любви. Внизу какой-то парень — это было очень странно! — обрубил швартовый канат, и шар стало сносить к низовью, совсем легонько, — все-таки система крыльев, оснащенных винтами, установленных по обе стороны корзины, отлично обеспечивала зависание монгольфьера.
— Где Силен?
— Ушел спать.
— Кто тебе это сказал? Фирост?
— Он сам. Он пожелал мне спокойной ночи.
— Святые Ветра!
— Вам не кажется, что вы тут раздули шум из ничего? Вы бы видели ваши рожи, можно подумать, что я вам на завтра ярветер объявил. Эргу как раз совсем неплохо с его подружкой под балдахинчиком, а вы тут колотитесь непонятно чего. Спокуха.
— Эрг в смертельной опасности.
Что бы я ни делал, ища с ней встречи или, напротив, избегая ее, она все время появлялась из какой-нибудь группы людей, обрушиваясь на меня весенним проливным дождем, и исчезала так же быстро и внезапно, унося с собой свой климат и смеющийся ручей своего лица, и берег неба в своих глазах, и гавань своих губ, алеющих под каплями дождя, и свой манящий рот как бездонный колодец, в котором тонули все мои надежды. Там, наверху, висел воздушный шар, на котором я сам не прочь был бы оказаться с Нушкой. Его озаряли четыре фонаря, подвешенные к балдахину, и хоть освещение было неярким, его хватало, чтобы угадать в небе парящее уютное гнездышко, где нашему счастливчику Эргу повезло предаться любви. Внизу какой-то парень — это было очень странно! — обрубил швартовый канат, и шар стало сносить к низовью, совсем легонько, — все-таки система крыльев, оснащенных винтами, установленных по обе стороны корзины, отлично обеспечивала зависание монгольфьера.
— Где Силен?
— Ушел спать.
— Кто тебе это сказал? Фирост?
— Он сам. Он пожелал мне спокойной ночи.
— Святые Ветра!
— Вам не кажется, что вы тут раздули шум из ничего? Вы бы видели ваши рожи, можно подумать, что я вам на завтра ярветер объявил. Эргу как раз совсем неплохо с его подружкой под балдахинчиком, а вы тут колотитесь непонятно чего. Спокуха.
— Эрг в смертельной опасности.

 Волосы рыжие. Крашеные. Шатенка на самом деле. Ощупываю ее. Оружия нет. Ногти чистые. Под ними тоже ничего. В шевелюре тоже пусто, на ощупь. На запах тоже ничего. Раздеваю ее. Она со мной говорит, лепечет все, что нужно, чтобы меня возбудить. Срабатывает. Обнюхиваю ее. Нужно проверить зубы. Все ямки, впадинки. Вульву тоже. На клапан. В Кер Дербане на испытании со шлюхами одному так головку оттяпало движением вагины. Прием амазонок. Раздвигает ноги, входишь в нее, и клац, сжимает мышцы, и все. Самосжимающееся кольцо. Можно всю кровяку потерять. Кто-то внизу рубанул канат. Чувствую по стабильности полета. Давление поднялось. Зависаем. Эта продолжает мурлыкать. Отбросил ее одежду подальше. Голая, липнет ко мне, хочет погладить. Заламываю ей руки. Отбивается. Пробует контрприем. Недурно. Делаю захват на ключ, переворачиваю ее, блокирую обе руки и привязываю к изголовью кровати. Резкий рывок снизу. Несильный, но я точно почувствовал. Что-то или кто-то дернул снизу за волочащийся канат. Теперь поднимается по нему. Нет. Смена направления. Приоткрываю занавески и выхожу на платформу корзины. Кто-то усилил снос к низовью. С высоты танцплощадка выглядит размером с метательный диск. Нас уносит.
— Трахни меня!
— Заткнись…
— Ну давай, засади поглубже, я сейчас сдохну, так тебя хочу.
Обыскиваю ей вагину и анус горлышком бутылки. Все чисто. Привязываю вдоль кровати. Руки к стойкам по обе стороны, колени согнуты, лодыжки связаны. Всаживаю ей в ее дырку. Не такая мокрая, как она тут стонет. Ломает комедию. Тут явно какая-то засада.
Волосы рыжие. Крашеные. Шатенка на самом деле. Ощупываю ее. Оружия нет. Ногти чистые. Под ними тоже ничего. В шевелюре тоже пусто, на ощупь. На запах тоже ничего. Раздеваю ее. Она со мной говорит, лепечет все, что нужно, чтобы меня возбудить. Срабатывает. Обнюхиваю ее. Нужно проверить зубы. Все ямки, впадинки. Вульву тоже. На клапан. В Кер Дербане на испытании со шлюхами одному так головку оттяпало движением вагины. Прием амазонок. Раздвигает ноги, входишь в нее, и клац, сжимает мышцы, и все. Самосжимающееся кольцо. Можно всю кровяку потерять. Кто-то внизу рубанул канат. Чувствую по стабильности полета. Давление поднялось. Зависаем. Эта продолжает мурлыкать. Отбросил ее одежду подальше. Голая, липнет ко мне, хочет погладить. Заламываю ей руки. Отбивается. Пробует контрприем. Недурно. Делаю захват на ключ, переворачиваю ее, блокирую обе руки и привязываю к изголовью кровати. Резкий рывок снизу. Несильный, но я точно почувствовал. Что-то или кто-то дернул снизу за волочащийся канат. Теперь поднимается по нему. Нет. Смена направления. Приоткрываю занавески и выхожу на платформу корзины. Кто-то усилил снос к низовью. С высоты танцплощадка выглядит размером с метательный диск. Нас уносит.
— Трахни меня!
— Заткнись…
— Ну давай, засади поглубже, я сейчас сдохну, так тебя хочу.
Обыскиваю ей вагину и анус горлышком бутылки. Все чисто. Привязываю вдоль кровати. Руки к стойкам по обе стороны, колени согнуты, лодыжки связаны. Всаживаю ей в ее дырку. Не такая мокрая, как она тут стонет. Ломает комедию. Тут явно какая-то засада.

 Я предупредил Тальвега, Леарха, Степпа и Барбака. Потряс Сова, который немного протрезвел, сунув два пальца в рот и проглотив литр воды. Голгот выслушал меня, не переставая зубоскалить, а потом сказал:
— Ты за двадцать пять лет так и не въехал, кто такой наш Махаон. Ты же с ним четыре месяца в Кер Дербане проторчал. Ты сколько раз его видел. Никто, ни живой, ни мертвый, ни молодняк, ни старичье, никто не может с ним тягаться. Не существует никого его калибра. Откуда бы он там не был, этот твой тип, хоть Преследователь, хоть сто раз буеровый ас, наемник, кто угодно, это ничего не меняет. Эрг его уложит.
— Может, нужно ему помочь. Он выпил, он…
— Ничего он не пил. И не нуждается он в твоей помощи, Пьетро. Никто не может ему помочь. Просто скажешь мне, когда он закончит. Девятая каюта. Там Оранж меня ждет.
Я предупредил Тальвега, Леарха, Степпа и Барбака. Потряс Сова, который немного протрезвел, сунув два пальца в рот и проглотив литр воды. Голгот выслушал меня, не переставая зубоскалить, а потом сказал:
— Ты за двадцать пять лет так и не въехал, кто такой наш Махаон. Ты же с ним четыре месяца в Кер Дербане проторчал. Ты сколько раз его видел. Никто, ни живой, ни мертвый, ни молодняк, ни старичье, никто не может с ним тягаться. Не существует никого его калибра. Откуда бы он там не был, этот твой тип, хоть Преследователь, хоть сто раз буеровый ас, наемник, кто угодно, это ничего не меняет. Эрг его уложит.
— Может, нужно ему помочь. Он выпил, он…
— Ничего он не пил. И не нуждается он в твоей помощи, Пьетро. Никто не может ему помочь. Просто скажешь мне, когда он закончит. Девятая каюта. Там Оранж меня ждет.
 Как бы странно это для нас не было, но праздник, очевидно, только начинался. Два оставшихся факела продолжали передаваться из рук в руки, и по нарастающим взрывам смеха, сопровождающим каждый пас, я понимал, что основная часть фреольских тонкостей от нас ускользала. По всей видимости, игра подошла к стадии «насмешек», когда факел намеренно передавался самым непривлекательным участникам, вероятно, с сознательным риском получить его назад. Фанфары гремели вовсю, группки танцовщиц принимали замысловатые позы с резными бамбуковыми стеблями в руках. Кверху от танцпола чувствовалась свежесть, и я стал лицом к ветру, чтобы окончательно протрезветь, глубоко вдыхая ночную свежесть.
Розовый монгольфьер продолжало медленно относить к низовью. Теперь виднелись только три светящиеся точечки, мерцающие в темном небе. Мы понятия не имели,
Как бы странно это для нас не было, но праздник, очевидно, только начинался. Два оставшихся факела продолжали передаваться из рук в руки, и по нарастающим взрывам смеха, сопровождающим каждый пас, я понимал, что основная часть фреольских тонкостей от нас ускользала. По всей видимости, игра подошла к стадии «насмешек», когда факел намеренно передавался самым непривлекательным участникам, вероятно, с сознательным риском получить его назад. Фанфары гремели вовсю, группки танцовщиц принимали замысловатые позы с резными бамбуковыми стеблями в руках. Кверху от танцпола чувствовалась свежесть, и я стал лицом к ветру, чтобы окончательно протрезветь, глубоко вдыхая ночную свежесть.
Розовый монгольфьер продолжало медленно относить к низовью. Теперь виднелись только три светящиеся точечки, мерцающие в темном небе. Мы понятия не имели,
 Он запрыгнул назад в буер — я так и не понял, был тот парусным, винтовым, змейковым или воздушным, — и одним махом настроил целую кучу небольших треугольных парусов, вдавил обе педали, винты загудели, завертелись, буер подскочил, резко развернулся на месте и рванул, сначала зигзагами, дриблингом, а потом понесся прямо на шар, вычерчивая на траве такую арабеску, что похоже было, будто Силен ставит подпись. Собственно говоря, это и была его подпись.
Он запрыгнул назад в буер — я так и не понял, был тот парусным, винтовым, змейковым или воздушным, — и одним махом настроил целую кучу небольших треугольных парусов, вдавил обе педали, винты загудели, завертелись, буер подскочил, резко развернулся на месте и рванул, сначала зигзагами, дриблингом, а потом понесся прямо на шар, вычерчивая на траве такую арабеску, что похоже было, будто Силен ставит подпись. Собственно говоря, это и была его подпись.
 (Украдкой, тишком) я бы присоединился к кому-нибудь на огонек, подобрался к одному из костров, дырявящих (тут и там) черную прерию. Я был пьян и в острой фазе ностальгического Ларкоза, голова в маревах. Что указало бы мне путь (помимо желания сбежать от тела Кориолис, опрокинувшегося в руки какому-то матросу)? Голос Караколя. Он донесся до меня, подобрал, повлек за собой, и я отыскал его источник (как раз у такого вот костра, он сидел, скрестив ноги лотосом, рядом с каким-то плотным, загорелым и бородатым мужчиной). По их взгляду я понял, что мое присутствие было не слишком желанным, однако же они меня приняли, не прервав тем не менее разговора,
(Украдкой, тишком) я бы присоединился к кому-нибудь на огонек, подобрался к одному из костров, дырявящих (тут и там) черную прерию. Я был пьян и в острой фазе ностальгического Ларкоза, голова в маревах. Что указало бы мне путь (помимо желания сбежать от тела Кориолис, опрокинувшегося в руки какому-то матросу)? Голос Караколя. Он донесся до меня, подобрал, повлек за собой, и я отыскал его источник (как раз у такого вот костра, он сидел, скрестив ноги лотосом, рядом с каким-то плотным, загорелым и бородатым мужчиной). По их взгляду я понял, что мое присутствие было не слишком желанным, однако же они меня приняли, не прервав тем не менее разговора,
 Совершенно оглушенные Леарх, Степп и Барбак с трудом поднялись на ноги. Я стоял рядом с Совом, объяснявшим мне то, что я и так уже знал: дуэль началась. Бой проходил согласно Кодексу Кер Дербана. Вельд весь был прочесан и примят усиливающимся ветром, время от времени полная луна показывалась из-за облаков, и тогда можно было разглядеть бугры и ложбины в серебрившейся перед нами высокотравной прерии. Эрг неожиданно выскочил из сбившегося в кучу купола бывшего монгольфьера, и засевший в буере Силен тотчас же открыл обстрел из гарпунометателя. Он словно вальсировал на своем буере: раз, два, три… Вылетающие стрелой гарпуны щелкали своими тросами, как натянутой тетивой, и сматывались назад под аккомпанемент несущего винта. В Эрга ни один не попал, но ответный огонь он открывать не стал. Не с земли.
— Взлетай давай, пока небо чистое… — шептал про себя Степп.
Совершенно оглушенные Леарх, Степп и Барбак с трудом поднялись на ноги. Я стоял рядом с Совом, объяснявшим мне то, что я и так уже знал: дуэль началась. Бой проходил согласно Кодексу Кер Дербана. Вельд весь был прочесан и примят усиливающимся ветром, время от времени полная луна показывалась из-за облаков, и тогда можно было разглядеть бугры и ложбины в серебрившейся перед нами высокотравной прерии. Эрг неожиданно выскочил из сбившегося в кучу купола бывшего монгольфьера, и засевший в буере Силен тотчас же открыл обстрел из гарпунометателя. Он словно вальсировал на своем буере: раз, два, три… Вылетающие стрелой гарпуны щелкали своими тросами, как натянутой тетивой, и сматывались назад под аккомпанемент несущего винта. В Эрга ни один не попал, но ответный огонь он открывать не стал. Не с земли.
— Взлетай давай, пока небо чистое… — шептал про себя Степп.
 Караколь снова замолчал. Он слегка поворошил огонь своим бумерангом, а затем медленно провел по лицу ладонями (словно хотел вслепую ощупать его бугристости и шероховатости или убедиться, что оно по-прежнему на месте):
— Монотонности не существует как таковой. Она не более чем симптом усталости. Каждый может узреть разнообразие прямо у себя под ногами, если только ему достанет силы и проницательности. Так говорил Лердоан, не правда ли? Именно это я для себя и уяснил. В опреде-
Караколь снова замолчал. Он слегка поворошил огонь своим бумерангом, а затем медленно провел по лицу ладонями (словно хотел вслепую ощупать его бугристости и шероховатости или убедиться, что оно по-прежнему на месте):
— Монотонности не существует как таковой. Она не более чем симптом усталости. Каждый может узреть разнообразие прямо у себя под ногами, если только ему достанет силы и проницательности. Так говорил Лердоан, не правда ли? Именно это я для себя и уяснил. В опреде-
 Наконец Эрг достал свой боевой параплан: короткое крыло, позволяющее не сбиваться с курса даже при стеше, которое специально для него разработала Ороси. На подошвах он зафиксировал по горизонтальному винту и быстро оторвался от земли, повернувшись к ветру спиной и поджав в полете ноги. Ветер привел винты в движение: они служили одновременно и для коротких, резких толчков при уклонах от атак, и как щит. Силен беспрестанно перемещался, его буер, слегка задевая под собой траву, перескакивал рывками с места на место. Он продолжал обстрел из гарпунометателя, но слишком короткие тросы не долетали до цели. Затем последовал шквальный огонь, дробь, камни, вырывающиеся из одной из труб. Эрг явно не справлялся с такой скоростью. Ему не удавалось
Наконец Эрг достал свой боевой параплан: короткое крыло, позволяющее не сбиваться с курса даже при стеше, которое специально для него разработала Ороси. На подошвах он зафиксировал по горизонтальному винту и быстро оторвался от земли, повернувшись к ветру спиной и поджав в полете ноги. Ветер привел винты в движение: они служили одновременно и для коротких, резких толчков при уклонах от атак, и как щит. Силен беспрестанно перемещался, его буер, слегка задевая под собой траву, перескакивал рывками с места на место. Он продолжал обстрел из гарпунометателя, но слишком короткие тросы не долетали до цели. Затем последовал шквальный огонь, дробь, камни, вырывающиеся из одной из труб. Эрг явно не справлялся с такой скоростью. Ему не удавалось
 — Я хотел тебя кое о чем спросить, Лердоан. С недавних пор я все чаще и чаще думаю об этом.
— Спрашивай.
— Ты видел, как я представлял Орду. У тебя было время внимательно понаблюдать за мной со стороны.
— Да, верно.
— Как ты считаешь, я так же быстр, как и раньше, настолько же легок в движениях?
Старик раскрыл перед собой в воздухе ладонь и сжал, словно зажимая в кулак турбулу ветра (или же фильтруя ее?). Голос его звучал удивительно ясно для такого возраста:
— Это разные вопросы, если позволишь заметить. Здесь все как при нотации ветра или узлов боя: скорость может быть очень высокой в количественном отношении, но при этом она не будет отличаться особой быстротой. И наоборот, движение может быть поразительно медленным и при этом оказаться молниеносным.
— Не уверен, что я тебя понимаю.
— Я видел, как ты бросал бумеранг в человека по имени Силен. Если оценивать скорость, с которой при этом двигалась твоя рука, то броски были очень быстрыми. Но ты не вложил в них ровным счетом никакого движения. Просто забавлялся. Поэтому Силену хватило пары легких поворотов головы, чтобы увернуться от атак. Он был жив. Ты был скор.
— В чем разница?
— Это непросто объяснить. Представь себе, что у скорости есть три измерения. И что они также являются
— Я хотел тебя кое о чем спросить, Лердоан. С недавних пор я все чаще и чаще думаю об этом.
— Спрашивай.
— Ты видел, как я представлял Орду. У тебя было время внимательно понаблюдать за мной со стороны.
— Да, верно.
— Как ты считаешь, я так же быстр, как и раньше, настолько же легок в движениях?
Старик раскрыл перед собой в воздухе ладонь и сжал, словно зажимая в кулак турбулу ветра (или же фильтруя ее?). Голос его звучал удивительно ясно для такого возраста:
— Это разные вопросы, если позволишь заметить. Здесь все как при нотации ветра или узлов боя: скорость может быть очень высокой в количественном отношении, но при этом она не будет отличаться особой быстротой. И наоборот, движение может быть поразительно медленным и при этом оказаться молниеносным.
— Не уверен, что я тебя понимаю.
— Я видел, как ты бросал бумеранг в человека по имени Силен. Если оценивать скорость, с которой при этом двигалась твоя рука, то броски были очень быстрыми. Но ты не вложил в них ровным счетом никакого движения. Просто забавлялся. Поэтому Силену хватило пары легких поворотов головы, чтобы увернуться от атак. Он был жив. Ты был скор.
— В чем разница?
— Это непросто объяснить. Представь себе, что у скорости есть три измерения. И что они также являются
 Для Эрга дела шли хуже некуда. Он уже больше четверти часа извивался в небе, как мечущаяся в безысход-
Для Эрга дела шли хуже некуда. Он уже больше четверти часа извивался в небе, как мечущаяся в безысход-
 Силен катапультировался из буера, и теперь его черное крыло сливалось с парящими в десятке метров над землей шарами аэробомб. Эрг отлично вел бой. Он позволял Силену атаковать, расходовать снаряды, давал ему возможность двигаться, изучая при этом его технику. Он ясно понимал, что маневры Силена подчиняются определенным правилам, траектории, особому ритму. Для любого неофита мастер искусства молнии был совершен-
Силен катапультировался из буера, и теперь его черное крыло сливалось с парящими в десятке метров над землей шарами аэробомб. Эрг отлично вел бой. Он позволял Силену атаковать, расходовать снаряды, давал ему возможность двигаться, изучая при этом его технику. Он ясно понимал, что маневры Силена подчиняются определенным правилам, траектории, особому ритму. Для любого неофита мастер искусства молнии был совершен-
 — Третье измерение скорости самое неуловимое. С его воплощениями редко можно столкнуться. Ты, Караколь, на мой взгляд, один из тех немногих, кого я встречал в этой жизни, в ком оно время от времени прорывается, вспыхивает, проносится как стрела. Это измерение скорости я называю живостью, вихрем. Она тайком пристраивается рядом со смертью, орудующей в каждом, она предотвращает ее и отдаляет от нас. Живость не имеет отношения ни к пространству, ни к протяженности во времени. Она не совершает никаких изгибов или расколов в заранее намеченном переплетении осей, как это делает движение. Внезапность ее проявления абсолютна и безусловна. Она привносит в поток ветра, в жизнь, в мысль, мельчайшее отклонение, делает свой крохотный вклад, подбрасывает едва заметную крупицу, и все разлетается вдребезги… Нужно понимать, что Сдвиг создает перелом поверхностный, заметный человеку, а следовательно, ограниченный его восприятием. Строго говоря, он всегда пребывает в состоянии непрерывной трансформации.
— Живость — это нечто совсем иное…
— Третье измерение скорости самое неуловимое. С его воплощениями редко можно столкнуться. Ты, Караколь, на мой взгляд, один из тех немногих, кого я встречал в этой жизни, в ком оно время от времени прорывается, вспыхивает, проносится как стрела. Это измерение скорости я называю живостью, вихрем. Она тайком пристраивается рядом со смертью, орудующей в каждом, она предотвращает ее и отдаляет от нас. Живость не имеет отношения ни к пространству, ни к протяженности во времени. Она не совершает никаких изгибов или расколов в заранее намеченном переплетении осей, как это делает движение. Внезапность ее проявления абсолютна и безусловна. Она привносит в поток ветра, в жизнь, в мысль, мельчайшее отклонение, делает свой крохотный вклад, подбрасывает едва заметную крупицу, и все разлетается вдребезги… Нужно понимать, что Сдвиг создает перелом поверхностный, заметный человеку, а следовательно, ограниченный его восприятием. Строго говоря, он всегда пребывает в состоянии непрерывной трансформации.
— Живость — это нечто совсем иное…
 В течение нескольких минут ни Эрг, ни Силен не отрывали огонь. Они кружили среди аэробомб и тщательно присматривались друг к другу. Эрг закрепил по винту на обеих руках, чуть пониже локтя, в специальных выемках в броне. Он был в защитном отступлении. Чтобы обеспечить винтам непрерывное вращение, он скрещивал руки в полете, когда оказывался лицом к ветру, и раскрывал крестом, когда находился с подветренной стороны. Луна то светила, то угасала за облаками. Аэробомбы были надуты сжатым воздухом и наполнены дробью. Одного взрыва хватило бы, чтобы спровоцировать цепную реакцию. Хотя, может, и нет. Силен вдруг словно сорвался с
В течение нескольких минут ни Эрг, ни Силен не отрывали огонь. Они кружили среди аэробомб и тщательно присматривались друг к другу. Эрг закрепил по винту на обеих руках, чуть пониже локтя, в специальных выемках в броне. Он был в защитном отступлении. Чтобы обеспечить винтам непрерывное вращение, он скрещивал руки в полете, когда оказывался лицом к ветру, и раскрывал крестом, когда находился с подветренной стороны. Луна то светила, то угасала за облаками. Аэробомбы были надуты сжатым воздухом и наполнены дробью. Одного взрыва хватило бы, чтобы спровоцировать цепную реакцию. Хотя, может, и нет. Силен вдруг словно сорвался с
 Бомбы взрывались, как черные луны. У меня духу недоставало взглянуть в сторону Эрга. Я боялся увидеть, что вместо человека под лохмотьями параплана висит кусок изрубленного мяса.
— Он жив! — проревел в конце концов Степп.
И в самом деле, в небе показалось крыло, небезопасно лавировавшее между двумя медузами. Эрг, аккуратно притрагиваясь к шарам, столкнул их вниз, и когда они уже вот-вот должны были коснуться земли, взорвал их, выстрелив из арбамата. Но напрасно: Силен сделал скачок, взлетев на пятнадцать метров вверх, и совершенно наглым образом полетел прямо на Эрга, применив технику
Бомбы взрывались, как черные луны. У меня духу недоставало взглянуть в сторону Эрга. Я боялся увидеть, что вместо человека под лохмотьями параплана висит кусок изрубленного мяса.
— Он жив! — проревел в конце концов Степп.
И в самом деле, в небе показалось крыло, небезопасно лавировавшее между двумя медузами. Эрг, аккуратно притрагиваясь к шарам, столкнул их вниз, и когда они уже вот-вот должны были коснуться земли, взорвал их, выстрелив из арбамата. Но напрасно: Силен сделал скачок, взлетев на пятнадцать метров вверх, и совершенно наглым образом полетел прямо на Эрга, применив технику
 — Возвращаясь к твоему вопросу, Караколь, скажу, что ты больше не обладаешь такой скоростью, как раньше. Ни в действиях, ни в мыслях. Ты больше не перескакиваешь от одной идеи к другой, от шутки к фарсу, с той виртуозностью, с какой ты делал это прежде.
— Почему так, Лердоан?
— Ты сам знаешь почему. Потому что становишься человеком из плоти, потому что привязываешься к другим. Потому что все больше и больше понимаешь, что такое
— Возвращаясь к твоему вопросу, Караколь, скажу, что ты больше не обладаешь такой скоростью, как раньше. Ни в действиях, ни в мыслях. Ты больше не перескакиваешь от одной идеи к другой, от шутки к фарсу, с той виртуозностью, с какой ты делал это прежде.
— Почему так, Лердоан?
— Ты сам знаешь почему. Потому что становишься человеком из плоти, потому что привязываешься к другим. Потому что все больше и больше понимаешь, что такое
 Хотя звук от удара Силена был, конечно, жесткий, нос у Эрга, кажется, остался относительно целым. Эрг проделал одну за другой три мертвых петли головой назад, затем поднялся вверх ровно по вертикали и затерялся в рваных облаках, прикрывающих луну. Силен погнался за ним: зиг — ломаная линия, заг — неуловимо и гладко. Вдалеке по-прежнему был в разгаре фреольский праздник. В доносившихся до нас звуках духовых даже было что-то успокаивающее. Эргу не справиться с Силеном в рукопашном, это ясно. Лучше бы он достал один из своих винтов. Нужно, чтобы он вывел Силена на метательный бой, в этом Эрг — ас. А если не получится, нужно постараться свести к ничьей. Устроить пат. Продержаться до рассвета. Мне было страшно. Мы всегда видели превосходство нашего защитника в бою, он неизменно и безусловно одерживал победу. В считаные минуты. Мы думали, что он непобедим…
Да, они не первого встречного Преследователя на нас натравили. И его не случайно обучили в Кер Дербане. И не кто попало, а кто-то, отлично знавший Эрга. Противостоять воину Движения было для него самым трудным. Он терпеть не мог долгих боев. Вся его система нападения строилась на бросках средней дистанции и на полнообъемной защите той зоны, которую позволяла прикрывать
Хотя звук от удара Силена был, конечно, жесткий, нос у Эрга, кажется, остался относительно целым. Эрг проделал одну за другой три мертвых петли головой назад, затем поднялся вверх ровно по вертикали и затерялся в рваных облаках, прикрывающих луну. Силен погнался за ним: зиг — ломаная линия, заг — неуловимо и гладко. Вдалеке по-прежнему был в разгаре фреольский праздник. В доносившихся до нас звуках духовых даже было что-то успокаивающее. Эргу не справиться с Силеном в рукопашном, это ясно. Лучше бы он достал один из своих винтов. Нужно, чтобы он вывел Силена на метательный бой, в этом Эрг — ас. А если не получится, нужно постараться свести к ничьей. Устроить пат. Продержаться до рассвета. Мне было страшно. Мы всегда видели превосходство нашего защитника в бою, он неизменно и безусловно одерживал победу. В считаные минуты. Мы думали, что он непобедим…
Да, они не первого встречного Преследователя на нас натравили. И его не случайно обучили в Кер Дербане. И не кто попало, а кто-то, отлично знавший Эрга. Противостоять воину Движения было для него самым трудным. Он терпеть не мог долгих боев. Вся его система нападения строилась на бросках средней дистанции и на полнообъемной защите той зоны, которую позволяла прикрывать
 Возможно, благодаря отдаленной позиции я был единственным свидетелем хладнокровия, которое проявил наш боец. Чисто рефлекторно он зацепил парусину своего крыла концом палки и, воспользовавшись скоростью падения, раскрутил винты на ногах. В пяти метрах от земли одним рывком он вдруг перевернулся вверх ногами и, широко разведя ноги, опустился на ножных винтах на землю, подстелив на вытянутых руках парусину вместо матраса. Прокатившись по земле кувырком, он схватил штык и стал ждать Силена. Он был всего в нескольких шагах от меня:
— В сторону, Сов! Вы в зоне боя. Он сейчас заминирует поле!
— Что?
— Выйти из зоны боя! Дербелен!
Я никогда не испытывал теплых чувств к Эргу Махаону, ни мне всегда казался слишком мрачным собеседником и к тому же немного параноиком. Но в этот миг я увидел его таким, каким должен был видеть всегда: единственным человеком, который положит свою жизнь на защиту наших шкур. Его горсовые доспехи были глубоко изрублены
Возможно, благодаря отдаленной позиции я был единственным свидетелем хладнокровия, которое проявил наш боец. Чисто рефлекторно он зацепил парусину своего крыла концом палки и, воспользовавшись скоростью падения, раскрутил винты на ногах. В пяти метрах от земли одним рывком он вдруг перевернулся вверх ногами и, широко разведя ноги, опустился на ножных винтах на землю, подстелив на вытянутых руках парусину вместо матраса. Прокатившись по земле кувырком, он схватил штык и стал ждать Силена. Он был всего в нескольких шагах от меня:
— В сторону, Сов! Вы в зоне боя. Он сейчас заминирует поле!
— Что?
— Выйти из зоны боя! Дербелен!
Я никогда не испытывал теплых чувств к Эргу Махаону, ни мне всегда казался слишком мрачным собеседником и к тому же немного параноиком. Но в этот миг я увидел его таким, каким должен был видеть всегда: единственным человеком, который положит свою жизнь на защиту наших шкур. Его горсовые доспехи были глубоко изрублены
 Я явно был не в теме сегодня вечером, ни здесь, ни там, ни на празднике. Мозг разжижался в черепной коринке каждый раз, как в нее встревал образ Кориолис. Мне хотелось разреветься. Время от времени я все-таки поднимал голову, но просто так, для вида. На самом деле мне просто было лень отсюда уходить. А потом вдруг стало чертовски интересно, и я зацепился за разговор:
— А я как раз думал, ощущаешь ли ты бой…
— Более чем. Он очень явный.
— Структура ветра резаная вплоть досюда из-за пробоев Силена. Он стал выдающимся мастером искусства молнии. Ты боишься за Эрга, не так ли?
— Откровенно говоря, да.
— Да, я тебя понимаю. Ему придется нелегко. Как и в любом бою, это будет схватка скоростей по трем измерениям: скорость, движение и мощность живости. Победу одержит тот, кто сумеет заманить другого в измерение, которым владеет лучше всего.
— У Эрга хорошо со скоростью, особенно в метании. Я бы сказал, что под грубым и неотесанным наростом у него припрятана определенная гибкость, подвижность души. Он не зацикливается на первоначальной стратегии, он без конца ее модулирует, движется, адаптируется…
— Я немного знаю Силена. Он иногда как ударом молнии достигает той точки, когда движение становится настолько быстрым, что, кажется, сливается с выплеском самой живости. У него для этого есть особые приемы мышечной релаксации, инерционных движений, они превышают возможности тела, движущегося динамически. Помимо этого он использует скорость стихий. Признаюсь, мне
Я явно был не в теме сегодня вечером, ни здесь, ни там, ни на празднике. Мозг разжижался в черепной коринке каждый раз, как в нее встревал образ Кориолис. Мне хотелось разреветься. Время от времени я все-таки поднимал голову, но просто так, для вида. На самом деле мне просто было лень отсюда уходить. А потом вдруг стало чертовски интересно, и я зацепился за разговор:
— А я как раз думал, ощущаешь ли ты бой…
— Более чем. Он очень явный.
— Структура ветра резаная вплоть досюда из-за пробоев Силена. Он стал выдающимся мастером искусства молнии. Ты боишься за Эрга, не так ли?
— Откровенно говоря, да.
— Да, я тебя понимаю. Ему придется нелегко. Как и в любом бою, это будет схватка скоростей по трем измерениям: скорость, движение и мощность живости. Победу одержит тот, кто сумеет заманить другого в измерение, которым владеет лучше всего.
— У Эрга хорошо со скоростью, особенно в метании. Я бы сказал, что под грубым и неотесанным наростом у него припрятана определенная гибкость, подвижность души. Он не зацикливается на первоначальной стратегии, он без конца ее модулирует, движется, адаптируется…
— Я немного знаю Силена. Он иногда как ударом молнии достигает той точки, когда движение становится настолько быстрым, что, кажется, сливается с выплеском самой живости. У него для этого есть особые приемы мышечной релаксации, инерционных движений, они превышают возможности тела, движущегося динамически. Помимо этого он использует скорость стихий. Признаюсь, мне

 Одним взмахом крыла Силен очутился рядом с Барбаком, подхватил его и перенес прямо к нам. Вне заминированной зоны. Вместо ног у буксировщика было сплошное кровавое месиво. Я боялся, что он не выживет. Но он был в сознании. Оставаясь верным кодексу Кер Дербана, Эрг не воспользовался этим временем ни для того, чтобы занять более выгодную позицию, ни чтобы выстрелить. Его крыло погибло, и он был обречен вести дальнейший бой в двух оставшихся измерениях. Из всех боеприпасов у него оставалось всего-навсего три погнутых винта, которыми он отбивался от ударов Силена в воздухе и которые теперь зафиксировал на спине, плюс арбамат, прикрепленный ремнем к левому предплечью, да, может, пара стрел, несколько широких дисков, похожих на глубокие блюдца, и три выпускных троса, те запускались в ротационном режиме на очень высокой скорости, а потому назывались вертотросами.
Стратегия Силена была весьма очевидна. Взяв контроль над воздушным пространством, он таким образом получал контроль и над земным. Со своей позиции он считывал расположение мин без малейшего труда, тогда как Эргу в зарослях травы было далеко не просто определить минированные места. Преследователь мог запросто навести нашего защитника на мину. Мог и сам взорвать любую из них одним выстрелом. Вся земля была перепахана, воздушное же пространство — беспрепятственно. Первый принцип Движения соблюден. Прерия превратились в смертоносную шахматную доску, что очень затрудняло передвижения Эрга, тогда как у Силена сохранялась полная свобода удара-уклона. Эрг это знал. Он отыскивал мины, с высочайшей осторожностью перемещал некоторые из них, расчищая поле. Но Силен не давал ему ни секунды передышки, запускал в воздух пикирующие диски,
Одним взмахом крыла Силен очутился рядом с Барбаком, подхватил его и перенес прямо к нам. Вне заминированной зоны. Вместо ног у буксировщика было сплошное кровавое месиво. Я боялся, что он не выживет. Но он был в сознании. Оставаясь верным кодексу Кер Дербана, Эрг не воспользовался этим временем ни для того, чтобы занять более выгодную позицию, ни чтобы выстрелить. Его крыло погибло, и он был обречен вести дальнейший бой в двух оставшихся измерениях. Из всех боеприпасов у него оставалось всего-навсего три погнутых винта, которыми он отбивался от ударов Силена в воздухе и которые теперь зафиксировал на спине, плюс арбамат, прикрепленный ремнем к левому предплечью, да, может, пара стрел, несколько широких дисков, похожих на глубокие блюдца, и три выпускных троса, те запускались в ротационном режиме на очень высокой скорости, а потому назывались вертотросами.
Стратегия Силена была весьма очевидна. Взяв контроль над воздушным пространством, он таким образом получал контроль и над земным. Со своей позиции он считывал расположение мин без малейшего труда, тогда как Эргу в зарослях травы было далеко не просто определить минированные места. Преследователь мог запросто навести нашего защитника на мину. Мог и сам взорвать любую из них одним выстрелом. Вся земля была перепахана, воздушное же пространство — беспрепятственно. Первый принцип Движения соблюден. Прерия превратились в смертоносную шахматную доску, что очень затрудняло передвижения Эрга, тогда как у Силена сохранялась полная свобода удара-уклона. Эрг это знал. Он отыскивал мины, с высочайшей осторожностью перемещал некоторые из них, расчищая поле. Но Силен не давал ему ни секунды передышки, запускал в воздух пикирующие диски,
 Давай, макака, делай вид, что выдохся. Пусть подойдет поближе. Еще ближе. У меня все мины в башке записаны, все поле целиком. «Молния расслабляется, когда доминирует. Пускай атакует, пока уверенность не зашкалит. Ждать, пока на ударе не сосредоточится, который должен тебя прикончить, пока не забудет сменить очередную, сто первую траекторию уклона». Я снова, как тогда, в свои тринадцать, слышу голос Тэ Джеркка, слышу его смех, у меня перед глазами всплывает тот бой. «Всегда момент, когда ты знать повторять. Повторять, повторять. Бить один удар, макака, ты больше не варьировать, ты вводить его в рутину твою… Снова, снова. Он истощаться. Траектории-уклоны не бесконечны. Присматриваться. Ты узнаешь одну. Одной достаточно. Одной! И тогда, Эрго, бей, и конец…». Я снова вижу его лицом к лицу с тем Диагональщиком, четвертным по молнии, который на меня тогда нехилое впечатление произвел. Тэ Джеркка в воздухе завис.
Давай, макака, делай вид, что выдохся. Пусть подойдет поближе. Еще ближе. У меня все мины в башке записаны, все поле целиком. «Молния расслабляется, когда доминирует. Пускай атакует, пока уверенность не зашкалит. Ждать, пока на ударе не сосредоточится, который должен тебя прикончить, пока не забудет сменить очередную, сто первую траекторию уклона». Я снова, как тогда, в свои тринадцать, слышу голос Тэ Джеркка, слышу его смех, у меня перед глазами всплывает тот бой. «Всегда момент, когда ты знать повторять. Повторять, повторять. Бить один удар, макака, ты больше не варьировать, ты вводить его в рутину твою… Снова, снова. Он истощаться. Траектории-уклоны не бесконечны. Присматриваться. Ты узнаешь одну. Одной достаточно. Одной! И тогда, Эрго, бей, и конец…». Я снова вижу его лицом к лицу с тем Диагональщиком, четвертным по молнии, который на меня тогда нехилое впечатление произвел. Тэ Джеркка в воздухе завис.
 Тут не нужно было заканчивать никакой Кер Дербан, чтобы понять: силы у Эрга на исходе. Он больше даже не пытался вырваться из этой ловушки, просто продолжал получать камнями по телу. Терпел, пошатывался… Отбивался, периодически отстреливался только от самых жестких ударов. Был, как раненый лев, который своим ревом пытается отсрочить момент, когда в него вопьются роковые клыки торжествующих гиен. Облака разошлись, и в свете раздетой луны Силен рассекал по небу со своей неизменно чудовищной скоростью, со своей манерой переноситься из одной точки земли или неба в другую, так что невозможно было даже примерно угадать его траекторию, когда он свернет, когда спикирует, когда и чем нанесет удар — бумом, винтом, камнями?
— Нужно ему помочь! Мы же не можем вот так просто дать Эргу сдохнуть у нас на глазах!
— Нужно всем вместе атаковать. Должен же этот ублюдок когда-то окочуриться.
— Давайте заслоном!
Тут не нужно было заканчивать никакой Кер Дербан, чтобы понять: силы у Эрга на исходе. Он больше даже не пытался вырваться из этой ловушки, просто продолжал получать камнями по телу. Терпел, пошатывался… Отбивался, периодически отстреливался только от самых жестких ударов. Был, как раненый лев, который своим ревом пытается отсрочить момент, когда в него вопьются роковые клыки торжествующих гиен. Облака разошлись, и в свете раздетой луны Силен рассекал по небу со своей неизменно чудовищной скоростью, со своей манерой переноситься из одной точки земли или неба в другую, так что невозможно было даже примерно угадать его траекторию, когда он свернет, когда спикирует, когда и чем нанесет удар — бумом, винтом, камнями?
— Нужно ему помочь! Мы же не можем вот так просто дать Эргу сдохнуть у нас на глазах!
— Нужно всем вместе атаковать. Должен же этот ублюдок когда-то окочуриться.
— Давайте заслоном!
 Три! Сразу три винта одним броском! Вырвались из якобы поврежденной руки Эрга. Чудесная уловка! Крыло Силена разорвалось в клочья, и он рухнул на землю. Жестко, на полной скорости.
— Барнак!
— Ха!
— Это еще не конец, не конец…
— Осторожно!
Три! Сразу три винта одним броском! Вырвались из якобы поврежденной руки Эрга. Чудесная уловка! Крыло Силена разорвалось в клочья, и он рухнул на землю. Жестко, на полной скорости.
— Барнак!
— Ха!
— Это еще не конец, не конец…
— Осторожно!
 Силен поднялся. Но медленно… Впервые за все это время — медленно! Мы все подошли поближе, чтобы как можно лучше увидеть, несмотря на мины, несмотря на официальный запрет, несмотря на Кер Дербан и этот их идиотский кодекс, увидеть, что он… Всей своей мышечной массой Эрг напрягся и встал, черный гребень волос, как
Силен поднялся. Но медленно… Впервые за все это время — медленно! Мы все подошли поближе, чтобы как можно лучше увидеть, несмотря на мины, несмотря на официальный запрет, несмотря на Кер Дербан и этот их идиотский кодекс, увидеть, что он… Всей своей мышечной массой Эрг напрягся и встал, черный гребень волос, как
 — Я чувствую сильное волнение в структуре Ветра, Лердоан… Что-то очень мощное.
— Это сжимается вихрь. Я тоже его ощущаю. Очень грустно и прекрасно одновременно. Кто-то только что умер. Кто-то необычайно сильный, кто-то, уже переживший себя.
Так, ладно, в общем, вы поняли… Я очутился в самом стремном месте на всем фреольском празднике, с похмельем и в компании Караколя, тусклого, как безмаревый день, и какого-то старика, который возомнил себя ветровым шаманом и который (позволю себе сказать) вряд ли устоял бы на ногах даже под зефирином. Но я все-таки слушал (на всякий случай). Но их послушать, так они обо
— Я чувствую сильное волнение в структуре Ветра, Лердоан… Что-то очень мощное.
— Это сжимается вихрь. Я тоже его ощущаю. Очень грустно и прекрасно одновременно. Кто-то только что умер. Кто-то необычайно сильный, кто-то, уже переживший себя.
Так, ладно, в общем, вы поняли… Я очутился в самом стремном месте на всем фреольском празднике, с похмельем и в компании Караколя, тусклого, как безмаревый день, и какого-то старика, который возомнил себя ветровым шаманом и который (позволю себе сказать) вряд ли устоял бы на ногах даже под зефирином. Но я все-таки слушал (на всякий случай). Но их послушать, так они обо
 Пьетро отправил Степпа за Голготом и остальными, кого найдет. Первой прибежала Альма, с помятым ото сна
Пьетро отправил Степпа за Голготом и остальными, кого найдет. Первой прибежала Альма, с помятым ото сна
 Караколя (и меня вместе с ним) немного вывели намеки его дружка Лердоана. Только что? Эрг победил, что тут неясного? В чем это кучка придурков из Движения ныла лучше нас?
— Кто-то вмешался в бой. Кто-то, кто обладает вихрем, живостью. Кто, вполне возможно, даже черпает из нее
Караколя (и меня вместе с ним) немного вывели намеки его дружка Лердоана. Только что? Эрг победил, что тут неясного? В чем это кучка придурков из Движения ныла лучше нас?
— Кто-то вмешался в бой. Кто-то, кто обладает вихрем, живостью. Кто, вполне возможно, даже черпает из нее
 Когда пришел Голгот, наш круг расступился, чтобы он миг поближе подойти к трупу. Он на него посмотрел как ни в чем не бывало и просто заметил вслух:
— Из Движения чел.
— Это что, по лицу видно?
— По ранам. Чтоб после такого боя с макакой в противниках у чувака кровь не хлестала изо всех дыр, такое не частяк случается. Я этого типа знаю.
— Кто это?
— Брательник его.
— Чей его?
— Брат пацана, с которым у меня должно было быть состязание по трассировщице, когда мне на счетчик десяток лет накапало. Того, который утром не проснулся. Они были близнецы. Настоящие. Как вода друг с другом связанные.
Голгот присел, взял обеими руками за уши то, что осталось от Силена, притянул его лицо к своему и пристально посмотрел ему в глаза. Жестом попросил нас оставить его одного, и мы отошли в сторону. И тогда он стал с ним говорить. Он говорил и говорил. Протяжный рокот с криками и даже с резкими, сумасшедшими жестами. Не знаю, сколько времени это все длилось. В конце концов Голгот опустил труп и вернулся к нам. Лицо у него было опустошенное. Он подошел к Эргу, у которого из плеча кровь сочилась прямо через повязку, и крикнул:
— Кер Варак!
Когда пришел Голгот, наш круг расступился, чтобы он миг поближе подойти к трупу. Он на него посмотрел как ни в чем не бывало и просто заметил вслух:
— Из Движения чел.
— Это что, по лицу видно?
— По ранам. Чтоб после такого боя с макакой в противниках у чувака кровь не хлестала изо всех дыр, такое не частяк случается. Я этого типа знаю.
— Кто это?
— Брательник его.
— Чей его?
— Брат пацана, с которым у меня должно было быть состязание по трассировщице, когда мне на счетчик десяток лет накапало. Того, который утром не проснулся. Они были близнецы. Настоящие. Как вода друг с другом связанные.
Голгот присел, взял обеими руками за уши то, что осталось от Силена, притянул его лицо к своему и пристально посмотрел ему в глаза. Жестом попросил нас оставить его одного, и мы отошли в сторону. И тогда он стал с ним говорить. Он говорил и говорил. Протяжный рокот с криками и даже с резкими, сумасшедшими жестами. Не знаю, сколько времени это все длилось. В конце концов Голгот опустил труп и вернулся к нам. Лицо у него было опустошенное. Он подошел к Эргу, у которого из плеча кровь сочилась прямо через повязку, и крикнул:
— Кер Варак!
 На следующий день все как-то не клеилось. Фреольцы, еще не отошедшие от вчерашних гуляний, вели себя бесцеремонно и непринужденно, хотя при этом вполне активно управлялись с маневрами судна. А мы после случившегося были совершенно разбиты, бродили, как тени, с ввалившимися глазами после бессонной ночи. Если б не этот голем из окаменевшего мха, мы бы вообще вряд ли и живых остались, так что еще радоваться нужно было, что он таки соизволил перерезать горло Преследователю и положил конец неминуемой агонии Эрга. В общем, разница между нами была весьма ощутимая.
За двадцать восемь лет контра, всякого рода боев и и схваток мы натерпелись порядочно, это факт. Но все это стало для нас почти рутиной. Когда ты уверен в без сбоев работающей механике побед, чувство страха со временем притупляется и ты уже не приходишь в ужас, как когда тебе всего пятнадцать, а тебе с низовья наперерез идут контровые пираты. Эрг очень быстро, да что там быстро, моментально, достиг уровня, который от него требовался для роли защитника. Где бы мы ни были, что бы ни происходило, будь он наготове или застигнут врасплох, он всегда побеждал в бою. Он мог сражаться прочив кого угодно: грабителей, крытней, золотоискателей,
На следующий день все как-то не клеилось. Фреольцы, еще не отошедшие от вчерашних гуляний, вели себя бесцеремонно и непринужденно, хотя при этом вполне активно управлялись с маневрами судна. А мы после случившегося были совершенно разбиты, бродили, как тени, с ввалившимися глазами после бессонной ночи. Если б не этот голем из окаменевшего мха, мы бы вообще вряд ли и живых остались, так что еще радоваться нужно было, что он таки соизволил перерезать горло Преследователю и положил конец неминуемой агонии Эрга. В общем, разница между нами была весьма ощутимая.
За двадцать восемь лет контра, всякого рода боев и и схваток мы натерпелись порядочно, это факт. Но все это стало для нас почти рутиной. Когда ты уверен в без сбоев работающей механике побед, чувство страха со временем притупляется и ты уже не приходишь в ужас, как когда тебе всего пятнадцать, а тебе с низовья наперерез идут контровые пираты. Эрг очень быстро, да что там быстро, моментально, достиг уровня, который от него требовался для роли защитника. Где бы мы ни были, что бы ни происходило, будь он наготове или застигнут врасплох, он всегда побеждал в бою. Он мог сражаться прочив кого угодно: грабителей, крытней, золотоискателей,
 Вся фреольская мелюзга развалилась на своих шелковых замызганных подушечках, всех искусанных, изорванных и затоптанных на переменах. Расселись слюнтяи полукругом и уши развесили, слушают не налюбуются, как их шлюшка учительница расстилается перед ними, устроила развлекуху, как на карнавале, рисуночки им рисует, сказочки рассказывает, игры тупоголовые устраивает… Может, еще пойдет пооблизывает их, раз она такая любвеобильная? Я в их возрасте тоже на корабле торчал, только он меня из верховья в Аберлаас тащил. Я в их возрасте учился стоять против ветра, с вентилятором в рыло. Не было у меня никаких игрушечек, подушечек, рисуночков и шалав-училочек. И учился я лучше и быстрее, чем вся эта розовощекая мелочь, я руку в хрон готов засунуть, если кто не верит. Это коммодор попросил, а ему я отказать не мог, чтоб я, Пьетро и еще кто-нибудь из ордийцев — я Каллирою с собой взял, чтоб не таскалась там с матросами, — пришли к малышне на урок морды свои показать да объяснить, на кой мы тут скребемся по свинарнику этому, чтоб пойти схватить за шиворот шквальный ветер в
Вся фреольская мелюзга развалилась на своих шелковых замызганных подушечках, всех искусанных, изорванных и затоптанных на переменах. Расселись слюнтяи полукругом и уши развесили, слушают не налюбуются, как их шлюшка учительница расстилается перед ними, устроила развлекуху, как на карнавале, рисуночки им рисует, сказочки рассказывает, игры тупоголовые устраивает… Может, еще пойдет пооблизывает их, раз она такая любвеобильная? Я в их возрасте тоже на корабле торчал, только он меня из верховья в Аберлаас тащил. Я в их возрасте учился стоять против ветра, с вентилятором в рыло. Не было у меня никаких игрушечек, подушечек, рисуночков и шалав-училочек. И учился я лучше и быстрее, чем вся эта розовощекая мелочь, я руку в хрон готов засунуть, если кто не верит. Это коммодор попросил, а ему я отказать не мог, чтоб я, Пьетро и еще кто-нибудь из ордийцев — я Каллирою с собой взял, чтоб не таскалась там с матросами, — пришли к малышне на урок морды свои показать да объяснить, на кой мы тут скребемся по свинарнику этому, чтоб пойти схватить за шиворот шквальный ветер в
 Кругообразный зал был освещен через иллюминатор, проделанный в верхней палубе. Учительница, молодая лучезарная девушка, вела урок из центра зала. Она попросила нас сесть на пуфы напротив ребятишек. Но Голгот остался стоять со скрещенными за спиной руками. Весь насупленный. Учительница нарисовала прямо на паркете длинную полоску земли, тянущуюся с востока на запад. На самой западной точке написала «Нижний Предел». Слегка пожирнее нарисовала Краевую скалу — низовой барьер нашего мира, а чуть перед ней написали «Аберлаас». На другом конце она написала «Верхний Предел» и за ним большой вопросительный знак. А между ними расположились самые крупные города вдоль линии Контра. Вплоть до Норски. Далее, разумеется, царила неизвестность. Слева и справа она заштриховала белым мелом выступы, подписанные «Ледники». А затем расставили на линии Контра фигурки, примерно на второй трети пути… Это было как-то странно. А почему не на первой трети? Или на полпути, или на третьей четверти? Откуда мы знали, какая дистанция отделяет нас от Верхнего
Кругообразный зал был освещен через иллюминатор, проделанный в верхней палубе. Учительница, молодая лучезарная девушка, вела урок из центра зала. Она попросила нас сесть на пуфы напротив ребятишек. Но Голгот остался стоять со скрещенными за спиной руками. Весь насупленный. Учительница нарисовала прямо на паркете длинную полоску земли, тянущуюся с востока на запад. На самой западной точке написала «Нижний Предел». Слегка пожирнее нарисовала Краевую скалу — низовой барьер нашего мира, а чуть перед ней написали «Аберлаас». На другом конце она написала «Верхний Предел» и за ним большой вопросительный знак. А между ними расположились самые крупные города вдоль линии Контра. Вплоть до Норски. Далее, разумеется, царила неизвестность. Слева и справа она заштриховала белым мелом выступы, подписанные «Ледники». А затем расставили на линии Контра фигурки, примерно на второй трети пути… Это было как-то странно. А почему не на первой трети? Или на полпути, или на третьей четверти? Откуда мы знали, какая дистанция отделяет нас от Верхнего
 Последовавшая тишина была совершенно голготская — сплошная, без попыток повторить вопрос. Мальчишка получил ответом, как пощечиной по лицу. Стал пятиться, бедняга, покраснел. По классу шепотом поползли смешки. Учительница неловко улыбнулась. Я хотела было вмешаться в разговор, но все-таки сказала себе: не лезь, Каллироя, дорогая, начальство на месте, они и без тебя разберутся, доверься такту Пьетро, он все уладит…
— Трассер, как очень просто объяснил наш Голгот, это тот, кто прокладывает трассу, который выбирает путь. Трасса — это самый лучший путь, по которому можно идти против ветра. Так вот Трассер, он идет впереди всех, и это он решает, по какому пути мы пойдем. За каким холмом обойти, через какой лес, на какую гору влезть и тому подобное. Ему в этом помогает разведчик, который забегает вперед всех, ищет лучший проход, так, чтобы мы не попали туда, где ветер слишком сильный. А еще ему помогает аэромастер, это специалист по ветру.
— А как Трассером можно сделаться?
— Прокладывая трассу…
Последовавшая тишина была совершенно голготская — сплошная, без попыток повторить вопрос. Мальчишка получил ответом, как пощечиной по лицу. Стал пятиться, бедняга, покраснел. По классу шепотом поползли смешки. Учительница неловко улыбнулась. Я хотела было вмешаться в разговор, но все-таки сказала себе: не лезь, Каллироя, дорогая, начальство на месте, они и без тебя разберутся, доверься такту Пьетро, он все уладит…
— Трассер, как очень просто объяснил наш Голгот, это тот, кто прокладывает трассу, который выбирает путь. Трасса — это самый лучший путь, по которому можно идти против ветра. Так вот Трассер, он идет впереди всех, и это он решает, по какому пути мы пойдем. За каким холмом обойти, через какой лес, на какую гору влезть и тому подобное. Ему в этом помогает разведчик, который забегает вперед всех, ищет лучший проход, так, чтобы мы не попали туда, где ветер слишком сильный. А еще ему помогает аэромастер, это специалист по ветру.
— А как Трассером можно сделаться?
— Прокладывая трассу…
 Она сама ко мне пришла. То ли из-за престижа, которым я мог похвастаться как скриб, то ли из любопытства, а может, и вообще случайно, во всяком случае явно ни по одному из тех поводов, которые могли бы меня этим визитом обрадовать. У Нушки на лице и во всем теле было что-то такое, что легкой ли вмятинкой на щеке, томной
Она сама ко мне пришла. То ли из-за престижа, которым я мог похвастаться как скриб, то ли из любопытства, а может, и вообще случайно, во всяком случае явно ни по одному из тех поводов, которые могли бы меня этим визитом обрадовать. У Нушки на лице и во всем теле было что-то такое, что легкой ли вмятинкой на щеке, томной
 — Так-так, дети, давайте сосредоточимся и подведем итог: почему Орда должна пройти весь путь пешком, а не на корабле, как мы?
— Я! Можно я?
— Да, Ниначчиа.
— Потому что тогда они не встретят все девять форм ветра, и их Орда… ну не засчитается!
— Так-так, дети, давайте сосредоточимся и подведем итог: почему Орда должна пройти весь путь пешком, а не на корабле, как мы?
— Я! Можно я?
— Да, Ниначчиа.
— Потому что тогда они не встретят все девять форм ветра, и их Орда… ну не засчитается!
 Ребятишки зааплодировали учительнице, а Голгот и Пьетро замерли как зачарованные. Урок был выше всяких похвал и в плане педагогики, и в плане душевной теплоты. Если бы меня учили с такой же любовью в Аберлаасе! Я не помню, чтоб меня когда-нибудь хвалили, подбадривали. «Каллироя! А ну бегом руки в угли!», вот это я помню, или как нас запускали в полдень в сухую, как стог сена, прерию, и пускали на нас огненную стену, а в руках одно негодное ведро, тоже помню. «Так, давайте не робейте!»…
Ребятишки зааплодировали учительнице, а Голгот и Пьетро замерли как зачарованные. Урок был выше всяких похвал и в плане педагогики, и в плане душевной теплоты. Если бы меня учили с такой же любовью в Аберлаасе! Я не помню, чтоб меня когда-нибудь хвалили, подбадривали. «Каллироя! А ну бегом руки в угли!», вот это я помню, или как нас запускали в полдень в сухую, как стог сена, прерию, и пускали на нас огненную стену, а в руках одно негодное ведро, тоже помню. «Так, давайте не робейте!»…
 «Сов, пойдем, там уже все собрались. Нужно определить Трассу, выяснить, что нас ждет дальше. Весь летный экипаж уже на месте», — настаивал Пьетро. «А мне что с того?» — отчеканил я в ответ. Нушка без труда заполняла всю мою душу, и ничего другого не могло в нее проникнуть в этот момент. Но ноги сами меня туда отвели… Я гулял по верхней палубе и, словно ведомый звуком голосов, оказался в маленьком амфитеатре. Он был как бы врезан в палубу, спуск в него шел под легким уклоном, и предназначался он главным образом для музыкальных мероприятий. Человек сорок расселись по рядам из полированного дерева. Коммодор изложил ряд трудностей, с которыми нам предстояло столкнуться, мало-помалу ему удалось подцепить меня на крючок, а потом и вовсе утащить за своей удочкой, и вот уже через каких-то полчаса от моего сплина не осталось и следа и я с головой нырнул в собрание.
— Сколько времени потребуется, чтобы обойти эту лужу? — спросил Тальвег.
— Согласно подсчетам контр-адмирала — месяцев четырнадцать-пятнадцать в обход по южному берегу.
— Болото не очень глубокое, но оно невероятных размеров.
— Мне кажется, я не совсем понимаю, — сказал Пьетро. — То вы говорите о болоте, то о какой-то луже… Если речь идет о простой луже, так почему не…
— Все не так просто, — взял слово коммодор и наконец развернул перед нами карту, которую до сих пор, по малопонятным мне соображениям, держал в стороне. — Вот, видите эту точку в низовье лужи? Это Порт-Шун.
«Сов, пойдем, там уже все собрались. Нужно определить Трассу, выяснить, что нас ждет дальше. Весь летный экипаж уже на месте», — настаивал Пьетро. «А мне что с того?» — отчеканил я в ответ. Нушка без труда заполняла всю мою душу, и ничего другого не могло в нее проникнуть в этот момент. Но ноги сами меня туда отвели… Я гулял по верхней палубе и, словно ведомый звуком голосов, оказался в маленьком амфитеатре. Он был как бы врезан в палубу, спуск в него шел под легким уклоном, и предназначался он главным образом для музыкальных мероприятий. Человек сорок расселись по рядам из полированного дерева. Коммодор изложил ряд трудностей, с которыми нам предстояло столкнуться, мало-помалу ему удалось подцепить меня на крючок, а потом и вовсе утащить за своей удочкой, и вот уже через каких-то полчаса от моего сплина не осталось и следа и я с головой нырнул в собрание.
— Сколько времени потребуется, чтобы обойти эту лужу? — спросил Тальвег.
— Согласно подсчетам контр-адмирала — месяцев четырнадцать-пятнадцать в обход по южному берегу.
— Болото не очень глубокое, но оно невероятных размеров.
— Мне кажется, я не совсем понимаю, — сказал Пьетро. — То вы говорите о болоте, то о какой-то луже… Если речь идет о простой луже, так почему не…
— Все не так просто, — взял слово коммодор и наконец развернул перед нами карту, которую до сих пор, по малопонятным мне соображениям, держал в стороне. — Вот, видите эту точку в низовье лужи? Это Порт-Шун.
 Я подмигнул посмеивающемуся Караколю. Тальвег нахмурил свои и без того глубокие морщины.
— Вода и земля. Вода повсюду, она обволакивает все земли, показывающиеся на поверхности, но ни вода, ни земля при этом не преобладают друг над другом. Это зона затопленная, но не подводная, слегка утопленная, если так понятнее. Достаточно трех солнечных дней, и сразу проступают целые острова суши, но только отдельными участками, суша никогда не показывается целиком, только кусочки архипелага повсюду. Это зрелище даже завораживает при полной луне. — Контр-адмирал на секунду замолчал, из его бороды показалась лукавая улыбка.
— Но вам не доведется испытать на себе центральное одиночество этого места. Вы пойдете по южному берегу
Я подмигнул посмеивающемуся Караколю. Тальвег нахмурил свои и без того глубокие морщины.
— Вода и земля. Вода повсюду, она обволакивает все земли, показывающиеся на поверхности, но ни вода, ни земля при этом не преобладают друг над другом. Это зона затопленная, но не подводная, слегка утопленная, если так понятнее. Достаточно трех солнечных дней, и сразу проступают целые острова суши, но только отдельными участками, суша никогда не показывается целиком, только кусочки архипелага повсюду. Это зрелище даже завораживает при полной луне. — Контр-адмирал на секунду замолчал, из его бороды показалась лукавая улыбка.
— Но вам не доведется испытать на себе центральное одиночество этого места. Вы пойдете по южному берегу
 Как обычно, эта бесконечная фреольская надменность, пораздували тут свои паруса, это их вечное чувство превосходства, из любви поиграть на публику, из чувства сознательной свободы, которое сегодня меня скорее веселит, нежели питает: я слишком долго был таким же… Что эти Фрелики из себя вообще представляют? Да ребятня просто, хоть и подвижные, конечно, ловкие, никто не спорит, насколько ветер позволяет. Фанфароны средней элегантности, не могут удержаться, чтоб не взбаламутить своей иронией воду в ведре ордийской неосведомленности.
— Вы, конечно, решите, что я чокнутый, уважаемый контр-адмирал, — прозвучал вдруг голос Голгота. Он как раз встал и подошел к борту посмотреть на поле ветряков, повернувшись, намеренно то было или нет, спиной ко всем присутствующим.
— Я вас слушаю.
— Сколько миль, говорите, от Порт-Шуна до Шавондаси?
— Четыре сотни.
— Три месяца. С участками, где нужно идти вплавь, включительно…
Как обычно, эта бесконечная фреольская надменность, пораздували тут свои паруса, это их вечное чувство превосходства, из любви поиграть на публику, из чувства сознательной свободы, которое сегодня меня скорее веселит, нежели питает: я слишком долго был таким же… Что эти Фрелики из себя вообще представляют? Да ребятня просто, хоть и подвижные, конечно, ловкие, никто не спорит, насколько ветер позволяет. Фанфароны средней элегантности, не могут удержаться, чтоб не взбаламутить своей иронией воду в ведре ордийской неосведомленности.
— Вы, конечно, решите, что я чокнутый, уважаемый контр-адмирал, — прозвучал вдруг голос Голгота. Он как раз встал и подошел к борту посмотреть на поле ветряков, повернувшись, намеренно то было или нет, спиной ко всем присутствующим.
— Я вас слушаю.
— Сколько миль, говорите, от Порт-Шуна до Шавондаси?
— Четыре сотни.
— Три месяца. С участками, где нужно идти вплавь, включительно…
 Он это произнес не поворачиваясь, но с явной силой в голосе.
— Следует ли понимать, что вы имеете в виду…
— Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.
Он это произнес не поворачиваясь, но с явной силой в голосе.
— Следует ли понимать, что вы имеете в виду…
— Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.

 Это не было провокацией со стороны Голгота. Во всяком случае судя по интонации. Голос его не дрогнул. Я так и застыл от невероятности услышанного. Я перевел взгляд на Тальвега, тот смотрел на Степпа. Все мы были ошарашены, как от удара молнии.
Взять слово наконец решил коммодор:
— Не сочтите за неуважение, девятый Голгот, но вы не отдаете себе отчет в том, что говорите. Чтобы пересечь лужу, необходимо месяцами идти по пояс в воде, по волнам, и это если не придется плыть в полный шторм. При сильном ветре волны там могут достигать трех метров! А питаться чем вы будете? А как прицеп тащить собираетесь?
— Будем рыбу ловить.
— Вы когда-нибудь пробовали плыть в шторм?
— Мы не пробовали, мы плыли.
— Вы себе отдаете отчет в том, что там могут быть лагуны в двадцать миль шириной, плюс шторм, постоянный шторм, который вас все время будет сносить в низовье! Как вы рассчитываете это переплыть?
— Вплавь.
— Без отдыха, без еды, плыть днями напролет?
Это не было провокацией со стороны Голгота. Во всяком случае судя по интонации. Голос его не дрогнул. Я так и застыл от невероятности услышанного. Я перевел взгляд на Тальвега, тот смотрел на Степпа. Все мы были ошарашены, как от удара молнии.
Взять слово наконец решил коммодор:
— Не сочтите за неуважение, девятый Голгот, но вы не отдаете себе отчет в том, что говорите. Чтобы пересечь лужу, необходимо месяцами идти по пояс в воде, по волнам, и это если не придется плыть в полный шторм. При сильном ветре волны там могут достигать трех метров! А питаться чем вы будете? А как прицеп тащить собираетесь?
— Будем рыбу ловить.
— Вы когда-нибудь пробовали плыть в шторм?
— Мы не пробовали, мы плыли.
— Вы себе отдаете отчет в том, что там могут быть лагуны в двадцать миль шириной, плюс шторм, постоянный шторм, который вас все время будет сносить в низовье! Как вы рассчитываете это переплыть?
— Вплавь.
— Без отдыха, без еды, плыть днями напролет?
 Контр-адмирал подошел к Голготу поближе, словно намереваясь удержать его, чтобы тот не прыгнул через борт. И продолжил вместо коммодора:
— Я думаю, вы не вполне представляете себе Лапсанское болото, что совершенно естественно. Это пустыня, пустыня из воды и земли! Почти никакой растительности, лишь изредка попадаются илистые островки, на которые обрушивается то ветер, то дождь, то снова ветер и так до бесконечности. Мы пробовали пришвартоваться, чтоб немного пройти по островам, но в большинстве случаев там песок настолько влажный, что в нем вязнешь, как в иле.
Контр-адмирал подошел к Голготу поближе, словно намереваясь удержать его, чтобы тот не прыгнул через борт. И продолжил вместо коммодора:
— Я думаю, вы не вполне представляете себе Лапсанское болото, что совершенно естественно. Это пустыня, пустыня из воды и земли! Почти никакой растительности, лишь изредка попадаются илистые островки, на которые обрушивается то ветер, то дождь, то снова ветер и так до бесконечности. Мы пробовали пришвартоваться, чтоб немного пройти по островам, но в большинстве случаев там песок настолько влажный, что в нем вязнешь, как в иле.
 Три месяца! Да он в своем уме? Три месяца в воде! Я окинул взглядом лица остальных ордийцев и понял, что должен что-то сделать, хотя бы попытаться:
Три месяца! Да он в своем уме? Три месяца в воде! Я окинул взглядом лица остальных ордийцев и понял, что должен что-то сделать, хотя бы попытаться:
 Все обернулись к Голготу, стоявшему к нам спиной. Он бросал охотничий бум по кромке травы, короткой дугой, хватая его резко, сухо. И снова Караколь взялся за дело:
— Ну так что, Гот? Кто потащит сани?
— Никто. Мы все оставим здесь.
— А как же подарки, письма, личные вещи? — запротестовал чуток не в тему наш добродушный старина Силамфр. Но было слишком поздно.
— Да что вы заладили как девчонки, елы-палы. Зафигачите ваши безделушки в ящик, и отправим в Шавондаси на первой посудине, что будет по пути! С собой тащить ничего не будем, ясно?! Каждый берет свой бум, нож, миску, да по спальнику. Все. Точка. Все это дело в гермоведро и вплавь за собой на веревке. Вы что решили? Что мы год сэкономим, по полям гуляя? По лагунам плескаясь? Будем отпахивать как никогда! Будем как покрытые плесенью водяные мешки, подыхать от холода, спать на кучке камней, пожираемой волнами. Все будет мокрое, вонючее, на солнце молиться будем. А сверху будет лить беспросветно, в труселя вам заливать, пока задницы ваши отогретые не
Все обернулись к Голготу, стоявшему к нам спиной. Он бросал охотничий бум по кромке травы, короткой дугой, хватая его резко, сухо. И снова Караколь взялся за дело:
— Ну так что, Гот? Кто потащит сани?
— Никто. Мы все оставим здесь.
— А как же подарки, письма, личные вещи? — запротестовал чуток не в тему наш добродушный старина Силамфр. Но было слишком поздно.
— Да что вы заладили как девчонки, елы-палы. Зафигачите ваши безделушки в ящик, и отправим в Шавондаси на первой посудине, что будет по пути! С собой тащить ничего не будем, ясно?! Каждый берет свой бум, нож, миску, да по спальнику. Все. Точка. Все это дело в гермоведро и вплавь за собой на веревке. Вы что решили? Что мы год сэкономим, по полям гуляя? По лагунам плескаясь? Будем отпахивать как никогда! Будем как покрытые плесенью водяные мешки, подыхать от холода, спать на кучке камней, пожираемой волнами. Все будет мокрое, вонючее, на солнце молиться будем. А сверху будет лить беспросветно, в труселя вам заливать, пока задницы ваши отогретые не
 Я постарался продолжить обсуждение по кругу.
— Близнецы, вы почему ничего не говорите?
Горст и Карст одновременно подняли головы. Они играли горсткой камушков, разложенных на паркете, поглощенные своим детским миром, счастливые, как всегда, и, как всегда, согласные.
— Без проблем, Пьетро. Мы воду любим, правда, Карст?
— А то.
— Чем раньше доберемся до Норского перевала, тем лучше.
— Птичники, а вы что скажете?
— Прошу прощения, что против течения, друзья, но лично я против. Лапсанское болото — это без меня.
— Из-за птиц?
— Из-за всего. Нашего трубадура послушать, так можно подумать, мы на пляж собираемся. Немного поплаваем, потом отдохнем, потом еще пройдемся и — оп! — через три месяца мы уже в Шавондаси! Не хочу тут светить своими и так небогатыми знаниями в истории, но кто-нибудь здесь знает, сколько Орд прошло через болото? Сколько осмелилось его пересечь? А, Голгот?
Я постарался продолжить обсуждение по кругу.
— Близнецы, вы почему ничего не говорите?
Горст и Карст одновременно подняли головы. Они играли горсткой камушков, разложенных на паркете, поглощенные своим детским миром, счастливые, как всегда, и, как всегда, согласные.
— Без проблем, Пьетро. Мы воду любим, правда, Карст?
— А то.
— Чем раньше доберемся до Норского перевала, тем лучше.
— Птичники, а вы что скажете?
— Прошу прощения, что против течения, друзья, но лично я против. Лапсанское болото — это без меня.
— Из-за птиц?
— Из-за всего. Нашего трубадура послушать, так можно подумать, мы на пляж собираемся. Немного поплаваем, потом отдохнем, потом еще пройдемся и — оп! — через три месяца мы уже в Шавондаси! Не хочу тут светить своими и так небогатыми знаниями в истории, но кто-нибудь здесь знает, сколько Орд прошло через болото? Сколько осмелилось его пересечь? А, Голгот?
 Может, это рассказ ястребника на меня так подействовал, но я встал, и почти вся Орда поднялась вместе со мной. Я повторил вопрос близнецов:
— В сифон?
Ни Голгот, ни ястребник, ни даже Пьетро, который не мог не знать историю своих предков, отвечать явно не торопились. Они стали переглядываться, словно перебрасывая ответ из рук в руки, как раскаленный уголь, который никто не решается схватить. Караколь отважился первым, но даже он выглядел как не в своей тарелке:
— Это, детишки, своего рода хрон, который может всплыть откуда ни возьмись, если есть достаточная глубина. Фреольцы, которые тут вечно слоняются, такие часто видят. Они, как правило, бывают метров тридцать в диаметре, и лучше у него на краю не оказываться…
Может, это рассказ ястребника на меня так подействовал, но я встал, и почти вся Орда поднялась вместе со мной. Я повторил вопрос близнецов:
— В сифон?
Ни Голгот, ни ястребник, ни даже Пьетро, который не мог не знать историю своих предков, отвечать явно не торопились. Они стали переглядываться, словно перебрасывая ответ из рук в руки, как раскаленный уголь, который никто не решается схватить. Караколь отважился первым, но даже он выглядел как не в своей тарелке:
— Это, детишки, своего рода хрон, который может всплыть откуда ни возьмись, если есть достаточная глубина. Фреольцы, которые тут вечно слоняются, такие часто видят. Они, как правило, бывают метров тридцать в диаметре, и лучше у него на краю не оказываться…
 Голгот кивнул в ответ, и мы спустились вслед за коммодором по внутренней лестнице, ведущей в зал. Как только вошли, из глубины помещения на нас посыпались смешки.
— И ты себе представляешь этого толстяка Голгота в воде? Как он плыть-то будет, ха, ха-ха-ха?
Голгот кивнул в ответ, и мы спустились вслед за коммодором по внутренней лестнице, ведущей в зал. Как только вошли, из глубины помещения на нас посыпались смешки.
— И ты себе представляешь этого толстяка Голгота в воде? Как он плыть-то будет, ха, ха-ха-ха?
 Ужин прошел в семибалльной тишине, поостыв до 8-ми к десерту, когда экипаж поднялся весь, как по команде, и покинул зал. Контр-адмирал подошел к Голготу принести свои извинения от имени командования и сообщил, что раненый матрос получил медицинскую помощь и посажен в кандалы. Черт его дери!
Ужин прошел в семибалльной тишине, поостыв до 8-ми к десерту, когда экипаж поднялся весь, как по команде, и покинул зал. Контр-адмирал подошел к Голготу принести свои извинения от имени командования и сообщил, что раненый матрос получил медицинскую помощь и посажен в кандалы. Черт его дери!
 Может, наказание здесь было и излишнее, но сам принцип меня скорее удовлетворил. Меня раздражала эта фреольская наглость, их манера систематически нас высмеивать. Я всегда рад шуткам. Но не когда контр опускают до понятия банальной прогулки против ветра. Ни один из наших кодексов, взятый отдельно, смысла не имеет. Важна высшая связующая логика, основа формирования, которая пронизывает их насквозь. Она заключается в преодолении усталости и изнашивания. Она исходит из самой природы ветра, который выделывает наши тела, как дубильщик шкуры. Что касается дисциплины, то мы придерживаемся только того, чего требует контр. Никогда
Может, наказание здесь было и излишнее, но сам принцип меня скорее удовлетворил. Меня раздражала эта фреольская наглость, их манера систематически нас высмеивать. Я всегда рад шуткам. Но не когда контр опускают до понятия банальной прогулки против ветра. Ни один из наших кодексов, взятый отдельно, смысла не имеет. Важна высшая связующая логика, основа формирования, которая пронизывает их насквозь. Она заключается в преодолении усталости и изнашивания. Она исходит из самой природы ветра, который выделывает наши тела, как дубильщик шкуры. Что касается дисциплины, то мы придерживаемся только того, чего требует контр. Никогда
 Глаза Голгота заблестели. Но, наверное, все-таки меньше моих. «Сплоченные». Мне всегда нравилось это слово, хотя я больше не был уверен, что мы его заслуживали. Когда мы поднимались на палубу, контр-адмирал Сигмар попросил Пьетро пройти с ним в каюту. Я думал
Глаза Голгота заблестели. Но, наверное, все-таки меньше моих. «Сплоченные». Мне всегда нравилось это слово, хотя я больше не был уверен, что мы его заслуживали. Когда мы поднимались на палубу, контр-адмирал Сигмар попросил Пьетро пройти с ним в каюту. Я думал
 Ребятишки заметили, как мы с Аои гуляем по вельду, и стали дружно нас окликать, но когда поняли, что мы не подойдем, стайка малышей оторвалась от остальных и они со всех ног подлетели к нам, кто своим ходом, а кто вприпрыжку, уцепившись за наспех сооруженных воздушных змеев. Для шестилетнего возраста они поразительно ловко умели обращаться с этим зверем.
— Тетя Гница, тетя Гница, помогите нам!
— Огница! — ласково поправила Аои, но дети уже вовсю щебетали вокруг, так что ничего не было слышно, подпрыгивали и толкались от нетерпения…
— А в чем вам помочь?
— С заданием на завтра. Нам нужно сдать сочинение!
— О трех последних формах ветра. Найти те, которые мы еще не знаем.
— Даааааааа!
— Но это же, кажется, вы сами должны придумать, не так ли? Как думаете, что это может быть? Мы знаем горячий ветер, легкий, холодный, влажный, резкий…
— Ну мы не знаем, мы же на корабле живем!
— И мы тоже не знаем, — засмеялась Аои. — Никто на свете не знает. Нужно постараться придумать…
Но детишки такую удачу из рук выпускать не собирались. Им попалась «чаровница» и «та, что ест огонь», и дать им просто так сбежать никто не собирался.
Ребятишки заметили, как мы с Аои гуляем по вельду, и стали дружно нас окликать, но когда поняли, что мы не подойдем, стайка малышей оторвалась от остальных и они со всех ног подлетели к нам, кто своим ходом, а кто вприпрыжку, уцепившись за наспех сооруженных воздушных змеев. Для шестилетнего возраста они поразительно ловко умели обращаться с этим зверем.
— Тетя Гница, тетя Гница, помогите нам!
— Огница! — ласково поправила Аои, но дети уже вовсю щебетали вокруг, так что ничего не было слышно, подпрыгивали и толкались от нетерпения…
— А в чем вам помочь?
— С заданием на завтра. Нам нужно сдать сочинение!
— О трех последних формах ветра. Найти те, которые мы еще не знаем.
— Даааааааа!
— Но это же, кажется, вы сами должны придумать, не так ли? Как думаете, что это может быть? Мы знаем горячий ветер, легкий, холодный, влажный, резкий…
— Ну мы не знаем, мы же на корабле живем!
— И мы тоже не знаем, — засмеялась Аои. — Никто на свете не знает. Нужно постараться придумать…
Но детишки такую удачу из рук выпускать не собирались. Им попалась «чаровница» и «та, что ест огонь», и дать им просто так сбежать никто не собирался.
 Каллироя вдруг резко отвернулась от детишек и подставила лицо ветру.
— Что с вами? Вы плачете?
— Ничего, все в порядке…
— Почему вы грустная?
Калли не ответила. Она отошла в вельд одна, не оборачиваясь. Дети смотрели, как она уходит вдаль по высоким травам, и ничего не решались сказать. Ее тонкий силуэт с волосами песочного цвета будто дрогнул на ветру и потом совсем исчез, как пламя задутой свечи.
— Почему она плачет? Почему она такая грустная?
— Пойдемте, дети, я вас отведу назад на корабль. И мы придумаем еще целую кучу форм ветра!
— Ураааааа!!
Каллироя вдруг резко отвернулась от детишек и подставила лицо ветру.
— Что с вами? Вы плачете?
— Ничего, все в порядке…
— Почему вы грустная?
Калли не ответила. Она отошла в вельд одна, не оборачиваясь. Дети смотрели, как она уходит вдаль по высоким травам, и ничего не решались сказать. Ее тонкий силуэт с волосами песочного цвета будто дрогнул на ветру и потом совсем исчез, как пламя задутой свечи.
— Почему она плачет? Почему она такая грустная?
— Пойдемте, дети, я вас отведу назад на корабль. И мы придумаем еще целую кучу форм ветра!
— Ураааааа!!
 Кабинет контр-адмирала был освещен в четырех местах из стеклянных ниш, встроенных в стены. В каждой горело по обдуваемому огоньку. Из небольшой заслонки в нишу методично падали веточки и кора для поддержания пламени. Я вскоре понял, что это сам контр-адмирал управлял процессом.
— Кто вам все это рассказал?
— Ваш собственный отец. Арриго делла Рокка.
Кабинет контр-адмирала был освещен в четырех местах из стеклянных ниш, встроенных в стены. В каждой горело по обдуваемому огоньку. Из небольшой заслонки в нишу методично падали веточки и кора для поддержания пламени. Я вскоре понял, что это сам контр-адмирал управлял процессом.
— Кто вам все это рассказал?
— Ваш собственный отец. Арриго делла Рокка.
 Почему дует ветер? Что на Дальнем Верховье? Ей-богу, я не знаю, что он еще мог придумать на эту тему. Он нам рассказал уже сотни историй, мы все их знали наизусть, все вариации, интриги, правдоподобные и совершенно сумасшедшие, захватывающие и не очень. Истории о каких-то невообразимо огромных слонах, которые бегут и разгоняют воздух ударами своих громаднейших ушей, о гигантских бурдюках из небесной кожи, продырявленных лучниками, истории о выпендривающихся, надутых
Почему дует ветер? Что на Дальнем Верховье? Ей-богу, я не знаю, что он еще мог придумать на эту тему. Он нам рассказал уже сотни историй, мы все их знали наизусть, все вариации, интриги, правдоподобные и совершенно сумасшедшие, захватывающие и не очень. Истории о каких-то невообразимо огромных слонах, которые бегут и разгоняют воздух ударами своих громаднейших ушей, о гигантских бурдюках из небесной кожи, продырявленных лучниками, истории о выпендривающихся, надутых
 Он осмелился! Осмелился перед Фреольцами! Рассказ о Дальнем Верховье! «Опять! — недовольно прогремел Тальвег. — Смени пластинку, Карак!» Но наш геометр был неправ, этот рассказ звучал совсем по-новому.
Он осмелился! Осмелился перед Фреольцами! Рассказ о Дальнем Верховье! «Опять! — недовольно прогремел Тальвег. — Смени пластинку, Карак!» Но наш геометр был неправ, этот рассказ звучал совсем по-новому.
 «Однажды, за тридесятыми ветрами», — начал Караколь, и наши расслабленные лица неуловимо осветились по всему кругу. Потому что через его рассказ, а мы понятия не имели, о чем он пойдет, честь Орды могла быть скомпрометирована или спасена. Потому что он начал с непривычной чинностью, потому что выглядел более сосредоточенным, нежели обычно, и потому что сделал такой акцент на слове «однажды», что всем среди нас стало ясно: сейчас последует до сих пор неизвестный нам рассказ.
— Однажды, за тридесятыми ветрами, за тридесятыми морями, была страна бескрайних полей, где ничего не могло удержаться на месте. Дикий ветер дул там днем и ночью, упрямо и бессменно, с востока на запад, стихая лишь немного по ночам, но никогда не исчезая совсем. Холмы отодвинуло ветром на самый край земли, горы потихоньку отодвигались вслед за ними, и даже солнцу было трудно удержаться за небо. То была земля, где белье сохло
«Однажды, за тридесятыми ветрами», — начал Караколь, и наши расслабленные лица неуловимо осветились по всему кругу. Потому что через его рассказ, а мы понятия не имели, о чем он пойдет, честь Орды могла быть скомпрометирована или спасена. Потому что он начал с непривычной чинностью, потому что выглядел более сосредоточенным, нежели обычно, и потому что сделал такой акцент на слове «однажды», что всем среди нас стало ясно: сейчас последует до сих пор неизвестный нам рассказ.
— Однажды, за тридесятыми ветрами, за тридесятыми морями, была страна бескрайних полей, где ничего не могло удержаться на месте. Дикий ветер дул там днем и ночью, упрямо и бессменно, с востока на запад, стихая лишь немного по ночам, но никогда не исчезая совсем. Холмы отодвинуло ветром на самый край земли, горы потихоньку отодвигались вслед за ними, и даже солнцу было трудно удержаться за небо. То была земля, где белье сохло
 Никто не двинулся с места. Напряжение нарастало.
— Итак, раз мужество сегодня с вами под руку… Приступим. Когда второй Голгот преодолел Норское ущелье, его накрыло таким ветром, что в один миг от него ничего не осталось, кроме горстки снежинок, которая поместилась бы в детской ладошке, чтобы слепить снежок. В сравнение, как скажет после его скриб: «Кривец —
Никто не двинулся с места. Напряжение нарастало.
— Итак, раз мужество сегодня с вами под руку… Приступим. Когда второй Голгот преодолел Норское ущелье, его накрыло таким ветром, что в один миг от него ничего не осталось, кроме горстки снежинок, которая поместилась бы в детской ладошке, чтобы слепить снежок. В сравнение, как скажет после его скриб: «Кривец —
 Наш трубадур замолк и оглядел сидящих с проницательностью прорицателя, в поисках чего-то, одному ему известного. И вдруг разглядел что-то в синем пламени и, привычно запустив в него руку (как если бы сунул ее в воду), порылся там чуток и с облегчением вынул из животрепещущих язычков длинный голубой пергамент. Брызнули ошеломленные аплодисменты, но он не обратил на них никакого внимания:
— Я не люблю, запомните, экстраполировать на тему ветра, а еще менее того, любезная аудитория, использовать некие задаром мне приписываемые таланты ораторского мастерства, чтоб приукрасить реальность, которую скрибы со своей стороны с трогательной неукоснительной точностью стараются переписать нетронутой на лист бумаги. А потому я вам прочту этот оставшийся отрывок без выспренних изысканий речи: «Взрыв имеет материю, единую материю, которая есть звук. Взрыв играет музыку, играет на инструменте с бесконечным потенциалом, который есть воздух. Воздух существует на пороге Двери в виде струн, плотных струн воздуха, вибрирующих на неисчислимой высоте.
Наш трубадур замолк и оглядел сидящих с проницательностью прорицателя, в поисках чего-то, одному ему известного. И вдруг разглядел что-то в синем пламени и, привычно запустив в него руку (как если бы сунул ее в воду), порылся там чуток и с облегчением вынул из животрепещущих язычков длинный голубой пергамент. Брызнули ошеломленные аплодисменты, но он не обратил на них никакого внимания:
— Я не люблю, запомните, экстраполировать на тему ветра, а еще менее того, любезная аудитория, использовать некие задаром мне приписываемые таланты ораторского мастерства, чтоб приукрасить реальность, которую скрибы со своей стороны с трогательной неукоснительной точностью стараются переписать нетронутой на лист бумаги. А потому я вам прочту этот оставшийся отрывок без выспренних изысканий речи: «Взрыв имеет материю, единую материю, которая есть звук. Взрыв играет музыку, играет на инструменте с бесконечным потенциалом, который есть воздух. Воздух существует на пороге Двери в виде струн, плотных струн воздуха, вибрирующих на неисчислимой высоте.

 Наш трубадур задел металл пергамента, который только что дочитал, и что-то похожее на протяжный звук скрипки, сначала глубокий, затем высокий до дрожи, вырвалось из листа. Тишина достигла в этот момент точки абсолютной, невероятной чистоты. Как по сигналу, голубой огонь начал раздуваться, языки пламени пугающе вырывались вверх, а амарантовый паркет, пришпоренный подошвами Караколя, стал вторить ритму деревянных мачт. Из публики стали разноситься заунывные напевы, прерываемые криками пифий, что брызнули не в ритм с верхушек мачт. Вскоре звуки начали вырываться из каждого безжизненного уголка судна, из рей и парусов, из свернутых и натянутых такелажей, из паркета, ставшего барабаном, из стекла фонариков, из стали и меди, из бутылок! А Караколь стоял над огнем и управлял всем этим, словно дирижер, с самшитовой веточкой в одной руке, другой водя по воздуху, заставляя вибрировать неизвестно какую волну, доселе никогда неслыханную, создавая ее, как сетчатую структуру из материи!
Как бы невероятно это ни было, но едва начавшийся рассказ уже подошел к концу. Оставался лишь хребтовый гам из звуков, вырвавшихся из досок и крепежных балок, свистящих из огня и ревущих из мачт, звуков полных, полых, протяжных, звуков снастей и разногласий, брошенных вместе в шумы да гамы, не оставлявших никакой надежды на какую-либо гармонию, пусть даже совершенно случайную, — а скорее дававших шанс услышать ушам, чей бархат был нетронут (как мои), то, что возможно соотнести с примитивным хаосом. Когда возобновилась тишина, такая же всепоглощающая, как был только что вездесущ на пару сумасшедших минут звук всех вещей, Фреольцы встали одновременно, всем залом, и по палубе раскатились овации. Ливень аплодисментов, обрушившийся на
Наш трубадур задел металл пергамента, который только что дочитал, и что-то похожее на протяжный звук скрипки, сначала глубокий, затем высокий до дрожи, вырвалось из листа. Тишина достигла в этот момент точки абсолютной, невероятной чистоты. Как по сигналу, голубой огонь начал раздуваться, языки пламени пугающе вырывались вверх, а амарантовый паркет, пришпоренный подошвами Караколя, стал вторить ритму деревянных мачт. Из публики стали разноситься заунывные напевы, прерываемые криками пифий, что брызнули не в ритм с верхушек мачт. Вскоре звуки начали вырываться из каждого безжизненного уголка судна, из рей и парусов, из свернутых и натянутых такелажей, из паркета, ставшего барабаном, из стекла фонариков, из стали и меди, из бутылок! А Караколь стоял над огнем и управлял всем этим, словно дирижер, с самшитовой веточкой в одной руке, другой водя по воздуху, заставляя вибрировать неизвестно какую волну, доселе никогда неслыханную, создавая ее, как сетчатую структуру из материи!
Как бы невероятно это ни было, но едва начавшийся рассказ уже подошел к концу. Оставался лишь хребтовый гам из звуков, вырвавшихся из досок и крепежных балок, свистящих из огня и ревущих из мачт, звуков полных, полых, протяжных, звуков снастей и разногласий, брошенных вместе в шумы да гамы, не оставлявших никакой надежды на какую-либо гармонию, пусть даже совершенно случайную, — а скорее дававших шанс услышать ушам, чей бархат был нетронут (как мои), то, что возможно соотнести с примитивным хаосом. Когда возобновилась тишина, такая же всепоглощающая, как был только что вездесущ на пару сумасшедших минут звук всех вещей, Фреольцы встали одновременно, всем залом, и по палубе раскатились овации. Ливень аплодисментов, обрушившийся на
 Нушка дрожала, в ее голубизне появились слезы, ее лицо, губы блестели. Признаться откровенно, я почти прослушал весь рассказ. Я вдруг неожиданно осознал, что близок наш с ней разрыв, что он неминуем. Я старался на протяжении всего спектакля дышать как можно медленнее, чтобы отодвинуть горизонт болота и постараться впитать в свою плоть гемофилический поток из настоящего, которое она мне дарила. Завтра отменялось до новых распоряжений.
(обратно)
Нушка дрожала, в ее голубизне появились слезы, ее лицо, губы блестели. Признаться откровенно, я почти прослушал весь рассказ. Я вдруг неожиданно осознал, что близок наш с ней разрыв, что он неминуем. Я старался на протяжении всего спектакля дышать как можно медленнее, чтобы отодвинуть горизонт болота и постараться впитать в свою плоть гемофилический поток из настоящего, которое она мне дарила. Завтра отменялось до новых распоряжений.
(обратно)
 Итак, настал пятый день. Настоящее начало переправы. Первые дни Физалис все еще был с нами, сопровождая вдоль мола. Насыпь уходила ровно на восток через болото и была относительно тверда и стабильна под нашими ногами. По сравнению с двумя неделями ориентировки, проведенными в штормах и грозах, в полном напряжении, в топях, зыбучих песках без единой опоры, посреди серо-мрачных лагун, простегиваемых туманом, переправа не могла начаться в более благоприятном климате. Хоть небо и вылило нам на головы несколько ливней, солнце все же брало верх, согревая щеки и просушивая одежду, да к тому же с энергичным ветром в помощниках. За первые четыре дня мы ни разу не окунули ноги в воду: насыпь, идущая от Порт-Шуна, тянулась ровно, она задавала ритм и трассу, она еще связывала нас на несколько коротких дней с неким подобием человеческой архитектуры. А затем фреольский корабль оставил нас, унося с собой лицо и его снежную белизну, и дрожащую голубизну ириса в глазах, и губы, из которых в последний раз сочилась алая мирра, отдаляя от меня нежные груди в ласковой истоме, и запах простыней, и смятого белья вокруг кровати, и запах Нушки. «Жду тебя через три месяца в Шавондаси, Сов. Будь осторожен, маленький волчонок». Она послала
Итак, настал пятый день. Настоящее начало переправы. Первые дни Физалис все еще был с нами, сопровождая вдоль мола. Насыпь уходила ровно на восток через болото и была относительно тверда и стабильна под нашими ногами. По сравнению с двумя неделями ориентировки, проведенными в штормах и грозах, в полном напряжении, в топях, зыбучих песках без единой опоры, посреди серо-мрачных лагун, простегиваемых туманом, переправа не могла начаться в более благоприятном климате. Хоть небо и вылило нам на головы несколько ливней, солнце все же брало верх, согревая щеки и просушивая одежду, да к тому же с энергичным ветром в помощниках. За первые четыре дня мы ни разу не окунули ноги в воду: насыпь, идущая от Порт-Шуна, тянулась ровно, она задавала ритм и трассу, она еще связывала нас на несколько коротких дней с неким подобием человеческой архитектуры. А затем фреольский корабль оставил нас, унося с собой лицо и его снежную белизну, и дрожащую голубизну ириса в глазах, и губы, из которых в последний раз сочилась алая мирра, отдаляя от меня нежные груди в ласковой истоме, и запах простыней, и смятого белья вокруг кровати, и запах Нушки. «Жду тебя через три месяца в Шавондаси, Сов. Будь осторожен, маленький волчонок». Она послала
 Распад в Орде еще никогда не был так близок к тому, чтоб стать реальностью, как за неделю перед выходом. И если мы по-прежнему были вместе, то обязаны этим в первую очередь дипломатическим талантам Сова и доверию, которое я у всех вызывал. Группа отмежевавшихся,
Распад в Орде еще никогда не был так близок к тому, чтоб стать реальностью, как за неделю перед выходом. И если мы по-прежнему были вместе, то обязаны этим в первую очередь дипломатическим талантам Сова и доверию, которое я у всех вызывал. Группа отмежевавшихся,
 Вот уж эти чертовы Фреольцы, чтоб им, стоило бы «отвесить им реверанс, снимая шляпу» (как подытожил Караколь). Какая щедрость. Какая восхитительная предупредительность! Так в конце концов даже можно подумать, а не хотели ли они заведомо отправить нас потеряться в этом болоте. Порт-Шун был странный и глинистый, городок привидений на лодках, в домах на сваях из дерева и кирпича, улицы его были варварски перепаханы каналами, он больше походил на забытый барачный лагерь, наспех сколоченный в устье Диагональщиками. Местные здесь то и дело подвергались чертовским приливам — «сейшам», как они говорили на своем рыбацком жаргоне, — которые поднимались вертикально вплоть до окон. Вот почему повсюду были подвешены лодки, служившие им в первую очередь домами. Во время разлива они отшвартовывались и болтались в воде, бульк-бульк, пока все не уляжется. Неглупо…
Вот уж эти чертовы Фреольцы, чтоб им, стоило бы «отвесить им реверанс, снимая шляпу» (как подытожил Караколь). Какая щедрость. Какая восхитительная предупредительность! Так в конце концов даже можно подумать, а не хотели ли они заведомо отправить нас потеряться в этом болоте. Порт-Шун был странный и глинистый, городок привидений на лодках, в домах на сваях из дерева и кирпича, улицы его были варварски перепаханы каналами, он больше походил на забытый барачный лагерь, наспех сколоченный в устье Диагональщиками. Местные здесь то и дело подвергались чертовским приливам — «сейшам», как они говорили на своем рыбацком жаргоне, — которые поднимались вертикально вплоть до окон. Вот почему повсюду были подвешены лодки, служившие им в первую очередь домами. Во время разлива они отшвартовывались и болтались в воде, бульк-бульк, пока все не уляжется. Неглупо…
 Итак, настал пятый день… Я не стану говорить о пробуждении — опрокинуться камнем в воду посреди ночи со спальным мешком,пристегнутым к плечам, который тут же наполняется илом, хватать ртом воздух в панике, что тонешь, с руками, приклеившимися к стенкам мешка, получить термический шок от ледяной волны по телу — это не проснуться, это осознать. Не буду говорить о рассвете, который я так и не смог разгадать в небе. Пятый день не наступил и не закончился, он просто длился. Жемчужно-
Итак, настал пятый день… Я не стану говорить о пробуждении — опрокинуться камнем в воду посреди ночи со спальным мешком,пристегнутым к плечам, который тут же наполняется илом, хватать ртом воздух в панике, что тонешь, с руками, приклеившимися к стенкам мешка, получить термический шок от ледяной волны по телу — это не проснуться, это осознать. Не буду говорить о рассвете, который я так и не смог разгадать в небе. Пятый день не наступил и не закончился, он просто длился. Жемчужно-
 Страна улиток, дохлой рыбы и грязюки. Тут и мечтать нечего о сухой трассе, негде лапу поставить, ни пучка, ни островка, ни куска камня или кучи полужидкого навоза, который позволит встать, чтоб пойти прямым контром. Тут когда дождь идет, так льет не ведрами, а хлещет бочками пиваса столитровыми, промоет тебе весь жирок до костей, мыться больше не придется с таким душем, главное, рот захлопни, труселя потуже затяни, прыгай на свое корыто и кролем наворачивай вперед. Волной по морде, и давай, вверх, вниз, встал, поплыл, тащись в вонючей луже то по голень, то по яйца, вперед, ребята, все за Готом… Я их в Паке всех предупредил — не будет никакого контра каплей, дельтой, никто им зад прикрывать не станет, всем одинаково придется, морду в воду, бочку за спину. Не дерьмовей, чем все остальное. Хоть что-то новенькое. И ветер и общем-то ничего. Неплохо было б, конечно, чтоб этот краснощекий там наверху показывал свою круглую мину хоть иногда. Ни нитки сухой не осталось, мешки воняют плесенью, огонь у Каллирои дымит, как резина. Хлещет беспросветно, это да, на нервишки по вечерам действует, особенно ночью, когда меняешь нагретое местечко по три раза за ночь, потому что твой мешок с костями то приливом накроет, то оно в желоб угодит, которого тут пять минут назад еще и в помине не было, то в завтрашний ручей. Но хочешь не хочешь, а нужно взять в прицел, в кишки себе зашить, когда начинаешь ржаветь по позвонкам к концу дня, что в конце будет Шавондаси. И девять месяцев в наш счет перед моим родителем и его ордой сопляков. Девять месяцев — девять! — ДЕВЯТЬ ЧЕРТОВЫХ МЕСЯЦЕВ! Потому что они тут ёкнулись прям посреди болота!
Страна улиток, дохлой рыбы и грязюки. Тут и мечтать нечего о сухой трассе, негде лапу поставить, ни пучка, ни островка, ни куска камня или кучи полужидкого навоза, который позволит встать, чтоб пойти прямым контром. Тут когда дождь идет, так льет не ведрами, а хлещет бочками пиваса столитровыми, промоет тебе весь жирок до костей, мыться больше не придется с таким душем, главное, рот захлопни, труселя потуже затяни, прыгай на свое корыто и кролем наворачивай вперед. Волной по морде, и давай, вверх, вниз, встал, поплыл, тащись в вонючей луже то по голень, то по яйца, вперед, ребята, все за Готом… Я их в Паке всех предупредил — не будет никакого контра каплей, дельтой, никто им зад прикрывать не станет, всем одинаково придется, морду в воду, бочку за спину. Не дерьмовей, чем все остальное. Хоть что-то новенькое. И ветер и общем-то ничего. Неплохо было б, конечно, чтоб этот краснощекий там наверху показывал свою круглую мину хоть иногда. Ни нитки сухой не осталось, мешки воняют плесенью, огонь у Каллирои дымит, как резина. Хлещет беспросветно, это да, на нервишки по вечерам действует, особенно ночью, когда меняешь нагретое местечко по три раза за ночь, потому что твой мешок с костями то приливом накроет, то оно в желоб угодит, которого тут пять минут назад еще и в помине не было, то в завтрашний ручей. Но хочешь не хочешь, а нужно взять в прицел, в кишки себе зашить, когда начинаешь ржаветь по позвонкам к концу дня, что в конце будет Шавондаси. И девять месяцев в наш счет перед моим родителем и его ордой сопляков. Девять месяцев — девять! — ДЕВЯТЬ ЧЕРТОВЫХ МЕСЯЦЕВ! Потому что они тут ёкнулись прям посреди болота!
 В три приема Эрг был уже в воздухе. Мы видели, как он поднялся вверх на шесть метров над зоной. Рывком запустил свой механический арбалет. Очертил в воздухе периметр по трапеции. Полет прерывистый, слишком нервный. Он перестал с нами говорить. Неистовый дождь ручьями стекал по его крылу. Я, как и все остальные, застыл на месте, изо всех сил стал пристально вглядываться и поверхность воды вокруг нас. Дважды порывом ветра прорвало белый туман. Открылся проем. Сначала на востоке, со стороны верховья. Затем на северо-востоке, справа от меня. Аллювий, который служил нам дорогой, дальше уходил под воду. Снова… Справа вроде ничего: вода волнуется, штормит, насколько взгляд мой мог ухватить простор. На краю просматриваемого места вроде только что были заросли камыша. Но моросящий туман снова затянул просвет по самой кромке воды. Я повернулся к Караколю, с его насквозь промокшего арлекинского кафтана текла вода. Он отказался надеть что-то поверх, сказал, что дождь его забавляет. Он, вероятно, ждал моего вопроса, потому что улыбнулся мне в ответ, хотя я еще ничего не успел спросить:
— Ты чувствуешь что-то странное?
— Странное? Я бы так не сказал. Скорее, что-то курьезное или просто-напросто неожиданное, может, какую-то импровизацию, хотя чуток необычную, почти
В три приема Эрг был уже в воздухе. Мы видели, как он поднялся вверх на шесть метров над зоной. Рывком запустил свой механический арбалет. Очертил в воздухе периметр по трапеции. Полет прерывистый, слишком нервный. Он перестал с нами говорить. Неистовый дождь ручьями стекал по его крылу. Я, как и все остальные, застыл на месте, изо всех сил стал пристально вглядываться и поверхность воды вокруг нас. Дважды порывом ветра прорвало белый туман. Открылся проем. Сначала на востоке, со стороны верховья. Затем на северо-востоке, справа от меня. Аллювий, который служил нам дорогой, дальше уходил под воду. Снова… Справа вроде ничего: вода волнуется, штормит, насколько взгляд мой мог ухватить простор. На краю просматриваемого места вроде только что были заросли камыша. Но моросящий туман снова затянул просвет по самой кромке воды. Я повернулся к Караколю, с его насквозь промокшего арлекинского кафтана текла вода. Он отказался надеть что-то поверх, сказал, что дождь его забавляет. Он, вероятно, ждал моего вопроса, потому что улыбнулся мне в ответ, хотя я еще ничего не успел спросить:
— Ты чувствуешь что-то странное?
— Странное? Я бы так не сказал. Скорее, что-то курьезное или просто-напросто неожиданное, может, какую-то импровизацию, хотя чуток необычную, почти
 Пьетро сделал мне знак слушать внимательно, знал, что из всех нас у меня был самый проницательный слух. Через несколько секунд мне удалось абстрагироваться от звука засасывания наших ботинок в глину, и я отбросил, как накидку, шелест тростниковых зарослей поблизости. Быстро снял оглушавший меня капюшон, и с непокрытой
Пьетро сделал мне знак слушать внимательно, знал, что из всех нас у меня был самый проницательный слух. Через несколько секунд мне удалось абстрагироваться от звука засасывания наших ботинок в глину, и я отбросил, как накидку, шелест тростниковых зарослей поблизости. Быстро снял оглушавший меня капюшон, и с непокрытой
 Барнак! Тэ Джеркащ, самый крутой из всех крутых перцев, единственный мастер Кер Дербана, который у меня всегда был в уважении. Что он тут забыл, в этой водяной дыре, чего притащил сюда свои легкие глотателя шквалов? Он состарился не на одну морщину, а на сто пятьдесят одну. Маэстро, все равно он выглядел таким же живчиком, как раньше. Сухой, как ствол на полном ветру. У него все лицо в спираль закрутило вокруг шнобеля, зато зрачки подвижные, как всегда, и взгляд, как будто через него ветер хлещет напролом… Тэ Джеркка, вот бандит! Я когда выиграл Страссу, когда они все были вынуждены посвятить меня в Трассеры, никто не пришел мне руку пожать, меня все проигнорили. Ни один хрыч. Кроме него. Так и воняло ордонаторскими соплями повсюду, пялились на меня, чуть от злобы не полопались. Никто мне не мог простить, что я на старт один приперся. Так это в испытании проблема, а не во мне. Я был тем, кто нужен, как я мог согласиться, чтоб какой-то сморчок, который только и умеет, что семенить на своих двоих, меня обошел? Перехватить механическую трассировщицу, какой в этом был смысл? Что в этом было общего с тем, что ждало нас на самом деле, с дикой трассой? И Тэ Джеркка это понимал. Он всегда это знал. Он ко мне подошел, когда я спустился с эстрады. Один подошел. Второго такого не нашлось.
Барнак! Тэ Джеркащ, самый крутой из всех крутых перцев, единственный мастер Кер Дербана, который у меня всегда был в уважении. Что он тут забыл, в этой водяной дыре, чего притащил сюда свои легкие глотателя шквалов? Он состарился не на одну морщину, а на сто пятьдесят одну. Маэстро, все равно он выглядел таким же живчиком, как раньше. Сухой, как ствол на полном ветру. У него все лицо в спираль закрутило вокруг шнобеля, зато зрачки подвижные, как всегда, и взгляд, как будто через него ветер хлещет напролом… Тэ Джеркка, вот бандит! Я когда выиграл Страссу, когда они все были вынуждены посвятить меня в Трассеры, никто не пришел мне руку пожать, меня все проигнорили. Ни один хрыч. Кроме него. Так и воняло ордонаторскими соплями повсюду, пялились на меня, чуть от злобы не полопались. Никто мне не мог простить, что я на старт один приперся. Так это в испытании проблема, а не во мне. Я был тем, кто нужен, как я мог согласиться, чтоб какой-то сморчок, который только и умеет, что семенить на своих двоих, меня обошел? Перехватить механическую трассировщицу, какой в этом был смысл? Что в этом было общего с тем, что ждало нас на самом деле, с дикой трассой? И Тэ Джеркка это понимал. Он всегда это знал. Он ко мне подошел, когда я спустился с эстрады. Один подошел. Второго такого не нашлось.
 Тэ Джеркка поприветствовал каждого из нас по имени и по званию. Он сразу сообщил, что у него очень мало времени, и попросил встать вокруг него. Мы окружили его, стоя почти по пояс в воде. Ему не пришлось требовать внимания и тишины. Если его появление само по себе выходило за рамки доступного, то голос и облик были и вовсе неописуемы. Перед нами, вне всякого сомнения, был человек, поскольку у него были глаза, рот, нос, две руки, две ноги, но он скорее походил на внешнюю границу человеческого существа, на его возможный порог, а может, уже и сразу дверь, едва ли вообразимую, которая вела наш вид к чему-то другому, чему-то более… более живому. Глядя на него, складывалось впечатление, каким бы абсурдным оно ни было, что у него внутри крутилась воронка, что она закручивала все его кости и мускулы, засасывала в неотвратимую центрифугу весь его костяк, сгибала позвоночник, извивала руки и ноги, тянула за шейные позвонки и за затылок… И потом это лицо, лицо со взглядом бури, с ускользающими зрачками, этот невероятной подвижности взгляд, лицо, черты которого,
Тэ Джеркка поприветствовал каждого из нас по имени и по званию. Он сразу сообщил, что у него очень мало времени, и попросил встать вокруг него. Мы окружили его, стоя почти по пояс в воде. Ему не пришлось требовать внимания и тишины. Если его появление само по себе выходило за рамки доступного, то голос и облик были и вовсе неописуемы. Перед нами, вне всякого сомнения, был человек, поскольку у него были глаза, рот, нос, две руки, две ноги, но он скорее походил на внешнюю границу человеческого существа, на его возможный порог, а может, уже и сразу дверь, едва ли вообразимую, которая вела наш вид к чему-то другому, чему-то более… более живому. Глядя на него, складывалось впечатление, каким бы абсурдным оно ни было, что у него внутри крутилась воронка, что она закручивала все его кости и мускулы, засасывала в неотвратимую центрифугу весь его костяк, сгибала позвоночник, извивала руки и ноги, тянула за шейные позвонки и за затылок… И потом это лицо, лицо со взглядом бури, с ускользающими зрачками, этот невероятной подвижности взгляд, лицо, черты которого,
 Вместо ответа Тэ Джеркка достал из своей сумки целый арсенал винтов, сверхскоростных ножей, каких-то странных рожков, стальных бумерангов, медных дисков. ()и разложил все это вдоль насыпи и оглядел весь инструмент. Я стоял рядом с ним в грязной воде.
— Много имен имеет, слишком много, — ответил он, не отводя взгляда от оружия. Тревожные морщинки деформировали его лицо. Он скрывал от нас правду. Ему было страшно, и он пытался не подать виду, чтобы защитить нас. Он резко повернулся. С низовья проревел какой-то тягучий, плотный крик, звуковой шар. Эффект был впечатляющий: волны стали расходиться кругом от места звукового удара. Туман слегка отступил. Я перехватил слово:
Вместо ответа Тэ Джеркка достал из своей сумки целый арсенал винтов, сверхскоростных ножей, каких-то странных рожков, стальных бумерангов, медных дисков. ()и разложил все это вдоль насыпи и оглядел весь инструмент. Я стоял рядом с ним в грязной воде.
— Много имен имеет, слишком много, — ответил он, не отводя взгляда от оружия. Тревожные морщинки деформировали его лицо. Он скрывал от нас правду. Ему было страшно, и он пытался не подать виду, чтобы защитить нас. Он резко повернулся. С низовья проревел какой-то тягучий, плотный крик, звуковой шар. Эффект был впечатляющий: волны стали расходиться кругом от места звукового удара. Туман слегка отступил. Я перехватил слово:
 То, что Тэ Джеркка проделал вслед за этим, скорость, с которой он это сделал, ни Эрг, ни один другой боец из его учеников за всю историю не смогли бы такое повторить. Для этого нужно было — Эрг мне потом объяснил — владение вихрем на уровне сверхчеловеческом, наверняка предшествовавшее появлению новой линии воинов-защитников, для которых Тэ Джеркка был первопроходцем. Меньше чем за полминуты он невероятно разборчиво произнес все наши двадцать три имени и указал нам двадцать три направления, с двадцатью тремя скоростями передвижения… И каждый летящий звуковой шар, каждый блок звука, движимый своими собственными внутренними вибрациями, повторяя наше имя по кругу, врезался в туман бесконечным винтом, чтобы указать путь к скале, которая была нам предназначена. Никто не пропустил своего имени, никто не ошибся скалой.
Как только я добрался до нее, меня вдруг стал терзать инстинкт выживания, паническое желание запрыгнуть на камень… Но я весь напрягся и сдержался, следуя инструкциям Тэ Джеркка, я остался стоять в мутной и неспокойной воде у подножья спасительной скалы. Непрекращающийся дождь стремительно набирал обороты, доходя до пароксизма мощности, и уже через минуту превратился в настоящий вертикальный потоп, с беспредельным, варварским градом в придачу, я стоял как прибитый, немой,
То, что Тэ Джеркка проделал вслед за этим, скорость, с которой он это сделал, ни Эрг, ни один другой боец из его учеников за всю историю не смогли бы такое повторить. Для этого нужно было — Эрг мне потом объяснил — владение вихрем на уровне сверхчеловеческом, наверняка предшествовавшее появлению новой линии воинов-защитников, для которых Тэ Джеркка был первопроходцем. Меньше чем за полминуты он невероятно разборчиво произнес все наши двадцать три имени и указал нам двадцать три направления, с двадцатью тремя скоростями передвижения… И каждый летящий звуковой шар, каждый блок звука, движимый своими собственными внутренними вибрациями, повторяя наше имя по кругу, врезался в туман бесконечным винтом, чтобы указать путь к скале, которая была нам предназначена. Никто не пропустил своего имени, никто не ошибся скалой.
Как только я добрался до нее, меня вдруг стал терзать инстинкт выживания, паническое желание запрыгнуть на камень… Но я весь напрягся и сдержался, следуя инструкциям Тэ Джеркка, я остался стоять в мутной и неспокойной воде у подножья спасительной скалы. Непрекращающийся дождь стремительно набирал обороты, доходя до пароксизма мощности, и уже через минуту превратился в настоящий вертикальный потоп, с беспредельным, варварским градом в придачу, я стоял как прибитый, немой,
 Кто-то остановил дождь. Кто-то остановил этот градобой. Ветер вдруг прекратился. Пространство передо мной расчистилось на километры вперед. Пейзаж стал ясный и разборчивый. Я четко видел всю Орду, всех остальных, расставленных на том, что здесь, видимо, считалось архипелагом.
Наши позиции описывали своего рода овал. Насыпь, по которой мы контровали, разделяла его пополам в длину. Рядом со мной, в тридцати метрах, Караколь забрался на песчаный бар. Сов и Ороси немногим дальше стояли на скальных островках. Мне сразу стало спокойнее от того, что они были рядом. Мы находились в пределах слышимости друг от друга. Сверху, по центру архипелага, в воздухе завис Эрг. Тэ Джеркка нигде не было видно. Сплошная, безраздельная тишина обрубила все звуки. Я пристально всматривался в лиман. В заросли камыша и красного солероса. В выступающие скалистые участки, в линию земляной насыпи. Я не представлял себе, где бы могло спрятаться это Нечто. Я даже не мог себе представить, чего вообще ждать. На одном из камней я вдруг увидел два силуэта. Ну конечно, это братья Дубка. Они остались вместе, не смогли разойтись в разные стороны наверняка. Эти двое всегда были неразделимы, особенно в опасности. Но Тэ Джеркка явно сказал быть по одному. И точно не просто
Кто-то остановил дождь. Кто-то остановил этот градобой. Ветер вдруг прекратился. Пространство передо мной расчистилось на километры вперед. Пейзаж стал ясный и разборчивый. Я четко видел всю Орду, всех остальных, расставленных на том, что здесь, видимо, считалось архипелагом.
Наши позиции описывали своего рода овал. Насыпь, по которой мы контровали, разделяла его пополам в длину. Рядом со мной, в тридцати метрах, Караколь забрался на песчаный бар. Сов и Ороси немногим дальше стояли на скальных островках. Мне сразу стало спокойнее от того, что они были рядом. Мы находились в пределах слышимости друг от друга. Сверху, по центру архипелага, в воздухе завис Эрг. Тэ Джеркка нигде не было видно. Сплошная, безраздельная тишина обрубила все звуки. Я пристально всматривался в лиман. В заросли камыша и красного солероса. В выступающие скалистые участки, в линию земляной насыпи. Я не представлял себе, где бы могло спрятаться это Нечто. Я даже не мог себе представить, чего вообще ждать. На одном из камней я вдруг увидел два силуэта. Ну конечно, это братья Дубка. Они остались вместе, не смогли разойтись в разные стороны наверняка. Эти двое всегда были неразделимы, особенно в опасности. Но Тэ Джеркка явно сказал быть по одному. И точно не просто
 Услышав их разговор, я машинально стал искать братьев глазами. И…
— Пьетро, смотри, один из них упал в воду!
Вам, конечно, скажут, что Карст Дубка мог бы и выскочить из воды вовремя. Но я знаю, что нет. Озеро застыло не поэтапно, все началось не из одной точки, распространившись по всей поверхности, лед не завоевывал пространство постепенно, иначе я бы услышал, как скрежещет разрастающийся по воде лед. Озеро замерзло мгновенно, все целиком, сразу. Волны замерли прямо в движении, вода стала враз.
— Карст!
Голова, часть плеча и правая рука, протянутая к брату, остались надо льдом. По крику, который он издал, мы поняли, что он жив. Альма говорила, что нужно две минуты, чтобы жизненные функции заморозились полностью в такой ситуации. Голгот и Фирост тут же бросились ему на помощь, стали что есть мочи колотить камнями и железными подошвами в надежде проломить лед. Минута… Тэ Джеркка появился с противоположной стороны озера. Он вышел откуда-то из-за кустов обионы и необъяснимо медленно направился к Карсту по ледяной глади. Он что-то говорил, произносил ряд безумных несвязных звуков, череду глухих и звонких взрывных, голос для него был не просто проводником слов, это была его сила, его оружие. В месте, где агонизировал Карст, лед разломился под раскатами твердых, скандированных, Ка и Пект. Тэ Джеркка
Услышав их разговор, я машинально стал искать братьев глазами. И…
— Пьетро, смотри, один из них упал в воду!
Вам, конечно, скажут, что Карст Дубка мог бы и выскочить из воды вовремя. Но я знаю, что нет. Озеро застыло не поэтапно, все началось не из одной точки, распространившись по всей поверхности, лед не завоевывал пространство постепенно, иначе я бы услышал, как скрежещет разрастающийся по воде лед. Озеро замерзло мгновенно, все целиком, сразу. Волны замерли прямо в движении, вода стала враз.
— Карст!
Голова, часть плеча и правая рука, протянутая к брату, остались надо льдом. По крику, который он издал, мы поняли, что он жив. Альма говорила, что нужно две минуты, чтобы жизненные функции заморозились полностью в такой ситуации. Голгот и Фирост тут же бросились ему на помощь, стали что есть мочи колотить камнями и железными подошвами в надежде проломить лед. Минута… Тэ Джеркка появился с противоположной стороны озера. Он вышел откуда-то из-за кустов обионы и необъяснимо медленно направился к Карсту по ледяной глади. Он что-то говорил, произносил ряд безумных несвязных звуков, череду глухих и звонких взрывных, голос для него был не просто проводником слов, это была его сила, его оружие. В месте, где агонизировал Карст, лед разломился под раскатами твердых, скандированных, Ка и Пект. Тэ Джеркка
 Я никогда не видела Караколя в таком состоянии. Он схватил остолбеневшего Сова и стал орать ему прямо в лицо. Я больше ни в чем не была уверена. Мы имели дело со своего рода автохроном, способным эксплуатировать воду как вещество во всех ее расширениях, наделенным частичными намерениями, оперирующим внутри миллисекундной системы времени. Вот что мне было ясно. Мои познания в этой области были самыми глубокими во всей Орде. Они шли от эзотерической части моего образования аэромастера. Я должна была им сказать, у меня больше не было выбора. Пусть даже мне придется нарушить клятву:
— Караколь, Сов, идите сюда. Погрузитесь в воду по шею. Пусть только голова останется на поверхности…
— Зачем?
— То, что на нас напало, охотится за пылом, который живет у нас внутри. Вода приглушит его сияние.
— Откуда ты это знаешь?
— Знаю. Я знаю немало вещей, которые должна вам сейчас объяснить.
— Я тоже, — добавил Караколь без доли иронии.
Я никогда не видела Караколя в таком состоянии. Он схватил остолбеневшего Сова и стал орать ему прямо в лицо. Я больше ни в чем не была уверена. Мы имели дело со своего рода автохроном, способным эксплуатировать воду как вещество во всех ее расширениях, наделенным частичными намерениями, оперирующим внутри миллисекундной системы времени. Вот что мне было ясно. Мои познания в этой области были самыми глубокими во всей Орде. Они шли от эзотерической части моего образования аэромастера. Я должна была им сказать, у меня больше не было выбора. Пусть даже мне придется нарушить клятву:
— Караколь, Сов, идите сюда. Погрузитесь в воду по шею. Пусть только голова останется на поверхности…
— Зачем?
— То, что на нас напало, охотится за пылом, который живет у нас внутри. Вода приглушит его сияние.
— Откуда ты это знаешь?
— Знаю. Я знаю немало вещей, которые должна вам сейчас объяснить.
— Я тоже, — добавил Караколь без доли иронии.
 Я чувствовал, как у меня за спиной озеро превращалось в пар, я дрожал от теплового шока, слушал, как вода шипит и пенится. О чем тут можно поговорить?
— Здесь речь идет о некоем полихромном создании, — начала Ороси. — Я не знаю, откуда оно появилось, но знаю,
Я чувствовал, как у меня за спиной озеро превращалось в пар, я дрожал от теплового шока, слушал, как вода шипит и пенится. О чем тут можно поговорить?
— Здесь речь идет о некоем полихромном создании, — начала Ороси. — Я не знаю, откуда оно появилось, но знаю,
 Чертово дерьмо, да мы тут все сейчас прямо в ил наделаем! У Эргача вон уже факел вместо крыла, а он все висит на нем, как на прицепе, у него уже все ляшки подкоптились, мне отсюда слышно, как он воет. Тэ Джеркка орет изо всех сил, пускает волны, ревет воронками, бьет стальными гонгами, фигачит порывы и смерчи… Кидает сверхскоростные серпы, мечет диски в пустоту, расшибается в лепешку наш Маэстро! Если б не он, то я б тут с вами уже не беседовал. Но с этой дрянью бороться — все равно что против ветра ссать. Эта Куча, она откуда-то с космоса на нас свалилась, вскипятила все болото одним черпаком, имеете со всеми курицами-уточками, ниче не осталось, одни скелетики да черномазый кратер. Земля как лава стеклованная. Там сверху Куча сжалась в тучу, пора бы нам отсюда драпать по-скоряку. Но Джеркащ сказал держать
Чертово дерьмо, да мы тут все сейчас прямо в ил наделаем! У Эргача вон уже факел вместо крыла, а он все висит на нем, как на прицепе, у него уже все ляшки подкоптились, мне отсюда слышно, как он воет. Тэ Джеркка орет изо всех сил, пускает волны, ревет воронками, бьет стальными гонгами, фигачит порывы и смерчи… Кидает сверхскоростные серпы, мечет диски в пустоту, расшибается в лепешку наш Маэстро! Если б не он, то я б тут с вами уже не беседовал. Но с этой дрянью бороться — все равно что против ветра ссать. Эта Куча, она откуда-то с космоса на нас свалилась, вскипятила все болото одним черпаком, имеете со всеми курицами-уточками, ниче не осталось, одни скелетики да черномазый кратер. Земля как лава стеклованная. Там сверху Куча сжалась в тучу, пора бы нам отсюда драпать по-скоряку. Но Джеркащ сказал держать
 Смерч стал образовываться очень быстро. Плотная цилиндрическая колонна. Он всосал в себя все дно кратера, настолько центральное давление в нем было низким, и стал выбрасывать облака пыли и камней. Мы легли. Скорость шквалов была на уровне начала ярветра. С блаастом. Аои подбросило метров на двадцать вверх вместе с пластом трясины. Она была ранена, но все же встала на ноги. Каллироя барахталась в болотной тине, хлебала воду, икала. Горст стоял как вкопанный лицом к ветру, словно вросший в землю ствол. На что тут мог надеяться Тэ? Серьезно? Эрг вышел из игры. Он обгорел по пояс, у него был ожог третьей степени. Мы все были бессильны перед происходящим. Почему мы до сих пор не унесли отсюда ноги?
Смерч стал образовываться очень быстро. Плотная цилиндрическая колонна. Он всосал в себя все дно кратера, настолько центральное давление в нем было низким, и стал выбрасывать облака пыли и камней. Мы легли. Скорость шквалов была на уровне начала ярветра. С блаастом. Аои подбросило метров на двадцать вверх вместе с пластом трясины. Она была ранена, но все же встала на ноги. Каллироя барахталась в болотной тине, хлебала воду, икала. Горст стоял как вкопанный лицом к ветру, словно вросший в землю ствол. На что тут мог надеяться Тэ? Серьезно? Эрг вышел из игры. Он обгорел по пояс, у него был ожог третьей степени. Мы все были бессильны перед происходящим. Почему мы до сих пор не унесли отсюда ноги?
 Смерч остановился сам, по инерции. Причиной послужило то, что вся Орда распласталась по кругу и замерла. Дубильщик реагировал как отражение наших
Смерч остановился сам, по инерции. Причиной послужило то, что вся Орда распласталась по кругу и замерла. Дубильщик реагировал как отражение наших
 Наш разговор прервали крики животных. Я обернулся. Там, где раньше было болото, теперь осталась просто впадина с засохшей грязью, а посреди нее корчилась от боли и визжала крупного размера выдра. Ее шкурка серела на глазах, усы побелели, она извивалась как мешок, как будто тело ее лишилось позвонков. Караколь бросил взгляд на выдру и осенил себя знамением эллипса:
— У нее растворяются кости, в ее вихре больше недостаточно сил, чтобы удерживать лапы вместе. Послушай меня, Сов, пойми одно: не нужно пытаться судить то, что ты видишь, исходя из человеческого опыта. У Дубильщика вообще не должно быть имени. Это не индивидуум, это множественность в преображении, хаос, питающийся гетерогенностью. Ему важны только две вещи. Две! Первая — оставаться центричным, сохранять свои уровни интенсивности, свою крайнюю скорость, и для этого он постоянно должен поглощать вихри. Вторая — фактически полная противоположность первой, она работает контрапунктом, в нем должны образовываться дыры.
Наш разговор прервали крики животных. Я обернулся. Там, где раньше было болото, теперь осталась просто впадина с засохшей грязью, а посреди нее корчилась от боли и визжала крупного размера выдра. Ее шкурка серела на глазах, усы побелели, она извивалась как мешок, как будто тело ее лишилось позвонков. Караколь бросил взгляд на выдру и осенил себя знамением эллипса:
— У нее растворяются кости, в ее вихре больше недостаточно сил, чтобы удерживать лапы вместе. Послушай меня, Сов, пойми одно: не нужно пытаться судить то, что ты видишь, исходя из человеческого опыта. У Дубильщика вообще не должно быть имени. Это не индивидуум, это множественность в преображении, хаос, питающийся гетерогенностью. Ему важны только две вещи. Две! Первая — оставаться центричным, сохранять свои уровни интенсивности, свою крайнюю скорость, и для этого он постоянно должен поглощать вихри. Вторая — фактически полная противоположность первой, она работает контрапунктом, в нем должны образовываться дыры.
 Тэ Джеркка зашел в самый центр кратера. Он находился в надире облака. Освещение было мрачное. Снова поднялся неустойчивый ветер. Влажность проступила росой, покрыла свежий базальт кратера блестящей пленкой. Мэтр сказал нам оставаться на краю воронки, по-прежнему в пятидесяти метрах друг от друга. И не двигаться. Он погрузил Эрга себе на плечи и отнес его в ложбину кратера. Прошептал ему что-то. Эрг поднялся на одну ногу, развернул запасной параплан и взлетел. Подлетел прямо к облаку, почти коснулся его и опустился вниз, затем снова поднялся. И так десять, двадцать раз. В промежутках Тэ Джеркка выкрикивал мощные, нерегулярные звуки. То в рожок, то нет. Устремляя их вверх. Словно призывы, торжественные речи.
Тэ Джеркка зашел в самый центр кратера. Он находился в надире облака. Освещение было мрачное. Снова поднялся неустойчивый ветер. Влажность проступила росой, покрыла свежий базальт кратера блестящей пленкой. Мэтр сказал нам оставаться на краю воронки, по-прежнему в пятидесяти метрах друг от друга. И не двигаться. Он погрузил Эрга себе на плечи и отнес его в ложбину кратера. Прошептал ему что-то. Эрг поднялся на одну ногу, развернул запасной параплан и взлетел. Подлетел прямо к облаку, почти коснулся его и опустился вниз, затем снова поднялся. И так десять, двадцать раз. В промежутках Тэ Джеркка выкрикивал мощные, нерегулярные звуки. То в рожок, то нет. Устремляя их вверх. Словно призывы, торжественные речи.
 Может, хватит уже дурака валять? Или им по бубну охота получить? Придумали тут на Кучу орать, подонимать больше некого, что ли? Сейчас отхватим грозы по самое рыло, там внутри уже все грохочет, трещит, как будто его на куски рвут. А эти двое торчат там до сих пор, один скачет, как йо-йо, туда-сюда, второй песни распевает. Если б у меня буер был, я б уже давно парус надул и досвиданьица, до новых встреч, потом расскажете, как оно было. Доведут меня до усрачки, два придурка, особенно дружок Эрго, его прям тянет потрогать за сосцы эту корову небесную, хромоногую. Если он тут окочурится, то
Может, хватит уже дурака валять? Или им по бубну охота получить? Придумали тут на Кучу орать, подонимать больше некого, что ли? Сейчас отхватим грозы по самое рыло, там внутри уже все грохочет, трещит, как будто его на куски рвут. А эти двое торчат там до сих пор, один скачет, как йо-йо, туда-сюда, второй песни распевает. Если б у меня буер был, я б уже давно парус надул и досвиданьица, до новых встреч, потом расскажете, как оно было. Доведут меня до усрачки, два придурка, особенно дружок Эрго, его прям тянет потрогать за сосцы эту корову небесную, хромоногую. Если он тут окочурится, то
 Гроза была неотвратима. В фиолетовом животе облака уже грохотал гром. Тэ сказал Эргу прекратить полеты, и Барбак со Степпом вынесли его из кратера. Тэ остался совершенно один в том, что когда-то называлось озером, и лег на спину, устроившись странно, как паук вверх тормашками. Время как будто зависло, он больше ничего не говорил, было слышно только надвигающуюся, разрастающуюся бурю. Вдруг у самой земли послышался звук какого-то немыслимого вдоха, который стекался к наставнику Эрга. Шли секунды… Десять… Двадцать… Тридцать… Сорок… Тело Тэ Джеркка было наполнено воздухом, заключенным в апноэ, оно надулось газом так, что, казалось, вот-вот лопнет, весь живот, легкие, все раздулось в размерах и вдруг взорвалось, как шар, выпустив весь воздух! Ударная волна была настолько сильная, что у нас потемнело в ушах. Тэ Джеркка подбросило на метр над землей от ужасающей ярости его собственного леденящего крика.
Гроза была неотвратима. В фиолетовом животе облака уже грохотал гром. Тэ сказал Эргу прекратить полеты, и Барбак со Степпом вынесли его из кратера. Тэ остался совершенно один в том, что когда-то называлось озером, и лег на спину, устроившись странно, как паук вверх тормашками. Время как будто зависло, он больше ничего не говорил, было слышно только надвигающуюся, разрастающуюся бурю. Вдруг у самой земли послышался звук какого-то немыслимого вдоха, который стекался к наставнику Эрга. Шли секунды… Десять… Двадцать… Тридцать… Сорок… Тело Тэ Джеркка было наполнено воздухом, заключенным в апноэ, оно надулось газом так, что, казалось, вот-вот лопнет, весь живот, легкие, все раздулось в размерах и вдруг взорвалось, как шар, выпустив весь воздух! Ударная волна была настолько сильная, что у нас потемнело в ушах. Тэ Джеркка подбросило на метр над землей от ужасающей ярости его собственного леденящего крика.
 Секунда, не более. Миг для эхо. И молния пронзила пространство. Тэ увернулся. Второй разряд пробурил по вертикали. Он снова увильнул. Свет ударял хлыстом по поверхности кратера. Но Тэ Джеркка каждый раз уходил
Секунда, не более. Миг для эхо. И молния пронзила пространство. Тэ увернулся. Второй разряд пробурил по вертикали. Он снова увильнул. Свет ударял хлыстом по поверхности кратера. Но Тэ Джеркка каждый раз уходил
 Потрескивая на базальте, вспыхивая и плавясь, как охапки хвороста, электрическая плазма лишила бы рассудка кого угодно, будь то человек или зверь. Но Тэ Джеркка не просто так получил свое звание мастера молнии в двадцать один год. Он всегда оказывался в другом месте, там, куда молния не доставала, всегда в тени удара, как если бы знал где, как если бы понимал как, как будто угадывал ритм и темп.
Голос, голос, сплошной голос: сик, сик — метал он звуковые стрелы, как лучник, сражающийся против слишком сильного монстра в поисках уязвимого места, стараясь угодить в глаз или в вену. Крики разрастались, выточенные горлом удары гонга, чистый нефеш, волнами… Вскоре вспышки молнии стали настолько частыми, настолько яркими, что обжигали сетчатку глаз, и я уже больше не мог смотреть на все это. Гроза свирепствовала, выходила из себя, была в бешенстве… Молнии бомбили кратер без устали, растекались по черной лаве, Тэ долго не продержится, теперь это был вопрос нескольких минут, не более.
— Дербелен! — орал Эрг. — Фиск Местер! Дербелен!!!
Потрескивая на базальте, вспыхивая и плавясь, как охапки хвороста, электрическая плазма лишила бы рассудка кого угодно, будь то человек или зверь. Но Тэ Джеркка не просто так получил свое звание мастера молнии в двадцать один год. Он всегда оказывался в другом месте, там, куда молния не доставала, всегда в тени удара, как если бы знал где, как если бы понимал как, как будто угадывал ритм и темп.
Голос, голос, сплошной голос: сик, сик — метал он звуковые стрелы, как лучник, сражающийся против слишком сильного монстра в поисках уязвимого места, стараясь угодить в глаз или в вену. Крики разрастались, выточенные горлом удары гонга, чистый нефеш, волнами… Вскоре вспышки молнии стали настолько частыми, настолько яркими, что обжигали сетчатку глаз, и я уже больше не мог смотреть на все это. Гроза свирепствовала, выходила из себя, была в бешенстве… Молнии бомбили кратер без устали, растекались по черной лаве, Тэ долго не продержится, теперь это был вопрос нескольких минут, не более.
— Дербелен! — орал Эрг. — Фиск Местер! Дербелен!!!
 Но учитель не слушал приемного сына. Не слышал того, которого всему обучил. Он не слышал ничего, кроме самой молнии, которой был обязан своим глубинным знанием и своей силой. Тэ Джеркка решил идти до конца.
Но учитель не слушал приемного сына. Не слышал того, которого всему обучил. Он не слышал ничего, кроме самой молнии, которой был обязан своим глубинным знанием и своей силой. Тэ Джеркка решил идти до конца.
 Я знаю, что трубадуры потом нередко писали и говорили об этой сцене, которую я изложил в контржурнале и прочел в Альтиччио перед раклерами. Я знаю, что в нее невозможно поверить. Но не буду спорить, со мной было
Я знаю, что трубадуры потом нередко писали и говорили об этой сцене, которую я изложил в контржурнале и прочел в Альтиччио перед раклерами. Я знаю, что в нее невозможно поверить. Но не буду спорить, со мной было
 Караколь пробыл у рухнувшего на землю гранитного монолита больше часа, он трогал и поглаживал разлетевшиеся вдребезги обломки скалы. Затем подобрал кусочек и положил в карман. Подарок на память? Для личного исследования? Из чувства сопричастности? Когда он меня увидел, то улыбнулся, почти смущенно, затем снова напустил на себя привычный вид трубадура, веселый и исполненный вдохновения, но вышло не совсем правдоподобно. В конце концов он указал мне на каменный блок и сказал:
— Знаешь, ему потребуется несколько недель, чтобы снова обрести скорость. Чтобы снова привести в
Караколь пробыл у рухнувшего на землю гранитного монолита больше часа, он трогал и поглаживал разлетевшиеся вдребезги обломки скалы. Затем подобрал кусочек и положил в карман. Подарок на память? Для личного исследования? Из чувства сопричастности? Когда он меня увидел, то улыбнулся, почти смущенно, затем снова напустил на себя привычный вид трубадура, веселый и исполненный вдохновения, но вышло не совсем правдоподобно. В конце концов он указал мне на каменный блок и сказал:
— Знаешь, ему потребуется несколько недель, чтобы снова обрести скорость. Чтобы снова привести в
 Островок вытянулся прямо в русле ветра. Тонкий песчаный бар метров тридцати в длину. Практически размером со стандартный хрон. Посреди островка загибались три деревца. Степп мне сказал все три названия, но я его не слушал. Мышцы мои были разбиты усталостью. Холодно. Это был холод вторичный, осадочный, тот, который наступает, когда ты уже вышел из воды. Тот, что успел пронизать тебя до прожилок. Каждый ордиец выбрал себе место для ночлега. Леарх говорит, что песок похож на бурый сахар, и он прав. Волны прокатывались со всех сторон вдоль нашего мыса. Наш с Арвалем разведывательный выход к верховью ничего принципиально нового не принес. Все затягивало вечерним туманом. Я успел заметить вдалеке цепочку наносных островков. Они прочерчивали достаточно четкую трассу, но нам придется то и дело опускаться в воду. Все одно и то же уже три недели. Со встречи с Дубильщиком. Половина Орды балансировала на грани. У девочек с лиц сошли все краски. Они были совсем отрешенные от усталости. А мы в лучшем случае находились всего лишь на середине пути, согласно интерполяциям геомастера Тальвега. Никто не пришел в себя после смерти Карста. Никто об этом не говорил.
Я достал свой навес и установил его, укрепив по краям песком. Все те же группки вокруг огня. Сила привычки:
Островок вытянулся прямо в русле ветра. Тонкий песчаный бар метров тридцати в длину. Практически размером со стандартный хрон. Посреди островка загибались три деревца. Степп мне сказал все три названия, но я его не слушал. Мышцы мои были разбиты усталостью. Холодно. Это был холод вторичный, осадочный, тот, который наступает, когда ты уже вышел из воды. Тот, что успел пронизать тебя до прожилок. Каждый ордиец выбрал себе место для ночлега. Леарх говорит, что песок похож на бурый сахар, и он прав. Волны прокатывались со всех сторон вдоль нашего мыса. Наш с Арвалем разведывательный выход к верховью ничего принципиально нового не принес. Все затягивало вечерним туманом. Я успел заметить вдалеке цепочку наносных островков. Они прочерчивали достаточно четкую трассу, но нам придется то и дело опускаться в воду. Все одно и то же уже три недели. Со встречи с Дубильщиком. Половина Орды балансировала на грани. У девочек с лиц сошли все краски. Они были совсем отрешенные от усталости. А мы в лучшем случае находились всего лишь на середине пути, согласно интерполяциям геомастера Тальвега. Никто не пришел в себя после смерти Карста. Никто об этом не говорил.
Я достал свой навес и установил его, укрепив по краям песком. Все те же группки вокруг огня. Сила привычки:
 М-да уж! Остальные-то тоже не особо в огне (разве что кроме Голгота — тот, когда устает, только пуще орать и. пинает, агрессию свою распускать). У нас у всех лица, как у подбитого бражника, мышцы рук все в кашу без масла. И марева вместе с нами, ровно по воде, обволакивают своей ностальгией о том, что когда-то были компактными. Они решительно размыты (особенно по вечерам и ранним утром). После, днем, стягиваются, приобретают форму, с ними можно говорить. Но сейчас (в надвигающихся сумерках) они дают волю своим приглушенным жалобам. Я запустил клетку и потянул назад — пусто, само собой! (точнее, не совсем: попалась серая медуза, обмазала мне всю клетку какой-то слизью. Каллироя нам сделала из нее желе, премерзкий бульон, который лип потом всю ночь к стенкам желудка). Я думал, Караколь нас вытащит из этого оцепенения, выдаст сказку на ночь. Он встал, откашлялся водой и рассказал (на две минуты) историю о Лапсанском паромщике (из серии историй перед сном, чтоб хорошо спалось: какой-то прозрачный тип с ногами из дождевой кожи, который бродит повсюду со своим лезвием из чистой воды и голову тебе срезает ровнехонько по плечи…)
М-да уж! Остальные-то тоже не особо в огне (разве что кроме Голгота — тот, когда устает, только пуще орать и. пинает, агрессию свою распускать). У нас у всех лица, как у подбитого бражника, мышцы рук все в кашу без масла. И марева вместе с нами, ровно по воде, обволакивают своей ностальгией о том, что когда-то были компактными. Они решительно размыты (особенно по вечерам и ранним утром). После, днем, стягиваются, приобретают форму, с ними можно говорить. Но сейчас (в надвигающихся сумерках) они дают волю своим приглушенным жалобам. Я запустил клетку и потянул назад — пусто, само собой! (точнее, не совсем: попалась серая медуза, обмазала мне всю клетку какой-то слизью. Каллироя нам сделала из нее желе, премерзкий бульон, который лип потом всю ночь к стенкам желудка). Я думал, Караколь нас вытащит из этого оцепенения, выдаст сказку на ночь. Он встал, откашлялся водой и рассказал (на две минуты) историю о Лапсанском паромщике (из серии историй перед сном, чтоб хорошо спалось: какой-то прозрачный тип с ногами из дождевой кожи, который бродит повсюду со своим лезвием из чистой воды и голову тебе срезает ровнехонько по плечи…)
 Дождь сначала застучал мелкими шажками, легкой кавалькадой, а затем на нас начали падать целые соцветия, будто кто-то высыпал на головы корзины сережек, охапками, капли барабанили по поверхности воды. Я ну никак не могла уснуть. Говорила с собой, как обычно: «Ну что же ты, глупышка, Аои, отдыхай… День завтра будет изнурительный». Но я чувствовала, что вода вокруг нас странная, и все кружилось передо мной… И я начала тихонько слушать дождь…
Капельки ударялись о податливые листья, о простыню озера, этот непрерывный мягкий шум, тонкий отсев зерен воды, падающих на этот мир, — я не знала ощущений более глубокой нежности, которые умела бы принять с более полным чувством присутствия. Дождь как из жидкого колокола, бьющего секунда за секундой на полном лету, кругом и повсюду, на взболтанную воду, на землю и песок, на лицо Степпа и сквозь дикие травы его волос, дождь, просачивающийся через любую подставленную ему материю, стекающий по прохладному затылку Каллирои, в глубину обнаженного черепа снов, дождь в ушах и во рту, потому что ничто более не могло ему противостоять, дождь, потому что глиняные впадины были слишком малы, чтобы вобрать в себя всю воду, и даже длинные лагуны, дождь, и те затопленные озера, дождь, и все болото… Дождь…
Дождь сначала застучал мелкими шажками, легкой кавалькадой, а затем на нас начали падать целые соцветия, будто кто-то высыпал на головы корзины сережек, охапками, капли барабанили по поверхности воды. Я ну никак не могла уснуть. Говорила с собой, как обычно: «Ну что же ты, глупышка, Аои, отдыхай… День завтра будет изнурительный». Но я чувствовала, что вода вокруг нас странная, и все кружилось передо мной… И я начала тихонько слушать дождь…
Капельки ударялись о податливые листья, о простыню озера, этот непрерывный мягкий шум, тонкий отсев зерен воды, падающих на этот мир, — я не знала ощущений более глубокой нежности, которые умела бы принять с более полным чувством присутствия. Дождь как из жидкого колокола, бьющего секунда за секундой на полном лету, кругом и повсюду, на взболтанную воду, на землю и песок, на лицо Степпа и сквозь дикие травы его волос, дождь, просачивающийся через любую подставленную ему материю, стекающий по прохладному затылку Каллирои, в глубину обнаженного черепа снов, дождь в ушах и во рту, потому что ничто более не могло ему противостоять, дождь, потому что глиняные впадины были слишком малы, чтобы вобрать в себя всю воду, и даже длинные лагуны, дождь, и те затопленные озера, дождь, и все болото… Дождь…
 Дождь начался разом — посыпал дробью по редкой вертикали. Я высунул голову из мешка на секунду, автоматически вытащил накидку, скрученную под затылком, и накрылся ею с головы до ног, подвернув, как получилось, по бокам. Дождь усилился. Весь остаток ночи он пробарабанил по жесткой поверхности навеса. Навес превратился в лоханку, лоханка в таз, а затем переполненный таз пролился на нас под напором шквалов. На рассвете все высматривали солнце молча, не высовываясь из спальников. Затем встала Каллироя — эта девочка была не просто огница, она поистине была настоящая волшебница, — и огонь разгорелся практически сразу, сначала дымящий, но очень вскоре ясный и жаркий, а над ним Силамфр выстроил портик из наших промокших до нитки спальников.
— Подождите, пойдем все вместе! Святой Ветер, да послушайте же! Это болото опасное. Даже Эрг с вами еще не вышел.
— Всем оставаться группой! Дайте доесть эту чертову похлебку!
Дождь начался разом — посыпал дробью по редкой вертикали. Я высунул голову из мешка на секунду, автоматически вытащил накидку, скрученную под затылком, и накрылся ею с головы до ног, подвернув, как получилось, по бокам. Дождь усилился. Весь остаток ночи он пробарабанил по жесткой поверхности навеса. Навес превратился в лоханку, лоханка в таз, а затем переполненный таз пролился на нас под напором шквалов. На рассвете все высматривали солнце молча, не высовываясь из спальников. Затем встала Каллироя — эта девочка была не просто огница, она поистине была настоящая волшебница, — и огонь разгорелся практически сразу, сначала дымящий, но очень вскоре ясный и жаркий, а над ним Силамфр выстроил портик из наших промокших до нитки спальников.
— Подождите, пойдем все вместе! Святой Ветер, да послушайте же! Это болото опасное. Даже Эрг с вами еще не вышел.
— Всем оставаться группой! Дайте доесть эту чертову похлебку!
 Но куда там. Любопытству нет пределов. Арваля уже унесло вперед. Голгот и Фирост вслед за ним. Караколь, Ороси и Степп нырнули следом. Я только видел, как их кильватер вспенился в пару тумана. Дымка держалась
Но куда там. Любопытству нет пределов. Арваля уже унесло вперед. Голгот и Фирост вслед за ним. Караколь, Ороси и Степп нырнули следом. Я только видел, как их кильватер вспенился в пару тумана. Дымка держалась
 Я услышал ответ Фироста с вершины башни. По всей видимости, надпись было трудно разобрать, так как он сначала что-то промямлил, и лишь потом выговорил:
— Тут написано: «Никогда… не… говори… фонтан…»
За чем последовал какой-то нездоровый звук, похожий на мокрый кашель…
— Все в порядке там наверху? — тут же осведомился Караколь, который уже был на последних ступенях лестницы.
— Альма! Альма! Позовите Альму!
— Что случилось?
— Он задыхается! Фиросту плохо!
— Фирост!
Я рванул вверх по лестнице и чуть было не поскользнулся, угодив в воду с восьми метров к подножью башни.
Я услышал ответ Фироста с вершины башни. По всей видимости, надпись было трудно разобрать, так как он сначала что-то промямлил, и лишь потом выговорил:
— Тут написано: «Никогда… не… говори… фонтан…»
За чем последовал какой-то нездоровый звук, похожий на мокрый кашель…
— Все в порядке там наверху? — тут же осведомился Караколь, который уже был на последних ступенях лестницы.
— Альма! Альма! Позовите Альму!
— Что случилось?
— Он задыхается! Фиросту плохо!
— Фирост!
Я рванул вверх по лестнице и чуть было не поскользнулся, угодив в воду с восьми метров к подножью башни.
 Голгот схватил Фироста и сунул ему два пальца прямо в горло по самое не могу… Но это совершенно ничего не дало. Лицо столповика перекосилось от дикой, невыносимой паники. Вода лилась из него ручьями через нос, слезами из глаз, через открытый рот, из ушей. Он мочился сам под себя, вода выливалась даже из его ануса. Вся кожа обезвоживалась. Он изо всех сил пытался вдохнуть, но вместо этого только икал, всасывал воздух, который не мог поймать. Его хрипы тонули в глубине горла.
Голгот схватил Фироста и сунул ему два пальца прямо в горло по самое не могу… Но это совершенно ничего не дало. Лицо столповика перекосилось от дикой, невыносимой паники. Вода лилась из него ручьями через нос, слезами из глаз, через открытый рот, из ушей. Он мочился сам под себя, вода выливалась даже из его ануса. Вся кожа обезвоживалась. Он изо всех сил пытался вдохнуть, но вместо этого только икал, всасывал воздух, который не мог поймать. Его хрипы тонули в глубине горла.
 На платформе все были в полнейшем замешательстве, совершенно не в состоянии отреагировать на происходящее. Альмы не было, Караколь застыл молча, Ороси смотрела попеременно то на водоворот в колодце, то на надпись, то на Фироста. Она была в таком же недоумении, как и я.
— Арваль, что случилось? Что он сделал?
— Ничего! Он просто прочитал надпись! А потом…
— Какую надпись?
— Здесь, на бортике!
Караколь подошел ближе, он выглядел так, будто у него было плохое предчувствие:
— Возможно, это глиф, — сказал он. — Устный глиф. Фраза, которая действует посредством звука. Может, эти слова вызывают…
— О каких словах ты говоришь, Ветер Святый?
На платформе все были в полнейшем замешательстве, совершенно не в состоянии отреагировать на происходящее. Альмы не было, Караколь застыл молча, Ороси смотрела попеременно то на водоворот в колодце, то на надпись, то на Фироста. Она была в таком же недоумении, как и я.
— Арваль, что случилось? Что он сделал?
— Ничего! Он просто прочитал надпись! А потом…
— Какую надпись?
— Здесь, на бортике!
Караколь подошел ближе, он выглядел так, будто у него было плохое предчувствие:
— Возможно, это глиф, — сказал он. — Устный глиф. Фраза, которая действует посредством звука. Может, эти слова вызывают…
— О каких словах ты говоришь, Ветер Святый?
 Альма Капис, дочь Лакмилы Капис, из рода весьма многоуважаемых врачевательниц, обернулась и, сама по понимая, что делает, залепила Голготу здоровенную
Альма Капис, дочь Лакмилы Капис, из рода весьма многоуважаемых врачевательниц, обернулась и, сама по понимая, что делает, залепила Голготу здоровенную
 «Ну ты не перегибай, Голгот», — прозвучало единственным укором в его адрес. Эти слова застряли в грудной клетке у каждого из нас, готовые выплюнуться наружу, но только Пьетро счел себя вправе им это позволить. Голгот прищурился, глядя ему прямо в глаза, но ничего не сказал. Ничего слышимого, во всяком случае. Альма, все еще оглушенная, уже поднялась назад по винтовой лестнице. Она даже не глянула в сторону Голгота, а сразу бросилась к Арвалю и Фиросту, которым мы поочередно силой вдували через трубки то воздух, то воду.
— Ороси, Караколь, идите сюда. Сов, ты тоже.
Мы отошли в сторону, на первые ступени противоположной лестницы.
— Объясняю вам ситуацию просто, как могу. У них в трахее крутится воронка. Такая форма хрона, михрон аквального типа, который питается водой. Ороси должна понимать, о чем я. Его нельзя извлечь механическим
«Ну ты не перегибай, Голгот», — прозвучало единственным укором в его адрес. Эти слова застряли в грудной клетке у каждого из нас, готовые выплюнуться наружу, но только Пьетро счел себя вправе им это позволить. Голгот прищурился, глядя ему прямо в глаза, но ничего не сказал. Ничего слышимого, во всяком случае. Альма, все еще оглушенная, уже поднялась назад по винтовой лестнице. Она даже не глянула в сторону Голгота, а сразу бросилась к Арвалю и Фиросту, которым мы поочередно силой вдували через трубки то воздух, то воду.
— Ороси, Караколь, идите сюда. Сов, ты тоже.
Мы отошли в сторону, на первые ступени противоположной лестницы.
— Объясняю вам ситуацию просто, как могу. У них в трахее крутится воронка. Такая форма хрона, михрон аквального типа, который питается водой. Ороси должна понимать, о чем я. Его нельзя извлечь механическим
 С вершины башни, под наконец ясным солнцем озеро было как на ладони до самого горизонта. В каком направлении ни глянь. Линия зыби обрывалась гребнями. Сгустки пены рассыпались пятнами по голубой скатерти
С вершины башни, под наконец ясным солнцем озеро было как на ладони до самого горизонта. В каком направлении ни глянь. Линия зыби обрывалась гребнями. Сгустки пены рассыпались пятнами по голубой скатерти
 У меня с Караколем был жесткий разговор. Я его в покое оставлять не собиралась, пока он мне все не выдаст, пока все не объяснит. Я расспросила и о Дубильщике, и о приемах Тэ Джеркка, и о том, что именно ему было известно о нефеше, о старинном искусстве дыхания, для которого глиф на бортике колодца был просто остатками чего-то очень древнего, чем-то грубым и незатейливым. Затем я пошла к Сову и передала ему все свои умозаключения, попросила все это записать своими словами в контржурнал. Чтобы мы об этом больше никогда не забывали, и чтоб наше интеллектуальное продвижение послужило в свою очередь другим Ордам, если сами мы до конца не дойдем.
У меня с Караколем был жесткий разговор. Я его в покое оставлять не собиралась, пока он мне все не выдаст, пока все не объяснит. Я расспросила и о Дубильщике, и о приемах Тэ Джеркка, и о том, что именно ему было известно о нефеше, о старинном искусстве дыхания, для которого глиф на бортике колодца был просто остатками чего-то очень древнего, чем-то грубым и незатейливым. Затем я пошла к Сову и передала ему все свои умозаключения, попросила все это записать своими словами в контржурнал. Чтобы мы об этом больше никогда не забывали, и чтоб наше интеллектуальное продвижение послужило в свою очередь другим Ордам, если сами мы до конца не дойдем.
 С этого дня моя работа скриба изменилась. Я стал больше обращаться к устному, к слышимому, к Караколю и к его гению сказителя, к тайне его интуитивных порывов, которые в свою очередь стали проявляться еще сильнее. И самое главное, моя работа устремилась к новому для меня знанию, к нему лежал очень долгий путь, едва различимый на ощупь в тяжеловесном, густом тумане, который столь редко разрывали вспышки света, что, пожалуй, в моем журнале не место его отблескам. Его следу.
(обратно)
С этого дня моя работа скриба изменилась. Я стал больше обращаться к устному, к слышимому, к Караколю и к его гению сказителя, к тайне его интуитивных порывов, которые в свою очередь стали проявляться еще сильнее. И самое главное, моя работа устремилась к новому для меня знанию, к нему лежал очень долгий путь, едва различимый на ощупь в тяжеловесном, густом тумане, который столь редко разрывали вспышки света, что, пожалуй, в моем журнале не место его отблескам. Его следу.
(обратно)
 Два дня отдыха пошли нам на пользу невероятно, Альма успела всех подлечить, размассировать наши уставшие чела, залечить раны телесные и душевные. Она была из тех, кто выступал против прямой переправы через озеро. Но присоединилась к большинству и теперь выполняла свою работу с такой отдачей и заботой к нашим телам, что это вызывало уважение. Голгот всегда называл ее «рохлей». Но я считаю, что она прекрасна: адаптируется под каждого, всегда находит время для того, кто в ней нуждается. В Орде вообще не бывает плакс. Если Орда разваливается, то это, как правило, случается из-за одного или нескольких членов группы, которым не оказали нужную поддержку. Орда не может выжить без своего Клинка. Но Клинок — не более чем обычное орало, он просто вспахивает землю. А спасают Орду те, кто идет сзади, в Паке: флерон Степп, например, со своей неиссякаемой энергией, которой он уже целый месяц делится со всеми ними. Без него мы едва ли смогли бы прилично контровать в этой трясине. Он угадывает состав почв, плотность земли исключительно по растениям и верхушкам деревьев на поверхности воды. А Силамфр вместе с Ороси настроил и смазал все ветряки, установленные под поплавками. Испытательные заплывы дали весьма убедительные
Два дня отдыха пошли нам на пользу невероятно, Альма успела всех подлечить, размассировать наши уставшие чела, залечить раны телесные и душевные. Она была из тех, кто выступал против прямой переправы через озеро. Но присоединилась к большинству и теперь выполняла свою работу с такой отдачей и заботой к нашим телам, что это вызывало уважение. Голгот всегда называл ее «рохлей». Но я считаю, что она прекрасна: адаптируется под каждого, всегда находит время для того, кто в ней нуждается. В Орде вообще не бывает плакс. Если Орда разваливается, то это, как правило, случается из-за одного или нескольких членов группы, которым не оказали нужную поддержку. Орда не может выжить без своего Клинка. Но Клинок — не более чем обычное орало, он просто вспахивает землю. А спасают Орду те, кто идет сзади, в Паке: флерон Степп, например, со своей неиссякаемой энергией, которой он уже целый месяц делится со всеми ними. Без него мы едва ли смогли бы прилично контровать в этой трясине. Он угадывает состав почв, плотность земли исключительно по растениям и верхушкам деревьев на поверхности воды. А Силамфр вместе с Ороси настроил и смазал все ветряки, установленные под поплавками. Испытательные заплывы дали весьма убедительные
 Я не хотел сюда идти. Перед нами открывалось море (можете называть это «центральной зоной» или «большим озером», раз вашим ушам так приятнее), и когда стоишь вот так на пляже, а перед тобой пусто все вплоть
Я не хотел сюда идти. Перед нами открывалось море (можете называть это «центральной зоной» или «большим озером», раз вашим ушам так приятнее), и когда стоишь вот так на пляже, а перед тобой пусто все вплоть
 Голгот натянул комбинезон с отрезанными по локоть рукавами. Побрил себе голову ножом, как сумел, и теперь пучки волос торчали на его массивном черепе. Он был в куда лучшей форме, чем все остальные. В бесконечно более лучшей, чем я. Он присел в воде, глядя на пляж, где мы, пользуясь последними сухими мгновениями, затягивали свои трапеции и укладывали в бочонки фляжки с маслом. Он заговорил. Преимущество его голоса в каком-то смысле было в том, что не было необходимости слушать Трассера, чтобы услышать. Я Голгота не любила, ни одна из девочек тоже, его необходительность, грубые манеры отталкивали, но я была восприимчива к внутренней тотальной уверенности, которую он источал. Похожей на гранит. С ним можно было практически забыть о том, что мы шли на смерть, самая явная опасность сразу казалась сомнительной и надуманной, будущее могло существовать только с нами, со всеми нами. Смерть Карста с него как будто соскользнула. Тронула, конечно, я была в этом почти уверена, но он ни в чем не изменился, ничто для себя не пересмотрел. Не знаю, откуда в нем это было, эта сила, эта герметичная кора, которая покрывала Голгота. Я никогда не видела Трассера покоренным, уязвимым. Как только он начал говорить, Ороси по-заговорщицки, хитро мне улыбнулась:
— Не буду вам пускать зефирин в глаза: перед нами, прямо на восток — центральная зона! А значит, довольно долго впереди не будет ни единого острова, только волны
Голгот натянул комбинезон с отрезанными по локоть рукавами. Побрил себе голову ножом, как сумел, и теперь пучки волос торчали на его массивном черепе. Он был в куда лучшей форме, чем все остальные. В бесконечно более лучшей, чем я. Он присел в воде, глядя на пляж, где мы, пользуясь последними сухими мгновениями, затягивали свои трапеции и укладывали в бочонки фляжки с маслом. Он заговорил. Преимущество его голоса в каком-то смысле было в том, что не было необходимости слушать Трассера, чтобы услышать. Я Голгота не любила, ни одна из девочек тоже, его необходительность, грубые манеры отталкивали, но я была восприимчива к внутренней тотальной уверенности, которую он источал. Похожей на гранит. С ним можно было практически забыть о том, что мы шли на смерть, самая явная опасность сразу казалась сомнительной и надуманной, будущее могло существовать только с нами, со всеми нами. Смерть Карста с него как будто соскользнула. Тронула, конечно, я была в этом почти уверена, но он ни в чем не изменился, ничто для себя не пересмотрел. Не знаю, откуда в нем это было, эта сила, эта герметичная кора, которая покрывала Голгота. Я никогда не видела Трассера покоренным, уязвимым. Как только он начал говорить, Ороси по-заговорщицки, хитро мне улыбнулась:
— Не буду вам пускать зефирин в глаза: перед нами, прямо на восток — центральная зона! А значит, довольно долго впереди не будет ни единого острова, только волны

 Голгот сдержал слово. Первые три дня на шестом заплыве за день он тащил за собой Аои, а Эрг буксировал Каллирою, у которой судороги начинались еще на пятом, и плыть она могла только при помощи рук и здоровой ноги. Мы теперь были мастерами плыть кролем по волнам, перекатываясь с гребня на подошву волн, мы даже неплохо приноровились начинать грести сразу, едва перевалив за гребень, пользуясь инерцией склона волны перед следующим накатом, и одновременно ослабляли веревку, чтобы не получить буйком вдогонку. Мы плыли день… Два… Три… Уши заложило водой, нами овладело настойчивое чувство одиночества, парадоксальное ощущение тотальной изолированности друг от друга, несмотря на белеющую впереди пену от ударов ног или мелькающие поблизости руки, мы продвигались вперед с головой, погруженной в мутный от ила пейзаж, то путаясь в длиннющих водорослях, то натыкаясь на редкий клочок песка под ногами, и я все больше плыл с закрытыми глазами, потому что мне было страшно, потому что было проще плыть, не думая, плыть час, другой, чувствуя на первых порах плавные, податливые мускулы, которые затем начинали наливаться свинцом, а правое плечо скрипело к вечеру и заклинивало при вращении. А еще были остановки, на четверть часа, не больше, чтобы передохнуть между сериями, и мы старались разбить водный саркофаг, сказать друг другу хоть что-то кроме «мне холодно, у меня трапеция скользит, я больше не могу, и у меня винт не крутится…» Эти передышки утомляли иногда даже больше, чем заплывы, настолько оказывалось сложно расслабиться на вытянутых поплавках, и чтоб волной не опрокинуло обратно в воду, так что мы, как правило, просто молча лежали на спине в ожидании сигнала Голгота на новый заплыв. Время от времени я позволял телу уйти ко дну, лишь бы нащупать под ногами почву и хоть
Голгот сдержал слово. Первые три дня на шестом заплыве за день он тащил за собой Аои, а Эрг буксировал Каллирою, у которой судороги начинались еще на пятом, и плыть она могла только при помощи рук и здоровой ноги. Мы теперь были мастерами плыть кролем по волнам, перекатываясь с гребня на подошву волн, мы даже неплохо приноровились начинать грести сразу, едва перевалив за гребень, пользуясь инерцией склона волны перед следующим накатом, и одновременно ослабляли веревку, чтобы не получить буйком вдогонку. Мы плыли день… Два… Три… Уши заложило водой, нами овладело настойчивое чувство одиночества, парадоксальное ощущение тотальной изолированности друг от друга, несмотря на белеющую впереди пену от ударов ног или мелькающие поблизости руки, мы продвигались вперед с головой, погруженной в мутный от ила пейзаж, то путаясь в длиннющих водорослях, то натыкаясь на редкий клочок песка под ногами, и я все больше плыл с закрытыми глазами, потому что мне было страшно, потому что было проще плыть, не думая, плыть час, другой, чувствуя на первых порах плавные, податливые мускулы, которые затем начинали наливаться свинцом, а правое плечо скрипело к вечеру и заклинивало при вращении. А еще были остановки, на четверть часа, не больше, чтобы передохнуть между сериями, и мы старались разбить водный саркофаг, сказать друг другу хоть что-то кроме «мне холодно, у меня трапеция скользит, я больше не могу, и у меня винт не крутится…» Эти передышки утомляли иногда даже больше, чем заплывы, настолько оказывалось сложно расслабиться на вытянутых поплавках, и чтоб волной не опрокинуло обратно в воду, так что мы, как правило, просто молча лежали на спине в ожидании сигнала Голгота на новый заплыв. Время от времени я позволял телу уйти ко дну, лишь бы нащупать под ногами почву и хоть
 Сокольник совсем выдохся, сам не знает что говорит от усталости. Я не спускал с Ороси глаз. Она попросила Тальвега подержать ее за веревку, пока она цепляла на себя груз, чтоб опуститься на дно. Навскидку глубина была метра три, не больше. Видно было, как она опустилась, на песок, и, вытянув руки горизонтально вперед, сначала села лицом к югу, затем повернулась к северу. Она хотела проверить направления течений. Минуту спустя снова вынырнула на поверхность.
— Ну как?
— Аои права. Подводное течение сносит нас к югу.
— Тогда, думаю, нам лучше продолжать плыть, чтоб отплыть отсюда как можно дальше. Что скажешь, Голгот?
— Як! Давайте снова на позиции! Эрг, прикроешь правый фланг на всякий случай. Сматываем удочки. Если что не так — кричите! И плывите кочанами своими над водой по возможности, чтоб не пропустить ничего!
Сокольник совсем выдохся, сам не знает что говорит от усталости. Я не спускал с Ороси глаз. Она попросила Тальвега подержать ее за веревку, пока она цепляла на себя груз, чтоб опуститься на дно. Навскидку глубина была метра три, не больше. Видно было, как она опустилась, на песок, и, вытянув руки горизонтально вперед, сначала села лицом к югу, затем повернулась к северу. Она хотела проверить направления течений. Минуту спустя снова вынырнула на поверхность.
— Ну как?
— Аои права. Подводное течение сносит нас к югу.
— Тогда, думаю, нам лучше продолжать плыть, чтоб отплыть отсюда как можно дальше. Что скажешь, Голгот?
— Як! Давайте снова на позиции! Эрг, прикроешь правый фланг на всякий случай. Сматываем удочки. Если что не так — кричите! И плывите кочанами своими над водой по возможности, чтоб не пропустить ничего!
 Мы проплыли кролем, как в лихорадке, около получаса. Мы почти касались друг друга, настолько близко держались. Из-за эффекта психоза или нет, но я и правда чувствовал течение, а также звук, который не мог определить, идущий откуда-то из глубины и не стихающий по мере того, как мы отплывали. На этот раз нас остановил Тальвег. Он держал над водой один из своих замысловатых инструментов — что-то среднее между компасом, ротором и секстаном. Он делал свои измерения и после минуты гробовой тишины категорично заявил:
— Мы отклонились от курса. Мы плывем прямо на юг…
Мы проплыли кролем, как в лихорадке, около получаса. Мы почти касались друг друга, настолько близко держались. Из-за эффекта психоза или нет, но я и правда чувствовал течение, а также звук, который не мог определить, идущий откуда-то из глубины и не стихающий по мере того, как мы отплывали. На этот раз нас остановил Тальвег. Он держал над водой один из своих замысловатых инструментов — что-то среднее между компасом, ротором и секстаном. Он делал свои измерения и после минуты гробовой тишины категорично заявил:
— Мы отклонились от курса. Мы плывем прямо на юг…

 Когда мы только начали плыть, флажок был у нас за спиной. Спустя десять минут усердного брасса он был… на расстоянии одно броска бума, слева от нас! Страх явно ощущался в наших дрожащих голосах. Окружающие нас волны как будто опали. Теперь уже никто не сомневался в уносящем нас течении, оно обвивало наши ноги, тянуло за собой. Каллироя примкнула ко мне и держала меня за руку, вся Орда сжалась в круг, каждый на своем поплавке, как по рефлексу животного мира, страх пульсировал, нарастал, мы бессознательно отдавались в распоряжение наших предводителей — Голгота, Пьетро, Эрга, смотрели на Ороси, которая напряженно о чем-то думала, скрестив руки на своем бочонке. Она подняла голову и подобралась поближе к нам, стала успокаивать словами, которые только она одна знала в подобную минуту, от нее, как всегда, веяло уверенностью, ее ум никогда ее не подводил, как бы мне тоже хотелось быть на нее похожей.
Когда мы только начали плыть, флажок был у нас за спиной. Спустя десять минут усердного брасса он был… на расстоянии одно броска бума, слева от нас! Страх явно ощущался в наших дрожащих голосах. Окружающие нас волны как будто опали. Теперь уже никто не сомневался в уносящем нас течении, оно обвивало наши ноги, тянуло за собой. Каллироя примкнула ко мне и держала меня за руку, вся Орда сжалась в круг, каждый на своем поплавке, как по рефлексу животного мира, страх пульсировал, нарастал, мы бессознательно отдавались в распоряжение наших предводителей — Голгота, Пьетро, Эрга, смотрели на Ороси, которая напряженно о чем-то думала, скрестив руки на своем бочонке. Она подняла голову и подобралась поближе к нам, стала успокаивать словами, которые только она одна знала в подобную минуту, от нее, как всегда, веяло уверенностью, ее ум никогда ее не подводил, как бы мне тоже хотелось быть на нее похожей.
 В расплывающейся вокруг цепенеющей тишине я наконец смог отчетливо различить звук, который Силамфр услышал еще час назад. Как будто рядом журчала речка, вот только каким таким образом она могла течь посреди озера?! Скорость дрейфа усиливалась, мы пытались сократить смещение, насколько могли, мы вовсю молотили ногами, схватившись за ручки поплавков, но течение все нарастало, звук становился все громче и все точнее говорил об опасности…
Голгот:
— Постараемся поставить платформу и заколотить ее в самое дно. По двое на столб. Арваль, сделаешь ямы под каждый, чтоб держались лучше. Эрг, закрепишь поперечные балки! Остальные, будете передавать ему балки, поддерживать столбы и контровать против течения!
В расплывающейся вокруг цепенеющей тишине я наконец смог отчетливо различить звук, который Силамфр услышал еще час назад. Как будто рядом журчала речка, вот только каким таким образом она могла течь посреди озера?! Скорость дрейфа усиливалась, мы пытались сократить смещение, насколько могли, мы вовсю молотили ногами, схватившись за ручки поплавков, но течение все нарастало, звук становился все громче и все точнее говорил об опасности…
Голгот:
— Постараемся поставить платформу и заколотить ее в самое дно. По двое на столб. Арваль, сделаешь ямы под каждый, чтоб держались лучше. Эрг, закрепишь поперечные балки! Остальные, будете передавать ему балки, поддерживать столбы и контровать против течения!
 Я в тот же миг обернулся туда, откуда раздавался звук, и вдруг увидел, как он появился, словно из ниоткуда. Воду вокруг как отшлифовали под силой течения — сплошное зеркало. А в центре… А в центре — дыра, — кругообразный колодец, диаметр которого медленно расходится, открывается, словно разверзающаяся пасть. Мы были метрах в ста от сифона. Не более. Грохот водопада стоял такой, что приходилось кричать, лишь бы услышать друг друга. Но никто не кричал. Мы знали, что сифон существует. Знали. Но никто из нас не думал, что он может на самом деле попасться нам именно здесь. Посреди центральной зоны, именно здесь. Где наши шансы выжить равны приблизительно нулю. Я плыл, захлебываясь, глотая воду, среди мечущихся вокруг рук и ног, получая удары, расталкивая других, утопая, с разрывающимся сердцем, практически идя ко дну, пока голос Голгота не пронзил туннель безумия и не вырвался наружу:
— Опоры! Ставьте опоры! Фиксируйте позиции столбами, вбивайте их в дно, ставьте опоры впереди себя. Всем держаться! Орда вы или молокососы?!
Я в тот же миг обернулся туда, откуда раздавался звук, и вдруг увидел, как он появился, словно из ниоткуда. Воду вокруг как отшлифовали под силой течения — сплошное зеркало. А в центре… А в центре — дыра, — кругообразный колодец, диаметр которого медленно расходится, открывается, словно разверзающаяся пасть. Мы были метрах в ста от сифона. Не более. Грохот водопада стоял такой, что приходилось кричать, лишь бы услышать друг друга. Но никто не кричал. Мы знали, что сифон существует. Знали. Но никто из нас не думал, что он может на самом деле попасться нам именно здесь. Посреди центральной зоны, именно здесь. Где наши шансы выжить равны приблизительно нулю. Я плыл, захлебываясь, глотая воду, среди мечущихся вокруг рук и ног, получая удары, расталкивая других, утопая, с разрывающимся сердцем, практически идя ко дну, пока голос Голгота не пронзил туннель безумия и не вырвался наружу:
— Опоры! Ставьте опоры! Фиксируйте позиции столбами, вбивайте их в дно, ставьте опоры впереди себя. Всем держаться! Орда вы или молокососы?!

 Метрах в пяти позади меня Арваль отреагировал незамедлительно. Он двумя руками схватил бамбуковый шест, и, воспользовавшись скоростью течения, словно рыцарь на поединке, пронесся по воде и вонзил его по диагонали в песчаный щит на дне озера. Сработало, он ухватился за шест и повис на нем. Не раздумывая, я поддался течению и, зацепившись за Арваля, прилип к нему. Ороси вместе с нами. Чуть поодаль Голгот наценил на свой шест другую гроздь из четверых ордийцев. За ним Степп, Тальвег и Пьетро, и с ними три других группы. Мы дрожали на наших шатких опорах, как листва на ветру. Я пересчитал: восемнадцать. Кого не хватает?
Метрах в пяти позади меня Арваль отреагировал незамедлительно. Он двумя руками схватил бамбуковый шест, и, воспользовавшись скоростью течения, словно рыцарь на поединке, пронесся по воде и вонзил его по диагонали в песчаный щит на дне озера. Сработало, он ухватился за шест и повис на нем. Не раздумывая, я поддался течению и, зацепившись за Арваля, прилип к нему. Ороси вместе с нами. Чуть поодаль Голгот наценил на свой шест другую гроздь из четверых ордийцев. За ним Степп, Тальвег и Пьетро, и с ними три других группы. Мы дрожали на наших шатких опорах, как листва на ветру. Я пересчитал: восемнадцать. Кого не хватает?
 Эрг метался зигзагами по периметру сифона. Круговой водопад завораживал. Занавес разъяренной пены покрывал внутреннюю часть цилиндра. Рассмотреть глубину было невозможно. Два тела отнесло к дыре меньше чем на полсотни метров. Я хотел закричать, но Эрг их уже увидел. Он вырвал кого-то из воды, как птица на охоте рыбу клювом, и отбросил на сто метров перед нами. Это была Аои! Он бросился к другому парализованному от страха телу, и также отнес его от опасности: Каллироя. Один шест сорвался — группа Степпа. Его, Ларко и Караколя тут же понесло течение, как если бы они летели вниз по ледяной горе. Они сопротивлялись всей своей физической мощью. Лихорадочно колотили ногами и руками по воде в ритме паники. Они хватались за воду, каким-то чудом держались, их относило все ближе к дыре… снова за что-то ухватились и держатся, силы небесные, но вот опять уходят дальше, еще на пять метров ближе к сифону. Им ни за что не выкарабкаться… Но вдруг крыло Эрга пронеслось над Ларко, подхватило его в невероятном пике и отнесло
Эрг метался зигзагами по периметру сифона. Круговой водопад завораживал. Занавес разъяренной пены покрывал внутреннюю часть цилиндра. Рассмотреть глубину было невозможно. Два тела отнесло к дыре меньше чем на полсотни метров. Я хотел закричать, но Эрг их уже увидел. Он вырвал кого-то из воды, как птица на охоте рыбу клювом, и отбросил на сто метров перед нами. Это была Аои! Он бросился к другому парализованному от страха телу, и также отнес его от опасности: Каллироя. Один шест сорвался — группа Степпа. Его, Ларко и Караколя тут же понесло течение, как если бы они летели вниз по ледяной горе. Они сопротивлялись всей своей физической мощью. Лихорадочно колотили ногами и руками по воде в ритме паники. Они хватались за воду, каким-то чудом держались, их относило все ближе к дыре… снова за что-то ухватились и держатся, силы небесные, но вот опять уходят дальше, еще на пять метров ближе к сифону. Им ни за что не выкарабкаться… Но вдруг крыло Эрга пронеслось над Ларко, подхватило его в невероятном пике и отнесло
 На нем не было лица. Вернее, страх стал его лицом. Отовсюду голоса рубили шум водопада, крики бороздили пространство, вой вырывался из самого нутра, разрывал нам горло… Там, почти на краю обрыва, держались по грудь в воде Караколь и Степп, течение пропахивало воду вокруг них и отталкивало метр за метром все ближе к дыре, как дверь под ударами тарана, они боролись всеми человеческими ресурсами, которые в них были, чтобы не угодить в бездну. Они, похоже, доставали ногами до дна! Затягиваемые сифоном земля и песок сформировали небольшой бортик по краю гигантского колодца — метров тридцать в ширину. Они изо всех сил старались вколотить свои опорные в это паршивое сыпучее дно. Эрг больше ничего для них сделать не мог, на таком расстоянии от сифона он только поставил бы под угрозу свою собственную жизнь, крыло могло закрутить и засосать насосом со дна бездны. Он и не смотрел на них больше, он решил сначала спасти нас, и метал из своего арбамата гарпуны в самый ил, чтобы обеспечить новые точки для швартовки, надежнее, чем наши дрожащие и соскальзывающие шесты.
— Хватайте веревку и плывите за ними! Давайте быстрее! Длины хватит, чтоб до них достать!
На нем не было лица. Вернее, страх стал его лицом. Отовсюду голоса рубили шум водопада, крики бороздили пространство, вой вырывался из самого нутра, разрывал нам горло… Там, почти на краю обрыва, держались по грудь в воде Караколь и Степп, течение пропахивало воду вокруг них и отталкивало метр за метром все ближе к дыре, как дверь под ударами тарана, они боролись всеми человеческими ресурсами, которые в них были, чтобы не угодить в бездну. Они, похоже, доставали ногами до дна! Затягиваемые сифоном земля и песок сформировали небольшой бортик по краю гигантского колодца — метров тридцать в ширину. Они изо всех сил старались вколотить свои опорные в это паршивое сыпучее дно. Эрг больше ничего для них сделать не мог, на таком расстоянии от сифона он только поставил бы под угрозу свою собственную жизнь, крыло могло закрутить и засосать насосом со дна бездны. Он и не смотрел на них больше, он решил сначала спасти нас, и метал из своего арбамата гарпуны в самый ил, чтобы обеспечить новые точки для швартовки, надежнее, чем наши дрожащие и соскальзывающие шесты.
— Хватайте веревку и плывите за ними! Давайте быстрее! Длины хватит, чтоб до них достать!
 Горст даже думать не стал — отцепился от своего шеста и поплыл кролем по диагонали. Схватил веревку, что болталась на поверхности, и привязался. Даже не проверил, держится ли. Ему было все равно, на какой риск идти. Он скользнул по потоку, пропуская канат меж пальцев, и добрался до Караколя. Степп был слишком далеко, даже
Горст даже думать не стал — отцепился от своего шеста и поплыл кролем по диагонали. Схватил веревку, что болталась на поверхности, и привязался. Даже не проверил, держится ли. Ему было все равно, на какой риск идти. Он скользнул по потоку, пропуская канат меж пальцев, и добрался до Караколя. Степп был слишком далеко, даже
 Никто его не видел, кроме собственной группы, но они ничего не смогли сделать: он соскользнул в воду у них за спинами, самый молодой из фаркопщиков, парень напористый и цепкий, он и плавать-то научился, только
Никто его не видел, кроме собственной группы, но они ничего не смогли сделать: он соскользнул в воду у них за спинами, самый молодой из фаркопщиков, парень напористый и цепкий, он и плавать-то научился, только
 Эрг сделал единственную вещь, которая имела сейчас смысл: он проделал второй ряд точек анкеровки по бортику пропасти. Первый был в семидесяти метрах от обрыва, там, где мы сейчас цеплялись за жизнь. Второй описывал пропасть в пяти метрах от обрыва, для дополнительной безопасности. На случай, если гарпуны первого ряда не выдержат. К каждому из десяти гарпунов был привязан страховочный ус, на конце которого закреплено по ивовому буйку. Между ними Эрг протянул трос по поверхности воды. Все это сооружение напоминало плавучее полукруглое ограждение, за которое он сказал нам зацепиться, равномерно распределив вес. Балки и перекладины платформы закрепил за отдельный гарпун поодаль. Эрг в чистом виде. Какое самообладание.
Эрг сделал единственную вещь, которая имела сейчас смысл: он проделал второй ряд точек анкеровки по бортику пропасти. Первый был в семидесяти метрах от обрыва, там, где мы сейчас цеплялись за жизнь. Второй описывал пропасть в пяти метрах от обрыва, для дополнительной безопасности. На случай, если гарпуны первого ряда не выдержат. К каждому из десяти гарпунов был привязан страховочный ус, на конце которого закреплено по ивовому буйку. Между ними Эрг протянул трос по поверхности воды. Все это сооружение напоминало плавучее полукруглое ограждение, за которое он сказал нам зацепиться, равномерно распределив вес. Балки и перекладины платформы закрепил за отдельный гарпун поодаль. Эрг в чистом виде. Какое самообладание.
 Если б меня попросили назвать самую жесткую мандражку в моей жизни, такую, чтоб полный кишковорот случился, чтоб аж по желобу текло, если б сказали весь мешок перебрать, так я б вот эту выбрал. Лапсанский сифон. Когда Эрг заклепал кусок озера гарпунами, как в Кер Дербане учат: точняк, верняк, быстряк, когда все ордийцы защелкнули свои трапеции за трос, когда здоровяк Степп собственной тягой вытащил себя из зоны прощания, я подумал, дело выгорело. Прорва так или иначе заполнится, ну или в озере воды не останется, по крайней мере с нашей стороны. Думал, рано или поздно таки достанем до
Если б меня попросили назвать самую жесткую мандражку в моей жизни, такую, чтоб полный кишковорот случился, чтоб аж по желобу текло, если б сказали весь мешок перебрать, так я б вот эту выбрал. Лапсанский сифон. Когда Эрг заклепал кусок озера гарпунами, как в Кер Дербане учат: точняк, верняк, быстряк, когда все ордийцы защелкнули свои трапеции за трос, когда здоровяк Степп собственной тягой вытащил себя из зоны прощания, я подумал, дело выгорело. Прорва так или иначе заполнится, ну или в озере воды не останется, по крайней мере с нашей стороны. Думал, рано или поздно таки достанем до
 Голос Эрга было еле слышно. Водопад грохотал передо мной стремительным, головокружительным потоком. Стенки омута покрывала бурлящая пена, вода прибывала отовсюду и какими-то чудовищными количествами стекала в бездну. Мне хотелось крикнуть ему спасибо, потому что он, с его необыкновенной методичностью и упрямой предусмотрительностью, только что спас нам всем жизнь. Он вытащил короткое крыло, которым вынужден был управлять двумя руками, настолько ветер был непредсказуем. Передвигаясь быстрыми интервалами, подхватывал
Голос Эрга было еле слышно. Водопад грохотал передо мной стремительным, головокружительным потоком. Стенки омута покрывала бурлящая пена, вода прибывала отовсюду и какими-то чудовищными количествами стекала в бездну. Мне хотелось крикнуть ему спасибо, потому что он, с его необыкновенной методичностью и упрямой предусмотрительностью, только что спас нам всем жизнь. Он вытащил короткое крыло, которым вынужден был управлять двумя руками, настолько ветер был непредсказуем. Передвигаясь быстрыми интервалами, подхватывал
 Сов глянул на меня, но не поверил. Это вряд ли кто-то заметил, но сифон не стоял на месте. Он продолжал расширяться. Его край продвигался все дальше, и пять метров, которые отделяли нас от пропасти, постепенно превратились в четыре, затем в три… Теперь мы стояли так близко к ней, что скоро наконец могли бы увидеть, что там, на дне… Я была к этому готова и даже ждала с нетерпением, откровенно говоря… Зов пустоты раздался где-то глубоко у меня внутри…
— Отступить на четыре шага! — кричал Эрг. — Не смотрите вниз. Сконцентрируйтесь на дыхании и на опорных!
Сов глянул на меня, но не поверил. Это вряд ли кто-то заметил, но сифон не стоял на месте. Он продолжал расширяться. Его край продвигался все дальше, и пять метров, которые отделяли нас от пропасти, постепенно превратились в четыре, затем в три… Теперь мы стояли так близко к ней, что скоро наконец могли бы увидеть, что там, на дне… Я была к этому готова и даже ждала с нетерпением, откровенно говоря… Зов пустоты раздался где-то глубоко у меня внутри…
— Отступить на четыре шага! — кричал Эрг. — Не смотрите вниз. Сконцентрируйтесь на дыхании и на опорных!
 — Нужно отойти, Карст!
— Да, лучше!
— Видел сколько выдр, Ка?
— Ага, я их поймать пытаюсь, но их всех уносит!
— Ага, уносит, да!
— Надо попробовать их спасти!
— Попробуем, да?
— Давай, ты к ним лицом повернись, чтоб было лучше видно!
— Нужно отойти, Карст!
— Да, лучше!
— Видел сколько выдр, Ка?
— Ага, я их поймать пытаюсь, но их всех уносит!
— Ага, уносит, да!
— Надо попробовать их спасти!
— Попробуем, да?
— Давай, ты к ним лицом повернись, чтоб было лучше видно!
 Крути, верти, водоворот, через запад на восток.
А коснешься дна пруда — поминай тебя Орда.
Святая спираль хроталей, какой изумительный день! Скорость, ах скорость — я вновь живу, ах скорость, увижу ль я вас снова? Вода тяжела, вода неспешна, вода длинна, да здравствует эхолалия! Дождливая вакханалия! Воздуха мне, воздуха — быстрого, мчащего, иначе жмет, сжимается, кровь сжижается… На краю обрыва ничего не страшно, можно упасть, полететь по отвесной, можно сальто в прыжке, загреметь и в воде новых сил зачерпнуть? Только вниз не смотри, когда все обернется, потому что, поскольку, ведь и впредь, так как и не иначе, уж поскольку все повернется, и синтаксический зверь по бортику незаметно пройдется, и перезапустит ротор наоборот… Так давай! Не давай. Будь смелее, Карак… Или ты, трубодыр, не готов жить до дыр — так смотри же, когда самодыр пустит дух. Обещаешь? Плюнь да соври? Ради Кориолисички хотя бы, ради Совчонка-волчонка, да Оросительницы, ну и собора нашего Голготического?
Так что же наша песенка? Заводи пианиссимо:
Крути, верти, водоворот, через запад на восток.
А коснешься дна пруда — поминай тебя Орда.
Святая спираль хроталей, какой изумительный день! Скорость, ах скорость — я вновь живу, ах скорость, увижу ль я вас снова? Вода тяжела, вода неспешна, вода длинна, да здравствует эхолалия! Дождливая вакханалия! Воздуха мне, воздуха — быстрого, мчащего, иначе жмет, сжимается, кровь сжижается… На краю обрыва ничего не страшно, можно упасть, полететь по отвесной, можно сальто в прыжке, загреметь и в воде новых сил зачерпнуть? Только вниз не смотри, когда все обернется, потому что, поскольку, ведь и впредь, так как и не иначе, уж поскольку все повернется, и синтаксический зверь по бортику незаметно пройдется, и перезапустит ротор наоборот… Так давай! Не давай. Будь смелее, Карак… Или ты, трубодыр, не готов жить до дыр — так смотри же, когда самодыр пустит дух. Обещаешь? Плюнь да соври? Ради Кориолисички хотя бы, ради Совчонка-волчонка, да Оросительницы, ну и собора нашего Голготического?
Так что же наша песенка? Заводи пианиссимо:

 Если он упадет, брошусь вслед за ним. Водная пасть ощерила на нас свои клыки и скоро проглотит. Если я сорвусь или гарпун мой слетит, то на этом мне и конец, до обрыва два метра, он все ближе и ближе, но я не хочу, не хочу, не надо, пожалуйста, я хочу жить, хочу любить его, помогите же нам кто-нибудь! Тонны воды толкают меня в спину, больше нет сил держаться, не чувствую рук в ледяной воде, чего мы ждем? Я боюсь смотреть вниз, у меня голова идет кругом, и этот звук, жуткий звук, мерзкое всасывание, это зверь, звериная пасть и дыхание зверя, зверь из самых недр земли, он сожрет наши внутренности, Караколь, посмотри на меня еще, рассмеши меня снова, помоги мне поверить, не оставляй меня! Караколь!
Если он упадет, брошусь вслед за ним. Водная пасть ощерила на нас свои клыки и скоро проглотит. Если я сорвусь или гарпун мой слетит, то на этом мне и конец, до обрыва два метра, он все ближе и ближе, но я не хочу, не хочу, не надо, пожалуйста, я хочу жить, хочу любить его, помогите же нам кто-нибудь! Тонны воды толкают меня в спину, больше нет сил держаться, не чувствую рук в ледяной воде, чего мы ждем? Я боюсь смотреть вниз, у меня голова идет кругом, и этот звук, жуткий звук, мерзкое всасывание, это зверь, звериная пасть и дыхание зверя, зверь из самых недр земли, он сожрет наши внутренности, Караколь, посмотри на меня еще, рассмеши меня снова, помоги мне поверить, не оставляй меня! Караколь!
 Я бы сжал руку Кориолис в своих руках и никогда бы не отпускал (слово Ларко). Она бы не упала в пропасть, пока я живой! Она не упала? «Не смотрите вниз!» — заорал Эрг, но я не смог сдержаться. Обрыв будет метров сто и внизу будет небо (стеклянное небо) и диафановые марева, разрумянившиеся по краю, подсвеченные (келейно) солнцем иного мира. Я достал воздушную клетку, хоп! Не могу прийти в себя. Я заворожен формой марев, и в самом деле начал видеть, как небо приближается к нам, поднимается наверх (как отражение на дне бочки, заполняемой водой). Понимаете? Но по мере того как, оно больше не было прозрачным (это небо), скорее жидким, и марево болталось в нем студенистое, дрожащее, как желе в голубой мисочке. И потом, и теперь я не в состоянии дать вам лицевую сторону изнанки, но я хотя бы понимаю вот что, ордийцы: марево превратилось в медузу! Я тяну за веревку клетку, она будет медузой, в моей руке будет клейкое щупальце, кислота обжигает мне плоть, я закричу, я поднимаю голову, марево стало клубнем, из него прорезаются
Я бы сжал руку Кориолис в своих руках и никогда бы не отпускал (слово Ларко). Она бы не упала в пропасть, пока я живой! Она не упала? «Не смотрите вниз!» — заорал Эрг, но я не смог сдержаться. Обрыв будет метров сто и внизу будет небо (стеклянное небо) и диафановые марева, разрумянившиеся по краю, подсвеченные (келейно) солнцем иного мира. Я достал воздушную клетку, хоп! Не могу прийти в себя. Я заворожен формой марев, и в самом деле начал видеть, как небо приближается к нам, поднимается наверх (как отражение на дне бочки, заполняемой водой). Понимаете? Но по мере того как, оно больше не было прозрачным (это небо), скорее жидким, и марево болталось в нем студенистое, дрожащее, как желе в голубой мисочке. И потом, и теперь я не в состоянии дать вам лицевую сторону изнанки, но я хотя бы понимаю вот что, ордийцы: марево превратилось в медузу! Я тяну за веревку клетку, она будет медузой, в моей руке будет клейкое щупальце, кислота обжигает мне плоть, я закричу, я поднимаю голову, марево стало клубнем, из него прорезаются
 Будешь плыть, Барбак, будешь плыть, грести. Увидишь остров. Недалеко. В досягаемости. Поплывешь к нему. Вот ты уже близко. Отдохнешь. Кто-то орет через водопад. Ты ничего не слышал. Ты бы плыл, плыл. Еще. Плыл бы еще. Да, Барбак, именно ты, парень: фаркопщик. Голос. Из водопада. Но ты не слышишь. Плывешь к острову. Странные деревья на нем. Как мачты. Ты не въезжаешь, что к чему. Остров скоро будет совсем близко. Но ты же медленно плыл. Это он к тебе приблизился, значит? До тебя вдруг дошло. Открываешь глаза под водой. Под островом ты вроде видел корни? Свисают. Значит, не корни? Лианы целыми кучами, прозрачные? Липкие. Поймешь слишком поздно. Это была островомедуза.
Будешь плыть, Барбак, будешь плыть, грести. Увидишь остров. Недалеко. В досягаемости. Поплывешь к нему. Вот ты уже близко. Отдохнешь. Кто-то орет через водопад. Ты ничего не слышал. Ты бы плыл, плыл. Еще. Плыл бы еще. Да, Барбак, именно ты, парень: фаркопщик. Голос. Из водопада. Но ты не слышишь. Плывешь к острову. Странные деревья на нем. Как мачты. Ты не въезжаешь, что к чему. Остров скоро будет совсем близко. Но ты же медленно плыл. Это он к тебе приблизился, значит? До тебя вдруг дошло. Открываешь глаза под водой. Под островом ты вроде видел корни? Свисают. Значит, не корни? Лианы целыми кучами, прозрачные? Липкие. Поймешь слишком поздно. Это была островомедуза.
 Если и оставался в этом во всем какой-то звук, за который еще можно было зацепиться, то это был голос Эрга, рубящий тембр его указаний в густоте рокота. Он сказал не смотреть, и я послушно закрыл глаза. Как бы там ни было, ничто из зримого не дало бы мне лучшей картины о происходящем, чем сама консистенция воды вокруг ног, пальцев рук. Что касается расстояния до обрыва, то той неистовости, с которой стегали меня по лицу завитки пара, было достаточно, чтобы все ощутить и принять: я имею в виду умереть здесь, если настало время и место. У воды, как и у дерева, как и у любой другой материи, есть своя собственная плотность, пластичность и звучание. Достаточно просто слушать, чтобы понять, как ушами, так и ладонями рук. То, что произошло, что бы ни говорили,
Если и оставался в этом во всем какой-то звук, за который еще можно было зацепиться, то это был голос Эрга, рубящий тембр его указаний в густоте рокота. Он сказал не смотреть, и я послушно закрыл глаза. Как бы там ни было, ничто из зримого не дало бы мне лучшей картины о происходящем, чем сама консистенция воды вокруг ног, пальцев рук. Что касается расстояния до обрыва, то той неистовости, с которой стегали меня по лицу завитки пара, было достаточно, чтобы все ощутить и принять: я имею в виду умереть здесь, если настало время и место. У воды, как и у дерева, как и у любой другой материи, есть своя собственная плотность, пластичность и звучание. Достаточно просто слушать, чтобы понять, как ушами, так и ладонями рук. То, что произошло, что бы ни говорили,
 Махокрыл пусть что хочет долдонит, смотри-не смотри, а я по борту сфлангировался и фонари свои растопырил. Три секунды не прошло, а я себе уже шкуру прикусил. Вижу, там внизу чувак какой-то, крепкий такой, коренастый, как горс, а в руках у него ледорубы, что ли, и он с ними лезет вертикально по водопаду! Только водопад весь заледенел! А вместо пены — поземище белючее повсюду, а то, что этому амбалу по морде елозит, так слегка похоже на лавину в три мощности! Я фонари свои вырубил и снова врубил, да так пару раз, думал, пройдет. Это ты подустал, Голготина! Смотрю опять — парень снова тут, прикрученный к ледяной стене, а его сверху снегом, как мукой, посыпает! А под ним смотрю еще другие скалолазят в этом белом дерьме! Тот, что крепкий, к ним повернулся и орет «Нооооор… Ноооооорр… Ноооооррсссккккааааа!!!», и не рыпнулся даже, влупил кирку в стену и дальше полез, борзый, как я не знаю кто, сорвибашка парень! Чего я ждал? Не знаю… Чтоб его башка в двадцати метрах от моей оказалась, чтоб мне наконец как под дых дало: он когда рожу свою ко мне поднял, не за помощью, ясное дело, этот не из таких, я только тогда увидел, полным кадром рассмотрел: чувак этот, что по стене карабкается — это я!
Махокрыл пусть что хочет долдонит, смотри-не смотри, а я по борту сфлангировался и фонари свои растопырил. Три секунды не прошло, а я себе уже шкуру прикусил. Вижу, там внизу чувак какой-то, крепкий такой, коренастый, как горс, а в руках у него ледорубы, что ли, и он с ними лезет вертикально по водопаду! Только водопад весь заледенел! А вместо пены — поземище белючее повсюду, а то, что этому амбалу по морде елозит, так слегка похоже на лавину в три мощности! Я фонари свои вырубил и снова врубил, да так пару раз, думал, пройдет. Это ты подустал, Голготина! Смотрю опять — парень снова тут, прикрученный к ледяной стене, а его сверху снегом, как мукой, посыпает! А под ним смотрю еще другие скалолазят в этом белом дерьме! Тот, что крепкий, к ним повернулся и орет «Нооооор… Ноооооорр… Ноооооррсссккккааааа!!!», и не рыпнулся даже, влупил кирку в стену и дальше полез, борзый, как я не знаю кто, сорвибашка парень! Чего я ждал? Не знаю… Чтоб его башка в двадцати метрах от моей оказалась, чтоб мне наконец как под дых дало: он когда рожу свою ко мне поднял, не за помощью, ясное дело, этот не из таких, я только тогда увидел, полным кадром рассмотрел: чувак этот, что по стене карабкается — это я!
 Назад, назад… Меня назад. Не смотреть вниз, не видеть призрак меня, как бежит по снегу один, и труп Аои, труп ручейка свеженький в снегу, труп не видеть, нельзя, не хочу, назад… В сифоне будущее, знаю, будущее, нам Ороси сказала, Ороси знает, сифон нехорошо, я не хотеть видеть реку падающих снежинок и трупик Аои, Ауа лед, «Беги, несись, Светлячок…», и я бежал, бежал по глубокому снегу, по быстрому снегу, видел тело упало, скос, тело проскребло утес. И что… Будущее не это, от будущего бежать… Нет!!! Назад за веревку… не соскользнуть…
Назад, назад… Меня назад. Не смотреть вниз, не видеть призрак меня, как бежит по снегу один, и труп Аои, труп ручейка свеженький в снегу, труп не видеть, нельзя, не хочу, назад… В сифоне будущее, знаю, будущее, нам Ороси сказала, Ороси знает, сифон нехорошо, я не хотеть видеть реку падающих снежинок и трупик Аои, Ауа лед, «Беги, несись, Светлячок…», и я бежал, бежал по глубокому снегу, по быстрому снегу, видел тело упало, скос, тело проскребло утес. И что… Будущее не это, от будущего бежать… Нет!!! Назад за веревку… не соскользнуть…
 Ну Ларко, ну что за придурок! Говорят ему, не смотри, а он весь прям ныряет туда от любопытства. Если окочурится, я плакать не стану. Эрг его спас в предсмертную минуту, вот он — мастер.
Я как подумаю, что мы Карста потеряли, а при этом с нами по-прежнему Ларко таскается! Поди разберись… где тут справедливость… Он даже в ордонатуре не был… Карста нам очень не хватает, жестко не хватает. Таким фланговикам, как он и его братец, замену не найдешь, тут и надеяться нечего. Можно фаркопщика потерять, но фланговика! Напор наконец стих, я уже даже не верил, и уровень воды неслабо снизился. Уже не надо держаться за перила. Сифон, похоже, начинает пересыхать. Но только пока еще все равно ширится, отступать приходится. Вода стала мягкая, странная. И судя по физиономиям тех, кому пришла на ум плохая идея заглянуть в эту дыру, так ничего хорошего они там не увидели. Вообще ничего хорошего… Справа от меня Арваль стоит весь белый, а слева — Аои рыдает так, что смотреть больно… Не нравится мне все это. После фонтанной башни я из себя смельчака не строю перед хронами.
Ну Ларко, ну что за придурок! Говорят ему, не смотри, а он весь прям ныряет туда от любопытства. Если окочурится, я плакать не стану. Эрг его спас в предсмертную минуту, вот он — мастер.
Я как подумаю, что мы Карста потеряли, а при этом с нами по-прежнему Ларко таскается! Поди разберись… где тут справедливость… Он даже в ордонатуре не был… Карста нам очень не хватает, жестко не хватает. Таким фланговикам, как он и его братец, замену не найдешь, тут и надеяться нечего. Можно фаркопщика потерять, но фланговика! Напор наконец стих, я уже даже не верил, и уровень воды неслабо снизился. Уже не надо держаться за перила. Сифон, похоже, начинает пересыхать. Но только пока еще все равно ширится, отступать приходится. Вода стала мягкая, странная. И судя по физиономиям тех, кому пришла на ум плохая идея заглянуть в эту дыру, так ничего хорошего они там не увидели. Вообще ничего хорошего… Справа от меня Арваль стоит весь белый, а слева — Аои рыдает так, что смотреть больно… Не нравится мне все это. После фонтанной башни я из себя смельчака не строю перед хронами.
 Аои слушала меня, смотрела на меня своими глазами-бусинками, покрытыми росой, и рыдала. Она была на пределе, безпреувеличений. Кожа ее завяла. Я не мог ей признаться, что видел то же, что и она. Свежесть ее видения меня ужасала: оно было как две капли воды похоже на мое. Я гладил ее по затылку и продолжал с ней говорить, какой прекрасный букет эта девочка, какая щедрость, спонтанность, невероятно… Насколько же нужно любить
Аои слушала меня, смотрела на меня своими глазами-бусинками, покрытыми росой, и рыдала. Она была на пределе, безпреувеличений. Кожа ее завяла. Я не мог ей признаться, что видел то же, что и она. Свежесть ее видения меня ужасала: оно было как две капли воды похоже на мое. Я гладил ее по затылку и продолжал с ней говорить, какой прекрасный букет эта девочка, какая щедрость, спонтанность, невероятно… Насколько же нужно любить
 Отец сделал несколько шагов мне навстречу, его плохо видно, он у мамы за спиной. Мы с ней рыдаем, слезы радости, долгожданной встречи, она отходит в сторону. Отец подходит ближе, лицо его все обгоревшее, как у укротителей огня и кузнецов, радость проникла в него сзади, растрескивает складочки у рта, разбивает чашу его щеки. Он улыбается мне, обхватывает обеими руками, отрывает от земли. «Прости меня», — говорит он. «Я должен был в тебя верить», — говорит он. «Спасибо, что ты жива», — говорит он.
Отец сделал несколько шагов мне навстречу, его плохо видно, он у мамы за спиной. Мы с ней рыдаем, слезы радости, долгожданной встречи, она отходит в сторону. Отец подходит ближе, лицо его все обгоревшее, как у укротителей огня и кузнецов, радость проникла в него сзади, растрескивает складочки у рта, разбивает чашу его щеки. Он улыбается мне, обхватывает обеими руками, отрывает от земли. «Прости меня», — говорит он. «Я должен был в тебя верить», — говорит он. «Спасибо, что ты жива», — говорит он.
 По бортику водоворота течение стихло. Вода доходит нам до колен. Расширение сифона поглотило
По бортику водоворота течение стихло. Вода доходит нам до колен. Расширение сифона поглотило
 Нас на классической географии такому не учили. Лично я это рыбным бульоном называю. Если коротко, то это был водоворот навыворот. Я таких парочку уже заметил по болоту. Но здесь, такого размера, в этой кастрюле сорока метров шириной… Похлебка стала бурлить, и уровень воды поднялся. Я туда внутрь особо не заглядывал. Эффект хрона еще был активным, и я каждый раз видел одно и то же: пустыню с отшлифованными камнями и статую моего отца на коленях, со своим молотком в руке, стоявшую на какой-то плите. Что с ним, окаменел? Горизонт закрывала высоченная скала. Гранит, пегматит, если не ошибаюсь. Я различал контуры какого-то села, впереди стояла мельница, косо-криво построенная из глинистого песчаника… Какие-то люди возраста моего отца бежали нам навстречу. Кто-то бросился в объятия Пьетро, кто-то к Сову. Их родители? Кажется, кто-то упал. А кто?
Нас на классической географии такому не учили. Лично я это рыбным бульоном называю. Если коротко, то это был водоворот навыворот. Я таких парочку уже заметил по болоту. Но здесь, такого размера, в этой кастрюле сорока метров шириной… Похлебка стала бурлить, и уровень воды поднялся. Я туда внутрь особо не заглядывал. Эффект хрона еще был активным, и я каждый раз видел одно и то же: пустыню с отшлифованными камнями и статую моего отца на коленях, со своим молотком в руке, стоявшую на какой-то плите. Что с ним, окаменел? Горизонт закрывала высоченная скала. Гранит, пегматит, если не ошибаюсь. Я различал контуры какого-то села, впереди стояла мельница, косо-криво построенная из глинистого песчаника… Какие-то люди возраста моего отца бежали нам навстречу. Кто-то бросился в объятия Пьетро, кто-то к Сову. Их родители? Кажется, кто-то упал. А кто?
 Получалось целых пятеро, Пресвятой Ветер! Сначала Карст, потом Свезьест. А теперь, ровно когда все
Получалось целых пятеро, Пресвятой Ветер! Сначала Карст, потом Свезьест. А теперь, ровно когда все
 Я сделал, как сказал Эрг, и привязал веревку к ногавке кречета. Завязал и подбросил его вверх. Тот мигом взмыл над пропастью с веревкой в лапах, а на конце балластовый камень.
Дал ему четверть порции, чтобы не было погадки, — и он очень смело и решительно проделал путь между тепловыми потоками, как настоящая ловчая птица, коей и являлся. Если кто-то в пропасти остался в живых, пускай высмотрит веревку и ухватится. Тогда будет достаточно, чтоб
Я сделал, как сказал Эрг, и привязал веревку к ногавке кречета. Завязал и подбросил его вверх. Тот мигом взмыл над пропастью с веревкой в лапах, а на конце балластовый камень.
Дал ему четверть порции, чтобы не было погадки, — и он очень смело и решительно проделал путь между тепловыми потоками, как настоящая ловчая птица, коей и являлся. Если кто-то в пропасти остался в живых, пускай высмотрит веревку и ухватится. Тогда будет достаточно, чтоб
 Наш сокольник меня слегка изводил. Несмотря на то, что замечание его было справедливо, сейчас отнюдь не место и не время для ссор и препираний о дрессировке птиц высокого и низкого полета. Неотложность ситуации превыше всего. К тому же, каким бы мощным ни был его кречет, он все же имел весьма сомнительную пользу для трех ордийцев, чьи тела то показывались, то скрывались от нас в клокочущей бездне, не считая того, что на таком расстоянии никто не способен был точно разобрать, боролись ли они, пытаясь выбраться из пучины, или же их тела просто раскачивало на волнах, одним словом, проявила ли жизнь благородство и соизволила ли оказать им свою поддержку после такого падения. На конце веревки несчастный камень болтался, как маятник, а сокол, которого никак нельзя было уличить в дерзости бесстрашия, и не думал спуститься ниже в жерло пучины, чтобы за балласт можно было ухватиться внизу. Да и вообще, на очередном толчке восходящего потока он быстренько поднялся вверх, подальше от пропасти, утащив за собой веревку, и затерялся где-то в облаках, невидимый для самых зорких глаз и глухой к неистовым попыткам Дарбона позвать его назад…
Наш сокольник меня слегка изводил. Несмотря на то, что замечание его было справедливо, сейчас отнюдь не место и не время для ссор и препираний о дрессировке птиц высокого и низкого полета. Неотложность ситуации превыше всего. К тому же, каким бы мощным ни был его кречет, он все же имел весьма сомнительную пользу для трех ордийцев, чьи тела то показывались, то скрывались от нас в клокочущей бездне, не считая того, что на таком расстоянии никто не способен был точно разобрать, боролись ли они, пытаясь выбраться из пучины, или же их тела просто раскачивало на волнах, одним словом, проявила ли жизнь благородство и соизволила ли оказать им свою поддержку после такого падения. На конце веревки несчастный камень болтался, как маятник, а сокол, которого никак нельзя было уличить в дерзости бесстрашия, и не думал спуститься ниже в жерло пучины, чтобы за балласт можно было ухватиться внизу. Да и вообще, на очередном толчке восходящего потока он быстренько поднялся вверх, подальше от пропасти, утащив за собой веревку, и затерялся где-то в облаках, невидимый для самых зорких глаз и глухой к неистовым попыткам Дарбона позвать его назад…

 Говоря откровенно, я себя чувствовал как в расплавленном чугуне, только что горячо не было. Все вокруг булькало огромными пузырями, ил вместе с грязью кипел густой, плотной смесью, хотелось вымесить все это кулаками. Вода поднималась, впадина заполнялась… И это нас спасло. Наша смерть откладывалась до следующего раза, и точка! Хотя я, конечно, все видел, когда заглядывал в дыру, где это будет и как. Но она меня все равно не возьмет по-простому, пусть так и знает. Не моего типа женщина, эта, с косой в руках. Я будущее по-своему вижу. Это как метательный диск, если погнется, так нужно его выпрямить молотком. В худшем случае снова на закалку пустить, сколько придется, пока вновь не станет мягким и податливым. Я сделаю все, что нужно. У меня железом на спине выжжено: «Выплави свою судьбу сам». Не видела, что ли, дорогуша?
Говоря откровенно, я себя чувствовал как в расплавленном чугуне, только что горячо не было. Все вокруг булькало огромными пузырями, ил вместе с грязью кипел густой, плотной смесью, хотелось вымесить все это кулаками. Вода поднималась, впадина заполнялась… И это нас спасло. Наша смерть откладывалась до следующего раза, и точка! Хотя я, конечно, все видел, когда заглядывал в дыру, где это будет и как. Но она меня все равно не возьмет по-простому, пусть так и знает. Не моего типа женщина, эта, с косой в руках. Я будущее по-своему вижу. Это как метательный диск, если погнется, так нужно его выпрямить молотком. В худшем случае снова на закалку пустить, сколько придется, пока вновь не станет мягким и податливым. Я сделаю все, что нужно. У меня железом на спине выжжено: «Выплави свою судьбу сам». Не видела, что ли, дорогуша?
 Думаю, мы с Эргом были единственные, кто до самого конца досмотрел весь процесс имплозии, охвативший сифон, в сформировавшемся по итогу стеклянном вод-
Думаю, мы с Эргом были единственные, кто до самого конца досмотрел весь процесс имплозии, охвативший сифон, в сформировавшемся по итогу стеклянном вод-
 Голгот объявил официальный день отдыха. Эрг каким-то чудом позаботился даже о том, чтобы спасти нашу платформу, и мы установили ее над водой, на относительном мелководье. Под нашим весом опоры моментально вошли в ил. На полу не хватало реек, но никто на это не жаловался. У Каллирои были сломаны обе ноги — таранная кость, как сказала Альма. Она попросила меня подвесить куполовидные жаровни под платформой. Я закрепил их под четырьмя вырезанными в полу квадратными отверстиями, разложил по жаровням древесину и полил ее маслом. Снизу прикрепил вентиляционные винты. Наша огница подползла на коленях, завела свою инерционную мельничку, дала ей раскрутиться на ветру и развела с ее помощью все четыре огня. Ороси поместила ветряки обратного движения и направила теплопроводящие трубки. Затем развесила перед ними промокшую одежду. Каллироя приготовила праздничный обед. Она была потрясена случившимся и вместе с тем очень рада. Она сама еще до конца не верила в то, что выжила.
Идея с платформой, которой мы были обязаны Силамфру, спасла нас от изнеможения в центральной зоне. Она была нашей гаванью покоя каждый вечер. Нашим складным и передвижным островком. Ороси и Каллироя
Голгот объявил официальный день отдыха. Эрг каким-то чудом позаботился даже о том, чтобы спасти нашу платформу, и мы установили ее над водой, на относительном мелководье. Под нашим весом опоры моментально вошли в ил. На полу не хватало реек, но никто на это не жаловался. У Каллирои были сломаны обе ноги — таранная кость, как сказала Альма. Она попросила меня подвесить куполовидные жаровни под платформой. Я закрепил их под четырьмя вырезанными в полу квадратными отверстиями, разложил по жаровням древесину и полил ее маслом. Снизу прикрепил вентиляционные винты. Наша огница подползла на коленях, завела свою инерционную мельничку, дала ей раскрутиться на ветру и развела с ее помощью все четыре огня. Ороси поместила ветряки обратного движения и направила теплопроводящие трубки. Затем развесила перед ними промокшую одежду. Каллироя приготовила праздничный обед. Она была потрясена случившимся и вместе с тем очень рада. Она сама еще до конца не верила в то, что выжила.
Идея с платформой, которой мы были обязаны Силамфру, спасла нас от изнеможения в центральной зоне. Она была нашей гаванью покоя каждый вечер. Нашим складным и передвижным островком. Ороси и Каллироя
 На несколько секунд воцарилось молчание. Нелегкий выбор между очередной уверткой или ложью? Между приодетой правдой или нагой? Волны потихоньку стихли, слышно было, как они мягко ударяются о бамбуковые опоры.
— Я видел то же, что и вы, друзья мои.
— Твое будущее?
— Нет. Я видел то же, что и вы. Будьте любезны включить ветряки в ушах и слушать повнимательнее… Я видел ваши собственные видения.
— Наши? Одно за другим?
На несколько секунд воцарилось молчание. Нелегкий выбор между очередной уверткой или ложью? Между приодетой правдой или нагой? Волны потихоньку стихли, слышно было, как они мягко ударяются о бамбуковые опоры.
— Я видел то же, что и вы, друзья мои.
— Твое будущее?
— Нет. Я видел то же, что и вы. Будьте любезны включить ветряки в ушах и слушать повнимательнее… Я видел ваши собственные видения.
— Наши? Одно за другим?
 Караколь оценил колкость и ограничился тем, что запустил свой бумеранг… лежа. Бум вернулся ему в руку. Я взял слово:
— Если вкратце изложить твою теорию, Караколь, то ты утверждаешь, что сифон способен заключать в себе сегменты будущего? Что он в каком-то смысле память будущего? И что он выпустил в нашем присутствии то будущее, которое ждет каждого из нас?
— Як!
— Лично меня от этой мысли в дрожь бросает… Значит, все написано заранее? — вмешался Пьетро.
Караколь оценил колкость и ограничился тем, что запустил свой бумеранг… лежа. Бум вернулся ему в руку. Я взял слово:
— Если вкратце изложить твою теорию, Караколь, то ты утверждаешь, что сифон способен заключать в себе сегменты будущего? Что он в каком-то смысле память будущего? И что он выпустил в нашем присутствии то будущее, которое ждет каждого из нас?
— Як!
— Лично меня от этой мысли в дрожь бросает… Значит, все написано заранее? — вмешался Пьетро.
 Ночь сгущалась. Нас оставалось пятеро: Караколь, Ороси, Сов, Силамфр и я. Ороси была, как обычно, самая сосредоточенная:
— Думаете нужно воспринимать эти видения как знак?
— Какой?
— Что не стоит следовать за своим основным будущим, а лучше за вторичными вариантами становления. Что нужно уметь отклоняться, создавать для себя новый подход к существованию. Не следовать за естественным ходом наклона. Ну или подниматься вместо того, чтобы катиться вниз.
— Для кого как, Ороси. Что ты видела такого, что хочешь изменить?
Ночь сгущалась. Нас оставалось пятеро: Караколь, Ороси, Сов, Силамфр и я. Ороси была, как обычно, самая сосредоточенная:
— Думаете нужно воспринимать эти видения как знак?
— Какой?
— Что не стоит следовать за своим основным будущим, а лучше за вторичными вариантами становления. Что нужно уметь отклоняться, создавать для себя новый подход к существованию. Не следовать за естественным ходом наклона. Ну или подниматься вместо того, чтобы катиться вниз.
— Для кого как, Ороси. Что ты видела такого, что хочешь изменить?
 Переправа через центральную зону заняла еще две недели, но тела наши привыкли, и мы больше не боялись худшего. Последние три дня полноводья перед нами на линии огня виднелась скала, выступающая из воды, и мы знали, что самое трудное позади.
Снова потянулись удручающие пейзажи туманов и зарослей тростника, но теперь в них было что-то нам знакомое. Через месяц, если удача не отвернется от нас, мы будем в Шавондаси, и я снова увижу Нушку — воспоминание о ней, под этой нависающей серостью, еще проскальзывало между водой и моей кожей чем-то красным и теплым.
Переправа через центральную зону заняла еще две недели, но тела наши привыкли, и мы больше не боялись худшего. Последние три дня полноводья перед нами на линии огня виднелась скала, выступающая из воды, и мы знали, что самое трудное позади.
Снова потянулись удручающие пейзажи туманов и зарослей тростника, но теперь в них было что-то нам знакомое. Через месяц, если удача не отвернется от нас, мы будем в Шавондаси, и я снова увижу Нушку — воспоминание о ней, под этой нависающей серостью, еще проскальзывало между водой и моей кожей чем-то красным и теплым.
 Земля наконец стала проступать на поверхности тонкими песчаными язычками, одинокими наносными островками. Центральная бескрайняя зона была теперь позади, растительность возвращалась. Степп видел в этом знак, что берег близок, он ориентировался по наносам и плотинам. Мы продвигались вперед на ощупь, сквозь туман, в зелено-серо-коричневой мозаике болот, илистых участков, влажных прерий и солончаков, которые Степп называл шорами. Он рассказывал мне о колонизации илистых участков, разжевывал для меня понятие «займище», говорил ученые названия, рассказывал о питательных и лечебных свойствах, учил проводить связь между растениями, между растениями и средой, между растениями и животными… Что мне больше всего в нем нравилось, так это энтузиазм, его неутолимая жажда открывать все новые редкие растения или несообразную «среду обитания», которые казались ему немыслимыми для того или иного существа: иволистный дербенник в солоноватой воде, например, или солерос в пресной. «Смотри!» — кричал он и бросался в очередной торфяник, гладил торфяной мох, пробовал на вкус цветок, распуская его в лохмотья, разрывая на тонкие лепестки в своих пальцах. Он ко всему принюхивался, глотал все, что видел, он
Земля наконец стала проступать на поверхности тонкими песчаными язычками, одинокими наносными островками. Центральная бескрайняя зона была теперь позади, растительность возвращалась. Степп видел в этом знак, что берег близок, он ориентировался по наносам и плотинам. Мы продвигались вперед на ощупь, сквозь туман, в зелено-серо-коричневой мозаике болот, илистых участков, влажных прерий и солончаков, которые Степп называл шорами. Он рассказывал мне о колонизации илистых участков, разжевывал для меня понятие «займище», говорил ученые названия, рассказывал о питательных и лечебных свойствах, учил проводить связь между растениями, между растениями и средой, между растениями и животными… Что мне больше всего в нем нравилось, так это энтузиазм, его неутолимая жажда открывать все новые редкие растения или несообразную «среду обитания», которые казались ему немыслимыми для того или иного существа: иволистный дербенник в солоноватой воде, например, или солерос в пресной. «Смотри!» — кричал он и бросался в очередной торфяник, гладил торфяной мох, пробовал на вкус цветок, распуская его в лохмотья, разрывая на тонкие лепестки в своих пальцах. Он ко всему принюхивался, глотал все, что видел, он
 Каллироя остановилась на несколько секунд с вкопанными в грязь коленками. Она рыдала с такой силой, что даже меня трясло, слезы струились водопадом из-под прижатых к лицу рук. Она рухнула в тину лицом, вытянувшись во всю длину, всем телом, и даже не пыталась подняться. Пак приостановил контр и повернулся к ней, но Клинок продолжал контровать по пояс в пруду. Никто не решался подойти к ней и помочь встать. Но все-таки пошла Альма, склонилась над ней…
— Оставь меня, мама! Оставь…
Уже два дня как с неба снова хлестал дождь с неописуемой силой. Выступающие из воды участки земли походили на иловые мочалки, из них сочилась вода. Небо выливало на нас воду ведрами из беспросветных туч, нас купало грозами, поливало до крови; изношенные, оледеневшие, промытые до костей, мы барахтались метр за метром под непрекращающимся водопадом, в проваливающихся торфяниках, понапрасну взывая к сухости, капли дождя били
Каллироя остановилась на несколько секунд с вкопанными в грязь коленками. Она рыдала с такой силой, что даже меня трясло, слезы струились водопадом из-под прижатых к лицу рук. Она рухнула в тину лицом, вытянувшись во всю длину, всем телом, и даже не пыталась подняться. Пак приостановил контр и повернулся к ней, но Клинок продолжал контровать по пояс в пруду. Никто не решался подойти к ней и помочь встать. Но все-таки пошла Альма, склонилась над ней…
— Оставь меня, мама! Оставь…
Уже два дня как с неба снова хлестал дождь с неописуемой силой. Выступающие из воды участки земли походили на иловые мочалки, из них сочилась вода. Небо выливало на нас воду ведрами из беспросветных туч, нас купало грозами, поливало до крови; изношенные, оледеневшие, промытые до костей, мы барахтались метр за метром под непрекращающимся водопадом, в проваливающихся торфяниках, понапрасну взывая к сухости, капли дождя били
 Она совсем вымоталась, она была на пределе и морально, и физически. Ее история со Свезьестом длилась уже три месяца, когда он умер. Они приноровились друг к другу и любили тайком; я была единственной, кому Каллироя доверила свой секрет. Взгляд группы был бы такой тяжелый, грузный и неотесанный, особенно со стороны Клинка… Эта история приносила ей много радости. Она наконец покончила с изнурительными и бесконечными историями с Силамфром, с Тальвегом и ястребником. В ней появилось
Она совсем вымоталась, она была на пределе и морально, и физически. Ее история со Свезьестом длилась уже три месяца, когда он умер. Они приноровились друг к другу и любили тайком; я была единственной, кому Каллироя доверила свой секрет. Взгляд группы был бы такой тяжелый, грузный и неотесанный, особенно со стороны Клинка… Эта история приносила ей много радости. Она наконец покончила с изнурительными и бесконечными историями с Силамфром, с Тальвегом и ястребником. В ней появилось
 При пересеченном контре требуется одно кардинальное свойство: воля. Невозможно противостоять ветру, если ослабела воля. Тогда ветер решает за тебя: он хлещет тебя по щекам что есть мочи, издевается без малейшего намека на жалость. А потом убивает. Фреольцы, которые никогда в жизни не контровали, разглагольствуют о выносливости. Но они понятия не имеют, о чем говорят. Единственное, что важно, это упорство. А упорство — это тот самый вроде бы совсем маленький, но такой важный толчок плечами или чреслами, еще одно усилие, тот крошечный прирост энергии, капля остервенения, как говорит Голгот, оно помогает удержаться при каждом порыве и одолеть его. Если потеряешь, утратишь этот ток, то ты погиб. Вместе с дождем поднялся шун. Сдержанный, но крепкий, беспрерывной волной, придававшей дождю определенный угол. Вода стегала нас горизонтально. Целая река из капель, и шли мы по ней против течения. Мне нравилась Каллироя, нравилось ее пугливое личико, ее порою дерзкий характер, при этом она всегда была очень ранима и трогательна. Она была очень красива со своими прядями в форме белеющего пламени. Но у меня больше не было сил. Я был опустошен. Ее депрессия нас всех засасывала. Альма была самая терпеливая среди нас:
При пересеченном контре требуется одно кардинальное свойство: воля. Невозможно противостоять ветру, если ослабела воля. Тогда ветер решает за тебя: он хлещет тебя по щекам что есть мочи, издевается без малейшего намека на жалость. А потом убивает. Фреольцы, которые никогда в жизни не контровали, разглагольствуют о выносливости. Но они понятия не имеют, о чем говорят. Единственное, что важно, это упорство. А упорство — это тот самый вроде бы совсем маленький, но такой важный толчок плечами или чреслами, еще одно усилие, тот крошечный прирост энергии, капля остервенения, как говорит Голгот, оно помогает удержаться при каждом порыве и одолеть его. Если потеряешь, утратишь этот ток, то ты погиб. Вместе с дождем поднялся шун. Сдержанный, но крепкий, беспрерывной волной, придававшей дождю определенный угол. Вода стегала нас горизонтально. Целая река из капель, и шли мы по ней против течения. Мне нравилась Каллироя, нравилось ее пугливое личико, ее порою дерзкий характер, при этом она всегда была очень ранима и трогательна. Она была очень красива со своими прядями в форме белеющего пламени. Но у меня больше не было сил. Я был опустошен. Ее депрессия нас всех засасывала. Альма была самая терпеливая среди нас:
 Как тут сказать, что было бы, если бы не вмешался Пьетро и одним скачком не повалил Голгота в болото? Почему он это сделал, почему не заколебался, как я? Голос Голгота, его рык, его рубленая ярость, его безумная энергия насилия, убийства, пульсировавшая в нем в этот момент, — вот чего он не смог вынести. Как бы там ни было, он это сделал, он бросился на Голгота. К тому же у него единственного были на это силы, моральная архитектура и статус. Он не пытался бороться с Голготом, он просто заслонил ее своим телом, своим прямым взглядом, металлической частью своей души. Голгот, впрочем, ни за что бы не набросился на Пьетро, хотя мог его запросто переломить напополам благодаря своей подготовке в Кер Дербане, потому что из всех ордийцев Пьетро был первым, кого Голгот безусловно уважал — даже больше, чем Эрга, и больше, чем столповика Фироста, больше, чем Ороси и меня.
Нужно признать, что гордость Голгота, какой бы безразмерной ни была, не превышала той более широкой и более глубоко ввинченной в него гордости, которую он испытывал за Орду целиком. Я имею в виду, когда происходило столкновение, то гордость за Орду всегда
Как тут сказать, что было бы, если бы не вмешался Пьетро и одним скачком не повалил Голгота в болото? Почему он это сделал, почему не заколебался, как я? Голос Голгота, его рык, его рубленая ярость, его безумная энергия насилия, убийства, пульсировавшая в нем в этот момент, — вот чего он не смог вынести. Как бы там ни было, он это сделал, он бросился на Голгота. К тому же у него единственного были на это силы, моральная архитектура и статус. Он не пытался бороться с Голготом, он просто заслонил ее своим телом, своим прямым взглядом, металлической частью своей души. Голгот, впрочем, ни за что бы не набросился на Пьетро, хотя мог его запросто переломить напополам благодаря своей подготовке в Кер Дербане, потому что из всех ордийцев Пьетро был первым, кого Голгот безусловно уважал — даже больше, чем Эрга, и больше, чем столповика Фироста, больше, чем Ороси и меня.
Нужно признать, что гордость Голгота, какой бы безразмерной ни была, не превышала той более широкой и более глубоко ввинченной в него гордости, которую он испытывал за Орду целиком. Я имею в виду, когда происходило столкновение, то гордость за Орду всегда
 На этом Голгот выстроил Клинок и Пак ударами то в плечо, то по ребрам, поправил свой кожаный шлем и занял место во главе. Спустя сотню метров ястребник украдкой вышел из своего ряда. За ним Тальвег и Силамфр. Трое постоянных любовников Каллирои: я вздохнул с облегчением. Мы сформировали что-то на подобие трензеля, прикрыв таким образом нашу огницу. Наш контровый ромб неплохо продержался все утро. Каллироя, потрясенная случившимся, ковыляла на костылях изо всех сил. Мы оставались недалеко от Пака, так, чтобы слышно было их голоса. Но затем она сорвалась снова. Еще хуже, чем прежде. Через надрез, сделанный Голготом, вода просачивалась в ее комбинезон. Она повалилась лицом вниз, в заледеневшую грязь. Она больше не двигалась, если не учитывать спазмов, которые ее сотрясали. Рыдания или
На этом Голгот выстроил Клинок и Пак ударами то в плечо, то по ребрам, поправил свой кожаный шлем и занял место во главе. Спустя сотню метров ястребник украдкой вышел из своего ряда. За ним Тальвег и Силамфр. Трое постоянных любовников Каллирои: я вздохнул с облегчением. Мы сформировали что-то на подобие трензеля, прикрыв таким образом нашу огницу. Наш контровый ромб неплохо продержался все утро. Каллироя, потрясенная случившимся, ковыляла на костылях изо всех сил. Мы оставались недалеко от Пака, так, чтобы слышно было их голоса. Но затем она сорвалась снова. Еще хуже, чем прежде. Через надрез, сделанный Голготом, вода просачивалась в ее комбинезон. Она повалилась лицом вниз, в заледеневшую грязь. Она больше не двигалась, если не учитывать спазмов, которые ее сотрясали. Рыдания или
 Это было чувство полной безысходности, я прижалась к Степпу, у него к глазам подступали слезы, но он сдерживал их. Платформа покачивалась, скрипела, я была совершенно опустошенной.
— Видение Барбака было яснее некуда, разве не так?
В восклицаниях Пьетро не было злости, только бесполезное и запоздалое желание понять. Мы все чувствовали
Это было чувство полной безысходности, я прижалась к Степпу, у него к глазам подступали слезы, но он сдерживал их. Платформа покачивалась, скрипела, я была совершенно опустошенной.
— Видение Барбака было яснее некуда, разве не так?
В восклицаниях Пьетро не было злости, только бесполезное и запоздалое желание понять. Мы все чувствовали
 Барбак… Мой лучший фаркоп, никогда не колобродил: тягач не из оболдырей, ходячая куча смелости, недотрогу из себя не корчил, ни разу не муторный, жестяк по контру. Со Свезом получается два упряжных пса в норе, еще и громила Карст сварился! Была у меня мысль поставить Барбака фланговиком вместо Карста, потом, как выберемся из болота. Я созрел, чтоб ему блазон на спине наколоть. Он так точно заслуживал. Не то что эта истеричка рыжепатлая. У него был и габарит, и мощь что надо, чтоб стоять на фланге, нужно было ему только втопить чуток свинца по зажимам. Разжевать ему пару финтов из аэродела, научить складывать гармошку под блаастом, сворачиваться и уваливаться. Это б мне нормально весь контровый диамант в баланс привело… Мир твоему вихрю,
Барбак… Мой лучший фаркоп, никогда не колобродил: тягач не из оболдырей, ходячая куча смелости, недотрогу из себя не корчил, ни разу не муторный, жестяк по контру. Со Свезом получается два упряжных пса в норе, еще и громила Карст сварился! Была у меня мысль поставить Барбака фланговиком вместо Карста, потом, как выберемся из болота. Я созрел, чтоб ему блазон на спине наколоть. Он так точно заслуживал. Не то что эта истеричка рыжепатлая. У него был и габарит, и мощь что надо, чтоб стоять на фланге, нужно было ему только втопить чуток свинца по зажимам. Разжевать ему пару финтов из аэродела, научить складывать гармошку под блаастом, сворачиваться и уваливаться. Это б мне нормально весь контровый диамант в баланс привело… Мир твоему вихрю,
 Караколь стоял на большом плоском камне в пяти метрах от острова, на котором мы решили разбить лагерь. Не дожидаясь, пока все закончат ужинать, он взобрался на свой пьедестал и начал серию жонглерских трюков при ловком участии выдры, которая следовала за нами уже две недели. Он снова обрел форму счастливых дней, глаза его блестели, жесты были плавные и быстрые, ум перескакивал и сдвигался, как только прорисовывалась ось, которая могла сделать предсказуемым то, что он придумывал и переделывал на лету, по ходу дела. Он снова вызывал мое восхищение, он был блестящ и неуловим, ему одному было под силу оросить наши тела своей безгранично щедрой энергией, он один мог открыть немыслимые пути для воздуха в заржавевшем корпусе наших забитых контром черепов. Не сговариваясь, мы все расселись подковой вокруг огня, напротив него.
— Начну с начала. Послезавтра я, они будем, вы и он…
— В Шавондаси!
— Точняк!
— Можно ли поинтересоваться, любезный трубадур, что заставляет вас об этом так уверенно говорить?
— Прекрасный, изысканнейший вопрос, князь туманов и нерестилищ. Ларко, могу ли я со всеми полагающимися приличиями одолжить твою столь прыткую ивовую клетку?
Караколь стоял на большом плоском камне в пяти метрах от острова, на котором мы решили разбить лагерь. Не дожидаясь, пока все закончат ужинать, он взобрался на свой пьедестал и начал серию жонглерских трюков при ловком участии выдры, которая следовала за нами уже две недели. Он снова обрел форму счастливых дней, глаза его блестели, жесты были плавные и быстрые, ум перескакивал и сдвигался, как только прорисовывалась ось, которая могла сделать предсказуемым то, что он придумывал и переделывал на лету, по ходу дела. Он снова вызывал мое восхищение, он был блестящ и неуловим, ему одному было под силу оросить наши тела своей безгранично щедрой энергией, он один мог открыть немыслимые пути для воздуха в заржавевшем корпусе наших забитых контром черепов. Не сговариваясь, мы все расселись подковой вокруг огня, напротив него.
— Начну с начала. Послезавтра я, они будем, вы и он…
— В Шавондаси!
— Точняк!
— Можно ли поинтересоваться, любезный трубадур, что заставляет вас об этом так уверенно говорить?
— Прекрасный, изысканнейший вопрос, князь туманов и нерестилищ. Ларко, могу ли я со всеми полагающимися приличиями одолжить твою столь прыткую ивовую клетку?
 Слегка потянув за веревку, Караколь спустил клетку вниз. Он поднял лозовую дверку, засунул руку внутрь и вытащил оттуда… Что вы думаете? Летучую белку!
— Ну как? Достаточно убедительно? Я требую немедленного подтверждения ученого состава. Слово предоставляется нашему геомастеру Тальвегу Арсиппе, а также флерону Степпу Форехису! Слушаем вас…
Мы повернулись к Тальвегу со Степпом. Первый был просто огорошен. У него в глазах стояли слезы. Второй же, казалось, задумался, взял перепуганную белку за шкурку на холке, кратко обследовал ее и улыбнулся Аои. И под нашими взглядами, жаждущими объяснений, сказал:
— Это парашютная белка из породы Scatarra rubens. Такие водятся только в линейных сосновых лесах. Они передвигаются в основном прыжками-перелетами с ветки на ветку, порой на весьма впечатляющие расстояния. Ее наверняка во время прыжка подцепило шквалом и занесло сюда…
— Где ты ее нашел, Караколь? Ты только что ее в клетку посадил?
Караколь напустил на себя крайне оскорбленный вид — ах, как же можно его подозревать? Но тут Ларко объяснил нам всю схему:
Слегка потянув за веревку, Караколь спустил клетку вниз. Он поднял лозовую дверку, засунул руку внутрь и вытащил оттуда… Что вы думаете? Летучую белку!
— Ну как? Достаточно убедительно? Я требую немедленного подтверждения ученого состава. Слово предоставляется нашему геомастеру Тальвегу Арсиппе, а также флерону Степпу Форехису! Слушаем вас…
Мы повернулись к Тальвегу со Степпом. Первый был просто огорошен. У него в глазах стояли слезы. Второй же, казалось, задумался, взял перепуганную белку за шкурку на холке, кратко обследовал ее и улыбнулся Аои. И под нашими взглядами, жаждущими объяснений, сказал:
— Это парашютная белка из породы Scatarra rubens. Такие водятся только в линейных сосновых лесах. Они передвигаются в основном прыжками-перелетами с ветки на ветку, порой на весьма впечатляющие расстояния. Ее наверняка во время прыжка подцепило шквалом и занесло сюда…
— Где ты ее нашел, Караколь? Ты только что ее в клетку посадил?
Караколь напустил на себя крайне оскорбленный вид — ах, как же можно его подозревать? Но тут Ларко объяснил нам всю схему:
 Бесконтрольная всеобщая эйфория обуяла нас в ту же секунду! Нас охватили радость, поднимающаяся откуда-то из самого живота, и немыслимое облегчение, мы бросились друг другу в объятия. Гимн Орды вдруг зазвучал как будто сам, под дирижерством Караколя, гремел Голгот, орал Клинок, эхом подпевали остальные члены Пака под вклинивающиеся аккорды ликующего Силамфра.
Караколь мудро дождался, пока эйфория спадет, и затем прервал нашу песню и остановил музыку. Раскаты смеха было слышно еще пару мгновений, но затем начались перешептывания, и лицо Караколя выразило самую что ни на есть внезапную серьезность:
— Не в моем обыкновении, простите за вмешательство, затеивать экспромты просто так, занудствовать, смутьянить и брюзжать, но все же в этот столь исключительный вечер я должен поступиться своими привычными
Бесконтрольная всеобщая эйфория обуяла нас в ту же секунду! Нас охватили радость, поднимающаяся откуда-то из самого живота, и немыслимое облегчение, мы бросились друг другу в объятия. Гимн Орды вдруг зазвучал как будто сам, под дирижерством Караколя, гремел Голгот, орал Клинок, эхом подпевали остальные члены Пака под вклинивающиеся аккорды ликующего Силамфра.
Караколь мудро дождался, пока эйфория спадет, и затем прервал нашу песню и остановил музыку. Раскаты смеха было слышно еще пару мгновений, но затем начались перешептывания, и лицо Караколя выразило самую что ни на есть внезапную серьезность:
— Не в моем обыкновении, простите за вмешательство, затеивать экспромты просто так, занудствовать, смутьянить и брюзжать, но все же в этот столь исключительный вечер я должен поступиться своими привычными
 Караколь и Ороси переглянулись. Эрг опустил свой покрытый колючками череп в пол. Голгот сделал новый глоток из фляги. Выплюнул его в костер, из которого вырвалось голубое пламя и погасло. Каллироя гладила выдру, прижимая ее к груди. Остальные ждали. Ответила Ороси:
— Лично я не имею ни малейшего представления о том, как можно вернуть вихрь, если в этом вопрос. Насколько я знаю, вихрь продвигается посредством притяжения и соседствующих сил. Ничто не говорит о том, что он обладает сознанием или что он способен на намерения. Вихрь — это сила, по большому счету слепая сила. Он действует так же, как светится молния, как льет дождь, как ветер дует к низовью. Но, может, Эрг…
— Я знаю не более твоего, аэромастер. Я думаю, что, к сожалению, мы уже ничего не можем для них сделать. Ни для Барбака, ни для Свезьеста. Они последуют за нами, если смогут. Если так должно быть. Тэ Джеркка всегда говорил: «На вихрь, никогда руку». Не надо
Караколь и Ороси переглянулись. Эрг опустил свой покрытый колючками череп в пол. Голгот сделал новый глоток из фляги. Выплюнул его в костер, из которого вырвалось голубое пламя и погасло. Каллироя гладила выдру, прижимая ее к груди. Остальные ждали. Ответила Ороси:
— Лично я не имею ни малейшего представления о том, как можно вернуть вихрь, если в этом вопрос. Насколько я знаю, вихрь продвигается посредством притяжения и соседствующих сил. Ничто не говорит о том, что он обладает сознанием или что он способен на намерения. Вихрь — это сила, по большому счету слепая сила. Он действует так же, как светится молния, как льет дождь, как ветер дует к низовью. Но, может, Эрг…
— Я знаю не более твоего, аэромастер. Я думаю, что, к сожалению, мы уже ничего не можем для них сделать. Ни для Барбака, ни для Свезьеста. Они последуют за нами, если смогут. Если так должно быть. Тэ Джеркка всегда говорил: «На вихрь, никогда руку». Не надо
 Караколь при этом вернулся на свой «эстрадный камень» и, пожонглировав камушками и тарелками, поднял руку, как дети, которые просят слово. Хоть на вид он был рассеянный, я точно знал, что он не упустил ни единого слова из нашего разговора, тот интересовал его куда больше, чем он показывал. Может, конечно, я и не способен улавливать вихри, но в нем я чувствовал любой изгиб, любое отклонение, причем в весьма концентрированном виде. Я мог, например, угадать его настроение по скорости жестов, архитектуре ритмов и сгибов.
У Караколя вообще все было делом ритмов и сгибов. Очевидно, никто лучше не воссоздавал это впечатление живого ручья, пламенного потока плоти и движений. Но за этим было то, что становилось явным только со временем, никто другой не пропечатывал в этом ручье таких уклонов, не вбрасывал столько запруд и блоков, не принимал столько близких притоков, подземных вод и источников, не открывал столько дельт с переходами вброд для слушателей, не вклинивал столько изломов и быстрых, резких порогов. Он искусно заботился еще и о том, чтобы устроить в низине нагромождение из чистейших водоемов, в которых он отдыхал и топил вас. Ему, конечно, был присущ определенный темп, скорость внутреннего потока, зачастую этот ритм осуществлялся голосом, но он, как правило, использовал его, чтобы лучше отбивать такт непрерывности, которую никогда не прекращал разбивать ударами своих шалостей, и не ради эффекта или из порыва удивить, но потому что ритм, настоящий ритм, исходит не из повторения, которое его все же подготавливает, но
Караколь при этом вернулся на свой «эстрадный камень» и, пожонглировав камушками и тарелками, поднял руку, как дети, которые просят слово. Хоть на вид он был рассеянный, я точно знал, что он не упустил ни единого слова из нашего разговора, тот интересовал его куда больше, чем он показывал. Может, конечно, я и не способен улавливать вихри, но в нем я чувствовал любой изгиб, любое отклонение, причем в весьма концентрированном виде. Я мог, например, угадать его настроение по скорости жестов, архитектуре ритмов и сгибов.
У Караколя вообще все было делом ритмов и сгибов. Очевидно, никто лучше не воссоздавал это впечатление живого ручья, пламенного потока плоти и движений. Но за этим было то, что становилось явным только со временем, никто другой не пропечатывал в этом ручье таких уклонов, не вбрасывал столько запруд и блоков, не принимал столько близких притоков, подземных вод и источников, не открывал столько дельт с переходами вброд для слушателей, не вклинивал столько изломов и быстрых, резких порогов. Он искусно заботился еще и о том, чтобы устроить в низине нагромождение из чистейших водоемов, в которых он отдыхал и топил вас. Ему, конечно, был присущ определенный темп, скорость внутреннего потока, зачастую этот ритм осуществлялся голосом, но он, как правило, использовал его, чтобы лучше отбивать такт непрерывности, которую никогда не прекращал разбивать ударами своих шалостей, и не ради эффекта или из порыва удивить, но потому что ритм, настоящий ритм, исходит не из повторения, которое его все же подготавливает, но
 На следующий день нам стали встречаться первые за прошедшие четыре месяца лодки. Они были изъедены сыростью и гнилью. Потом нам попался первый насосный ветряк, продырявленный ржавчиной. Затем фареол, у которого вся известка пошла волдырями, а лопасти болтались на ветру, как флаги. Постепенно дамбы стали из камня. Разваленные палафитные хижины прочерчивали линию трассы. В тумане перед нами открывался длинный и прямой канал. Вдалеке по нему с шумом скользил гидроглиссер, медленно удаляясь. Он нас не видел. Мы были далеко. Озеро было у нас за спиной. Все тело у меня было ватное от озноба из-за воды. Я не осознавал того, что видел.
На следующий день нам стали встречаться первые за прошедшие четыре месяца лодки. Они были изъедены сыростью и гнилью. Потом нам попался первый насосный ветряк, продырявленный ржавчиной. Затем фареол, у которого вся известка пошла волдырями, а лопасти болтались на ветру, как флаги. Постепенно дамбы стали из камня. Разваленные палафитные хижины прочерчивали линию трассы. В тумане перед нами открывался длинный и прямой канал. Вдалеке по нему с шумом скользил гидроглиссер, медленно удаляясь. Он нас не видел. Мы были далеко. Озеро было у нас за спиной. Все тело у меня было ватное от озноба из-за воды. Я не осознавал того, что видел.
 Сто двадцать один день спустя после того, как фреольский корабль с Нушкой на борту оставил нас у Порт-Шуна, мы вошли, пусть жалкие на вид, с опустошенными запасами в поплавках, но все же живые, в город вне всяких эпох, коим являлся Шавондаси.
Не знаю, чего я,собственно говоря, ждал. Что я увижу пришвартованный на центральной площади Физалис с Легкой эскадрой, увижу улицы, запруженные толпами подветренников в парадных одеждах, что в нашу честь загремят фанфары, когда мы войдем в город под грохот аплодисментов и криков виват, что нам навстречу побегут детишки, что Нушка выйдет из толпы и бросится меня целовать? Но ничего из этого не произошло. Мы были первой Ордой за всю историю, которая вышла по другую сторону Лапсана прямой трассой, двадцать ордийцев без
Сто двадцать один день спустя после того, как фреольский корабль с Нушкой на борту оставил нас у Порт-Шуна, мы вошли, пусть жалкие на вид, с опустошенными запасами в поплавках, но все же живые, в город вне всяких эпох, коим являлся Шавондаси.
Не знаю, чего я,собственно говоря, ждал. Что я увижу пришвартованный на центральной площади Физалис с Легкой эскадрой, увижу улицы, запруженные толпами подветренников в парадных одеждах, что в нашу честь загремят фанфары, когда мы войдем в город под грохот аплодисментов и криков виват, что нам навстречу побегут детишки, что Нушка выйдет из толпы и бросится меня целовать? Но ничего из этого не произошло. Мы были первой Ордой за всю историю, которая вышла по другую сторону Лапсана прямой трассой, двадцать ордийцев без
 Караколь весело посмотрел на нее. Она покраснела и сделала вид, что поправляет свою трапецию, чтоб хоть как-то держать марку. Ее новые сани, сделанные по плану Ороси и отшлифованные Силамфром, почти толкали ее в спину, как только она останавливалась: аэродинамика у них была отличная, и трехлопастный толчковый винт, соединенный с колесами, сильно упрощал, если не заменял тягу. Оставалось лишь надеяться, что песок и мелкий гравий, которыми были усеяны все здешние и без того скалистые равнины, не слишком быстро исцарапают всю эту красоту. Караколь посмотрел на меня вне себя от радости:
Караколь весело посмотрел на нее. Она покраснела и сделала вид, что поправляет свою трапецию, чтоб хоть как-то держать марку. Ее новые сани, сделанные по плану Ороси и отшлифованные Силамфром, почти толкали ее в спину, как только она останавливалась: аэродинамика у них была отличная, и трехлопастный толчковый винт, соединенный с колесами, сильно упрощал, если не заменял тягу. Оставалось лишь надеяться, что песок и мелкий гравий, которыми были усеяны все здешние и без того скалистые равнины, не слишком быстро исцарапают всю эту красоту. Караколь посмотрел на меня вне себя от радости:
 Прием, который нам оказали в Шавондаси, до сих пор ощущался и помнился. Прошло два месяца, а я все еще перебирал в голове все подробности. Наши встречи с внешним миром были настолько редкими, что их эффект чувствовался еще долгое время спустя, пока мы шли по пустыне. Собственно говоря, никакой это был не прием, никто нас особо и не встречал. Легкая эскадра, в первую очередь в лице коммодора и контр-адмирала, не посчитала нужным известить местные власти о нашем возможном
Прием, который нам оказали в Шавондаси, до сих пор ощущался и помнился. Прошло два месяца, а я все еще перебирал в голове все подробности. Наши встречи с внешним миром были настолько редкими, что их эффект чувствовался еще долгое время спустя, пока мы шли по пустыне. Собственно говоря, никакой это был не прием, никто нас особо и не встречал. Легкая эскадра, в первую очередь в лице коммодора и контр-адмирала, не посчитала нужным известить местные власти о нашем возможном

 Состязание было назначено ближе к вечеру, во дворце Девятой Формы. Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита, сквозь секвойи, перегруженные хижинами и болтающимися на ветру веревочными мостиками, среди массивных водонапорных и термических башен, ощетинившихся соплами, за мешаниной террас и подвешенных среди ясного неба площадей, аккуратных квадратов, от которых расходилось несколько аллей, незаметных для неопытного взгляда, среди бесчисленных крыш из сланца и обожженной черепицы, ровных и со скосом, куполовидных и грушевидных, где возвышались домашние ветряные турбины, одни с барабаном, другие вертикальные с тремя, шестью и двадцати двумя лопастями, бронзовые и деревянные, иногда парусиновые, среди незабываемого величия частных дворцов, которые с каждым годом росли все выше, тянулись к солнечному свету и линейному ветру, Караколь указал мне пальцем на стеклянный бутон, красовавшийся на высоте больше ста метров, расположенный на стебле из камня и металла. Вокруг башни, служившей ему опорой, была, редкое дело, винтовая лестница, и ступени из толстого стекла обвивали ее до самого верха. Гордость местных стеклодувов, по форме дворец напоминал огромную каплю воды, а его ребро обтекания выглядело так, словно было выдуто и как будто слегка приподнято самим ветром. Вытянутый купол, возвышающийся в двадцати метрах над платформой, и обрамление из расходившихся от него металлических прутьев с целью подчеркнуть линии, вызывали на таком расстоянии уравновешенное впечатление кристальной хрупкости и
Состязание было назначено ближе к вечеру, во дворце Девятой Формы. Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита, сквозь секвойи, перегруженные хижинами и болтающимися на ветру веревочными мостиками, среди массивных водонапорных и термических башен, ощетинившихся соплами, за мешаниной террас и подвешенных среди ясного неба площадей, аккуратных квадратов, от которых расходилось несколько аллей, незаметных для неопытного взгляда, среди бесчисленных крыш из сланца и обожженной черепицы, ровных и со скосом, куполовидных и грушевидных, где возвышались домашние ветряные турбины, одни с барабаном, другие вертикальные с тремя, шестью и двадцати двумя лопастями, бронзовые и деревянные, иногда парусиновые, среди незабываемого величия частных дворцов, которые с каждым годом росли все выше, тянулись к солнечному свету и линейному ветру, Караколь указал мне пальцем на стеклянный бутон, красовавшийся на высоте больше ста метров, расположенный на стебле из камня и металла. Вокруг башни, служившей ему опорой, была, редкое дело, винтовая лестница, и ступени из толстого стекла обвивали ее до самого верха. Гордость местных стеклодувов, по форме дворец напоминал огромную каплю воды, а его ребро обтекания выглядело так, словно было выдуто и как будто слегка приподнято самим ветром. Вытянутый купол, возвышающийся в двадцати метрах над платформой, и обрамление из расходившихся от него металлических прутьев с целью подчеркнуть линии, вызывали на таком расстоянии уравновешенное впечатление кристальной хрупкости и
 До начала поединка оставалось двадцать минут, а Караколя с Совом все еще не было! Меня доставили во дворец на баркароле. Я был в восхищении от технологического развития в этом городе. Они, должно быть, во многом переняли технику Фреольцев, что касается использования крыльев, легких материалов и динамической несущей силы. Но и сами могли похвастаться отличными местными аэрологами. Я не раз обернулся, чтобы получше рассмотреть происходящее: платформа заполнилась всевозможным летательным транспортом. Как настоящая выставка предметов искусства. Длинные узкие баркаролы со сложенными крыльями. Тепловые аэростаты. Воздушные управляемые шары. Веливело с дельтовидными крыльями. Автожиры. Планеры. Карманные дельтапланы. Эоликоптеры. Палатины располагали их вдоль швартовых крюков, расчищая посадочную полосу. Гранит на ней был отшлифован от постоянного пользования в одну четкую линию.
Зал дворца Девятой Формы вмещал две тысячи человек, как мне сказали. В центре стоял толстый медный диск шести метров в диаметре. Через него проходила ось, которая поднималась до самого купола. Эта ось была связана с вращающимся на крыше ветряком. Благодаря такому гениальному механизму диск медленно вертелся вокруг оси. Таким образом каждый из зрителей мог видеть всю сцену и присутствующих на ней со всех сторон. Стилит со своим скрибом уже были на месте. Он сидел, поджав под себя ноги, и, казалось, был совершенно непроницаем для возбуждения,
До начала поединка оставалось двадцать минут, а Караколя с Совом все еще не было! Меня доставили во дворец на баркароле. Я был в восхищении от технологического развития в этом городе. Они, должно быть, во многом переняли технику Фреольцев, что касается использования крыльев, легких материалов и динамической несущей силы. Но и сами могли похвастаться отличными местными аэрологами. Я не раз обернулся, чтобы получше рассмотреть происходящее: платформа заполнилась всевозможным летательным транспортом. Как настоящая выставка предметов искусства. Длинные узкие баркаролы со сложенными крыльями. Тепловые аэростаты. Воздушные управляемые шары. Веливело с дельтовидными крыльями. Автожиры. Планеры. Карманные дельтапланы. Эоликоптеры. Палатины располагали их вдоль швартовых крюков, расчищая посадочную полосу. Гранит на ней был отшлифован от постоянного пользования в одну четкую линию.
Зал дворца Девятой Формы вмещал две тысячи человек, как мне сказали. В центре стоял толстый медный диск шести метров в диаметре. Через него проходила ось, которая поднималась до самого купола. Эта ось была связана с вращающимся на крыше ветряком. Благодаря такому гениальному механизму диск медленно вертелся вокруг оси. Таким образом каждый из зрителей мог видеть всю сцену и присутствующих на ней со всех сторон. Стилит со своим скрибом уже были на месте. Он сидел, поджав под себя ноги, и, казалось, был совершенно непроницаем для возбуждения,
 Вдруг приглушенный бархатом кресел шорох фетра взорвался гулом голосов. Паж, открывавший вечер, разверзнул свиток и стал зачитывать, сначала громко и серьезно, а затем все более растерянным голосом:
— Внимание! Позвольте вам представить, почтенные Верхнежители, его Веселейшее Высочество, Принца Дактиля и Хорея, Великого Князя Фатразии, Высоким
Вдруг приглушенный бархатом кресел шорох фетра взорвался гулом голосов. Паж, открывавший вечер, разверзнул свиток и стал зачитывать, сначала громко и серьезно, а затем все более растерянным голосом:
— Внимание! Позвольте вам представить, почтенные Верхнежители, его Веселейшее Высочество, Принца Дактиля и Хорея, Великого Князя Фатразии, Высоким
 И, как по волшебству, Караколь появился откуда-то из-за спины пажа. Он явился задрапированный в новую арлекинскую накидку, в сафьяновых туфлях и с ловко смастеренной шляпой на голове, из-под которой выбивались кудри до плеч. Если черты элегантности в нем были почти женские, то его манеры, взгляд и голос оставались мужественными. От него веяло грацией без жеманства. Свою обольстительность, которая незамедлительно подействовала на публику, он заимствовал из столь присущей ему гармонии между решительными мужскими жестами и непринужденностью, царской небрежностью, столь далекой от вульгарности. Когда он появился, я закрыла глаза, чтобы лучше ощутить его аэрологический росчерк, но толпа зрителей сбивала мое восприятие.
Паж дождался, пока улягутся возбуждение и смех в зале, и представил Сова. На нем была голубая льняная рубашка из тех, что так искусно ткала Аои. Он коротко остриг бороду и держался прямо. Его светло-голубые глаза всматривались в зал, взгляд был как всегда ясен, оживлен и умен. Он вышел вперед неуверенной походкой, и для того, кто никогда не видел его в контре, было бы невозможно представить себе мощь его длиннолинейной мускулатуры и какой ранг он занимает в Клинке.
И, как по волшебству, Караколь появился откуда-то из-за спины пажа. Он явился задрапированный в новую арлекинскую накидку, в сафьяновых туфлях и с ловко смастеренной шляпой на голове, из-под которой выбивались кудри до плеч. Если черты элегантности в нем были почти женские, то его манеры, взгляд и голос оставались мужественными. От него веяло грацией без жеманства. Свою обольстительность, которая незамедлительно подействовала на публику, он заимствовал из столь присущей ему гармонии между решительными мужскими жестами и непринужденностью, царской небрежностью, столь далекой от вульгарности. Когда он появился, я закрыла глаза, чтобы лучше ощутить его аэрологический росчерк, но толпа зрителей сбивала мое восприятие.
Паж дождался, пока улягутся возбуждение и смех в зале, и представил Сова. На нем была голубая льняная рубашка из тех, что так искусно ткала Аои. Он коротко остриг бороду и держался прямо. Его светло-голубые глаза всматривались в зал, взгляд был как всегда ясен, оживлен и умен. Он вышел вперед неуверенной походкой, и для того, кто никогда не видел его в контре, было бы невозможно представить себе мощь его длиннолинейной мускулатуры и какой ранг он занимает в Клинке.
 Сдержанные аплодисменты плескались и потрескивали о стеклянные стены дворца. Ножки кресел поскрипывали на панелях трибун. Я покраснел под обрушившимся на меня вниманием и с перепугу пошел следом за Караколем, который напропалую рассылал воздушные поцелуи в зал, быстро поднялся на сцену и без прелюдий направился к стилиту. Обмен взглядами был краток, пожатие рук некрепкое и ледяное на ощупь. Столпник не смог или не захотел подняться, так и остался сидеть на медном диске, немного согнувшись и поджав под себя ноги. Он был лыс, с впалыми щеками, с бесцветной кожей, одет в грязно-белый саван. И все же от него исходила какая-то упрямая сила, энергия чистого интеллекта, которая представлялась проницательной и беспощадной под этой демонстративной скромностью. Мне от этого стало не по себе, если честно, он меня впечатлил. Не задерживаясь, Караколь вернулся к своему трону, я уселся рядом и поставил на пол чернильницу и рамочку с прикрепленным пергаментом, на котором написал себе в помощь как можно больше терминов — смогу из них черпать, если нужно. На колени я положил слегка влажную глиняную табличку и крепко сжал стилет для уверенности в себе. Атмосфера в зале была более чем разогретая. Публика, состоявшая по большей части из Верхнежителей, хотя присутствовали и небольшие группки раклеров, у которых были пропуска, проявляла перешептываниями крайнее нетерпение.
Сдержанные аплодисменты плескались и потрескивали о стеклянные стены дворца. Ножки кресел поскрипывали на панелях трибун. Я покраснел под обрушившимся на меня вниманием и с перепугу пошел следом за Караколем, который напропалую рассылал воздушные поцелуи в зал, быстро поднялся на сцену и без прелюдий направился к стилиту. Обмен взглядами был краток, пожатие рук некрепкое и ледяное на ощупь. Столпник не смог или не захотел подняться, так и остался сидеть на медном диске, немного согнувшись и поджав под себя ноги. Он был лыс, с впалыми щеками, с бесцветной кожей, одет в грязно-белый саван. И все же от него исходила какая-то упрямая сила, энергия чистого интеллекта, которая представлялась проницательной и беспощадной под этой демонстративной скромностью. Мне от этого стало не по себе, если честно, он меня впечатлил. Не задерживаясь, Караколь вернулся к своему трону, я уселся рядом и поставил на пол чернильницу и рамочку с прикрепленным пергаментом, на котором написал себе в помощь как можно больше терминов — смогу из них черпать, если нужно. На колени я положил слегка влажную глиняную табличку и крепко сжал стилет для уверенности в себе. Атмосфера в зале была более чем разогретая. Публика, состоявшая по большей части из Верхнежителей, хотя присутствовали и небольшие группки раклеров, у которых были пропуска, проявляла перешептываниями крайнее нетерпение.
 Он на что надеялся, Экзарх этот? Что я обосрусь из-за его испытания, что я на Фироста все переложу? Что я буду смотреть, как он свою жирную массу погрузит в реку
Он на что надеялся, Экзарх этот? Что я обосрусь из-за его испытания, что я на Фироста все переложу? Что я буду смотреть, как он свою жирную массу погрузит в реку
 На сцену вышел довольно представительного вида церемониймейстер в королевско-синем платье. Он представил судей состязания. Семеро эрудитов, по большей части бородатых и очень спокойных, молча изучали Караколя. Рядом с ними, на высоком стуле, ерзал судья по знакам, нервный и чеканный, гарант соблюдения речевых правил. Он изобразил холодное приветствие. Затем нам представили «счетового», который находился у основания портика на вращавшемся цоколе. Перед ним крутились оловянные цилиндры с вырезанными на них цифрами: счетовой должен
На сцену вышел довольно представительного вида церемониймейстер в королевско-синем платье. Он представил судей состязания. Семеро эрудитов, по большей части бородатых и очень спокойных, молча изучали Караколя. Рядом с ними, на высоком стуле, ерзал судья по знакам, нервный и чеканный, гарант соблюдения речевых правил. Он изобразил холодное приветствие. Затем нам представили «счетового», который находился у основания портика на вращавшемся цоколе. Перед ним крутились оловянные цилиндры с вырезанными на них цифрами: счетовой должен
 Когда этот их Экзарх начал шнобель свой воротить, да еще и всю шайку свою с собой притащил, я думал, Эрг их своим винтом на котлеты порубит. Но Пьетро быстро всех
Когда этот их Экзарх начал шнобель свой воротить, да еще и всю шайку свою с собой притащил, я думал, Эрг их своим винтом на котлеты порубит. Но Пьетро быстро всех
 Голос Голгота проревел резко и вопреки всем правилам этикета грубо прервал церемониймейстера. Зал обернулся. Дворянчики удивленно и негодующе закудахтали. Голгот встал. Я был от него в восторге в такие минуты. Он вызывающе смерил взглядом Экзарха, заседающего в ложе двумя рядами выше со своей свитой:
— Не будет никакого прошения о помиловании. Мы вашего болвана в порошок сотрем!
— Не забегайте вперед, друг мой, — отчеканил экзарховский глашатай, так как сам повелитель никогда не говорил. Ну или же исключительно в таких случаях, когда слова его должны были восприниматься непосредственно как приказы. То есть, чтобы, например, огласить приговор, обнародовать указ или изгнать раклера. Эта каналья экзарх даже бровью не повел под налетом Голгота, надменно проигнорировал его и дал знак продолжать церемонию. Я был горд за Голгота, горд, что он им всем показал, что мы под их дудку плясать не будем перед всей гнилой дворянской братией, которая только и знает, что пировать да зубоскалиться на своих башнях, пока раклеры с себя шкуру до подкорья костей сдирают, чтоб их каждый день восходящими воздушными подушками обеспечивать! Даже думать тошно!
Голос Голгота проревел резко и вопреки всем правилам этикета грубо прервал церемониймейстера. Зал обернулся. Дворянчики удивленно и негодующе закудахтали. Голгот встал. Я был от него в восторге в такие минуты. Он вызывающе смерил взглядом Экзарха, заседающего в ложе двумя рядами выше со своей свитой:
— Не будет никакого прошения о помиловании. Мы вашего болвана в порошок сотрем!
— Не забегайте вперед, друг мой, — отчеканил экзарховский глашатай, так как сам повелитель никогда не говорил. Ну или же исключительно в таких случаях, когда слова его должны были восприниматься непосредственно как приказы. То есть, чтобы, например, огласить приговор, обнародовать указ или изгнать раклера. Эта каналья экзарх даже бровью не повел под налетом Голгота, надменно проигнорировал его и дал знак продолжать церемонию. Я был горд за Голгота, горд, что он им всем показал, что мы под их дудку плясать не будем перед всей гнилой дворянской братией, которая только и знает, что пировать да зубоскалиться на своих башнях, пока раклеры с себя шкуру до подкорья костей сдирают, чтоб их каждый день восходящими воздушными подушками обеспечивать! Даже думать тошно!

 Во вмешательстве Голгота не было необходимости. Теперь это только усилит решительность Экзарха, в случае если Караколь проиграет. Голгот нанес удар по чувству гордости повелителя, тогда как мы могли надеяться на его снисходительность после вчерашнего подвига. Популярность Голгота среди раклеров можно было использовать в политических целях. Открыть проход к Вой-Вратам, несмотря на поражение, можно даже было счесть за признак благородства. Но одной фразой, одной своей надменностью, Голгот всех нас приговорил на месте — к испытанию. Он возложил на Караколя чрезмерную ответственность. Сов побелел от страха на своем троне. К счастью, его роль тут была невелика. Все мои источники были определенно согласны на этот счет: состязания чаще всего техничны, одного таланта здесь будет мало. Нужен опыт сложения лесс, навыки в липограммах, моновокализмах, в ограничительно-принудительной прозе. Караколь — прекрасный оратор, сказитель, которому нет равных. Он восхитительно играет словами. Но любые требования ему претят. Сомневаюсь, что он будет блистать в языковых экзерсисах.
Во вмешательстве Голгота не было необходимости. Теперь это только усилит решительность Экзарха, в случае если Караколь проиграет. Голгот нанес удар по чувству гордости повелителя, тогда как мы могли надеяться на его снисходительность после вчерашнего подвига. Популярность Голгота среди раклеров можно было использовать в политических целях. Открыть проход к Вой-Вратам, несмотря на поражение, можно даже было счесть за признак благородства. Но одной фразой, одной своей надменностью, Голгот всех нас приговорил на месте — к испытанию. Он возложил на Караколя чрезмерную ответственность. Сов побелел от страха на своем троне. К счастью, его роль тут была невелика. Все мои источники были определенно согласны на этот счет: состязания чаще всего техничны, одного таланта здесь будет мало. Нужен опыт сложения лесс, навыки в липограммах, моновокализмах, в ограничительно-принудительной прозе. Караколь — прекрасный оратор, сказитель, которому нет равных. Он восхитительно играет словами. Но любые требования ему претят. Сомневаюсь, что он будет блистать в языковых экзерсисах.
 Как по мне, то реакция девочек на вчерашний подвиг Голгота была не на высоте. Альма, которая, между прочим, проследовала со мной весь его подъем от дельты до шлюза Вой-Врат, по итогу ограничилась следующим замечанием, не выражавшим никакого восторга: «Ну и? Да, справился. Голгот как-никак. Так что теперь, от радости прыгать? Мы в этой ситуации вообще-то но его милости оказались. Пускай теперь расхлебывает…»
Мы наблюдали за Голготом с шара и проследовали над ним всю трассу в четыре километра, так что я могла в полной мере оценить качество его контра и правильность решений на сложнейшей местности. Экзарх приказал открыть Вой-
Как по мне, то реакция девочек на вчерашний подвиг Голгота была не на высоте. Альма, которая, между прочим, проследовала со мной весь его подъем от дельты до шлюза Вой-Врат, по итогу ограничилась следующим замечанием, не выражавшим никакого восторга: «Ну и? Да, справился. Голгот как-никак. Так что теперь, от радости прыгать? Мы в этой ситуации вообще-то но его милости оказались. Пускай теперь расхлебывает…»
Мы наблюдали за Голготом с шара и проследовали над ним всю трассу в четыре километра, так что я могла в полной мере оценить качество его контра и правильность решений на сложнейшей местности. Экзарх приказал открыть Вой-
 Я старался как можно глубже и ровнее дышать. Сейчас я был бы рад оказаться где угодно, лишь бы не здесь, перед двухтысячным залом, вести игры с будущим Орды, которая смотрит на меня во все глаза и полагается на меня. Я попытался сосредоточиться и заговорил с
Я старался как можно глубже и ровнее дышать. Сейчас я был бы рад оказаться где угодно, лишь бы не здесь, перед двухтысячным залом, вести игры с будущим Орды, которая смотрит на меня во все глаза и полагается на меня. Я попытался сосредоточиться и заговорил с
 Лопасть коснулась пола. На последнем метре оси не было нарезки, и винт сам принял вращательную траекторию в падении. Он проскрипел по металлу диска и остановился на делении почти напротив стилита.
— Диалог в палиндромах! — огласил арбитр громовым голосом.
Лопасть коснулась пола. На последнем метре оси не было нарезки, и винт сам принял вращательную траекторию в падении. Он проскрипел по металлу диска и остановился на делении почти напротив стилита.
— Диалог в палиндромах! — огласил арбитр громовым голосом.
 Караколь улыбнулся и подмигнул. Он прочитал слова на моей табличке, кивнул и потрепал меня по плечу. Теплота его жеста меня глубоко обрадовала. Я понимал, что
Караколь улыбнулся и подмигнул. Он прочитал слова на моей табличке, кивнул и потрепал меня по плечу. Теплота его жеста меня глубоко обрадовала. Я понимал, что
 С купола на нас обрушилась золотая тишина. Волнение публики превратилось в крайнее внимание. Стилит закрыл глаза. Шли долгие секунды. Ни один звук не скрежетал по кристаллу ожидания. Он сидел, сконцентрировавшись, спокойный и напряженный, но все же натянутый, как арбалет. Наконец выпустил свою первую стрелу. Аплодисменты разразились в тот же миг.
С купола на нас обрушилась золотая тишина. Волнение публики превратилось в крайнее внимание. Стилит закрыл глаза. Шли долгие секунды. Ни один звук не скрежетал по кристаллу ожидания. Он сидел, сконцентрировавшись, спокойный и напряженный, но все же натянутый, как арбалет. Наконец выпустил свою первую стрелу. Аплодисменты разразились в тот же миг.

 Ох! Судья по знакам почти тут же поднял синий флажок, подтверждая палиндром. Сзади, в первом ряду, какая-то образованная графиня спокойно заявиласвоим соседям, что это совершенно классический прием для открытия состязания, можно сказать почти банальный, такие можно наблюдать на шахматных турнирах, но я остался в состоянии шока от соразмерности и уместности фразы. Я стал по одной перебирать буквы справа налево: а д е б, потом ю т с о г, затем н е м у, потом м е н… — и бросил, убедившись в его точности. Теперь была очередь Караколя. Начало схватки вышло очень непростое. Я понятия не имел, как он будет из этого выкручиваться.
Ох! Судья по знакам почти тут же поднял синий флажок, подтверждая палиндром. Сзади, в первом ряду, какая-то образованная графиня спокойно заявиласвоим соседям, что это совершенно классический прием для открытия состязания, можно сказать почти банальный, такие можно наблюдать на шахматных турнирах, но я остался в состоянии шока от соразмерности и уместности фразы. Я стал по одной перебирать буквы справа налево: а д е б, потом ю т с о г, затем н е м у, потом м е н… — и бросил, убедившись в его точности. Теперь была очередь Караколя. Начало схватки вышло очень непростое. Я понятия не имел, как он будет из этого выкручиваться.

 Ритм нарастал очень быстро. Стилит словно торопился испытать сопротивляемость нашего трубадура. Кара-голь отвечал ударом на удар, практически без заминок. И зале царила полнейшая тишина. Все старались следить за происходящим. На лицах читалась острейшая внимательность, и по реакции было понятно, что дуэль проходила на высшем уровне. Многие вели записи. Судья по знакам подтверждал палиндромы. Похоже, ему самому удавалось следовать за поединком с трудом. Глаза у судей загорелись от того, какой оборот приняло состязание. На такой скорости я был не в состоянии оценить сложность игры. Я только понимал, что Караколь был на высоте и отталкивал Селема в окопы.
Ритм нарастал очень быстро. Стилит словно торопился испытать сопротивляемость нашего трубадура. Кара-голь отвечал ударом на удар, практически без заминок. И зале царила полнейшая тишина. Все старались следить за происходящим. На лицах читалась острейшая внимательность, и по реакции было понятно, что дуэль проходила на высшем уровне. Многие вели записи. Судья по знакам подтверждал палиндромы. Похоже, ему самому удавалось следовать за поединком с трудом. Глаза у судей загорелись от того, какой оборот приняло состязание. На такой скорости я был не в состоянии оценить сложность игры. Я только понимал, что Караколь был на высоте и отталкивал Селема в окопы.
 Вслед за фразой Караколя по залу пробежало легкое волнение. Но судья принял палиндром, тот был хоть и краток, но столь неожидан, что публика пришла в восторг и выказала полную симпатию, снизив тем самым напряжение в зале. Все ожидали реакции стилита. Но, к несчастью для нас, его ответ лишь доказал, что он умеет адаптироваться.
Вслед за фразой Караколя по залу пробежало легкое волнение. Но судья принял палиндром, тот был хоть и краток, но столь неожидан, что публика пришла в восторг и выказала полную симпатию, снизив тем самым напряжение в зале. Все ожидали реакции стилита. Но, к несчастью для нас, его ответ лишь доказал, что он умеет адаптироваться.
 Дрожь восхищения пронеслась по публике. Я даже на секунду успел подумать, что перевес теперь будет в сторону Караколя. Голгот поднял вверх кулак и заорал: «Получи, снежная морда!», и сел. Зал был ошеломлен.
Дрожь восхищения пронеслась по публике. Я даже на секунду успел подумать, что перевес теперь будет в сторону Караколя. Голгот поднял вверх кулак и заорал: «Получи, снежная морда!», и сел. Зал был ошеломлен.
 Просто превосходно. Караколь сделал внушительную паузу. Ему потребовалось время принять удар, но он все же вышел из положения:
Просто превосходно. Караколь сделал внушительную паузу. Ему потребовалось время принять удар, но он все же вышел из положения:
 Первый тур прогремел как настоящее состязание по фехтованию, бесконечно технично и в то же время живо, чертовски живо, настолько быстро, что судья по знакам не раз был в замешательстве, не справляясь с перехватами и отражением атак. Было очевидно, что стилит еще ни разу не встречал противника уровня Караколя, на каждый выпад
Первый тур прогремел как настоящее состязание по фехтованию, бесконечно технично и в то же время живо, чертовски живо, настолько быстро, что судья по знакам не раз был в замешательстве, не справляясь с перехватами и отражением атак. Было очевидно, что стилит еще ни разу не встречал противника уровня Караколя, на каждый выпад
 Прозвенел гонг. Я предпочитал (в сущности говоря) свое жалкое, невзрачное место, сидеть здесь, вжавшись в кресло, рядом с Кориолис, чем оказаться там, не знать, куда приткнуться на этом диске, возиться там с этим желторотиком. Ну и схватка, Ларко, это да! У них мозги вентилируются поболее твоих (всего чуток), надо признать! Теперь все затараторили о судьях, пока те сидят, что-то записывают, выверяют, сверяют строфы, взвешивают на глаз. Караколь был в ярости сам от себя. Он ёкнулся ровно за две секунды до гонга, не нашелся, что ответить на длинную тираду стилита, застрял на дурацком наброске палиндрома, потерялся в двух репликах в самый неподходящий момент. Этот финал судьи точно не пропустят, плохое впечатление. А стилит в своем углу снова напустил на себя вид, будто он сама элегантность (Кориолис от этого себе места не находит), расселся, ноги скрестив, уверенный в себе, чертяка, весь выкрутился, как белье на веревке, сидит, вымаливает не знаю какого там своего башенного божка со скромностью плакучей ивы.
Прозвенел гонг. Я предпочитал (в сущности говоря) свое жалкое, невзрачное место, сидеть здесь, вжавшись в кресло, рядом с Кориолис, чем оказаться там, не знать, куда приткнуться на этом диске, возиться там с этим желторотиком. Ну и схватка, Ларко, это да! У них мозги вентилируются поболее твоих (всего чуток), надо признать! Теперь все затараторили о судьях, пока те сидят, что-то записывают, выверяют, сверяют строфы, взвешивают на глаз. Караколь был в ярости сам от себя. Он ёкнулся ровно за две секунды до гонга, не нашелся, что ответить на длинную тираду стилита, застрял на дурацком наброске палиндрома, потерялся в двух репликах в самый неподходящий момент. Этот финал судьи точно не пропустят, плохое впечатление. А стилит в своем углу снова напустил на себя вид, будто он сама элегантность (Кориолис от этого себе места не находит), расселся, ноги скрестив, уверенный в себе, чертяка, весь выкрутился, как белье на веревке, сидит, вымаливает не знаю какого там своего башенного божка со скромностью плакучей ивы.
 Не возьмусь сказать, была это полная импровизация, или Караколю все же пригодились мои несчастные сло-
Не возьмусь сказать, была это полная импровизация, или Караколю все же пригодились мои несчастные сло-
 Мне казалось прекрасным то, что раклеры посчитали своим долгом присутствовать на испытании Голгота на свежем воздухе, а не через бойницы своих лачуг. Они
Мне казалось прекрасным то, что раклеры посчитали своим долгом присутствовать на испытании Голгота на свежем воздухе, а не через бойницы своих лачуг. Они
 Раздались отдельные свистки протеста, но быстро стихли. Караколь ответил на ледяное приветствие стилита, посмотрел на меня, пожал плечами и улыбнулся, хлопая вместе с залом:
— Как-то жестко, нет? — поинтересовался я украдкой.
— Все правильно, Сов, я слегка ошибся с инверсией и завис на последних палинах. Так что все верно!
Я чувствовал, как он понемногу напрягался. Проиграть два первых тура само по себе не трагично, если, конечно, разрыв при этом небольшой. Но главное теперь — не уступить еще больше, не дать противнику уйти в отрыв.
Раздались отдельные свистки протеста, но быстро стихли. Караколь ответил на ледяное приветствие стилита, посмотрел на меня, пожал плечами и улыбнулся, хлопая вместе с залом:
— Как-то жестко, нет? — поинтересовался я украдкой.
— Все правильно, Сов, я слегка ошибся с инверсией и завис на последних палинах. Так что все верно!
Я чувствовал, как он понемногу напрягался. Проиграть два первых тура само по себе не трагично, если, конечно, разрыв при этом небольшой. Но главное теперь — не уступить еще больше, не дать противнику уйти в отрыв.
 Что-то меня беспокоило, но я никак не мог понять, что именно. Я смотрел на эту публику, на избранных, образованных дворян в поиске литературной экзальтации, на дотошных церковнослужителей, на кучку раклеров, приглашенных в противовес. Их внимательность светилась нездоровым блеском. Смех их был отрешенный и полный знания дела. Никакой снисходительности. Сомнительное восхищение, готовое высмеять любой промах.
Глядя на них, я отдавал себе отчет, в кого превратился бы, если бы не Орда: я был бы таким же князем благород-
Что-то меня беспокоило, но я никак не мог понять, что именно. Я смотрел на эту публику, на избранных, образованных дворян в поиске литературной экзальтации, на дотошных церковнослужителей, на кучку раклеров, приглашенных в противовес. Их внимательность светилась нездоровым блеском. Смех их был отрешенный и полный знания дела. Никакой снисходительности. Сомнительное восхищение, готовое высмеять любой промах.
Глядя на них, я отдавал себе отчет, в кого превратился бы, если бы не Орда: я был бы таким же князем благород-

 Голгот ликовал, стоя на своем кресле. Караколь, пользуясь всеобщим замешательством, перечитал слова на моей табличке и, на лету схватив возможность перехватить у Селема из-под носа новый ход, выдал следующую колкость:
Голгот ликовал, стоя на своем кресле. Караколь, пользуясь всеобщим замешательством, перечитал слова на моей табличке и, на лету схватив возможность перехватить у Селема из-под носа новый ход, выдал следующую колкость:
 Я не сразу понял, в чем дело. В зале раздался гул протеста.
— В слове «щёголь» запрещенная гласная «ё», господин Караколь, один балл в пользу Селема!
Голгот подскочил и проревел какое-то нечленораздельное ругательство, пока Пьетро его не усадил на место. Он был вне себя. Селем нас снова обошел. У нас почти не осталось слов, а повторы, по умолчанию, не пользовались особым успехом у жюри.
Я не сразу понял, в чем дело. В зале раздался гул протеста.
— В слове «щёголь» запрещенная гласная «ё», господин Караколь, один балл в пользу Селема!
Голгот подскочил и проревел какое-то нечленораздельное ругательство, пока Пьетро его не усадил на место. Он был вне себя. Селем нас снова обошел. У нас почти не осталось слов, а повторы, по умолчанию, не пользовались особым успехом у жюри.
 За истекшую минуту диалог заметно поутих, оба соперника истощили свой запас слов на о, которые еще ни одним из них не использовались. Я пальцами стирал с дощечки использованные слова, но не находил новых. Те, что оставались: кобольд, гонг, толос, монокль, и наречия образа действия на О — волчком, торчком, ползком, молчком, было очень сложно встроить в диалог, и Караколю ничего не оставалось, как играть на своем чутье, чтобы держать удар стилита, который, как по мне, тоже находился в отчаянном положении. Я украдкой взглянул на песочные часы — в верхней части оставалась лишь маленькая горстка белых песчинок, главное теперь было не допустить ошибки, которая дорого нам обойдется. Я добавил на дощечку слова «водоворот», «коробок», «хроноскоп». Караколь прищурился. Был его ход. Повисла давящая тишина.
За истекшую минуту диалог заметно поутих, оба соперника истощили свой запас слов на о, которые еще ни одним из них не использовались. Я пальцами стирал с дощечки использованные слова, но не находил новых. Те, что оставались: кобольд, гонг, толос, монокль, и наречия образа действия на О — волчком, торчком, ползком, молчком, было очень сложно встроить в диалог, и Караколю ничего не оставалось, как играть на своем чутье, чтобы держать удар стилита, который, как по мне, тоже находился в отчаянном положении. Я украдкой взглянул на песочные часы — в верхней части оставалась лишь маленькая горстка белых песчинок, главное теперь было не допустить ошибки, которая дорого нам обойдется. Я добавил на дощечку слова «водоворот», «коробок», «хроноскоп». Караколь прищурился. Был его ход. Повисла давящая тишина.

 Быстрые удары гонга, обозначающие, что осталось десять секунд, раздались в самый неподходящий момент. Нам оставалось лишь ждать последней реплики стилита, опасаясь удара ниже пояса. Именно такой она и вышла, ясной, колкой, пронзительной, во второй раз предоставив ему финальный аккорд во всей красе.
Быстрые удары гонга, обозначающие, что осталось десять секунд, раздались в самый неподходящий момент. Нам оставалось лишь ждать последней реплики стилита, опасаясь удара ниже пояса. Именно такой она и вышла, ясной, колкой, пронзительной, во второй раз предоставив ему финальный аккорд во всей красе.
 Гром аплодисментов, раздавшийся с трибун, застал меня врасплох. Если в целом это испытание мне показалось ловко сыгранным обоими соперниками, с парой обменов красивыми, стройными фразами, и если Караколь, по-моему, был весьма неплох, то разве с интеллектуальной точки зрения это состязание было сравнимо с битвой палиндромов? Но, по всей видимости, почти что детская забава звуками и игривый тон Караколя, его манера обыгрывать каждую реплику очаровали публику, и верхние ряды ободряюще скандировали его имя. Я не мог сказать со всей объективностью, кто из двоих был лучшим, хотя мне казалось, что первенство в первой половине тура осталось за Караколем.
Члены жюри посовещались пару минут, и на оловянных цилиндрах, которые прокручивал счетовой, показались результаты: Селем — 26, Караколь — 21. Что составляло общий счет за два тура: Селем — 58, Караколь — 44. Меня как из ушата окатили! Я был разбит, потерян: я сделал все, что в моих силах, я написал на табличке все слова, какие только смог, Караколь хватал их на лету и составлял их, как мозаику из сухой кладки. Количество штрафных очков у нас было практически одинаковое. А по итогу стилит обошел нас на целых пять баллов! Бархатистую тишину дворца надорвали свистки негодования, укрепившие
Гром аплодисментов, раздавшийся с трибун, застал меня врасплох. Если в целом это испытание мне показалось ловко сыгранным обоими соперниками, с парой обменов красивыми, стройными фразами, и если Караколь, по-моему, был весьма неплох, то разве с интеллектуальной точки зрения это состязание было сравнимо с битвой палиндромов? Но, по всей видимости, почти что детская забава звуками и игривый тон Караколя, его манера обыгрывать каждую реплику очаровали публику, и верхние ряды ободряюще скандировали его имя. Я не мог сказать со всей объективностью, кто из двоих был лучшим, хотя мне казалось, что первенство в первой половине тура осталось за Караколем.
Члены жюри посовещались пару минут, и на оловянных цилиндрах, которые прокручивал счетовой, показались результаты: Селем — 26, Караколь — 21. Что составляло общий счет за два тура: Селем — 58, Караколь — 44. Меня как из ушата окатили! Я был разбит, потерян: я сделал все, что в моих силах, я написал на табличке все слова, какие только смог, Караколь хватал их на лету и составлял их, как мозаику из сухой кладки. Количество штрафных очков у нас было практически одинаковое. А по итогу стилит обошел нас на целых пять баллов! Бархатистую тишину дворца надорвали свистки негодования, укрепившие
 Если хорошо подумать, то вся наука Голгота держалась на знании потоков. Он владел основными восемью типами встречного ветра, разбирался в основных вариациях шести форм, умел прочерчивать теоретическую трассу по карте Тальвега. Но в остальном… Механика течений, признаки турбулентности в нестационарных кильватерах, изолированные и связанные потоки в зависимости от типа тел и влияния напора, ребро атаки и схода, как и любые тонкости аэродинамической теории, были ему безразличны. Многие в Орде давно для себя решили, что он ведет контр инстинктивно, что это просто дело крови, наследственности. Тем не менее, каждый раз, когда я у него спрашивала, почему он выбрал ту или иную трассу, Голгот практически всегда давал мне вполне аргументированный ответ. Сжатый, но, как правило, обоснованный.
Если хорошо подумать, то вся наука Голгота держалась на знании потоков. Он владел основными восемью типами встречного ветра, разбирался в основных вариациях шести форм, умел прочерчивать теоретическую трассу по карте Тальвега. Но в остальном… Механика течений, признаки турбулентности в нестационарных кильватерах, изолированные и связанные потоки в зависимости от типа тел и влияния напора, ребро атаки и схода, как и любые тонкости аэродинамической теории, были ему безразличны. Многие в Орде давно для себя решили, что он ведет контр инстинктивно, что это просто дело крови, наследственности. Тем не менее, каждый раз, когда я у него спрашивала, почему он выбрал ту или иную трассу, Голгот практически всегда давал мне вполне аргументированный ответ. Сжатый, но, как правило, обоснованный.
 Арбитр отошел на край диска. Стилит по-прежнему сидел, поджав под себя ноги, и, опустив вниз голову, молился. Диск медленно вращался вокруг собственной оси. Уже почти стемнело. В свете ясных огоньков пламени, раздуваемых в пиалах под самым куполом, медные перегородки сверкали мягкими рыжими отблесками. За стеклом купола виднелись сотни столпившихся на платформе раклеров. Они стояли темной массой, сдерживаемые алебардистами. Пронеслась новость, что они прорвались через охрану у подножья башни. Поднялись по винтовой лестнице всей толпой. Пришли поддержать нас. Чтобы не накалять ситуацию, палантины установили слуховые трубы. Звук над сценой попадал в конус трубы и передавался наружу через расширенное отверстие на другом конце трубки. Это позволяло собравшимся на платформе раклерам следить за ходом дуэли, что удерживало их от того, чтобы ворваться внутрь. Во всяком случае пока.
Караколь не спешил с ответом, наблюдая, как нарастает напряженное ожидание. Он стоял у бортика диска в
Арбитр отошел на край диска. Стилит по-прежнему сидел, поджав под себя ноги, и, опустив вниз голову, молился. Диск медленно вращался вокруг собственной оси. Уже почти стемнело. В свете ясных огоньков пламени, раздуваемых в пиалах под самым куполом, медные перегородки сверкали мягкими рыжими отблесками. За стеклом купола виднелись сотни столпившихся на платформе раклеров. Они стояли темной массой, сдерживаемые алебардистами. Пронеслась новость, что они прорвались через охрану у подножья башни. Поднялись по винтовой лестнице всей толпой. Пришли поддержать нас. Чтобы не накалять ситуацию, палантины установили слуховые трубы. Звук над сценой попадал в конус трубы и передавался наружу через расширенное отверстие на другом конце трубки. Это позволяло собравшимся на платформе раклерам следить за ходом дуэли, что удерживало их от того, чтобы ворваться внутрь. Во всяком случае пока.
Караколь не спешил с ответом, наблюдая, как нарастает напряженное ожидание. Он стоял у бортика диска в
 Едва арбитр подал знак, как Караколь тут же ринулся в атаку. Он не просил у меня ни списка слов, ни выражений, попросил лишь на пятой строфе. По его тону, по тембру голоса, по мягкой кошачьей агрессивности слога, которую он выказывал в момент охоты, я сразу понял, что он проглотит своего противника. Ни публика, ни сам этот змей Селем понятия не имели, что их ждет. Он начал неистовой строфой, в которой я едва успевал записывать слова на фи, чтобы он их не повторил. Вне всяких сомнений, теперь он решил выбить из колеи этого белесого стилита, атакуя его ad hominem. Тот, в свою очередь, принял оборонительную позицию, и, в качестве тактики, решил снизить градус напряжения схватки.
Едва арбитр подал знак, как Караколь тут же ринулся в атаку. Он не просил у меня ни списка слов, ни выражений, попросил лишь на пятой строфе. По его тону, по тембру голоса, по мягкой кошачьей агрессивности слога, которую он выказывал в момент охоты, я сразу понял, что он проглотит своего противника. Ни публика, ни сам этот змей Селем понятия не имели, что их ждет. Он начал неистовой строфой, в которой я едва успевал записывать слова на фи, чтобы он их не повторил. Вне всяких сомнений, теперь он решил выбить из колеи этого белесого стилита, атакуя его ad hominem. Тот, в свою очередь, принял оборонительную позицию, и, в качестве тактики, решил снизить градус напряжения схватки.
 Когда молот ударил в гонг, из слуховой трубки в зал полились недовольные крики, то были возгласы распаленной толпы раклеров. Пыл и красноречие Караколя, долгота его строф, стиль: он во всем превосходил стилита. Для раклеров, я имею в виду, не для жюри, — те хмурили брови от некоторых не вполне классических оборотов речи. Общий счет за все раунды появился на цилиндрах: Селем — 68, Караколь — 56. Нам удалось отыграть всего два балла, и я подумал, что должен исполнить свою роль советчика:
Когда молот ударил в гонг, из слуховой трубки в зал полились недовольные крики, то были возгласы распаленной толпы раклеров. Пыл и красноречие Караколя, долгота его строф, стиль: он во всем превосходил стилита. Для раклеров, я имею в виду, не для жюри, — те хмурили брови от некоторых не вполне классических оборотов речи. Общий счет за все раунды появился на цилиндрах: Селем — 68, Караколь — 56. Нам удалось отыграть всего два балла, и я подумал, что должен исполнить свою роль советчика:
 Ни за что на свете я бы не хотела оказаться на его месте. Не знаю, как он справлялся, откуда в нем было столько сил. Не сдаться под напором этого нездорового монаха, этой медузы, подобранной с камня. Мне бы даже за руку его взять было противно. Я покрепче схватилась за Альму и Степпа, чтобы почувствовать себя спокойнее, не так одиноко. Всем нам казалось, что и это состязание, и жюри — все было несправедливым. Я не хотела идти через Малахитовый массив, мы этого не заслуживали, ни одна Орда такого не заслуживала, что бы там Голгот ни вытворил. Сов меня особенно впечатлял. На нем лица не было, когда он ступил во дворец, но мало-помалу он вошел в раж, что-то очень быстро строчил на своей табличке и протягивал Караколю. Они выглядели сплоченной командой, очень мило, хорошо. «Мы выиграем, — повторял мне Степп, — обязательно выиграем, Карак — лучший трубадур на свете, ручеек!» Но я в этом больше не была уверена, во всяком случае, в последний час…
— Монсеньор Караколь, ваш черед выбирать слог для второго тура cappizzano. Каков ваш выбор?
— Я выбираю «кар», раз уж имя мое Караколь!
Ни за что на свете я бы не хотела оказаться на его месте. Не знаю, как он справлялся, откуда в нем было столько сил. Не сдаться под напором этого нездорового монаха, этой медузы, подобранной с камня. Мне бы даже за руку его взять было противно. Я покрепче схватилась за Альму и Степпа, чтобы почувствовать себя спокойнее, не так одиноко. Всем нам казалось, что и это состязание, и жюри — все было несправедливым. Я не хотела идти через Малахитовый массив, мы этого не заслуживали, ни одна Орда такого не заслуживала, что бы там Голгот ни вытворил. Сов меня особенно впечатлял. На нем лица не было, когда он ступил во дворец, но мало-помалу он вошел в раж, что-то очень быстро строчил на своей табличке и протягивал Караколю. Они выглядели сплоченной командой, очень мило, хорошо. «Мы выиграем, — повторял мне Степп, — обязательно выиграем, Карак — лучший трубадур на свете, ручеек!» Но я в этом больше не была уверена, во всяком случае, в последний час…
— Монсеньор Караколь, ваш черед выбирать слог для второго тура cappizzano. Каков ваш выбор?
— Я выбираю «кар», раз уж имя мое Караколь!
 Только на первом куплете второго тура мне стало казаться, что наша победа возможна. После палиндромов я себе уже представляла, как мы идем через Малахиты. На моновокализме перебирала оборудование, необходимое
Только на первом куплете второго тура мне стало казаться, что наша победа возможна. После палиндромов я себе уже представляла, как мы идем через Малахиты. На моновокализме перебирала оборудование, необходимое
 Я схватил свой пергамент и стал писать на оборотной стороне чернилами все слова на «кар», что смогла собрать память, располагая их по возможности по ассонансу, а Караколь с высоты своего мастерства бросал взгляд на мой список, выхватывал оттуда слово, звук, бросал пристальный взгляд на стилита, на накаленную, распаленную публику и, меряя шагами диск, декламировал, играя каждой строфой, ускоряя ритм и рифму, удваивая скорость, так что зал следил лишь за его силуэтом веселого арлекина и внимал лишь ему одному, подбадривая улюлюканьем. Неминуемо нагоняемый стилит смог лишь сообразить в ответ слабенький куплетик. Песок в часах почти весь пересыпался. Я подскочил, чтобы сказать Караколю, что теперь он должен воспользоваться всем оставшимся временем, чтобы последнее слово осталось за ним. Он качнул головой и вот что выдал мне в ответ:
Я схватил свой пергамент и стал писать на оборотной стороне чернилами все слова на «кар», что смогла собрать память, располагая их по возможности по ассонансу, а Караколь с высоты своего мастерства бросал взгляд на мой список, выхватывал оттуда слово, звук, бросал пристальный взгляд на стилита, на накаленную, распаленную публику и, меряя шагами диск, декламировал, играя каждой строфой, ускоряя ритм и рифму, удваивая скорость, так что зал следил лишь за его силуэтом веселого арлекина и внимал лишь ему одному, подбадривая улюлюканьем. Неминуемо нагоняемый стилит смог лишь сообразить в ответ слабенький куплетик. Песок в часах почти весь пересыпался. Я подскочил, чтобы сказать Караколю, что теперь он должен воспользоваться всем оставшимся временем, чтобы последнее слово осталось за ним. Он качнул головой и вот что выдал мне в ответ:
 Песочные часы истекли. Арбитр собрался взять слово. Но наш трубадур прервал его величественным жестом. Он выдержал короткую паузу и затем очень сдержанно, внятно и отчетливо произнес конечную тираду:
Песочные часы истекли. Арбитр собрался взять слово. Но наш трубадур прервал его величественным жестом. Он выдержал короткую паузу и затем очень сдержанно, внятно и отчетливо произнес конечную тираду:

 Я не претендую на объективность того, что здесь пишу. В конце концов, я всегда обожал Караколя, он всегда был для меня драгоценнейшим другом, яркими цветными брызгами, украшающими любую серость, я с каждым днем все больше восхищался неукоснительной стойкостью его творческой непринужденности, но на этот раз он оказался просто-напросто гениален! Овации, последовавшие за его последней строфой, были, вне всякого сомнения, беспрецедентны в истории дворца Девятой Формы. Жюри не могло остаться к этому равнодушным — и все же! Они отказались засчитать нам последние строфы, прозвучавшие после завершающего удара гонга, то есть более десятка строк! Эрг удержал Голгота, ринувшегося вправить на место голову жюри, а Пьетро тем временем постарался умерить наш пыл:
— Таковы правила, на каждый этап выделено определенное время! Ты и так дважды оборвал стилита и отыграл у него семь очков! Счет теперь 76 против 71. Продолжай в том же духе, он устал, сбивается. Мы непременно должны выиграть с учетом правил, чтобы не дать Экзарху ни малейшего повода. Понимаете?
— Да, Пьетро, но согласись, что все это состязание полная липа!
— Факт того, что это состязание имеет место, — уже само по себе полная липа. Ты прекрасно это понимаешь, Сов!
Я не претендую на объективность того, что здесь пишу. В конце концов, я всегда обожал Караколя, он всегда был для меня драгоценнейшим другом, яркими цветными брызгами, украшающими любую серость, я с каждым днем все больше восхищался неукоснительной стойкостью его творческой непринужденности, но на этот раз он оказался просто-напросто гениален! Овации, последовавшие за его последней строфой, были, вне всякого сомнения, беспрецедентны в истории дворца Девятой Формы. Жюри не могло остаться к этому равнодушным — и все же! Они отказались засчитать нам последние строфы, прозвучавшие после завершающего удара гонга, то есть более десятка строк! Эрг удержал Голгота, ринувшегося вправить на место голову жюри, а Пьетро тем временем постарался умерить наш пыл:
— Таковы правила, на каждый этап выделено определенное время! Ты и так дважды оборвал стилита и отыграл у него семь очков! Счет теперь 76 против 71. Продолжай в том же духе, он устал, сбивается. Мы непременно должны выиграть с учетом правил, чтобы не дать Экзарху ни малейшего повода. Понимаете?
— Да, Пьетро, но согласись, что все это состязание полная липа!
— Факт того, что это состязание имеет место, — уже само по себе полная липа. Ты прекрасно это понимаешь, Сов!
 Алебардисты вывели заполонивших зал раклеров. Зрители снова заняли свои места. Начинался последний раунд. На этот раз ожидался «перебежный стиль», то есть с единственным условием — прийтись по вкусу. После воодушевления, которое вызвал второй тур, напряжение механически спало. Караколь оставался резок. Хотя слог его
Алебардисты вывели заполонивших зал раклеров. Зрители снова заняли свои места. Начинался последний раунд. На этот раз ожидался «перебежный стиль», то есть с единственным условием — прийтись по вкусу. После воодушевления, которое вызвал второй тур, напряжение механически спало. Караколь оставался резок. Хотя слог его
 Сидевшая рядом со мной Кориолис рыдала, не в силах сдержать эмоции. Раздавленная долгим напряжением, она искала утешения, бросившись к Ларко в объятия. Весь зал дрожал, как мокрый пес. Кто бурно рукоплескал, кто подскакивал и фыркал, а кто свистел и снова усаживался. Глаза Кориолис стали прекрасно-синими, кровь прилила к губам. Ларко поцеловал ее, она была податлива, не отворачивалась. Я смотрела на Степпа, который тоже встал, наблюдая, что происходит у нас за спиной.
— Прошу вас, еще немного внимания. Наш счетовой скоро огласит результат состязания…
Под именем Селема, вырезанным большими деревянными буквами, закрутились два цилиндра. Первый остановился на цифре 8, второй защелкал, застопорился и остановился на пяти: 85! Вся Орда сжалась, схватив друг друга под руки, все мы затаили дыхание. Мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. Караколь и Сов стояли на сцене, взявшись за руки, глядя на портик с цифрами. Первый цилиндр выдал 8, второй перекатился с 1 на 2, затем на 3, потом на 4, 5, раклеры бушевали за стенами дворца, по залу перекатывались перешептывания, меня бросило в жар. Все мы ждали цифры 6. Но счетовой снял рукоятку с портика и в смущении положил на пол. Церемониймейстер поднялся на сцену, я ничего не понимала:
— Ваше Высочество, Монсеньоры, Господа, Друзья, поистине это состязание не имеет равных в истории. Наше
Сидевшая рядом со мной Кориолис рыдала, не в силах сдержать эмоции. Раздавленная долгим напряжением, она искала утешения, бросившись к Ларко в объятия. Весь зал дрожал, как мокрый пес. Кто бурно рукоплескал, кто подскакивал и фыркал, а кто свистел и снова усаживался. Глаза Кориолис стали прекрасно-синими, кровь прилила к губам. Ларко поцеловал ее, она была податлива, не отворачивалась. Я смотрела на Степпа, который тоже встал, наблюдая, что происходит у нас за спиной.
— Прошу вас, еще немного внимания. Наш счетовой скоро огласит результат состязания…
Под именем Селема, вырезанным большими деревянными буквами, закрутились два цилиндра. Первый остановился на цифре 8, второй защелкал, застопорился и остановился на пяти: 85! Вся Орда сжалась, схватив друг друга под руки, все мы затаили дыхание. Мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. Караколь и Сов стояли на сцене, взявшись за руки, глядя на портик с цифрами. Первый цилиндр выдал 8, второй перекатился с 1 на 2, затем на 3, потом на 4, 5, раклеры бушевали за стенами дворца, по залу перекатывались перешептывания, меня бросило в жар. Все мы ждали цифры 6. Но счетовой снял рукоятку с портика и в смущении положил на пол. Церемониймейстер поднялся на сцену, я ничего не понимала:
— Ваше Высочество, Монсеньоры, Господа, Друзья, поистине это состязание не имеет равных в истории. Наше
 Палатин сопроводил нас в узкую башенку за трибунами, что находилась напротив входа и служила столбом для купола. Он провел нас по винтовой лестнице в небольшую круглую комнатку, остекленную зеркалом без амальгамы, и вышел. Сквозь зеркало нам были видны трибуны и бушующая публика, а за ними, за стенами дворца, — толпа раклеров на платформе.
— Эскалетр — это такой снежный ком, да? Начинается со слова из одной буквы, затем идет слово из двух букв, потом их трех, четырех, и так далее? Выигрывает тот, кто дойдет до самого длинного слова, так?
— Да, Сов.
Палатин сопроводил нас в узкую башенку за трибунами, что находилась напротив входа и служила столбом для купола. Он провел нас по винтовой лестнице в небольшую круглую комнатку, остекленную зеркалом без амальгамы, и вышел. Сквозь зеркало нам были видны трибуны и бушующая публика, а за ними, за стенами дворца, — толпа раклеров на платформе.
— Эскалетр — это такой снежный ком, да? Начинается со слова из одной буквы, затем идет слово из двух букв, потом их трех, четырех, и так далее? Выигрывает тот, кто дойдет до самого длинного слова, так?
— Да, Сов.
 Счет поднялся до десяти слов — первое из одной буквы, второе из двух и так далее, вплоть до последнего из десяти. Караколь изворачивался в тонко сплетенной, непростой последовательности, но пока что без прорех. Самое трудное было впереди, и я быстро стал писать развернутые списки наречий, прилагательных, глаголов из четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати букв, готовясь к продолжению. На каждую фразу нам выделялось по минуте, чего было достаточно в начале, но на следующие предложения этого будет решительно мало.
Счет поднялся до десяти слов — первое из одной буквы, второе из двух и так далее, вплоть до последнего из десяти. Караколь изворачивался в тонко сплетенной, непростой последовательности, но пока что без прорех. Самое трудное было впереди, и я быстро стал писать развернутые списки наречий, прилагательных, глаголов из четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати букв, готовясь к продолжению. На каждую фразу нам выделялось по минуте, чего было достаточно в начале, но на следующие предложения этого будет решительно мало.
 Караколь поднялся со своего трона. Попросил у церемониймейстера слово. Какую еще клоунаду он нам подготовил, черт возьми! Пока он тут устраивает парад, стилит спокойненько размышляет над новой фразой. Умнее не придумаешь!
— Ваше светлейшее Величество, Дорогие Герцоги и Графы Альтиччио, Дорогие Князья, каждый в своем почтеннейшем звании, дорогие Друзья раклеры, позвольте мне покинуть состязание, не дожидаясь его завершения.
Зал окатило тишиной.
— Эскалетр, что я вам представил, недостаточен, чтобы одержать верх над вашим непревзойденным чемпионом. Из уважения к великолепному состязанию, в котором мне выпала честь принять участие, нужно уметь с благодарностью и блеском признать поражение и преклониться, когда того требует рыцарский дух. Поприветствуйте же стилита Селема за эскалетр из двадцати ступеней, что он без промедления предложит вашему вниманию, воздайте ему должное за его интеллект, умение и беспримерную стойкость. Прошу вас оказать мне честь и предоставить эскорт из четырех палатинов, что проводят меня к моему веливело. Благодарю вас, покидая сцену, прекрасная публика, за ваш энтузиазм и теплоту приема!
Тишина потрясения была совершенно невыносима. Я не знал, куда деться. Голгота как пришпилило к креслу от
Караколь поднялся со своего трона. Попросил у церемониймейстера слово. Какую еще клоунаду он нам подготовил, черт возьми! Пока он тут устраивает парад, стилит спокойненько размышляет над новой фразой. Умнее не придумаешь!
— Ваше светлейшее Величество, Дорогие Герцоги и Графы Альтиччио, Дорогие Князья, каждый в своем почтеннейшем звании, дорогие Друзья раклеры, позвольте мне покинуть состязание, не дожидаясь его завершения.
Зал окатило тишиной.
— Эскалетр, что я вам представил, недостаточен, чтобы одержать верх над вашим непревзойденным чемпионом. Из уважения к великолепному состязанию, в котором мне выпала честь принять участие, нужно уметь с благодарностью и блеском признать поражение и преклониться, когда того требует рыцарский дух. Поприветствуйте же стилита Селема за эскалетр из двадцати ступеней, что он без промедления предложит вашему вниманию, воздайте ему должное за его интеллект, умение и беспримерную стойкость. Прошу вас оказать мне честь и предоставить эскорт из четырех палатинов, что проводят меня к моему веливело. Благодарю вас, покидая сцену, прекрасная публика, за ваш энтузиазм и теплоту приема!
Тишина потрясения была совершенно невыносима. Я не знал, куда деться. Голгота как пришпилило к креслу от
 Человек, которого Караколь назвал Масхар Лек, поднялся и вышел из своего ряда. Он обошел трибуны по левой стороне и стал спускаться по центральной лестнице, остановился напротив Экзарха и поприветствовал его, дважды приподняв свою треуголку… У меня по телу пробежала дрожь от дежавю — все точь-в-точь совпадало с предсказанием Караколя! Человек прошел мимо меня внизу сцены… Поток аплодисментов накрыл дворец Девятой Формы, весь зал поднялся и требовал назад Караколя, публика взрывалась кто криками «браво!», кто гневными восклицаниями негодования, а то и вызывающим свистом в его адрес… Всего в нескольких метрах от меня человек в треуголке проталкивался сквозь толпу плотно стоящих у самой сцены раклеров, направляясь к выходу… «Ты должен его остановить ровно в этот момент». Я спрыгнул со сцены и стал пробираться к нему. Кое-кто из раклеров меня узнал и расступился, думая, что я догоняю Караколя, остальных я стал расталкивать ударами плеча, постепенно нагоняя человека в треуголке, вот я был уже совсем близко, у него за спиной… «Ты должен его остановить».
— Масхар?
— Да?
Он в удивлении обернулся. Удар локтем в солнечное сплетение. Масхар Лек рухнул, глотая воздух. Я позвал Эрга на помощь, он тут же примчался, поднял этого типа, обыскал и вытащил у него из камзола сарбакан, какой-то пузырек и кинжал, открыл флакончик, понюхал и снова закупорил:
— Яд. Стрихнин. Что это за тип, Сов?
Человек, которого Караколь назвал Масхар Лек, поднялся и вышел из своего ряда. Он обошел трибуны по левой стороне и стал спускаться по центральной лестнице, остановился напротив Экзарха и поприветствовал его, дважды приподняв свою треуголку… У меня по телу пробежала дрожь от дежавю — все точь-в-точь совпадало с предсказанием Караколя! Человек прошел мимо меня внизу сцены… Поток аплодисментов накрыл дворец Девятой Формы, весь зал поднялся и требовал назад Караколя, публика взрывалась кто криками «браво!», кто гневными восклицаниями негодования, а то и вызывающим свистом в его адрес… Всего в нескольких метрах от меня человек в треуголке проталкивался сквозь толпу плотно стоящих у самой сцены раклеров, направляясь к выходу… «Ты должен его остановить ровно в этот момент». Я спрыгнул со сцены и стал пробираться к нему. Кое-кто из раклеров меня узнал и расступился, думая, что я догоняю Караколя, остальных я стал расталкивать ударами плеча, постепенно нагоняя человека в треуголке, вот я был уже совсем близко, у него за спиной… «Ты должен его остановить».
— Масхар?
— Да?
Он в удивлении обернулся. Удар локтем в солнечное сплетение. Масхар Лек рухнул, глотая воздух. Я позвал Эрга на помощь, он тут же примчался, поднял этого типа, обыскал и вытащил у него из камзола сарбакан, какой-то пузырек и кинжал, открыл флакончик, понюхал и снова закупорил:
— Яд. Стрихнин. Что это за тип, Сов?
 Этому трубадурню так фартануло, что он успел от меня упедалить вовремя, а то бы я ему засунул рыльник в заднее отверстие, и полетел бы он у меня кубарем прямо с башни, никакие закрылки ему бы не помогли! Устроить мне такое в самый разгар стычки, перед двумя тыщами мужиков, так меня кидануть перед Экзархом, смешать всю честь Орды с мусором, даже не попытаться отыграться, свернуть игру и смыться! Меня прям к сидушке пришибло на добрую четверть часа. Хватило времени посмотреть, как этот дохляк стилитовый свои двадцать ступеней наворотил, как Экзарх его по плечу похлопал да как вся их шайка дворянская пошла ему саван лобызать, а потом выкатилась из зала на своей высокопарности!
Я б еще долго так сидел, если б не махач этот да если б Степп меня за рукав не тянул, не показал, как там внизу трибун бугай какой-то с черным гребнем на башке уложил целую дюжину караульных. Я подошел. Эрг пришлепнул какого-то зеленого типа, у которого, видать, были какие-то свои подводы к Экзарху, потому что тот когда шмякнулся, так к нему бросились все, у кого оставалось по оружию да по паре яиц. Но Эрг тут же схватил алебарду, и они все кругом расступились… Два каких-то умника в глубине зала решили из арбалета дать отпор и взяли его на мушку. Только Эрг недолго в их игры играл. Взмыл стрелой на шесте. Первый парниша даже прицелиться не успел, рухнул столбом. Второй стрелу выпустил, но Эрг на него уже приземлился, только кости затрещали: этот крендель потом так орал — Эрг ему обе ходули переломал, коленки наи-
Этому трубадурню так фартануло, что он успел от меня упедалить вовремя, а то бы я ему засунул рыльник в заднее отверстие, и полетел бы он у меня кубарем прямо с башни, никакие закрылки ему бы не помогли! Устроить мне такое в самый разгар стычки, перед двумя тыщами мужиков, так меня кидануть перед Экзархом, смешать всю честь Орды с мусором, даже не попытаться отыграться, свернуть игру и смыться! Меня прям к сидушке пришибло на добрую четверть часа. Хватило времени посмотреть, как этот дохляк стилитовый свои двадцать ступеней наворотил, как Экзарх его по плечу похлопал да как вся их шайка дворянская пошла ему саван лобызать, а потом выкатилась из зала на своей высокопарности!
Я б еще долго так сидел, если б не махач этот да если б Степп меня за рукав не тянул, не показал, как там внизу трибун бугай какой-то с черным гребнем на башке уложил целую дюжину караульных. Я подошел. Эрг пришлепнул какого-то зеленого типа, у которого, видать, были какие-то свои подводы к Экзарху, потому что тот когда шмякнулся, так к нему бросились все, у кого оставалось по оружию да по паре яиц. Но Эрг тут же схватил алебарду, и они все кругом расступились… Два каких-то умника в глубине зала решили из арбалета дать отпор и взяли его на мушку. Только Эрг недолго в их игры играл. Взмыл стрелой на шесте. Первый парниша даже прицелиться не успел, рухнул столбом. Второй стрелу выпустил, но Эрг на него уже приземлился, только кости затрещали: этот крендель потом так орал — Эрг ему обе ходули переломал, коленки наи-
 Во дворце было еще несколько сотен народа, в основном раклеры, вся знать из Верхнежителей улизнула под всеобщее ликование вслед за торжествующим Экзархом. Сигнал тревоги протрубили в рог, как только началась драка, и целый отряд жандармов забаррикадировал выход.
— Не стреляй! — крикнул Пьетро Эргу.
— Заряжай! — орал Голгот.
Эрг целился выше колен, по мясистой части. Шестерым жандармам досталось по стреле в ногу, и они начали отступать, укрывшись за фюзеляжем одной из баркарол на платформе. Послышался глухой перекатывающийся шум, и двойная стеклянная дверь захлопнулась прямо перед нами… Мы оказались заперты во дворце! Снаружи, повиснув над платформой, заняли позиции целые эскадры едва различимых в темноте фланговиков. По мерцающим язычкам пламени, облизывающим темноту неба, было видно приближающиеся баллеры — воздушные шары, летящие к дворцу: подмога или стая зевак? Эоликоптер с тройным винтом слегка задел купол и высадил на стеклянную каплевидную поверхность акробатов, которые при помощи присосок стали пробираться к вентиляционным створкам, проделанным прямо в куполе, в двадцати метрах у нас над головами. Эрг не сможет взять на себя всех одновременно… Через слуховую трубу над сценой раздался голос. От имени Экзарха нам предлагали выдать Эрга, раклеров обещали оставить без наказания.
— Вранье! Эти сволочи нас по стенке размажут!
— Не слушайте их! Экзарх не держит свое слово! Они вас в тюрьму засадят!
Во дворце было еще несколько сотен народа, в основном раклеры, вся знать из Верхнежителей улизнула под всеобщее ликование вслед за торжествующим Экзархом. Сигнал тревоги протрубили в рог, как только началась драка, и целый отряд жандармов забаррикадировал выход.
— Не стреляй! — крикнул Пьетро Эргу.
— Заряжай! — орал Голгот.
Эрг целился выше колен, по мясистой части. Шестерым жандармам досталось по стреле в ногу, и они начали отступать, укрывшись за фюзеляжем одной из баркарол на платформе. Послышался глухой перекатывающийся шум, и двойная стеклянная дверь захлопнулась прямо перед нами… Мы оказались заперты во дворце! Снаружи, повиснув над платформой, заняли позиции целые эскадры едва различимых в темноте фланговиков. По мерцающим язычкам пламени, облизывающим темноту неба, было видно приближающиеся баллеры — воздушные шары, летящие к дворцу: подмога или стая зевак? Эоликоптер с тройным винтом слегка задел купол и высадил на стеклянную каплевидную поверхность акробатов, которые при помощи присосок стали пробираться к вентиляционным створкам, проделанным прямо в куполе, в двадцати метрах у нас над головами. Эрг не сможет взять на себя всех одновременно… Через слуховую трубу над сценой раздался голос. От имени Экзарха нам предлагали выдать Эрга, раклеров обещали оставить без наказания.
— Вранье! Эти сволочи нас по стенке размажут!
— Не слушайте их! Экзарх не держит свое слово! Они вас в тюрьму засадят!

 Эрг проанализировал ситуацию. Подозвал Фироста, Леарха, Голгота и меня.
— Я проберусь на крышу купола.
— Каким образом?
— По стальной оси. Наверху будет достаточно ветра, чтоб я смог развернуть крыло и расправиться с акробатами. Короткими ударными скачками. Потом займусь эоликоптером и фланговиками. Вы оставайтесь на месте. Спрячьтесь где-то тихо во дворце.
Затем он обратился к раклерам:
— Раклеры! Слушайте меня! Я — Эрг Махаон, боец-защитник Орды. Увидите, как горящий баллер падает на платформу, — вышибите дверь со стальным портиком у вас за спиной и разделитесь на три группы! Первая группа — пулей вниз по винтовой лестнице до самого русла Струйветра! Вторая — будете атаковать жандармов! Защищайтесь спинками кресел вместо щитов. Продвигайтесь группами! Вас будет превосходящее множество, и у них не будет времени организоваться. Третья группа — захватите весь транспорт на платформе и все на взлет! Я вас прикрою из арбамата плюс винтом. Встречаемся внизу, в Панцире. Все понятно?
— Понятно, Махаон! Будь осторожен!
Эрг проанализировал ситуацию. Подозвал Фироста, Леарха, Голгота и меня.
— Я проберусь на крышу купола.
— Каким образом?
— По стальной оси. Наверху будет достаточно ветра, чтоб я смог развернуть крыло и расправиться с акробатами. Короткими ударными скачками. Потом займусь эоликоптером и фланговиками. Вы оставайтесь на месте. Спрячьтесь где-то тихо во дворце.
Затем он обратился к раклерам:
— Раклеры! Слушайте меня! Я — Эрг Махаон, боец-защитник Орды. Увидите, как горящий баллер падает на платформу, — вышибите дверь со стальным портиком у вас за спиной и разделитесь на три группы! Первая группа — пулей вниз по винтовой лестнице до самого русла Струйветра! Вторая — будете атаковать жандармов! Защищайтесь спинками кресел вместо щитов. Продвигайтесь группами! Вас будет превосходящее множество, и у них не будет времени организоваться. Третья группа — захватите весь транспорт на платформе и все на взлет! Я вас прикрою из арбамата плюс винтом. Встречаемся внизу, в Панцире. Все понятно?
— Понятно, Махаон! Будь осторожен!
 Впечатленные телосложением Эрга и тем, как он только что уложил у них на глазах два десятка противников, раклеры сразу одобрили его незамысловатую тактику и начали готовиться. Эрг сделал все, как говорил: он поднялся под прямым углом по оси, на которой крутился диск сцены, и исчез где-то под куполом. Огни, освещавшие свод, почти угасли, один из завсегдатаев дворца прикрутил подачу воздуха к огню, и Эрга стало не различить — акробаты, распределившиеся по куполу, теперь его не видели.
Впечатленные телосложением Эрга и тем, как он только что уложил у них на глазах два десятка противников, раклеры сразу одобрили его незамысловатую тактику и начали готовиться. Эрг сделал все, как говорил: он поднялся под прямым углом по оси, на которой крутился диск сцены, и исчез где-то под куполом. Огни, освещавшие свод, почти угасли, один из завсегдатаев дворца прикрутил подачу воздуха к огню, и Эрга стало не различить — акробаты, распределившиеся по куполу, теперь его не видели.

 Он быстро отыскал выход и выбрался наружу. Я определил его по ударам черных тел, падающих на пол платформы. Они срывались один за другим. Минутой позже эоликоптер врезался в баллер. Лопасти винта обрезали веревки подвесной корзины. Разорвали ткань воздушного шара, и баллер тут же загорелся. Летучая зола заалела в черном небе, а затем оставшаяся от воздушного шара конструкция рухнула на платформу. Это был сигнал! Сгруппировавшись, толпа раклеров выбила тараном стеклянную дверь. Они вырвались наружу, укрываясь спинками кресел на манер щитов. Что до нас, то мы тихонько скользнули в сумрак дворца. Вслед за Совом я оказался в зале с тонированным стеклом. С нами были Ороси, Альма, Аои и Каллироя.
Он быстро отыскал выход и выбрался наружу. Я определил его по ударам черных тел, падающих на пол платформы. Они срывались один за другим. Минутой позже эоликоптер врезался в баллер. Лопасти винта обрезали веревки подвесной корзины. Разорвали ткань воздушного шара, и баллер тут же загорелся. Летучая зола заалела в черном небе, а затем оставшаяся от воздушного шара конструкция рухнула на платформу. Это был сигнал! Сгруппировавшись, толпа раклеров выбила тараном стеклянную дверь. Они вырвались наружу, укрываясь спинками кресел на манер щитов. Что до нас, то мы тихонько скользнули в сумрак дворца. Вслед за Совом я оказался в зале с тонированным стеклом. С нами были Ороси, Альма, Аои и Каллироя.
 С учетом численного превосходства раклеров жандармы, испуганные репутацией Эрга, чья фантастическая победа в воздушной гонке вокруг Альтиччио во время первого испытания оставила яркий след, быстро сдали позиции. Они отступили на мостики, самые смелые отважились на несколько бросков бумерангов, но без особого рвения. Как сказал Пьетро, такое отсутствие энтузиазма в бою объяснялось тем, что среди них не было ни одного командующего — вся иерархия ушла щеголять в приемный зал к Экзарху и оставила их разбираться со стычкой.
Я думал о том, где сейчас мог быть Караколь и не в опасности ли он, несмотря на все это. Состязание всплывало в памяти отдельными фрагментами, его строфы еще звучали где-то в глубине погруженного в тень дворца. По куполу беспрерывно скользила водяная пленка. Жидкость поступала из резервуара дождевой воды и то подогревалась, то вентилировалась и остужалась, чтобы поддерживать в залах дворца идеальную температуру. Стекая по стеклу, она смывала пыль и грязь, нанесенную ветром, и здание
С учетом численного превосходства раклеров жандармы, испуганные репутацией Эрга, чья фантастическая победа в воздушной гонке вокруг Альтиччио во время первого испытания оставила яркий след, быстро сдали позиции. Они отступили на мостики, самые смелые отважились на несколько бросков бумерангов, но без особого рвения. Как сказал Пьетро, такое отсутствие энтузиазма в бою объяснялось тем, что среди них не было ни одного командующего — вся иерархия ушла щеголять в приемный зал к Экзарху и оставила их разбираться со стычкой.
Я думал о том, где сейчас мог быть Караколь и не в опасности ли он, несмотря на все это. Состязание всплывало в памяти отдельными фрагментами, его строфы еще звучали где-то в глубине погруженного в тень дворца. По куполу беспрерывно скользила водяная пленка. Жидкость поступала из резервуара дождевой воды и то подогревалась, то вентилировалась и остужалась, чтобы поддерживать в залах дворца идеальную температуру. Стекая по стеклу, она смывала пыль и грязь, нанесенную ветром, и здание
 Мне нравилось в Панцире. Мне там с первого дня было хорошо. Он находился в аркозовом монолите ржаво-коричневого цвета, тверже, чем башка Голгота, в самом русле ветровой реки, и одно это уже заслуживало уважения. Если смотреть с башни, то выглядел он как останки землеройной черепахи. Вблизи эта продолговатая масса в уровень с земным слоем походила на нечто совершенно выпавшее из времени. Песок, абразия, шлифовка, — весь блок окислился из светло-серого в красный, но продолжал стоять. Это было единственное, что уцелело в этой рытвине.
Один из раклеров открыл засыпанный песком люк с задней стороны монолита и спустил деревянную лестницу. Затем открыл второй люк, на этот раз с охраной. Протащил нас по куче галерей: половина без света, часть в завалах. И мы оказались под блоком, прямо в Панцире, точь-в-точь как в первый раз.
Мне нравилось в Панцире. Мне там с первого дня было хорошо. Он находился в аркозовом монолите ржаво-коричневого цвета, тверже, чем башка Голгота, в самом русле ветровой реки, и одно это уже заслуживало уважения. Если смотреть с башни, то выглядел он как останки землеройной черепахи. Вблизи эта продолговатая масса в уровень с земным слоем походила на нечто совершенно выпавшее из времени. Песок, абразия, шлифовка, — весь блок окислился из светло-серого в красный, но продолжал стоять. Это было единственное, что уцелело в этой рытвине.
Один из раклеров открыл засыпанный песком люк с задней стороны монолита и спустил деревянную лестницу. Затем открыл второй люк, на этот раз с охраной. Протащил нас по куче галерей: половина без света, часть в завалах. И мы оказались под блоком, прямо в Панцире, точь-в-точь как в первый раз.
 Шеф Ганзы раклеров поднялся и попросил своих главных помощников проследовать за ним. Он извинился перед нами, и все они отошли в дальний угол Панциря. От Караколя по-прежнему не было новостей. Сов объяснил нам причину его преждевременного ухода со сцены и принятия поражения. Этот аргумент мне показался весьма экстравагантным. Зато было вполне вероятно, что на него оказали давление. В Альтиччио у него были связи, еще со
Шеф Ганзы раклеров поднялся и попросил своих главных помощников проследовать за ним. Он извинился перед нами, и все они отошли в дальний угол Панциря. От Караколя по-прежнему не было новостей. Сов объяснил нам причину его преждевременного ухода со сцены и принятия поражения. Этот аргумент мне показался весьма экстравагантным. Зато было вполне вероятно, что на него оказали давление. В Альтиччио у него были связи, еще со
 У Голгота был один недостаток — ну или достоинство, как посмотреть, — уши у него всегда оказывались в нужном месте. Он незаметно подошел к столу, делая вид, что разговаривает с группкой потенциальных фаркопщиков, но на самом деле внимательно слушал наш разговор. Затем подошла Ороси, а с ней Степп и Аои. С Тальвегом, Пьетро да двумя ловчими нас всего собралось девять ордийцев за столом из красного гранита. Трактирщик плеснул масла в дыру по центру стола, поднес спичку, и все озарилось. Постепенно вокруг выстроился плотный крут любопытных. Шеф раклеров окинул взглядом присутствующих, дал команду вытолкать самых докучливых, а с ними и потенциальных доносчиков, и разговор пошел дальше.
У Голгота был один недостаток — ну или достоинство, как посмотреть, — уши у него всегда оказывались в нужном месте. Он незаметно подошел к столу, делая вид, что разговаривает с группкой потенциальных фаркопщиков, но на самом деле внимательно слушал наш разговор. Затем подошла Ороси, а с ней Степп и Аои. С Тальвегом, Пьетро да двумя ловчими нас всего собралось девять ордийцев за столом из красного гранита. Трактирщик плеснул масла в дыру по центру стола, поднес спичку, и все озарилось. Постепенно вокруг выстроился плотный крут любопытных. Шеф раклеров окинул взглядом присутствующих, дал команду вытолкать самых докучливых, а с ними и потенциальных доносчиков, и разговор пошел дальше.
 Эрг посмотрел мне прямо в глаза. У него на шее было два пореза и свежий след от сильного удара на щеке. Лицо егооставалось закрытым все время, что я говорила. Но теперь что-то в нем изменилось, со лба ушло напряжение, волна пустила морщинку вокруг глаз. Он о чем-то задумался, потом почти улыбнулся и вдруг снова напрягся:
— Есть только один способ. Если ты непременно хочешь сделать все по-тихому…
— Это обязательное условие, Эрг.
— Придется разобрать каменную кладку в стене.
— Ты серьезно?
Эрг посмотрел мне прямо в глаза. У него на шее было два пореза и свежий след от сильного удара на щеке. Лицо егооставалось закрытым все время, что я говорила. Но теперь что-то в нем изменилось, со лба ушло напряжение, волна пустила морщинку вокруг глаз. Он о чем-то задумался, потом почти улыбнулся и вдруг снова напрягся:
— Есть только один способ. Если ты непременно хочешь сделать все по-тихому…
— Это обязательное условие, Эрг.
— Придется разобрать каменную кладку в стене.
— Ты серьезно?
 Эрг вышел, не дожидаясь нашего ответа. Думаю, наша просьба его, мягко говоря, не порадовала. Он бы, конечно, предпочел остаться здесь, рассказывать свои истории и попивать пиво, чем отправляться на очередное рискованное задание, да еще и с установкой, которую терпеть не мог: работать без шума. Но он все сделал. Когда он
Эрг вышел, не дожидаясь нашего ответа. Думаю, наша просьба его, мягко говоря, не порадовала. Он бы, конечно, предпочел остаться здесь, рассказывать свои истории и попивать пиво, чем отправляться на очередное рискованное задание, да еще и с установкой, которую терпеть не мог: работать без шума. Но он все сделал. Когда он
 Мы поднимались этаж за этажом, но и там ничего не было, ни книг, ни библиотекаря, ни аэрудитов. Меня ввели в заблуждение? Книги перенесли в другую башню? На паркете, на потолке, а нередко где и на стенах были надписи из слов, порой предложений, но и все.
На шестом по счету этаже лестница прервалась. Я подняла голову вверх, мой шар осветил покатую крышу — было очевидно, что мы добрались до вершины башни. И здесь, в этом месте, больше походившем на чердак, нежели на библиотеку, наконец оказались книги. Их было бесчисленное множество: в кожаных переплетах, в свертках. Стеллажи располагались так плотно, что напоминали узкий лабиринт. Я начала перебирать названия из первого прохода, на котором красовалась табличка «психроны». Я уже довольно далеко прошла по ряду, когда раздался скрип кожаного кресла, и я подскочила от ужаса. Мой световой шарик упал и разбился вдребезги. Все погрузилось в густую тьму.
— Добро пожаловать в Аэробашню, Ороси Меликерт, дочь Мацукадзе… Вы наконец решились нанести нам визит, невзирая на запрет Экзарха…
— Да…
Голос приближался. Я понятия не имела, где Сов.
— И какой же вид знаний вы надеетесь получить здесь, который еще не извлекли ранее и которым не овладели
Мы поднимались этаж за этажом, но и там ничего не было, ни книг, ни библиотекаря, ни аэрудитов. Меня ввели в заблуждение? Книги перенесли в другую башню? На паркете, на потолке, а нередко где и на стенах были надписи из слов, порой предложений, но и все.
На шестом по счету этаже лестница прервалась. Я подняла голову вверх, мой шар осветил покатую крышу — было очевидно, что мы добрались до вершины башни. И здесь, в этом месте, больше походившем на чердак, нежели на библиотеку, наконец оказались книги. Их было бесчисленное множество: в кожаных переплетах, в свертках. Стеллажи располагались так плотно, что напоминали узкий лабиринт. Я начала перебирать названия из первого прохода, на котором красовалась табличка «психроны». Я уже довольно далеко прошла по ряду, когда раздался скрип кожаного кресла, и я подскочила от ужаса. Мой световой шарик упал и разбился вдребезги. Все погрузилось в густую тьму.
— Добро пожаловать в Аэробашню, Ороси Меликерт, дочь Мацукадзе… Вы наконец решились нанести нам визит, невзирая на запрет Экзарха…
— Да…
Голос приближался. Я понятия не имела, где Сов.
— И какой же вид знаний вы надеетесь получить здесь, который еще не извлекли ранее и которым не овладели
 Я обошел источник звука и присел, укрывшись в перпендикулярном проходе. Мой шар потух, как только человек заговорил, но оставался у меня в руках. Голос приближался, скоро окажется прямо напротив моего прохода, и я смогу…
— Сов Севченко Строчнис, ваш отец был фаркопщиком, а не убийцей стариков, оставьте, будьте добры, ваш шар…
Он взял меня за руку и сжал, не сильно, просто чтобы остановить. Шар вдруг снова зажегся, и у голоса появилось лицо, высветившееся в ореоле свечи, — я невольно отпрянул… То, что я увидел, едва ли походило на человека. От его геометрических форм стыла кровь. Посреди выступал нос с размытыми ноздрями, а вокруг от него, как будто он сам приложил руку к своему лицу и повернул его на четверть оборота, расходились морщины, закручивая вместе с собою рот, скулы, орбиты желтых глаз, надбровные дуги…
Я обошел источник звука и присел, укрывшись в перпендикулярном проходе. Мой шар потух, как только человек заговорил, но оставался у меня в руках. Голос приближался, скоро окажется прямо напротив моего прохода, и я смогу…
— Сов Севченко Строчнис, ваш отец был фаркопщиком, а не убийцей стариков, оставьте, будьте добры, ваш шар…
Он взял меня за руку и сжал, не сильно, просто чтобы остановить. Шар вдруг снова зажегся, и у голоса появилось лицо, высветившееся в ореоле свечи, — я невольно отпрянул… То, что я увидел, едва ли походило на человека. От его геометрических форм стыла кровь. Посреди выступал нос с размытыми ноздрями, а вокруг от него, как будто он сам приложил руку к своему лицу и повернул его на четверть оборота, расходились морщины, закручивая вместе с собою рот, скулы, орбиты желтых глаз, надбровные дуги…
 Сказав это, он откинулся на спинку кресла и по-кошачьи прикрыл глаза. Спираль, скручивавшая его лицо, была самой выразительной из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Она свидетельствовала о сверхчеловеческом превращении, посредством которого этот старик себя перевоплотил. Глядя на него, я впервые подумала, действительно ли готова идти так далеко, как поклялась себе, будучи ребенком. Готова ли я на чтобы достичь ясности вихря? Густое одиночество растекалось от него во все стороны. И хоть это и было одиночество широкое и созидательное, оно пропитывало стены Аэробашни, забивало все щели. То было редкое одиночество, присущее
Сказав это, он откинулся на спинку кресла и по-кошачьи прикрыл глаза. Спираль, скручивавшая его лицо, была самой выразительной из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Она свидетельствовала о сверхчеловеческом превращении, посредством которого этот старик себя перевоплотил. Глядя на него, я впервые подумала, действительно ли готова идти так далеко, как поклялась себе, будучи ребенком. Готова ли я на чтобы достичь ясности вихря? Густое одиночество растекалось от него во все стороны. И хоть это и было одиночество широкое и созидательное, оно пропитывало стены Аэробашни, забивало все щели. То было редкое одиночество, присущее
 Так, ладняк! Похоже, штуковина будет дикая на этих Вой-Вратах! Трехкилометровая кишка из чистого камня, и по ней шквалом тебе в рожу, а ты тащись локтями в завихряки и ударными в ламинар всю дорогу по соплу! Ни тебе норы какой-нибудь, куда забиться можно, ни выступа, одни вихряки да плиты отшлифованные, по которым щебняком все ноги отдолбит… Тальвег мне свои карты показал, раклеры по стойке смирно выстроились, расписывали нам, как мы там кварца нажремся, как нам пузо раздербанит, «упадешь — тебе крышка», у них от страха аж ручонки затряслись, у вышибал этих шлюзовых. Ты оттуда обратно даже не думай, раз зашел — выход с другой стороны, если назад ломанешься, тебя как бумерангом на решетку шлюзовую зафигачит. Заставили и меня трухнуть. На таких глянешь — сразу видно, что знают, о чем
Так, ладняк! Похоже, штуковина будет дикая на этих Вой-Вратах! Трехкилометровая кишка из чистого камня, и по ней шквалом тебе в рожу, а ты тащись локтями в завихряки и ударными в ламинар всю дорогу по соплу! Ни тебе норы какой-нибудь, куда забиться можно, ни выступа, одни вихряки да плиты отшлифованные, по которым щебняком все ноги отдолбит… Тальвег мне свои карты показал, раклеры по стойке смирно выстроились, расписывали нам, как мы там кварца нажремся, как нам пузо раздербанит, «упадешь — тебе крышка», у них от страха аж ручонки затряслись, у вышибал этих шлюзовых. Ты оттуда обратно даже не думай, раз зашел — выход с другой стороны, если назад ломанешься, тебя как бумерангом на решетку шлюзовую зафигачит. Заставили и меня трухнуть. На таких глянешь — сразу видно, что знают, о чем
 Нэ Джеркка одолжил мне отличный масляный фонарь, и я не спеша спустился на восемь пролетов вниз, то и дело останавливаясь прочитать надпись на стене, расшифровать, что написано на полу, рассмотреть карты на потолке. Названия в основном были указаны на видимой стороне блоков, а по бокам сделаны две небольшие выемки, чтобы их легче было вынуть и поставить на место. Большинство из тех, которые я достал посмотреть, были исписаны мелким почерком по всем шести поверхностям, хотя некоторые содержали всего одну фразу.
Я случайно наткнулся на два стоявших рядом блока с заглавием «Жить». Заинтересовавшись, вынул первый, присел на ступеньку и прочел:
«Проживай каждый миг, будто он последний». Взволнованный и потрясенный, я поставил книгу на место и, дрожа, вынул из стенки вторую. Судя по стилю, она принадлежала тому же автору:
«Проживай каждый миг, будто он первый».
Я поставил второй блок на место, и чувства захлестнули меня. В этих двух фразах было столько силы, столько глубины жизненного толкования, что они совершенно
Нэ Джеркка одолжил мне отличный масляный фонарь, и я не спеша спустился на восемь пролетов вниз, то и дело останавливаясь прочитать надпись на стене, расшифровать, что написано на полу, рассмотреть карты на потолке. Названия в основном были указаны на видимой стороне блоков, а по бокам сделаны две небольшие выемки, чтобы их легче было вынуть и поставить на место. Большинство из тех, которые я достал посмотреть, были исписаны мелким почерком по всем шести поверхностям, хотя некоторые содержали всего одну фразу.
Я случайно наткнулся на два стоявших рядом блока с заглавием «Жить». Заинтересовавшись, вынул первый, присел на ступеньку и прочел:
«Проживай каждый миг, будто он последний». Взволнованный и потрясенный, я поставил книгу на место и, дрожа, вынул из стенки вторую. Судя по стилю, она принадлежала тому же автору:
«Проживай каждый миг, будто он первый».
Я поставил второй блок на место, и чувства захлестнули меня. В этих двух фразах было столько силы, столько глубины жизненного толкования, что они совершенно
 Карты были исключительного качества. Они с точностью указывали наиболее частый тип ветра в каждом регионе, возможные варианты и используемые техники контра. Рельеф и препятствия были идентичны местности, как и обозначенные почвы, источники воды, растительность и фауна. По сравнению с этим карта вдоль позвоночника на спине Голгота, бравшая начало в Шавондаси и доходившая до подножья Норски, выглядела просто грубым наброском! Уже хотя бы ради них стоило сюда заглянуть. Проходя мимо, я заметила металлические коробки, составленные одна на другую и встроенные в стену. В них лежали горы свитков с аэродинамическими схемами высокого уровня о строении аэроглиссеров, контрасов, буеров и кораблей. А еще были целые трактаты о флоре, от которых Степп бы позеленел от радости. Что касается восьмой формы, я записала, где находятся нужные мне книги. Откровенно говоря, мне удалось немного обмануть любопытство, которое уже целый час меня съедало, но я больше не могла бороться со своим желанием: я должна была прочесть слиток о Верхнем Пределе, который так подкосил мою маму. Я должна была встретиться лицом к лицу с шоком истины.
Я нашла его без труда. На золотом корешке красовалось название «Верхний Предел». Я села в кресло, поставила
Карты были исключительного качества. Они с точностью указывали наиболее частый тип ветра в каждом регионе, возможные варианты и используемые техники контра. Рельеф и препятствия были идентичны местности, как и обозначенные почвы, источники воды, растительность и фауна. По сравнению с этим карта вдоль позвоночника на спине Голгота, бравшая начало в Шавондаси и доходившая до подножья Норски, выглядела просто грубым наброском! Уже хотя бы ради них стоило сюда заглянуть. Проходя мимо, я заметила металлические коробки, составленные одна на другую и встроенные в стену. В них лежали горы свитков с аэродинамическими схемами высокого уровня о строении аэроглиссеров, контрасов, буеров и кораблей. А еще были целые трактаты о флоре, от которых Степп бы позеленел от радости. Что касается восьмой формы, я записала, где находятся нужные мне книги. Откровенно говоря, мне удалось немного обмануть любопытство, которое уже целый час меня съедало, но я больше не могла бороться со своим желанием: я должна была прочесть слиток о Верхнем Пределе, который так подкосил мою маму. Я должна была встретиться лицом к лицу с шоком истины.
Я нашла его без труда. На золотом корешке красовалось название «Верхний Предел». Я села в кресло, поставила
 «Наука о хронах долго зиждилась на трех категориях: хроны как таковые, или хротали, согласно современной терминологии, которые воздействуют на локальное течение времени; сихроны или физические хроны, которые осуществляют метаморфозы на окружающий мир в точке их пребывания; психроны или психические хроны, которые питаются определенными человеческими чувствами: страхом, любовью, радостью и т. д. К этим трем категориям добавляют автохроны или хроны, обладающие сознанием. До их открытия хроны считались силами слепо метаморфозными и лишенными какой-либо интенции (…) Природа трансформаций, осуществляемых хроном, позволяла определить его категорию (…) Акваль поглощает любую водную частицу, что встречается на его пути. Если (даже) у него и имеется тенденция искать источники воды, то ничто (никогда) не доказывает, что он делает это намеренно (…) Автохроны, как и остальные хроны, состоят из сверхскоростных витков и узлов ветра. Их происхождение активно оспаривается, так как (…) Гипотеза об определенном типе замкнутого цикла внутри хрона объясняет лучше, на наш взгляд, рождение частной субъективности (…) было выдвинуто предположение, что автохрон происходит от психрона (…) Так или иначе, формирование и использование автохронов Советом Ордана никогда не было установлено (…) подобные клеймящие соображения — не более чем слухи, бесчестящие своей
«Наука о хронах долго зиждилась на трех категориях: хроны как таковые, или хротали, согласно современной терминологии, которые воздействуют на локальное течение времени; сихроны или физические хроны, которые осуществляют метаморфозы на окружающий мир в точке их пребывания; психроны или психические хроны, которые питаются определенными человеческими чувствами: страхом, любовью, радостью и т. д. К этим трем категориям добавляют автохроны или хроны, обладающие сознанием. До их открытия хроны считались силами слепо метаморфозными и лишенными какой-либо интенции (…) Природа трансформаций, осуществляемых хроном, позволяла определить его категорию (…) Акваль поглощает любую водную частицу, что встречается на его пути. Если (даже) у него и имеется тенденция искать источники воды, то ничто (никогда) не доказывает, что он делает это намеренно (…) Автохроны, как и остальные хроны, состоят из сверхскоростных витков и узлов ветра. Их происхождение активно оспаривается, так как (…) Гипотеза об определенном типе замкнутого цикла внутри хрона объясняет лучше, на наш взгляд, рождение частной субъективности (…) было выдвинуто предположение, что автохрон происходит от психрона (…) Так или иначе, формирование и использование автохронов Советом Ордана никогда не было установлено (…) подобные клеймящие соображения — не более чем слухи, бесчестящие своей
 Я попросила Нэ Джеркка показать мне вторую из на его взгляд самых важных книг о Верхнем Пределе. Он был откровенно удивлен моей настойчивостью. Возможно, он не понимал, что это никак не связано с каким-либо мужеством перед лицом правды. Просто-напросто моя жажда знания была сильнее, чем страх узнать правду, и к тому же я пока еще не осознавала то, что прочла, пока понимала это только умом. Вторая книга озадачила меня еще больше первой. Я была очень рада снова отыскать Сова. Со временем темнота башни и присутствие книг словно впитывались, и наползало невыносимое чувство одиночества. Оно
Я попросила Нэ Джеркка показать мне вторую из на его взгляд самых важных книг о Верхнем Пределе. Он был откровенно удивлен моей настойчивостью. Возможно, он не понимал, что это никак не связано с каким-либо мужеством перед лицом правды. Просто-напросто моя жажда знания была сильнее, чем страх узнать правду, и к тому же я пока еще не осознавала то, что прочла, пока понимала это только умом. Вторая книга озадачила меня еще больше первой. Я была очень рада снова отыскать Сова. Со временем темнота башни и присутствие книг словно впитывались, и наползало невыносимое чувство одиночества. Оно
 Когда я вернулся назад к Караколю, то нашел его в том же месте, в том же положении. Его лампадка мерцала в темноте, а он читал вслух. Как только он услышал, что я вошел, то сразу крикнул с энтузиазмом:
— Ты решительно вовремя, Совчонок! Послушай сюда, это прекрасно: «Но однажды придется научиться видеть рушащуюся стену нетронутой». И: «У людей неощутимость движения намерена. Бессмысленная стабильность, которую мы приписываем реальности, необходима для ориентирования. Отбор & обеднение ценны. Сокращение до плоскости нюансов цвета. Притупление & уравнивание звуков. Осязание, обоняние, ощущение тепла воспринимаются крупногабаритными категориями. Горящие камни по определению воспринимаются как неподвижные. Человек: медленный пассат. Сладкая тягучая субстанция. Сироп крови. Трога-
Когда я вернулся назад к Караколю, то нашел его в том же месте, в том же положении. Его лампадка мерцала в темноте, а он читал вслух. Как только он услышал, что я вошел, то сразу крикнул с энтузиазмом:
— Ты решительно вовремя, Совчонок! Послушай сюда, это прекрасно: «Но однажды придется научиться видеть рушащуюся стену нетронутой». И: «У людей неощутимость движения намерена. Бессмысленная стабильность, которую мы приписываем реальности, необходима для ориентирования. Отбор & обеднение ценны. Сокращение до плоскости нюансов цвета. Притупление & уравнивание звуков. Осязание, обоняние, ощущение тепла воспринимаются крупногабаритными категориями. Горящие камни по определению воспринимаются как неподвижные. Человек: медленный пассат. Сладкая тягучая субстанция. Сироп крови. Трога-
 Я никогда не пытался расчистить гравий, нанесенный шквалами моего прошлого. Мои воспоминания состоят из плотностей, ветров и пыли. Я протекаю в пространстве, продвигаюсь эластичными шагами. Я как обтесанный камень, я сжимаюсь до самого густого состояния, до собственной основы.
Мне кажется, мы начали этот путь еще до нашего рождения. Мы были на ногах всегда, вся Орда, выстроенная дугой, твердо стоящая на бедренных костях; так было всегда, мы шли вперед, царапая скалы плюснами, шли с оскобленными каркасами и обнаженными ребрами, с коленными чашечками, заржавевшими от песка. Мы шли вне времени, все вместе, в поисках нашей первой прерии. У нас никогда не было родителей: мы родились из ветра. Мы появились постепенно, посреди целины высокогорных плато. Комки летящей земли застряли в наших скелетах, цветочная стружка скопилась на поверхности, что стала нашей кожей. Из этой земли сделаны наши глаза, из маков наши губы, наши волосы окрасились ячменем, собранным непокрытой головой, лбы наши покрылись колосками. Дотроньтесь до груди Ороси, и вы почувствуете, что это фрукты, ударившиеся о ее торс и созревающие всю последующую жизнь. Так появляется все сущее на
Я никогда не пытался расчистить гравий, нанесенный шквалами моего прошлого. Мои воспоминания состоят из плотностей, ветров и пыли. Я протекаю в пространстве, продвигаюсь эластичными шагами. Я как обтесанный камень, я сжимаюсь до самого густого состояния, до собственной основы.
Мне кажется, мы начали этот путь еще до нашего рождения. Мы были на ногах всегда, вся Орда, выстроенная дугой, твердо стоящая на бедренных костях; так было всегда, мы шли вперед, царапая скалы плюснами, шли с оскобленными каркасами и обнаженными ребрами, с коленными чашечками, заржавевшими от песка. Мы шли вне времени, все вместе, в поисках нашей первой прерии. У нас никогда не было родителей: мы родились из ветра. Мы появились постепенно, посреди целины высокогорных плато. Комки летящей земли застряли в наших скелетах, цветочная стружка скопилась на поверхности, что стала нашей кожей. Из этой земли сделаны наши глаза, из маков наши губы, наши волосы окрасились ячменем, собранным непокрытой головой, лбы наши покрылись колосками. Дотроньтесь до груди Ороси, и вы почувствуете, что это фрукты, ударившиеся о ее торс и созревающие всю последующую жизнь. Так появляется все сущее на
 Голгот развел руки в стороны и остановил контр. Четверо фаркопщиков отцепили сани и поставили флюгером винт на них. Сегодня с самого утра с неба шли короткие ливни. Сиреневые облака гнало к низовью. По пути они обдавали нас градом с дождем. Когда сквозь тучи пробивалось солнце, то на бесконечно зеленых просторах появлялись желтые пятна. Мы уже четвертый день шли через Сковеррское плато. Плоская земля меж двух хребтов. Свежесть воздуха объяснялась высотой местности. Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю. Две самки замыкали строй. А посреди между ними семенили горсята, крутя пятачками во все стороны. Когда мы к ним подходили, они не пускались наутек, а наоборот поворачивали к нам острие своего треугольника. С таким панцирем им нечего было бояться.
Ближе к полудню над нами иногда проплывали розовые медузы, с которыми, орудуя когтями и клювами, быстро расправлялись соколы Дарбона. Но сегодня было пусто. Не знаю почему, но в такие моменты как-то особенно не хватало Леарха. И очень не хватало Каллирои. Она обожала
Голгот развел руки в стороны и остановил контр. Четверо фаркопщиков отцепили сани и поставили флюгером винт на них. Сегодня с самого утра с неба шли короткие ливни. Сиреневые облака гнало к низовью. По пути они обдавали нас градом с дождем. Когда сквозь тучи пробивалось солнце, то на бесконечно зеленых просторах появлялись желтые пятна. Мы уже четвертый день шли через Сковеррское плато. Плоская земля меж двух хребтов. Свежесть воздуха объяснялась высотой местности. Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю. Две самки замыкали строй. А посреди между ними семенили горсята, крутя пятачками во все стороны. Когда мы к ним подходили, они не пускались наутек, а наоборот поворачивали к нам острие своего треугольника. С таким панцирем им нечего было бояться.
Ближе к полудню над нами иногда проплывали розовые медузы, с которыми, орудуя когтями и клювами, быстро расправлялись соколы Дарбона. Но сегодня было пусто. Не знаю почему, но в такие моменты как-то особенно не хватало Леарха. И очень не хватало Каллирои. Она обожала
 Рядом с нами, в русло гальки, тянувшееся к верховью, занесло охровый кокон, размером с небольшой дири-
Рядом с нами, в русло гальки, тянувшееся к верховью, занесло охровый кокон, размером с небольшой дири-
 Караколь, Ороси и Сов подошли к хрону поближе. Они старались расшифровать глифы на подвижной поверхности. Мне было не по себе, что они так близко к хрону. Порывом ветра эту массу могло снести, и тогда бы она поглотила их. Ороси провела палкой внутри хрона. Тот был достаточно прозрачный. Конец палки было отлично видно сквозь оболочку. Внутри палка взорвалась на ветви самшита! Ороси вытащила ее, та была нетронута! Почти
Караколь, Ороси и Сов подошли к хрону поближе. Они старались расшифровать глифы на подвижной поверхности. Мне было не по себе, что они так близко к хрону. Порывом ветра эту массу могло снести, и тогда бы она поглотила их. Ороси провела палкой внутри хрона. Тот был достаточно прозрачный. Конец палки было отлично видно сквозь оболочку. Внутри палка взорвалась на ветви самшита! Ороси вытащила ее, та была нетронута! Почти
 Я ближе всех стоял к Ороси и поначалу рефлекторно захотел вытащить ее руку. На погруженной в хрон конечности словно рассосалась кожа, показалась сеть обнаженных мускулов, сухожилий и кровеносных сосудов, обволакивающих серую кость. Но вскоре я понял, что это, скорее, было сплетение канатов и узлов из троса, с той разницей, что они были не пеньковые, это было переплетение из жидкого ветра, протекающего от бицепса до дельты пальцев. Цветные линии сплетались, истончались и сплавлялись воедино, в некоторых местах подозрительно образовывались целые озера, но затем рассасывались и формировались снова. Пальцы Ороси были подняты кверху, ладонь раскрыта, а в центре находилось ярко-красное крутящееся кольцо, словно выписанное каллиграфом, способным окунуть свою кисть в самый ветер. Кольцо было таким явственным, но ни взять, ни дотронуться до него было нельзя. Наконец Ороси вытащила руку из хрона и протянула к нам: мы все выдохнули с облегчением!
— Итак. Мы имеем дело с хроном безобидным, но крайне особенным, — сообщила она. — Это вераморф, его
Я ближе всех стоял к Ороси и поначалу рефлекторно захотел вытащить ее руку. На погруженной в хрон конечности словно рассосалась кожа, показалась сеть обнаженных мускулов, сухожилий и кровеносных сосудов, обволакивающих серую кость. Но вскоре я понял, что это, скорее, было сплетение канатов и узлов из троса, с той разницей, что они были не пеньковые, это было переплетение из жидкого ветра, протекающего от бицепса до дельты пальцев. Цветные линии сплетались, истончались и сплавлялись воедино, в некоторых местах подозрительно образовывались целые озера, но затем рассасывались и формировались снова. Пальцы Ороси были подняты кверху, ладонь раскрыта, а в центре находилось ярко-красное крутящееся кольцо, словно выписанное каллиграфом, способным окунуть свою кисть в самый ветер. Кольцо было таким явственным, но ни взять, ни дотронуться до него было нельзя. Наконец Ороси вытащила руку из хрона и протянула к нам: мы все выдохнули с облегчением!
— Итак. Мы имеем дело с хроном безобидным, но крайне особенным, — сообщила она. — Это вераморф, его
 Но никто не решился спросить у него, что именно. Я почувствовал себя как любопытный непрошеный зритель, что подсмотрел сцену обнажения. Из уважения к Голготу я решил в свою очередь тоже рискнуть и спустился с холма. В три осторожных шага я преодолел стенку хрона и, дрожа, погрузился в вибрирующий пузырь… Вскоре я почувствовал, как воздушные браслеты закрутились
Но никто не решился спросить у него, что именно. Я почувствовал себя как любопытный непрошеный зритель, что подсмотрел сцену обнажения. Из уважения к Голготу я решил в свою очередь тоже рискнуть и спустился с холма. В три осторожных шага я преодолел стенку хрона и, дрожа, погрузился в вибрирующий пузырь… Вскоре я почувствовал, как воздушные браслеты закрутились
 Я редко бывала столь возбуждена в интеллектуальном плане. Я с девяти лет знала про вераморф, и изо всех хронов, что будоражили мое воображение, повстречать этот оставалось мечтой детства: увидеть сквозь внешнее обличье недостижимую иначе истину. Какое счастье! Аэрудигы, конечно, вели споры насчет точной природы того, что можно было увидеть в вераморфе. Они исследовали понятия истинной формы, указывали на полисемию символов, которые хрон совмещал в один образ. Если в целом они готовы были согласиться, что хрон передавал образ вихря, то ценность этой передачи разделяла их точки зрения: зеркало себя самого? Проекция запрятанного сознания? Отражение желаемого? Эхо будущего? Автофикция?
Для присутствующих здесь ордийцев это, наверное, был просто очередной хрон. Они не осознавали, какой исключительный шанс всем нам выпал, но для меня… Я бы ни за что на свете не пропустила то, что передо мной
Я редко бывала столь возбуждена в интеллектуальном плане. Я с девяти лет знала про вераморф, и изо всех хронов, что будоражили мое воображение, повстречать этот оставалось мечтой детства: увидеть сквозь внешнее обличье недостижимую иначе истину. Какое счастье! Аэрудигы, конечно, вели споры насчет точной природы того, что можно было увидеть в вераморфе. Они исследовали понятия истинной формы, указывали на полисемию символов, которые хрон совмещал в один образ. Если в целом они готовы были согласиться, что хрон передавал образ вихря, то ценность этой передачи разделяла их точки зрения: зеркало себя самого? Проекция запрятанного сознания? Отражение желаемого? Эхо будущего? Автофикция?
Для присутствующих здесь ордийцев это, наверное, был просто очередной хрон. Они не осознавали, какой исключительный шанс всем нам выпал, но для меня… Я бы ни за что на свете не пропустила то, что передо мной
 «Здорово, хрю-хрю», — это меня теперь так Фирост на каждом шагу подкалывает. Надо мной поржать так он готов, а сам-то он себя видел?! Дикий кабан в упряжке, пропахивает себе рылом борозду, тоже мне, нашел чем гордиться!
Есть, конечно, в Паке экземплярчики, таких раскусить — раз плюнуть, как их себе представляешь, такие они и есть: Степп дерево деревом, Альма — куча розового дерьма, Аои — пучок травы какой-то, правда крепкой. А Эрг вот у нас — набор винтов и ножей во все стороны торчком, все как на подвеске, на скоростях, все крутится, смещается, в шар сворачивается, такой быстро кого хочешь успокоит, в общем, я не удивлен, Эрг как Эрг, он в сухом доке сидеть не умеет, у него всегда рука на буме, никогда себе задницу не отсиживает, шустряковый он у нас.
А за ним Пьетро пошел. Я его, честно говоря, краем глаза высматривал. Не по-злому, просто глянуть, что у него там. Так он нас, чертяка, прямо пригвоздил! Вошел и ничего, и близко не изменился! Стоит такой же, как всегда, прямой, чистюля весь из себя, разве что щеки чуть побронзовели, чуть на статую стал похож, да и все на том. Какой внутри, такой снаружи! Он и в хроне тот же Пьетро, без прикидонов, ему прятать нечего, расходитесь… Он что показывает, то у него на самом деле внутри и есть, точка! Не то, что мы. Дарбон вот, например, не очень-то приятная картина, как посмотришь. У ястребника спектакль посимпатичнее вышел, с голубой стеной его и птицами, что в ней через прорехи пролетали, типа проходы в русле ветра находили,
«Здорово, хрю-хрю», — это меня теперь так Фирост на каждом шагу подкалывает. Надо мной поржать так он готов, а сам-то он себя видел?! Дикий кабан в упряжке, пропахивает себе рылом борозду, тоже мне, нашел чем гордиться!
Есть, конечно, в Паке экземплярчики, таких раскусить — раз плюнуть, как их себе представляешь, такие они и есть: Степп дерево деревом, Альма — куча розового дерьма, Аои — пучок травы какой-то, правда крепкой. А Эрг вот у нас — набор винтов и ножей во все стороны торчком, все как на подвеске, на скоростях, все крутится, смещается, в шар сворачивается, такой быстро кого хочешь успокоит, в общем, я не удивлен, Эрг как Эрг, он в сухом доке сидеть не умеет, у него всегда рука на буме, никогда себе задницу не отсиживает, шустряковый он у нас.
А за ним Пьетро пошел. Я его, честно говоря, краем глаза высматривал. Не по-злому, просто глянуть, что у него там. Так он нас, чертяка, прямо пригвоздил! Вошел и ничего, и близко не изменился! Стоит такой же, как всегда, прямой, чистюля весь из себя, разве что щеки чуть побронзовели, чуть на статую стал похож, да и все на том. Какой внутри, такой снаружи! Он и в хроне тот же Пьетро, без прикидонов, ему прятать нечего, расходитесь… Он что показывает, то у него на самом деле внутри и есть, точка! Не то, что мы. Дарбон вот, например, не очень-то приятная картина, как посмотришь. У ястребника спектакль посимпатичнее вышел, с голубой стеной его и птицами, что в ней через прорехи пролетали, типа проходы в русле ветра находили,
 Вслушиваясь в реакцию каждого из нас, я понимала, что видения, вызванные хроном, у нас сильно разнились. Эти расхождения беспокоили меня. Если допустить, что вераморф отображал истинную сущность, могли ли в таком случае существовать подвижные варианты или даже несколько возможных сущностей? Или из этого нужно было заключить, как заявил мне Сов с апломбом, от которого меня слегка покоробило, что сущность «сама по себе» не существует, что есть только сущность «для и среди других», что каждый ордиец был всего лишь «определенным сгибом на общем листе», «узлом на веревке, существующей благодаря другим»?
В Альме я ясно разглядела два десятка сферических ладоней, чьи пальцы защищали клубки ветра, спрятанные внутри, тогда как Сов был поражен, увидев в этом розовую аркаду из вытянутых пальцев. В Аои я увидела пучок высоких, хрупких огоньков пламени, а Степп расчувствовался, потому что увидел согнутые ветром асфоделии и «текущий вверх источник». У Ларко всем было видно одни и те же облака света, скользящие сквозь хрон, и странные нечеткие тросы, которые привязывали их к земле и отвязывались, словно застенчиво рыбача в небе, пытаясь уловить ускользающие сгустки воздуха. Из облаков по тросам попеременно опускалась энергия, к сложному, очень запутанному узлу, который я определила как вихрь Ларко.
Вслушиваясь в реакцию каждого из нас, я понимала, что видения, вызванные хроном, у нас сильно разнились. Эти расхождения беспокоили меня. Если допустить, что вераморф отображал истинную сущность, могли ли в таком случае существовать подвижные варианты или даже несколько возможных сущностей? Или из этого нужно было заключить, как заявил мне Сов с апломбом, от которого меня слегка покоробило, что сущность «сама по себе» не существует, что есть только сущность «для и среди других», что каждый ордиец был всего лишь «определенным сгибом на общем листе», «узлом на веревке, существующей благодаря другим»?
В Альме я ясно разглядела два десятка сферических ладоней, чьи пальцы защищали клубки ветра, спрятанные внутри, тогда как Сов был поражен, увидев в этом розовую аркаду из вытянутых пальцев. В Аои я увидела пучок высоких, хрупких огоньков пламени, а Степп расчувствовался, потому что увидел согнутые ветром асфоделии и «текущий вверх источник». У Ларко всем было видно одни и те же облака света, скользящие сквозь хрон, и странные нечеткие тросы, которые привязывали их к земле и отвязывались, словно застенчиво рыбача в небе, пытаясь уловить ускользающие сгустки воздуха. Из облаков по тросам попеременно опускалась энергия, к сложному, очень запутанному узлу, который я определила как вихрь Ларко.
 Я Тальвега хорошо знал, я понимал, что у него с ветром сложились особые отношения. Он из-за своей науки геомастера имел точное убеждение, что у ветра есть происхождение, сознание и цель. Ветер был великим Шлифовальщиком с присущим ему свойством высекать и обтесывать своим потоком землю и все ее рельефы. А следовательно, он был первым архитектором мира, его осязаемым демиургом. До появления ветра не существовало ничего, кроме илистого месива, бесформенной лавы, которую нужно было осушить, вымесить, отшлифовать. Тальвегу была близка вековая идея, согласно которой ветер целился в купола холмов, в ровные линии каньонов, в плоские плато и равнины. Он даже в каком-то смысле сажал и подстригал линейные леса. Его дыхание повсюду удаляло лишнее, сглаживало нелепые бугры и глыбы, срезало гребни препятствий, что стесняли его мирное течение.
В паре с видением Силамфра, придававшем всему музыкальную окраску, концепция Тальвега выглядела весьма соблазнительно, потому что придавала смысл наименьшей флуктуации потока: если коротко, то везде там, где дуло очень сильно, ветер создавал дополнительную силу шлифовки; если же дуло слабее, это значило, что скульптор уже добился нужной ему формы. А проходящая по
Я Тальвега хорошо знал, я понимал, что у него с ветром сложились особые отношения. Он из-за своей науки геомастера имел точное убеждение, что у ветра есть происхождение, сознание и цель. Ветер был великим Шлифовальщиком с присущим ему свойством высекать и обтесывать своим потоком землю и все ее рельефы. А следовательно, он был первым архитектором мира, его осязаемым демиургом. До появления ветра не существовало ничего, кроме илистого месива, бесформенной лавы, которую нужно было осушить, вымесить, отшлифовать. Тальвегу была близка вековая идея, согласно которой ветер целился в купола холмов, в ровные линии каньонов, в плоские плато и равнины. Он даже в каком-то смысле сажал и подстригал линейные леса. Его дыхание повсюду удаляло лишнее, сглаживало нелепые бугры и глыбы, срезало гребни препятствий, что стесняли его мирное течение.
В паре с видением Силамфра, придававшем всему музыкальную окраску, концепция Тальвега выглядела весьма соблазнительно, потому что придавала смысл наименьшей флуктуации потока: если коротко, то везде там, где дуло очень сильно, ветер создавал дополнительную силу шлифовки; если же дуло слабее, это значило, что скульптор уже добился нужной ему формы. А проходящая по
 С самого начала наших вераморфных откровений я украдкой, с бьющимся сердцем, надеялась и просила об одном — заметить в одном из нас пусть слабое, пусть едва уловимое эхо вихря Каллирои. Пару раз Караколь оговорился, что, возможно, ее вихрь не рассеялся в тоннеле Вой-Врат. Когда Каллирою подорвало блаастом, ее пронесло над половиной Орды. Мне показалось, что я заметила крохотный отблеск пламени в Аои. Но больше всего ждала, что увижу Каллирою в Тальвеге и Силамфре, которые ее по-своему так любили.
Сов снова подошел ко мне и тихо взял меня за руку. Сначала я отняла ее, смущенная взглядом Пьетро. Сов молча устранился, и тогда уже я подошла к нему и взяла за руку. Ладонь его была такая ласковая.
Тальвег вошел в хрон и опустился на колени, приняв так называемую позу капли, уперев локти и колени в землю, округлив спину и опустив лоб на сложенные ромбом на земле руки. Это была защитная позиция при сильных шквалах. Я была заинтригована.
Вскоре ноги Тальвега растворились, руки слились воедино с головой, вся масса тела сомкнулась в единый темный моноблок, который обтекали порывы темно-синего ветра. Моноблок вытянулся, принял элегантную аэродинамическую форму и постепенно из коричневого превратился в фиолетовый. Порывы ветра по-прежнему плотно накрывали его. Похоже было, что синий растворился в
С самого начала наших вераморфных откровений я украдкой, с бьющимся сердцем, надеялась и просила об одном — заметить в одном из нас пусть слабое, пусть едва уловимое эхо вихря Каллирои. Пару раз Караколь оговорился, что, возможно, ее вихрь не рассеялся в тоннеле Вой-Врат. Когда Каллирою подорвало блаастом, ее пронесло над половиной Орды. Мне показалось, что я заметила крохотный отблеск пламени в Аои. Но больше всего ждала, что увижу Каллирою в Тальвеге и Силамфре, которые ее по-своему так любили.
Сов снова подошел ко мне и тихо взял меня за руку. Сначала я отняла ее, смущенная взглядом Пьетро. Сов молча устранился, и тогда уже я подошла к нему и взяла за руку. Ладонь его была такая ласковая.
Тальвег вошел в хрон и опустился на колени, приняв так называемую позу капли, уперев локти и колени в землю, округлив спину и опустив лоб на сложенные ромбом на земле руки. Это была защитная позиция при сильных шквалах. Я была заинтригована.
Вскоре ноги Тальвега растворились, руки слились воедино с головой, вся масса тела сомкнулась в единый темный моноблок, который обтекали порывы темно-синего ветра. Моноблок вытянулся, принял элегантную аэродинамическую форму и постепенно из коричневого превратился в фиолетовый. Порывы ветра по-прежнему плотно накрывали его. Похоже было, что синий растворился в
 Глаза у Ороси были как два черных рубина, которые неожиданно погрузили в воду. Не предупреждая, она бросилась к хрону, из которого еще не вышел Тальвег. Как только она прошла через оболочку, то Ороси не стало, а на ее месте появился красивый рыжий хищный зверь. Он приблизился к кокону и стал мордочкой что-то вынюхивать. Кокон весь засветился, зверь широко раскрыл пасть и сомкнул ее, ухватив оранжевый огонек внутри, вырвав его, как из плаценты. Затем зверь побежал к нам со светящейся добычей в зубах, точь-в-точь как если бы львица хотела перенести своего детеныша. Она еще не вышла из хрона, как огонек рассеялся сначала по всей мордочке, а потом и по всему телу зверя. Ороси с Тальвегом вышли
Глаза у Ороси были как два черных рубина, которые неожиданно погрузили в воду. Не предупреждая, она бросилась к хрону, из которого еще не вышел Тальвег. Как только она прошла через оболочку, то Ороси не стало, а на ее месте появился красивый рыжий хищный зверь. Он приблизился к кокону и стал мордочкой что-то вынюхивать. Кокон весь засветился, зверь широко раскрыл пасть и сомкнул ее, ухватив оранжевый огонек внутри, вырвав его, как из плаценты. Затем зверь побежал к нам со светящейся добычей в зубах, точь-в-точь как если бы львица хотела перенести своего детеныша. Она еще не вышла из хрона, как огонек рассеялся сначала по всей мордочке, а потом и по всему телу зверя. Ороси с Тальвегом вышли
 Заставил себя поупрашивать, трубадуришка, святые чертовы Ветра! Пришлось локтем его выталкивать, чтоб он пошел, свой скелет окунул в шаровину эту. Это был последний из нас, самый что ни на есть последний, что еще пытался увильнуть, думал, может, у него скелетов внутри побольше нашего, что лучше закопать их все поглубже. За восемь лет он нам, конечно, выдал всю серию маскарадов целиком! Это еще поискать надо типа полицемернее, большего притворщика, чем эта всюду шарящая башка, да с выкрутасами поизощреннее, ищите-ищите, как найдете — скажете. Чтоб был такой же прирожденный шут, мастак в дудки дудеть, из разряда «я тебя за нос до предела доведу», разведет свою тарабарщину — в жизни не отгадаешь, что он на самом деле думает! Арлекин всецветный! Всем шутам шут! Так что тут странного, что перед этим хроном, так он сразу в кусты. Только тут вся Орда в унисон
Заставил себя поупрашивать, трубадуришка, святые чертовы Ветра! Пришлось локтем его выталкивать, чтоб он пошел, свой скелет окунул в шаровину эту. Это был последний из нас, самый что ни на есть последний, что еще пытался увильнуть, думал, может, у него скелетов внутри побольше нашего, что лучше закопать их все поглубже. За восемь лет он нам, конечно, выдал всю серию маскарадов целиком! Это еще поискать надо типа полицемернее, большего притворщика, чем эта всюду шарящая башка, да с выкрутасами поизощреннее, ищите-ищите, как найдете — скажете. Чтоб был такой же прирожденный шут, мастак в дудки дудеть, из разряда «я тебя за нос до предела доведу», разведет свою тарабарщину — в жизни не отгадаешь, что он на самом деле думает! Арлекин всецветный! Всем шутам шут! Так что тут странного, что перед этим хроном, так он сразу в кусты. Только тут вся Орда в унисон
 Был ли среди ордийцев тот, чьего превращения ждали больше, чем превращения Караколя? Судя по силе увещеваний, обращенных к нему, по любопытству, дошедшему до крайней точки и перешедшему в выжидательную тишину, ответ был очевиден — нет. Еще секунду назад пребывавшая в эйфории Ороси вдруг обрела всю силу сосредоточения и стала повторять мне шепотом: «Смотри внимательно, смотри внимательно…», как будто я мог зазеваться и вместо этого зрелища в небо уставиться.
Караколь вошел в хрон и тут же испарился. Его тело не изменилось, а просто исчезло без малейшего следа. Секунд через пять по всему хрону пошла реакция: хрон издал глухой рев, и мы, ошарашенные, попятились на несколько метров назад. На панцире хрона проступили цветные лужицы, в них еще чернее и четче выступили глифы. Кокон засветился всеми цветами, словно янтарный самородок, пронзенный солнечным лучом. Внутри при этом по-прежнему не прорисовывалось никакой формы, никакого образа, не было даже и близко формы Караколя, одни только скорые вихрики и воронки, чтобуравили то там, то тут оболочку хрона и закручивали с собой сверхскоростные нити света и ветра. Перейдя от глухого к звонкому, хрон принялся шипеть, издавая звуки, похожие на проткнутый воздушный шар, и тут началось что-то вовсе ненормальное: напротив нас в оболочке хрона образовался поток воздуха и из отверстия засвистел выхлопной газ. Вскоре феномен распространился по всему кокону, тот раскачивался и гудел, словно неисправный аэроглиссер, так что нам в панике пришлось отойти еще дальше.
Был ли среди ордийцев тот, чьего превращения ждали больше, чем превращения Караколя? Судя по силе увещеваний, обращенных к нему, по любопытству, дошедшему до крайней точки и перешедшему в выжидательную тишину, ответ был очевиден — нет. Еще секунду назад пребывавшая в эйфории Ороси вдруг обрела всю силу сосредоточения и стала повторять мне шепотом: «Смотри внимательно, смотри внимательно…», как будто я мог зазеваться и вместо этого зрелища в небо уставиться.
Караколь вошел в хрон и тут же испарился. Его тело не изменилось, а просто исчезло без малейшего следа. Секунд через пять по всему хрону пошла реакция: хрон издал глухой рев, и мы, ошарашенные, попятились на несколько метров назад. На панцире хрона проступили цветные лужицы, в них еще чернее и четче выступили глифы. Кокон засветился всеми цветами, словно янтарный самородок, пронзенный солнечным лучом. Внутри при этом по-прежнему не прорисовывалось никакой формы, никакого образа, не было даже и близко формы Караколя, одни только скорые вихрики и воронки, чтобуравили то там, то тут оболочку хрона и закручивали с собой сверхскоростные нити света и ветра. Перейдя от глухого к звонкому, хрон принялся шипеть, издавая звуки, похожие на проткнутый воздушный шар, и тут началось что-то вовсе ненормальное: напротив нас в оболочке хрона образовался поток воздуха и из отверстия засвистел выхлопной газ. Вскоре феномен распространился по всему кокону, тот раскачивался и гудел, словно неисправный аэроглиссер, так что нам в панике пришлось отойти еще дальше.
 Бежал нам навстречу сирота Арваль с вытаращенными от увиденного глазами. Он стрелой примчался назад с линии хребта. Казалось, будто он не бежит, а скользит по облаку мелкого песка. Значит, я надеялся не напрасно — родители действительно вышли нас встречать. Я тридцать три года не видел ни отца, ни мать. До меня доходили только редкие, однако регулярные вести по оси Беллини, раз в три-четыре года. Затем, по мере того как мы все дальше продвигались по линии Контра, чем ближе подходили к ним, новости приходили все чаще. Последнее сообщение мы получили четыре месяца назад: «Мы придем вас встречать». Порою письма все же были длиннее.
Не могу вам объяснить, что я почувствовал, услышав Арваля. Слишком много эмоций за раз. Проливной град. Это было словно снова обрести самого себя. Как если бы мне наконец удалось заделать в себе огромную брешь, зияющую дыру сплошной контровой жизни. То, что мы до них добрались, уже значило, что наша миссия выполнена, путь Орды пройден. Все, что последует за этим, можно считать дополнением. Почти что люксом.
Бежал нам навстречу сирота Арваль с вытаращенными от увиденного глазами. Он стрелой примчался назад с линии хребта. Казалось, будто он не бежит, а скользит по облаку мелкого песка. Значит, я надеялся не напрасно — родители действительно вышли нас встречать. Я тридцать три года не видел ни отца, ни мать. До меня доходили только редкие, однако регулярные вести по оси Беллини, раз в три-четыре года. Затем, по мере того как мы все дальше продвигались по линии Контра, чем ближе подходили к ним, новости приходили все чаще. Последнее сообщение мы получили четыре месяца назад: «Мы придем вас встречать». Порою письма все же были длиннее.
Не могу вам объяснить, что я почувствовал, услышав Арваля. Слишком много эмоций за раз. Проливной град. Это было словно снова обрести самого себя. Как если бы мне наконец удалось заделать в себе огромную брешь, зияющую дыру сплошной контровой жизни. То, что мы до них добрались, уже значило, что наша миссия выполнена, путь Орды пройден. Все, что последует за этим, можно считать дополнением. Почти что люксом.
 Напрасно я готовилась к этой встрече. Меня повергло в шок лицо моей семидесятилетней мамы. Я узнала ее по черным глазам и тому, как ровно она держала голову, несмотря на возраст, старость не отняла у нее этого. Мама. Вокруг ее носа пролегли стигматы вихря: начало спирали, безусловно несравнимой с той, что скрутила лица Тэ и Нэ Джеркка. Чему я была только рада. Я почувствовала ее в своих объятиях, настоящую, такую живую, из плоти и крови, и такую счастливую от встречи со мной, и все мои шлюзы рванули один за другим. Впервые в жизни я поняла, что могу позволить себе утонуть, и все поднялось наверх, и переполнилась вся чаша. Мама! Как же сильно мне ее не хватало, как сильно, и это я поняла только сейчас. Все, что я так хотела ей сказать, все, что заточила в самой себе, все эти
Напрасно я готовилась к этой встрече. Меня повергло в шок лицо моей семидесятилетней мамы. Я узнала ее по черным глазам и тому, как ровно она держала голову, несмотря на возраст, старость не отняла у нее этого. Мама. Вокруг ее носа пролегли стигматы вихря: начало спирали, безусловно несравнимой с той, что скрутила лица Тэ и Нэ Джеркка. Чему я была только рада. Я почувствовала ее в своих объятиях, настоящую, такую живую, из плоти и крови, и такую счастливую от встречи со мной, и все мои шлюзы рванули один за другим. Впервые в жизни я поняла, что могу позволить себе утонуть, и все поднялось наверх, и переполнилась вся чаша. Мама! Как же сильно мне ее не хватало, как сильно, и это я поняла только сейчас. Все, что я так хотела ей сказать, все, что заточила в самой себе, все эти
 «Фенелас и Лемтер Дейкун, мы родители Каллирои». Два еще молодых на вид старика пытались отыскать свою дочь в этом потоке излияний. Их потерянный,
«Фенелас и Лемтер Дейкун, мы родители Каллирои». Два еще молодых на вид старика пытались отыскать свою дочь в этом потоке излияний. Их потерянный,
 Вам уже случалось проживать моменты полнейшего счастья? Целых пять месяцев рядом со мной был на расстоянии поцелуя, на расстоянии улыбки самый прекрасный бродячий сад, о котором только можно мечтать, хотя было в нем всего две рощицы да один ручеек, которых звали Сифаэ, моя мама, Фуския, моя сестричка, и Аои,
Вам уже случалось проживать моменты полнейшего счастья? Целых пять месяцев рядом со мной был на расстоянии поцелуя, на расстоянии улыбки самый прекрасный бродячий сад, о котором только можно мечтать, хотя было в нем всего две рощицы да один ручеек, которых звали Сифаэ, моя мама, Фуския, моя сестричка, и Аои,
 Были родители, кто не нашел своих детей. А было и наоборот. Когда Тальвег увидел окаменелое тело своего отца в Лигримской пустыне, то он об этом хотя бы знал заранее. А вот что мать Альмы Лакмила Капис утонула в Лапсанском болоте двадцать пять лет назад, никто Альме об этом так и не сказал. «Да, да, сестричка жива», — продолжали твердить Альме. Вообще, для нас родители
Были родители, кто не нашел своих детей. А было и наоборот. Когда Тальвег увидел окаменелое тело своего отца в Лигримской пустыне, то он об этом хотя бы знал заранее. А вот что мать Альмы Лакмила Капис утонула в Лапсанском болоте двадцать пять лет назад, никто Альме об этом так и не сказал. «Да, да, сестричка жива», — продолжали твердить Альме. Вообще, для нас родители
 Атмосфера вокруг нас натянулась, как вот-вот готовый лопнуть трос. Ороси готова была вспыхнуть, настолько была задета ее гордость нападками на честь ее семьи. Как обычно и бывало в похожих ситуациях, Пьетро взял на себя роль того, кто ослабляет тетиву:
Атмосфера вокруг нас натянулась, как вот-вот готовый лопнуть трос. Ороси готова была вспыхнуть, настолько была задета ее гордость нападками на честь ее семьи. Как обычно и бывало в похожих ситуациях, Пьетро взял на себя роль того, кто ослабляет тетиву:
 Голгот выдержал долгую паузу. Все молчали. Он обвел взглядом всю нашу ассамблею и продолжил:
— Я через неделю встречусь с одним стариком, которого тут некоторые моим отцом зовут. У меня к нему пара-тройка вопросов есть. И я вас кое о чем хочу заранее попросить. Что бы вы ни увидели, что бы ни произошло, вы не вмешивайтесь. Ясняк?
— Что ты задумал, Голгот?
— Если кому не ясно и кто-то из вас решит свой рыльник в мои дела сунуть, то Эрг того в горизонтальное положение быстро приведет. Он мне слово дал. Шутить с ним не советую. Усекли?
Голгот выдержал долгую паузу. Все молчали. Он обвел взглядом всю нашу ассамблею и продолжил:
— Я через неделю встречусь с одним стариком, которого тут некоторые моим отцом зовут. У меня к нему пара-тройка вопросов есть. И я вас кое о чем хочу заранее попросить. Что бы вы ни увидели, что бы ни произошло, вы не вмешивайтесь. Ясняк?
— Что ты задумал, Голгот?
— Если кому не ясно и кто-то из вас решит свой рыльник в мои дела сунуть, то Эрг того в горизонтальное положение быстро приведет. Он мне слово дал. Шутить с ним не советую. Усекли?
 Наше прибытие в лагерь походило на сказку. Лагерь был отлично защищен, он находился во впадине в форме подковы, у подножия массива с высокими оранжевыми колоннами и водопадами, что стремительно неслись вниз, наполняя целое переплетение рек и ручейков, стелившихся по земле. Ветер там был чистый, ни пылинки, он скользил вдоль заснеженной горной цепи, что величаво загораживала горизонт к верховью. Ночью катабатические ледяные потоки опускались в котловину, но по утрам, благодаря резкому разлому в скале, ротор тихонько втягивал нагретый воздух равнины до самого вечера, принося растениям и людям вполне милосердные условия существования.
Когда мы пересекли амбразуру огромного природного цирка, дрожь радости пробежала у меня по телу, как только я увидел эту цветную мозаику. Пшеничные, ячменные, ржаные поля очеловечивали пространство. Тут чередовались желтая целина утесника, зелень диких, а местами и пастбищных прерий, сиреневый снег цветущих фруктовых садов. В зазорах этого узора просматривались небольшие ухоженные холмики и несколько долин, где угадывались отдельные облагороженные участки земли, расходившиеся каплей к низовью. Время было после полудня, и заходящее солнце протягивало свои длинные,
Наше прибытие в лагерь походило на сказку. Лагерь был отлично защищен, он находился во впадине в форме подковы, у подножия массива с высокими оранжевыми колоннами и водопадами, что стремительно неслись вниз, наполняя целое переплетение рек и ручейков, стелившихся по земле. Ветер там был чистый, ни пылинки, он скользил вдоль заснеженной горной цепи, что величаво загораживала горизонт к верховью. Ночью катабатические ледяные потоки опускались в котловину, но по утрам, благодаря резкому разлому в скале, ротор тихонько втягивал нагретый воздух равнины до самого вечера, принося растениям и людям вполне милосердные условия существования.
Когда мы пересекли амбразуру огромного природного цирка, дрожь радости пробежала у меня по телу, как только я увидел эту цветную мозаику. Пшеничные, ячменные, ржаные поля очеловечивали пространство. Тут чередовались желтая целина утесника, зелень диких, а местами и пастбищных прерий, сиреневый снег цветущих фруктовых садов. В зазорах этого узора просматривались небольшие ухоженные холмики и несколько долин, где угадывались отдельные облагороженные участки земли, расходившиеся каплей к низовью. Время было после полудня, и заходящее солнце протягивало свои длинные,
 «Порой требуется целая жизнь, чтобы найти тот самый звук», — сказал мне как-то один старик в Шавондаси, погрузившись в кожаное овальное кресло, стоявшее на остатках выступающего сквозь мокрую грязь решетчатого настила. Старик сидел с непокрытой головой на полном шуне в низовье поселка, подставляя дождю спину. Меня, разумеется, привлек этот комок из кожи, вросший в ко-
«Порой требуется целая жизнь, чтобы найти тот самый звук», — сказал мне как-то один старик в Шавондаси, погрузившись в кожаное овальное кресло, стоявшее на остатках выступающего сквозь мокрую грязь решетчатого настила. Старик сидел с непокрытой головой на полном шуне в низовье поселка, подставляя дождю спину. Меня, разумеется, привлек этот комок из кожи, вросший в ко-
 Продолжай, Аои, продолжай, говори дальше… Степп растерянно отвернулся, сестра посмотрела на него с нежностью, а его мать Сифаэ взглядом требовала ответа. Но он не отвечал. Продолжай…
— А тебе самому этого не хочется? Остаться здесь, заниматься садом?
— Хочется.
— Создать наконец что-то, чему ты будешь хозяин! Сделать из этого парка настоящее чудо, ботанический шедевр!
— Это и так уже шедевр. Тут и без моей помощи обошлись! И потом…
— Что потом? — вмешалась Сифаэ. — Или ты боишься? Боишься ослушаться Ордана? Боишься отказаться от своего запрограммированного существования контровщика ветра? Боишься наконец стать собой, так и хочешь всю жизнь оставаться ордийным флероном, пока не кончишь свои дни на Норске, как и все остальные? Боишься выбиться из ряда, сынок? Показать фигу большому и страшному Голготу? Или, может, хуже того: боишься, что у тебя появится ребенок, что придется его воспитывать, учить его жизни?
— Жизнь — это бой, это ветер…
— Какой бой? О каком бое ты говоришь, Степп? О том, где нужно тщетно искать источник ветра, который найти
Продолжай, Аои, продолжай, говори дальше… Степп растерянно отвернулся, сестра посмотрела на него с нежностью, а его мать Сифаэ взглядом требовала ответа. Но он не отвечал. Продолжай…
— А тебе самому этого не хочется? Остаться здесь, заниматься садом?
— Хочется.
— Создать наконец что-то, чему ты будешь хозяин! Сделать из этого парка настоящее чудо, ботанический шедевр!
— Это и так уже шедевр. Тут и без моей помощи обошлись! И потом…
— Что потом? — вмешалась Сифаэ. — Или ты боишься? Боишься ослушаться Ордана? Боишься отказаться от своего запрограммированного существования контровщика ветра? Боишься наконец стать собой, так и хочешь всю жизнь оставаться ордийным флероном, пока не кончишь свои дни на Норске, как и все остальные? Боишься выбиться из ряда, сынок? Показать фигу большому и страшному Голготу? Или, может, хуже того: боишься, что у тебя появится ребенок, что придется его воспитывать, учить его жизни?
— Жизнь — это бой, это ветер…
— Какой бой? О каком бое ты говоришь, Степп? О том, где нужно тщетно искать источник ветра, который найти
 Аои разрыдалась еще до того, как Степп успел взорваться и послать все куда подальше. Резкость его реакции говорила о силе желания, которой он вынужден был противостоять, чтобы отказаться от соблазна иметь свой дом. Я на секунду подумал, что он уступит этому мощнейшему порыву, этому магниту, который нас всех притягивал к идее, что мы найдем в этом поистине умопомрачительном саду надежный рай, где возможно пришвартовать свои хрупкие любовные союзы, тонущие под грузом Орды; это была надежда обрести то самое избранное место, которое
Аои разрыдалась еще до того, как Степп успел взорваться и послать все куда подальше. Резкость его реакции говорила о силе желания, которой он вынужден был противостоять, чтобы отказаться от соблазна иметь свой дом. Я на секунду подумал, что он уступит этому мощнейшему порыву, этому магниту, который нас всех притягивал к идее, что мы найдем в этом поистине умопомрачительном саду надежный рай, где возможно пришвартовать свои хрупкие любовные союзы, тонущие под грузом Орды; это была надежда обрести то самое избранное место, которое
 В жизни часто все выходит не так, как следовало бы. Здесь спору нет. И Голгот мог бы пойти навстречу отцу. Поговорить с ним за пределами города. Ну или, во всяком случае, не на центральной площади. Не на глазах у всех. Но…
В жизни часто все выходит не так, как следовало бы. Здесь спору нет. И Голгот мог бы пойти навстречу отцу. Поговорить с ним за пределами города. Ну или, во всяком случае, не на центральной площади. Не на глазах у всех. Но…
 Восьмой Голгот вышел на площадь. Мне хотелось сбежать отсюда и хотелось остаться. В голове звенел голос: «Аои, уходи!» — но я так и осталась стоять, крутясь на месте, глядя вокруг на остальных, и все мы, не сговариваясь, в каком-то животном инстинкте страха, попятились прочь от центра площади. Только Эрг вышел вперед. И Пьетро с отцом не сдвинулись с места. Поверить трудно, как они друг на друга похожи. Я имею в виду Голготов, их и нашего, одни и те же черты. Голгот-старший был чуточку выше, коротко стриженые волосы местами белели, лицо у него было горькое и неприступное, такие же скулы, словно засечки топором, такой же приплюснутый нос, тяжелый взгляд, то же крепкое телосложение, все один в один, но только старше, разумеется, и с чертами еще более жесткими, более выраженными и обветренными. У меня пронеслась надежда,
Восьмой Голгот вышел на площадь. Мне хотелось сбежать отсюда и хотелось остаться. В голове звенел голос: «Аои, уходи!» — но я так и осталась стоять, крутясь на месте, глядя вокруг на остальных, и все мы, не сговариваясь, в каком-то животном инстинкте страха, попятились прочь от центра площади. Только Эрг вышел вперед. И Пьетро с отцом не сдвинулись с места. Поверить трудно, как они друг на друга похожи. Я имею в виду Голготов, их и нашего, одни и те же черты. Голгот-старший был чуточку выше, коротко стриженые волосы местами белели, лицо у него было горькое и неприступное, такие же скулы, словно засечки топором, такой же приплюснутый нос, тяжелый взгляд, то же крепкое телосложение, все один в один, но только старше, разумеется, и с чертами еще более жесткими, более выраженными и обветренными. У меня пронеслась надежда,
 Голгот-старший направился к сыну. Тот не двинулся с места. Все разговоры вокруг смолкли. На улице было еще светло. Солнце только-только зашло. Цвета вокруг потускнели. Отец сделал пару шагов, спустился со ступени, подошел ближе к сыну, что не двигаясь ожидал его посреди площади. Остановился. И внезапно протянул ему руку, как будто шпагу обнажил.
— Добро пожаловать, сын.
Но рука его одна осталась в горизонтальном положении. Голгот-младший и пальцем не пошевелил. Глаза его вперились в глаза отца. Он даже не посмотрел на протянутую руку. Он не смотрел на площадь. На нас. На небо, на землю. Он смотрел только на отца. Не моргая. Не переводя взгляд. Только на него. Прошли невыносимо долгие тягучие секунды. Он наконец протянул руку в ответ. Вложил ее в руку отца.
— Так тому и быть! — ухмыльнулся отец.
Голгот-старший направился к сыну. Тот не двинулся с места. Все разговоры вокруг смолкли. На улице было еще светло. Солнце только-только зашло. Цвета вокруг потускнели. Отец сделал пару шагов, спустился со ступени, подошел ближе к сыну, что не двигаясь ожидал его посреди площади. Остановился. И внезапно протянул ему руку, как будто шпагу обнажил.
— Добро пожаловать, сын.
Но рука его одна осталась в горизонтальном положении. Голгот-младший и пальцем не пошевелил. Глаза его вперились в глаза отца. Он даже не посмотрел на протянутую руку. Он не смотрел на площадь. На нас. На небо, на землю. Он смотрел только на отца. Не моргая. Не переводя взгляд. Только на него. Прошли невыносимо долгие тягучие секунды. Он наконец протянул руку в ответ. Вложил ее в руку отца.
— Так тому и быть! — ухмыльнулся отец.
 Это непросто объяснить, но я почувствовала, что это случится сейчас, поняла по резкому сжатию воздуха. Один из вихрей Голгота взорвался внутри и вырвался наружу. От внезапного толчка Голгот на какое-то время застыл, как заторможенный, тень, отделенная от своего источника. Снаружи в нем ничто не выдало происходящего, разве только для того, кто неотрывно смотрел на его руку. Весь вихрь целиком ворвался в его правую руку.
Это непросто объяснить, но я почувствовала, что это случится сейчас, поняла по резкому сжатию воздуха. Один из вихрей Голгота взорвался внутри и вырвался наружу. От внезапного толчка Голгот на какое-то время застыл, как заторможенный, тень, отделенная от своего источника. Снаружи в нем ничто не выдало происходящего, разве только для того, кто неотрывно смотрел на его руку. Весь вихрь целиком ворвался в его правую руку.
 Рука Голгота сжалась вокруг руки отца. Он сдавил ее. Зажал в тисках. Отец, не ожидавший такого приветствия,
Рука Голгота сжалась вокруг руки отца. Он сдавил ее. Зажал в тисках. Отец, не ожидавший такого приветствия,
 Когда эти сокровенные, изрубленные, сверхвысокие крики вырвались из его глотки, я содрогнулся от ужаса. У Голгота больше не было ни горла, ни голоса. Вместо этого был клюв, клацающий, дробящий слоги, выбрасывающий их в пустоту. Он был похож на вибрирующую глыбу гранита. Вся его ярость была заключена в хватке ладони, необузданная ярость билась в этой руке, и ни одна иная часть тела не двигалась — это впечатляло куда больше, чем град ударов, это леденило куда сильнее, чем самая отъявленная озлобленность. Он грубо и прямо дробил с неслыханной жестокостью каждый палец, каждый твердый стержень в костяном остове руки своего отца. От нестерпимой боли тот рухнул на колени, из гордости, из не знаю какого идиотского кодекса чести он старался принять и выдержать схватку такой, какой ее выбрал сын, вместо того, чтобы постараться освободиться, ударить его свободной рукой, впиться в него ногтями, да хоть укусить до крови — все что угодно, лишь бы он разжал свой захват. Но нет! По лицу Голгота-старшего лился пот, сопли стекали из носа в рот, он впивался зубами в губы, чтобы сдержать вопль, не подарить сыну того, что тот жаждал получить, — это варварское, отвратительное унижение, из истерзанных губ сочилась кровь, стекала по подбородку, сбегала на камзол. А Голгот-младший продолжал сжимать. Он сжимал изо всех сил, скопившихся за целую жизнь ожидания этого момента, он сжимал сведенными судорогой пальцами, опьяневший от собственной силы,
Когда эти сокровенные, изрубленные, сверхвысокие крики вырвались из его глотки, я содрогнулся от ужаса. У Голгота больше не было ни горла, ни голоса. Вместо этого был клюв, клацающий, дробящий слоги, выбрасывающий их в пустоту. Он был похож на вибрирующую глыбу гранита. Вся его ярость была заключена в хватке ладони, необузданная ярость билась в этой руке, и ни одна иная часть тела не двигалась — это впечатляло куда больше, чем град ударов, это леденило куда сильнее, чем самая отъявленная озлобленность. Он грубо и прямо дробил с неслыханной жестокостью каждый палец, каждый твердый стержень в костяном остове руки своего отца. От нестерпимой боли тот рухнул на колени, из гордости, из не знаю какого идиотского кодекса чести он старался принять и выдержать схватку такой, какой ее выбрал сын, вместо того, чтобы постараться освободиться, ударить его свободной рукой, впиться в него ногтями, да хоть укусить до крови — все что угодно, лишь бы он разжал свой захват. Но нет! По лицу Голгота-старшего лился пот, сопли стекали из носа в рот, он впивался зубами в губы, чтобы сдержать вопль, не подарить сыну того, что тот жаждал получить, — это варварское, отвратительное унижение, из истерзанных губ сочилась кровь, стекала по подбородку, сбегала на камзол. А Голгот-младший продолжал сжимать. Он сжимал изо всех сил, скопившихся за целую жизнь ожидания этого момента, он сжимал сведенными судорогой пальцами, опьяневший от собственной силы,
 Праздник в честь нашего прибытия состоялся вечером без Голготов. Мой отец подготовил речь. Приветствен-
Праздник в честь нашего прибытия состоялся вечером без Голготов. Мой отец подготовил речь. Приветствен-
 Стоял запах влажной прерии, угля и холодного воздуха, спустившегося с вершин. Я поглубже устроилась в кресле, закутавшись по самый подбородок в шерстяной плед. Степп был на два сидения выше на том же стволе, не сказать, что успокоившийся.
— Итак, сегодня вы мирно восседаете в креслах нашего амфитеатра, вам меня не видно, но слышите вы меня хорошо. Вы 34-я Орда. И вы считаете себя лучшими из-за вашей скорости, ваших трех лет форы по отношению к нам. Потому что вы идете прямой трассой, потому что вы молоды, еще достаточно молоды. Но вот что я скажу вам на этот счет. Ваш переход через Вой-Врата, стоя, Паком, цепным блоком, — единственный в анналах контра. Ваша переправа через Лапсан — почти легенда. Вы пережили пять ярветров, если не ошибаюсь. Нам повезло наблюдать за вами изнутри целых четыре месяца, укрываясь за вашими спинами, оценить ваши опорные, испытать ваши спайки, вашу компактность в дельте, в капле, диаманте, конусе. И что, скажете вы? Да то, что вы действительно заслуживаете вашу неслыханную репутацию. Вы себе не представляете, сколько ожиданий на вас возлагается по всей линии Контра. И не только среди обычных подветренников. Мы получаем регулярные отчеты по ветрякам оси Беллини.
Стоял запах влажной прерии, угля и холодного воздуха, спустившегося с вершин. Я поглубже устроилась в кресле, закутавшись по самый подбородок в шерстяной плед. Степп был на два сидения выше на том же стволе, не сказать, что успокоившийся.
— Итак, сегодня вы мирно восседаете в креслах нашего амфитеатра, вам меня не видно, но слышите вы меня хорошо. Вы 34-я Орда. И вы считаете себя лучшими из-за вашей скорости, ваших трех лет форы по отношению к нам. Потому что вы идете прямой трассой, потому что вы молоды, еще достаточно молоды. Но вот что я скажу вам на этот счет. Ваш переход через Вой-Врата, стоя, Паком, цепным блоком, — единственный в анналах контра. Ваша переправа через Лапсан — почти легенда. Вы пережили пять ярветров, если не ошибаюсь. Нам повезло наблюдать за вами изнутри целых четыре месяца, укрываясь за вашими спинами, оценить ваши опорные, испытать ваши спайки, вашу компактность в дельте, в капле, диаманте, конусе. И что, скажете вы? Да то, что вы действительно заслуживаете вашу неслыханную репутацию. Вы себе не представляете, сколько ожиданий на вас возлагается по всей линии Контра. И не только среди обычных подветренников. Мы получаем регулярные отчеты по ветрякам оси Беллини.
 Голос отца поник на последней фразе. Ветер свистел холоднее возможного. В тишине повсюду раздавался кашель. Я испугался, что он на этом и остановится. Меня охватила грусть, я был убит его словами. Какое разочарование. Но Мацукадзе взяла слово своим хриплым голосом под светящимся шаром:
— Здесь вы в лагере Бобан. Это своего рода рай. И если бы мы могли — Арриго, Гектиор, Сифаэ, я, — мы бы привязали вас к этим деревьям, к крышам наших хижин, мы бы оставили вас здесь до конца наших дней. Мечта стариков, не правда ли? Вы стали смыслом нашей жизни. И в то же время… В то же время вы наверняка и сами понимаете, что мы так и не смирились с провалом, который потерпели на Норске. Мы долго думали, как вам передать то, чему научила нас наша собственная трасса, там, наверху. Как поделиться с вами техническими данными, ключами ледяной аэродинамики, как считывать лавины… Эти знания будут вам крайне полезны, не недооценивайте их. Мы гордимся тем, что вы здесь, чтобы
Голос отца поник на последней фразе. Ветер свистел холоднее возможного. В тишине повсюду раздавался кашель. Я испугался, что он на этом и остановится. Меня охватила грусть, я был убит его словами. Какое разочарование. Но Мацукадзе взяла слово своим хриплым голосом под светящимся шаром:
— Здесь вы в лагере Бобан. Это своего рода рай. И если бы мы могли — Арриго, Гектиор, Сифаэ, я, — мы бы привязали вас к этим деревьям, к крышам наших хижин, мы бы оставили вас здесь до конца наших дней. Мечта стариков, не правда ли? Вы стали смыслом нашей жизни. И в то же время… В то же время вы наверняка и сами понимаете, что мы так и не смирились с провалом, который потерпели на Норске. Мы долго думали, как вам передать то, чему научила нас наша собственная трасса, там, наверху. Как поделиться с вами техническими данными, ключами ледяной аэродинамики, как считывать лавины… Эти знания будут вам крайне полезны, не недооценивайте их. Мы гордимся тем, что вы здесь, чтобы
 Голгот сгримасничал, поморщив шишку размером с яйцо, что выскочила у него на лбу. В его глазах не было упадка духа, который явно читался во взгляде Арваля — ему потрепало позвоночник, и Альма его как раз осматривала, — скорее матовый отблеск глубокой вдумчивости. Такой же отблеск, как был у Эрга в момент схватки с Силеном, взгляд, который, наверное, присущ всем тем, кто знает: им предстоит сразиться с соперником настолько сильным, что не может быть никакой уверенности в победе. И весь рассказ об их разведывательной вылазке, все их раны, что напоминали нам о пережитых ярветрах, о некоторых особо мощных кривецах, что встречались на переходах горных массивов, все это блекло по сравнению с состоянием души Голгота, которое ясно давало понять, какое испытание нас ждет. Одним ясным днем отец полугордо, полупокорно показывал мне заснеженные вершины, что заслоняли высокой цепью весь горизонт. И я был крайне впечатлен, я никогда за тридцать лет контра не видел ничего подобного.
Норска была не просто горным массивом, через который лежал наш путь, это был, как и повторял мне все четыре месяца отец, «отдельный мир», мир высокогорья, где обнулялись все наши знания в геофизике, весь накопленный доселе опыт, все техники и тактики контра по ровной поверхности и горам средней высоты. Я ушел к себе в комнату с подбитым настроением. Отец постучал, молча вошел и сел рядом на кровать. Он заговорил сам:
— Вам придется всему учиться заново, Сов. И вашему разведчику, и Голготу, пусть он для вас лучший из лучших,
Голгот сгримасничал, поморщив шишку размером с яйцо, что выскочила у него на лбу. В его глазах не было упадка духа, который явно читался во взгляде Арваля — ему потрепало позвоночник, и Альма его как раз осматривала, — скорее матовый отблеск глубокой вдумчивости. Такой же отблеск, как был у Эрга в момент схватки с Силеном, взгляд, который, наверное, присущ всем тем, кто знает: им предстоит сразиться с соперником настолько сильным, что не может быть никакой уверенности в победе. И весь рассказ об их разведывательной вылазке, все их раны, что напоминали нам о пережитых ярветрах, о некоторых особо мощных кривецах, что встречались на переходах горных массивов, все это блекло по сравнению с состоянием души Голгота, которое ясно давало понять, какое испытание нас ждет. Одним ясным днем отец полугордо, полупокорно показывал мне заснеженные вершины, что заслоняли высокой цепью весь горизонт. И я был крайне впечатлен, я никогда за тридцать лет контра не видел ничего подобного.
Норска была не просто горным массивом, через который лежал наш путь, это был, как и повторял мне все четыре месяца отец, «отдельный мир», мир высокогорья, где обнулялись все наши знания в геофизике, весь накопленный доселе опыт, все техники и тактики контра по ровной поверхности и горам средней высоты. Я ушел к себе в комнату с подбитым настроением. Отец постучал, молча вошел и сел рядом на кровать. Он заговорил сам:
— Вам придется всему учиться заново, Сов. И вашему разведчику, и Голготу, пусть он для вас лучший из лучших,
 — Голгот, стой! Стой!
— Крючьев больше нет, ты же видишь! Это точно не здесь!
— Голгот, стой! Стой!
— Крючьев больше нет, ты же видишь! Это точно не здесь!
 Голгот ничего не ответил, только поднял голову и посмотрел вверх на ледяную стену.
— Эта сторона уже три часа как в тени. После дождя все заледенело! На скалу посмотри, слепота куриная! Это же лед сплошной! Нужно спускаться, пока не стемнело.
— И куда ты хочешь спускаться? — перебил меня Эрг.
— На каровый ледник!
— Ты сдурел, что ли? У нас три веревки на восемнадцать человек! Мы туда в жизни не доберемся дотемна!
— У нас выбора нет! Здесь же мы спать не можем.
— Можем.
Эрг захлопнул забрало на шлеме и резко повернулся ко мне спиной. Он скрутил веревку восьмеркой и продел ее в карабин, потянулся к щели и закрепил в ней распорку, проверил и зацепился.
Голгот ничего не ответил, только поднял голову и посмотрел вверх на ледяную стену.
— Эта сторона уже три часа как в тени. После дождя все заледенело! На скалу посмотри, слепота куриная! Это же лед сплошной! Нужно спускаться, пока не стемнело.
— И куда ты хочешь спускаться? — перебил меня Эрг.
— На каровый ледник!
— Ты сдурел, что ли? У нас три веревки на восемнадцать человек! Мы туда в жизни не доберемся дотемна!
— У нас выбора нет! Здесь же мы спать не можем.
— Можем.
Эрг захлопнул забрало на шлеме и резко повернулся ко мне спиной. Он скрутил веревку восьмеркой и продел ее в карабин, потянулся к щели и закрепил в ней распорку, проверил и зацепился.
 Он карабкался вверх, как мог, цеплялся руками и ногами за щель. Единственный проход был только наверх. Со стороны было ясно насколько ему тяжело. Ледяной ветер доносил с вершин до наших ушей сквозь толстые кожаные шлемы звук карабинов, бряцавших на обвязке Голгота при каждой смене зацепок. Это немое стальное щелканье, лишенное привычного бурчания и брани, делало очевидным его страх и подтрунивающую над телом тетанию, овладевавшую мышцами. В теле Голгота стали проявляться однозначные признаки критической усталости, предупреждение: сначала трясущаяся нога в районе голени на серии опасных перехватов, выполненных на кончиках пальцев, затем руки, подверженные в течение слишком долгого времени подтягиваниям с захватами на одних пальцах, и теперь связки расплачивались за усилия. К тому же ему мешал нескончаемый мелкий снег, похожий на воду, затекавший в рукава, бежавший по лицу. С огромным трудом Голгот себя все-таки протащил по ледяной стене метров на десять вверх. Теперь он был на самой сложной точке этого участка: ему предстоял внушительный наклон с нависшим над ним снежным карнизом, который то застывая, то снова тая в течение дня, образовал настоящий ледниковый купол. Черная скала под ним блестела гладким льдом.
Он карабкался вверх, как мог, цеплялся руками и ногами за щель. Единственный проход был только наверх. Со стороны было ясно насколько ему тяжело. Ледяной ветер доносил с вершин до наших ушей сквозь толстые кожаные шлемы звук карабинов, бряцавших на обвязке Голгота при каждой смене зацепок. Это немое стальное щелканье, лишенное привычного бурчания и брани, делало очевидным его страх и подтрунивающую над телом тетанию, овладевавшую мышцами. В теле Голгота стали проявляться однозначные признаки критической усталости, предупреждение: сначала трясущаяся нога в районе голени на серии опасных перехватов, выполненных на кончиках пальцев, затем руки, подверженные в течение слишком долгого времени подтягиваниям с захватами на одних пальцах, и теперь связки расплачивались за усилия. К тому же ему мешал нескончаемый мелкий снег, похожий на воду, затекавший в рукава, бежавший по лицу. С огромным трудом Голгот себя все-таки протащил по ледяной стене метров на десять вверх. Теперь он был на самой сложной точке этого участка: ему предстоял внушительный наклон с нависшим над ним снежным карнизом, который то застывая, то снова тая в течение дня, образовал настоящий ледниковый купол. Черная скала под ним блестела гладким льдом.
 Я посмотрел на распору. Затем на Эрга. На Фироста. На веревку. Вся система выдержала удар. Голгот пролетел в метре от меня. Но все произошло так быстро. Я боялся двинуться. Боялся наклониться и посмотреть, что… Что там осталось на конце веревки… Фирост снял шлем, посмотрел на Эрга. Он был сокрушен. Он удержал веревку, это правда. Но у него не сработал рефлекс, Фирост не начал тянуть во время падения. «Пойди посмотри!» — сказал ему Эрг. Вес падающего тела пришелся ему как раз на уровень таза. Трос, зацепленный за обвязку, прибил Эрга к скале, когда груз тела маятником полетел вниз. Махаон расшиб себе плечо. Ему здорово досталось по почкам. Он морщился от боли. Веревка, словно металлическим
Я посмотрел на распору. Затем на Эрга. На Фироста. На веревку. Вся система выдержала удар. Голгот пролетел в метре от меня. Но все произошло так быстро. Я боялся двинуться. Боялся наклониться и посмотреть, что… Что там осталось на конце веревки… Фирост снял шлем, посмотрел на Эрга. Он был сокрушен. Он удержал веревку, это правда. Но у него не сработал рефлекс, Фирост не начал тянуть во время падения. «Пойди посмотри!» — сказал ему Эрг. Вес падающего тела пришелся ему как раз на уровень таза. Трос, зацепленный за обвязку, прибил Эрга к скале, когда груз тела маятником полетел вниз. Махаон расшиб себе плечо. Ему здорово досталось по почкам. Он морщился от боли. Веревка, словно металлическим
 На уступе началась гистерезисная паника, время как будто замедлилось, пошло с отставанием. Неразборчивые крики раздавались из подшлемников, вырывались из шлемов, выброшенные в воздух приказы сливались с ледяным туманом, медленно спускавшимся на нас с вершины. Действия, которые должны были соответствовать приказам, словно притрусило снегом, они сдвинулись во времени. Катастрофа была настолько очевидна, что все во мне отказывалось ее принять. Затем шлюз открылся, и реальность рванула полной мощью. Если на конце веревки мы сейчас
На уступе началась гистерезисная паника, время как будто замедлилось, пошло с отставанием. Неразборчивые крики раздавались из подшлемников, вырывались из шлемов, выброшенные в воздух приказы сливались с ледяным туманом, медленно спускавшимся на нас с вершины. Действия, которые должны были соответствовать приказам, словно притрусило снегом, они сдвинулись во времени. Катастрофа была настолько очевидна, что все во мне отказывалось ее принять. Затем шлюз открылся, и реальность рванула полной мощью. Если на конце веревки мы сейчас
 Альма оставила Силамфра и подошла к Голготу. Она прочистила ему рот от сгустков крови. Ощупала кости по всем конечностям. Определила контузии и раны, оценила их степень. После этого решилась снять шлем. Крайне осторожно. Кровь слиплась у него на затылке. Она стала аккуратно счищать ее снегом. Вид у нее был совершен-
Альма оставила Силамфра и подошла к Голготу. Она прочистила ему рот от сгустков крови. Ощупала кости по всем конечностям. Определила контузии и раны, оценила их степень. После этого решилась снять шлем. Крайне осторожно. Кровь слиплась у него на затылке. Она стала аккуратно счищать ее снегом. Вид у нее был совершен-
 Никто не стал со мной спорить. Насколько хватало взгляда, перед нами синели склоны, тень наползала на морену, по которой мы шли сегодня утром. Свет еще держался на вершинах хребтов. А если Голгот не очнется? Альма достала все свои пузырьки, пытаясь привести его в чувство, пока Тальвег мерил ширину уступа и подсчитывал количество спальных мест:
— Мы все не поместимся. Только пятнадцать, максимум шестнадцать.
— И что же делать?
— Нужно двое добровольцев, согласных спать рядом, в гамаках. Мы закрепим их в щели и подвесим. С двойными
Никто не стал со мной спорить. Насколько хватало взгляда, перед нами синели склоны, тень наползала на морену, по которой мы шли сегодня утром. Свет еще держался на вершинах хребтов. А если Голгот не очнется? Альма достала все свои пузырьки, пытаясь привести его в чувство, пока Тальвег мерил ширину уступа и подсчитывал количество спальных мест:
— Мы все не поместимся. Только пятнадцать, максимум шестнадцать.
— И что же делать?
— Нужно двое добровольцев, согласных спать рядом, в гамаках. Мы закрепим их в щели и подвесим. С двойными
 Но грань между черным юмором и белой правдой стала почти неразрешимой. Уступ был узкий, пропасть совсем рядом, усталость и подавленность настолько массивными, что установка палатки превратилась в медленный кошмар малопроизводительных действий, никто не знал, что делать, за что браться, каждый перекладывал дело на других, неловко жался к стене, старался держаться как можно дальше не в состоянии быть полезным… Только Ороси и Горст совершали какие-то осмысленные действия; Пьетро тяжело дышал, стоя в снегу на коленях; Фирост и Дарбон не отходили от Голгота; Эрг вправлял себе позвонки и перевязывал пораненную ногу; у Арваля стучали зубы, пока он сматывал веревки. Посреди уступа кучей лежали Аои, Кориолис, Ларко и, кажется, Стреб, может кто-то еще, я не в силах был разобрать. Они были в полубессознательном состоянии и не могли даже шар зажечь, чтобы отогреться, не то чтобы помочь с палаткой.
Что касается меня, то я старался следовать указаниям Ороси, оставаться в контакте с остальными, сознательно, насколько мог, а про себя думал об отце, по кругу прогонял наши разговоры, снова составлял и перекручивал слова, которые он мне вдалбливал, пока я наизусть их не выучил за эти два месяца: «Самое трудное, это когда все становится настолько абсурдным, что начинаешь терять ясность ума. Старайся всегда отстраняться от своей усталости, хотя бы мысленно. Постарайся сохранять то, что Мацукадзе зовет сознательностью, оставайся вовлеченным,
Но грань между черным юмором и белой правдой стала почти неразрешимой. Уступ был узкий, пропасть совсем рядом, усталость и подавленность настолько массивными, что установка палатки превратилась в медленный кошмар малопроизводительных действий, никто не знал, что делать, за что браться, каждый перекладывал дело на других, неловко жался к стене, старался держаться как можно дальше не в состоянии быть полезным… Только Ороси и Горст совершали какие-то осмысленные действия; Пьетро тяжело дышал, стоя в снегу на коленях; Фирост и Дарбон не отходили от Голгота; Эрг вправлял себе позвонки и перевязывал пораненную ногу; у Арваля стучали зубы, пока он сматывал веревки. Посреди уступа кучей лежали Аои, Кориолис, Ларко и, кажется, Стреб, может кто-то еще, я не в силах был разобрать. Они были в полубессознательном состоянии и не могли даже шар зажечь, чтобы отогреться, не то чтобы помочь с палаткой.
Что касается меня, то я старался следовать указаниям Ороси, оставаться в контакте с остальными, сознательно, насколько мог, а про себя думал об отце, по кругу прогонял наши разговоры, снова составлял и перекручивал слова, которые он мне вдалбливал, пока я наизусть их не выучил за эти два месяца: «Самое трудное, это когда все становится настолько абсурдным, что начинаешь терять ясность ума. Старайся всегда отстраняться от своей усталости, хотя бы мысленно. Постарайся сохранять то, что Мацукадзе зовет сознательностью, оставайся вовлеченным,
 Мы наконец установили палатку и закрепили ее крюками в восьми местах. Аои зажгла масляную горелку. Снег начал таять. Нескончаемо долго. Я упирался головой в крышу палатки. Сидя, мы помещались все вместе, но лежа на всех места не хватит. Степп вызвался спать в гамаке, несмотря на просьбы Аои. И Тальвег вместе с ним. Я на них молиться был готов. Я был без сил. Голгот по-прежнему без сознания. Силамфр в полусне что-то бормотал, но его продолжало тошнить, и кровь из ушей так и не прекратилась, продолжала вытекать капля за каплей. Альма уснула
Мы наконец установили палатку и закрепили ее крюками в восьми местах. Аои зажгла масляную горелку. Снег начал таять. Нескончаемо долго. Я упирался головой в крышу палатки. Сидя, мы помещались все вместе, но лежа на всех места не хватит. Степп вызвался спать в гамаке, несмотря на просьбы Аои. И Тальвег вместе с ним. Я на них молиться был готов. Я был без сил. Голгот по-прежнему без сознания. Силамфр в полусне что-то бормотал, но его продолжало тошнить, и кровь из ушей так и не прекратилась, продолжала вытекать капля за каплей. Альма уснула
 Я чувствовал обволакивающее тепло, кокон из ткани с подкладкой из овцебычьего меха, тепло и тишина, гудящая тишина… Снаружи еще доносится свист шквалов и тягучий, скользящий по самой земле ветер, что не дает мне уснуть… Где-то вдали, с глухим грохотом обрушился гигантский серак… Резкое заледенение перед наступлением ночи вызвало каменистую осыпь в ущелье недалеко от нас… Этот сухой звук кавалькады казался мне барабанным боем, минеральной игрой перкуссии… До тех пор, пока я могу слышать музыку в шуме мира… пока я слышу, как лавины сотрясают воздух… пока у меня есть силы сочинять мелодию звуков… Как в прекрасной сказке Караколя, где все начинается, все порождается звуком: ветер, воздух, все это звук, активная кровь, подвижный звук, густая кровь, что толкает и разливается, звук…
Я чувствовал обволакивающее тепло, кокон из ткани с подкладкой из овцебычьего меха, тепло и тишина, гудящая тишина… Снаружи еще доносится свист шквалов и тягучий, скользящий по самой земле ветер, что не дает мне уснуть… Где-то вдали, с глухим грохотом обрушился гигантский серак… Резкое заледенение перед наступлением ночи вызвало каменистую осыпь в ущелье недалеко от нас… Этот сухой звук кавалькады казался мне барабанным боем, минеральной игрой перкуссии… До тех пор, пока я могу слышать музыку в шуме мира… пока я слышу, как лавины сотрясают воздух… пока у меня есть силы сочинять мелодию звуков… Как в прекрасной сказке Караколя, где все начинается, все порождается звуком: ветер, воздух, все это звук, активная кровь, подвижный звук, густая кровь, что толкает и разливается, звук…
 Мысли мои унесло в лагерь, к отцу. К широкой, открытой улыбке матери. Туда, к ним. Я знал, что они надеялись только на одно: что мы откажемся и вернемся, пока еще не поздно. Они продержались месяц. И еще три ушло у них на обратный путь. Мы же пока просто шли по их трассе. Следуя их советам. И мы неплохо справлялись. Вернее, неплохо справлялись вплоть до сегодняшнего вечера. Но эта стенка… Я никогда еще не поднимался по такому отвесу. Страх поглотил половину моих сил. Страх упасть, страх утащить за собой других. Хуже всего были переходы выступов, где мы шли одной связкой, без страховочных крюков. Кто из нас не боится высоты? Кроме Арваля с Караколем, которым ловкости не занимать, да Эрга, у кого хватает и сил, и проворности, всем
Мысли мои унесло в лагерь, к отцу. К широкой, открытой улыбке матери. Туда, к ним. Я знал, что они надеялись только на одно: что мы откажемся и вернемся, пока еще не поздно. Они продержались месяц. И еще три ушло у них на обратный путь. Мы же пока просто шли по их трассе. Следуя их советам. И мы неплохо справлялись. Вернее, неплохо справлялись вплоть до сегодняшнего вечера. Но эта стенка… Я никогда еще не поднимался по такому отвесу. Страх поглотил половину моих сил. Страх упасть, страх утащить за собой других. Хуже всего были переходы выступов, где мы шли одной связкой, без страховочных крюков. Кто из нас не боится высоты? Кроме Арваля с Караколем, которым ловкости не занимать, да Эрга, у кого хватает и сил, и проворности, всем
 Его быстрый говор, темп речи, тембр, ясность и точность слов, ловкие и емкие обороты — все этовывело меня из оцепенения. Я приподнялся на локте и увидел, что Аои спит, сидя над бурлящей кастрюлей. Я стал разливать и раздавать миски дымящегося супа тем, кого не сморил сон. Уложил Аои рядом со Степпом, что грелся перед холодной ночью, которая ему предстояла. И приправляя суп ячменной мукой, чтобы было посытнее, слушал трубадура, который в полном измождении все же нашел в себе дыхание, чтоб нас развеять; к тому же он уже два дня как ничего путного не мог нам рассказать, а потому радовался, что на этот раз застигнет нас врасплох. Так и вышло:
— Ну так что, хотите знать, по ком звонит колокол? Забили ли Голготу гол? Подать ли Силамфру камфоры? Так же ли крепок наш Эрг, как айсберг? Оракул караулил, а снег, а снег с него летел, да куда замело? Вещун иль колдун, пророк иль провидец, не то прорицатель будущего, не то выдумщик грядущего — вот как вы меня видите, и в этом правы, потому что я по воздуху гадальщик и кто знает? вдруг я и впрямь видел фрагмент из ненасущной сущности нашей будущности. И я б молчал? Шутил бы шутки? Дудки! Но раз уж вы меня торопите рассказать вам больше, да побыстрее, снять с себя оковы пустозвонства, то вам скажу, что завтра будет… завтра будет…
— Давай быстрее…
Караколь обернулся к Ларко на его усталое требование. Тот в полусне прижимался к Кориолис и грел ее руки собственным теплом, засунув их под толщу своих одежд. От этой реплики трубадур свернул с темы, и совершенно
Его быстрый говор, темп речи, тембр, ясность и точность слов, ловкие и емкие обороты — все этовывело меня из оцепенения. Я приподнялся на локте и увидел, что Аои спит, сидя над бурлящей кастрюлей. Я стал разливать и раздавать миски дымящегося супа тем, кого не сморил сон. Уложил Аои рядом со Степпом, что грелся перед холодной ночью, которая ему предстояла. И приправляя суп ячменной мукой, чтобы было посытнее, слушал трубадура, который в полном измождении все же нашел в себе дыхание, чтоб нас развеять; к тому же он уже два дня как ничего путного не мог нам рассказать, а потому радовался, что на этот раз застигнет нас врасплох. Так и вышло:
— Ну так что, хотите знать, по ком звонит колокол? Забили ли Голготу гол? Подать ли Силамфру камфоры? Так же ли крепок наш Эрг, как айсберг? Оракул караулил, а снег, а снег с него летел, да куда замело? Вещун иль колдун, пророк иль провидец, не то прорицатель будущего, не то выдумщик грядущего — вот как вы меня видите, и в этом правы, потому что я по воздуху гадальщик и кто знает? вдруг я и впрямь видел фрагмент из ненасущной сущности нашей будущности. И я б молчал? Шутил бы шутки? Дудки! Но раз уж вы меня торопите рассказать вам больше, да побыстрее, снять с себя оковы пустозвонства, то вам скажу, что завтра будет… завтра будет…
— Давай быстрее…
Караколь обернулся к Ларко на его усталое требование. Тот в полусне прижимался к Кориолис и грел ее руки собственным теплом, засунув их под толщу своих одежд. От этой реплики трубадур свернул с темы, и совершенно
 Степп открыл палатку и обернулся, перед тем как выйти. Он посмотрел на нас, окинул каждого взглядом, остановился на мне, смотрел на меня долго, пристально, а затем вышел. Он должен был выйти, мы все не помещались, нас было слишком много, и все эти сумки, шипы, крюки, нельзя было рисковать, мы таким образом могли задушить Голгота или Силамфра, понимаешь, нельзя, ручеек, приговаривал он, чтобы получить мое согласие и выйти с чистым сердцем, унести мою улыбку с собой, это было все, что я могла ему дать, свою улыбку и свою любовь, укрыть его этим поверх толстой шкуры быка и полярного лиса, в которые он закутается, в меховом спальнике, в шапке из горностая, а поверх нее еще одна, из нутрии, с ним будет столько животных, это хороший знак.
Я уже неделю молчу, ни Альме, ни Ороси ничего про Степпа не говорю. Это началось еще в первый кривец, который нас всех истерзал на Лофенском плато. Его трансформация. В тот вечер, перед тем как залезть в общий спальный мешок, он отказался раздеться. Сказал, что ему холодно. Но ему никогда не бывает холодно, лисенку, я его знаю, он меня всегда этим поражал! Я прыснула со смеху, хотела засунуть руку ему под одежду, но он меня остановил. Я не стала настаивать. На пороге сна я крепко прижалась к нему и вдруг почувствовала, поняла на ощупь, по запаху. По вкусу его шеи. От него пахло свежим деревом. Я провела рукой по его спине, и мне показалось, что я глажу ствол дерева, он весь стал жесткий, твердый, пальцы едва погружались в новую плоть. Он был еле теплый, как
Степп открыл палатку и обернулся, перед тем как выйти. Он посмотрел на нас, окинул каждого взглядом, остановился на мне, смотрел на меня долго, пристально, а затем вышел. Он должен был выйти, мы все не помещались, нас было слишком много, и все эти сумки, шипы, крюки, нельзя было рисковать, мы таким образом могли задушить Голгота или Силамфра, понимаешь, нельзя, ручеек, приговаривал он, чтобы получить мое согласие и выйти с чистым сердцем, унести мою улыбку с собой, это было все, что я могла ему дать, свою улыбку и свою любовь, укрыть его этим поверх толстой шкуры быка и полярного лиса, в которые он закутается, в меховом спальнике, в шапке из горностая, а поверх нее еще одна, из нутрии, с ним будет столько животных, это хороший знак.
Я уже неделю молчу, ни Альме, ни Ороси ничего про Степпа не говорю. Это началось еще в первый кривец, который нас всех истерзал на Лофенском плато. Его трансформация. В тот вечер, перед тем как залезть в общий спальный мешок, он отказался раздеться. Сказал, что ему холодно. Но ему никогда не бывает холодно, лисенку, я его знаю, он меня всегда этим поражал! Я прыснула со смеху, хотела засунуть руку ему под одежду, но он меня остановил. Я не стала настаивать. На пороге сна я крепко прижалась к нему и вдруг почувствовала, поняла на ощупь, по запаху. По вкусу его шеи. От него пахло свежим деревом. Я провела рукой по его спине, и мне показалось, что я глажу ствол дерева, он весь стал жесткий, твердый, пальцы едва погружались в новую плоть. Он был еле теплый, как
 Гамак Степпа был пуст. Я на секунду испугалась, что он ночью вывалился и полетел в пропасть. Но правда была еще хуже: в гамаке лежали притрушенные снегом одеяла и его одежда; значит, он сам встал из гамака и разделся. Что случилось дальше, не сложно было догадаться. Я подняла глаза и у подножия диэдра, в расщелине, увидела дерево. Ствол его как раз был метр восемьдесят, а две единственные ветки, размером с руки, расходились на конце пятью веточками. Вчера этого дерева здесь не было. Никаких сомнений не осталось.
— Я его здесь не брошу.
Гамак Степпа был пуст. Я на секунду испугалась, что он ночью вывалился и полетел в пропасть. Но правда была еще хуже: в гамаке лежали притрушенные снегом одеяла и его одежда; значит, он сам встал из гамака и разделся. Что случилось дальше, не сложно было догадаться. Я подняла глаза и у подножия диэдра, в расщелине, увидела дерево. Ствол его как раз был метр восемьдесят, а две единственные ветки, размером с руки, расходились на конце пятью веточками. Вчера этого дерева здесь не было. Никаких сомнений не осталось.
— Я его здесь не брошу.
 Голос Аои прозвучал ясно, четко, не предполагая контраргументов: она с полнейшей уверенностью поставила точку без разговоров. Ни Ороси, ни кто либо другой из нас не стал с ней спорить, мы даже не пытались предлагать альтернативные варианты, хотя дерево на вид так крепко вросло в расщелину, что сложно было себе представить, как его можно оттуда выкорчевывать, разве что срубить ледорубом, но никто из нас не решался себе такое даже представить. Не в силах оправиться от случившегося, мы оставили Аои саму принять решение, на которое только она имела право. Она взобралась наверх, приникла к дереву и зашептала неслышные нам нежные слова. Затем взяла ледоруб и ударила по левой руке. Щепки из не поддающейся описанию плоти разлетелись во все стороны, непонятная липкая светлая жидкость потекла по стволу, но Аои решила не смотреть: когда ветка поддалась и оторвалась от ствола, она осторожно засунула ее в рюкзак и спустилась. Ороси, стоя с растрепанными волосами, с трудом выговорила то, что и
Голос Аои прозвучал ясно, четко, не предполагая контраргументов: она с полнейшей уверенностью поставила точку без разговоров. Ни Ороси, ни кто либо другой из нас не стал с ней спорить, мы даже не пытались предлагать альтернативные варианты, хотя дерево на вид так крепко вросло в расщелину, что сложно было себе представить, как его можно оттуда выкорчевывать, разве что срубить ледорубом, но никто из нас не решался себе такое даже представить. Не в силах оправиться от случившегося, мы оставили Аои саму принять решение, на которое только она имела право. Она взобралась наверх, приникла к дереву и зашептала неслышные нам нежные слова. Затем взяла ледоруб и ударила по левой руке. Щепки из не поддающейся описанию плоти разлетелись во все стороны, непонятная липкая светлая жидкость потекла по стволу, но Аои решила не смотреть: когда ветка поддалась и оторвалась от ствола, она осторожно засунула ее в рюкзак и спустилась. Ороси, стоя с растрепанными волосами, с трудом выговорила то, что и
 Хаотичное чувство радости забилось у меня в животе. Мне так хотелось ей сказать, что она права, что я рада за нее, что я даже завидую ей. Но вместо этого вышли совершенно нелепые слова:
— Ты понимаешь, что отказываешься от Верхнего Предела, если вернешься в лагерь? Мы не сможем ждать пока ты… Мы должны идти дальше… Не принимай решений сгоряча!
— Да, я все знаю, Ороси. Ты как всегда права, ты всегда для меня была как старшая сестра. Да, я никогда не попаду на Верхний Предел. Но я по-своему прошла свой путь до конца…
— Мне будет тебя не хватать… Мы столько пережили вместе, Аои, ты мне нужна…
Хаотичное чувство радости забилось у меня в животе. Мне так хотелось ей сказать, что она права, что я рада за нее, что я даже завидую ей. Но вместо этого вышли совершенно нелепые слова:
— Ты понимаешь, что отказываешься от Верхнего Предела, если вернешься в лагерь? Мы не сможем ждать пока ты… Мы должны идти дальше… Не принимай решений сгоряча!
— Да, я все знаю, Ороси. Ты как всегда права, ты всегда для меня была как старшая сестра. Да, я никогда не попаду на Верхний Предел. Но я по-своему прошла свой путь до конца…
— Мне будет тебя не хватать… Мы столько пережили вместе, Аои, ты мне нужна…
 Аои готова была разрыдаться, но взяла себя в руки, почувствовала в себе прилив мужества и твердости.
— Мне повезло найти на своем пути то, что я искала. Я хотела любви, и Степп стал чудом моей жизни. Я пошла на Норску ради него, вы это знаете. Он был уверен, что в конце концов мы дойдем до Первородного сада, он считал, что все растения происходят оттуда, что оттуда берутся все зерна, которые засевают наш мир вплоть до
Аои готова была разрыдаться, но взяла себя в руки, почувствовала в себе прилив мужества и твердости.
— Мне повезло найти на своем пути то, что я искала. Я хотела любви, и Степп стал чудом моей жизни. Я пошла на Норску ради него, вы это знаете. Он был уверен, что в конце концов мы дойдем до Первородного сада, он считал, что все растения происходят оттуда, что оттуда берутся все зерна, которые засевают наш мир вплоть до
 Все решилось очень быстро. Силамфр смотрел на нас, неловко выстроившихся друг за другом на уступе. Солнце уже начало прогревать стену в двухстах метрах кверху от нас. Кривец дул не сильно, но он был ледяной.
— Я хотел вас поблагодарить за то, что вы столько лет меня терпели с моей музыкой, моими деревянными бумами, ложками, ветряками. Металлические у Леарха были покрепче, конечно. Дойдите до конца и возвращайтесь рассказать нам, что там! У вас закала хватит, с Голготом или без него!
— Спасибо, Силамфр, — ответил Стреб.
— В голове не укладывается вот так вот вдруг прощаться после тридцати пяти лет контра… У меня слов нет… Надеюсь оно там наверху того стоит… чтобы с вами вот так расстаться! — сказал Тальвег.
— Альма, будь осторожна на Лофенской излучине! — повторяла Ороси.
— Это вы будьте осторожны! Меня рядом не будет, чтоб вам помочь! Я вам оставила весь запас вербовой кислоты. Если будет слишком сильно болеть голова на высоте — спускайтесь. Не доводите себя до эмболии.
Все решилось очень быстро. Силамфр смотрел на нас, неловко выстроившихся друг за другом на уступе. Солнце уже начало прогревать стену в двухстах метрах кверху от нас. Кривец дул не сильно, но он был ледяной.
— Я хотел вас поблагодарить за то, что вы столько лет меня терпели с моей музыкой, моими деревянными бумами, ложками, ветряками. Металлические у Леарха были покрепче, конечно. Дойдите до конца и возвращайтесь рассказать нам, что там! У вас закала хватит, с Голготом или без него!
— Спасибо, Силамфр, — ответил Стреб.
— В голове не укладывается вот так вот вдруг прощаться после тридцати пяти лет контра… У меня слов нет… Надеюсь оно там наверху того стоит… чтобы с вами вот так расстаться! — сказал Тальвег.
— Альма, будь осторожна на Лофенской излучине! — повторяла Ороси.
— Это вы будьте осторожны! Меня рядом не будет, чтоб вам помочь! Я вам оставила весь запас вербовой кислоты. Если будет слишком сильно болеть голова на высоте — спускайтесь. Не доводите себя до эмболии.
 Мы оставили им веревку и запас провизии на десять дней. Они закрепили страховку, и со скрежетом шипов по оледенелому снегу исчезли за краем уступа. Сначала Альма, за ней Силамфр. Только Аои осталась завернуть ветку в спальник, перед тем как уложить ее назад в рюкзак. Она поцеловала всех нас по очереди. «Заботься об Ороси, любите друг друга и сделай ей ребенка», обняв, прошептала мне Аои и поцеловала меня в губы. Оставался только лежавший на своем одеяле Голгот. Она почтительно подошла, опустилась на колени и погладила его по лицу, что-то приговаривая. А потом поцеловала его. Голгот фыркнул, брыкнулся, приоткрыл глаза и забормотал: «Все, мы на месте? На месте?» «Не совсем — ответила ему Аои, — но вы уже близко, а я далеко, я вас оставлю здесь». «Почему?» — сразу будто очнулся Голгот, и на лице его отразилось более чем искреннее недоумение. «Ты мне нужна, нам нужен огонь, вода, травы». «Спасибо, — просто ответила ему Аои, — спасибо, что всегда относился ко мне с уважением». Она встала, взялась за страховочную веревку и, не глядя вниз, стала спускаться.
— Будьте сильными! — крикнула она. — Я буду мысленно с вами!
Она плакала и голос ее дрогнув, разбился о ледяную стену.
— Смотри за котами в саду Степпа, их там слишком много. — кричала вдогонку Ороси.
— Что?
— Слишком много котов! — повторила Ороси, и до нас донесся растроганный смех Аои.
Мы оставили им веревку и запас провизии на десять дней. Они закрепили страховку, и со скрежетом шипов по оледенелому снегу исчезли за краем уступа. Сначала Альма, за ней Силамфр. Только Аои осталась завернуть ветку в спальник, перед тем как уложить ее назад в рюкзак. Она поцеловала всех нас по очереди. «Заботься об Ороси, любите друг друга и сделай ей ребенка», обняв, прошептала мне Аои и поцеловала меня в губы. Оставался только лежавший на своем одеяле Голгот. Она почтительно подошла, опустилась на колени и погладила его по лицу, что-то приговаривая. А потом поцеловала его. Голгот фыркнул, брыкнулся, приоткрыл глаза и забормотал: «Все, мы на месте? На месте?» «Не совсем — ответила ему Аои, — но вы уже близко, а я далеко, я вас оставлю здесь». «Почему?» — сразу будто очнулся Голгот, и на лице его отразилось более чем искреннее недоумение. «Ты мне нужна, нам нужен огонь, вода, травы». «Спасибо, — просто ответила ему Аои, — спасибо, что всегда относился ко мне с уважением». Она встала, взялась за страховочную веревку и, не глядя вниз, стала спускаться.
— Будьте сильными! — крикнула она. — Я буду мысленно с вами!
Она плакала и голос ее дрогнув, разбился о ледяную стену.
— Смотри за котами в саду Степпа, их там слишком много. — кричала вдогонку Ороси.
— Что?
— Слишком много котов! — повторила Ороси, и до нас донесся растроганный смех Аои.
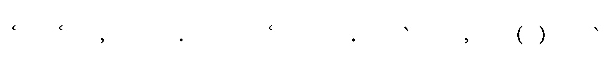
 «Пока погода хорошая, то условия на Норске вполне терпимые, — говорил мне отец. — Но как только увидите, что небо затягивает, даже не думайте идти дальше. Копай-
«Пока погода хорошая, то условия на Норске вполне терпимые, — говорил мне отец. — Но как только увидите, что небо затягивает, даже не думайте идти дальше. Копай-

 Сдерживаясь на одном гвозде, Эрг изо всех сил пробивал ледяной панцирь горы. Острие ледоруба со скрежетом вошло на сантиметр, от проделанного отверстия разлетелась окалина, и ее тут же разметал шквал ветра. Я вонзился в зарубину, спазматически хватаясь за жизнь, как насекомое в стакане, и впервые в жизни стал молиться. Секунд через пять сводившая ногу судорога отпустила, мне удалось слегка повернуться спиной к склону и вдохнуть. За мной необъяснимым образом поднимались остальные. Это больше были не люди, не ордийцы, а просто холмики снега, ни одного различимого силуэта. Кривец нарастающими порывами дошел до пика и его рев напоминал скрежет металла по стеклу, затем краткий спад — и порывы снова покатились водопадом по поверхности склона. По щекам резанула картечь ледяной крупы, слезы выступили на глазах, мой подшлемник разорвало… А может он и так уже был разорван, я больше ничего не понимал.
Пьетро вышел первым из бесконечной белизны. Лица его больше не было видно. Затем появился Арваль, походивший на паука, надсекающего лед своими лапами, с обезумевшими желтыми глазами, что кричали единственным цветным пятном сквозь отверстие в деревянном шлеме. А Караколь? За ними шли бесформенные массы, покрытые снегом, пучки людей, вслепую взбирающихся по заледенелой броне. Караколь?
— Где Караколь?
— Что?
— Караколь! Где Караколь? Я его не вижу!
Сдерживаясь на одном гвозде, Эрг изо всех сил пробивал ледяной панцирь горы. Острие ледоруба со скрежетом вошло на сантиметр, от проделанного отверстия разлетелась окалина, и ее тут же разметал шквал ветра. Я вонзился в зарубину, спазматически хватаясь за жизнь, как насекомое в стакане, и впервые в жизни стал молиться. Секунд через пять сводившая ногу судорога отпустила, мне удалось слегка повернуться спиной к склону и вдохнуть. За мной необъяснимым образом поднимались остальные. Это больше были не люди, не ордийцы, а просто холмики снега, ни одного различимого силуэта. Кривец нарастающими порывами дошел до пика и его рев напоминал скрежет металла по стеклу, затем краткий спад — и порывы снова покатились водопадом по поверхности склона. По щекам резанула картечь ледяной крупы, слезы выступили на глазах, мой подшлемник разорвало… А может он и так уже был разорван, я больше ничего не понимал.
Пьетро вышел первым из бесконечной белизны. Лица его больше не было видно. Затем появился Арваль, походивший на паука, надсекающего лед своими лапами, с обезумевшими желтыми глазами, что кричали единственным цветным пятном сквозь отверстие в деревянном шлеме. А Караколь? За ними шли бесформенные массы, покрытые снегом, пучки людей, вслепую взбирающихся по заледенелой броне. Караколь?
— Где Караколь?
— Что?
— Караколь! Где Караколь? Я его не вижу!
 Здесь невозможно разбить бивуак. И вниз спуститься, не сорвавшись, тоже невозможно. И вверх ползти
Здесь невозможно разбить бивуак. И вниз спуститься, не сорвавшись, тоже невозможно. И вверх ползти
 Я чуть не слетел от внезапного крика Арваля. Я снова стал вглядываться вниз, но на шлем налипло столько снега, что я ничего не видел сквозь щиток, а соскоблить лед больше не получалось. Я приподнял визор из раковины медузы, в нем было столько дыр, что он все равно уже ничего не защищал, и стал всматриваться перед собой. Я искал какую-нибудь шероховатость на поверхности, какой-то рельеф, намек на цвет, но передо мной была нескончаемая белизна. Предсказание Караколя сдавило сердце, хотя я все время отбрасывал его от себя как можно дальше, оно все равно так или иначе таилось во мне.
— Нужно подождать Караколя! — крикнул я.
— Мы не можем ждать здесь! — отрезал Эрг.
— Фирост тоже отстал. У него рукоятка ледоруба гуляет. Нужно их подождать!
— Фирост идет в своем темпе. Он справится. Мы здесь околеем их ждать.
Я чуть не слетел от внезапного крика Арваля. Я снова стал вглядываться вниз, но на шлем налипло столько снега, что я ничего не видел сквозь щиток, а соскоблить лед больше не получалось. Я приподнял визор из раковины медузы, в нем было столько дыр, что он все равно уже ничего не защищал, и стал всматриваться перед собой. Я искал какую-нибудь шероховатость на поверхности, какой-то рельеф, намек на цвет, но передо мной была нескончаемая белизна. Предсказание Караколя сдавило сердце, хотя я все время отбрасывал его от себя как можно дальше, оно все равно так или иначе таилось во мне.
— Нужно подождать Караколя! — крикнул я.
— Мы не можем ждать здесь! — отрезал Эрг.
— Фирост тоже отстал. У него рукоятка ледоруба гуляет. Нужно их подождать!
— Фирост идет в своем темпе. Он справится. Мы здесь околеем их ждать.
 Эрг пошел дальше. Никто не отважился настоять. Группа делилась надвое. Это могло быть фатальной ошибкой. Голгот шел вверх по прямой, по самому опасному, почти вертикальному участку; он больше не оборачивался назад. Ларко и Кориолис единственные шли в связке, они находились метрах в тридцати от нас. И это уже было очень далеко. Приблизительно на том же уровне следом за огромной снежной массой, — то был Горст, — поднимались птичники. Караколя и Фироста нигде не было видно. Пьетро в нерешительности — ждать отставших или нет — снова принялся выбивать в снегу ступени. Для Арваля.
Эрг пошел дальше. Никто не отважился настоять. Группа делилась надвое. Это могло быть фатальной ошибкой. Голгот шел вверх по прямой, по самому опасному, почти вертикальному участку; он больше не оборачивался назад. Ларко и Кориолис единственные шли в связке, они находились метрах в тридцати от нас. И это уже было очень далеко. Приблизительно на том же уровне следом за огромной снежной массой, — то был Горст, — поднимались птичники. Караколя и Фироста нигде не было видно. Пьетро в нерешительности — ждать отставших или нет — снова принялся выбивать в снегу ступени. Для Арваля.
 Я повиновался, послушался их, переставляя ноги в шипованных ботинках с одной выбитой ступени на другую, я повиновался малодушию всей нашей группы, Голготу и Эргу, идти за ними следом было так обнадеживающе… Но вдруг мне представилась эта ужасная картина, как Караколь бьется в агонии один на склоне. И это было выше моих сил:
— Стойте! Стойте!
— Эрг!
— Что?
— Нужно дождаться остальных! В группе дыра! Мы потеряли Караколя и Фироста! Они в опасности!
Я повиновался, послушался их, переставляя ноги в шипованных ботинках с одной выбитой ступени на другую, я повиновался малодушию всей нашей группы, Голготу и Эргу, идти за ними следом было так обнадеживающе… Но вдруг мне представилась эта ужасная картина, как Караколь бьется в агонии один на склоне. И это было выше моих сил:
— Стойте! Стойте!
— Эрг!
— Что?
— Нужно дождаться остальных! В группе дыра! Мы потеряли Караколя и Фироста! Они в опасности!
 Фирост сорвался и полетел вниз по ледяной горке. Я поняла это по разрыву в потоке. Жуткий скачок вниз. Он соскользнул и никто этого не видел и не слышал. Да мы и не просто так решили дальше не идти в связке, никто из нас больше не в состоянии был удержать не только другого, но даже самого себя. Если бы Эрг упал, или я упала, мы бы утащили за собой всю Орду, одного за другим, утянули бы собственным весом под таким уклоном… Если Эрг больше не сможет пропахивать лед своим ледорубом, он упадет на всю нашу Орду. Я это понимала и не понимала одновременно, я больше ничего не думала и ничего не осознавала. Но одно почувствовала хорошо: Фирост сорвался! Сорвался!
— Фирост! — вырвалось у меня.
— Где он? — заревел Голгот, который как раз поравнялся с нами и по горизонтали подошел к группе.
Фирост сорвался и полетел вниз по ледяной горке. Я поняла это по разрыву в потоке. Жуткий скачок вниз. Он соскользнул и никто этого не видел и не слышал. Да мы и не просто так решили дальше не идти в связке, никто из нас больше не в состоянии был удержать не только другого, но даже самого себя. Если бы Эрг упал, или я упала, мы бы утащили за собой всю Орду, одного за другим, утянули бы собственным весом под таким уклоном… Если Эрг больше не сможет пропахивать лед своим ледорубом, он упадет на всю нашу Орду. Я это понимала и не понимала одновременно, я больше ничего не думала и ничего не осознавала. Но одно почувствовала хорошо: Фирост сорвался! Сорвался!
— Фирост! — вырвалось у меня.
— Где он? — заревел Голгот, который как раз поравнялся с нами и по горизонтали подошел к группе.
 Но Сов и сам не верил ни слову из того, что говорил. Мы его бросим. Мы его бросим, потому что он мертв. И все мы это знаем. Эрг сощурил глаза, вглядываясь вниз склона. Подождал какое-то время, как по мне, совсем недолго, и сказал:
Но Сов и сам не верил ни слову из того, что говорил. Мы его бросим. Мы его бросим, потому что он мертв. И все мы это знаем. Эрг сощурил глаза, вглядываясь вниз склона. Подождал какое-то время, как по мне, совсем недолго, и сказал:

 Ручеек, ручеек, я старалась припомнить тон, которым он это произносил, смех, что мутил воду его зеленых глаз, когда он смотрел, как я кормлю котов в саду. «Слишком много котов, — улыбался он, — тут слишком много котов». Ороси тоже так сказала, прощаясь. Я, кажется, ошиблась кулуаром, слишком много котов, этот слишком крутой, а у меня слишком много котов, четыре или два крюка, один? Спускайся ровно, не садись, иди на пятках, вжимай их всем весом, слышишь Аои, иди ПРЯМО! — кричит Ороси, а мне так хочется сесть, опуститься на пятую точку, мне так страшно, да, наверняка котов слишком много, это точно, ветер меня все толкает, снег подрагивает и их шкурки лоснятся под его поглаживаниями, они бегут, ах, как это весело, бегут передо мной, комочки шерсти, белой пушистой шерсти, как красиво, Степп, правда? Котята бежали по склону, я брала их на руки, они были легкие, как комочки снега, ты бы это видел, на, держи, возьми одного, слишком много котов, мурлычет, слишком котов, ксссс, слишкоммногокотов, слишкомкотов, котов слишком, много слишком, слишком много котиков, слишком много котят, снежных лап, медвежьих лап, котят-утят, повсюду коты, катятся кувырком, котята-коты…
Ручеек, ручеек, я старалась припомнить тон, которым он это произносил, смех, что мутил воду его зеленых глаз, когда он смотрел, как я кормлю котов в саду. «Слишком много котов, — улыбался он, — тут слишком много котов». Ороси тоже так сказала, прощаясь. Я, кажется, ошиблась кулуаром, слишком много котов, этот слишком крутой, а у меня слишком много котов, четыре или два крюка, один? Спускайся ровно, не садись, иди на пятках, вжимай их всем весом, слышишь Аои, иди ПРЯМО! — кричит Ороси, а мне так хочется сесть, опуститься на пятую точку, мне так страшно, да, наверняка котов слишком много, это точно, ветер меня все толкает, снег подрагивает и их шкурки лоснятся под его поглаживаниями, они бегут, ах, как это весело, бегут передо мной, комочки шерсти, белой пушистой шерсти, как красиво, Степп, правда? Котята бежали по склону, я брала их на руки, они были легкие, как комочки снега, ты бы это видел, на, держи, возьми одного, слишком много котов, мурлычет, слишком котов, ксссс, слишкоммногокотов, слишкомкотов, котов слишком, много слишком, слишком много котиков, слишком много котят, снежных лап, медвежьих лап, котят-утят, повсюду коты, катятся кувырком, котята-коты…
 Мы с Ороси и Пьетро остались посреди кулуара, втроем на одном крюке, не в состоянии вытащить из рюкзака страховочную веревку. Снег хлестал нас, как струи дождя, шлифовал и вытачивал наши силуэты. Пальцы, вертикаль-
Мы с Ороси и Пьетро остались посреди кулуара, втроем на одном крюке, не в состоянии вытащить из рюкзака страховочную веревку. Снег хлестал нас, как струи дождя, шлифовал и вытачивал наши силуэты. Пальцы, вертикаль-
 …как этот Диагональщик играл на ветровой арфе… и хоть он просто-напросто время от времени передвигал рамку инструмента, и, на первый взгляд без особых на то причин, ставил арфу под разными странными углами по отношению к ветру, музыка его была одной из самых трогательных, что свернулась в моей ушной раковине, я и до сих пор иногда ее слышу, а еще слышу его самого, его любимые слова: «Музыка, как ветер, никогда не прекращается; это мы перестаем слушать», «двигай ушами под ветер», «двигай ушами…». Я сказал Аои и Альме оставить меня здесь, на склоне хребта, чтобы лучше было слышно кривец, а потом бежать, быстро-быстро, спасать свои шкурки. Они были со мной великолепны, до самого конца, лечили меня, несли меня километрами, но в моей голове осталось слишком мало крови, и я все равно не хотел кончать свои дни в Бобане, поток туда доходит весь сжатый, его как будто выдувают из искривленного рога, и к тому же без особого таланта.
…как этот Диагональщик играл на ветровой арфе… и хоть он просто-напросто время от времени передвигал рамку инструмента, и, на первый взгляд без особых на то причин, ставил арфу под разными странными углами по отношению к ветру, музыка его была одной из самых трогательных, что свернулась в моей ушной раковине, я и до сих пор иногда ее слышу, а еще слышу его самого, его любимые слова: «Музыка, как ветер, никогда не прекращается; это мы перестаем слушать», «двигай ушами под ветер», «двигай ушами…». Я сказал Аои и Альме оставить меня здесь, на склоне хребта, чтобы лучше было слышно кривец, а потом бежать, быстро-быстро, спасать свои шкурки. Они были со мной великолепны, до самого конца, лечили меня, несли меня километрами, но в моей голове осталось слишком мало крови, и я все равно не хотел кончать свои дни в Бобане, поток туда доходит весь сжатый, его как будто выдувают из искривленного рога, и к тому же без особого таланта.
 Пусть холод здесь царит, в фальшивой тишине… Боль от обморожения прошла и мое тело спокойно начало принимать температуру снега и неба. · Прощаясь, я посоветовал Аои, если она попадет в ужасные условия, что было вполне вероятно, зацепиться за знакомую мелодию, строчку из песни, что-то близкое ей, слова, чей звук был бы для нее, как спрятавшееся в груди солнце (которое бы ее согревало), и она мне ответила, что у нее есть любимая фраза, которая часто ей вспоминается, в одиночестве
Пусть холод здесь царит, в фальшивой тишине… Боль от обморожения прошла и мое тело спокойно начало принимать температуру снега и неба. · Прощаясь, я посоветовал Аои, если она попадет в ужасные условия, что было вполне вероятно, зацепиться за знакомую мелодию, строчку из песни, что-то близкое ей, слова, чей звук был бы для нее, как спрятавшееся в груди солнце (которое бы ее согревало), и она мне ответила, что у нее есть любимая фраза, которая часто ей вспоминается, в одиночестве
 Голгот весь подобрался, вытянулся во весь рост и двумя руками одновременно ударил по стене белого металла. Завидев перевал, он приподнял заледеневший визор,
Голгот весь подобрался, вытянулся во весь рост и двумя руками одновременно ударил по стене белого металла. Завидев перевал, он приподнял заледеневший визор,
 Глоток обезумевшей свободы, голос Голгота прорвался, словно вытолкнул из живота тяжелый фрагмент его вихря, прогремел на все бескрайние гигантские просторы цирка Шнефеллеркрафта и гулким эхом прокатился по всему Гардаберскому кулуару вплоть до нас. Рев древнего, возникшего из прошлого мамонта. Он потряс нас до самых позвонков. Я на секунду испугался, что Голгот сейчас пустит на нас лавину своими криками, но радость приближения к вершине была настолько велика… «Вихрь Фироста перешел в Эрга, — радовалась Ороси. — Дошел до нас по встречному ветру, представляешь? Я поверить не могу, но он с нами. С ним мы сильнее». Я не успел ей ответить, что он как-никак умер, и ничто не могло его заменить, как Пьетро, вторя Голготу с разрывом в сто метров, тоже заорал:
— Ннннннннннооооооооооооорррррррррррррр… НОРС-КА!
Глоток обезумевшей свободы, голос Голгота прорвался, словно вытолкнул из живота тяжелый фрагмент его вихря, прогремел на все бескрайние гигантские просторы цирка Шнефеллеркрафта и гулким эхом прокатился по всему Гардаберскому кулуару вплоть до нас. Рев древнего, возникшего из прошлого мамонта. Он потряс нас до самых позвонков. Я на секунду испугался, что Голгот сейчас пустит на нас лавину своими криками, но радость приближения к вершине была настолько велика… «Вихрь Фироста перешел в Эрга, — радовалась Ороси. — Дошел до нас по встречному ветру, представляешь? Я поверить не могу, но он с нами. С ним мы сильнее». Я не успел ей ответить, что он как-никак умер, и ничто не могло его заменить, как Пьетро, вторя Голготу с разрывом в сто метров, тоже заорал:
— Ннннннннннооооооооооооорррррррррррррр… НОРС-КА!
 Четверть часа спустя мы перешли Гардаберский уступ.
— Видишь там, внизу? Это Бракауэрский цирк, ледяная долина, настоящий тупик. За ним стена две тысячи метров!
Четверть часа спустя мы перешли Гардаберский уступ.
— Видишь там, внизу? Это Бракауэрский цирк, ледяная долина, настоящий тупик. За ним стена две тысячи метров!


 История сохранит в памяти, что я добралась до лагеря за двенадцать дней и что я упала, не дойдя сто метров до поселения, держа в руках ветку березы, в которой Фуския сразу разгадала своего брата. Будут рассказывать о моей любви к Степпу, как мы посадили березу и с какой заботой ухаживали за ней, чтобы дерево принялось. Я выбрала место в нескольких метрах от хижины, где мы провели последнюю ночь вместе, в его саду; будут говорить и о том, как наш сын, Йоль, в едва ли годовалом возрасте сам по траве добрался до дерева и устроился в его корнях. А еще будут говорить о моем мужестве и о том, что я отказалась от Верхнего Предела ради любви, и постараются бальзамом добрых слов залечить в моей памяти воспоминание о лице Силамфра, смотрящего нам вслед, будут снова и снова убеждать меня, что я ни за что не смогла бы отыскать Альму в лавине, которая ее унесла, когда она прокладывала для меня трассу в дефиле Клавела. Но я знаю, что они все врут, что Ороси наверняка разыскала бы ее по вибрациям вихря, что я должна была продолжать копать снег.
Я не знаю, что приключилось с остальными, с теми, кто остался там, наверху. Быть может, я когда-нибудь узнаю, мне бы так этого хотелось… Я очень люблю Фускию и маму Степпа, обожаю говорить с Мацукадзе, но мне очень не хватает нашей Орды. Я дико по ним скучаю.
Мацукадзе говорит, что лет через пять в заболони дерева возможно образуется новая смола, более жидкая, похожая на кровь. Она считает, что в дереве сохранилась человеческая частичка Степпа, и если правильно и терпеливо выхаживать вихрь, то, возможно, получится вернуть его в прежнюю форму или даже вернуть совсем. Я не знаю, что об этом думать, знаю только одно: месяц назад Тэ Джеркка сказал мне, что он знает случайподобной ретромор-
История сохранит в памяти, что я добралась до лагеря за двенадцать дней и что я упала, не дойдя сто метров до поселения, держа в руках ветку березы, в которой Фуския сразу разгадала своего брата. Будут рассказывать о моей любви к Степпу, как мы посадили березу и с какой заботой ухаживали за ней, чтобы дерево принялось. Я выбрала место в нескольких метрах от хижины, где мы провели последнюю ночь вместе, в его саду; будут говорить и о том, как наш сын, Йоль, в едва ли годовалом возрасте сам по траве добрался до дерева и устроился в его корнях. А еще будут говорить о моем мужестве и о том, что я отказалась от Верхнего Предела ради любви, и постараются бальзамом добрых слов залечить в моей памяти воспоминание о лице Силамфра, смотрящего нам вслед, будут снова и снова убеждать меня, что я ни за что не смогла бы отыскать Альму в лавине, которая ее унесла, когда она прокладывала для меня трассу в дефиле Клавела. Но я знаю, что они все врут, что Ороси наверняка разыскала бы ее по вибрациям вихря, что я должна была продолжать копать снег.
Я не знаю, что приключилось с остальными, с теми, кто остался там, наверху. Быть может, я когда-нибудь узнаю, мне бы так этого хотелось… Я очень люблю Фускию и маму Степпа, обожаю говорить с Мацукадзе, но мне очень не хватает нашей Орды. Я дико по ним скучаю.
Мацукадзе говорит, что лет через пять в заболони дерева возможно образуется новая смола, более жидкая, похожая на кровь. Она считает, что в дереве сохранилась человеческая частичка Степпа, и если правильно и терпеливо выхаживать вихрь, то, возможно, получится вернуть его в прежнюю форму или даже вернуть совсем. Я не знаю, что об этом думать, знаю только одно: месяц назад Тэ Джеркка сказал мне, что он знает случайподобной ретромор-
 Мы застряли, мы просто безнадежно застряли у этих чертовых Бракауэрских ворот. Мы поднялись по столбу, и, надо сказать, провели восхождение мастерски, хоть на него и потребовалось два дня чистого скалолазания. Мы были уверены, что, поднявшись наверх, сразу выйдем из цирка… Теперь мне даже вспоминать об этом смешно.
На противоположной стороне моста, прямо напротив нас, возвышались обозначавшие вход два отрога, выраставшие прямо изо льда. Между нашим бивуаком, разбитым на каменистой платформе столба и Бракауэрскими воротами, что служили выходом из цирка, было всего каких-то сто пятьдесят метров! Если не считать того, что эти сто пятьдесят метров были самыми головокружитель-
Мы застряли, мы просто безнадежно застряли у этих чертовых Бракауэрских ворот. Мы поднялись по столбу, и, надо сказать, провели восхождение мастерски, хоть на него и потребовалось два дня чистого скалолазания. Мы были уверены, что, поднявшись наверх, сразу выйдем из цирка… Теперь мне даже вспоминать об этом смешно.
На противоположной стороне моста, прямо напротив нас, возвышались обозначавшие вход два отрога, выраставшие прямо изо льда. Между нашим бивуаком, разбитым на каменистой платформе столба и Бракауэрскими воротами, что служили выходом из цирка, было всего каких-то сто пятьдесят метров! Если не считать того, что эти сто пятьдесят метров были самыми головокружитель-
 Прошло три дня. Шквальный ветер не прекращался. Мы были на грани отчаяния. Порывы ветра били по мосту под всеми мыслимыми и немыслимыми углами. С неба, снизу, сбоку. В придачу ко льду эти шквалы защищали Ворота лучше, чем любой ярветер. Наши резервы закончились. Ястребник выпускал свою птицу, но скорее просто, чтобы размять крылья. Соколы Дарбона охотились, но приносили только галок. Этого было слишком мало, чтобы накормить нас и придать сил, чтобы можно было бороться с холодом. К тому же они все время улетали к низовью, подальше от хребта, на который мы так стремились попасть, что немало говорило о силе потоков в этом месте. Когда я увидел мост, то поначалу даже удивился. Как это наши родители умудрились потерять здесь шестерых? Если не считать самой пропасти, то в чем проблема? Но мы решили не рисковать. Поклялись, что не потеряем ни единого ордийца. Это у нас пока получилось. А в остальном — три дня провала. Бездействие нас окисляло. Мы никак не могли найти решение, идею. На завтра программа была вполне тривиальная: раздобыть еду. Или пересечь мост.
Прошло три дня. Шквальный ветер не прекращался. Мы были на грани отчаяния. Порывы ветра били по мосту под всеми мыслимыми и немыслимыми углами. С неба, снизу, сбоку. В придачу ко льду эти шквалы защищали Ворота лучше, чем любой ярветер. Наши резервы закончились. Ястребник выпускал свою птицу, но скорее просто, чтобы размять крылья. Соколы Дарбона охотились, но приносили только галок. Этого было слишком мало, чтобы накормить нас и придать сил, чтобы можно было бороться с холодом. К тому же они все время улетали к низовью, подальше от хребта, на который мы так стремились попасть, что немало говорило о силе потоков в этом месте. Когда я увидел мост, то поначалу даже удивился. Как это наши родители умудрились потерять здесь шестерых? Если не считать самой пропасти, то в чем проблема? Но мы решили не рисковать. Поклялись, что не потеряем ни единого ордийца. Это у нас пока получилось. А в остальном — три дня провала. Бездействие нас окисляло. Мы никак не могли найти решение, идею. На завтра программа была вполне тривиальная: раздобыть еду. Или пересечь мост.

 Четвертый день торчим тут лицом в стену. Уже все силенки повыдохлись. Вечер себе втихаря заявился. За нами весь цирк весь этот гигантский начал натягивать свое желтое одеяло, красиво смотреть, хоть вой. У меня зубы от слюны скоро во рту рассосутся. Так клыками можно и в землю вгрызться. Я сопли свои глотал, чтоб было впечатление, что еще могу что-то проглотить, кроме собственных кишок. Атмосфера мрачненькая, ничего не скажешь, только на рожи наши скисшие глянуть чего стоит. Зубы у всех стучат, сидят все рыльниками клюют. Мы сегодня всё перепробовали. Этот понтон мне все мозги вынес. Сто шагов всего по прямой, хоп и готово! Ага… Я в первый день подумал: видали и похуже. Сопляки эта ваша 33-я, а? Как бы ни так! Эрг сегодня раз десять кряду кувыркнулся. Он со зла даже крыло свое вытащил, и это явно не лучшая идея была. Его вверх зашпулило прямо к соколам дарбоновским. Не знаю сколько он там проторчал, пока не сообразил, как назад приземлиться, руки обморозил, плечо, как, домкрат скрепит. Мы его стали расспрашивать, что там за Воротами, нам же отсюда ничего не видно. Ну так что там, Эрг, на что похоже, а? Ничего не сказал, как в рот воды набрал. Но из арбалета своего на ту сторону стрелу пустил, с веревкой на конце. Не дурак. Она когда встряла, я себе подумал: ну все, готово! Надо было теперь только веревку натянуть, и будет поручень, как положено. Мы втроем за канат дернули — рвануло в ту же секунду! Ну все, хватит мне тут мозги пудрить, кто короткую соломину вытянет, то и потащит свое сало по мосту с веревкой в заднице. Кто упал, тот упал, кто первый дошел, тот и выиграл…
Четвертый день торчим тут лицом в стену. Уже все силенки повыдохлись. Вечер себе втихаря заявился. За нами весь цирк весь этот гигантский начал натягивать свое желтое одеяло, красиво смотреть, хоть вой. У меня зубы от слюны скоро во рту рассосутся. Так клыками можно и в землю вгрызться. Я сопли свои глотал, чтоб было впечатление, что еще могу что-то проглотить, кроме собственных кишок. Атмосфера мрачненькая, ничего не скажешь, только на рожи наши скисшие глянуть чего стоит. Зубы у всех стучат, сидят все рыльниками клюют. Мы сегодня всё перепробовали. Этот понтон мне все мозги вынес. Сто шагов всего по прямой, хоп и готово! Ага… Я в первый день подумал: видали и похуже. Сопляки эта ваша 33-я, а? Как бы ни так! Эрг сегодня раз десять кряду кувыркнулся. Он со зла даже крыло свое вытащил, и это явно не лучшая идея была. Его вверх зашпулило прямо к соколам дарбоновским. Не знаю сколько он там проторчал, пока не сообразил, как назад приземлиться, руки обморозил, плечо, как, домкрат скрепит. Мы его стали расспрашивать, что там за Воротами, нам же отсюда ничего не видно. Ну так что там, Эрг, на что похоже, а? Ничего не сказал, как в рот воды набрал. Но из арбалета своего на ту сторону стрелу пустил, с веревкой на конце. Не дурак. Она когда встряла, я себе подумал: ну все, готово! Надо было теперь только веревку натянуть, и будет поручень, как положено. Мы втроем за канат дернули — рвануло в ту же секунду! Ну все, хватит мне тут мозги пудрить, кто короткую соломину вытянет, то и потащит свое сало по мосту с веревкой в заднице. Кто упал, тот упал, кто первый дошел, тот и выиграл…
 Арваль показал мне конструкцию из сжатых колец, прикрепленных на крюках на углу диэдра, ровно на восточной вершине столба. На ней еще держался кусок кожи.
Арваль показал мне конструкцию из сжатых колец, прикрепленных на крюках на углу диэдра, ровно на восточной вершине столба. На ней еще держался кусок кожи.
 За два часа до захода солнца произошло нечто совершенно невероятное: белый зверек, что-то вроде горностая с двумя веретенообразными крыльями по бокам, вдруг появился на снежном куполе над Воротами, спустился по склону и без малейших колебаний спокойно пошлепал по трапу прямо к нам! Если бы не зоркий глаз Арваля, мы бы ничего и не заметили. Зверек был размером с небольшого сервала, а значит мог служить добычей хищной птице. Дарбон в тот же миг расклобучил своих соколов и запустил их на охоту. Они тут же взмыли вверх, но как-то неуклюже, и мы скоро потеряли их из виду. Дарбон принялся свистеть их назад, нетерпеливо окрикивать и со зла топтаться на месте, но птиц сносило к низовью. Это задело его самолюбие, и он разобиженный сел на место. Обида быстро перешла в злость, а злость в уныние. Ястребник в этот момент замечтался, и мне пришлось его встряхнуть, чтоб он очнулся. Но к счастью, он оставил своего ястреба гулять по выступу, и хищник сам завидел добычу. Прибегнув к своей любимой тактике, ястреб спланировал к мосту, а затем бросился на зверя машущим полетом, как только тот его заметил. Странный зверек с впечатляющей ловкостью ушел от атаки, но, потеряв равновесие, сорвался вниз. Он пролетел с десяток метров и вдруг раскрыл крылья и за пару легких взмахов был уже на той стороне моста. Ястреб не хотел упускать добычу, но ему помешал снежный порыв, и Стреб позвал его назад, перенимая тактику охоты на себя:
— Какого размера животное? — спросил он.
За два часа до захода солнца произошло нечто совершенно невероятное: белый зверек, что-то вроде горностая с двумя веретенообразными крыльями по бокам, вдруг появился на снежном куполе над Воротами, спустился по склону и без малейших колебаний спокойно пошлепал по трапу прямо к нам! Если бы не зоркий глаз Арваля, мы бы ничего и не заметили. Зверек был размером с небольшого сервала, а значит мог служить добычей хищной птице. Дарбон в тот же миг расклобучил своих соколов и запустил их на охоту. Они тут же взмыли вверх, но как-то неуклюже, и мы скоро потеряли их из виду. Дарбон принялся свистеть их назад, нетерпеливо окрикивать и со зла топтаться на месте, но птиц сносило к низовью. Это задело его самолюбие, и он разобиженный сел на место. Обида быстро перешла в злость, а злость в уныние. Ястребник в этот момент замечтался, и мне пришлось его встряхнуть, чтоб он очнулся. Но к счастью, он оставил своего ястреба гулять по выступу, и хищник сам завидел добычу. Прибегнув к своей любимой тактике, ястреб спланировал к мосту, а затем бросился на зверя машущим полетом, как только тот его заметил. Странный зверек с впечатляющей ловкостью ушел от атаки, но, потеряв равновесие, сорвался вниз. Он пролетел с десяток метров и вдруг раскрыл крылья и за пару легких взмахов был уже на той стороне моста. Ястреб не хотел упускать добычу, но ему помешал снежный порыв, и Стреб позвал его назад, перенимая тактику охоты на себя:
— Какого размера животное? — спросил он.
 Стреб отпустил птицу, и она снова ринулась за добычей. Минутой раньше вся Орда лежала скопом на земле, кто где упал, замотанные во все что было теплого, с настроением тяжелым, как чугун, но теперь надежда заискрилась в наших глазах и поникшие головы снова потянулись наверх. Все мы, не сговариваясь, вдруг поняли, сколько зависит от исхода этой охоты. Надвигалась ночь, запасы кончились, голод рыл в животах туннели, если мы останемся без ужина, то всем нам грозит гипотермия, а шансы напасть на зверя, который мог бы накормить наши тринадцать тел были мизерные. Вернее, они были равны нулю за исключением этого посланного провидением горностая. Следовательно, будет ли у нас еда зависело от того, сможет ли Шист принести добычу.
Ястреб завис совершенно обездвиженный на уровне верхней точки в проеме Ворот, которую я в отчаянии окрестил краем Рамы — нечто вроде обрезанного горизонта, хребет, перелом, да как угодно, в общем противополож-
Стреб отпустил птицу, и она снова ринулась за добычей. Минутой раньше вся Орда лежала скопом на земле, кто где упал, замотанные во все что было теплого, с настроением тяжелым, как чугун, но теперь надежда заискрилась в наших глазах и поникшие головы снова потянулись наверх. Все мы, не сговариваясь, вдруг поняли, сколько зависит от исхода этой охоты. Надвигалась ночь, запасы кончились, голод рыл в животах туннели, если мы останемся без ужина, то всем нам грозит гипотермия, а шансы напасть на зверя, который мог бы накормить наши тринадцать тел были мизерные. Вернее, они были равны нулю за исключением этого посланного провидением горностая. Следовательно, будет ли у нас еда зависело от того, сможет ли Шист принести добычу.
Ястреб завис совершенно обездвиженный на уровне верхней точки в проеме Ворот, которую я в отчаянии окрестил краем Рамы — нечто вроде обрезанного горизонта, хребет, перелом, да как угодно, в общем противополож-
 Все мы, как один, встали и подошли к мосту. Мы стояли в наших обледеневших одеждах, сжавшись, как вязанка металлических колышков, и бились друг о друга на каждом порыве ветра. Мы были укутаны по самый нос, и лишь зеркало глаз выдавало в нас еще что-то человеческое, и в них угадывалась страшная мысль: «Если даже ястреб не в состоянии преодолеть этот хребет, то никто через него не пройдет».
Все мы, как один, встали и подошли к мосту. Мы стояли в наших обледеневших одеждах, сжавшись, как вязанка металлических колышков, и бились друг о друга на каждом порыве ветра. Мы были укутаны по самый нос, и лишь зеркало глаз выдавало в нас еще что-то человеческое, и в них угадывалась страшная мысль: «Если даже ястреб не в состоянии преодолеть этот хребет, то никто через него не пройдет».
 Стреб был словно привязан к каждому движению птицы, словно сплетен с ней уймой тончайших нитей, с каждым мельчайшим маневром, взмахом, долетавшей до нас трелью, каждым штопором, на который ястреб шел под шквальным ветром. Но бедная птица и так уже больше ни на что не решалась. Шист развернул все свои силы, поднялся вдоль невысокого заснеженного склона и стремглав бросился к хребту, где, распустив хвост и слегка наклонив крылья, попробовал прорваться через завиденную им брешь — но кривец бурлящим потоком смел его с вершины и выбросил вверх. Шист проделал три, пять, десять диких поворотов, спикировал к нам, пролетел далеко за нами, огибая Бракауэрский столб и с покрытыми инеем крыльями снова ринулся на штурм хребта машущим полетом. Он со
Стреб был словно привязан к каждому движению птицы, словно сплетен с ней уймой тончайших нитей, с каждым мельчайшим маневром, взмахом, долетавшей до нас трелью, каждым штопором, на который ястреб шел под шквальным ветром. Но бедная птица и так уже больше ни на что не решалась. Шист развернул все свои силы, поднялся вдоль невысокого заснеженного склона и стремглав бросился к хребту, где, распустив хвост и слегка наклонив крылья, попробовал прорваться через завиденную им брешь — но кривец бурлящим потоком смел его с вершины и выбросил вверх. Шист проделал три, пять, десять диких поворотов, спикировал к нам, пролетел далеко за нами, огибая Бракауэрский столб и с покрытыми инеем крыльями снова ринулся на штурм хребта машущим полетом. Он со
 Но каждый, каждый блааст тебе в руки раз, чудовищная сила хватала его за шиворот, трепала шквалом и отшвыривала, как сопливую муху.
Но каждый, каждый блааст тебе в руки раз, чудовищная сила хватала его за шиворот, трепала шквалом и отшвыривала, как сопливую муху.
 Но на этот раз, то ли по жесту, то ли по крику ястребника, Шист решил пикировать прямо. И лететь напролом. Не выискивая никаких углов по отношению к ветру, напрямую во встречный поток. Он вошел в массу крутящегося льда. Нырнул в нее, как тяжелый камень в горный ручей, и застыл на несколько секунд, круша надежды всех наших немых прогнозов.
Но на этот раз, то ли по жесту, то ли по крику ястребника, Шист решил пикировать прямо. И лететь напролом. Не выискивая никаких углов по отношению к ветру, напрямую во встречный поток. Он вошел в массу крутящегося льда. Нырнул в нее, как тяжелый камень в горный ручей, и застыл на несколько секунд, круша надежды всех наших немых прогнозов.
 А потом, значит, как сказать? Как и сразу можно было предположить, что все пойдет насмарку, резвый летун потерял сначала нормативную единицу, а затем и целых пять метров поля боя, прямо сказать, по моему скромному мнению специалиста по уточкам, дело было худо-плохо… Взгляд мой по недосмотру наткнулся на Пьетро, качавшего головой, извергающей эликсир ясности в форме «ничего у него не выйдет», на что я отвечал улыбкой. Но не будем ходить вокруг да около голубятни, тут и соколу ясно, что такое упрямство могло закончиться парой вспышек гордости у птичников. И кислая мина Дарбона, исподлобья глядевшая на своего коллегу, была этому только в подтверждение… Могу ли я сказать, чего нам ждать? Скажем, что диспропорция меж свирепостью шквалов и несгибаемой хваткой красавца Шиста, оставляла витать в небе не только птицу, но и стаю сомнений…
А потом, значит, как сказать? Как и сразу можно было предположить, что все пойдет насмарку, резвый летун потерял сначала нормативную единицу, а затем и целых пять метров поля боя, прямо сказать, по моему скромному мнению специалиста по уточкам, дело было худо-плохо… Взгляд мой по недосмотру наткнулся на Пьетро, качавшего головой, извергающей эликсир ясности в форме «ничего у него не выйдет», на что я отвечал улыбкой. Но не будем ходить вокруг да около голубятни, тут и соколу ясно, что такое упрямство могло закончиться парой вспышек гордости у птичников. И кислая мина Дарбона, исподлобья глядевшая на своего коллегу, была этому только в подтверждение… Могу ли я сказать, чего нам ждать? Скажем, что диспропорция меж свирепостью шквалов и несгибаемой хваткой красавца Шиста, оставляла витать в небе не только птицу, но и стаю сомнений…
 Ястребник трижды застрекотал высоким голосом. Потом еще два раза и еще один, протяжно, монотонно, и
Ястребник трижды застрекотал высоким голосом. Потом еще два раза и еще один, протяжно, монотонно, и
 Я был поражен, как ястребу удавалось дециметр за дециметром идти против гладкого ветра. Он был как потерявшийся горсенок, что бежал догонять остальных в шлюзе Вой-Врат. Было не совсем ясно, продолжает ли он продвигаться вперед на самом деле, но так во всяком случае казалось, и он долетел до начала хребта. Мы смогли разглядеть его, поскольку луч заходящего солнца вдруг выхватил Шиста из снежной мглы, и перья его осветились новым, полярным желто-металлическим светом, небрежно брошенным закатом на последние верхушки выступов. Ледяная крошка стегала его со всех сторон огромными вертикальными и горизонтальными лезвиями, обматывала в свои истрепанные, издырявленные ветром, белые простыни, путала в своих сетях, не давая ни отдыха, ни надежды.
Я был поражен, как ястребу удавалось дециметр за дециметром идти против гладкого ветра. Он был как потерявшийся горсенок, что бежал догонять остальных в шлюзе Вой-Врат. Было не совсем ясно, продолжает ли он продвигаться вперед на самом деле, но так во всяком случае казалось, и он долетел до начала хребта. Мы смогли разглядеть его, поскольку луч заходящего солнца вдруг выхватил Шиста из снежной мглы, и перья его осветились новым, полярным желто-металлическим светом, небрежно брошенным закатом на последние верхушки выступов. Ледяная крошка стегала его со всех сторон огромными вертикальными и горизонтальными лезвиями, обматывала в свои истрепанные, издырявленные ветром, белые простыни, путала в своих сетях, не давая ни отдыха, ни надежды.
 Никто в этот момент не мог предсказать, прорвется ли Шист вперед, войдет ли в историю как первопроходец, ограждающей линии Верховья.
Никто в этот момент не мог предсказать, прорвется ли Шист вперед, войдет ли в историю как первопроходец, ограждающей линии Верховья.
 Он застыл в зените, на самом краю цирка, пытаясь лететь примерно с таким же успехом, как плыл бы камень. Он отчаянно бил крыльями, короткими резкими взмахами, замерев в воздухе, словно подвешенная стрела. Вся Орда была вне себя от волнения. Мы забыли про холод, голод, усталость. Мы были с ним, наверху, били крыльями,
Он застыл в зените, на самом краю цирка, пытаясь лететь примерно с таким же успехом, как плыл бы камень. Он отчаянно бил крыльями, короткими резкими взмахами, замерев в воздухе, словно подвешенная стрела. Вся Орда была вне себя от волнения. Мы забыли про холод, голод, усталость. Мы были с ним, наверху, били крыльями,
 Раздался крик. Один. Неслыханный. Кол из чистого звука, пронзивший воздух до самой птицы. Даже сам Шист, несмотря на расстояние, словно подпрыгнул от удивления.
Раздался крик. Один. Неслыханный. Кол из чистого звука, пронзивший воздух до самой птицы. Даже сам Шист, несмотря на расстояние, словно подпрыгнул от удивления.
 Его кинуло вертикально вверх и затем, необъяснимым образом, без малейшего движения крыльев (насколько
Его кинуло вертикально вверх и затем, необъяснимым образом, без малейшего движения крыльев (насколько
 Я не могу тщательным образом изложить случившееся. Прошло время, неопределяемое в цифрах. Мне показалось, ястреб что-то искал. Я думаю, искал он это что-то на острие своего инстинкта, нацелив клюв и когти на незнакомую и более важную добычу, экстравагантную и менее осязаемую, чем снежные путы, менее ясную, чем разгорающийся свет. Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости, лишь следовать за местом, где откроется прорезь в давшем трещину полотне ветра, где появится брешь в холсте потока — даже и того меньше: где случится простой спад скорости, проем с чуть меньшей яростью воздуха, что, едва открывшись, сомкнется снова, если не успеть вонзиться в него в тот же миг.
Я не могу тщательным образом изложить случившееся. Прошло время, неопределяемое в цифрах. Мне показалось, ястреб что-то искал. Я думаю, искал он это что-то на острие своего инстинкта, нацелив клюв и когти на незнакомую и более важную добычу, экстравагантную и менее осязаемую, чем снежные путы, менее ясную, чем разгорающийся свет. Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости, лишь следовать за местом, где откроется прорезь в давшем трещину полотне ветра, где появится брешь в холсте потока — даже и того меньше: где случится простой спад скорости, проем с чуть меньшей яростью воздуха, что, едва открывшись, сомкнется снова, если не успеть вонзиться в него в тот же миг.
 На лице ястребника, по обыкновению спокойном и уверенном, отразилось такое напряженное волнение, словно двадцать лет упорной и ежедневной дрессировки были подвешены на тончайшие нити и держались за верхушку хребта, как эквилибрист на канате.
На лице ястребника, по обыкновению спокойном и уверенном, отразилось такое напряженное волнение, словно двадцать лет упорной и ежедневной дрессировки были подвешены на тончайшие нити и держались за верхушку хребта, как эквилибрист на канате.
 Он закрыл глаза как в молитве, как будто в поисках ответа.
Он закрыл глаза как в молитве, как будто в поисках ответа.
 Я видела, как он украдкой затаил дыхание, больше не глядя на птицу. Стреб почти отвернулся, словно знал, что ровно в этот миг (да, Сов) дрессировка, тончайшее и
Я видела, как он украдкой затаил дыхание, больше не глядя на птицу. Стреб почти отвернулся, словно знал, что ровно в этот миг (да, Сов) дрессировка, тончайшее и
 Ястребник снял шлем. У Дарбона, стоявшего рядом с ним, глаза выкатились от волнения, и вопреки всяким ожиданиям я услышал, как он прошептал:
— Он пройдет.
Ястребник снял шлем. У Дарбона, стоявшего рядом с ним, глаза выкатились от волнения, и вопреки всяким ожиданиям я услышал, как он прошептал:
— Он пройдет.
 Ястреб оставил свой машущий полет и плавным движением проскользнул в проем. Без малейшего усилия или движения прошел через стену ветра и скрылся за снежным холмом. Когда мы увидели его снова, несколько секунд спустя, он держал в когтях горностая и планирующим полетом поднес добычу хозяину.
Не знаю почему, но в это мгновение у меня было впечатление, что он принес в когтях весь Верхний Предел.
Ястреб оставил свой машущий полет и плавным движением проскользнул в проем. Без малейшего усилия или движения прошел через стену ветра и скрылся за снежным холмом. Когда мы увидели его снова, несколько секунд спустя, он держал в когтях горностая и планирующим полетом поднес добычу хозяину.
Не знаю почему, но в это мгновение у меня было впечатление, что он принес в когтях весь Верхний Предел.
 «Слушай, Ларко, если ты завтра не пойдешь и не расскажешь о своей идее, то я сама это сделаю», — сказала мне
«Слушай, Ларко, если ты завтра не пойдешь и не расскажешь о своей идее, то я сама это сделаю», — сказала мне
 Голгот взглядом потребовал подать пятидесятиметровую веревку. Эрг принес. Гот завязал коровий узел на конце и застегнул его за обвязку стоявшего смирно Ларко.
— Сейчас пример нам покажешь. Дойдешь до середины моста и ляжешь на живот. Ты не переживай, тебя ноги сами понесут. А мы хоть время выиграем.
— Моя идея не в этом заключалась…
— Твоя идея — эй, кому охота ларковский план послушать?! — это чтоб один из нас на метр прошел и лег на живот поперек моста. Второй по нему сверху проходит и через метр тоже ложится. Потом третий по этим двоим переступает и тоже ложится. Получится типа моста из человеческих тел в пятнадцать метров длиной с противоскользящей поверхностью. Потом первый встает и шагает по
Голгот взглядом потребовал подать пятидесятиметровую веревку. Эрг принес. Гот завязал коровий узел на конце и застегнул его за обвязку стоявшего смирно Ларко.
— Сейчас пример нам покажешь. Дойдешь до середины моста и ляжешь на живот. Ты не переживай, тебя ноги сами понесут. А мы хоть время выиграем.
— Моя идея не в этом заключалась…
— Твоя идея — эй, кому охота ларковский план послушать?! — это чтоб один из нас на метр прошел и лег на живот поперек моста. Второй по нему сверху проходит и через метр тоже ложится. Потом третий по этим двоим переступает и тоже ложится. Получится типа моста из человеческих тел в пятнадцать метров длиной с противоскользящей поверхностью. Потом первый встает и шагает по
 Приступ гнева? Нисколько. Голгот знал, что мы на этот замысел не решимся. Во-первых, потому что идея поступила от Ларко, во-вторых, потому что это требовало всеобщего и одновременного участия, а следовательно, найдутся несогласные, разве что если один из нас окажется на мосту в беде, и нам придется идти ему на выручку. Что мы и сделали. По правде говоря, идея Ларко заслуживала всех похвал. Разве только вот лежать и терпеть пока на тебя пятьдесят раз наступят шипами в поисках опоры, боясь угодить
Приступ гнева? Нисколько. Голгот знал, что мы на этот замысел не решимся. Во-первых, потому что идея поступила от Ларко, во-вторых, потому что это требовало всеобщего и одновременного участия, а следовательно, найдутся несогласные, разве что если один из нас окажется на мосту в беде, и нам придется идти ему на выручку. Что мы и сделали. По правде говоря, идея Ларко заслуживала всех похвал. Разве только вот лежать и терпеть пока на тебя пятьдесят раз наступят шипами в поисках опоры, боясь угодить
 Я первым оказался на том берегу, но ждал пока доберутся остальные, чтобы всем вместе взобраться на снежный холм и наконец увидеть, что за ним. Караколь, как обычно, строил гипотезы и множил предположения.
— Ну и что там за этой горкой? — подыгрывал ему Тальвег.
— Бог камня и горных пород, который хочет с тобой пообниматься!
— Вот меня что в тебе удивляет, Карак, так это то, что весь наш контр, весь наш путь, для тебя можно подумать просто прогулка и лишний повод подурачиться!
— Примерно так оно и есть. Если не учитывать того, что завтра я умру…
— Опять? — сыронизировал Тальвег. — Ты уже несколько недель кряду умираешь!
— Я бы даже сказал целых сорок лет! Все со дня на день… — и Караколь окинул взглядом холм, который отделял нас от будущего. Он был разочарован отсутствием реакции с нашей стороны. И, признаюсь, я не сразу понял, что это было от того, что он говорил правду. Он посмотрел на Голгота, на Арваля, что карабкался по снежной шапке и вернулся к вопросу Тальвега, чего не делал никогда.
— Говоришь: «Опять?» Ну да, опять, если хотите! А ведь это было бы прекрасной темой для беседы: сколько раз в жизни нам грозит умереть. Но для меня, веришь ли, это впервые… А для тебя, дружок Тальвег?
— Ты подразумеваешь, что я тоже должен завтра умереть? — спросил неспокойным голосом Тальвег пару секунд спустя.
Мы начали подниматься на холм.
— Я ничего не подразумеваю. Я разумею вслух.
(обратно)
Я первым оказался на том берегу, но ждал пока доберутся остальные, чтобы всем вместе взобраться на снежный холм и наконец увидеть, что за ним. Караколь, как обычно, строил гипотезы и множил предположения.
— Ну и что там за этой горкой? — подыгрывал ему Тальвег.
— Бог камня и горных пород, который хочет с тобой пообниматься!
— Вот меня что в тебе удивляет, Карак, так это то, что весь наш контр, весь наш путь, для тебя можно подумать просто прогулка и лишний повод подурачиться!
— Примерно так оно и есть. Если не учитывать того, что завтра я умру…
— Опять? — сыронизировал Тальвег. — Ты уже несколько недель кряду умираешь!
— Я бы даже сказал целых сорок лет! Все со дня на день… — и Караколь окинул взглядом холм, который отделял нас от будущего. Он был разочарован отсутствием реакции с нашей стороны. И, признаюсь, я не сразу понял, что это было от того, что он говорил правду. Он посмотрел на Голгота, на Арваля, что карабкался по снежной шапке и вернулся к вопросу Тальвега, чего не делал никогда.
— Говоришь: «Опять?» Ну да, опять, если хотите! А ведь это было бы прекрасной темой для беседы: сколько раз в жизни нам грозит умереть. Но для меня, веришь ли, это впервые… А для тебя, дружок Тальвег?
— Ты подразумеваешь, что я тоже должен завтра умереть? — спросил неспокойным голосом Тальвег пару секунд спустя.
Мы начали подниматься на холм.
— Я ничего не подразумеваю. Я разумею вслух.
(обратно)
 Нам оставалось сделать всего несколько шагов, которые я проделал с крайней осторожностью, аккуратно переставляя ноги со ступени на ступень. Склон был обращен на запад, время было утреннее, и солнце еще не успело растопить потрескивающий под шипами лед. Я в этот момент, как, думаю, и все мы, испытывал возбуждение, граничащее с эйфорией. Я не ждал ничего определенного, или, вернее, ждал всего. Первое, что я увидел, выйдя на вершину, был Арваль, стоявший на коленях лицом к низовью, осенявший себя тройным крестным кругом; на нем лица не было. Чуть поодаль стоял, закрывая лицо руками Голгот вместе с Эргом. Рядом, в пол-оборота билась в слезах Ороси, словно перепутанный мотылек, угодивший в паутину.
— Святая матерь всех Голготов!
— Сов…
Я подошел и стал рядом с Ороси, по спине у меня пробежал нервный холодок, я поднял голову и решился принять ожидавший меня удар. Первое впечатление было такое, будто меня поглотило открывшееся пространство.
Нам оставалось сделать всего несколько шагов, которые я проделал с крайней осторожностью, аккуратно переставляя ноги со ступени на ступень. Склон был обращен на запад, время было утреннее, и солнце еще не успело растопить потрескивающий под шипами лед. Я в этот момент, как, думаю, и все мы, испытывал возбуждение, граничащее с эйфорией. Я не ждал ничего определенного, или, вернее, ждал всего. Первое, что я увидел, выйдя на вершину, был Арваль, стоявший на коленях лицом к низовью, осенявший себя тройным крестным кругом; на нем лица не было. Чуть поодаль стоял, закрывая лицо руками Голгот вместе с Эргом. Рядом, в пол-оборота билась в слезах Ороси, словно перепутанный мотылек, угодивший в паутину.
— Святая матерь всех Голготов!
— Сов…
Я подошел и стал рядом с Ороси, по спине у меня пробежал нервный холодок, я поднял голову и решился принять ожидавший меня удар. Первое впечатление было такое, будто меня поглотило открывшееся пространство.
 Это и правда был кратер. Гигантский овальный кратер. С головокружительными склонами. Перейти его было совершенно немыслимо. Даже спуск не представлялся осуществимым, что уж говорить о подъеме! Нужно будет идти по кромке очень, очень осторожно, Пьетро. Отец тебя предупреждал.
Но меня в первую очередь путал даже не рельеф, а поверхность… Отец говорил, что это лед. Но это был не лед, папа, отнюдь не лед. Нечто другое — чище, тверже. Три серых конуса в центре кратера были почти прозрачными. Они мерцали. Дно кратера словно остекленело. Его затянуло толстым слоем стекла. Вся поверхность сверкала. Солнечные лучи преломлялись под разными углами падения. Застывшие пятна воды, неподвижные потоки. Голубые заледенелые жилы. Схватившиеся льдом ручьи. Чуть выше на склонах виднелся снег. И я был ему почти что рад.
Это и правда был кратер. Гигантский овальный кратер. С головокружительными склонами. Перейти его было совершенно немыслимо. Даже спуск не представлялся осуществимым, что уж говорить о подъеме! Нужно будет идти по кромке очень, очень осторожно, Пьетро. Отец тебя предупреждал.
Но меня в первую очередь путал даже не рельеф, а поверхность… Отец говорил, что это лед. Но это был не лед, папа, отнюдь не лед. Нечто другое — чище, тверже. Три серых конуса в центре кратера были почти прозрачными. Они мерцали. Дно кратера словно остекленело. Его затянуло толстым слоем стекла. Вся поверхность сверкала. Солнечные лучи преломлялись под разными углами падения. Застывшие пятна воды, неподвижные потоки. Голубые заледенелые жилы. Схватившиеся льдом ручьи. Чуть выше на склонах виднелся снег. И я был ему почти что рад.
 Я достал из сумки треногу и секстант, сделал несколько подсчетов. Вытянутый с востока на запад эллипс идеальной формы. Двенадцать километров в ширину. Двадцать один в длину. Перепад высот от бортика кратера до
Я достал из сумки треногу и секстант, сделал несколько подсчетов. Вытянутый с востока на запад эллипс идеальной формы. Двенадцать километров в ширину. Двадцать один в длину. Перепад высот от бортика кратера до
 Я, конечно, все слышала, но к чему нагнетать атмосферу еще больше? Они и так были потрясены увиденным и пока еще не вполне отдавали себе отчет в том, что нам предстояло. Караколь все сразу понял. Он держался в стороне от обрыва, подальше от нараставших с каждой минутой терминов. Я спрятала назад аэротор, мамин подарок, — пока было рано им пользоваться, к тому же я хотела сначала все прочувствовать, перед тем как замерять. Пользуясь тем, что бриз был еще относительно стабильным, Эрг развернул крыло, и, пролетая по внутренней стороне бортика, стал изучать стенки кратера в поисках выступов, в надежде на проход по косой. Эрг, осторожнее… Первый короткий термический поток сотряс воздух…
— Эрг, давай назад!
Он отреагировал незамедлительно. Он тоже почувствовал термик. Но внезапный порыв ветра подхватил его в конечной фазе приземления и швырнул кувырком
Я, конечно, все слышала, но к чему нагнетать атмосферу еще больше? Они и так были потрясены увиденным и пока еще не вполне отдавали себе отчет в том, что нам предстояло. Караколь все сразу понял. Он держался в стороне от обрыва, подальше от нараставших с каждой минутой терминов. Я спрятала назад аэротор, мамин подарок, — пока было рано им пользоваться, к тому же я хотела сначала все прочувствовать, перед тем как замерять. Пользуясь тем, что бриз был еще относительно стабильным, Эрг развернул крыло, и, пролетая по внутренней стороне бортика, стал изучать стенки кратера в поисках выступов, в надежде на проход по косой. Эрг, осторожнее… Первый короткий термический поток сотряс воздух…
— Эрг, давай назад!
Он отреагировал незамедлительно. Он тоже почувствовал термик. Но внезапный порыв ветра подхватил его в конечной фазе приземления и швырнул кувырком
 Я постепенно начинал привыкать к гигантским размерам пейзажа и чуть лучше фильтровать стресс нереальности, внушаемой этим местом, как вдруг в середине кратера, далеко-далеко, в самом низу, взорвалась ледяная шапка жерловины! Обломок серака взмыл вверх до самого гребня, а затем рухнул вниз в ледяную котловину со звуком стальной ягоды, падающей на кафельный пол. Гигантская трещина пробежала по ледяному дну кратера, выпуская на поверхность скрипящий, режущий выброс жестких осколков. Слуховая камера, окруженная стенками кратера, была настолько хорошо защищена от рассеивания звука, что он поднялся к нам нетронутым, прокатившись волной по нашим костям. От силы тектонических волн глухие лавины раскатились по ободу кратера единым фантастическим потоком. Ороси схватила меня за руку и стала оттягивать всех нас назад, говоря привязаться для страховки. Арваль остался один, в сотне метров, у самого края котловины, созерцая феномен.
— Арваль, отойди! Слышишь? Отойди! — закричала она.
— Иди сюда, Светлячок!
— Там опасно!
— Да отойди же ты, ради бога!
Он рысцой направился к нам вдоль бортика кратера, с улыбкой на устах, полный энтузиазма, но вдруг откуда ни возьмись налетел шквальный ветер. Он с ревом поднимался из самого центра кратера. Мы упали там, куда успели добежать, и как можно крепче рефлекторно врылись в землю. Я видел, как чудовищная масса лавины, летевшая вниз по южной стенке кратера, вдруг зависла на середине
Я постепенно начинал привыкать к гигантским размерам пейзажа и чуть лучше фильтровать стресс нереальности, внушаемой этим местом, как вдруг в середине кратера, далеко-далеко, в самом низу, взорвалась ледяная шапка жерловины! Обломок серака взмыл вверх до самого гребня, а затем рухнул вниз в ледяную котловину со звуком стальной ягоды, падающей на кафельный пол. Гигантская трещина пробежала по ледяному дну кратера, выпуская на поверхность скрипящий, режущий выброс жестких осколков. Слуховая камера, окруженная стенками кратера, была настолько хорошо защищена от рассеивания звука, что он поднялся к нам нетронутым, прокатившись волной по нашим костям. От силы тектонических волн глухие лавины раскатились по ободу кратера единым фантастическим потоком. Ороси схватила меня за руку и стала оттягивать всех нас назад, говоря привязаться для страховки. Арваль остался один, в сотне метров, у самого края котловины, созерцая феномен.
— Арваль, отойди! Слышишь? Отойди! — закричала она.
— Иди сюда, Светлячок!
— Там опасно!
— Да отойди же ты, ради бога!
Он рысцой направился к нам вдоль бортика кратера, с улыбкой на устах, полный энтузиазма, но вдруг откуда ни возьмись налетел шквальный ветер. Он с ревом поднимался из самого центра кратера. Мы упали там, куда успели добежать, и как можно крепче рефлекторно врылись в землю. Я видел, как чудовищная масса лавины, летевшая вниз по южной стенке кратера, вдруг зависла на середине

 Извержение продлилось с полминуты, не больше. Но как же было страшно… Я боялась, что мы недостаточно далеко отошли. Линию гребня снесло на полтора метра. Арваль задохнулся от распыленности частиц еще до того, как его накрыло обратной лавиной. Он не успел испугаться. Это была внезапная смерть без мучений… Светлячок, почему он? Он избежал стольких смертельных опасностей за свою жизнь! У него был темперамент истинного первооткрывателя, у него был нюх! Я его обожала. В нем было больше животного начала, чем во всех нас, он обладал немыслимой интуицией… Но в этот раз не почувствовал опасности. Это я виновата. Я должна была ему сказать, предупредить, он бы отошел. Нужно всем было сказать с самого начала, даже еще до Бракауэра. Сразу,
Извержение продлилось с полминуты, не больше. Но как же было страшно… Я боялась, что мы недостаточно далеко отошли. Линию гребня снесло на полтора метра. Арваль задохнулся от распыленности частиц еще до того, как его накрыло обратной лавиной. Он не успел испугаться. Это была внезапная смерть без мучений… Светлячок, почему он? Он избежал стольких смертельных опасностей за свою жизнь! У него был темперамент истинного первооткрывателя, у него был нюх! Я его обожала. В нем было больше животного начала, чем во всех нас, он обладал немыслимой интуицией… Но в этот раз не почувствовал опасности. Это я виновата. Я должна была ему сказать, предупредить, он бы отошел. Нужно всем было сказать с самого начала, даже еще до Бракауэра. Сразу,
 Утро было в самом разгаре. Солнце светило вовсю. Но это была единственная хорошая новость. Голгот дождался, пока в лагере установится относительный порядок. Ороси настояла на том, чтобы устроиться на верхушке купола и наблюдать за кратером. Он выглядел спокойным и совершенно безобидным, ровно как до взрыва.
— Так, ладно, я сервала за хвост тянуть не буду, — начал Голгот. — Я себя как в трясине чувствую, до меня сейчас туго доходит. Мне одно понятно: перед нами кратер подрывной и как через него перебраться я ума не приложу. А если в обход по гребню идти, то тут крылья нужны, чтоб вовремя в космос драпануть, только нас такому не учили… В общем, если кто из вас что-то умное сказать может, то валяйте…
Утро было в самом разгаре. Солнце светило вовсю. Но это была единственная хорошая новость. Голгот дождался, пока в лагере установится относительный порядок. Ороси настояла на том, чтобы устроиться на верхушке купола и наблюдать за кратером. Он выглядел спокойным и совершенно безобидным, ровно как до взрыва.
— Так, ладно, я сервала за хвост тянуть не буду, — начал Голгот. — Я себя как в трясине чувствую, до меня сейчас туго доходит. Мне одно понятно: перед нами кратер подрывной и как через него перебраться я ума не приложу. А если в обход по гребню идти, то тут крылья нужны, чтоб вовремя в космос драпануть, только нас такому не учили… В общем, если кто из вас что-то умное сказать может, то валяйте…
 Он встал и высморкался в снег. Ороси, как мне показалось, была рада, что поле для разговора чистое. Она завязала черную копну волос, сняла куртку и повесила ее просушить на солнце. Она была очень красива в этом черном свитере. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и, немного грустно улыбнувшись, сказала:
— Я должна вам кое-что объяснить, — начала она и все сразу обратились в слух, — но сначала должна перед вами извиниться, пусть теперь это все и напрасно. Я знала, что нас ждет, но не осмелилась вам сказать. Я хотела вас уберечь. Моя мама…
— И была права! — отрезал Голгот. — Пьетро вон тоже был в курсе и все равно оклематься не может!
— Пьетро, что тебе сказал отец?
Он встал и высморкался в снег. Ороси, как мне показалось, была рада, что поле для разговора чистое. Она завязала черную копну волос, сняла куртку и повесила ее просушить на солнце. Она была очень красива в этом черном свитере. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и, немного грустно улыбнувшись, сказала:
— Я должна вам кое-что объяснить, — начала она и все сразу обратились в слух, — но сначала должна перед вами извиниться, пусть теперь это все и напрасно. Я знала, что нас ждет, но не осмелилась вам сказать. Я хотела вас уберечь. Моя мама…
— И была права! — отрезал Голгот. — Пьетро вон тоже был в курсе и все равно оклематься не может!
— Пьетро, что тебе сказал отец?
 Кориолис встала немного отдышаться. Для нее это было слишком. Ларко на вид было не лучше, он весь побелел. Единственный, кто улыбался, к тому же широко, был Голгот. Он и подбил меня продолжать.
— А вторая группа что? Тоже под воздушного змея заделалась?
— Нет, они зарылись в снег на своей платформе. Бортик укрытия защитил их от несущегося снизу ветра, правда всего на пару минут, потому что карниз скоро сдуло. Но у них все-таки получилось подняться по склону и забиться в нишу.Только ветер быстро ее забил снегом, и они оказались в ледяной ловушке. Они практически не могли дышать.
— Почему?
— Из-за компрессии, нехватки воздуха, холода. Их замуровало в ледяной гроб. Они выжили, но гипотермия у них была настолько сильная, что им пришлось ампутиро-
Кориолис встала немного отдышаться. Для нее это было слишком. Ларко на вид было не лучше, он весь побелел. Единственный, кто улыбался, к тому же широко, был Голгот. Он и подбил меня продолжать.
— А вторая группа что? Тоже под воздушного змея заделалась?
— Нет, они зарылись в снег на своей платформе. Бортик укрытия защитил их от несущегося снизу ветра, правда всего на пару минут, потому что карниз скоро сдуло. Но у них все-таки получилось подняться по склону и забиться в нишу.Только ветер быстро ее забил снегом, и они оказались в ледяной ловушке. Они практически не могли дышать.
— Почему?
— Из-за компрессии, нехватки воздуха, холода. Их замуровало в ледяной гроб. Они выжили, но гипотермия у них была настолько сильная, что им пришлось ампутиро-
 Я, как и все остальные, был буквально прибит глубиной познаний Ороси и даже почти завидовал ей. Тальвег взял осколок размером с большой палец руки и, открыв палатку, выставил его на свет, чтобы рассмотреть на открытом воздухе. Затем он вынул свой стальной молоток и провел по нему алмазом — появилась царапина. Караколь, всегда приводивший всех в недоумение своей ловкостью рук, выхватил у него алмаз, и, напустив на себя вид эксперта по драгоценным камням, заявил:
— Все это ветром надуло…
Он зажал алмаз между большим и указательным пальцами, и подул на него. Раздался звон кристалла и воздушный камень испарился. Молодец, Карак! Справился! Разочарование расползлось по нашим улыбкам, и ни одна рука не дрогнула хлопком аплодисментов. Караколю оставалось лишь исполнить одинокий реверанс перед безмолвной публикой.
Извержение подошло к концу, и все мы высыпали из палатки наружу. В сотне метров от нас Горст увидел стеклянный куб, и побежал за ним, решив устроить себе настоящий трон. Тот оказался неожиданно тяжелым и Горст потащил его, оперев о живот. Он утрамбовал снег, поставил куб и сел на него, когда подошла Кориолис и с самой неотразимой улыбкой попросила уступить ей место. Куб
Я, как и все остальные, был буквально прибит глубиной познаний Ороси и даже почти завидовал ей. Тальвег взял осколок размером с большой палец руки и, открыв палатку, выставил его на свет, чтобы рассмотреть на открытом воздухе. Затем он вынул свой стальной молоток и провел по нему алмазом — появилась царапина. Караколь, всегда приводивший всех в недоумение своей ловкостью рук, выхватил у него алмаз, и, напустив на себя вид эксперта по драгоценным камням, заявил:
— Все это ветром надуло…
Он зажал алмаз между большим и указательным пальцами, и подул на него. Раздался звон кристалла и воздушный камень испарился. Молодец, Карак! Справился! Разочарование расползлось по нашим улыбкам, и ни одна рука не дрогнула хлопком аплодисментов. Караколю оставалось лишь исполнить одинокий реверанс перед безмолвной публикой.
Извержение подошло к концу, и все мы высыпали из палатки наружу. В сотне метров от нас Горст увидел стеклянный куб, и побежал за ним, решив устроить себе настоящий трон. Тот оказался неожиданно тяжелым и Горст потащил его, оперев о живот. Он утрамбовал снег, поставил куб и сел на него, когда подошла Кориолис и с самой неотразимой улыбкой попросила уступить ей место. Куб
 Эрг решил рискнуть и перелететь над вулканом. Говорит, сможет вовремя выскочить из кратера, если начнется извержение. С крылом и пропеллерами на ногах полет туда-обратно должен занять не больше часа. Он будет держаться северного хребта, по возможности. Его задача — определить те редкие места, где хребет расширяется достаточно, чтобы можно было разбить лагерь для передышки. Ороси была права: кратер был словно подвешен в воздухе. Чем дальше по линии хребта, тем отвеснее становился внешний склон. А потому за редким исключением идти можно было только по внутреннему краю кратера.
Кориолис дали задание построить укрепление в виде стенок из спрессованного снега для нашего базового лагеря. Дарбон и Стреб остались с ней, их задача была запустить птиц к низовью. И чтобы те вернулись с добычей! Ларко пошел рыбачить со своей клеткой к югу от лагеря. Для рыбалки годился совсем небольшой участок. Поверхность холма была широкой только к западу, откуда мы пришли, но чуть дальше влево и вправо снежная равнина быстро сужалась до размеров лезвия. Но голову даю, он все равно изловит нам пару медуз.
Нас с Горстом и Голготом определили копать одиночные окопы каждые сто метров. Сначала нужно вырыть яму, а потом укрепить ее, утрамбовав снег по всему цилиндру. В случае извержения мы тогда все будем не далее, чем в пятидесяти метрах от укрытия. Идея Ороси, разумеется.
Эрг решил рискнуть и перелететь над вулканом. Говорит, сможет вовремя выскочить из кратера, если начнется извержение. С крылом и пропеллерами на ногах полет туда-обратно должен занять не больше часа. Он будет держаться северного хребта, по возможности. Его задача — определить те редкие места, где хребет расширяется достаточно, чтобы можно было разбить лагерь для передышки. Ороси была права: кратер был словно подвешен в воздухе. Чем дальше по линии хребта, тем отвеснее становился внешний склон. А потому за редким исключением идти можно было только по внутреннему краю кратера.
Кориолис дали задание построить укрепление в виде стенок из спрессованного снега для нашего базового лагеря. Дарбон и Стреб остались с ней, их задача была запустить птиц к низовью. И чтобы те вернулись с добычей! Ларко пошел рыбачить со своей клеткой к югу от лагеря. Для рыбалки годился совсем небольшой участок. Поверхность холма была широкой только к западу, откуда мы пришли, но чуть дальше влево и вправо снежная равнина быстро сужалась до размеров лезвия. Но голову даю, он все равно изловит нам пару медуз.
Нас с Горстом и Голготом определили копать одиночные окопы каждые сто метров. Сначала нужно вырыть яму, а потом укрепить ее, утрамбовав снег по всему цилиндру. В случае извержения мы тогда все будем не далее, чем в пятидесяти метрах от укрытия. Идея Ороси, разумеется.
 Когда послышались первые глухие посвистывания ветра, я сразу поднял желтый флажок, привязанный к концу палки, и подошел к краю. Под непрерывными стеклянными потоками там и тут виднелись темно-синие пятнышки, расходившиеся друг от друга все дальше. Эрг был всего лишь точечкой на другом конце вулкана, он начинал обратный путь по южному хребту. Я вытащил из сумки рог и подал три длинных и два коротких сигнала — тревога второго уровня. Я заколебался, не хотел разводить панику, но наверняка нужно было давать красный сигнал.
Когда послышались первые глухие посвистывания ветра, я сразу поднял желтый флажок, привязанный к концу палки, и подошел к краю. Под непрерывными стеклянными потоками там и тут виднелись темно-синие пятнышки, расходившиеся друг от друга все дальше. Эрг был всего лишь точечкой на другом конце вулкана, он начинал обратный путь по южному хребту. Я вытащил из сумки рог и подал три длинных и два коротких сигнала — тревога второго уровня. Я заколебался, не хотел разводить панику, но наверняка нужно было давать красный сигнал.
 Первый шквал — сплошной блааст силой в 8–9 баллов — задел меня в траншее. Я стояла на коленях с ротофрезерным станком в руках, теряющим мощность оборотов. Я наклонила голову к земле и подождала, пока пройдет волна, затем снова вскинула на плечо станок, подставив отверстие инструмента под поток, подождала, когда сожмется воздух, и снова нырнула в траншею. Станок проделал еще тридцать сантиметров в толще снега и льда. Теперь можно было держаться на корточках. Аэросферическое давление изменилось очень быстро. Воздух начал становиться жидким. Я вдохнула последний глоток ледяного воздуха, замедлила сердцебиение, и подготовилась задержать дыхание. Новый поток еще не начался, и я рискнула выглянуть из своего укрытия. Обомлев, я увидела, что Караколь и Тальвег бегут ко мне! Они не успели вырыть
Первый шквал — сплошной блааст силой в 8–9 баллов — задел меня в траншее. Я стояла на коленях с ротофрезерным станком в руках, теряющим мощность оборотов. Я наклонила голову к земле и подождала, пока пройдет волна, затем снова вскинула на плечо станок, подставив отверстие инструмента под поток, подождала, когда сожмется воздух, и снова нырнула в траншею. Станок проделал еще тридцать сантиметров в толще снега и льда. Теперь можно было держаться на корточках. Аэросферическое давление изменилось очень быстро. Воздух начал становиться жидким. Я вдохнула последний глоток ледяного воздуха, замедлила сердцебиение, и подготовилась задержать дыхание. Новый поток еще не начался, и я рискнула выглянуть из своего укрытия. Обомлев, я увидела, что Караколь и Тальвег бегут ко мне! Они не успели вырыть
 Началась новая, ни в чем не походившая на предыдущую фаза извержения. На этот раз не было ни лавин, ни выбросов твердых пород, а только ветер, чистый ветер, так мне во всяком случае в начале показалось с места, где я находился, но до того, по слуховым и визуальным ощущениям жидкого потока, поднимающегося по стенкам кратера, я понял, что происходит на самом деле. Они были метрах в сорока от укрытия Ороси, не более. Тальвег, ослепленный метелью, бежал впереди. Тело его содрогалось от налетавших порывов, и он старался держаться внутренней части кратера, в страхе, что его унесет в бездну по ту сторону хребта. Караколь шел, запрокинув голову вверх, и, казалось, даже не торопился — и в этот миг ветер вошел в свою седьмую форму.
Началась новая, ни в чем не походившая на предыдущую фаза извержения. На этот раз не было ни лавин, ни выбросов твердых пород, а только ветер, чистый ветер, так мне во всяком случае в начале показалось с места, где я находился, но до того, по слуховым и визуальным ощущениям жидкого потока, поднимающегося по стенкам кратера, я понял, что происходит на самом деле. Они были метрах в сорока от укрытия Ороси, не более. Тальвег, ослепленный метелью, бежал впереди. Тело его содрогалось от налетавших порывов, и он старался держаться внутренней части кратера, в страхе, что его унесет в бездну по ту сторону хребта. Караколь шел, запрокинув голову вверх, и, казалось, даже не торопился — и в этот миг ветер вошел в свою седьмую форму.
 Воздух, скажем прямо, чтобы сразу прояснить ситуацию, перейти через черту и не оставаться на поверхности вещей, становился действительно жидким — не как вода, прошу заметить, и даже не как дождь в тоскливый шунский день в тени на берегах Лапсана, он становился жидким, словно жидкий воздух, именно так, а значит, был скорее холодноват, так как в минус двести с чем-то градусов дышать становится тяжеловато полной грудью, так сказать, разве если кто решит внутри себя отлить нагрудник из чистого стекла, а, кстати говоря, чем плоха идея? Но в общем-то меня особенно все это не смущает, как автохрону мне скорей грозит замедление тайком, в груди —
Воздух, скажем прямо, чтобы сразу прояснить ситуацию, перейти через черту и не оставаться на поверхности вещей, становился действительно жидким — не как вода, прошу заметить, и даже не как дождь в тоскливый шунский день в тени на берегах Лапсана, он становился жидким, словно жидкий воздух, именно так, а значит, был скорее холодноват, так как в минус двести с чем-то градусов дышать становится тяжеловато полной грудью, так сказать, разве если кто решит внутри себя отлить нагрудник из чистого стекла, а, кстати говоря, чем плоха идея? Но в общем-то меня особенно все это не смущает, как автохрону мне скорей грозит замедление тайком, в груди —
 Пошел отток, за ним второй. Я выглянула из укрытия и подняла визор на шлеме. Тальвег был от меня всего лишь в пятнадцати метрах, но мне потребовалось какое-то абсурдное количество секунд, чтобы понять, что он больше не двигался. Правая его нога была впереди, торс наклонен вперед, а лицо выражало непоколебимую решимость. Но он в буквальном смысле остекленел. Я вдруг услышала, поняла именно по звуку, что на нас со дна кратера движется залп высокой плотности. От исходивших от него волн, сотрясающих воздух, тело Тальвега взорвалось на мелкие осколки и разлетелось по ледяным просторам.
Пошел отток, за ним второй. Я выглянула из укрытия и подняла визор на шлеме. Тальвег был от меня всего лишь в пятнадцати метрах, но мне потребовалось какое-то абсурдное количество секунд, чтобы понять, что он больше не двигался. Правая его нога была впереди, торс наклонен вперед, а лицо выражало непоколебимую решимость. Но он в буквальном смысле остекленел. Я вдруг услышала, поняла именно по звуку, что на нас со дна кратера движется залп высокой плотности. От исходивших от него волн, сотрясающих воздух, тело Тальвега взорвалось на мелкие осколки и разлетелось по ледяным просторам.
 Караколь был по-прежнему жив, он шел, пританцовывая по линии хребта мне навстречу. Он ступил шаг, затем другой, легкий, невесомый, и его лодыжки вдруг растворились в воздухе, а вместе в ними куда-то исчезло и плечо, и фрагменты лица, словно стертые ветром, за ними бедра, почти целиком, и вот он вышел из своей одежды, что осталась болтаться у него за спиной на ветру, словно наконец решил пройти сквозь нее… Он быстрым и легким скачком приблизился ко мне, он был всего в пяти метрах, у него почти исчезло тело, но это все еще был он, я видела это по лукавому взгляду, по складке не сходящей с щеки улыбки, по живой копне светлых кудрей, что еще цеплялась за человеческий облик, который он принял и так долго берег. Но под ним теперь виднелись все тайны восхитительной архитектуры ветра, что была его остовом все эти десятки,
Караколь был по-прежнему жив, он шел, пританцовывая по линии хребта мне навстречу. Он ступил шаг, затем другой, легкий, невесомый, и его лодыжки вдруг растворились в воздухе, а вместе в ними куда-то исчезло и плечо, и фрагменты лица, словно стертые ветром, за ними бедра, почти целиком, и вот он вышел из своей одежды, что осталась болтаться у него за спиной на ветру, словно наконец решил пройти сквозь нее… Он быстрым и легким скачком приблизился ко мне, он был всего в пяти метрах, у него почти исчезло тело, но это все еще был он, я видела это по лукавому взгляду, по складке не сходящей с щеки улыбки, по живой копне светлых кудрей, что еще цеплялась за человеческий облик, который он принял и так долго берег. Но под ним теперь виднелись все тайны восхитительной архитектуры ветра, что была его остовом все эти десятки,
 — Брось, Ларко, брось клетку!
— Там медуза внутри!
— Брось, тебе говорят, тебя вместе с ней сейчас унесет!
— Брось, Ларко, брось клетку!
— Там медуза внутри!
— Брось, тебе говорят, тебя вместе с ней сейчас унесет!
 Он не хотел возвращаться с пустыми руками, хотел выйти молодцом. Но клетка тянула его вверх, отрывала от земли, как бы он ни сопротивлялся.
— Сов, помоги мне!
Ларко ни в какую не хотел бросать клетку, я хваталась за него, как могла, но его то отрывало от земли на метр и швыряло вниз, то снова поднимало в воздух, то тащило по земле. Со щупальцев медузы, через прутья, стекала жидкость. Медуза была еще жива и то всасывала воздух, то выпускала его…
Он не хотел возвращаться с пустыми руками, хотел выйти молодцом. Но клетка тянула его вверх, отрывала от земли, как бы он ни сопротивлялся.
— Сов, помоги мне!
Ларко ни в какую не хотел бросать клетку, я хваталась за него, как могла, но его то отрывало от земли на метр и швыряло вниз, то снова поднимало в воздух, то тащило по земле. Со щупальцев медузы, через прутья, стекала жидкость. Медуза была еще жива и то всасывала воздух, то выпускала его…
 Не знаю, как я его вычислил. Привычка. Я шел прямиком на лагерь с облета вулкана. Довольный, что остался жив. Я от извержения вовремя на два километра на север ушел. А тут точка в поле зрения. Узнал его по красной куртке. Не зря он такую хотел. «Вы меня так быстрее в лавине отыщите», ну или что-то в этом роде, в духе Ларко, короче. Ну я по цвету и узнал. Он хватанул тепловой поток в конце извержения и его стрелой вверх понесло. Заледенеет. Внизу. Стрелка на девять. На краю хребта. Кориолис. Разумеется. Принцесса стоит, при формах, та еще штучка. Я согнул колени, поднял винты в позицию и вошел в термик…
— Держись, Ларкон!
Но только он меня не слышит, вертит головой во все стороны. Решил, что уже в раю, что ли? Над головой у него
Не знаю, как я его вычислил. Привычка. Я шел прямиком на лагерь с облета вулкана. Довольный, что остался жив. Я от извержения вовремя на два километра на север ушел. А тут точка в поле зрения. Узнал его по красной куртке. Не зря он такую хотел. «Вы меня так быстрее в лавине отыщите», ну или что-то в этом роде, в духе Ларко, короче. Ну я по цвету и узнал. Он хватанул тепловой поток в конце извержения и его стрелой вверх понесло. Заледенеет. Внизу. Стрелка на девять. На краю хребта. Кориолис. Разумеется. Принцесса стоит, при формах, та еще штучка. Я согнул колени, поднял винты в позицию и вошел в термик…
— Держись, Ларкон!
Но только он меня не слышит, вертит головой во все стороны. Решил, что уже в раю, что ли? Над головой у него
 Эрг его спас! Он его спас! Поймал на лассо, прямо на лету! Поверить не могу! С ума сойти, что он умеет вытворять на своем параплане! Он опустил Ларко на землю и сам рядом приземлился. Я сразу к ним бросилась, я так испугалась, ужас просто как я —
— Ты его…
— Такое случается, Кориолис…
— Я думала, что ты его…
— Что я, по-твоему, должен был сделать? Дать ему рухнуть камнем вниз с двухсот метров?
Эрг его спас! Он его спас! Поймал на лассо, прямо на лету! Поверить не могу! С ума сойти, что он умеет вытворять на своем параплане! Он опустил Ларко на землю и сам рядом приземлился. Я сразу к ним бросилась, я так испугалась, ужас просто как я —
— Ты его…
— Такое случается, Кориолис…
— Я думала, что ты его…
— Что я, по-твоему, должен был сделать? Дать ему рухнуть камнем вниз с двухсот метров?
 Гарпун ему пробил грудную клетку. Он ко мне лицом был повернут. Я в лучшем случае мог ему в бедро попасть. Но я старею, это факт. В бою с Силеном я бы так не промахнулся. Но время идет. Теперь вместо спасенья — стыд. Но мне не перед Ларко стыдно, он бы здесь все равно долго не протянул, это и так чувствовалось. А вот перед ней стыдно. Да и еды он нам ловил как-никак. Кривой ветер… Да и любили у нас его вообще. Я, правда, так себе. Хотя иногда и меня повеселить мог.
Гарпун ему пробил грудную клетку. Он ко мне лицом был повернут. Я в лучшем случае мог ему в бедро попасть. Но я старею, это факт. В бою с Силеном я бы так не промахнулся. Но время идет. Теперь вместо спасенья — стыд. Но мне не перед Ларко стыдно, он бы здесь все равно долго не протянул, это и так чувствовалось. А вот перед ней стыдно. Да и еды он нам ловил как-никак. Кривой ветер… Да и любили у нас его вообще. Я, правда, так себе. Хотя иногда и меня повеселить мог.

 Когда солнце рухнуло за горизонт, далеко за горами, на запад к лагерю Бобан, Арваля с нами больше не было, чтоб поприветствовать закат круговым знамением по воздуху, как того требовал его привычный ритуал. Караколь был мертв. Тальвег был мертв. Ларко… «Видеть, как умирают» — говорил мне отец. Видеть, как умирают… Я тогда ничего не понял. Мой крепко сложенный мозг, вся моя черепная коробка, все начинка, все винтики, все это, конечно, приняло информацию, папа, я понял, это будет очень тяжело, но я сильный… Он только посмотрел на меня, но настаивать не стал, наверняка понимал, что передать это невозможно. Зияющая дыра внутри. Разверзнувшаяся бездна. Сокольник вернулся с охоты с пустыми руками. Голгот ему все объявил про Ларко и спросил, хочет ли он
Когда солнце рухнуло за горизонт, далеко за горами, на запад к лагерю Бобан, Арваля с нами больше не было, чтоб поприветствовать закат круговым знамением по воздуху, как того требовал его привычный ритуал. Караколь был мертв. Тальвег был мертв. Ларко… «Видеть, как умирают» — говорил мне отец. Видеть, как умирают… Я тогда ничего не понял. Мой крепко сложенный мозг, вся моя черепная коробка, все начинка, все винтики, все это, конечно, приняло информацию, папа, я понял, это будет очень тяжело, но я сильный… Он только посмотрел на меня, но настаивать не стал, наверняка понимал, что передать это невозможно. Зияющая дыра внутри. Разверзнувшаяся бездна. Сокольник вернулся с охоты с пустыми руками. Голгот ему все объявил про Ларко и спросил, хочет ли он
 Ороси встала, не глядя на нас. Она тронула Сова за плечо, поцеловала в шею и сделала пару шагов по направлению к вулкану. Он снова был коварно и вызывающе тих. Голгот молчал. Думаю, если бы он открыл рот, Сов бы его прикончил. У нас совершенно не осталось еды. Последнюю фляжку масла допили сегодня в обед. Каждый по глотку. Даже муки не осталось, чтоб в сухомятку проглотить. Я сегодня утром мешок выбросил. Запасы подошли к концу. Мы тоже. Наша Орда пала. Нас оставалось девять. Продолжать контр без разведчика, без геомастера, без браконьера? Продолжать без крохи во рту? Это было немыслимо. Нужно принять стыд того, что выжил. Мацукадзе была права. Как я их теперь понимал. Мы перейдем мост обратно по технике Ларко. Спустимся с Бракауэрского столба на страховке. Мы прошли не дальше них. Ставить свой флаг? Смешно… В цирке ястреб наверняка сможет нам раздобыть сурка или полярную лисицу. Спуск можно выдержать и на голодный желудок, дотерпеть до цирка. Через три недели, если вести себя аккуратно и
Ороси встала, не глядя на нас. Она тронула Сова за плечо, поцеловала в шею и сделала пару шагов по направлению к вулкану. Он снова был коварно и вызывающе тих. Голгот молчал. Думаю, если бы он открыл рот, Сов бы его прикончил. У нас совершенно не осталось еды. Последнюю фляжку масла допили сегодня в обед. Каждый по глотку. Даже муки не осталось, чтоб в сухомятку проглотить. Я сегодня утром мешок выбросил. Запасы подошли к концу. Мы тоже. Наша Орда пала. Нас оставалось девять. Продолжать контр без разведчика, без геомастера, без браконьера? Продолжать без крохи во рту? Это было немыслимо. Нужно принять стыд того, что выжил. Мацукадзе была права. Как я их теперь понимал. Мы перейдем мост обратно по технике Ларко. Спустимся с Бракауэрского столба на страховке. Мы прошли не дальше них. Ставить свой флаг? Смешно… В цирке ястреб наверняка сможет нам раздобыть сурка или полярную лисицу. Спуск можно выдержать и на голодный желудок, дотерпеть до цирка. Через три недели, если вести себя аккуратно и
 Не то, чтобы вчетвером с Махаоном, Ороси и Горстом мы бы не справились с этим стеклянным кюветом. Частично аэропереноской, частично перескакивая по укрытиям со всей прыти по линии хребта, с ротофрезером наготове, чтоб новую дыру себе вырыть, на случай если. Но дело скорее в том, что меня всего проскребло от мысли, что Пьетро с Совом вдруг решили сдаться, с птичниками, да еще с этой малявкой в придачу. Решили вдруг взять и поручень отпустить.
Не знаю, что там в их черепушках за ночь перетарахтело, вскочили утром все пятеро на рассвете, собрались над кучей пепла, от холода кочевряжась, лясы свои опять завели. Ороси снова разгорланилась, к ним пошла, я только в спальник поглубже залез, чтоб и не слышать ничего.
То, что у нас теперь мяса на неделю было, дело, конечно, сильно меняло. Только его еще проглотить как-то нужно было. А дрова на исходе. Мы до края мира дошли, это уж точняк. Никто еще не заходил со шлемом ровно над ботинками дальше этой мамонтовой уборной ямы, я за это готов свое добро на гранитный стол выложить, тут я уверен, что такого еще не было. Еще! не было. Тут факт,
Не то, чтобы вчетвером с Махаоном, Ороси и Горстом мы бы не справились с этим стеклянным кюветом. Частично аэропереноской, частично перескакивая по укрытиям со всей прыти по линии хребта, с ротофрезером наготове, чтоб новую дыру себе вырыть, на случай если. Но дело скорее в том, что меня всего проскребло от мысли, что Пьетро с Совом вдруг решили сдаться, с птичниками, да еще с этой малявкой в придачу. Решили вдруг взять и поручень отпустить.
Не знаю, что там в их черепушках за ночь перетарахтело, вскочили утром все пятеро на рассвете, собрались над кучей пепла, от холода кочевряжась, лясы свои опять завели. Ороси снова разгорланилась, к ним пошла, я только в спальник поглубже залез, чтоб и не слышать ничего.
То, что у нас теперь мяса на неделю было, дело, конечно, сильно меняло. Только его еще проглотить как-то нужно было. А дрова на исходе. Мы до края мира дошли, это уж точняк. Никто еще не заходил со шлемом ровно над ботинками дальше этой мамонтовой уборной ямы, я за это готов свое добро на гранитный стол выложить, тут я уверен, что такого еще не было. Еще! не было. Тут факт,
 Каждый из нас понимал, что скорость действий, быстрота выполнения задач имеют первостепенное значение, особенно после объяснений Ороси о континууме, который вплетал любое наше действие в свое несжимаемое вибрационное воздействие на хаотические слои воздуха в вулкане. Как только Эрг высадил меня, я сразу принялся бурить дыры ротофрезером. Я был в изумлении от его эффективности, но не забывал следить за прозрачной голубизной стеклянного покрова и тремя светло-серыми конусами, что могли взорваться в любой момент.
Каждый из нас понимал, что скорость действий, быстрота выполнения задач имеют первостепенное значение, особенно после объяснений Ороси о континууме, который вплетал любое наше действие в свое несжимаемое вибрационное воздействие на хаотические слои воздуха в вулкане. Как только Эрг высадил меня, я сразу принялся бурить дыры ротофрезером. Я был в изумлении от его эффективности, но не забывал следить за прозрачной голубизной стеклянного покрова и тремя светло-серыми конусами, что могли взорваться в любой момент.
 Этот гад Дарбон никогда в грязь лицом не падал, я вот сколько в котле своем ни роюсь, так только одно помню — всегда он со своими соколами к себе уважение вызывал, паршивец, и добычи всякой, хоть пернатой, хоть нет, тоже сколько приносил, сколько раз нас от кутежа на одной муке спасал! Я думал у него коробок крепкий, думал захват попрочнее, думал не из мягкожопых и вот тебе… Поехал чердак на всех парусах, аж в ушах засвистело.
Этот гад Дарбон никогда в грязь лицом не падал, я вот сколько в котле своем ни роюсь, так только одно помню — всегда он со своими соколами к себе уважение вызывал, паршивец, и добычи всякой, хоть пернатой, хоть нет, тоже сколько приносил, сколько раз нас от кутежа на одной муке спасал! Я думал у него коробок крепкий, думал захват попрочнее, думал не из мягкожопых и вот тебе… Поехал чердак на всех парусах, аж в ушах засвистело.

 Когда Эрг высадил ястребника, мы все уже сидели по нашим окопам и застегивали шлемы. Ороси вышла сделать замеры по аэротору. Она повертела им, наклонив по всем углам. Для нас этот предмет так и оставался самоделкой, состоящей из чашечек, жируэток и крошечных рокочущих мельничек. Для нее же это было чудо техники. К тому же его сделала ее мама, а значит это было
Когда Эрг высадил ястребника, мы все уже сидели по нашим окопам и застегивали шлемы. Ороси вышла сделать замеры по аэротору. Она повертела им, наклонив по всем углам. Для нас этот предмет так и оставался самоделкой, состоящей из чашечек, жируэток и крошечных рокочущих мельничек. Для нее же это было чудо техники. К тому же его сделала ее мама, а значит это было
 Ороси ничего не ответила, она была занята тем, что вела расчеты, разумеется, в уме, и записывала пальцем
Ороси ничего не ответила, она была занята тем, что вела расчеты, разумеется, в уме, и записывала пальцем
 Утонув в расчетах, в успокаивающей рациональности цифр, я допустила ошибку… Это был промах не технического характера, но нечто иного плана, ужасный промах… Когда я это осознала, Эрг с Горстом были уже далеко. Они летели над кратером в нескольких километрах от нас, покачиваясь от восходящих порывов ветра. Они с трудом держали высоту и то пикировали вниз, то вздымались вверх. Горст крепко держался за спиной Эрга. Сов первый понял, откуда ждать беды, но вопрос его прозвучал так простодушно и наивно:
— А ты не боишься, что от их вихрей пойдут турбулентности? У них на двоих четыре как-никак. У Горста вихрь брата, а у Эрга — Фироста…
Сов был в смежном с моим окопе, и порыв ветра, несущий на нас снежную крупу, перекрыл для остальных его
Утонув в расчетах, в успокаивающей рациональности цифр, я допустила ошибку… Это был промах не технического характера, но нечто иного плана, ужасный промах… Когда я это осознала, Эрг с Горстом были уже далеко. Они летели над кратером в нескольких километрах от нас, покачиваясь от восходящих порывов ветра. Они с трудом держали высоту и то пикировали вниз, то вздымались вверх. Горст крепко держался за спиной Эрга. Сов первый понял, откуда ждать беды, но вопрос его прозвучал так простодушно и наивно:
— А ты не боишься, что от их вихрей пойдут турбулентности? У них на двоих четыре как-никак. У Горста вихрь брата, а у Эрга — Фироста…
Сов был в смежном с моим окопе, и порыв ветра, несущий на нас снежную крупу, перекрыл для остальных его
 Так, ну вроде все по плану. Эрг на себе Горста, конечно, еле прет — еще бы, эдакого мамонта тащить, да еще и по ветрюгану такому, у него весь парус ходуном ходит, но все равно вперед на полном ходу идут. Ввосьмером быстро прорвемся, Эрг нас на раз-два перетаскает, если надо по балласту из ледяных блоков можно взять, если все сработает, то у нас нехилый скачок получится, идея что надо, придраться не к чему…
Только что-то все по борозде вдруг пошло… Что-то в воздухе такое завертелось, что любого орла пошманает. Я в своей норе так сидеть не могу, мне видеть надо… Ороси орала что-то, чуть глотку себе не сорвала, только вот до меня не сразу дошло, хотя ветер в котловине вдруг резко стал. У меня чуть глаза не вылупились смотреть, как Горст с Махаоном высоту от безветрия терять стали, полетели прямиком в кратер…
Так, ну вроде все по плану. Эрг на себе Горста, конечно, еле прет — еще бы, эдакого мамонта тащить, да еще и по ветрюгану такому, у него весь парус ходуном ходит, но все равно вперед на полном ходу идут. Ввосьмером быстро прорвемся, Эрг нас на раз-два перетаскает, если надо по балласту из ледяных блоков можно взять, если все сработает, то у нас нехилый скачок получится, идея что надо, придраться не к чему…
Только что-то все по борозде вдруг пошло… Что-то в воздухе такое завертелось, что любого орла пошманает. Я в своей норе так сидеть не могу, мне видеть надо… Ороси орала что-то, чуть глотку себе не сорвала, только вот до меня не сразу дошло, хотя ветер в котловине вдруг резко стал. У меня чуть глаза не вылупились смотреть, как Горст с Махаоном высоту от безветрия терять стали, полетели прямиком в кратер…
 Я по лицу Ороси понял, что она ничего больше не понимала в происходящем и даже интуитивно не догадывалась. Она, как кошка, выскочила из своего укрытия и подобралась к краю платформы, я последовал за ней. Казалось, ничего не изменилось, только внезапная глухая тишина вдруг заполнила кратер. Редкие оползни, вызванные ударной волной, шипя, скользили по дальним склонам. Когда, скатившись до стеклянного дна кратера, они остановились, тишина загудела всей своей всеохватностью. Эрг с Горстом за спиной медленно пикировал к вулкану. Отсюда его телодвижения со сменой галса, в попытке поймать несуществующий восходящий поток, выглядели почти комично.
Я по лицу Ороси понял, что она ничего больше не понимала в происходящем и даже интуитивно не догадывалась. Она, как кошка, выскочила из своего укрытия и подобралась к краю платформы, я последовал за ней. Казалось, ничего не изменилось, только внезапная глухая тишина вдруг заполнила кратер. Редкие оползни, вызванные ударной волной, шипя, скользили по дальним склонам. Когда, скатившись до стеклянного дна кратера, они остановились, тишина загудела всей своей всеохватностью. Эрг с Горстом за спиной медленно пикировал к вулкану. Отсюда его телодвижения со сменой галса, в попытке поймать несуществующий восходящий поток, выглядели почти комично.

 Солнце блестело на застывшем стекле недавних оползней. Длинные белые склоны сверкали нетронутым лавинами снегом. Воздух был свежий. Ни слишком густой, ни слишком жидкий. Ни одно дуновение его не тревожило. Отражавшийся отовсюду свет жег сетчатку глаз.
— Ороси, ты что-нибудь понимаешь? Вулкан вроде как застыл.
— Какая-то сила поглотила вибрации воздуха, это что-то, чего мы не видим…
— Оно движется? Перемещается?
— Оно поднимается в направлении Эрга… Туда стекаются остаточные ветра…
— На них?
— Нет, к этой силе…
— Что это может быть? — спросил я и сам понял, насколько напрасным был мой вопрос.
Солнце блестело на застывшем стекле недавних оползней. Длинные белые склоны сверкали нетронутым лавинами снегом. Воздух был свежий. Ни слишком густой, ни слишком жидкий. Ни одно дуновение его не тревожило. Отражавшийся отовсюду свет жег сетчатку глаз.
— Ороси, ты что-нибудь понимаешь? Вулкан вроде как застыл.
— Какая-то сила поглотила вибрации воздуха, это что-то, чего мы не видим…
— Оно движется? Перемещается?
— Оно поднимается в направлении Эрга… Туда стекаются остаточные ветра…
— На них?
— Нет, к этой силе…
— Что это может быть? — спросил я и сам понял, насколько напрасным был мой вопрос.
 Ороси бросила беглый взгляд на аэротор и сделала стремительный вдох. На выдохе выбросила серию взрывных «Ба» в направлении Эрга и Горста. Залп заглох на лету.
— Это может быть только хрон… Из вулкана вырвался хрон…
При этих словах все остатки нашей Орды были уже на хребте, судорожно вглядываясь в кратер вулкана.
— Только хрон может с такой скоростью поглотить подобную турбулентность потока и заключить ее в своем коконе. Он чистит следы волн и оставляет вокруг себя совершенно гладкий и неподвижный воздух. Другого объяснения нет.
— Почему не видно его панциря? У всех хронов есть панцирь!
Ороси бросила беглый взгляд на аэротор и сделала стремительный вдох. На выдохе выбросила серию взрывных «Ба» в направлении Эрга и Горста. Залп заглох на лету.
— Это может быть только хрон… Из вулкана вырвался хрон…
При этих словах все остатки нашей Орды были уже на хребте, судорожно вглядываясь в кратер вулкана.
— Только хрон может с такой скоростью поглотить подобную турбулентность потока и заключить ее в своем коконе. Он чистит следы волн и оставляет вокруг себя совершенно гладкий и неподвижный воздух. Другого объяснения нет.
— Почему не видно его панциря? У всех хронов есть панцирь!
 Он был прав, и мы с Голготом могли бы тоже побежать, если бы не давящее на меня чувство ответственности перед Эргом и Горстом. Они были на четыреста метров ниже нас по склону. Эрг перевернул винты, стараясь воспользоваться малейшим восходящим потоком, но все равно терял высоту со скоростью почти что метр в секунду, так что даже намеренно, как скребком, проходился по откосу, чтоб хоть немного притормозить. Вдруг из-за хребта вылетели две галки, и я подпрыгнула от удивления. Птицы мигом спикировали вниз, привлеченные красным парусом параплана, но вдруг воздух вокруг них потускнел и затрещал… А секунду спустя вместо двух галок… стало четыре. Голгот посмотрел на меня в недоумении:
— Ты это тоже видела или мне померещилось? Их не две только что было?
— Кажется да…
Он был прав, и мы с Голготом могли бы тоже побежать, если бы не давящее на меня чувство ответственности перед Эргом и Горстом. Они были на четыреста метров ниже нас по склону. Эрг перевернул винты, стараясь воспользоваться малейшим восходящим потоком, но все равно терял высоту со скоростью почти что метр в секунду, так что даже намеренно, как скребком, проходился по откосу, чтоб хоть немного притормозить. Вдруг из-за хребта вылетели две галки, и я подпрыгнула от удивления. Птицы мигом спикировали вниз, привлеченные красным парусом параплана, но вдруг воздух вокруг них потускнел и затрещал… А секунду спустя вместо двух галок… стало четыре. Голгот посмотрел на меня в недоумении:
— Ты это тоже видела или мне померещилось? Их не две только что было?
— Кажется да…
 Ороси на меня уставилась, а мне б самому кто что объяснил, у меня пот прям из-под шлема ручьем пошел, стою на нее смотрю, как с катушек отъехал, а у нее видимо тоже в коробок все это не укладывается. Нам отсюда только два полотна красных маячат, а вот что там под ними? Но я сюда чую, хронированием пахнет, аж в обе ноздри смердит, чистой воды хронаж, прямиком из блаблаэрудитских книжонок, напичканных всей этой шутовой кучей теорий всяких несбыточных, понаписывали сказок своих, легенды поразводили, им бы только лишнюю категорию дописать, да чтоб пострашнее было, такое только для сопляков малолетних годится, мозги припудрить, чтоб в люльки их побыстрее поукладывать, пускай им сны бзиковатые снятся, ни один Диагональщик
Ороси на меня уставилась, а мне б самому кто что объяснил, у меня пот прям из-под шлема ручьем пошел, стою на нее смотрю, как с катушек отъехал, а у нее видимо тоже в коробок все это не укладывается. Нам отсюда только два полотна красных маячат, а вот что там под ними? Но я сюда чую, хронированием пахнет, аж в обе ноздри смердит, чистой воды хронаж, прямиком из блаблаэрудитских книжонок, напичканных всей этой шутовой кучей теорий всяких несбыточных, понаписывали сказок своих, легенды поразводили, им бы только лишнюю категорию дописать, да чтоб пострашнее было, такое только для сопляков малолетних годится, мозги припудрить, чтоб в люльки их побыстрее поукладывать, пускай им сны бзиковатые снятся, ни один Диагональщик
 Не могу с уверенностью сказать, почему сразу за этим снова началось извержение вулкана, может аэрологическая структура кратера резко исказилась из-за восьми вихрей, сконцентрировавшихся на десяти кубических метрах, может клонирование, проделанное хроном, впитало слишком много энергии. Как бы там ни было, но все бреши снова открылись и выпустили наружу мощный порыв ветра. Под напором воздуха оба крыла быстро набрали высоту и когда они поравнялись с нами, то немыслимое подтвердилось: Эрг и Горст на самом деле раздвоились! Еще немного оглушенные эффектом хрона они по всей очевидности не осознавали, что произошло, и машинально поднимались вверх над хребтом, не замечая своих двойников! Обе пары пролетели мимо нас с совершенно одинаковым снаряжением, одинаковой физиологией и в один и тот же момент. Единственное, что их различало, это положение в пространстве.
Горст среагировал первым, наконец увидев своего двойника. Мы не могли поверить своим глазам, мы были потрясены, его молниеносная способность принятия и объяснения ситуации повергла нас в ступор:
— Карст! Каааарст! Ты вернулся?
— Ага! Я тут!
— Каааар, это правда ты?
— Хе, ну да! Ты как, братишка? Видел, скачок ветра какой был? Я думал до дна достанем!
— Это да! Тут неслабо трясет!
На мгновение в глазах Горста, или Карста, я точно сказать не могла, промелькнуло сомнение бездонной странности; они теперь были совсем близко к нам, описывали
Не могу с уверенностью сказать, почему сразу за этим снова началось извержение вулкана, может аэрологическая структура кратера резко исказилась из-за восьми вихрей, сконцентрировавшихся на десяти кубических метрах, может клонирование, проделанное хроном, впитало слишком много энергии. Как бы там ни было, но все бреши снова открылись и выпустили наружу мощный порыв ветра. Под напором воздуха оба крыла быстро набрали высоту и когда они поравнялись с нами, то немыслимое подтвердилось: Эрг и Горст на самом деле раздвоились! Еще немного оглушенные эффектом хрона они по всей очевидности не осознавали, что произошло, и машинально поднимались вверх над хребтом, не замечая своих двойников! Обе пары пролетели мимо нас с совершенно одинаковым снаряжением, одинаковой физиологией и в один и тот же момент. Единственное, что их различало, это положение в пространстве.
Горст среагировал первым, наконец увидев своего двойника. Мы не могли поверить своим глазам, мы были потрясены, его молниеносная способность принятия и объяснения ситуации повергла нас в ступор:
— Карст! Каааарст! Ты вернулся?
— Ага! Я тут!
— Каааар, это правда ты?
— Хе, ну да! Ты как, братишка? Видел, скачок ветра какой был? Я думал до дна достанем!
— Это да! Тут неслабо трясет!
На мгновение в глазах Горста, или Карста, я точно сказать не могла, промелькнуло сомнение бездонной странности; они теперь были совсем близко к нам, описывали
 Он стоял напротив меня, стрелка на девять. Два винта на подошвах, один за спиной. Охотничий бум за поясом. Крепкий. Опасный. Технике пилотирования обучался в Кер Дербане.
Технике пилотирования обучался в Кер Дербане. Опасный. Крепкий. Охотничий бум за поясом. Два винта на подошвах, один за спиной. Он стоял напротив меня, стрелка на девять.
Я ждал этого дня, я ждал этого боя. Я всегда был к нему готов. Это было неизбежно, я это знал. Этот бой ждал меня здесь, на Верхнем Пределе. У него было время. Последняя битва, та, что оправдывает всю прожитую жизнь. Я горжусь тем, что дошел до конца. Мне всегда хотелось знать, какого противника Они выберут для меня. Я долгое время думал, что это будет мастер молнии или автохрон
Он стоял напротив меня, стрелка на девять. Два винта на подошвах, один за спиной. Охотничий бум за поясом. Крепкий. Опасный. Технике пилотирования обучался в Кер Дербане.
Технике пилотирования обучался в Кер Дербане. Опасный. Крепкий. Охотничий бум за поясом. Два винта на подошвах, один за спиной. Он стоял напротив меня, стрелка на девять.
Я ждал этого дня, я ждал этого боя. Я всегда был к нему готов. Это было неизбежно, я это знал. Этот бой ждал меня здесь, на Верхнем Пределе. У него было время. Последняя битва, та, что оправдывает всю прожитую жизнь. Я горжусь тем, что дошел до конца. Мне всегда хотелось знать, какого противника Они выберут для меня. Я долгое время думал, что это будет мастер молнии или автохрон
 Эрг Махаон выстрелил в Эрга Махаона. Который в свою очередь выстрелил в Эрга Махаона. Четырежды. Каждый. Стрелы арбамата проделали дыры в прямоугольнике между солнечным сплетением и ключицами. Их раны были абсолютно симметричны. И совершенно смертельны. Лишенные пилотов крылья безвольно полетели по ветру, как два мертвых листика. Подвешенные на них тела унесло за кратер. Голгот попробовал отчаянным броском бума перерезать стропы и удержать хотя бы одно из тел. Но они были уже слишком высоко. Мы стояли бессильные и смотрели, как они уносятся вдаль. Красное пятно в синем небе. Потом просто точка. Потом всего лишь желание рухнуть от боли и безысходности. Голгот посмотрел на меня. К нам подошел Сов. Ороси бросилась в наши объятия. Кориолис и Стреб присоединились к нам. Мы крепко прижались друг к другу, словно потерянные щенки.
Эрг Махаон выстрелил в Эрга Махаона. Который в свою очередь выстрелил в Эрга Махаона. Четырежды. Каждый. Стрелы арбамата проделали дыры в прямоугольнике между солнечным сплетением и ключицами. Их раны были абсолютно симметричны. И совершенно смертельны. Лишенные пилотов крылья безвольно полетели по ветру, как два мертвых листика. Подвешенные на них тела унесло за кратер. Голгот попробовал отчаянным броском бума перерезать стропы и удержать хотя бы одно из тел. Но они были уже слишком высоко. Мы стояли бессильные и смотрели, как они уносятся вдаль. Красное пятно в синем небе. Потом просто точка. Потом всего лишь желание рухнуть от боли и безысходности. Голгот посмотрел на меня. К нам подошел Сов. Ороси бросилась в наши объятия. Кориолис и Стреб присоединились к нам. Мы крепко прижались друг к другу, словно потерянные щенки.

 — Нужно выйти отсюда… Мы должны выйти из этой мертвой зоны… — пробормотал Голгот. — СЕЙЧАС!
— Нужно выйти отсюда… Мы должны выйти из этой мертвой зоны… — пробормотал Голгот. — СЕЙЧАС!
 Мы были в пятнадцати километрах от противоположного края вулкана. Мы не знали, есть ли что-то по ту сторону кратера, ни, тем более, существует ли малейшая вероятность того, что это «что-то» можно преодолеть пешком.
По звукам, доносившимся со дна, нетрудно было понять, что извержение набирает силу. Газ вырывался отовсюду, трещины свистели по голубой ледяной поверхности кратера, блоки стекла и едва заметные осколки вылетали из конусов и падали металлическим градом на поверхность. Вертикальные порывы ветра кромсали линию хребта и, словно клещи, пытались оторвать меня от земли, но я был вне всякой животной ясности инстинкта или осторожности, мне было абсолютно наплевать: сломленный в нас позвонок гордости снова сросся с позвоночным столбом, и у нас остался лишь один выбор — выбраться из кратера живыми или мертвыми, сегодня или никогда.
Голгот снова занял позицию вожака. Он не стал ни произносить речи, ни отдавать приказы, он лишь выстроил наш гнев, придал ему форму, взвалил на себя и выплеснул в то единственное, в чем всегда был безупречен: в Трассу, в Пак, в ритм. По отношению к нашей траектории движения по хребту, ветер был латеральный, поток стегал ледяной струей и был столь же опасен, что и ярветер, только дул из-под наших ног. И что? То, что Голгот умел делать в горизонтальной плоскости, он взял и применил к вертикальной, одним продуманным ударом плеча: выбрал ход крабом, по встречному ветру. Выстроил ударный треуголь-
Мы были в пятнадцати километрах от противоположного края вулкана. Мы не знали, есть ли что-то по ту сторону кратера, ни, тем более, существует ли малейшая вероятность того, что это «что-то» можно преодолеть пешком.
По звукам, доносившимся со дна, нетрудно было понять, что извержение набирает силу. Газ вырывался отовсюду, трещины свистели по голубой ледяной поверхности кратера, блоки стекла и едва заметные осколки вылетали из конусов и падали металлическим градом на поверхность. Вертикальные порывы ветра кромсали линию хребта и, словно клещи, пытались оторвать меня от земли, но я был вне всякой животной ясности инстинкта или осторожности, мне было абсолютно наплевать: сломленный в нас позвонок гордости снова сросся с позвоночным столбом, и у нас остался лишь один выбор — выбраться из кратера живыми или мертвыми, сегодня или никогда.
Голгот снова занял позицию вожака. Он не стал ни произносить речи, ни отдавать приказы, он лишь выстроил наш гнев, придал ему форму, взвалил на себя и выплеснул в то единственное, в чем всегда был безупречен: в Трассу, в Пак, в ритм. По отношению к нашей траектории движения по хребту, ветер был латеральный, поток стегал ледяной струей и был столь же опасен, что и ярветер, только дул из-под наших ног. И что? То, что Голгот умел делать в горизонтальной плоскости, он взял и применил к вертикальной, одним продуманным ударом плеча: выбрал ход крабом, по встречному ветру. Выстроил ударный треуголь-
 Он сказал нам достать веревки, и мы перевязались, все восьмеро, по осям и по латерали. Он набил наши полупустые рюкзаки снегом, тяжелым стеклом и колотым льдом, чтобы максимально их утяжелить. Дал по ледорубу в каждую руку. И подал сигнал к выходу, крикнув «ху-ха». Все это заняло не более четверти часа.
Он сказал нам достать веревки, и мы перевязались, все восьмеро, по осям и по латерали. Он набил наши полупустые рюкзаки снегом, тяжелым стеклом и колотым льдом, чтобы максимально их утяжелить. Дал по ледорубу в каждую руку. И подал сигнал к выходу, крикнув «ху-ха». Все это заняло не более четверти часа.
 Голгот нырнул прямо вниз по склону. Горст и Карст последовали за ним, рывком потащив нас за собой. Мы шли прямой дорогой к суициду. Я закрыл глаза. Уклон был под 70°. Тошнота подступила к горлу, как при падении. Я увидел перед собой лица отца и матери…
Голгот нырнул прямо вниз по склону. Горст и Карст последовали за ним, рывком потащив нас за собой. Мы шли прямой дорогой к суициду. Я закрыл глаза. Уклон был под 70°. Тошнота подступила к горлу, как при падении. Я увидел перед собой лица отца и матери…
 Я думаю, что поведя нас таким путем, бросившись вниз по склону, Голгот принял самое экстремальное решение, что мог бы принять Трассер его уровня. То, что он не захотел оставаться на хребте, слишком заостренном и более чем незащищенном от ускорявшихся порывов ветра, это можно было понять. Но то, что он одним рывком бросился вниз, никого не предупредив, прямиком в пропасть, со всей Ордой за спиной, оставалось действием
Я думаю, что поведя нас таким путем, бросившись вниз по склону, Голгот принял самое экстремальное решение, что мог бы принять Трассер его уровня. То, что он не захотел оставаться на хребте, слишком заостренном и более чем незащищенном от ускорявшихся порывов ветра, это можно было понять. Но то, что он одним рывком бросился вниз, никого не предупредив, прямиком в пропасть, со всей Ордой за спиной, оставалось действием
 Шипы на подошвах затрещали по полной, было б можно, так все б в кусты поразбежались от страха, но потом Блок рухнул на меня. Тут мяться было некогда, нужно идти в контакт с напором волны в семь, если не в восемь центнеров, в столкновение с потоком, чтобы найти нужный угол противостояния и закрепиться в волне. Нас чуть как кусок каменюки по льду не пронесло, до этого, типа, уступа, на который я целился, и мы чуть прямиком весь кратер не пересекли. Мы б, конечно, все равно затормозили, только на тыщу метров ниже. Но десять минут спустя, вклинившись друг в друга, мы еще держались на своих двоих, а шипованные опорные, с дополнительным грузом у нас за плечами, четко буравили снег по наклонной. Мы опирались на шни, как на закрытую дверь, только вот дверь эта время от времени открывалась и хлопала на сквозняке…
Шипы на подошвах затрещали по полной, было б можно, так все б в кусты поразбежались от страха, но потом Блок рухнул на меня. Тут мяться было некогда, нужно идти в контакт с напором волны в семь, если не в восемь центнеров, в столкновение с потоком, чтобы найти нужный угол противостояния и закрепиться в волне. Нас чуть как кусок каменюки по льду не пронесло, до этого, типа, уступа, на который я целился, и мы чуть прямиком весь кратер не пересекли. Мы б, конечно, все равно затормозили, только на тыщу метров ниже. Но десять минут спустя, вклинившись друг в друга, мы еще держались на своих двоих, а шипованные опорные, с дополнительным грузом у нас за плечами, четко буравили снег по наклонной. Мы опирались на шни, как на закрытую дверь, только вот дверь эта время от времени открывалась и хлопала на сквозняке…
 Так мы и прошли два часа в упряжке. Как только ветер стихал, разворачивались в нужном направлении и шли вперед, принимая удар на бедра, ребра и плечи; а как только он снова усиливался, снова входили во фронтальный контр, опустив голову и согнув колени, с опорой на поток, подвешенные над бездной, туловище перпендикулярно склону, доверяя свои судьбы определяемому на ощупь равновесию между гравитацией и подъемной волной. Если бы этот непрерывный поток остановился, или даже просто прервался на каких-то пять секунд, падение было бы неизбежно, всем Блоком. Но так же неизбежно было и то, что иди мы в одиночку, а не в связке, каждого из нас отправило бы волной вверх на небеса. Мы задраили
Так мы и прошли два часа в упряжке. Как только ветер стихал, разворачивались в нужном направлении и шли вперед, принимая удар на бедра, ребра и плечи; а как только он снова усиливался, снова входили во фронтальный контр, опустив голову и согнув колени, с опорой на поток, подвешенные над бездной, туловище перпендикулярно склону, доверяя свои судьбы определяемому на ощупь равновесию между гравитацией и подъемной волной. Если бы этот непрерывный поток остановился, или даже просто прервался на каких-то пять секунд, падение было бы неизбежно, всем Блоком. Но так же неизбежно было и то, что иди мы в одиночку, а не в связке, каждого из нас отправило бы волной вверх на небеса. Мы задраили
 По ту сторону вулкана нас не ждал никакой Первозданный сад, источник всех посевов на земле, как думал Степп, ни тигры, тянущие землю вперед, как представлял себе Арваль, ни бездонная пасть придуманного Ларко бога, что по его теории должен был то глубоко вздыхать, то всхрапывать, то петь или плеваться, выдыхая весь воздух нам в лицо. Мы также не услышали Голос ветра, нашептывающего нам что-то день и ночь на непонятном языке, что так часто встречался в лучших сказках Караколя и в который мы по итогу были почти готовы поверить. Не было также и бездны или открытого космоса, ни черного, ни синего, как считала Ороси, ни фиростского хрона, засасывающего в себя пространство впереди, ни бесконечной стены из сжатого воздуха, железа или огня, на который думали однажды наткнуться Каллироя с Аои. Мы не встретили ни мать Альмы, ни первого Голгота, ни веселый орхаостр Силамфра с его аккордеолами и невиданными духовыми. Мы не вышли к океану из фантазий Кориолис, где ветровые волны катятся по пляжу длиною с мир. За кратером Крафлы была земля. А за этой землей, за первой пройденной мореной, — снова земля, целое плато. А за этим плато, другое плато, шире и положе, покрытое полуталым снегом, а затем — снова земля, необозримая
По ту сторону вулкана нас не ждал никакой Первозданный сад, источник всех посевов на земле, как думал Степп, ни тигры, тянущие землю вперед, как представлял себе Арваль, ни бездонная пасть придуманного Ларко бога, что по его теории должен был то глубоко вздыхать, то всхрапывать, то петь или плеваться, выдыхая весь воздух нам в лицо. Мы также не услышали Голос ветра, нашептывающего нам что-то день и ночь на непонятном языке, что так часто встречался в лучших сказках Караколя и в который мы по итогу были почти готовы поверить. Не было также и бездны или открытого космоса, ни черного, ни синего, как считала Ороси, ни фиростского хрона, засасывающего в себя пространство впереди, ни бесконечной стены из сжатого воздуха, железа или огня, на который думали однажды наткнуться Каллироя с Аои. Мы не встретили ни мать Альмы, ни первого Голгота, ни веселый орхаостр Силамфра с его аккордеолами и невиданными духовыми. Мы не вышли к океану из фантазий Кориолис, где ветровые волны катятся по пляжу длиною с мир. За кратером Крафлы была земля. А за этой землей, за первой пройденной мореной, — снова земля, целое плато. А за этим плато, другое плато, шире и положе, покрытое полуталым снегом, а затем — снова земля, необозримая
 Маревое облако предрассветный образ зверь спустившийся с небес с обновленной шерсткой может дымка мимолетная завьется и развеется над степью (пышной кучкой снега в небе) Маревое облако лучше ледяной медузы распластавшейся в русле ветра Маревое облако материнства лоно (подушка из надтреснувшего мха) поймать в мою клетку источник знаков на каждый улов в атмосфере личный диалог только для меня Порой скромнейшие идеи бывает вдруг вздуваются и сворачивают в вертопрашество, и заявляют себя отныне и с тех пор
Маревое облако предрассветный образ зверь спустившийся с небес с обновленной шерсткой может дымка мимолетная завьется и развеется над степью (пышной кучкой снега в небе) Маревое облако лучше ледяной медузы распластавшейся в русле ветра Маревое облако материнства лоно (подушка из надтреснувшего мха) поймать в мою клетку источник знаков на каждый улов в атмосфере личный диалог только для меня Порой скромнейшие идеи бывает вдруг вздуваются и сворачивают в вертопрашество, и заявляют себя отныне и с тех пор
 Откровенно говоря, признавались мы друг другу тайком с Ороси (и не в присутствии Голгота, конечно), не было ни малейших причин на то, чтобы Верхний Предел оказался сразу за вулканом, ни даже просто за границей Норски. А все, что было сказано или написано на эту тему, свидетельствовало лишь о той же доктрине, основанной на испытаниях и вознаграждениях, что видела неоспоримым условием мир морали, конец для каждого пути и землю преодолеваемых размеров, то есть нечто, не имеющее никаких подтверждений и оснований существовать. Редкая уверенность в наших убеждениях опиралась лишь на исторические факты, изученные и собранные аэрудитами, записанные в контржурналах не канувших бесследно Орд, да на некоторые достойные внимания рассказы Диагональщиков и кочевых бойцов, таких как Тэ Джеркка, способных зайти в одиночку за сам Бобан. Эта «история», по крупицам разлетавшаяся по фареолам, искаженная слухами и коллективными мечтами, распущенная на всех ветрах фреольским фанфаронством, раздутая вслед трубадурами, наконец подобранная Орданом, который обладал достаточной силой и связями, во всяком случае от Аберлааса до Альтиччио, чтобы добиться ее официальной, героической и вознаградительной записи, идеально подходящей на роль легенды истории Орд в назидание
Откровенно говоря, признавались мы друг другу тайком с Ороси (и не в присутствии Голгота, конечно), не было ни малейших причин на то, чтобы Верхний Предел оказался сразу за вулканом, ни даже просто за границей Норски. А все, что было сказано или написано на эту тему, свидетельствовало лишь о той же доктрине, основанной на испытаниях и вознаграждениях, что видела неоспоримым условием мир морали, конец для каждого пути и землю преодолеваемых размеров, то есть нечто, не имеющее никаких подтверждений и оснований существовать. Редкая уверенность в наших убеждениях опиралась лишь на исторические факты, изученные и собранные аэрудитами, записанные в контржурналах не канувших бесследно Орд, да на некоторые достойные внимания рассказы Диагональщиков и кочевых бойцов, таких как Тэ Джеркка, способных зайти в одиночку за сам Бобан. Эта «история», по крупицам разлетавшаяся по фареолам, искаженная слухами и коллективными мечтами, распущенная на всех ветрах фреольским фанфаронством, раздутая вслед трубадурами, наконец подобранная Орданом, который обладал достаточной силой и связями, во всяком случае от Аберлааса до Альтиччио, чтобы добиться ее официальной, героической и вознаградительной записи, идеально подходящей на роль легенды истории Орд в назидание
 Он занял верхнюю позицию. Еще бы. Быстрее на подъемах. Лучше отработана практика на тепловых вертикальных потоках. Он был в пяти метрах надо мной, винты в положении щита, готовый к защите. Метательная техника отработана по паре предплечье-запястье, значит, может замаскировать удар вплоть до самого броска. Он занес свой бум, не маскируя движение. Уверенный в скорости своей руки. Ему даже не нужно балансировать с галса на галс. Это и есть уверенность в себе. Та, которой я так и не смог добиться. Уверенность, которая исходит от бойца, когда тот достигает непогрешимой полноты в своем деле. Та, что заставляет его противников отказываться от схватки. Мне нужно подняться на его высоту. Отдать честь бою. Я сделал ложный маневр. Он сделал вольт, чтобы избежать удара, я воспользовался этим промежутком времени, чтоб подняться на его высоту. Вышло неплохо: он был весьма удивлен. Он уже вернулся на позицию. Ложный удар был настолько быстрый,
Он занял верхнюю позицию. Еще бы. Быстрее на подъемах. Лучше отработана практика на тепловых вертикальных потоках. Он был в пяти метрах надо мной, винты в положении щита, готовый к защите. Метательная техника отработана по паре предплечье-запястье, значит, может замаскировать удар вплоть до самого броска. Он занес свой бум, не маскируя движение. Уверенный в скорости своей руки. Ему даже не нужно балансировать с галса на галс. Это и есть уверенность в себе. Та, которой я так и не смог добиться. Уверенность, которая исходит от бойца, когда тот достигает непогрешимой полноты в своем деле. Та, что заставляет его противников отказываться от схватки. Мне нужно подняться на его высоту. Отдать честь бою. Я сделал ложный маневр. Он сделал вольт, чтобы избежать удара, я воспользовался этим промежутком времени, чтоб подняться на его высоту. Вышло неплохо: он был весьма удивлен. Он уже вернулся на позицию. Ложный удар был настолько быстрый,
 И все же я писал. Писал, потому что об этом меня попросил Голгот, впервые попросил; писал, так как настаивала Ороси, чтобы зафиксировать свои аэрологические открытия о седьмой форме; писал, ведь после того, через что мы прошли на Крафле, мне было стыдно, что я выжил и теперь гуляю под этим бесцветным бризом. Я отказывался признавать Ордой нашу нелепую группку из восьми человек, для меня каждый оставался на своем месте в строю, впереди и позади меня, все вихри были здесь, я берег Пак нетронутым, собранным, для себя, только для себя… Но теперь мы были просто толпой, разрозненной кучкой, человеческими существами, бредущими цепочкой, отрядиком, потерпевшим поражение. Что бы ни было дальше, мы проиграли… Сколько лет нам еще идти к Верхнему Пределу? Сколько лет еще тащить расщелины нашей памяти ввосьмером? Не сомневаясь отныне, что мы идем по миру, в котором нет людей, что слепо углубляемся в него, сколько? Состариться здесь, сгнить на собственных ногах посреди какого-нибудь плато с небольшим уклоном, в один прекрасный день, вдали от лагеря Бобан, похоронив в себе ту единственную надежду, что еще способна была вырвать у меня улыбку, — надежду в конце концов вернуться туда, где ждут нас Аои, Силамфр, Альма. Сколько еще?
И все же я писал. Писал, потому что об этом меня попросил Голгот, впервые попросил; писал, так как настаивала Ороси, чтобы зафиксировать свои аэрологические открытия о седьмой форме; писал, ведь после того, через что мы прошли на Крафле, мне было стыдно, что я выжил и теперь гуляю под этим бесцветным бризом. Я отказывался признавать Ордой нашу нелепую группку из восьми человек, для меня каждый оставался на своем месте в строю, впереди и позади меня, все вихри были здесь, я берег Пак нетронутым, собранным, для себя, только для себя… Но теперь мы были просто толпой, разрозненной кучкой, человеческими существами, бредущими цепочкой, отрядиком, потерпевшим поражение. Что бы ни было дальше, мы проиграли… Сколько лет нам еще идти к Верхнему Пределу? Сколько лет еще тащить расщелины нашей памяти ввосьмером? Не сомневаясь отныне, что мы идем по миру, в котором нет людей, что слепо углубляемся в него, сколько? Состариться здесь, сгнить на собственных ногах посреди какого-нибудь плато с небольшим уклоном, в один прекрасный день, вдали от лагеря Бобан, похоронив в себе ту единственную надежду, что еще способна была вырвать у меня улыбку, — надежду в конце концов вернуться туда, где ждут нас Аои, Силамфр, Альма. Сколько еще?

 «Где Арваль, черт возьми?» Голготу никто не отвечал. Он обернулся, ища взглядом Фироста. «Он что решил, что я могу в этом скалистом бардаке вам трассу просто так пропилить, без флажков, на нюх? Куда его опять унесло?» До него все не доходило, и он принялся искать Эрга, сказать ему, чтоб тот летел на поиски. Глаза его светились приглушенным светом. Он поднял голову кнебу, рыская по голубой плоскости глазами в поисках соколов. Они частенько любили кружить над Арвалем и нам так легче было определить, где он. Голгот даже не старался. Не хотел. Он не смирился ни с одной из наших потерь. Разве что только с фаркопщиками, Барбака и Свезьеста он, кажется, забыл. Его заклинило, начиная со смерти Леарха и Каллирои. Он глубоко любил эту Орду в двадцать одно звено. Она была его продолжением, ему в ней было хорошо. В ней он чувствовал себя непобедимым. Как и я. У него осталась привычка говорить, не оборачиваясь, по ходу контра. Мало. Редко. Но у него всегда находилась отповедь в адрес Каллирои или Аои. Если видел какой-то куст, то всегда подначивал Степпа. Медуза на горизонте — сигнал для Ларко. Когда песок в лицо — обсудить с Тальвегом плотность крупинок. Всегда просто детали, мелочи. Движение в Паке. Близкий зигзаг. И Тальвег отвечал, порою криком через встречный ветер. Ларко хвастался «В клетке!», когда за медузой захлопывалась створка. И еще Караколь его все время о чем-то спрашивал. Он это любил. Я не понимал, во что мы превратились. Мне казалось, что все они вернутся. Что они ушли вперед, что ждут нас там. Я ждал чуда. Какого? Я ждал Верхнего Предела. Ороси сказала, что все они там: Арваль, Леарх, Каллироя, Тальвег, Ларко, Фирост, Эрг. Она их чувствовала. Я же не ощущал ничего определенного. Я верил в вихри, но понимал, что никаких мостов не существует. Они, конечно, могут вжиться в нас, как Каллироя в Ороси
«Где Арваль, черт возьми?» Голготу никто не отвечал. Он обернулся, ища взглядом Фироста. «Он что решил, что я могу в этом скалистом бардаке вам трассу просто так пропилить, без флажков, на нюх? Куда его опять унесло?» До него все не доходило, и он принялся искать Эрга, сказать ему, чтоб тот летел на поиски. Глаза его светились приглушенным светом. Он поднял голову кнебу, рыская по голубой плоскости глазами в поисках соколов. Они частенько любили кружить над Арвалем и нам так легче было определить, где он. Голгот даже не старался. Не хотел. Он не смирился ни с одной из наших потерь. Разве что только с фаркопщиками, Барбака и Свезьеста он, кажется, забыл. Его заклинило, начиная со смерти Леарха и Каллирои. Он глубоко любил эту Орду в двадцать одно звено. Она была его продолжением, ему в ней было хорошо. В ней он чувствовал себя непобедимым. Как и я. У него осталась привычка говорить, не оборачиваясь, по ходу контра. Мало. Редко. Но у него всегда находилась отповедь в адрес Каллирои или Аои. Если видел какой-то куст, то всегда подначивал Степпа. Медуза на горизонте — сигнал для Ларко. Когда песок в лицо — обсудить с Тальвегом плотность крупинок. Всегда просто детали, мелочи. Движение в Паке. Близкий зигзаг. И Тальвег отвечал, порою криком через встречный ветер. Ларко хвастался «В клетке!», когда за медузой захлопывалась створка. И еще Караколь его все время о чем-то спрашивал. Он это любил. Я не понимал, во что мы превратились. Мне казалось, что все они вернутся. Что они ушли вперед, что ждут нас там. Я ждал чуда. Какого? Я ждал Верхнего Предела. Ороси сказала, что все они там: Арваль, Леарх, Каллироя, Тальвег, Ларко, Фирост, Эрг. Она их чувствовала. Я же не ощущал ничего определенного. Я верил в вихри, но понимал, что никаких мостов не существует. Они, конечно, могут вжиться в нас, как Каллироя в Ороси
 флажок не поставить но прокладываю путь все равно) — разведчик остается) — покажи голготу линии ветра) — мчись впереди мчись сквозь фирн славный ротор) — пробивная простая на юго-восток метка) — левой рукой вдоль обвала) — сделать вешку) — след по помёту) — следы норской серны) — пересечь под крючковатой сосной голова тапира сильная тепловая значит) — взобраться прямо лицом стенка вверх перешеек) — перевал теневой склон трасса диагональ диагональ на убыль) — держаться линии тальвега всегда лучшее укрытие лощина) — идите за светлячком идите…
флажок не поставить но прокладываю путь все равно) — разведчик остается) — покажи голготу линии ветра) — мчись впереди мчись сквозь фирн славный ротор) — пробивная простая на юго-восток метка) — левой рукой вдоль обвала) — сделать вешку) — след по помёту) — следы норской серны) — пересечь под крючковатой сосной голова тапира сильная тепловая значит) — взобраться прямо лицом стенка вверх перешеек) — перевал теневой склон трасса диагональ диагональ на убыль) — держаться линии тальвега всегда лучшее укрытие лощина) — идите за светлячком идите…
 Мне сорок два и ничто не заставит меня повернуть вспять после тридцати одного года контра, хотя мне не раз приходила в голову мысль, что мы разрушаем сам миф Орды. Мы раз и навсегда докажем, что человек не способен дойти до края Земли. Во всяком случае пешком. В скором времени Фреольцы построят эоликоптеры, способные удержаться под кривцом и понесутся вверх, как стрелы, и доберутся до самого конца, и все узнают раньше нас. Еще лет десять ветряковых исследований, и они будут готовы. Мы же упокоимся где-то за горизонтом, пусть дальше на пятнадцать, а может целых тридцать лет от Крафлы, и никто об этом, разумеется, никогда не узнает. Настанет то
Мне сорок два и ничто не заставит меня повернуть вспять после тридцати одного года контра, хотя мне не раз приходила в голову мысль, что мы разрушаем сам миф Орды. Мы раз и навсегда докажем, что человек не способен дойти до края Земли. Во всяком случае пешком. В скором времени Фреольцы построят эоликоптеры, способные удержаться под кривцом и понесутся вверх, как стрелы, и доберутся до самого конца, и все узнают раньше нас. Еще лет десять ветряковых исследований, и они будут готовы. Мы же упокоимся где-то за горизонтом, пусть дальше на пятнадцать, а может целых тридцать лет от Крафлы, и никто об этом, разумеется, никогда не узнает. Настанет то
 раз все равно где-то размажет так уж лучше тут и сейчас в Вой-траншее позвонки на повторную закалку в
раз все равно где-то размажет так уж лучше тут и сейчас в Вой-траншее позвонки на повторную закалку в
 Не знаю, что я там раньше думал, пока на Норске снега не нажрались. Думал, настругаем вместе сухарей в конце, не всем составом в двадцать три, конечно, не надо палку гнуть, но хоть нормальной кучкой какой-то! Я нас себе на верховье с Махачом и с Фиростом представлял, думал, вот компост этот у нас под ногами кончится, и гуляй себе прямиком в небо. Думал, там все как-то по-особенному будет, башку вверх запрокинешь, а над тобой черные статуи бородатых колоссов, мы им, громадинам, едва до верха подошвы достаем, а голоса у них, как раскаты щебня, и они нас поздравляют, мол, никогда не видели, чтоб такие как мы, с плотью да кожей на костях, сюда дойти смогли, что мы, мол, такие первые! Парни, которых мы давным-давно считали сошедшими с финишной прямой, всякие там Бобаны, Бракауэры, Гардаберы, первый Голгот, все настоящие герои Орды, все они были здесь, ждали нас, потому что мы пришли наконец дать им свободу! Я протягивал им пятерню, дотрагивался до них, и они снова оживали и орали нам спасибо, так задолбались тут, бедолаги, свои вихри крутить в пустоту! А потом что было, а, дырявая башка? Потом, кажется, девки потрясные повалили, потаскушки в водянистых платьях, которые только этого и ждали и мы внутрь входили, как к себе домой, по незнакомым дырам, у них их было сколько хочешь, и в пупке, и на грудях, и
Не знаю, что я там раньше думал, пока на Норске снега не нажрались. Думал, настругаем вместе сухарей в конце, не всем составом в двадцать три, конечно, не надо палку гнуть, но хоть нормальной кучкой какой-то! Я нас себе на верховье с Махачом и с Фиростом представлял, думал, вот компост этот у нас под ногами кончится, и гуляй себе прямиком в небо. Думал, там все как-то по-особенному будет, башку вверх запрокинешь, а над тобой черные статуи бородатых колоссов, мы им, громадинам, едва до верха подошвы достаем, а голоса у них, как раскаты щебня, и они нас поздравляют, мол, никогда не видели, чтоб такие как мы, с плотью да кожей на костях, сюда дойти смогли, что мы, мол, такие первые! Парни, которых мы давным-давно считали сошедшими с финишной прямой, всякие там Бобаны, Бракауэры, Гардаберы, первый Голгот, все настоящие герои Орды, все они были здесь, ждали нас, потому что мы пришли наконец дать им свободу! Я протягивал им пятерню, дотрагивался до них, и они снова оживали и орали нам спасибо, так задолбались тут, бедолаги, свои вихри крутить в пустоту! А потом что было, а, дырявая башка? Потом, кажется, девки потрясные повалили, потаскушки в водянистых платьях, которые только этого и ждали и мы внутрь входили, как к себе домой, по незнакомым дырам, у них их было сколько хочешь, и в пупке, и на грудях, и
 Месяц спустя мы все еще были на Норске и гипотеза моей матери становилась неоспоримо ложной: Крафла не была носом никакого корабля, земля продолжалась. Но я не была уничтожена этой новостью. Со мной все чаще случались проблески, в моменты усталости передо мной все отчетливее всплывали краткие видения. «Чем ближе ты подберешься к вихрю, тем яснее все увидишь», говорила мне мама, и, пожалуй, следовало полагать, что я продвинулась в этом пути на несколько ступеней.
Среди остатков нашей Орды настроение колебалось от посттравматической депрессии до механического оцепенения. Сов все время освежал наши воспоминания, он то и дело говорил о Караколе, Каллирое, Тальвеге, Ларко, он рассказывал Кориолис о боях Эрга, которые она не видела, о бродячем детстве Арваля, о том, как я помогла Аои выйти в финал на Страссе. Эти беседы одновременно и ранили, и радовали. Сову необходимо было подпитывать эту связь, плотность ее нитей за пределами их телесной смерти. Он заселял себя изнутри дружбой, важнейшими для нас историями, подвигами, словно раз и навсегда решил быть памятью в действии. Он с каждым днем все больше привязывался ко мне и все больше к Кориолис. Он так и не мог на самом деле выбрать одну из нас, то ли потому что моя природная сдержанность обескураживала его, то ли потому что Кориолис привлекала Сова намного больше, чем он готов был признать. Я ни на чем не настаивала. Из всех зрелостей, присущих мужчине, та, что касается его чувств, наименее развита. Сов во многом оставался все тем же ребенком, которого я впервые встретила в Аберлаасе, когда нам было по семь: он мог воспри-
Месяц спустя мы все еще были на Норске и гипотеза моей матери становилась неоспоримо ложной: Крафла не была носом никакого корабля, земля продолжалась. Но я не была уничтожена этой новостью. Со мной все чаще случались проблески, в моменты усталости передо мной все отчетливее всплывали краткие видения. «Чем ближе ты подберешься к вихрю, тем яснее все увидишь», говорила мне мама, и, пожалуй, следовало полагать, что я продвинулась в этом пути на несколько ступеней.
Среди остатков нашей Орды настроение колебалось от посттравматической депрессии до механического оцепенения. Сов все время освежал наши воспоминания, он то и дело говорил о Караколе, Каллирое, Тальвеге, Ларко, он рассказывал Кориолис о боях Эрга, которые она не видела, о бродячем детстве Арваля, о том, как я помогла Аои выйти в финал на Страссе. Эти беседы одновременно и ранили, и радовали. Сову необходимо было подпитывать эту связь, плотность ее нитей за пределами их телесной смерти. Он заселял себя изнутри дружбой, важнейшими для нас историями, подвигами, словно раз и навсегда решил быть памятью в действии. Он с каждым днем все больше привязывался ко мне и все больше к Кориолис. Он так и не мог на самом деле выбрать одну из нас, то ли потому что моя природная сдержанность обескураживала его, то ли потому что Кориолис привлекала Сова намного больше, чем он готов был признать. Я ни на чем не настаивала. Из всех зрелостей, присущих мужчине, та, что касается его чувств, наименее развита. Сов во многом оставался все тем же ребенком, которого я впервые встретила в Аберлаасе, когда нам было по семь: он мог воспри-
 Это время когда головы полны ветра сердце бьется только для следующего шага оно омыто от мечтаний от какой-либо любви оно ни на кого не злится не надеется и не ждет оно бьется для крови кровь для мышц мышцы для шага шаг для шага что идет след за следом ноги гонят по склону угольки восемь силуэтов колышутся голова поникла лоб упирается в пламя ветра словно это его опора как в подушку желая отдыха
Это время когда головы полны ветра сердце бьется только для следующего шага оно омыто от мечтаний от какой-либо любви оно ни на кого не злится не надеется и не ждет оно бьется для крови кровь для мышц мышцы для шага шаг для шага что идет след за следом ноги гонят по склону угольки восемь силуэтов колышутся голова поникла лоб упирается в пламя ветра словно это его опора как в подушку желая отдыха
 Пьетро же шел ко дну. Здесь, в этой снежной пустыне, ввосьмером, он утратил самое главное в своем назначении: улаживание напряженных взаимоотношений, четкую организацию и дипломатию в Орде. От его княжеского статуса осталась лишь царская осанка, да кое-какая забота о гигиене тела и внешнем виде, но мы ничего не могли поделать с очевидностью того, что среди этих пустых гор он становился бродяжничающим князем. Голгот
Пьетро же шел ко дну. Здесь, в этой снежной пустыне, ввосьмером, он утратил самое главное в своем назначении: улаживание напряженных взаимоотношений, четкую организацию и дипломатию в Орде. От его княжеского статуса осталась лишь царская осанка, да кое-какая забота о гигиене тела и внешнем виде, но мы ничего не могли поделать с очевидностью того, что среди этих пустых гор он становился бродяжничающим князем. Голгот
 Я обожал, когда она предлагала уединиться на ночь вдали от остальных. Случалось это нечасто, но когда Ороси звала меня к себе, я был беспредельно счастлив и каждый раз радовался своей удаче, упивался этим редким мигом, потому что следующего придется ждать, быть может, целый месяц, и вот она вдруг распахивала дверь своего тела так легко и широко, и казалось немыслимым, что она так долго думала сделать это снова, и я просыпался утром наполненный, целый, словно тепло ее кожи было моим продолжением, и я надеялся, что это продлится еще хоть
Я обожал, когда она предлагала уединиться на ночь вдали от остальных. Случалось это нечасто, но когда Ороси звала меня к себе, я был беспредельно счастлив и каждый раз радовался своей удаче, упивался этим редким мигом, потому что следующего придется ждать, быть может, целый месяц, и вот она вдруг распахивала дверь своего тела так легко и широко, и казалось немыслимым, что она так долго думала сделать это снова, и я просыпался утром наполненный, целый, словно тепло ее кожи было моим продолжением, и я надеялся, что это продлится еще хоть

 Я не отвечала. Я не знала, с чего начать. То, что я должна ему рассказать за столь короткий промежуток времени, было слишком объемно… Для чего было ждать столько лет? У меня была тысяча возможностей сделать это раньше! Но нет, тебе обязательно нужно еще подумать, Ороси Меликерт, дождаться последнего момента. Откровенно говоря, через два месяца после Крафлы я перестала надеяться, что мы когда-нибудь куда-то дойдем. К чему все это вообще, думала я. Но затем вдруг появился первый признак: зыбь, расходившаяся очень долгими волнами. С каждым днем волнение потока усиливалось, утверждалось все глубже — догадка, знак, намек на доказательство, доказательство? Не настолько, чтобы понять, что мы так близко. Я неправильно истолковала вихревой шлейф, плохо просчитала отделяющую нас дистанцию, но хроны так быстро растворялись там, в верховье. Сов достаточно быстро освоился в повисшей паузе, и в каком-то смысле освободил меня от терзаний с чего начать:
— Ороси, перед тем как ты скажешь то, что хотела, я бы хотел разобраться с одним вопросом, который тебе наверняка покажется непроходимой глупостью, но тем не менее. Я тридцать лет слышу слово вихрь. Мне надавали с полсотни разных объяснений этого понятия, я перечитал все, что только можно было найти на этот счет в Аэробашне и в фареолах… И тем не менее, несмотря на это, или, быть может из-за этого, я чувствую себя совершенно потерянным в вопросе, у меня не получается выстроить ясное понимание самого концепта, я не могу четко очертить для себя все то, что об этом знаю. Я знаю либо слишком много, либо недостаточно. Так вот, мой недалекий вопрос заключается в следующем: что такое вихрь? Что это на самом деле значит?
— Знаешь, твой вопрос более чем уместен. Это даже самый лучший вопрос, с которого можно начать. Так вот…
Я не отвечала. Я не знала, с чего начать. То, что я должна ему рассказать за столь короткий промежуток времени, было слишком объемно… Для чего было ждать столько лет? У меня была тысяча возможностей сделать это раньше! Но нет, тебе обязательно нужно еще подумать, Ороси Меликерт, дождаться последнего момента. Откровенно говоря, через два месяца после Крафлы я перестала надеяться, что мы когда-нибудь куда-то дойдем. К чему все это вообще, думала я. Но затем вдруг появился первый признак: зыбь, расходившаяся очень долгими волнами. С каждым днем волнение потока усиливалось, утверждалось все глубже — догадка, знак, намек на доказательство, доказательство? Не настолько, чтобы понять, что мы так близко. Я неправильно истолковала вихревой шлейф, плохо просчитала отделяющую нас дистанцию, но хроны так быстро растворялись там, в верховье. Сов достаточно быстро освоился в повисшей паузе, и в каком-то смысле освободил меня от терзаний с чего начать:
— Ороси, перед тем как ты скажешь то, что хотела, я бы хотел разобраться с одним вопросом, который тебе наверняка покажется непроходимой глупостью, но тем не менее. Я тридцать лет слышу слово вихрь. Мне надавали с полсотни разных объяснений этого понятия, я перечитал все, что только можно было найти на этот счет в Аэробашне и в фареолах… И тем не менее, несмотря на это, или, быть может из-за этого, я чувствую себя совершенно потерянным в вопросе, у меня не получается выстроить ясное понимание самого концепта, я не могу четко очертить для себя все то, что об этом знаю. Я знаю либо слишком много, либо недостаточно. Так вот, мой недалекий вопрос заключается в следующем: что такое вихрь? Что это на самом деле значит?
— Знаешь, твой вопрос более чем уместен. Это даже самый лучший вопрос, с которого можно начать. Так вот…
 Ороси с трудом оперлась спиной о холмик. Сделала она это с усталостью, с какой двигаются беременные женщины. Она напомнила мне Аои десять лет тому назад… Хотя никаких намеков на живот не было заметно.
— Вихрь такой, каким ты его видел в вераморфном хроне. Это своего рода клубок из чистого ветра, размером примерно с большой кулак. У клубка может быть бесконечное количество форм. Самые простые похожи на колесо без спиц, как наспех очерченный круг, или на вытянутые восьмерки. Хотя у большинства все-таки просматривается сложная топология, которая называется узлом. Узел — это траектория, по которой проходит ветер, чтобы вернуться в свою изначальную точку. Движение это, как тебе известно, всегда круговое, замкнутое, так как именно это кольцо обеспечивает компактность вихря.
— Можно ли разрубить этот узел или развязать его?
— Теоретически — да. Но на практике ветер циркулирует внутри узла на абсолютной скорости. Ты помнишь, что я говорила вам на Крафле по поводу алмазного ветра?
— Да.
— Эта абсолютная скорость не выдумка и не преувеличение. И у нее вполне конкретные характеристики. Во-первых, это обозначает, что ветер присутствует во всех точках траектории одновременно. При относительной скорости, пусть даже невероятно высокой, ветер всегда находится в определенной зоне, в определенный момент. Здесь
Ороси с трудом оперлась спиной о холмик. Сделала она это с усталостью, с какой двигаются беременные женщины. Она напомнила мне Аои десять лет тому назад… Хотя никаких намеков на живот не было заметно.
— Вихрь такой, каким ты его видел в вераморфном хроне. Это своего рода клубок из чистого ветра, размером примерно с большой кулак. У клубка может быть бесконечное количество форм. Самые простые похожи на колесо без спиц, как наспех очерченный круг, или на вытянутые восьмерки. Хотя у большинства все-таки просматривается сложная топология, которая называется узлом. Узел — это траектория, по которой проходит ветер, чтобы вернуться в свою изначальную точку. Движение это, как тебе известно, всегда круговое, замкнутое, так как именно это кольцо обеспечивает компактность вихря.
— Можно ли разрубить этот узел или развязать его?
— Теоретически — да. Но на практике ветер циркулирует внутри узла на абсолютной скорости. Ты помнишь, что я говорила вам на Крафле по поводу алмазного ветра?
— Да.
— Эта абсолютная скорость не выдумка и не преувеличение. И у нее вполне конкретные характеристики. Во-первых, это обозначает, что ветер присутствует во всех точках траектории одновременно. При относительной скорости, пусть даже невероятно высокой, ветер всегда находится в определенной зоне, в определенный момент. Здесь
 Сов придвинулся поближе и коснулся моей шеи губами. Я погладила его по непослушным волосам, пахнувшим дымом костра, тихонько отстранила его голову от своей и посмотрела ему в глаза. В нем чувствовалась какая-то влюбленная веселость, что мне очень нравилась. Я загубила столько лет…
— Я хочу быть уверена, что ты все правильно понимаешь, Сов. Я не случайно решила тебе все это объяснить сегодня вечером.
— Разумеется.
— Так вот. Я хочу, чтобы все было ясно. Ответственность, которая ляжет на тебя в будущем, — огромна. Она почти… почти нечеловечна. Я попросила тебя удалиться со мной, чтобы подготовить к тому, с чем тебе придется столкнуться, когда мы окажемся на Верхнем Пределе. А быть может, и за ним…
— За ним? Не существует никакого за ним! И Верхнего Предела не существует, ты же это знаешь еще со дня, когда мы были в Аэробашне!
Сов придвинулся поближе и коснулся моей шеи губами. Я погладила его по непослушным волосам, пахнувшим дымом костра, тихонько отстранила его голову от своей и посмотрела ему в глаза. В нем чувствовалась какая-то влюбленная веселость, что мне очень нравилась. Я загубила столько лет…
— Я хочу быть уверена, что ты все правильно понимаешь, Сов. Я не случайно решила тебе все это объяснить сегодня вечером.
— Разумеется.
— Так вот. Я хочу, чтобы все было ясно. Ответственность, которая ляжет на тебя в будущем, — огромна. Она почти… почти нечеловечна. Я попросила тебя удалиться со мной, чтобы подготовить к тому, с чем тебе придется столкнуться, когда мы окажемся на Верхнем Пределе. А быть может, и за ним…
— За ним? Не существует никакого за ним! И Верхнего Предела не существует, ты же это знаешь еще со дня, когда мы были в Аэробашне!
 Я вскочил, раскидал в ярости остатки бревен в костре, сел, снова встал, и стал кидать бум прямо к верховью. Не останавливаясь, по кругу. Получалось с трудом,
Я вскочил, раскидал в ярости остатки бревен в костре, сел, снова встал, и стал кидать бум прямо к верховью. Не останавливаясь, по кругу. Получалось с трудом,
 У меня на четверть минуты перехватило дыхание. Я почувствовала себя совершенно раздавленной под этой волной опасений и уверток. Нужно было, чтоб он радикально избавился от уничижения собственной персоны, от удобного принятия поражения. Он должен был перестать бежать, он должен был встретиться лицом к лицу с тем, что его ожидало, должен был обрести силу…
— Ладно, не надо, я и так знаю, что ты думаешь: я для тебя в роли скриба не на высоте. Вполне возможно, в самом начале запись велась устно, голос господствовал над письменностью, запись была лишь второразрядным инструментом, нужным только для хранения слов, и у нее была совершенно другая задача, нежели эта блеклая передача событий, в которую превратились контржурналы. Но меня учили именно этому, Ороси!
— Я понимаю. Но это не оправдание. Значит, ты должен превзойти свое дело и свои умения!
— Давай короче и яснее!
— Я просто хочу, чтобы ты знал: существует возможная коммуникация с вихрями! По крайней мере в теории! И этот мост держится на глифах. Сов…
— Что?
— Ты понимаешь насколько это важно?
— Не думаю, что ты понимаешь, какую ответственность хочешь на меня возложить. Ты меня просишь, чтобы я взял на себя всю Орду! Сначала ты меня заваливаешь кучей откровений и тайн, а потом говоришь: это не
У меня на четверть минуты перехватило дыхание. Я почувствовала себя совершенно раздавленной под этой волной опасений и уверток. Нужно было, чтоб он радикально избавился от уничижения собственной персоны, от удобного принятия поражения. Он должен был перестать бежать, он должен был встретиться лицом к лицу с тем, что его ожидало, должен был обрести силу…
— Ладно, не надо, я и так знаю, что ты думаешь: я для тебя в роли скриба не на высоте. Вполне возможно, в самом начале запись велась устно, голос господствовал над письменностью, запись была лишь второразрядным инструментом, нужным только для хранения слов, и у нее была совершенно другая задача, нежели эта блеклая передача событий, в которую превратились контржурналы. Но меня учили именно этому, Ороси!
— Я понимаю. Но это не оправдание. Значит, ты должен превзойти свое дело и свои умения!
— Давай короче и яснее!
— Я просто хочу, чтобы ты знал: существует возможная коммуникация с вихрями! По крайней мере в теории! И этот мост держится на глифах. Сов…
— Что?
— Ты понимаешь насколько это важно?
— Не думаю, что ты понимаешь, какую ответственность хочешь на меня возложить. Ты меня просишь, чтобы я взял на себя всю Орду! Сначала ты меня заваливаешь кучей откровений и тайн, а потом говоришь: это не
 Ороси встала потянуться и немного пройтись. Тяжелые морщины пересекали ее лоб, прочерчивали щеки. Я понимал: она берет на себя то, что не решается возложить на меня, и берет не мешочками, а целым мешком страхов и забот, что еще в силах поднять сама, но должна будет скоро передать мне, дырявый и ненадежный. У меня, разумеется, были свои мысли насчет Караколя, но что-то удерживало меня, не давая о них сказать. Я ждал подтверждения, и не напрасно:
Ороси встала потянуться и немного пройтись. Тяжелые морщины пересекали ее лоб, прочерчивали щеки. Я понимал: она берет на себя то, что не решается возложить на меня, и берет не мешочками, а целым мешком страхов и забот, что еще в силах поднять сама, но должна будет скоро передать мне, дырявый и ненадежный. У меня, разумеется, были свои мысли насчет Караколя, но что-то удерживало меня, не давая о них сказать. Я ждал подтверждения, и не напрасно:
 Он орал на меня, тряс, языки пламени пробегали у меня по спине, его ослепило паническое разочарование, он больше ничего не слышал и не понимал, я не знала как мне быть, не знала, как ему сказать:
— Он твой, но не только твой… Этот ребенок одновременно от нас троих…
Я снова сделала глубокий, полный влажности и дыма, опустившийся в самые легкие вдох, и наконец выложила в звуковое пространство куб из смысла и звуков:
— Я беременна от тебя и от Караколя. Я жду гибридного ребенка от вас обоих и не знаю, сможет ли он на самом деле родиться. Но я сделала свою ставку.
— Сделала ставку?!
— Я хотела дойти до конца своего пути, изнутри понять, что такое ветер…
Сов бросил меня, сам того не заметив, и я упала рядом с костром и поранила локоть о догоравшую головешку. Меньше чем за полминуты по лицу Сова пронеслось столько налетевших друг на друга эмоций, что я застыла с открытым ртом, не зная, что произойдет в следующий миг — бросит ли он меня в костер, поцелует, обрушится бранью, сбежит, улыбнется, ударит. Но он утих, глаза его остановились на мне, он поднял меня одной рукой и спросил, глубоким, низким голосом:
— Ты обо мне подумала?
— Конечно.
— Ты же знаешь, как я хотел этого ребенка.
Он орал на меня, тряс, языки пламени пробегали у меня по спине, его ослепило паническое разочарование, он больше ничего не слышал и не понимал, я не знала как мне быть, не знала, как ему сказать:
— Он твой, но не только твой… Этот ребенок одновременно от нас троих…
Я снова сделала глубокий, полный влажности и дыма, опустившийся в самые легкие вдох, и наконец выложила в звуковое пространство куб из смысла и звуков:
— Я беременна от тебя и от Караколя. Я жду гибридного ребенка от вас обоих и не знаю, сможет ли он на самом деле родиться. Но я сделала свою ставку.
— Сделала ставку?!
— Я хотела дойти до конца своего пути, изнутри понять, что такое ветер…
Сов бросил меня, сам того не заметив, и я упала рядом с костром и поранила локоть о догоравшую головешку. Меньше чем за полминуты по лицу Сова пронеслось столько налетевших друг на друга эмоций, что я застыла с открытым ртом, не зная, что произойдет в следующий миг — бросит ли он меня в костер, поцелует, обрушится бранью, сбежит, улыбнется, ударит. Но он утих, глаза его остановились на мне, он поднял меня одной рукой и спросил, глубоким, низким голосом:
— Ты обо мне подумала?
— Конечно.
— Ты же знаешь, как я хотел этого ребенка.
 Я первый забил тревогу. Из-за внезапного яркого, ни на что не похожего света. В совершеннейшем тумане, глубокой ночью. Голгот тут же выскочил из своего спального мешка. В руке у него наверняка был бум наготове. Я Голгота не видел. Я вообще никого не мог различить. Горст и Карст что-то бурчали, ястребник звал Шиста. Кориолис, похоже, даже не двигалась. Я старался нащупать ее ногой. Напрасно. Ее, как и всех остальных, поглотила кромешная темнота. Я следил за траекторией крохотных хронов. Они спускались с верховья сотнями. Большинство не превышало размером золотую бусинку, или яйцо. Они плыли по воздуху, как стая светлячков. Словно звезды, упавшие с опустившегося небосвода. Некоторые, проходя мимо, задевали нас, и можно было рассмотреть поближе эти светящиеся желто-оранжевые коконы. Они мерцали изнутри. Я не сразу понял, отчего именно меня пробирала тревожная дрожь. Дело не в количестве, хотя их было огромное множество, словно капель дождя в летней грозе.
Я первый забил тревогу. Из-за внезапного яркого, ни на что не похожего света. В совершеннейшем тумане, глубокой ночью. Голгот тут же выскочил из своего спального мешка. В руке у него наверняка был бум наготове. Я Голгота не видел. Я вообще никого не мог различить. Горст и Карст что-то бурчали, ястребник звал Шиста. Кориолис, похоже, даже не двигалась. Я старался нащупать ее ногой. Напрасно. Ее, как и всех остальных, поглотила кромешная темнота. Я следил за траекторией крохотных хронов. Они спускались с верховья сотнями. Большинство не превышало размером золотую бусинку, или яйцо. Они плыли по воздуху, как стая светлячков. Словно звезды, упавшие с опустившегося небосвода. Некоторые, проходя мимо, задевали нас, и можно было рассмотреть поближе эти светящиеся желто-оранжевые коконы. Они мерцали изнутри. Я не сразу понял, отчего именно меня пробирала тревожная дрожь. Дело не в количестве, хотя их было огромное множество, словно капель дождя в летней грозе.
 С верховья на нас косо-криво ползла какая-то огромная черепаха, так посмотришь — настоящий кусмень стейка, вырезанный прямо из солнца, так глаза слепит. А вокруг сплошняком, словно волдыри светящиеся, вскакивают, клокочут повсюду, можно подумать, фонарь в котле сварили, ползет вкось да наперекосяк, у меня чуть зенки от такого зрелища не повывалились. А черепаха все на нас ползет, да жрет на ходу весь свет, так что собственных причиндалов без фонаря не рассмотришь. А тут еще брательники разгорланиться время нашли, Кориолис в своем углу что-то воет, Стреб петуха своего найти не может, а Ороси так вообще унесло в чисто поле нашему эксперту по перу да по чужим перинам бубенчики свои показывать — один только Пьетро в строю остался, только и князек наш не меньше меня попутался, стоит что-то вопит в темнотище, выход у ночи из заднего прохода небось ищет, понять не может, что за фейерверк и каким ветром его сюда занесло!
С верховья на нас косо-криво ползла какая-то огромная черепаха, так посмотришь — настоящий кусмень стейка, вырезанный прямо из солнца, так глаза слепит. А вокруг сплошняком, словно волдыри светящиеся, вскакивают, клокочут повсюду, можно подумать, фонарь в котле сварили, ползет вкось да наперекосяк, у меня чуть зенки от такого зрелища не повывалились. А черепаха все на нас ползет, да жрет на ходу весь свет, так что собственных причиндалов без фонаря не рассмотришь. А тут еще брательники разгорланиться время нашли, Кориолис в своем углу что-то воет, Стреб петуха своего найти не может, а Ороси так вообще унесло в чисто поле нашему эксперту по перу да по чужим перинам бубенчики свои показывать — один только Пьетро в строю остался, только и князек наш не меньше меня попутался, стоит что-то вопит в темнотище, выход у ночи из заднего прохода небось ищет, понять не может, что за фейерверк и каким ветром его сюда занесло!
 Ороси проснулась раньше меня и теперь вела за руку по равнине. Она не переставала со мной говорить, стара-
Ороси проснулась раньше меня и теперь вела за руку по равнине. Она не переставала со мной говорить, стара-
 В итоге нам все-таки удалось друг друга отыскать. Теперь мы стояли вшестером. В последний момент нашлись. Теперь мне слышались голоса, и не мне одному. Кориолис
В итоге нам все-таки удалось друг друга отыскать. Теперь мы стояли вшестером. В последний момент нашлись. Теперь мне слышались голоса, и не мне одному. Кориолис
 Легко, конечно, утверждать что-то постфактум, но мне кажется, я бы и без помощи Ороси нашел остальных, по интуиции. Когда мы к ним подошли, совершенно невидимый звукохрон вибрировал в тридцати метрах от нас. Мы не могли произнести ни слова, у нас словно украли голоса, слова, не рождаясь, исчезали прямо в горле, я стал хлопать в ладоши, хлопал, хлопал, пускал беззвучные крики, яростные свистки. Во мне разрасталось чувство беспомощности, поглощало меня от этой безголосости еще больше, чем от отсутствия осязания и обоняния. Поглотившая нас тишина напоминала приступы удушья, которые случались со мной в детстве, в Аберлаасе, когда глубокой ночью к нам в спальню пробирался весь дортуар Трассеров и наглухо закрывал нас, спящих, в спальных мешках, пока мы не начнем задыхаться, и я просыпался
Легко, конечно, утверждать что-то постфактум, но мне кажется, я бы и без помощи Ороси нашел остальных, по интуиции. Когда мы к ним подошли, совершенно невидимый звукохрон вибрировал в тридцати метрах от нас. Мы не могли произнести ни слова, у нас словно украли голоса, слова, не рождаясь, исчезали прямо в горле, я стал хлопать в ладоши, хлопал, хлопал, пускал беззвучные крики, яростные свистки. Во мне разрасталось чувство беспомощности, поглощало меня от этой безголосости еще больше, чем от отсутствия осязания и обоняния. Поглотившая нас тишина напоминала приступы удушья, которые случались со мной в детстве, в Аберлаасе, когда глубокой ночью к нам в спальню пробирался весь дортуар Трассеров и наглухо закрывал нас, спящих, в спальных мешках, пока мы не начнем задыхаться, и я просыпался
 Ночка ожидалась веселенькая, с моим брательником у меня во флигеле за стеночкой, он никак уняться не мог, орал мне, что надо двигать дальше, рыть носом землю прямо по курсу, что я был на финишной, что осталось каких-то жалких сто шагов, орал, что еще несчастных сто шагов и мы будем первые, ты это сделал, сделал, заладил он по кругу у меня в башке, а я-то как раз не очень понимал ни где я, ни что! — барабанный хрон справа набирал обороты, стучал с каждым ударом глуше, жестче, выходил из ритма, засранец. Я свою ордяху подхватил и давай драпать отсюда куда подальше, главное на яйца огненные всмятку не налетать по ходу. Не знаю, кто там по этому барабану стучал, но молоток у него был отбойный. Голоса бряцали хоть отбавляй, клац-клац, впереди и сверху, рев упаренных горсов, молотый камень в ушные раковины — кисты чистого звука на каждом ударе, резкие, иногда такие что и трухануть можно, а иногда и по мировой, как сервал мурчащий, так, порыв ветра просто, пучки травы примятые — но четко все слышно, порядок. А потом один хрон вообще в поля занесло! У этого запасов до утра хватило, всю ночь бросался в нас кирпичами звуков, пока не опорожнил весь свой арсенал криков со шквалами, целую кучу голосов, которые мы никогда раньше и не слыхивали, с акцентом низовья от какого-то ветра, мерзовастенький
Ночка ожидалась веселенькая, с моим брательником у меня во флигеле за стеночкой, он никак уняться не мог, орал мне, что надо двигать дальше, рыть носом землю прямо по курсу, что я был на финишной, что осталось каких-то жалких сто шагов, орал, что еще несчастных сто шагов и мы будем первые, ты это сделал, сделал, заладил он по кругу у меня в башке, а я-то как раз не очень понимал ни где я, ни что! — барабанный хрон справа набирал обороты, стучал с каждым ударом глуше, жестче, выходил из ритма, засранец. Я свою ордяху подхватил и давай драпать отсюда куда подальше, главное на яйца огненные всмятку не налетать по ходу. Не знаю, кто там по этому барабану стучал, но молоток у него был отбойный. Голоса бряцали хоть отбавляй, клац-клац, впереди и сверху, рев упаренных горсов, молотый камень в ушные раковины — кисты чистого звука на каждом ударе, резкие, иногда такие что и трухануть можно, а иногда и по мировой, как сервал мурчащий, так, порыв ветра просто, пучки травы примятые — но четко все слышно, порядок. А потом один хрон вообще в поля занесло! У этого запасов до утра хватило, всю ночь бросался в нас кирпичами звуков, пока не опорожнил весь свой арсенал криков со шквалами, целую кучу голосов, которые мы никогда раньше и не слыхивали, с акцентом низовья от какого-то ветра, мерзовастенький
 В общем-то так было даже лучше, что первые спустившиеся на нас хроны были из звукохронов и люменов: они достаточно затмевали восприятие, чтобы скрыть… когорту других хронов. Те, что шли на нас с верховья, не имели ничего общего с обычной постярветренной пролиферацией: все равно что сравнивать снегопад с лавиной. Мы находились в передней у хаоса. Психроны, сихроны и хротали — все это шло на нас беспрерывной взаимопожирающей волной и переполняло аэропластический план, за чем я наблюдала с ужасом, настолько это превосходило все известные мне методы оценки происходящего. Я всегда видела только, как хроны ведут себя в открытом пространстве, они всегда были достаточно изолированы и развивались беспрепятственно. Здесь же, насколько я понимала, они наталкивались на другие хроны, как только вылуплялись. Силами метаморфозы управлял их инстинкт выживания, они грабили, поглощали и захватывали. Достаточно было только посмотреть, как звукохрон расчищал проходившие мимо него люмены!
Я следила за Кориолис больше, чем за остальными, потому что она была в буквальном смысле сама не своя. Неясный мне феномен, не связанный с компакторами, вытягивал вихри из их принимающих тел, как будто какая-то непреодолимая сила влекла их наружу. Каллироя во мне металась в районе горла, периодически поднимаясь в самый зев, так что мне приходилось ее сдерживать; брат Голгота норовил вылететь через ушную раковину; а Ларко в Кориолис держался у самого рта, все не решаясь
В общем-то так было даже лучше, что первые спустившиеся на нас хроны были из звукохронов и люменов: они достаточно затмевали восприятие, чтобы скрыть… когорту других хронов. Те, что шли на нас с верховья, не имели ничего общего с обычной постярветренной пролиферацией: все равно что сравнивать снегопад с лавиной. Мы находились в передней у хаоса. Психроны, сихроны и хротали — все это шло на нас беспрерывной взаимопожирающей волной и переполняло аэропластический план, за чем я наблюдала с ужасом, настолько это превосходило все известные мне методы оценки происходящего. Я всегда видела только, как хроны ведут себя в открытом пространстве, они всегда были достаточно изолированы и развивались беспрепятственно. Здесь же, насколько я понимала, они наталкивались на другие хроны, как только вылуплялись. Силами метаморфозы управлял их инстинкт выживания, они грабили, поглощали и захватывали. Достаточно было только посмотреть, как звукохрон расчищал проходившие мимо него люмены!
Я следила за Кориолис больше, чем за остальными, потому что она была в буквальном смысле сама не своя. Неясный мне феномен, не связанный с компакторами, вытягивал вихри из их принимающих тел, как будто какая-то непреодолимая сила влекла их наружу. Каллироя во мне металась в районе горла, периодически поднимаясь в самый зев, так что мне приходилось ее сдерживать; брат Голгота норовил вылететь через ушную раковину; а Ларко в Кориолис держался у самого рта, все не решаясь
 Восход солнца стал для нас освобождением. До самого рассвета нарастающая ясность неба была невидима по линии земли. Коконы втягивали в себя малейшие проблески света по всей поверхности травы, в воздухе. Но когда поднялось солнце, произошел незабываемый феномен. При первом же ярком луче мириады коконов засверкали, как слитки жидкого золота. Несколько секунд ночь по-прежнему оставалась нетронутой. А затем коконы раздались в размерах и взорвались в черном небе золотыми солнцами. Изумительное цветение света на краткий миг. Затем солнце выкатило весь свой диск на горизонт и коконы стали отходить к верховью, где поднималась вверх звезда. Их размеры и хрупкая ночная сила наконец стали казаться не столь страшными. Они снова обрели свою материнскую среду. Они мчались к ней молнией. По телу пробежала дрожь и вдруг все стало ясно: они мигрировали. Они отступали, притягиваемые солнцем. Наимощнейшим из всех хронов.
— Я снова вас вижу! Ура!
— Мы снова друг друга слышим! Барнак! Наконец-то!
— Твою ж орду! Я думал сдохну! Я вообще ничего не понимал, что там мой старший хочет, слепо-глухо-немо!
— Да, у нас тоже так же было…
— Что это было, Ороси? Ты что-то поняла?
Ороси нас почти на слушала. Она смотрела на Кориолис. Та выглядела совершенно изнуренной этим испытанием, ее голубой взгляд был пуст, у нее текла слюна.
Восход солнца стал для нас освобождением. До самого рассвета нарастающая ясность неба была невидима по линии земли. Коконы втягивали в себя малейшие проблески света по всей поверхности травы, в воздухе. Но когда поднялось солнце, произошел незабываемый феномен. При первом же ярком луче мириады коконов засверкали, как слитки жидкого золота. Несколько секунд ночь по-прежнему оставалась нетронутой. А затем коконы раздались в размерах и взорвались в черном небе золотыми солнцами. Изумительное цветение света на краткий миг. Затем солнце выкатило весь свой диск на горизонт и коконы стали отходить к верховью, где поднималась вверх звезда. Их размеры и хрупкая ночная сила наконец стали казаться не столь страшными. Они снова обрели свою материнскую среду. Они мчались к ней молнией. По телу пробежала дрожь и вдруг все стало ясно: они мигрировали. Они отступали, притягиваемые солнцем. Наимощнейшим из всех хронов.
— Я снова вас вижу! Ура!
— Мы снова друг друга слышим! Барнак! Наконец-то!
— Твою ж орду! Я думал сдохну! Я вообще ничего не понимал, что там мой старший хочет, слепо-глухо-немо!
— Да, у нас тоже так же было…
— Что это было, Ороси? Ты что-то поняла?
Ороси нас почти на слушала. Она смотрела на Кориолис. Та выглядела совершенно изнуренной этим испытанием, ее голубой взгляд был пуст, у нее текла слюна.
 Я не сразу все поняла. Ни из того, что она говорила, ни почему она это говорила. Вихрь Ларко вырвался наружу и витал перед ней, узел разросся, укрепился, и вертелся рядом. Вихрь же Кориолис едва чувствовался. Передача жизненных сил? Она с трудом поднялась. Вихрь Ларко летел перед ней, а может, даже вел ее к верховью. Мы не стали ее останавливать, а пошли следом. Она сказала, что ей нужно проветриться, и все мы нуждались в свежем воздухе после этой тяжелой ночи, проведенной в черной глухоте. Она шла смело, почти небрежно, пряди волос вольно трепались на ветру, и она не старалась откинуть их с лица. Она шла прямо к солнцу, и мы шли рядом с ней, не то эскорт, не то заслон. Ни одно из моих видений в последние месяцы не предвещало ничего подобного. И все же это было так, самым простым и легким образом, за какие-то сто шагов, мы дошли до Верхнего Предела.
Как бы мне хотелось сберечь в памяти лица Горста и Карста, их оторопелое простодушие, ворчливую физиономию Голгота в этот самый момент, как ястребник разжал ладонь, чтобы выпустить на волю свою птицу, как Пьетро весь помрачнел на последних метрах; мне бы так хотелось услышать, что Ларко нашептывал Кориолис. Но из этого всего я буду помнить только лицо Сова, его силуэт, склонившийся над морем с катящимися волнами облаков, складочки его прищуренных глаз, глядящих на зависшее в воздухе перед нами солнце. Из всех семерых, после моих вчерашних откровений он был единственным, кто мог тут
Я не сразу все поняла. Ни из того, что она говорила, ни почему она это говорила. Вихрь Ларко вырвался наружу и витал перед ней, узел разросся, укрепился, и вертелся рядом. Вихрь же Кориолис едва чувствовался. Передача жизненных сил? Она с трудом поднялась. Вихрь Ларко летел перед ней, а может, даже вел ее к верховью. Мы не стали ее останавливать, а пошли следом. Она сказала, что ей нужно проветриться, и все мы нуждались в свежем воздухе после этой тяжелой ночи, проведенной в черной глухоте. Она шла смело, почти небрежно, пряди волос вольно трепались на ветру, и она не старалась откинуть их с лица. Она шла прямо к солнцу, и мы шли рядом с ней, не то эскорт, не то заслон. Ни одно из моих видений в последние месяцы не предвещало ничего подобного. И все же это было так, самым простым и легким образом, за какие-то сто шагов, мы дошли до Верхнего Предела.
Как бы мне хотелось сберечь в памяти лица Горста и Карста, их оторопелое простодушие, ворчливую физиономию Голгота в этот самый момент, как ястребник разжал ладонь, чтобы выпустить на волю свою птицу, как Пьетро весь помрачнел на последних метрах; мне бы так хотелось услышать, что Ларко нашептывал Кориолис. Но из этого всего я буду помнить только лицо Сова, его силуэт, склонившийся над морем с катящимися волнами облаков, складочки его прищуренных глаз, глядящих на зависшее в воздухе перед нами солнце. Из всех семерых, после моих вчерашних откровений он был единственным, кто мог тут
 Я открыл глаза и посмотрел поверх плеча Ороси за обрывавшееся внезапно, будто топором обрубленное плато и не смог принять то, что видел. В глубине моего естества я продолжал идти вперед, изгибался под утренней струей восходящего тумана, шел контровать против ветра, пусть там бушует шун, пусть шершавый град стегает по щекам, я шел и вглядывался в поисках очередного холма, и телу моему стало так тесно, оно уже рвалось вперед, далеко за этот рельеф из белых катышков, вдаль по зыбкой снежной земле облаков без почвы под ногами, по которой никогда не скрипнет шаг, в которую никогда не войдут шипы наших подошв, кремообразный океан — мечта для фантазера из низовья, вот значит каков был наш конец пути?
Первые минуты у меня просто лились слезы, но я оказался не в силах ответить даже самому себе, были то слезы
Я открыл глаза и посмотрел поверх плеча Ороси за обрывавшееся внезапно, будто топором обрубленное плато и не смог принять то, что видел. В глубине моего естества я продолжал идти вперед, изгибался под утренней струей восходящего тумана, шел контровать против ветра, пусть там бушует шун, пусть шершавый град стегает по щекам, я шел и вглядывался в поисках очередного холма, и телу моему стало так тесно, оно уже рвалось вперед, далеко за этот рельеф из белых катышков, вдаль по зыбкой снежной земле облаков без почвы под ногами, по которой никогда не скрипнет шаг, в которую никогда не войдут шипы наших подошв, кремообразный океан — мечта для фантазера из низовья, вот значит каков был наш конец пути?
Первые минуты у меня просто лились слезы, но я оказался не в силах ответить даже самому себе, были то слезы
 Это был самый подходящий момент, а может и наоборот; в общем, выбора у меня не осталось:
— Ребята, вы можете все сюда подойти, присесть ненадолго? Мне что-то важное нужно вам сказать.
Никто на мою просьбу реагировать не спешил. Голгот с Пьетро продолжали ругаться. Сов поднялся их успокоить, ястребник пошел за близнецами, которые тянули арканом перепуганную лисицу. Кориолис подняла на меня голову, за эту ночь она постарела лет на пять.
— Что ты там еще придумала, аэромастериня? Сначала в Аберлаас бежишь ночевать, когда мы все в коричневой жиже по колено барахтались, а потом нам коллоквиумы устраиваешь? Нужно было в лагере сидеть, как все! — сказал Голгот.
— Я и была, если ты не заметил…
— Ага, через сто лет после потопа!
Это был самый подходящий момент, а может и наоборот; в общем, выбора у меня не осталось:
— Ребята, вы можете все сюда подойти, присесть ненадолго? Мне что-то важное нужно вам сказать.
Никто на мою просьбу реагировать не спешил. Голгот с Пьетро продолжали ругаться. Сов поднялся их успокоить, ястребник пошел за близнецами, которые тянули арканом перепуганную лисицу. Кориолис подняла на меня голову, за эту ночь она постарела лет на пять.
— Что ты там еще придумала, аэромастериня? Сначала в Аберлаас бежишь ночевать, когда мы все в коричневой жиже по колено барахтались, а потом нам коллоквиумы устраиваешь? Нужно было в лагере сидеть, как все! — сказал Голгот.
— Я и была, если ты не заметил…
— Ага, через сто лет после потопа!
 Горст с Карстом подскочили и стали вопить в неожиданном и трогательном порыве радости, они стали обниматься, тычась головами друг другу в плечи, подхватили лисицу и стали целовать ее в красный мех, они поднимали кулаки вверх в знак победы и смотрели на нас, явно не понимая нашей сдержанности после такого объявления:
— Мы дошли! Мы это сделали! Мы первые! Эй, Голгот!!! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА!
…и на этих словах нас всех проняло, это был наш прощальный крик в Аберлаасе, нам было одиннадцать лет, это был крик приободрения, подарок детей, провожавших нас в путь, они шли вместе с нами по нескончаемым сотам местных пыльных окраин, старый забытый крик, убитый годами контра, нашей поношенной зрелостью и безнадежностью. Этот крик вырывался у них изнутри, шел от сердца. «34-я — ДО КОНЦА!». В нашем же круге никто не подхватил радости близнецов, и они не стали бросаться к нам с поцелуями, они были разочарованы,и это понятно, но в них не было осуждения, они не стали нас ни о чем спрашивать, а просто пошли разгружать тележку, и только Пьетро сразу встал им помочь. Они втроем стащили с прицепа мешок с пожеланиями для Верхнего Предела.
Горст с Карстом подскочили и стали вопить в неожиданном и трогательном порыве радости, они стали обниматься, тычась головами друг другу в плечи, подхватили лисицу и стали целовать ее в красный мех, они поднимали кулаки вверх в знак победы и смотрели на нас, явно не понимая нашей сдержанности после такого объявления:
— Мы дошли! Мы это сделали! Мы первые! Эй, Голгот!!! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА! 34-я — ДО КОНЦА!
…и на этих словах нас всех проняло, это был наш прощальный крик в Аберлаасе, нам было одиннадцать лет, это был крик приободрения, подарок детей, провожавших нас в путь, они шли вместе с нами по нескончаемым сотам местных пыльных окраин, старый забытый крик, убитый годами контра, нашей поношенной зрелостью и безнадежностью. Этот крик вырывался у них изнутри, шел от сердца. «34-я — ДО КОНЦА!». В нашем же круге никто не подхватил радости близнецов, и они не стали бросаться к нам с поцелуями, они были разочарованы,и это понятно, но в них не было осуждения, они не стали нас ни о чем спрашивать, а просто пошли разгружать тележку, и только Пьетро сразу встал им помочь. Они втроем стащили с прицепа мешок с пожеланиями для Верхнего Предела.
 Голгот за все это время не пошевелился, не произнес ни слова. Ни колкости, ни издевки. Потом наконец встали направился прямиком к тележке, достал свернутую кольцами веревку, перекинул ее через правое плечо и пошел к растущему особняком дереву в нескольких шагах от обрыва. Нетрудно было догадаться, что у него на уме: он хотел на страховке поискать выступ, чтобы можно было спуститься по цепочке. Он мне, разумеется, не поверил. Его вихрь был тяжелый, сжатый, налитый гневом. В нем говорил не разум, в нем говорил инстинкт. И его инстинкт был прав: я врала. Я врала, потому что это был единственный способ подготовить их к девятой форме.
— Что ты там затеял, Гот? Иди лучше почитай с нами желания! — крикнул ему Горст.
Голгот за все это время не пошевелился, не произнес ни слова. Ни колкости, ни издевки. Потом наконец встали направился прямиком к тележке, достал свернутую кольцами веревку, перекинул ее через правое плечо и пошел к растущему особняком дереву в нескольких шагах от обрыва. Нетрудно было догадаться, что у него на уме: он хотел на страховке поискать выступ, чтобы можно было спуститься по цепочке. Он мне, разумеется, не поверил. Его вихрь был тяжелый, сжатый, налитый гневом. В нем говорил не разум, в нем говорил инстинкт. И его инстинкт был прав: я врала. Я врала, потому что это был единственный способ подготовить их к девятой форме.
— Что ты там затеял, Гот? Иди лучше почитай с нами желания! — крикнул ему Горст.
 Он пошел один. Завязал веревку восьмеркой вокруг ствола. Надел обвязку. Закрепил спускное устройство. Подошел спиной к самому краю обрыва. И одним прыжком исчез из вида. Был бы это кто другой, я бы пошел проследить, все ли в порядке. Но это был Голгот. А он терпеть не мог, чтоб его опекали. «Спаси нас от контровых пиратов и ярветров», — прочитал я пятидесятую по счету записку
Он пошел один. Завязал веревку восьмеркой вокруг ствола. Надел обвязку. Закрепил спускное устройство. Подошел спиной к самому краю обрыва. И одним прыжком исчез из вида. Был бы это кто другой, я бы пошел проследить, все ли в порядке. Но это был Голгот. А он терпеть не мог, чтоб его опекали. «Спаси нас от контровых пиратов и ярветров», — прочитал я пятидесятую по счету записку

 Мы не привыкли затягивать, а потому сразу отправились немного отдохнуть — после изнурительной ночи это всем нам было просто необходимо, а затем собрались за полчаса. Хоть я и чуть стыдился, что не шел рисковать жизнью, как остальные, а оставался здесь, под саркастические замечания Голгота, я все же был рад придерживаться стратегии Ороси. Я не горел желанием умереть, проверяя, есть ли где-то конец этой скалы или нет. Мне нужно было учиться и как можно быстрее. Две недели с Ороси посреди хроновых полей могли пойти мне только на пользу. Я пошел попрощаться с Кориолис, ощутить последний раз прикосновение к ее коже, осыпал ее советами под веселым и поощряющим задорным взглядом Ороси, которая дала нам время поговорить наедине и подошла только в конце.
— Не прыгай в пропасть! Что бы ни случилось, что бы ты там не увидела! Держись от обрыва подальше. Хорошо?
— Хорошо, аэромастер. Я буду держаться от пропасти подальше.
— Что говорил тебе твой голос сегодня утром? Ты помнишь?
— Ах, да-да… Он говорил мне, что придет Ларко. И что в этот раз нужно будет его любить. Это звучало как угроза, ужасно. Я никогда не была влюблена в Ларко, не могла, он мне нравился, но как друг.
— Послушай меня, Кориолис…
— Слушаю, — слезы страха и волнения застилали ей глаза.
— Ларко действительно вернется. Он придет из тебя. Он появится либо с земли, либо из бездны, не важно. Как только он подойдет, ты должна достать свой бум и убить его. Ты меня поняла? Он будет перед тобой такой же живой, как я сейчас, такой же настоящий. Будет говорить с
Мы не привыкли затягивать, а потому сразу отправились немного отдохнуть — после изнурительной ночи это всем нам было просто необходимо, а затем собрались за полчаса. Хоть я и чуть стыдился, что не шел рисковать жизнью, как остальные, а оставался здесь, под саркастические замечания Голгота, я все же был рад придерживаться стратегии Ороси. Я не горел желанием умереть, проверяя, есть ли где-то конец этой скалы или нет. Мне нужно было учиться и как можно быстрее. Две недели с Ороси посреди хроновых полей могли пойти мне только на пользу. Я пошел попрощаться с Кориолис, ощутить последний раз прикосновение к ее коже, осыпал ее советами под веселым и поощряющим задорным взглядом Ороси, которая дала нам время поговорить наедине и подошла только в конце.
— Не прыгай в пропасть! Что бы ни случилось, что бы ты там не увидела! Держись от обрыва подальше. Хорошо?
— Хорошо, аэромастер. Я буду держаться от пропасти подальше.
— Что говорил тебе твой голос сегодня утром? Ты помнишь?
— Ах, да-да… Он говорил мне, что придет Ларко. И что в этот раз нужно будет его любить. Это звучало как угроза, ужасно. Я никогда не была влюблена в Ларко, не могла, он мне нравился, но как друг.
— Послушай меня, Кориолис…
— Слушаю, — слезы страха и волнения застилали ей глаза.
— Ларко действительно вернется. Он придет из тебя. Он появится либо с земли, либо из бездны, не важно. Как только он подойдет, ты должна достать свой бум и убить его. Ты меня поняла? Он будет перед тобой такой же живой, как я сейчас, такой же настоящий. Будет говорить с
 Ороси с близнецами удалились поговорить на четверть часа. Она расцеловала их в щеки, в лоб, держала за руки, шутила с ними. Эти двое, с их круглыми крошечными носами и торчащими во все стороны рыжими космами, казались из всех нас самыми беззаботными и по-здоровому счастливыми. Мысль о том, что мы дошли до Верхнего Предела их ослепляла, она светилась у них на лицах, отливая гордостью, наполненностью и желанием разделить радость хоть с кем-нибудь. Я смотрел, как они уходят и завидовал их нетронутой ребяческой свежести пред лицом испытания, вся серьезность момента словно
Ороси с близнецами удалились поговорить на четверть часа. Она расцеловала их в щеки, в лоб, держала за руки, шутила с ними. Эти двое, с их круглыми крошечными носами и торчащими во все стороны рыжими космами, казались из всех нас самыми беззаботными и по-здоровому счастливыми. Мысль о том, что мы дошли до Верхнего Предела их ослепляла, она светилась у них на лицах, отливая гордостью, наполненностью и желанием разделить радость хоть с кем-нибудь. Я смотрел, как они уходят и завидовал их нетронутой ребяческой свежести пред лицом испытания, вся серьезность момента словно
 Первые четыре дня были ужасно монотонными… Плато простиралось на север, вдаль за горизонт. В день нам попадалось три-четыре холмика для поддержания ритма. Ничего больше. Линия обрыва слегка петляла, и всякий раз мы подходили к самому краю уходящей острием вперед кромки. С выступа мы внимательно осматривали стенки обрыва, стараясь не подходить слишком близко к краю. Тальвег бы справился с такой задачей без труда. Мы пришли к выводу, что это, должно быть, очень твердая порода гранита. Местами совершенно гладкого. Практически без трещин и расколов. Ни одной зацепки на все двести метров, которые удавалось охватить взглядом, пока не упрешься в толщу облаков. Ни единого уступа, где можно было бы закрепиться. Мы втроем шли очень быстро. Иногда даже бежали. По ночам сверкали люмены, Ороси нас заверила, что они вовсе не опасны. Иногда слышались звуки вспышек. Днем нас слегка подталкивал шун. Утром и вечером опускался туман. Я насчитал по пути шесть полусферических дыр типа хронокса.
Мы соблюдали бдительность и следили за хронами. У Кориолис начались какие-то странные фобии. Она то говорила, что помолодела, то преодолевала «пятна страха». Стреб отпускал Шиста так часто, как только мог. В плане психического состояния он тоже был не лучше. Ему часто вспоминался сокольник. Он мысленно возвращался к Бракауэрскому столбу, к полету своего ястреба над ледяным мостом. Заново переживал эту сцену. Признавался, что никак не может от нее отделаться. Ему так же часто вспоминалось, как Дарбон бросил перед нами
Первые четыре дня были ужасно монотонными… Плато простиралось на север, вдаль за горизонт. В день нам попадалось три-четыре холмика для поддержания ритма. Ничего больше. Линия обрыва слегка петляла, и всякий раз мы подходили к самому краю уходящей острием вперед кромки. С выступа мы внимательно осматривали стенки обрыва, стараясь не подходить слишком близко к краю. Тальвег бы справился с такой задачей без труда. Мы пришли к выводу, что это, должно быть, очень твердая порода гранита. Местами совершенно гладкого. Практически без трещин и расколов. Ни одной зацепки на все двести метров, которые удавалось охватить взглядом, пока не упрешься в толщу облаков. Ни единого уступа, где можно было бы закрепиться. Мы втроем шли очень быстро. Иногда даже бежали. По ночам сверкали люмены, Ороси нас заверила, что они вовсе не опасны. Иногда слышались звуки вспышек. Днем нас слегка подталкивал шун. Утром и вечером опускался туман. Я насчитал по пути шесть полусферических дыр типа хронокса.
Мы соблюдали бдительность и следили за хронами. У Кориолис начались какие-то странные фобии. Она то говорила, что помолодела, то преодолевала «пятна страха». Стреб отпускал Шиста так часто, как только мог. В плане психического состояния он тоже был не лучше. Ему часто вспоминался сокольник. Он мысленно возвращался к Бракауэрскому столбу, к полету своего ястреба над ледяным мостом. Заново переживал эту сцену. Признавался, что никак не может от нее отделаться. Ему так же часто вспоминалось, как Дарбон бросил перед нами
 Лети, лети, Шист, полетай еще для меня, моя птица… Лети сквозь усталость, прорвись через прутья моих ребер, разверни в граните скал свои крылья и умчись стремглав через толщу неба, а потом возвращайся ко мне рассказать, что увидишь по ту сторону синевы, на той стороне старого ветра, в который я превратился…
Лети, лети, Шист, полетай еще для меня, моя птица… Лети сквозь усталость, прорвись через прутья моих ребер, разверни в граните скал свои крылья и умчись стремглав через толщу неба, а потом возвращайся ко мне рассказать, что увидишь по ту сторону синевы, на той стороне старого ветра, в который я превратился…
 Хлопай крыльями еще и еще, бей, маши для меня ˙˙˙ Я не стану тебя душить, я лишь прилег на тебя, чтоб свить из
Хлопай крыльями еще и еще, бей, маши для меня ˙˙˙ Я не стану тебя душить, я лишь прилег на тебя, чтоб свить из
 Не знаю, сколько времени я так провисел на веревке посреди колодца. Я смотрел на ястребника. Вскоре тот перестал двигаться. Но продолжал дышать, в этом я был уверен. Долго. Когда поток ветра остановился, я развернул веревку в одну длину и спустился. Кориолис умоляла меня этого не делать. Но что с того. Я взял Стреба за правое плечо и повернул его. Всю одежду с него сорвало ветром. Он лежал совершенно обнаженный. И по-прежнему держал в руках свою птицу, прижимая ее к грудной клетке. Хотите верьте, хотите нет, но птица была жива. Ястреб расправил крылья и взглянул на меня своим оранжевым глазом. Я оторопел. Он отряхнулся и взмыл, шелестя крыльями, прямо к выходу в скале. Вот.
Не знаю, сколько времени я так провисел на веревке посреди колодца. Я смотрел на ястребника. Вскоре тот перестал двигаться. Но продолжал дышать, в этом я был уверен. Долго. Когда поток ветра остановился, я развернул веревку в одну длину и спустился. Кориолис умоляла меня этого не делать. Но что с того. Я взял Стреба за правое плечо и повернул его. Всю одежду с него сорвало ветром. Он лежал совершенно обнаженный. И по-прежнему держал в руках свою птицу, прижимая ее к грудной клетке. Хотите верьте, хотите нет, но птица была жива. Ястреб расправил крылья и взглянул на меня своим оранжевым глазом. Я оторопел. Он отряхнулся и взмыл, шелестя крыльями, прямо к выходу в скале. Вот.

 Вопрос нескольких дней, я этим двоим толстощеким так и сказал. «Держите кураж по курсу, надыбаем мы скоро этот спуск, и снова рванем к верховью! У Ороси тормоза поехали с тех пор, как Сов ее дыроколить взялся, нечего ее слушать, рты позакрывали и марш на юг», — так им и сказал. Ну они что, посмеялись, как обычно, двух таких удальцов, конечно, еще поискать надо! Бужу их, значит, сегодня утром, — ну да, я на карауле был, и что с того? Смотрю с низовья несется стадо ветровых жеребцов! Я таких только в загоне видел, да и то сто лет назад! Это вам не лошаденки, что у подветренников орало тягают. Во-первых, ветровые жеребцы стройнее, и грива у них на ветру развевается, они друг другу все соринки из нее выщипывают. А главное морды у них более вытянутые, тонкие, как лезвие, это им придает вид поблагороднее, да еще и с их мастью блестяще-серебристой, красота! Ну я братишек растолкал тогда, знаю, что они к этим скакунам не ровно дышат, так они раз-два и вперед, так босиком и погнали все стадо галопом. Потом прыти приспустили чуток, тихонько подойти хотели, но жеребцы в отказ, слегка подступить дали и снова деру, ищи за горизонтом! Я к полудню уже хороший отрезок успел пройти, и тут слышу у меня за спиной целая кавалькада, два моих резвуна несутся каждый на своем коне, да еще и мне третьего в придачу тянут. Я его быстренько приручил и погнали, ровнехонько на юг, скачи моя лошадка, в три раза быстрее, чем пешком, вот это я понимаю!
Ладно. Хорошего понемногу. Стали мы на привал, а они мне: «Мы за другими сгоняем, еще парочку жеребцов приведем, а ты поспи пока, ты всю ночь на карауле простоял! А мы тебе еще и дичи заодно раздобудем». Только они так и не вернулись. Без шуток. Я целый день прождал. Думал, может заблудились. Ночью тоже никого. Я и утро
Вопрос нескольких дней, я этим двоим толстощеким так и сказал. «Держите кураж по курсу, надыбаем мы скоро этот спуск, и снова рванем к верховью! У Ороси тормоза поехали с тех пор, как Сов ее дыроколить взялся, нечего ее слушать, рты позакрывали и марш на юг», — так им и сказал. Ну они что, посмеялись, как обычно, двух таких удальцов, конечно, еще поискать надо! Бужу их, значит, сегодня утром, — ну да, я на карауле был, и что с того? Смотрю с низовья несется стадо ветровых жеребцов! Я таких только в загоне видел, да и то сто лет назад! Это вам не лошаденки, что у подветренников орало тягают. Во-первых, ветровые жеребцы стройнее, и грива у них на ветру развевается, они друг другу все соринки из нее выщипывают. А главное морды у них более вытянутые, тонкие, как лезвие, это им придает вид поблагороднее, да еще и с их мастью блестяще-серебристой, красота! Ну я братишек растолкал тогда, знаю, что они к этим скакунам не ровно дышат, так они раз-два и вперед, так босиком и погнали все стадо галопом. Потом прыти приспустили чуток, тихонько подойти хотели, но жеребцы в отказ, слегка подступить дали и снова деру, ищи за горизонтом! Я к полудню уже хороший отрезок успел пройти, и тут слышу у меня за спиной целая кавалькада, два моих резвуна несутся каждый на своем коне, да еще и мне третьего в придачу тянут. Я его быстренько приручил и погнали, ровнехонько на юг, скачи моя лошадка, в три раза быстрее, чем пешком, вот это я понимаю!
Ладно. Хорошего понемногу. Стали мы на привал, а они мне: «Мы за другими сгоняем, еще парочку жеребцов приведем, а ты поспи пока, ты всю ночь на карауле простоял! А мы тебе еще и дичи заодно раздобудем». Только они так и не вернулись. Без шуток. Я целый день прождал. Думал, может заблудились. Ночью тоже никого. Я и утро
 Четырнадцать дней истекло, а ни одна из групп так на горизонте и не появилась. За это время живот у Оро-
Четырнадцать дней истекло, а ни одна из групп так на горизонте и не появилась. За это время живот у Оро-
 Я навскидку пять сотен километров на север на своем вороном проделал, перед тем как слезть на свои ходули и галопом к Сову с Ороси, проверить не наплодили ли они там малышни за это время. Жеребец мне попался крепкий, не из пугливых, я его к дереву привязывал, когда у
Я навскидку пять сотен километров на север на своем вороном проделал, перед тем как слезть на свои ходули и галопом к Сову с Ороси, проверить не наплодили ли они там малышни за это время. Жеребец мне попался крепкий, не из пугливых, я его к дереву привязывал, когда у
 Голгот, весь словно обмякший, сидел, поджав под себя ноги. Он вернулся на три дня раньше Пьетро, на ветряном жеребце, который еле тащил ноги. Как только мы его заметили, то сразу бросились навстречу. На нем лица не было, он не просто был не в форме, он был на грани того, чтобы наложить на себя руки. Мы его раздели, искупали, он был не в состоянии ответить ни на один наш вопрос; щеки у него обросли щетиной, вокруг глаз пролегли трещины, заскорузлые сопли перепачкали пол-лица. Он
Голгот, весь словно обмякший, сидел, поджав под себя ноги. Он вернулся на три дня раньше Пьетро, на ветряном жеребце, который еле тащил ноги. Как только мы его заметили, то сразу бросились навстречу. На нем лица не было, он не просто был не в форме, он был на грани того, чтобы наложить на себя руки. Мы его раздели, искупали, он был не в состоянии ответить ни на один наш вопрос; щеки у него обросли щетиной, вокруг глаз пролегли трещины, заскорузлые сопли перепачкали пол-лица. Он
 Ороси ничего не ответила. Меня разрывало изнутри. Видеть Голгота таким… Он никогда не сдавался. Никогда, ни разу! Ни на Лапсанском сифоне, ни перед Дубильщиком, ни на Бракауэрском столбе, ни когда пришлось закинуть Ларко на ледяной мост. Ни после своего жуткого падения с Антоновского пика. Он всегда поднимался, цеплялся, шел! А на Крафле? Как он всех нас одним рывком на полуотвесный склон потянул. Это какую смелость надо иметь! Для меня, для всех нас, Голгот… Ничто не могло его остановить. Абсолютно ничто. Кто угодно на этом свете мог рухнуть, только не он. Небеса могли скорее обрушиться и разбиться вдребезги, как кусок стекла. Но только не Голгот. Смотреть, как он валяется у нас под ногами, с опустошенным взглядом, воняющий мочой, было все равно что видеть, как погибает наша Орда. Она медленно удалялась вместе с ним и с памятью о том, кем мы когда-то были.
— Он очень похудел…
— Он уже пять дней ничего не ел. Он пищу не глотает. Сов ему насильно каждый раз в рот еду запихивает. Дичь измельченную, почти пюре считай. Он даже не выплевы-
Ороси ничего не ответила. Меня разрывало изнутри. Видеть Голгота таким… Он никогда не сдавался. Никогда, ни разу! Ни на Лапсанском сифоне, ни перед Дубильщиком, ни на Бракауэрском столбе, ни когда пришлось закинуть Ларко на ледяной мост. Ни после своего жуткого падения с Антоновского пика. Он всегда поднимался, цеплялся, шел! А на Крафле? Как он всех нас одним рывком на полуотвесный склон потянул. Это какую смелость надо иметь! Для меня, для всех нас, Голгот… Ничто не могло его остановить. Абсолютно ничто. Кто угодно на этом свете мог рухнуть, только не он. Небеса могли скорее обрушиться и разбиться вдребезги, как кусок стекла. Но только не Голгот. Смотреть, как он валяется у нас под ногами, с опустошенным взглядом, воняющий мочой, было все равно что видеть, как погибает наша Орда. Она медленно удалялась вместе с ним и с памятью о том, кем мы когда-то были.
— Он очень похудел…
— Он уже пять дней ничего не ел. Он пищу не глотает. Сов ему насильно каждый раз в рот еду запихивает. Дичь измельченную, почти пюре считай. Он даже не выплевы-
 34-я Орда Встречного Ветра заканчивалась вместе с нами, в слезах и испражнениях. Быть может там, в низовье, у водопадов лагеря Бобан, еще смеялись и думали о нас Альма Капис, Аои Нан и Силамфр: может, близнецы Дубка скакали на ветровых жеребцах по бескрайним степям, на сотни километров забытья на север, а Кориолис тихонько скользила вдоль небесной глади навстречу космосу на своем канате провидения, а в клетке ее груди вместе с ней был Ларко, и может в Шисте оставалось что-то от безграничной щедрости ястребника, от его дрессировки, заключавшейся не только в приказах и наказаниях. Все может быть. Ороси говорила нам о девятой форме, но я до сих пор так и не встретил свою. Она говорила о невыносимом личном испытании, через которое каждому из нас предстоит пройти, но то с чем я уже здесь столкнулся было даже хуже: на моих глазах рушилась вся арматура неистребимой веры, мужества и любви, что звалась Ордой и во главе которой шел Трассер, или Трактор, как говорил о нем Тальвег, он был блоком из живого свинца, Голгот девятый, лучший во всем своем оглушительном роде, как и за всю историю Орд. Мне казалось, он так и унесет свой секрет в зажатом кулаке по окончании своего протеста о конце пути.
— Ты планируешь продолжать делать ему массаж?
— Я стараюсь поддерживать его связь с внешним миром.
— У меня получилось залить ему в горло немного воды, он хотя бы обезвоживаться не будет.
34-я Орда Встречного Ветра заканчивалась вместе с нами, в слезах и испражнениях. Быть может там, в низовье, у водопадов лагеря Бобан, еще смеялись и думали о нас Альма Капис, Аои Нан и Силамфр: может, близнецы Дубка скакали на ветровых жеребцах по бескрайним степям, на сотни километров забытья на север, а Кориолис тихонько скользила вдоль небесной глади навстречу космосу на своем канате провидения, а в клетке ее груди вместе с ней был Ларко, и может в Шисте оставалось что-то от безграничной щедрости ястребника, от его дрессировки, заключавшейся не только в приказах и наказаниях. Все может быть. Ороси говорила нам о девятой форме, но я до сих пор так и не встретил свою. Она говорила о невыносимом личном испытании, через которое каждому из нас предстоит пройти, но то с чем я уже здесь столкнулся было даже хуже: на моих глазах рушилась вся арматура неистребимой веры, мужества и любви, что звалась Ордой и во главе которой шел Трассер, или Трактор, как говорил о нем Тальвег, он был блоком из живого свинца, Голгот девятый, лучший во всем своем оглушительном роде, как и за всю историю Орд. Мне казалось, он так и унесет свой секрет в зажатом кулаке по окончании своего протеста о конце пути.
— Ты планируешь продолжать делать ему массаж?
— Я стараюсь поддерживать его связь с внешним миром.
— У меня получилось залить ему в горло немного воды, он хотя бы обезвоживаться не будет.
 Два дня мы занимались исключительно им. И наконец что-то стало происходить…
— Есть, он начинает передвигаться, пальцы понемногу расходятся…
Ни у кого из нас троих не хватило смелости разжать кулак. Рука его лежала на ноге, чуть повыше колена, ладонью кверху. Мы дождались, пока все пять пальцев сами разомкнулись.Внутри ладони и правда что-то было. Скомканный комок. Кусок синей ткани. Вылинявшая под дождем и под солнцем лента. Сов бережно ее развернул. Сначала нам показалось, что на ней ничего нет. Но перевернув лоскут и вглядевшись повнимательнее, мы рассмотрели два знака, оставленные черными чернилами: «Ω 6».
— Где он это нашел?
— Где-то на обратном пути.
— Если бы шестой Голгот побывал здесь раньше нас он бы оставил флаг, сделал курган!
— Это не обязательно был шестой Голгот. Это мог быть кто угодно из 31-й Орды. Кто-то, кому удалось выжить… Я, например, тоже за собой знак «Ω 9» оставляю…
— Значит мы не первые, кто дошел до Верхнего Предела.
— Нет, не первые. У нас в руках доказательство, что не первые.
Два дня мы занимались исключительно им. И наконец что-то стало происходить…
— Есть, он начинает передвигаться, пальцы понемногу расходятся…
Ни у кого из нас троих не хватило смелости разжать кулак. Рука его лежала на ноге, чуть повыше колена, ладонью кверху. Мы дождались, пока все пять пальцев сами разомкнулись.Внутри ладони и правда что-то было. Скомканный комок. Кусок синей ткани. Вылинявшая под дождем и под солнцем лента. Сов бережно ее развернул. Сначала нам показалось, что на ней ничего нет. Но перевернув лоскут и вглядевшись повнимательнее, мы рассмотрели два знака, оставленные черными чернилами: «Ω 6».
— Где он это нашел?
— Где-то на обратном пути.
— Если бы шестой Голгот побывал здесь раньше нас он бы оставил флаг, сделал курган!
— Это не обязательно был шестой Голгот. Это мог быть кто угодно из 31-й Орды. Кто-то, кому удалось выжить… Я, например, тоже за собой знак «Ω 9» оставляю…
— Значит мы не первые, кто дошел до Верхнего Предела.
— Нет, не первые. У нас в руках доказательство, что не первые.
 На этих словах, одним несогласованным рефлексом, мы все трое обернулись к Голготу. Глаза его загорелись. Он распрямил позвоночник в вертикальную ось и тяжело втягивал носом воздух. Вдруг оба вихря наложились друг
На этих словах, одним несогласованным рефлексом, мы все трое обернулись к Голготу. Глаза его загорелись. Он распрямил позвоночник в вертикальную ось и тяжело втягивал носом воздух. Вдруг оба вихря наложились друг
 Голгот шел по воздушному мосту. С каждым новым шагом я ждал, что Голгот сейчас упадет. Но он не падал. Он уже был в пятнадцати метрах от края скалы. Каждый раз, когда он поднимал и ставил свой ботинок, до нас доносился звон стекла под железным ударом. Он контровал. Контровал прямо по небу. Шел вперед для самого себя. Я думаю, что он наверняка в своем представлении решил обойти шестого Голгота, хоть на пару метров. И еще думаю, что он позволил себе последнюю и никому непосильную роскошь — проложить последнюю Трассу, которую никому не был должен, кроме себя.
Голгот шел по воздушному мосту. С каждым новым шагом я ждал, что Голгот сейчас упадет. Но он не падал. Он уже был в пятнадцати метрах от края скалы. Каждый раз, когда он поднимал и ставил свой ботинок, до нас доносился звон стекла под железным ударом. Он контровал. Контровал прямо по небу. Шел вперед для самого себя. Я думаю, что он наверняка в своем представлении решил обойти шестого Голгота, хоть на пару метров. И еще думаю, что он позволил себе последнюю и никому непосильную роскошь — проложить последнюю Трассу, которую никому не был должен, кроме себя.
 Пьетро добрался до брошенного Голготом мостка раньше, чем я успел повалить его на землю. Он сделал это не из безумия, в этом я был уверен, а потому что больше не мог выдержать ни одной смерти в качестве зрителя, потому что Голгот звал его, потому что все достоинство его жизни вкладывалось в эти несколько слов, в этот зов контра, из которого мы были сплетены. И когда эти слова произносил наш Голгот, они звенели в каждом нашем позвонке, всю жизнь, с самого детства. Пьетро не повел за собой Пак, не пошел по расстилающемуся перед ним небу, он лишь завис над бездной на несколько секунд, с верой в Орду. Весь наш путь оказался нелепой затеей, уничтожено было восьмивековое алиби, что оберегало нашу битву, чью ценность больше не было смысла искать вне нас самих. Он унес с собой редкое благородство, что черпал из самодисциплины, как, впрочем, и все мы, а также из врожденной порядочности и глубочайшего альтруизма, размах которого не смогла оценить оттолкнувшая его Кориолис.
Победить девятую форму значило бы для Пьетро преодолеть в третий раз свой стыд за то, что остался в живых, тогда как Голгот столь ярко рисковал своей жизнью; это предполагало низость и малодушие, которые многолетнее формирование самого существа князя делало невозможным принять и тем более олицетворить. Он не мог пойти на такое финальное предательство, и этот выбор ни к чему обсуждать, ему можно только отдать честь. И замолчать.
Пьетро добрался до брошенного Голготом мостка раньше, чем я успел повалить его на землю. Он сделал это не из безумия, в этом я был уверен, а потому что больше не мог выдержать ни одной смерти в качестве зрителя, потому что Голгот звал его, потому что все достоинство его жизни вкладывалось в эти несколько слов, в этот зов контра, из которого мы были сплетены. И когда эти слова произносил наш Голгот, они звенели в каждом нашем позвонке, всю жизнь, с самого детства. Пьетро не повел за собой Пак, не пошел по расстилающемуся перед ним небу, он лишь завис над бездной на несколько секунд, с верой в Орду. Весь наш путь оказался нелепой затеей, уничтожено было восьмивековое алиби, что оберегало нашу битву, чью ценность больше не было смысла искать вне нас самих. Он унес с собой редкое благородство, что черпал из самодисциплины, как, впрочем, и все мы, а также из врожденной порядочности и глубочайшего альтруизма, размах которого не смогла оценить оттолкнувшая его Кориолис.
Победить девятую форму значило бы для Пьетро преодолеть в третий раз свой стыд за то, что остался в живых, тогда как Голгот столь ярко рисковал своей жизнью; это предполагало низость и малодушие, которые многолетнее формирование самого существа князя делало невозможным принять и тем более олицетворить. Он не мог пойти на такое финальное предательство, и этот выбор ни к чему обсуждать, ему можно только отдать честь. И замолчать.

 Этот путь не был проложен для того, чтобы кто-либо иной из ордийцев пошел по нему следом. Этот мост был реален только для Голгота и благодаря нему. Пьетро упал мгновенно. Не знаю, какие черты приняло лицо, истинный облик которого он так мечтал увидеть в конце пути. Вихрь же князя прочно завис в воздухе, и вся масса его плоти пронеслась сквозь него, не утащив вихрь за собой. Я была готова его принять. Пьетро и сам давно был к этому готов. Ассимиляция прошла самым естественным образом. Только малыш плохо отреагировал на постороннего, стянув и закрутив мне живот. Мне было больно, хотелось лечь, но я сдержалась и выпрямилась. Голгот продолжал идти вперед…
Этот путь не был проложен для того, чтобы кто-либо иной из ордийцев пошел по нему следом. Этот мост был реален только для Голгота и благодаря нему. Пьетро упал мгновенно. Не знаю, какие черты приняло лицо, истинный облик которого он так мечтал увидеть в конце пути. Вихрь же князя прочно завис в воздухе, и вся масса его плоти пронеслась сквозь него, не утащив вихрь за собой. Я была готова его принять. Пьетро и сам давно был к этому готов. Ассимиляция прошла самым естественным образом. Только малыш плохо отреагировал на постороннего, стянув и закрутив мне живот. Мне было больно, хотелось лечь, но я сдержалась и выпрямилась. Голгот продолжал идти вперед…
 Двадцать туазов всего осталось, Голготище, и трассировщица твоя, ну, давай галопом! жми вперед, уже вижу, как ты ей мослаки все перегрызешь, клыками в колеса хрясь, зубами хлоп! коренными прямо в ось как шмякнешь и волчью пасть свою, смотри, не разжимай пока из-под десен металлическая стружка не полетит. Длиннее шаг, маломерок, десять туазов еще, клыками вопьешься я тебе говорю! в колеса вгрызешься! как дисковый тормоз в нее вцепишься, чтоб искры из глотки полетели, грызи стальную лепешку! хватай ее… — Захлопни-ка клюв Голготина, ты сам в этой жизни ничего не видел, только балясы точить и умеешь, тебя первым же ярветром перед всей родней так и размазало, так что смотри и помалкивай, ты мне вообще всем обязан, я этой трассировщице сейчас все позвонки перетряхну, я тебе ее набок завалю таким зашибоном, что тебе и не снилось, у тебя б вывих туловища от такого случился, я — лучший, так себе и заруби, я первый на свете — а про шестого Голгота ты не позабыл, он эту землю первый своими копытами протоптал, или у
Двадцать туазов всего осталось, Голготище, и трассировщица твоя, ну, давай галопом! жми вперед, уже вижу, как ты ей мослаки все перегрызешь, клыками в колеса хрясь, зубами хлоп! коренными прямо в ось как шмякнешь и волчью пасть свою, смотри, не разжимай пока из-под десен металлическая стружка не полетит. Длиннее шаг, маломерок, десять туазов еще, клыками вопьешься я тебе говорю! в колеса вгрызешься! как дисковый тормоз в нее вцепишься, чтоб искры из глотки полетели, грызи стальную лепешку! хватай ее… — Захлопни-ка клюв Голготина, ты сам в этой жизни ничего не видел, только балясы точить и умеешь, тебя первым же ярветром перед всей родней так и размазало, так что смотри и помалкивай, ты мне вообще всем обязан, я этой трассировщице сейчас все позвонки перетряхну, я тебе ее набок завалю таким зашибоном, что тебе и не снилось, у тебя б вывих туловища от такого случился, я — лучший, так себе и заруби, я первый на свете — а про шестого Голгота ты не позабыл, он эту землю первый своими копытами протоптал, или у
 Голос Голгота больше не гремел, он больше не звал за собой ни Пьетро, ни Пак. Он держался в воздухе, на краю своей трассы из голубой земли, едва ли на расстоянии пущенной с обрыва и недолетевшей стрелы, в ожидании силы для нового шага. Он шел неровно, прокладывая путь вперед собственным шлемом, сотканный из потоков мост подрагивал под его ногами, искрился и поблескивал под восходящими ударами шквалов. Голгот снова заорал, потоки латерита били из его колен и растекались перед ним ручьями, он обрушил свой левый ботинок на стелющуюся впереди поверхность, занес правый, чуть заметно покачнулся, и обрушил следующий шаг. Поднял голову,
Голос Голгота больше не гремел, он больше не звал за собой ни Пьетро, ни Пак. Он держался в воздухе, на краю своей трассы из голубой земли, едва ли на расстоянии пущенной с обрыва и недолетевшей стрелы, в ожидании силы для нового шага. Он шел неровно, прокладывая путь вперед собственным шлемом, сотканный из потоков мост подрагивал под его ногами, искрился и поблескивал под восходящими ударами шквалов. Голгот снова заорал, потоки латерита били из его колен и растекались перед ним ручьями, он обрушил свой левый ботинок на стелющуюся впереди поверхность, занес правый, чуть заметно покачнулся, и обрушил следующий шаг. Поднял голову,
 За этим, можно сказать, последовали две недели безмятежного счастья. Мы позабыли о тех, кого с нами больше не было, о том, что наша Орда уничтожена, о Верхнем Пределе — обо всем на свете! Ребенок вырвал нас у нас самих и забросил в бесконечное и все время обновляющееся ослепленное восхищение. Он не походил ни на что из того, что можно было себе представить, он был невесомый, он не был ни хорошо ни плохо сформирован, вернее сказать, у него вообще не было формы, не было определенного постоянного лица. И тем не менее он оказался невероятно красив. У него было круглое
За этим, можно сказать, последовали две недели безмятежного счастья. Мы позабыли о тех, кого с нами больше не было, о том, что наша Орда уничтожена, о Верхнем Пределе — обо всем на свете! Ребенок вырвал нас у нас самих и забросил в бесконечное и все время обновляющееся ослепленное восхищение. Он не походил ни на что из того, что можно было себе представить, он был невесомый, он не был ни хорошо ни плохо сформирован, вернее сказать, у него вообще не было формы, не было определенного постоянного лица. И тем не менее он оказался невероятно красив. У него было круглое
 Три дня спустя Ороси не стало. Волчок, Грохотун, Вихренок, Эоло, Карасовчик, Орокарсик — мы решили не давать ему точного имени, он был слишком переменчив, чтобы ограничиться одной единственной личностью, слишком подвижен и многолик. И он осушил Ороси, вобрал в себя все живое в ней. Он развивался очень быстро, ему нужна была материя для усвоения, человеческие клеточки. Ороси прекрасно поняла, что ее ждет, но и не поду-
Три дня спустя Ороси не стало. Волчок, Грохотун, Вихренок, Эоло, Карасовчик, Орокарсик — мы решили не давать ему точного имени, он был слишком переменчив, чтобы ограничиться одной единственной личностью, слишком подвижен и многолик. И он осушил Ороси, вобрал в себя все живое в ней. Он развивался очень быстро, ему нужна была материя для усвоения, человеческие клеточки. Ороси прекрасно поняла, что ее ждет, но и не поду-
 От Ороси у меня осталась не просто память, а постоянное внутреннее присутствие, настойчивость, что все время подталкивала изнутри, неутомимый поиск смысла, который она беспрестанно обновляла во всех клеточках моего тела и из которых изгоняла любой замеченный ею намек на усталость с моей стороны. Конечно я больше не мог с ней поговорить, услышать льющийся из гобоя звук ее голоса, подивиться бессменно царской осанке, заглянуть в черные миндалины пытливых глаз, полюбоваться на забранные в воронку угольные пряди, на смастеренную поутру и заколотую в них бабеольку — «мои союз-
От Ороси у меня осталась не просто память, а постоянное внутреннее присутствие, настойчивость, что все время подталкивала изнутри, неутомимый поиск смысла, который она беспрестанно обновляла во всех клеточках моего тела и из которых изгоняла любой замеченный ею намек на усталость с моей стороны. Конечно я больше не мог с ней поговорить, услышать льющийся из гобоя звук ее голоса, подивиться бессменно царской осанке, заглянуть в черные миндалины пытливых глаз, полюбоваться на забранные в воронку угольные пряди, на смастеренную поутру и заколотую в них бабеольку — «мои союз-
 Наш сын, моя дочь, наше что-то блуждало за мной по пятам — это была моя вторая клятва — у меня не хватило духу прогнать его после того, что он сделал с Ороси. Я знаю, что она не вынесла бы мысли об этом. Он сделал это не со зла. Он был автохроном, искал свой путь, способы стабилизировать энергию, обеспечить свою плотность. Обезвихривал животных вдоль моего пути, иссушал деревца и кусты, он поглотил Каллирою и, быть может, прикончит и меня, сам того не желая. Вместе с ним, с вихрями Голгота и Пьетро, кружащими неподалеку, с Шистом, что не бросил меня в беде, у меня образовалась моя маленькая орда, хаотичная и полная завихрений, но я понемногу учился ладить с ее причудами и нравом и даже немного ими управлять.
Я хорошо помню нашу последнюю ночь, и как Ороси снова завела со мной разговор о девятой форме. Она думала, что умрет при родах, ее преследовала эта мысль,
Наш сын, моя дочь, наше что-то блуждало за мной по пятам — это была моя вторая клятва — у меня не хватило духу прогнать его после того, что он сделал с Ороси. Я знаю, что она не вынесла бы мысли об этом. Он сделал это не со зла. Он был автохроном, искал свой путь, способы стабилизировать энергию, обеспечить свою плотность. Обезвихривал животных вдоль моего пути, иссушал деревца и кусты, он поглотил Каллирою и, быть может, прикончит и меня, сам того не желая. Вместе с ним, с вихрями Голгота и Пьетро, кружащими неподалеку, с Шистом, что не бросил меня в беде, у меня образовалась моя маленькая орда, хаотичная и полная завихрений, но я понемногу учился ладить с ее причудами и нравом и даже немного ими управлять.
Я хорошо помню нашу последнюю ночь, и как Ороси снова завела со мной разговор о девятой форме. Она думала, что умрет при родах, ее преследовала эта мысль,
 Но неправда, никто не пришел мне на помощь. Я шел один, неся груз безысходной горечи на своих плечах, и шаги, которые мне пришлось сделать после того, как я оставил Ороси стервятникам, все мои суровые скитания по бескрайней земле, то опустошенной, то заполненной хронами, то снова пустынной, то опять запруженной, и так до бесконечности, на протяжении всех трех тысяч километров хода вплоть до простирающихся по краю линии Контра, расщепленных, расколотых кривцом ледяных скал, всему этому я был обязан сам себе. Девятая форма не явилась мне в одном образе, в виде одного немыслимого испытания, которое бы подвело черту под моей жизнью и вывело бы из нее сжатую суть. Она ледяными осколками заполнила все созданные ею зазоры между моей любовью и теми, кого я любил. Повсюду, где мое тепло просачивалось к ним, на каждую крохотную мысль, что меня связывала с ними, с каждым из них, она напоминала мне об их отсутствии и резко обрывала ткань нашей близости. Вот она, моя девятая. Разумеется, повсюду оставались эти многочисленные нити, — воспоминания, но теперь прошлое вынуждено было светить так же ярко и живо, как и настоящее, в котором их больше не было. И к этому я не был готов. Мне приходилось огромным усилием воли, со всей сосредоточенностью и тщательностью, переносить с заднего плана прожитых событий в настоящее ощущение присутствия настолько явное, чтобы им можно было бы
Но неправда, никто не пришел мне на помощь. Я шел один, неся груз безысходной горечи на своих плечах, и шаги, которые мне пришлось сделать после того, как я оставил Ороси стервятникам, все мои суровые скитания по бескрайней земле, то опустошенной, то заполненной хронами, то снова пустынной, то опять запруженной, и так до бесконечности, на протяжении всех трех тысяч километров хода вплоть до простирающихся по краю линии Контра, расщепленных, расколотых кривцом ледяных скал, всему этому я был обязан сам себе. Девятая форма не явилась мне в одном образе, в виде одного немыслимого испытания, которое бы подвело черту под моей жизнью и вывело бы из нее сжатую суть. Она ледяными осколками заполнила все созданные ею зазоры между моей любовью и теми, кого я любил. Повсюду, где мое тепло просачивалось к ним, на каждую крохотную мысль, что меня связывала с ними, с каждым из них, она напоминала мне об их отсутствии и резко обрывала ткань нашей близости. Вот она, моя девятая. Разумеется, повсюду оставались эти многочисленные нити, — воспоминания, но теперь прошлое вынуждено было светить так же ярко и живо, как и настоящее, в котором их больше не было. И к этому я не был готов. Мне приходилось огромным усилием воли, со всей сосредоточенностью и тщательностью, переносить с заднего плана прожитых событий в настоящее ощущение присутствия настолько явное, чтобы им можно было бы
 — Девятая форма убьет в тебе верблюда. Смертельно ранит льва. Но ребенок, которым тебе, быть может, удастся стать, сможет ее пережить. Все эти три метаморфозы могут быть этапами и в жизни, и в любви, и в поиске истины… Вспомни мои слова, когда окажешься один на краю мира. Вспомни об этом, когда всех нас не станет, а ты будешь стоять у края Верхнего Предела и вглядываться в чистое синее небо впереди. Вспомни обо мне и о сегодняшнем дне, об этом миге, который мы сейчас проживаем вместе, и о моих словах. Запомни каждое мое слово, Сов. Ты меня слышишь?
— Да.
Именно это воспоминание и уберегло меня от самоубийства. Этот легкий, ненавязчивый тембр, вырвавшийся из онемевшей памяти, прорвав в ней все слои. Эти при-
— Девятая форма убьет в тебе верблюда. Смертельно ранит льва. Но ребенок, которым тебе, быть может, удастся стать, сможет ее пережить. Все эти три метаморфозы могут быть этапами и в жизни, и в любви, и в поиске истины… Вспомни мои слова, когда окажешься один на краю мира. Вспомни об этом, когда всех нас не станет, а ты будешь стоять у края Верхнего Предела и вглядываться в чистое синее небо впереди. Вспомни обо мне и о сегодняшнем дне, об этом миге, который мы сейчас проживаем вместе, и о моих словах. Запомни каждое мое слово, Сов. Ты меня слышишь?
— Да.
Именно это воспоминание и уберегло меня от самоубийства. Этот легкий, ненавязчивый тембр, вырвавшийся из онемевшей памяти, прорвав в ней все слои. Эти при-
 Если многие из моих друзей поселились во мне во время написания книги, то некоторые из них разбили целый лагерь в рядах Орды, столь многое я у них позаимствовал, порой сегментами, а порой и целыми длинными чертами, чтобы вооружить моих персонажей и дать им опору, на манер того, как вкладывают прутья в железобетон. Пусть найдут для себя в этих строках полагающуюся им дань за наиболее проявившееся сходство:
Степп Форехис практически всем обязан тебе, Стефен, (здорово, друг!), за твою столь крепкую и тонко выстроенную силу прорастания. Силамфр — плавное и чуткое эхо Кристиана, Каллироя — пылкой хрупкости Доминик, потерянной из виду, но всегда остающейся со мной, Кориолис переняла некоторые черты от далекой Маривонн, а Аои зачерпнула артистической и подвижной мягкости Эммануэль.
Ороси, хоть и является сложным переплетением различного женского влияния, обязана своей возвышенностью и упрямством в поиске смысла, а также столь особенным сочетанием строгости и чувственности, Анне и Клэр, так непохожим друг на друга.
Пьетро достались его благородство и сдержанность от Оливье и Юбера, этих двух мраморных колонн.
Караколь перехватил у Эмерика его былые выходки, его заостренную внимательность к происходящему и его многочисленные ответвления, чтобы совместить их с жаждой встреч и с букетом повседневного искусства Cappizzano, этим Всецветным даром!
Эрг Махаон то и дело отсылает нас к Лео своей порядочностью, важностью, которую он неукоснительно придает понятию ответственности и своим пристрастием к боевым искусствам.
А Голгот, спросите вы? А Сов? Ярость Голгота исходит только из меня. Сов близок мне, хоть его силуэт с самого начала романа и восходит к моему другу Бобану, этому столь дорогому мне хорвату, вымощенному из поэзии, привязанности и мужественного упрямства.
Я также хотел бы поблагодарить на лету моих друзей из Веркора, за их теплоту и за их энергию: в первую очередь Марианн, а еще Стефа, Брюно и Тифен, Дидье, Сумасшедшего Тофа, Кати, Жюльена, Кристиана, Рыжую Сесиль, Рафа, Армелль и еще многих других, чьи имена сопротивляются перу…
Если многие из моих друзей поселились во мне во время написания книги, то некоторые из них разбили целый лагерь в рядах Орды, столь многое я у них позаимствовал, порой сегментами, а порой и целыми длинными чертами, чтобы вооружить моих персонажей и дать им опору, на манер того, как вкладывают прутья в железобетон. Пусть найдут для себя в этих строках полагающуюся им дань за наиболее проявившееся сходство:
Степп Форехис практически всем обязан тебе, Стефен, (здорово, друг!), за твою столь крепкую и тонко выстроенную силу прорастания. Силамфр — плавное и чуткое эхо Кристиана, Каллироя — пылкой хрупкости Доминик, потерянной из виду, но всегда остающейся со мной, Кориолис переняла некоторые черты от далекой Маривонн, а Аои зачерпнула артистической и подвижной мягкости Эммануэль.
Ороси, хоть и является сложным переплетением различного женского влияния, обязана своей возвышенностью и упрямством в поиске смысла, а также столь особенным сочетанием строгости и чувственности, Анне и Клэр, так непохожим друг на друга.
Пьетро достались его благородство и сдержанность от Оливье и Юбера, этих двух мраморных колонн.
Караколь перехватил у Эмерика его былые выходки, его заостренную внимательность к происходящему и его многочисленные ответвления, чтобы совместить их с жаждой встреч и с букетом повседневного искусства Cappizzano, этим Всецветным даром!
Эрг Махаон то и дело отсылает нас к Лео своей порядочностью, важностью, которую он неукоснительно придает понятию ответственности и своим пристрастием к боевым искусствам.
А Голгот, спросите вы? А Сов? Ярость Голгота исходит только из меня. Сов близок мне, хоть его силуэт с самого начала романа и восходит к моему другу Бобану, этому столь дорогому мне хорвату, вымощенному из поэзии, привязанности и мужественного упрямства.
Я также хотел бы поблагодарить на лету моих друзей из Веркора, за их теплоту и за их энергию: в первую очередь Марианн, а еще Стефа, Брюно и Тифен, Дидье, Сумасшедшего Тофа, Кати, Жюльена, Кристиана, Рыжую Сесиль, Рафа, Армелль и еще многих других, чьи имена сопротивляются перу…
 Как и все благодарственные речи, этот список бесконечен и утомителен, но он еще не кончен…
Статус тех, кто заставил нас страдать, вернее скажем «той», практически неразрешим в создании произведения. Я поверил в фею, которая не оказала мне никакой литературной помощи, и которой я обязан столь малой толикой чудес, что мне непросто говорить спасибо. «Орда», вполне вероятно, была бы книгой куда более радостной и исполненной вдохновения, без этой муки, что стала для меня невольным свинцом. И все же, без тени ненависти, спасибо тебе, Фанетт, за пир из крох. И за былое волшебное взаимопонимание.
Как и все благодарственные речи, этот список бесконечен и утомителен, но он еще не кончен…
Статус тех, кто заставил нас страдать, вернее скажем «той», практически неразрешим в создании произведения. Я поверил в фею, которая не оказала мне никакой литературной помощи, и которой я обязан столь малой толикой чудес, что мне непросто говорить спасибо. «Орда», вполне вероятно, была бы книгой куда более радостной и исполненной вдохновения, без этой муки, что стала для меня невольным свинцом. И все же, без тени ненависти, спасибо тебе, Фанетт, за пир из крох. И за былое волшебное взаимопонимание.
 Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.
Мы не станем обходить Лапсанскую лужу, контр-адмирал Сигмар, поскольку мы тоже, как и вы, любим поэзию архипелагов. Мы пойдем через озеро пешком, по Прямой Дороге.
 Слушал, как порыв ветра прокатывался к нам с верховья, как, приближаясь, проделывал дыры в ветвях линейного леса.
Слушал, как порыв ветра прокатывался к нам с верховья, как, приближаясь, проделывал дыры в ветвях линейного леса.
 (от Вирджинии Петратос)
(от Вирджинии Петратос)
 — Знаешь, что мне отец сказал про Бракауэрский столб?
— Нет.
— Что это самое высокое надгробье, которое он когда-либо видел…
— Знаешь, что мне отец сказал про Бракауэрский столб?
— Нет.
— Что это самое высокое надгробье, которое он когда-либо видел…
 Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша…
Долгая разрушительная волна поглотила все вокруг. Мы были потеряны, дико измождены, избиты градом, совершенно одурев от буша…
 Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита…
Среди невероятного соперничества башен и колоколен, маяков и шпилей, коротких колонн и узких соборов, пронизывающих Альтиччио, среди нагромождения глинобитных минаретов, алебастровых башенок, звонниц и донжонов из прямоугольных блоков гранита…
 (от Вирджинии Петратос)
(от Вирджинии Петратос)
 Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками…
Что я хотел бы вам сказать — вам, кучке крытней, забившихся по углам кирпичных клеток, когда вы примитесь нас допытывать из-за заборов ваших деревень с наштукатуренными домишками…
 Никогда не говори: „Фонтан, я не стану пить твою воду”
Никогда не говори: „Фонтан, я не стану пить твою воду”
 Я зародил арбалет. Все на рефлексах. Гарпун наготове. Выстрелил, не раздумывая. Попал.
Я зародил арбалет. Все на рефлексах. Гарпун наготове. Выстрелил, не раздумывая. Попал.
 Когда он запускает свой бум, противник просто падает. И все. И ты еще думаешь, кабер, сейчас поднимется, осторожно… Но никто никогда не поднимается.
Когда он запускает свой бум, противник просто падает. И все. И ты еще думаешь, кабер, сейчас поднимется, осторожно… Но никто никогда не поднимается.
 Если он достанет диск, или винт, или еще что в этом духе, то он его запустит, и можешь ты себе бежать, подпрыгивать, можешь забиться в какую-нибудь дыру. Можешь спасать свою шкуру как хочешь, имеешь право. Но как только добежишь, тебя все равно приколотит.
Если он достанет диск, или винт, или еще что в этом духе, то он его запустит, и можешь ты себе бежать, подпрыгивать, можешь забиться в какую-нибудь дыру. Можешь спасать свою шкуру как хочешь, имеешь право. Но как только добежишь, тебя все равно приколотит.
 Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости…
Он был нацелен на добычу без консистенции и цвета, созданную из чистого ветра, которую он не мог ни схватить, ни сжать, но лишь угадать по незаметной трещине в компактном потоке скорости…
 Мы благодаря этим соколам в небо смотрели, на них глянуть приятно было…
Мы благодаря этим соколам в небо смотрели, на них глянуть приятно было…
 от Лоренс Дешамп (раскраска Коринны Гобер)
от Лоренс Дешамп (раскраска Коринны Гобер)
 Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю.
Повсюду были стада пасущихся горсов. Они выстраивались красно-коричневыми треугольниками, острием по ветру, их легко было разглядеть. Впереди был самец, прорывающий рылом землю.
 С неба упали первые медузы: мы наткнулись на нескольких огромных, развороченных, прямо на земле, — значит, ветер уплотнялся и на высоте.
С неба упали первые медузы: мы наткнулись на нескольких огромных, развороченных, прямо на земле, — значит, ветер уплотнялся и на высоте.
 За ними, обгоняя, бесшумно шли четыре аэроглиссера в самом русле реки, а еще далее — элиолодки и джонки с голубыми парусами.
За ними, обгоняя, бесшумно шли четыре аэроглиссера в самом русле реки, а еще далее — элиолодки и джонки с голубыми парусами.
 Так парус буера держится с помощью ветра, что его надувает, мачты с гиком, троса, который ею управляет, руки, что натягивает трос, карлингса, что держит мачту, веса тела, что удерживает человека на земле.
Так парус буера держится с помощью ветра, что его надувает, мачты с гиком, троса, который ею управляет, руки, что натягивает трос, карлингса, что держит мачту, веса тела, что удерживает человека на земле.
 …крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали…
…крепкие контрасы на винте, на которых можно пройти даже через стеш, если усердно крутить педали…
 Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта.
(обратно)
Прекрасный фреольский пятимачтовый корабль с поднятыми парусами вынырнул откуда-то из-за горизонта.
(обратно)