Расул Гамзатов
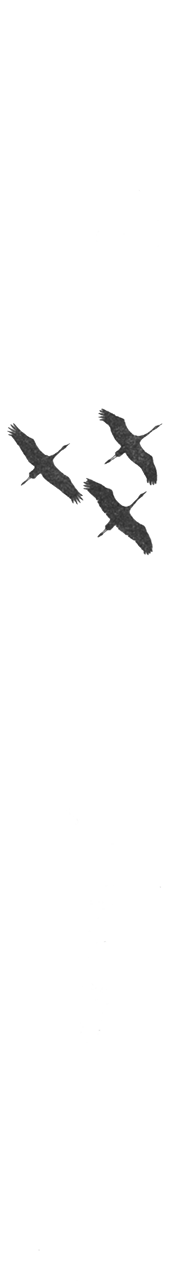

 Автор выражает глубокую признательность
за содействие в работе над книгой
Анварбеку Кадиеву, Абубакиру Тамбиеву, Магомеду Юсупову.
Особая благодарность
Патимат и Салихат Гамзатовым, Умахану Амирханову.
Автор также благодарит
Габибат Азизову, Абумуслима Муртазалиева, Бурлият Токболатову,
Юрия Иванова, Гаджи Алтаева, Гульжанат Усахову, Адиля Адиева,
Омара Гаджиева, Рамазана Баркалаева, Камиля Гаджиева,
Гаджи Будайчиева, Исмаила Магомедшарипова,
Аризу Батырову, Мурада Ахмедова.
Благодарность за консультации и предоставление материалов
Международному общественному фонду Расула Гамзатова,
Центральному государственному архиву Республики Дагестан,
Дагестанскому музею изобразительных искусств им. И. С. Гамзатовой,
Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова.
Автор выражает глубокую признательность
за содействие в работе над книгой
Анварбеку Кадиеву, Абубакиру Тамбиеву, Магомеду Юсупову.
Особая благодарность
Патимат и Салихат Гамзатовым, Умахану Амирханову.
Автор также благодарит
Габибат Азизову, Абумуслима Муртазалиева, Бурлият Токболатову,
Юрия Иванова, Гаджи Алтаева, Гульжанат Усахову, Адиля Адиева,
Омара Гаджиева, Рамазана Баркалаева, Камиля Гаджиева,
Гаджи Будайчиева, Исмаила Магомедшарипова,
Аризу Батырову, Мурада Ахмедова.
Благодарность за консультации и предоставление материалов
Международному общественному фонду Расула Гамзатова,
Центральному государственному архиву Республики Дагестан,
Дагестанскому музею изобразительных искусств им. И. С. Гамзатовой,
Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Расул Гамзатов был выдающимся поэтом, гражданином с чувством высокой ответственности, он говорил от имени всего многонационального народа России.
Феноменальный талант, неподражаемый стиль, глубина мысли и духовная красота поэзии принесли Расулу Гамзатову невероятную популярность и мировое признание.
Произведения поэта выходили миллионными тиражами, но их всё равно не хватало. И не было зала, который мог бы вместить всех, кто стремился на встречу с любимым поэтом.
Творческие достижения Расула Гамзатова отмечены множеством государственных и литературных наград. В 2003 году в день восьмидесятилетия поэта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Расулу Гамзатову высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В том же году великий поэт оставил этот мир, но навечно остался с нами в своих прекрасных произведениях, в нашей благодарной памяти.
К девяностолетию поэта в Москве ему был установлен памятник. Выступая на торжественном открытии, президент Российской Федерации Владимир Путин говорил: «Его мысли, стихи, книги всегда с нами. Они наши советчики, источники жизненной мудрости, с ними мы сверяем наши поступки, наши планы и наши цели». В замечательной речи президента были и такие слова: «Гамзатов был искренне убеждён, что чувство Родины, настоящий патриотизм и национальная гордость за свой народ не могут соперничать друг с другом, и народам России будет хорошо только в том случае, если они будут вместе».
Первый сборник стихов Расула Гамзатова на аварском языке вышел в военном 1943 году. Два его старших брата погибли, защищая нашу Родину.
Первая книга на русском языке вышла в 1948-м, когда Гамзатов учился в Литературном институте в Москве. Русская и мировая литература огранила поэтический дар Гамзатова. Он обрёл много талантливых друзей — поэтов и переводчиков. Со многими из них судьба надолго свяжет его творческую судьбу. Яков Козловский, Наум Гребнев, Елена Николаевская, Владимир Солоухин — они глубоко чувствовали музыку аварской речи, были покорены силой и самобытностью молодого таланта.
Поэзия Расула стремительно обретала популярность. Его произведения становились достоянием всей страны и скоро перешагнули её границы.
Воспитанный на традициях национальной культуры, Расул Гамзатов всегда говорил и о своей любви к русской литературе, которая стала его второй духовной матерью. Он с упоением переводил на аварский язык Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Александра Блока. А вместе с ними — Вильяма Шекспира, Роберта Бёрнса, других классиков мировой поэзии.
Замечательные стихи и поэмы Расула Гамзатова, его искромётные тосты, афоризмы передаются из уст в уста, они по праву вошли в сокровищницу отечественной культуры.
Множество стихотворений поэта стали песнями. Его произведения ставятся в театрах, по ним снимаются фильмы.
При всей своей невероятной популярности, Расул Гамзатов не забывал, что он — плоть от плоти своего народа. Нужно обладать особым поэтическим мужеством, чтобы вопрошать:
Скажи, народ мой, правды не тая,
В моих стихах жива ль душа твоя?
Символом светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне, во всех войнах, которые пережило человечество, стали «Журавли» Гамзатова. Памятники «Белым журавлям» воздвигнуты во многих городах страны и мира.
Он оставался творцом до последнего вздоха:
И пусть я таю, как в ночи свеча,
В моей душе ещё немало света...
Творчество Расула Гамзатова — бесценное национальное достояние, и выход книги о нём в классической серии «Жизнь замечательных людей» — событие долгожданное. Он таким и был — замечательным человеком, выдающимся поэтом и великим гражданином нашего отечества.
ОТ АВТОРА
Аулы горцев напоминают античные амфитеатры, где вместо кровли — небо и звёзды. Горским поэтам, жаждущим донести своё слово до людей, приходилось вступать в диалог с вечностью.
Как резчик по камню, оставляющий свои письмена на века, Гамзатов запечатлел на скрижалях истории дух родного народа.
Добрая улыбка, проницательный взгляд, пронзительное слово, юмор, мгновенно обретающий статус народной мудрости, — это всего лишь несколько черт Гамзатова.
Выдающийся поэт, вдохновенный оратор, человек-эпоха — и это далеко ещё не весь Расул Гамзатов.
Творчество Гамзатова позволило соприкоснуться с миром любви и красоты нескольким поколениям читателей.
Но бремя славы не заслоняло его неустанного стремления к совершенству. Хранитель тайны поэзии, он утверждал её красоту и жизненную необходимость наперекор губительным веяниям времени.
Могучая энергия творческого дара Расула Гамзатова властно теснила обитателей поэтического Олимпа.
Время повергло псевдокумиров, казавшихся незыблемыми на литературных пьедесталах. Но Гамзатов по-прежнему восседает на своей поэтической вершине, и он неизменный тамада на пиршестве любви и поэзии.
Юношеская страстность и вместе с тем чеканность мысли, пронзительная точность характеристик, завораживающе образная речь, обращённая дальше, чем просто к читателю... Всё это рождает ощущение, что на самом деле Расул Гамзатов — нечто большее, чем наше представление о нём. Это «нечто большее» было путеводной звездой творчества Гамзатова.
С годами в поэзии Гамзатова всё явственнее проступал дар Гамзатова-мыслителя. А его философские размышления, великолепная публицистика и блистательный ораторский дар сделали его общепризнанным народным трибуном.
Беспредельный талант Гамзатова не умещался между обложками изданий, и необыкновенная судьба его вряд ли уместится в этой книге. Слишком много в ней было триумфов, творческих побед, больших свершений, но немало было и драм, ошибок и завистливой клеветы.
Творчество Расула Гамзатова как высокое проявление национального духа укрепило общественное самосознание дагестанцев и усилило чувство уникальной культурной самобытности.
Если век XIX в истории Дагестана навечно связан с именем имама Шамиля, то XX век навсегда будет украшен поэтическим гением Расула Гамзатова.
С Расулом Гамзатовым ушла великолепная культурная эпоха, когда Кавказ открылся миру великой плеядой творцов, ставших голосом и сердцем своих народов.
Малым народам нужны большие поэты. Они, как в математике, возводят национальную культуру в планетарную степень.
Жизнь поэта представляется счастливой и безоблачной, но эта книга, возможно, откроет читателю, сколь трудна и коварна была судьба Расула Гамзатова на самом деле. Какого мужества требовало от поэта время, чтобы остаться поэтом на все времена.
СТРАНА ПОЭТОВ
История Дагестана полна легенд и преданий. Эпос и фольклор уходят корнями в толщу веков. Притчи горцев во многом напомнят басни Эзопа, сказания — «Илиаду» Гомера, в легендах отзовётся Прометей, прикованный к кавказской скале. Но в культуре горцев много и своего, самобытного, чего не найти за пределами этой древней горной страны. Дагестан лишь ждал своего Орфея, своего Данте, который поведёт читателя к чудесным поэтическим вершинам.
Дагестан называют Страной гор и Горой языков. Народов здесь много, и языки у них разные. Но обычаи, характер и вольнолюбивый нрав горцев похожи, как сходен пейзаж гор, ущелий и долин. Бережно сохраняются традиции гостеприимства и куначества, почитания старших и уважения к женщине. Приезжий найдёт кров и защиту в любом доме. А женщина может остановить самую жаркую схватку, бросив между противниками свой платок.
Горцев, которым веками приходилось отстаивать свою свободу, считают людьми суровыми и мужественными, горянок — скромными и сдержанными. Но послушайте их песни, в которых открывается душа горцев, и вам откроется другой Дагестан — страстный, пылкий и вечно влюблённый.
Любовь рождает поэзию. Потому, наверное, Дагестан называют и Страной поэтов.
У аварской поэзии есть свой Парнас — Хунзахское плато, здесь родилась, жила, творила блистательная плеяда поэтов. Плато вознесено высоко в горы, обрываясь водопадами в пропасти и каньоны. Считается, что аварский язык сохранился там в своей чистоте, он принят как литературный.
Прежде, когда хороших дорог не было, в Хунзах летали самолёты. И едва пассажиры попадали из громыхающего салона Ан-2 (или «кукурузника», как его прозвали) в горный покой, как их окутывал неповторимый густой аромат разнотравья. Оттуда открывается замечательный вид на необъятное плато, на столицу Аварии Хунзах, на аулы и горные хребты.
История Хунзаха богатая. Здесь некогда была столица первого на Северном Кавказе государства Сарир. Существует предание, что в этих местах укрыты сокровища его владыки, у которого было два трона — золотой и серебряный.
Наследником Сарира стало Аварское ханство, просуществовавшее до конца XIX века. Оно включало в себя больше тысячи аулов и соперничало с Хазарским каганатом.
Владимир Огнёв, литературный критик и сценарист, учившийся с Гамзатовым в Литературном институте, писал в книге «Путешествие в поэзию»: «Авария. Страна суровой судьбы. Край древний, как само время. Когда глядишь на боевые рубцы горных пород, проступившие на отвесных стенах циклопических каньонов, особенно остро представляешь и возраст земли, и возраст истории».
Название Авария, возможно, произошло от имени царя Сарира Авара, если имя самого Авара не есть обозначение его происхождения от известных в истории аваров. Сами аварцы называют себя «магIарулал», то есть «горцы».
Аварское ханство было могучим, обширным и влиятельным. В связи с Кавказской войной XIX века оно приобрело особое значение как противоборствующий Шамилю центр силы и союзник царской России. Отсюда родом был и знаменитый Хаджи-Мурат, наиб имама Шамиля и герой повести Льва Толстого.
Считается, что на Кавказе произошло столкновение двух цивилизаций. Однако глубинным содержанием противостояния было то, что самодержавие, основанное на феодально-крепостнической системе, встретило на Кавказе вольные народы. Горцы были свободными людьми, а вооружённая демократия — веками сложившимся образом их жизни, изменить который силой оружия было невозможно. К тому же свобода личная была для горцев не менее важна, чем независимость государственная.
Вместе с тем происходило культурное взаимоузнавание. Многие дагестанцы, особенно после окончания войны, служили в царской армии, становились офицерами и генералами. Зарождалась интеллигенция в европейском понимании, открывались библиотеки, клубы, театры. Началось издание книг, выходили газеты и журналы.
После войны в Хунзахе была построена большая крепость, которая обитаема и теперь, оставаясь при этом местной достопримечательностью.
Много всего случилось с тех пор, но Авария по-прежнему остаётся одной из духовных сокровищниц Дагестана, родиной выдающихся поэтов и писателей. Жизнь горцев по-прежнему пронизана поэзией.
Здесь, как и раньше, много значит произнесённое слово, спетая песня. И если кто-то скажет, что поэту подарили коня за хорошее стихотворение, ему поверят.
Неподалёку от Хунзахской крепости, у скалистой гряды, уступами сходит к садам и полям небольшой аул Цада. Тот, кто впервые сюда попадает, непременно задаёт вопрос о нависающем над аулом гигантском монолите, отколовшемся от скалы, но чудесным образом не обрушившемся на аул. Впрочем, сами цадинцы об этом не беспокоятся. Привыкли, к тому же подпёрли глыбу снизу да ещё, говорят, привязали к скале стальными тросами.
«Цада» по-аварски означает «в огне», «в пламени». Почему аул так назвали, в точности неизвестно: потому ли, что на рассвете он полыхает светом, если смотреть из сел, расположенных западнее? Или здесь, на взгорье, разжигали большие сигнальные костры? Зато всем известно, что в Цада родился знаменитый аварский поэт Расул Гамзатов.
О своём родовом гнезде он писал:
Там, где горная гряда, сотворён аул Цада —
Сто домов, сто очагов и до неба сто шагов!
Это мой родной аул, я оттуда в мир шагнул,
С тех высот нырнул в поток своих жизненных дорог.
Но берёг меня всегда свет родимого гнезда,
И хранил я этот свет в дни побед и горьких бед
[1].
РОЖДЕНИЕ ПОЭТА
Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в семье поэта и шариатского судьи Гамзата Цадасы. Фамилия Цадаса — что-то вроде псевдонима, означающего «из Цада». В горах это было обычным делом. Фамилии в современном понимании появились позже, в паспортах и прочих документах. И сейчас в Дагестане многих в просторечье называют не по фамилии, а по месту, откуда они родом или
по имени отца. А чаще — просто по имени, которое следует беречь незапятнанным, чтобы наследники с гордостью могли говорить, чьи они дети.
Имена новорождённым дают по именам предков, считается, что так они как бы возвращаются к новой жизни.
«К тому времени, когда нужно было родиться мне, у отца не было уже в запасе ни родных, ни друзей, которые недавно умерли или пропали на чужой стороне, и чьё имя можно было мне передать, чтобы я нёс его по земле с той же честью, — писал Расул Гамзатов. — Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны. В руках они держали по пузатенькому изделию балхарских гончаров. В кувшинах была, конечно, пенистая буза. Только у одного, самого старого человека с белоснежной головой и бородой, у старца, похожего на пророка, руки были свободны.
Этому-то старцу передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Я барахтался на руках старца, а мать между тем говорила.
— Ты пел на моей свадьбе, держа в руках то пандур, то бубен. Песни твои были хороши. Какую песню ты споёшь сейчас, держа в руках моего младенца?
— О, женщина! Песни ему будешь петь ты, мать, качая его колыбель. А потом песни ему пусть поют птицы, реки. Сабли и пули тоже пусть поют ему песни. Лучшую из песен пусть споёт ему невеста.
— Тогда назови. Пусть я, мать, пусть весь аул и весь Дагестан услышат имя, которое ты сейчас назовёшь.
Старец поднял меня высоко к потолку сакли и произнёс:
— Имя девочки должно быть подобно сиянию звезды или нежности цветка. В имени мужчины должны воплощаться звон сабель и мудрость книг. Много имён узнал я, читая книги, много имён услышал я в звоне сабель. Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя — РАСУЛ.
Старец, похожий на пророка, наклонился над одним моим ухом и шепнул: “Расул”. Потом он наклонился над моим другим ухом и громко крикнул: “Расул!” Потом он подал меня, плачущего, моей матери и, обращаясь к ней и ко всем, сидящим в сакле, сказал:
— Вот и Расул.
Сидящие в сакле молчаливым согласием утвердили моё имя. Старцы опрокинули кувшины, и каждый, вытирая рукой усы, громко крякнул.
...Оказывается, седовласый горец, повидавший мир и прочитавший много книг, вложил в моё имя смысл и цель».
В переводе с арабского Расул означает «посланник», «представитель». Имя в горах популярное и почитаемое, так как традиция связывает его с пророком Мухаммедом — посланником Аллаха.
Дом Гамзата был обычной саклей с земляным полом и такой же крышей, которую после каждого дождя или растаявшего снега приходилось утрамбовывать каменным катком. Добра в доме было мало, всё богатство Гамзата составляли книги. Многие из них Гамзат сам же и переписал, когда учился в медресе при мечети. Ученики-мутаалимы не могли их купить, а потому прилежно переписывали. Какие-то для себя, какие-то на продажу, чтобы прокормиться. О печатных станках тогда не слыхивали.
«В потолке нашей тесноватой сакли много следов от пуль, — писал Гамзатов. — Друзья моего отца стреляли в потолок из пистолетов: орлы, гнездящиеся в окрестных горах, должны узнавать, что у них народился брат и что в Дагестане одним орлом стало больше. Когда народился я и когда мне давали имя, друг моего отца выстрелил дважды: и в потолок, и в пол».
Колыбель для младенцев была одна на всех. Она переходила из поколения в поколение, от одного ребёнка к другому. Та, в которой лежал Расул, уже качала двух его старших братьев и сестру.
Колыбели украшались узорами и надписями. Свои «Надписи на колыбелях» позже создал и Расул Гамзатов:
И ты когда-то, аксакал,
На этом скакуне скакал
[2].
Когда я родился
Вот здесь мне было суждено родиться.
Был сделан знак на косяке дверей.
И так открылась первая страница,
Страница биографии моей.
Я родился у бедной дагестанки
В труднейший год из всех голодных лет,
Когда семья вставала спозаранку,
Чтоб нащипать травинок на обед...
[3]
Первые годы после Гражданской войны были голодными. Неурожаи случались, но главной причиной голода были не они. Трудолюбивые горцы делали запасы и умели выживать. Однако в те тяжёлые времена, когда горцы разделились, когда, случалось, брат шёл на брата, людям было не до полей и садов. Старые счёты, кровная месть, бесконечные стычки и набеги мешали народу залечивать раны, возвращаться к земле и созидательной жизни. Даже тем, кто всё же сеял и растил, редко удавалось сохранить свой урожай. Слишком много появилось в горах разбойников, абреков и прочего люду, которому тоже хотелось есть. Отбирали хлеб, угоняли скот. Позапрошлогодние бобы, старый курдюк, круг сыра считались роскошью. А по весне женщины собирали крапиву и другие съедобные травы, чтобы выжить.
ОТЕЦ
В свои 46 лет, когда родился сын Расул, Гамзат Цадаса был человеком образованным, мудрым и многое повидавшим. Сверх того — поэтом, любимым во всей Аварии. Его острые яркие сатирические стихи передавались из уст в уста, многие знали их наизусть.
Тяга к творчеству проявилась у него ещё в юности, но рано осиротевшему Гамзату немыслимо было прокормиться поэзией, тем более той, которая была ему по нраву. Сатира способна была принести много неприятностей, обид, даже мести, но не хлеба.
«Отец был единственный брат семи сестёр (единственная папаха в семье), а все вместе они рано остались сиротами, — писал Расул Гамзатов. — Рано отец покинул и родной аул. Дядя, опекавший сирот, отправил Гамзата в другой аул, в медресе, сказав, что у большого аула и ума больше. С тех пор отец бродил из аула в аул, не снимая с плеч хурджуна — перемётной сумы: в одном мешке книги, в другом — жареная мука. Надо сказать, что вернулся он богачом. За время своих странствий он обогатился знаниями. Ему говорили тогда на аульском годекане (общественный центр села, где мужчины обсуждают разные дела и новости. —
Ш. К.): если свой талант и свои знания ты впряжёшь в одну арбу, далёкое будет путешествие. И они не ошиблись».
О той поре сам Цадаса писал в своей неподражаемой манере, озаглавив воспоминания с присущим ему юмором — «Из воспоминаний Гамзата Цадасы о Гамзате»:
«Рассказывают, что дибиры уважали Гамзата. Например, всю работу в поле они доверяли только ему. Что же касается учения, то и здесь оказывали ему содействие: особенно не утруждали науками. Пусть, мол, лучше работает... Стихи сочинять Гамзат начал в 14 лет. Первое стихотворение он посвятил собаке соседа. Сосед сильно обиделся. Чего только не придумывал он, чтобы насолить Гамзату! То обвинил его в краже какой-то медной посудины, то ещё что; и надо сказать, сосед не раз добивался того, что Гамзата тащили в суд. Но всякий раз в суде всплывала история злополучных стихов, и сосед снова оставался посрамлённым».
В написанном в 1891 году стихотворении «Собака Алибека» талант сатирика и баснописца проявился особенно смело. Гамзат Цадаса едко высмеял сельских бездельников, день-деньской пропадающих на годекане. Пока женщины тянут на себе хозяйство или работают в поле, они сидят в тёплых шубах, занятые пустыми разговорами. А когда становится не о чем поговорить, то выдумывают такое, что не укладывается в горские понятия, вроде похорон собаки с молитвами, оправдания за съеденного быка, хотя тот был уже мёртв, и прочие несуразности.
В поэме Расула Гамзатова «Разговор с отцом» Гамзат Цадаса пишет:
И так досадил я им первой же песней,
Что был под судом, лихоимцам в угоду,
В Хунзахе томился я в камере тесной,
И снова я выжил. Спасибо народу!
[4]
Юмор, сатира, ирония, характерные для творчества Гамзата Цадасы и органичные для его человеческой натуры, сделали стихотворение популярным, хотя автора ещё мало кто знал.
В том же ироничном ключе Цадаса рассказывает и о своей трудовой жизни, в которой ему несказанно «везло». О том, как сплавлял лес по горным рекам, как работал на железной дороге в Грозном, откуда его друзья вернулись с хорошим заработком, а сам он лишь с малярией. Как пропали его быки, с которыми он отправлялся на заработки, как обвалилась крыша в хлеве кунака, похоронив под собой коня Гамзата. А заодно автор делится опытом трудной жизни: «У кого нет дома, тот хорошо знает людей, а у кого нет хлеба, тот знает много языков».
Более всего пригодились Гамзату его духовное образование, познания в исламских науках, глубокое знание шариата — мусульманского права. Он был мударисом (учителем) и дибиром (муллой) в разных сёлах, не раз избирался шариатским судьёй. Его авторитет в этой сфере был очень высок. Но и поэтический его дар крепчал год от года. Шариатский судья писал сатиры, басни, осваивал новые формы и стили. И жизнь его билась между творчеством и юриспруденцией.
Когда родился Расул, третий сын в семье, где была ещё и дочь, Цадаса был избранным народом председателем шариатского суда. А незадолго до того работал в газете «Красные горы». Впрочем, и в том, и в другом было много общего. Цадаса писал о себе: «Он разоблачает подлецов, грабителей и воров, которые тянут свою нечестную руку к народному и общественному добру. Особенно охотно Гамзат сражается против устарелых адатов».
Шариатские суды были привычны и понятны народу, оставаясь признаваемым новой властью судебным органом в Дагестане и после революции 1917 года. Это было подтверждено на Чрезвычайном съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года, когда народный комиссар по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин огласил Декларацию об образовании ДАССР — Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В своей речи нарком говорил и о шариате: «Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему быту, обычаям... Враги Советской власти распространяют слухи, что Советская власть запрещает шариат. Я здесь от имени правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики уполномочен заявить, что эти слухи неверны. Правительство России предоставляет каждому народу полное право управляться на основании своих законов и обычаев. Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. Если дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они должны быть сохранены».
Гамзат разбирал дела по справедливости, как и велит шариат, а большей частью приводил стороны к согласию, ибо это и было лучшим решением с точки зрения ислама.
Он и в жизни любил порядок. Хороший почерк считал половиной таланта. Был скромен и не любил излишеств.
Расул Гамзатов вспоминал: «Однажды у него перетёрся и оборвался ремень. Ничего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его ещё некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились, но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов, ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Всё же и к новому ремню он пришил пряжку от старого».
Когда изнашивалась одежда, он заменял её подобной, не изменяя своим привычкам. Но когда ему сшили сапоги хуже тех, что у него были, Гамзат ославил сапожника едкой сатирой. Такое не забывалось, люди кругом посмеивались, и ремесленники стали опасаться его острого слова.
«Как-то он пришёл к маме и попросил сшить ему галифе, — вспоминала Айшат Гаджиева. — Мама сказала, что сошьёт, только бы он не написал потом стихи про неё, как про сапожника». Гамзат улыбнулся и сказал, что непременно напишет, если плохо сошьёт. Галифе вышли хорошие и в стихи не попали.
Поэт Николай Тихонов, автор знаменитого «Гвозди бы делать из этих людей: / Крепче бы не было в мире гвоздей», писал о Гамзате Цадасе: «Это был самый острый ум современной Аварии, поэт, убивавший словом врагов нового, мудрец, искушённый во всех тонкостях народного быта, беспощадный ко всему ложному, смелый борец с невежеством, глупостью, корыстью... Он писал самые дерзкие стихи, сатиры, в которых он давал полную волю своему острому языку и бичующему стиху... Гамзат Цадаса возвышался над всеми поэтами Дагестана, как самая высокая вершина».
Времена были трудные, но свет доброго слова, сладость красивой песни по-прежнему освещали непростую жизнь горцев.
Литературовед Наталья Капиева приводит наблюдение лингвиста Льва Жиркова о литературной жизни, увиденной им в 1923 году: «Песни появляются, можно сказать, почти еженедельно. Песни не анонимные, относящиеся не к коллективному творчеству, но имеющие определённого автора, всем известного, откликающегося зачастую на злобу дня... Песню эту можно не только петь, можно её и читать. Её на самом деле читают, обсуждают, критикуют, а если признают за великое произведение искусства, то и комментируют. Словом, мы наблюдаем полную и развитую аналогию с тем, что мы видим в нашей европейской литературной жизни. В эту деятельную литературную жизнь Цадаса внёс новую ноту. Придал, как он говорил, “древнему аварскому пандуру третью струну”. До него в аварской поэзии преобладала любовная лирика. “Третьей струной” стало реалистическое изображение повседневной жизни, обличительный пафос стихов».
Гамзат Цадаса писал для народа и не делал разницы между центральными газетами или простой стенгазетой в школе. Где публиковали — туда и отдавал свои стихи. Главным для него было, чтобы они дошли до людей.
В те времена горцы писали на аджаме — аварском языке на основе арабского алфавита. Учёные люди, как Гамзат Цадаса, могли писать и на классическом арабском. Так Цадаса писал стихи о любви, чтобы их не могли прочесть другие. Но это, как вспоминал Расул Гамзатов, бывало не часто. Цадаса и сам полагал, что «стихи не должны быть такими, чтобы их нельзя было прочитать матери, дочери, сестре». Хотя были в горах поэты, как Махмуд из Кахаб Росо, которых это не останавливало. Слишком сильны были их чувства и безрассудна страсть.
Гамзат был другом Махмуда и ценил его высокий талант. А это — явление редкое, о котором Цадаса высказался так:
На рынках закон существует издревле:
Чем больше товара — тем стоит дешевле.
Товар и талант меж собою не схожи,
Таланта чем больше, тем стоит дороже
[5].
Но для себя Цадаса избрал иной путь:
Не лежит моя душа к песнопениям любовным,
Я хочу служить стране словом грозным, полнокровным.
И, заглядывая вдаль, я всегда мечтал, чтоб слово
Камнем истины легло на обычаи былого
[6].
«Высшего эффекта Цадаса достигал пародированием не только явлений действительности, — писал историк Амри Шихсаидов, — но и устоявшихся и устаревших жанровых и стилевых канонов национальной художественной практики, юмористической их стилизацией. Новаторски уловил Цадаса момент кризиса определённой модели национального художественного мышления, скажем, типа так называемых песен о набегах или песен о любовных похождениях».
«ЕСЛИ Б МОЯ МАМА ПЕСЕН МНЕ НЕ ПЕЛА...»
Женой Гамзата была Хандулай. Горянка была красивой, умной и терпеливой. Она почитала своего мужа, родила ему четверых детей, и вся её жизнь была посвящена семье.
Она была, как писал Расул Гамзатов, «хорошей соседкой для соседей, надёжной и отзывчивой родственницей для родных, понимала радость и умела оплакивать уходящих».
Жена известного поэта была неграмотной, но к творчеству своего супруга относилась с трепетным уважением.
Переводчик Яков Козловский, не однажды бывавший в Цада, писал о жене поэта: «Женщина необыкновенной доброты, трудолюбия, выдержки и такта, Хандулай хорошо понимала своего мужа и была достойна его... Гамзат с любовью писал о ней, что если бы не она, то вряд ли бы он достиг того, что сделал... Когда на заре он садился за работу и до слуха домочадцев доносилось его бормотание, похожее на молитву, Хандулай снимала башмаки, чтоб не нарушать тишины в доме...» Гамзатов добавлял: «Она иногда осмеливалась заглянуть к нему и узнать, не нужно ли чего, не кончаются ли чернила в чернильнице. Мать очень зорко следила за чернильницей отца и не давала ей пересыхать».
Как все горянки, Хандулай любила слушать песни. А своим детям пела колыбельные. В них, в этих лучших песнях матерей, Расул Гамзатов чувствовал истоки своего творчества.
Там, где вознёсся небу сопредельный
Кавказ, достойный славы и любви,
Не из твоей ли песни колыбельной
Берут начало все стихи мои?
[7]
Гамзатов посвятил своей матери, как и всем матерям мира, немало пронзительных строк. Он утверждал, что чувство к матери — великое, оно не поддаётся изучению, это предмет раздумий, переживаний и любви. Недоумевая, отчего в поэзии так мало стихотворений о матерях, он приводил в пример Николая Некрасова:
Великое чувство, его до конца
Мы живо в душе сохраняем.
Мы любим сестру и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.
«До Некрасова в русской поэзии, за редким исключением, трудно найти произведение о матери, — писал Расул Гамзатов. — В моей аварской классической поэзии я тоже не нашёл ни строчки о ней. Наверное, и у других народов дело обстоит примерно так же. Причина этому всему одна и та же. Её я старался изложить в стихах, обращённых к своим аварским предшественникам:
Читая вас, я удивляюсь снова,
Как вы могли, глашатаи сердец,
О матерях не написать ни слова,
Махмуд, Эльдарилав и мой отец?..
— А что же ты под небом Дагестана
Мать не воспел? — спросил я у отца.
— Не помнил я, осиротевший рано,
Её заботы, песен и лица...
Ни Пушкин, ни Лермонтов не чувствовали материнской заботы: матери подарили им только жизнь. Не о матери, о няне написал Пушкин своё знаменитое стихотворение... Но несмотря на это в русской и советской поэзии есть прекрасные стихи, посвящённые матери. Некрасов, Блок, Есенин, Твардовский и многие другие создали замечательные поэтические образы».
Вечное с мгновенным разве бы сумело
Так нахлынуть, слиться, так бурлить во мне, —
Если б моя мама песен мне не пела,
Колыбель качая, как лодку на волне
[8].
Позже Гамзатов призывал издать сборник колыбельных песен всего мира. Он был уверен, что это будет великая книга, несущая людям любовь и мир.
С рождением Расула детей в семье стало четверо. Старшей была сестра Патимат. Потом — сыновья Магомед и Ахильчи. Через три года после Расула родился Гаджи.
Штаны в заплатках. Золотое детство,
Хотел бы я опять в тебя одеться.
Как хорошо бы снова стать юнцом,
Застенчивым неопытным глупцом
[9].
Пока мальчишки познавали жизнь, пасли овец, помогали отцу пахать поле, молотить и, конечно, развлекались и проказничали, Патимат помогала матери. Нелегко было управиться с домом, в котором жила большая семья. Разжечь очаг, принести в кувшине воду из родника, приготовить еду, подоить корову, пришлёпнуть на забор коровьи лепёшки, чтобы солнце превратило их в кизяк — топливо для печи, постирать одежду в холодной речке, прополоть поле, задать корма скотине и птице. А зимой, когда времени оставалось побольше, прясть шерсть и ткать паласы... Домашним хлопотам не было конца, но дочка Патимат была хорошей помощницей.
«Отец не раз говорил нам, — вспоминал Гамзатов, — вас четверо, а сестра у вас одна. Берегите её, заботьтесь о ней. На земле у вас нет никого роднее сестры».
ЗВЁЗДЫ ДЕТСТВА
Дедушку по отцу Расулу увидеть не довелось, зато любовь и заботу деда по матери Гайдара он ощутил сполна.
Много знает дедушка
Былей-небылиц:
Про луну и солнышко,
Про зверей и птиц...
Мне на всё мой дедушка
Может дать ответ.
И не стар мой дедушка,
Отец его теперь работал делопроизводителем Хунзахского райисполкома. Ему уже не надо было ездить по сёлам и возить с собой большую семью. Прежде это случалось часто, и весь семейный скарб укладывался в две сумы (хурджины), перевозимые на отцовском коне. «В один хурджин был собран весь наш домашний скарб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги, — писал Гамзатов. — Из другой сумы выглядывала моя голова».
Работа у отца стала спокойнее, но её стало больше. Делопроизводство требовало работы с множеством бумаг, зрение портилось, и Цадасе пришлось завести очки.
Хотя он уже не был шариатским судьёй, люди по-прежнему шли к нему в поисках справедливости. На семью времени почти не оставалось. Но вниманием и заботой Расул обделён не был, потому что у него был замечательный дедушка.
«Новое я видел своими глазами, о старом слушал, вспоминая, и думы мои были, как разноцветные нитки, обвивающие большое веретено, — вспоминал Гамзатов. — Я мысленно представлял уж себе тот многоцветный ковёр, который можно соткать из этих ниток. В такие ночи дедушка садился около меня и начинал потихоньку рассказывать. То сказка, то песня, то мудрость, то прибаутка, то смешно, то страшно. Минуты и часы исчезали для меня, оставался только дедушкин голос и картины, которые рождало воображение. Отец или братья появлялись, перебивая дедушкину речь, и было жалко, что они своим приходом прерывали интересную сказку».
Особенно нравилось Расулу предание о задорном и озорном сорванце по прозвищу Дингир-Дангарчу. Тому всё было нипочём, всё-то он умел и ничего не боялся. Птицу в небе он останавливал свистом, рыбу со дна реки доставал рукой, к звёздам взлетал на орле. Позже Гамзатов напишет о нём:
«Где бродил, где ходил,
Дингир-Дангарчу?»
«В лес ходил, там бродил
Дингир-Дангарчу!»
«Для чего ты там был,
Дингир-Дангарчу?»
«Там деревья валил
Дингир-Дангарчу!»
«Ты в уме ли своём,
Дингир-Дангарчу?»
«Я хочу строить дом
Дингир-Дангарчу!
В доме будет жена
Дингир-Дангарчу!»
Персонаж поэта был очень схож с ним самим, неуёмным, дерзким и жизнелюбивым. Не случайно многие называли этим прозвищем и самого Расула Гамзатова.
Давным-давно средь горной тишины
Худой мальчишка рос под этой кожей.
Запруды строил, закатав штаны,
И криком эхо гулкое тревожил...
Вертлявую юлу хлестал кнутом,
Надоедая матери порядком,
И, если гости приезжали в дом,
Он подстригал коням хвосты украдкой...
Я без улыбки вспомнить не могу,
Как мама по ногам меня стегала,
Когда я слишком близко к очагу,
Грозя кастрюлям, подбегал, бывало...
[11]
Дед Расула умер, когда внуку было всего четыре года. Но поэт запомнил его доброе лицо, его сказки и предания. «Лица тех людей, кто не рассказывал мне сказок, я не могу себе ясно представить, — писал Гамзатов, — хотя эти люди, наверное, здравствуют и поныне. Помню, когда я слушал белобородых сказителей, мне казалось, не они рассказывают эти удивительные сказки, а горы, древние пещеры, похожие на пасти чудовищ, сама земля и вода, солнце и луна».
Дед больше любил сказки и весёлые истории, загадывал загадки и учил скороговоркам. Отец отдавал предпочтение объяснению окружающего мира и преданиям о героях, которыми были полны горы. Ведь ещё были живы те, кто видел Шамиля и даже их земляка храбреца Хаджи-Мурата.
«Перед вечером, в сумерки, он брал меня на колени, закрывал полой тёплого душистого тулупа и рассказывал, рассказывал... Он говорил о дорогах, о реках, о том, как распускаются цветы и зачем на них прилетают пчёлы. Он говорил о том, как восходит солнце и как оно заходит. Он рассказывал о нравах, обычаях старины, о молитвах, творимых перед битвой».
Сказки, пословицы, поговорки, чудесные истории, легенды и предания, услышанные в детстве и запавшие в сердце, Расул Гамзатов называл «страницами большой истории моего маленького народа».
Расул жадно впитывал всё новое и интересное. Но стихи отца попросту завораживали, и он их сразу запоминал. Ему казалось чудом, как буквы и слова складывались в стихи, как менялись образы от того, в каком порядке слова располагались, а ритм стихов напоминал ему покачивание люльки, в которой лежал теперь его младший брат Гаджи.
«Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на годекане, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца, — вспоминал Расул Гамзатов. — Я был ребёнок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией (даже с излишней энергией), громко, выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца “Травля волка в Цада”, я звук “цъ” в словах “бацъ” и “цъада” произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они всё равно дрожали, лязгали, стукались друг о друга. Мне казалось, что при таком резком, напряжённом произношении этих звуков получается больше впечатления.
Отец каждый раз поправлял меня, говоря: “Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что есть силы, налегая на соху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стучали”».
Работы у отца всё прибавлялось, а Расулу казалось, что ещё не все горские сказки, не все стихи он услышал. И тогда он нанимался к соседу пасти коня — за сказку, которую он ему расскажет. Или ходил к пастухам, чтобы послушать их песни.
Детство всегда золотое, каким бы трудным оно ни было на самом деле. Редкий писатель не черпает вдохновение из этого чудесного источника первозданных чувств, ошеломляющих открытий, очарования красотой мира. Возвращение в детство остаётся вечной мечтой, а соприкосновение с ним согревает сердце, тревожит душу.
Об этом и написанное много позже стихотворение «У очага», которое считается одним из лучших в творчестве Расула Гамзатова.
Дверцы печки растворены, угли раздуты,
И кирпич закопчён, и огонь тускловат.
Но гляжу я на пламя, и кажется, будто
Это вовсе не угли, а звёзды горят.
Звёзды детства горят, звёзды неба родного.
Я сижу у огня, и мерещится мне,
Будто сказка отца вдруг послышалась снова,
Песня матери снова звенит в тишине.
Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверцу —
Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.
Что ж осталось? Тепло, подступившее к сердцу,
Песня матери, сказка отца моего
[12].
Стихотворение удивило многих читателей, видевших в поэзии горцев, в основном, продолжение героического фольклора. Народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев писал о нём: «Стихотворение Гамзатова имело такое содержание, ту художественную силу и суть, оно было написано на такую тему, которые делали его явлением редким во всей поэзии горцев тех лет. Тогда многих наших авторов одолевали риторика, общие слова и голая декламация, стихотворцы могли писать о чём угодно за исключением всего того, что их окружало, было им близко по их рождению, лежало рядом, просилось в стихи и связывало их с родной землёй, с отчим домом. Писать на такие темы, какую поднимал Гамзатов в процитированном выше стихотворении, большинство горских поэтов в те годы считало изменой гражданственности, впадая в непростительное для литераторов заблуждение. Мне думается, что Гамзатов явился первым из национальных поэтов страны, вызвавшим в переводе на русский язык небывалый доселе горячий интерес со стороны
читателей во всех уголках Советского Союза».
«ВЫУЧИ ЭТИ БУКВЫ!»
Когда настала пора учиться грамоте, шестилетнего Расула отдали в школу при мечети, прозванную «школой Гасана».
Первым учителем Расула и стал этот удивительный Гасан, в котором отражалось и парадоксально совмещалось всё то, что происходило в Дагестане.
«Гасан был странный и добрый человек. Странность его состояла в том, что он верил, будто можно совместить новое и старое, — писал Гамзатов. — Как он умудрялся совмещать это в себе, одному Богу известно. Одновременно он был секретарём комсомольской организации в одном ауле и муллой в другом. Чем это кончилось, нетрудно догадаться: как муллу его прогнали из комсомола, а как комсомольца отстранили от мечети. Во время Гражданской войны он был красным партизаном... В его программе всё перепуталось — и арабское, и русское, и латынь. На фанере он писал огромные арабские буквы и говорил:
— Учись выводить эти буквы. Твой отец всю жизнь читал и писал по этим буквам.
Потом он выводил такие же большие русские буквы и говорил:
— Учи их. Твой отец в возрасте, когда уже носят очки, выучил все эти буквы. Они тебе пригодятся.
Иногда он давал нам задание выучить какой-нибудь текст, а сам уходил в мечеть молиться.
Когда он обучал нас арабскому письму, в руках у него была палка, которой он и бил нас за ошибки или за нерадение. Когда же дело доходило до русского алфавита, Гасан брал в руки линейку. Таким образом, нам попадало то от палки, то от линейки.
...Никто не успел окончить школу Гасана, её закрыли. Гасан стал работать на колхозной ферме, был послан на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и вернулся оттуда с выставочной медалью. Две другие медали он получил на фронте».
После закрытия школы Гасана учёба продолжилась в светской школе. Первая такая школа была открыта в Хунзахской крепости.
Эта огромная по тем временам крепость была построена в 1867 году, когда Кавказская война уже давно закончилась. Располагается она не в самом Хунзахе, а неподалёку от бывшей столицы Аварского ханства, в местности Арани, на выкупленной у горцев земле.
В крепости располагались казармы гарнизона, арсенал, лазарет и прочие крепостные постройки. Тогда же у крепости образовался базар, который, как и сама крепость, существует и теперь.
Сразу за крепостью Хунзахское плато расходится широким клином, образуя глубокую пропасть, в которую водопадом обрушивается река Тобот. Здесь каждый может насладиться грандиозной панорамой, непременно увидит парящих в ущелье орлов и, если повезёт, разглядит в скальных щелях их гнёзда.
В 1871 году крепость посетил император Александр II. В последующие годы крепость была важным стратегическим укреплением, принимавшим участие в бурных событиях вплоть до окончания Гражданской войны.
Со временем крепость превратилась в новую Хунзахскую столицу, в которой расположились всевозможные государственные учреждения. Там же были открыты школы, больница, издательство с типографией, клуб, давший начало Аварскому театру, магазины и многое другое.
В Школе крестьянской молодёжи, куда определили Расула, учились дети из близлежащих сёл. Учёба давалась ему легко, сказывались отцовское воспитание и даже незаконченная школа Гасана.
В крепости было много интересного. Под церковной колокольней гнездились голуби, которых юные пионеры пугали своими горнами, старые царские пушки выглядели готовыми к бою, то там, то тут ребята находили ядра, оружие, царские монеты. Всё это разыгрывалось в разных играх, если не отбиралось старшими.
«К моим временам грозность Хунзаха осталась только в легендах да пересказах, — писал Гамзатов. — Через её амбразуры мы, школьники, кидали друг в друга яблочными огрызками либо снежками...»
Расул почти не знал русского языка, как и большинство его приятелей, но находились и «знатоки», которые всегда готовы были «помочь».
«За одной партой со мной сидела синеглазая девочка, дочка русской учительницы, Нина, — вспоминал Гамзатов. — Она мне очень нравилась, но я не осмеливался сказать ей об этом. Наконец я решил написать записку. Но и это было не просто, потому что в то время я ещё не умел написать по-русски ни одного слова. Я обратился со своей заветной просьбой к приятелю. Он говорил мне какие-то непонятные русские слова, а я записывал их русскими буквами. Я думал, что пишу прекрасные слова о любви, какие мне хотелось бы сказать Нине. Дрожащими руками я передал записку своей соседке, дрожащими руками она развернула её и вдруг покраснела и убежала из класса, и больше не хотела сидеть со мной за одной партой».
Нетрудно догадаться, что приятель научил Расула неприличным словам, и кончилось это тем, чем должно было кончиться, а также потасовкой с коварным одноклассником. Но красавицу Нину Гамзатов вспоминал долгие годы и посвятил ей трогательные стихи.
В стихотворении «Вера Васильевна» Расул Гамзатов взволнованно говорил о своей первой русской учительнице:
Вспоминаю себя семилетним пострелом
В дальнем горном ауле. Осенней порой
На меня, как родная, она посмотрела,
Та приезжая женщина с речью чужой.
Первый русский урок позабыть я могу ли?
День погожий в сиянье сквозной синевы...
Друг наш, Вера Васильевна, в горном ауле
Двадцать лет прожила ты — посланец Москвы...
По ночам ты бралась за тетрадки при свете
Самодельной коптилки, мерцавшей едва.
На графлёных страницах аварские дети
Выводили впервые по-русски слова...
[13]
Он всегда с благодарностью вспоминал первую учительницу, научившую горского мальчишку русскому языку и открывшую ему великую русскую литературу.
С русским языком в Дагестане было непросто, происходило много метаморфоз, мешавших овладеть им в полной мере. Язык неразрывен с алфавитом, а ученикам приходилось изучать сразу два алфавита — латинский и русский. Дело спасали отважные русские учителя и учительницы, приезжавшие работать в Дагестан.
Незадолго до того как Расул стал учеником, в мусульманских регионах, веками писавших на арабском или аджаме, на основе арабского алфавита была введена латиница.
Случилось это после постановления Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7 августа 1929 года «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР». Власти, разумеется, ссылались на пожелания рабочих и крестьян, которые, скорее всего, не подозревали о своём «волеизъявлении».
Постановление обязывало впредь пользоваться новым латинизированным алфавитом и обучать на нём же, поручало заменить наборные машины, шрифты, пишущие машинки на новые, а импорт оборудования прежней системы попросту запретить. Особенно важным был шестой пункт постановления:
«Предложить правительствам союзных республик принять меры к тому, чтобы редакционно-издательские планы национальных издательств предусматривали рост изданий на новом латинском алфавите народов арабской письменности Союза ССР за счёт максимального сжатия или прекращения изданий на арабском алфавите».
По этому поводу даже поручалось предусмотреть «необходимые ассигнования на покрытие убытков издательских организаций от обесценения литературы, напечатанной арабским алфавитом».
Население в одночасье стало «неграмотным» и вынуждено было переучиваться. Как и у других горских народов, аварская светская письменность стала латинизированной.
Именно на латинице печатались в газетах стихи Гамзата Цадасы.
Реформы касались не только газет, учебников и школьных тетрадей. Они похоронили под собой целые пласты национальной культуры. Этот насильственный разрыв сказывается до сих пор. В архивах пылятся тысячи книг, написанные прадедами современных горцев и непонятные потомкам, а на кладбище трудно отыскать могилу дальнего предка, потому что надписи на плитах сделаны по-арабски. Знавшие аджам умели читать по-арабски даже не понимая самого языка. Но имена, многие слова и цифры они понимали.
Но как новое поколение прочтёт страстные, обжигающие стихи любимого в народе Махмуда из Кахаб-Росо? Сборник его стихов вышел в 1924 году и стал большой редкостью, а новым издательским предпочтениям властей он не соответствовал.
Трудно себе представить, что стало бы с культурами больших народов, если бы их письменность была вдруг переведена на арабскую графику или китайские иероглифы.
После некоторой адаптации новая письменная система оказалась приемлемой для передачи особенностей горских языков. И всё же оставались сомнения, что латиница приживётся. В Дагестане такое уже случалось, когда после Кавказской войны была введена письменность на основе кириллицы, существовавшая вместе с аджамом. Определённую роль это сыграло, но в 1910 году кириллица была отменена и письменность вернулась к аджаму.
На введение новой письменной системы повлияло введение аналогичной системы основателем Турецкой Республики Кемалем Ататюрком. Он провёл эту реформу в 1928 году, незадолго до реформ в СССР. Советские власти видели в Ататюрке союзника и понимали всю значимость нововведения. В Дагестане, как и в Турции, было немало противников новой системы, не желавших отрыва от своего культурного наследия, арабоязычной письменной традиции.
Вспомнили и «Антиписарское движение» 1913—1914 годов, когда горцы восстали против насильственной русификации и замены традиционного для них способа сельского самоуправления на более удобную для властей форму. Восстание быстро разрасталось, что грозило непредсказуемыми последствиями, учитывая шедшую Первую мировую войну, на которой сражалось множество горцев — родственников и односельчан восставших. «Дикая дивизия» наводила ужас на противника, и никто не желал её появления на Кавказе. Власти сочли за лучшее отступить от своих намерений. В том восстании участвовал и Гамзат Цадаса.
Но теперь ситуация была иная. Турция была отдельным государством, а Дагестан — частью СССР. Однако и латинице не суждено было долго просуществовать наряду с кириллицей. Тем не менее она же и облегчила переход на кириллицу, с которой у латиницы было много общего, включая графику.
Введение латиницы было воспринято относительно спокойно ещё и потому, что грамотных людей было не так много, а в стране происходили события куда более тревожные и касавшиеся каждого.
Разруху после Гражданской войны в какой-то мере помог преодолеть нэп — новая экономическая политика 1920-х годов, сменившая суровый военный коммунизм с его принудительной продразвёрсткой. Тогда у крестьян отбиралось почти всё, вызывая недовольство и восстания. Нэп разрешил частое предпринимательство, торговля расцвела, урожаи росли, потому что зерно теперь можно было продавать по свободной цене, инфляция почти прекратилась, товаров стало много. Горцы — народ предприимчивый и трудолюбивый, и в села начал возвращаться достаток. Но когда страна начала приходить в себя, большевики увидели, что экономика может оказаться сильнее политики, и почувствовали угрозу своему могуществу. К тому же в стране начались Первая пятилетка и индустриализация, голодные города нуждались в хлебе, а крестьяне отказывались его продавать по низким ценам, как того требовала власть.
Нэпманов начали всячески притеснять, лишили избирательных прав, обложили драконовскими налогами. А затем наступила волна репрессий, накрывшая и нэпманов, и поднявшееся с колен крестьянство.
И тех и других принялись «раскулачивать», конфискуя сбережения и имущество, и высылать целыми семьями в Сибирь. Достаточно было иметь небольшую мельницу или маслобойню, наёмного рабочего или просто числиться «кустарём-одиночкой с мотором», чтобы оказаться в смертельно опасном списке «кулаков». В том же списке могли оказаться и все, кто имел отношение к духовенству.
Нэпа не стало. Зато началась сплошная коллективизация. Общинное сознание было у горцев в крови, и поначалу, вольно или невольно, в колхозы записывались целыми аулами, вместе с полями и скотиной. Но и разочарование не заставляло себя долго ждать. Повальные хлебозаготовки, конфискации и прочие «успехи» новой власти напоминали мрачные времена военного коммунизма. Колхозы редели, а многие и вовсе распадались. Хлеб прятали или продавали, как и скот, и лошадей, не дожидаясь конфискации.
Народ роптал, и единство в нём вновь нарушилось. Начались выступления не только против разорительных хлебозаготовок и колхозов, но и против самой советской власти. Люди, конечно, стремились к новому, ещё не угас революционный энтузиазм, но никто не хотел, чтобы оно было хуже старого. В ответ начались репрессии.
Расул всего этого не понимал, только вдруг начали исчезать куда-то его друзья, родителей которых записали в «кулаки», пустели дома в Цада. Зачастили по дорогам всадники в кожанках, ещё вчера бывшие сельскими бездельниками. Партийцев и комсомольских активистов тогда появилось много. Возможно, ещё и потому, что им разрешалось носить оружие, запрещённое для обычных граждан.
Еды в школе стали давать всё меньше. Громче пели горны и стучали барабаны, но веселее от этого не становилось.
В те трудные годы детвора с особым чувством пела дореволюционную песню Владимира Попова о картошке, переделанную для пионеров:
...Наши бедные желудки-лудки-лудки-лудки
Были вечно голодны-ны-ны,
И считали мы минутки-нутки-нутки-нутки
До обеденной поры-ры-ры!
А дома Расул чаще стал замечать опечаленного отца и заплаканные глаза матери.
Всё это вполне могло обернуться новой Гражданской войной. Власти ослабили давление на крестьян, приняли постановление «О революционной законности», а затем и «О льготах и преимуществах простейшим производственным объединениям, их членам в горных аулах Дагестанской АССР».
На стенах ещё висели агитплакаты с лозунгами: «Кулак — ярый враг коллективизации», «Долой кулака из колхоза», «Уничтожим кулака как класс», но стали появляться и новые. Один из них приглашал на спектакль недавно возникшего в Хунзахе Аварского театра.
Старожил аула Цада Абдулгамид Султанов рассказывал автору книги:
«Я работал в поле. Вдруг слышу чей-то разговор. Потом вижу — Расул идёт один, а разговаривает за двоих. Меняет голос и говорит как будто кто-то другой. Когда увидел меня, рассмеялся. Мне, говорит, дали роль в театре. Вот я и говорю за себя и за другого человека, с которым буду на сцене разговаривать. Я, говорит, репетирую. Тогда ещё у него была склонность к искусству, к литературе, к актёрству».
Появление Аварского театра стало очень ярким культурным событием. Истоки театральной культуры аварцев, как и у других народов, уходят корнями в народные праздники, обычаи, обряды и фольклорные традиции. Одним из них был обряд вызывания дождя, когда костюмированное шествие, в накидках из трав и цветов, с песнями двигалось по аулу, останавливаясь у домов и призывая Всевышнего ниспослать дождь изнемогающей от засухи природе. Люди обливали процессию водой и угощали, чем могли.
Основателем театра стал Абдурахман Магаев, бывший несколько лет актёром в Кумыкском театре, который появился раньше. Кумыкский язык тогда знали многие, кумыки в основном жили на равнине, у моря, куда весь Дагестан ездил по торговым и прочим надобностям. И в произношении кумыкский язык был легче аварского.
Желание создать национальный театр наталкивалось на многие препятствия. Власти разрешили театру играть в клубе Хунзахской крепости и даже выделили вооружённую охрану. Но где было взять актёров? С большим трудом удалось собрать небольшой коллектив. Мало кто соглашался идти в актёры, даже если у него были явные артистические способности. Ещё труднее было с актрисами. Абдурахману Магаеву пришлось проявить чудеса красноречия, чтобы уговорить Зейнаб Набиеву, а прежде — её родственников и сельское начальство отпустить девушку на работу в театр. У неё был талант и прекрасный голос, но были и опасения, что пойдут сплетни и пересуды. Она опасалась не напрасно. Махмуд Абдулхаликов, ставший позже популярнейшим актёром, аварским Насреддином, рассказывал автору книги, что ему не раз приходилось драться с парнями, которые поджидали его по дороге в Хунзах. Актёрство считалось тогда делом зазорным даже для мужчин, не говоря уже о женщинах. Однако первые же представления принесли театру такую славу, что те же парни просили достать им билеты на спектакли, учитывая близкое знакомство с актёром.
Первое время, в отсутствие профессиональных режиссёров, театр показывал то, к чему был расположен зритель — музыкальные концертные программы, шуточные сценки, театрализованные представления на основе фольклора и поэзии. Для этого особенно подходили сатирические стихи Гамзата Цадасы.
«Аварцы умеют ценить талант человека, особенно талант певца, — писал Махмуд Абдулхаликов. — Хорошая песня заставляет танцевать аварское сердце». Даже сегодня редкий спектакль Аварского театра обходится без включения песни или танца, а актёры, как правило, ещё и замечательные певцы и танцоры.
Магаев, познавший вкус профессионального театра, хотел большего. Его неустанные усилия увенчались успехом, в театр приехали работать режиссёр Павел Шияновский и его брат Иван — художник и декоратор. После серьёзной работы с труппой была поставлена пьеса Константина Тренева «Любовь Яровая». Премьера спектакля стала официальным открытием театра. Возможно, именно в ней, в небольшой роли, и дебютировал Расул Гамзатов.
Этот и другие спектакли, особенно по пьесам дагестанских драматургов, вызывали у зрителей бурную реакцию. Когда представлялась пьеса о кровной мести, женщины в зале рыдали, а мужчины рвались на сцену с обнажёнными кинжалами.
Театр Расула увлёк. Он с упоением играл небольшие роли, которые ему доставались. Это было открытием нового мира, когда можно было не только слушать про какого-то героя или читать о нём, а самому в него превращаться. Порой Расул так вживался в роль, что оставался в образе даже вернувшись домой, чем очень всех веселил. Он запоминал не только свои роли, но и роли остальных участников, подсказывая слова, когда кто-то их забывал.
По примеру отца, он участвовал и в выпуске стенгазеты, писал для неё, что было нужно. И сам не понимал, как простые слова складывались в строки, напоминавшие стихи. Впрочем, стихами он это не считал, стихи были у отца, и ещё — в учебниках по русской литературе, которые он знал почти наизусть.
«Русскую литературу я узнал ещё в детстве, её прелесть я ощущал ещё до того, как стал брить пушок над губой. Отец заставлял меня, когда я был школьником, читать аульчанам толстовского “Хаджи-Мурата”, тут же переводя его на аварский язык. Старики тогда говорили, что человек не в силах создать такую правдивую книгу, что, наверно, её создал сам Господь. А я учил наизусть басни Крылова, “Хамелеона” Чехова, “Деревню” Пушкина в дивном переводе Гамзата Цадаса».
Новая должность не мешала Гамзату Цадасе оставаться поэтом и бичевать общественные пороки.
«Подлинный нравственно-этический суд совершил Цадаса над позорными проявлениями женского бесправия, — добавляет Амри Шихсаидов. — Поэт ратовал за раскрепощение горянки, защищал её от унижений, сетовал, что “из-за неверного взгляда на женщину мир хромает на одну ногу”».
Люди жадно вслушивались в его новые стихи, которые, кроме прочего, скрашивали их нелёгкую жизнь. И Гамзат оправдывал их ожидания. Ворам, казнокрадам, взяточникам, всем, кто жил нечестно, плохо спалось в ожидании новой сатиры или басни Цадасы.
«Гамзат слышит и голос худой овцы, и стоны коня с израненным хребтом, — писал он о себе. — Гамзат читает жалобы волов с намозоленными от ярма шеями и горькие вопли сельпо, опустошённого растратчиками. Гамзат не любит пчелу, которая не даёт мёда, и курицу, что не несёт яйца».
После губительных мутаций с алфавитом культурная жизнь стала понемногу оживать. Литература в чём-то зависела от политических режимов, но продолжала существовать даже при самой мрачной тирании. Теперь же и в этой сфере происходили явные перемены к лучшему. Началось издание учебников, переведённых на новый алфавит, выходили первые книги.
ПРИЕЗД РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
За год до намеченного на 1934 год Первого съезда советских писателей в Дагестан приехали писатели из России. Среди самых известных из них были Николай Тихонов, Пётр Павленко и Владимир Луговской.
Сохранилась фотография лета 1933 года, на которой Гамзат Цадаса изображён с приехавшими в Хунзах Тихоновым, Луговским и Павленко. Побывали они и в ауле Цада в доме Гамзата. Расул Гамзатов вспоминал о их приезде, как они беседовали о литературе и читали друг другу стихи.
«Русского языка отец не знал, — писал Расул Гамзатов. — Ему приходилось на арабском же языке читать Чехова, Толстого, Ромена Роллана. Ни о ком из них горцы тогда не имели представления. Больше других писателей отец любил Чехова, особенно понравился ему рассказ “Хамелеон”, и он часто его перечитывал». Но писатели легко находили общий язык, лишь в крайних случаях пользуясь помощью переводчика.
А затем русские писатели начали переводить стихи Цадасы и открыли его русскоязычному читателю, как и других поэтов Дагестана.
Приехали писатели на машине, которая была тогда в диковинку. Дальше, по горам, писатели путешествовали на лошадях. Когда они приехали на родину поэта в аул Цада, это почти совпало с большим событием — Гамзат Цадаса добился, чтобы в аул провели водопровод. Про этот водопровод позже писал Владимир Огнёв, прочитав где-то статью, высмеивавшую водопроводный кран. «Пригласить бы такого “специалиста” по вопросам народности в аул Цада и дать ему двухвёдерный кувшин... Вряд ли он бы стал после этого, вообще, статьи писать».
Гости были очарованы Кавказом, его природой, историей и людьми, изучали быт и культуру горцев, отмечали приметы новой социалистической жизни. С их приездом началась особая глава в дагестанской литературе и литературе о Дагестане. В центральной печати стали выходить стихи, рассказы, повести о Дагестане. Появились переводы дагестанских поэтов.
В очерке «Кавалькада» Николай Тихонов писал:
«Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне ещё один стих...
Вечерним выстрелам внимаю...
Никаких выстрелов слышно не было. Всё было тихо в этой дружеской долине, всё было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рождённые блеском далёкой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове».
Выстрелы зазвучали позже, в книге Петра Павленко «Шамиль» — о борьбе горцев за свободу и независимость. Его приезд в Дагестан, на родину Шамиля и Хаджи-Мурата, дал возможность воочию увидеть места действия грандиозной исторической драмы, окунуться в атмосферу событий, познакомиться с земляками и даже потомками будущих героев его книги.
Русские писатели стали продолжателями замечательной литературной традиции, заложенной Грибоедовым, Пушкиным, Бестужевым-Марлинским, Лермонтовым, Львом Толстым, которые знали Кавказ не понаслышке, были участниками и очевидцами многого из того, о чём писали в своих произведениях. Кавказ менял всех, кто оказывался в его объятиях, а классики изменили представление российского общества о Кавказе.
«Я вижу Кавказ, — писал Александр Бестужев, — совсем в другом виде, как воображают его себе власти наши». Прекрасная, окутанная чарующими легендами страна, её воинственные жители, их героическое противоборство с северным титаном, смешение языков, рас, религий, политических интересов и человеческих страстей — всё это стало для Бестужева, который взял себе псевдоним Марлинский (фамилия декабриста была под запретом), бурным источником творческого вдохновения.
Он не только писал о Кавказе, одним из первых Бестужев-Марлинский начал переводить поэзию горцев. Поразившую его прощальную песню мюридов он перевёл так:
Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.
Эти песни поразили даже взыскательного критика Виссариона Белинского: «Перевод его песен горцев в “Аммалат-Беке” кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими».
Кавказские произведения сделали Бестужева-Марлинского популярнейшим писателем. Ими зачитывались все — от сентиментальных девиц до императора. Так зародилось новое романтическое направление в русской литературе.
Официальные царские историографы и генералы предпочитали называть борьбу горцев Кавказа мятежом или бунтом, пытались не придавать событиям их настоящего исторического значения. Однако поэты и писатели отдавали должное справедливой борьбе горцев за свободу, тем более что среди оказавшихся на Кавказе литераторов было много тех, кто сам пострадал от мертвящего самодержавия.
Кавказская тема нашла отражение во многих произведениях русских писателей. Пользовались популярностью рассказы и повести Василия Немировича-Данченко, старшего брата знаменитого режиссёра, основавшего с Константином Станиславским Художественный театр.
«Лермонтов, по моему убеждению, — один из загадочных поэтов мира, умевший выражать невыразимое, — говорил Расул Гамзатов Владимиру Коркину. — Он для меня — олицетворение великой поэтической традиции, глубины общечеловеческой мысли, к которой я стремлюсь. Сказать иначе, я хотел бы видеть мир глазами Пушкина, Лермонтова — поэтов, открывших для меня раньше всех и ярче всех мою родину — Кавказ... Кавказ для Пушкина, Лермонтова и других поэтов являл символ свободолюбия. В то время как царизм стремился завоёвывать, покорять народы, поэзия вопреки этому прославляла мужество горцев, сражающихся за свободу. Назвав Кавказ “царём земли”, Пушкин выразил восхищение его сверкающими вершинами, древнейшей культурой и поэзией, народом».
Гамзатов восхищался гением Пушкина, силой и необъятностью его литературного дара. Но была у него и обида на поэта за строку из «Кавказского пленника» — «Смирись, Кавказ, идёт Ермолов!». Он готов был повторить вслед за Петром Вяземским: «Поэзия — не союзница палачей!»
«Десятки лет и Ермолов, и другие царские генералы, кровавые палачи малых народов, не могли ни огнём, ни мечом покорить Кавказ, — писал Расул Гамзатов. — Нас покорила волшебная поэзия Пушкина, нас пленили ум и талант великого сына России».
Нет, не смирялись и не гнули спины
Ни в те года, ни через сотню лет
Ни горские сыны, ни их вершины
При виде генеральских эполет.
Ни хитроумье бранное, ни сила
Здесь ни при чём. Я утверждать берусь:
Не Русь Ермолова нас покорила,
Кавказ пленила пушкинская Русь
[14].
Но тот же Пушкин первым взглянул на Кавказ, на восточный мир, к которому его тогда относили, по-иному, когда встретил там поэта.
«Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, — писал Пушкин, — но как же мне стало совестно, когда Фазиль Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умною учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и пр. Со стыдом принуждён я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Впредь не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям».
В начале XX века о Кавказе тоже не забывали. Роман Фатуев (Иван Бобков) много писал о Дагестане, а в 1928 году выпустил роман «На Пьяном Кресте» о Гражданской войне на Северном Кавказе. Фатуев был другом Гамзата Цадасы, часто встречался с поэтом. Помнил его и Расул Гамзатов. Позже ему довелось побывать в московской квартире Фатуева, где Гамзатова восхитила уникальная библиотека, особенно её кавказская часть. В ней, как вспоминал Гамзатов, обнаружился даже экземпляр журнала «Московский телеграф» с началом кавказской повести Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек», подаренный автором жене коменданта Дербента.
Приезд русских писателей значительно повлиял на литературный процесс в Дагестане. Начался тот самый «культурный диалог», приносивший пользу и дагестанской, и русской литературе. Активнее пошёл процесс объединения литературных сил республики. Крепче становились связи с коллегами в России и писателями других народов Дагестана. Советская Россия была наследницей великой литературы, продолжала и развивала её традиции. А замечательная школа перевода бесконечно расширяла круг читателей, которые получали возможность познакомиться с литературой горских народов.
В свою очередь, переводы пробудили особый интерес дагестанцев к русскому языку. Теперь это была не вынужденная необходимость понимать имперско-колониальный язык, а живой интерес к языку великой литературы. И этот русский язык выгодно отличался от казённо-административного. В результате язык Пушкина и Лермонтова стал в Дагестане языком межнационального общения.
«Благодаря своему языку Россия подарила мне не только собственную литературу, но и Шекспира, Мольера, Гёте, Тагора, Шевченко, — говорил позже Расул Гамзатов в интервью с Кларой Солнцевой. — А без них как можно жить художнику? Аварский цветок лежит у меня в томике Блока. Нет юга без севера. А северу необходим юг. Лично я без русского языка был бы как без крыльев. Вот написал о своей матери-горянке и получаю трогательное письмо. Откуда? С Дальнего Востока. Пишу о погибших братьях, превратившихся в белых журавлей, и снова эхом откликается Россия. Душевный, отзывчивый народ».
СЪЕЗД В МАХАЧКАЛЕ
1934 год принёс много нового. Началась новая жизнь и для Гамзата Цадасы.
К традиционной для горских поэтов духовной, патриотической, антифеодальной поэзии дагестанские классики добавили темы любви и борьбы с социальной справедливостью. Гамзат Цадаса ввёл тему новой жизни, ниспровержения отжившего, расширил жанровую палитру произведениями для детей и юношества, создавал драматургические произведения для театра.
Слава его давно перешагнула границы Хунзахского района, или Хунзахского участка Аварского округа, как он тогда назывался. В Махачкале была издана его первая книга «Метла адатов» («Падатазул жул») и проведён его творческий вечер.
...Меня пригласили в Махачкалу,
Повесили афишу, что «я, мол, приехал»...
Честь-то какая! Но мне не до смеха,
Едва не сгорел я тогда со стыда.
Потом стихи мои вслух произносили,
И пели песни мои про се и про то,
И хохотали до колик, слушая,
Про «старые буквы» и про «чохто»...
А ведь стихи мои очень простые —
Простые стихи для людей простых,
Подумать только, какое значенье
Имеет простой и честный стих!
Наталья Капиева писала: «Это было время и счастливое, и трудное для Цадасы. Только что вышла первая книга его стихов — сборник сатир “Метла адатов”. Успех её был так велик, что — неслыханное тогда в Дагестане дело! — тираж тут же пришлось повторить. Стезя сатирика никогда не была лёгкой. Но особенно нелёгкой была она в исторических условиях 30-х годов. В годы, когда некоторые художники слова склонялись перед силой обстоятельств и, не чувствуя в душе радости, слагали одни гимны радости, Цадаса был верен себе. Обиды и боли за себя и за трудности, переживаемые народом, конечно, оставляли шрамы на его сердце, ибо сердце поэта — легко ранимая цель... Но с тем, что считал должным искоренять, он героически боролся и “метлу” свою не выпускал из рук, не сменил на кисточку, рисующую лишь розовой краской».
Вскоре представители народов Страны гор собрались на Первый Вседагестанский съезд советских писателей. Это было знаменательное и волнующее событие. Поэты и писатели, разве что слышавшие друг о друге, наконец встретились и восславили единство Дагестана.
Среди собравшихся творцов было и трое почти уже классиков: Гамзат Цадаса, Сулейман Стальский и Абдулла Магомедов. У всех были изданные на родных языках книги, а русские переводчики делали их известными за пределами республики.
«Вот в этом-то году, — писал Цадаса, — Гамзат и встретился впервые со своими двумя соратниками: Сулейманом Стальским и Абдуллой Магомедовым — народными поэтами Дагестана. Три дагестанских певца прогуливались по улицам Махачкалы, будто кони, запряжённые в одну упряжку. И на заседаниях они были неразлучны, словно созвездие. Один лезгин, другой кумык, третий аварец — три певца, и ни один не знает языка другого. Но друзья не растерялись. Они придумали свой, понятный им язык: во время бесед так размахивали руками, словно были заправскими дирижёрами».
Новые друзья и кунаки Цадасы были замечательными поэтами, выросшими из духовных глубин своих народов. Как и сам Гамзат, они боролись за новую жизнь своих народов, отвергая всё старое и отжившее. Суть своей поэзии Сулейман Стальский объяснял просто:
Поэта сила — звонкий стих,
А стих не терпит слов пустых.
Одним из главных организаторов съезда был Эффенди Капиев. Выросший на Ставрополье, он прекрасно знал не только родной лакский, но и русский и кумыкский языки.
Он собирал фольклор, переводил на русский дагестанских поэтов.
«Эффенди Капиев был неутомимым искателем, вдохновенным первооткрывателем древних песен дагестанских горцев, произведений и жизнеописаний классиков дагестанской поэзии: Махмуда, Батырая, других известных и малоизвестных певцов, — писал Расул Гамзатов. — Наконец, он первым открыл для всей страны своих современников, народных поэтов Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Абуталиба Гафурова. Дагестанцы всегда благодарны Эффенди Капиеву за книги “Песни гор” и “Резьба по камню”, ставшие для них и для многих других настольными. До Э. Капиева песни горцев без основания и предвзято относили к некоей условной восточной поэзии, считая их излишне слащавыми, слезливыми, цветистыми. Во-первых, я отвергаю такое мнение о поэзии Востока. Во-вторых, Капиев показал и доказал, что древняя поэзия Дагестана в целом, и каждого из его народов в отдельности, существует как творчество самобытное, неповторимое. Он подчеркнул национальное начало этой поэзии, которое сочетается с общечеловеческим».
Выступая на съезде, Капиев призывал повышать качественный уровень литературы.
«На этом съезде наряду с горячими, достойными выступлениями звучали нотки о беспомощности, слабости письменной литературы республики, — писал Расул Гамзатов. — Одни хотели выгоды от молодости нашей литературы, другие просили скидки на малочисленность наших народов, третьи ссылались на позднее развитие нашей культуры. Вот тогда встал молодой пламенный Эффенди Капиев. Он вышел на трибуну и провозгласил: “Золотое детство дагестанской литературы прошло. Да здравствует зрелость, и никаких скидок”. С тех пор под этим девизом проходят все съезды писателей».
Мариэтта Чудакова, автор книги об Эффенди Капиеве для серии «Жизнь замечательных людей», писала о том, как Капиев призывал участников съезда избавиться от старой болезни, которая губила литературу — от лени. Единственным лекарством от этой хронической болезни Капиев считал высокую ответственность за своё творчество.
При своих неустанных заботах о судьбах дагестанской литературы, он был ещё очень молод. «По рассказам его неграмотной матери, — вспоминал Расул Гамзатов, — Эффенди родился через полгода после смерти бабушки, в тот год, когда отец Мансур, продав своего осла, в дом привёз несколько фунтов винограда, в тот год, когда в Темир-Хан-Шуре был убит пристав. По этим “справкам” сам Эффенди установил, что он, первый мальчик и четвёртый ребёнок в семье, родился в 1909 году в ауле Кумух».
К началу съезда Капиеву удалось издать в Москве антологию дагестанской литературы в переводах на русский язык.
Цитировавшаяся выше Наталья Капиева была супругой Эффенди Капиева. Ей довелось стать очевидцем происходивших на съезде событий. Она оставила колоритный, и при этом очень точный портрет Гамзата Цадасы той поры:
«Цадаса был крепок и кряжист, как горная глыба. Одет он был просто: серовато-коричневая рубаха домашнего сукна, с мелкими частыми пуговками у ворота, подпоясанная наборным кавказским пояском. Так одеваются и до сих пор пожилые люди в аулах, разве что рубахи теперь шьют из тонкого трико или шевиота. И этим Гамзат ничем не отличался от земляков. Лицо его, крупной лепки, привлекало спокойствием, внутренней сосредоточенностью. Ему было тогда под шестьдесят. Человек из народа, познавший тяжёлый труд, с лицом, обветренным, прокалённым вершинным солнцем. Такие лица словно рождены для скульптуры».
Съезд стал значительным культурным явлением. Различные писательские группы слились в Союз советских писателей Дагестана. Прежние объединения, включая ДАПП (Дагестанская ассоциация пролетарских писателей), как и в целом российская — РАПП, были ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
Писатели избрали правление и делегатов на Первый Всесоюзный съезд советских писателей в Москве. Среди представителей Дагестана были и Сулейман Стальский, и Гамзат Цадаса.
СЪЕЗД В МОСКВЕ
Занимаясь отходничеством, в поисках заработка, Цадаса увидел почти весь Кавказ, но о Москве знал только из газет и по радио.
Столица огромной страны его поразила. Он увидел здесь столько необычного, удивительного, огромного, что тема Москвы прочно прижилась в его творчестве. Но он не был бы Цадасой, если бы попросту воспевал величие и размеры Москвы. Свои впечатления он выразил в стихотворении «Недостатки Москвы в сравнении с горским аулом».
...А где зерно хранят, коль не секрет?
Ни у кого амбара нету даже.
Гость на коне прискачет, но куда же
Коня поставить, если стойла нет?
... Как до сих пор остался я в живых,
Когда вокруг полно автомобилей?
Ходить здесь сами женщины не в силе.
Под ручку водят каждую из них...
Хоть всю Москву я обошёл пешком,
Хоть есть в Москве закусочных немало,
Я так и не сумел поесть хинкала,
Аварского хинкала с чесноком.
Перевели стихотворение супруги Капиевы, но остались им недовольны.
«Это было необыкновенно, непривычно! — писала Наталья Капиева. — О родине, о Москве в ту пору засилья риторики и гремящих гипербол принято было писать в тонах приподнятых, одических. Говорить о любви задушевно, не повышая голоса, тогда в молодых литературах ещё мало кто умел. Да и приравнивалось это чуть ли не к смертному греху индивидуализма. А здесь вдруг к тому же ещё и юмор! Восхищение Москвой, так сказать, “наоборот” — через высмеивание вкусов и пристрастий дремучего аульного обывателя. Вдвоём с Эффенди мы тогда же сделали литературный перевод “Недостатков Москвы”. Переводили старательно. Все хотели сохранить точно, как у автора. А получилось... грамотно, тяжеловесно и совсем не смешно. Едкая соль гамзатовского юмора улетучилась. Остался лишь слабый привкус. С переводчиками Цадасе вообще долго не везло. Ни смех его, ни тем более гневная желчь его сатиры не давались даже таким талантливым поэтам, как А. Архангельский — создатель превосходных эпиграмм и пародий».
Съезд открылся 17 августа в Колонном зале Дома союзов. Почти 600 делегатов, включая зарубежных писателей. Щедрая забота, способная навеять образы грядущего коммунизма, и зоркий партийный контроль.
Писатели, большей частью, говорили в нужном русле, но в партийные установки укладывались не все. Некоторые пытались дискутировать, в кулуарах сравнивали съезд с бесконечным революционным митингом и на все лады трактовали провозглашённый главным писателем Максимом Горьким метод «социалистического реализма». Что это такое на деле, понять было сложно, у каждого хорошего писателя был свой метод, свой стиль, свой реализм.
Между речами писателей, направляющими докладами известных партийных персон, здравицами в адрес вождей, в зал вбегали пионеры с горнами и барабанами, являлись рабочие и ткачихи, железнодорожники и крестьяне со своими наказами и призывами. Становилось понятным, кто должен стать героями стихов, романов и пьес.
Однако писатели говорили о том, что было им близко, и, будто спохватываясь, пытались «пристегнуть» к своим размышлениям новый партийный метод — официальное лекало для оценки творчества, существовавшее лишь в головах литературных начальников. Над съездом витал дух ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература»:
«В чём же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, “колёсиком и винтиком” одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса».
Жёсткие рамки соцреализма старался ослабить Николай Бухарин, пытаясь защитить свободу творчества. Этого ему не забыли.
Вениамин Каверин вспоминал: «Если попытаться передать самое общее впечатление от съезда, следует сказать, что размеренный характер его (когда почти в каждой речи говорилось о социалистическом реализме и многие заканчивались клятвами в верности и именем Сталина) переломился к концу — после доклада Бухарина о поэзии. Это было не только замечено, но и подхвачено, точно все только и ждали, когда же кончатся, наконец, бесконечные приветствия и восхваления — скучные, потому что они по необходимости носили слишком общий характер... Фадеев высказал опасение, что плоское понимание социалистического реализма может привести к “сусальной литературе”».
Горький выражал
уверенность в великом будущем советской литературы, но предложил выстроить и что-то вроде писательского ранжира:
«Население Союза социалистических республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует свою талантливость, однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о пятидесяти. А чтобы не обманываться — наметим пять гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые всё ещё недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его. К этому остатку нужно присоединить многие сотни кандидатов в союз и затем — сотни “начинающих” писателей во всех республиках и областях».
Участие дагестанских писателей не осталось незамеченным. Слово было предоставлено Сулейману Стальскому. Он рассказал о том, как тяжело было народу и поэтам при старом режиме, о ликвидации безграмотности, о новых дорогах, автомобилях и тракторах, о том, какие просторы открыла Дагестану и его культуре советская власть. Прочёл он и своё стихотворение в стиле ашугов, перевод которого зачитал поэт Александр Безыменский:
Не торопясь, сквозь зной и дождь,
Мы в дальность дальнюю пришли.
Товарищ Ленин — мудрый вождь,
Его увидеть мы пришли.
Голодной жизни дикий луг
Вспахал его могучий плуг.
Товарищ Сталин — вождь и друг,
К нему с приветом мы пришли...
Развеяв нашей жизни хмурь,
Мы солнце подняли в лазурь,
Живи наш Горький — вестник бурь,
Мы навестить тебя пришли...
Слова ашуга, не искушённого в теории литературы, зато говорившего искренне, как велела душа, вызвали, как отмечено в стенограмме, продолжительные бурные аплодисменты. Он и в самом деле произвёл большое впечатление. В заключительном слове о нём говорил и Алексей Максимович Горький: «На меня, и — я знаю — не только на меня, произвёл потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер XX века, изумительно прочёл их. Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создаёт Сулейман».
Расул Гамзатов писал о том, как сыновья Сулеймана пытались научить своего отца грамоте. Но им это не удалось: «Нет, дети. Как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегают, потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот проклятый карандаш».
Г. Лелевич (Лабори Гилелевич Калмансон), поэт и литературный критик, тоже бывший делегатом от Дагестана, говорил о литературе горцев и Гамзате Цадасе:
«Дагестанские советские писатели не хотят фигурировать на ролях этнографического ансамбля или экспонатов этнографического музея! До сих пор иногда бывает, что кое-кто в том только случае с интересом относится к дагестанскому поэту, ежели он щеголяет в старинной черкеске, пугает людей трёхаршинным кинжалом и знать ничего не знает, кроме дедовских былин. Тем, которые так любят эту экзотику времён Марлинского, полезно послушать хотя бы, что пишет о кинжале делегат настоящего съезда, народный поэт Дагестанской республики, престарелый аварский сатирик Гамзат из аула Цада:
Пора спросить у нашего народа,
Какую пользу видит он в кинжале?
Пора спросить, зачем кусок железа
Болтается на животе его?..
Кинжал — несчастье нашего народа.
Он пресекает жизни раньше срока.
Его придумали дурные люди,
Чтоб силой защищать своё добро».
Съезд оставил противоречивые впечатления. Но руководители страны остались им, в целом, довольны. Иосиф Сталин писал секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову, отвечавшему за организацию съезда писателей:
«Т-щу Жданову
I. Спасибо за письмо. Съезд, в общем, хорошо прошёл.
Правда: 1) доклад Горького получился несколько бледный с точки зрения советской литературы; 2) Бухарин подгадил, внеся элементы истерики в дискуссию (хорошо и ядовито отбрил его Д. Бедный); а ораторы почему-то не использовали известное решение ЦК о ликвидации РАППа, чтобы вскрыть ошибки последней, — но, несмотря на эти три нежелательные явления, съезд всё же получился хороший...
И. Сталин.
6. IX. 34 г.».
На родине Цадасу ждало ещё одно волнующее событие. Его сын Расул начал писать стихи.
НЕСКОЛЬКО ПЕРВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Творчество всегда покрыто флёром таинственности, оставаясь непостижимым и для самих поэтов, и для их читателей. Но порой автор задаёт загадки, на которые трудно ответить, то вспоминая что-то, то усомнившись в уже написанном, и размышляя, так ли всё было на самом деле. Но всегда первые строки, удачные или ещё слабые, остаются для поэта особенным событием, определившим его судьбу.
А дальше, дальше?..
Вот он, этот день:
Волнуясь, я стою на плоской крыше
И, шапку лихо сдвинув набекрень,
Стихи читаю армии мальчишек.
Стихи, стихи! Я душу в вас вложил,
Я вас судил всех прочих судей строже!..
Свою я песню первую сложил
Средь голых скал, на бычьей шкуре лежа
[15].
Первые строки — проба пера, заклинание, волшебное слово, открывающее дорогу в чудесный мир, завораживающее откровение, потрясающая встреча с чудом по имени Вдохновение.
На вопрос о природе творчества есть много ответов, но нет одного-единственного, с которым согласятся все. Тайна творчества многогранна и так же непостижима, как таинство любви.
Однажды ночью, с чувством незнакомым
Проснувшись над грядою облаков,
Я написал в тиши родного дома
Две строчки по двенадцати слогов.
...О первое моё стихотворенье!
Негаданно-нежданно ты пришло
И первые на свете треволненья
Мальчишескому сердцу принесло...
[16]
Поэтический талант Цадасы передался сыну. Нелегко было обрести свой поэтический голос при таком отце. Но именно суровая школа Цадасы помогла юному поэту найти свой путь.
«Однажды, усадив меня не то за уроки, не то за стихи, отец на минуту вышел из дома. Не успела закрыться за ним дверь, как я уже вскочил со стула и оказался на крыше сакли. Увидев меня, отец крикнул моей матери:
— Принеси мне верёвку, ту, что висит на гвозде.
— Зачем тебе?
— Я хочу привязать Расула к стулу, иначе из него не выйдет никакого толку, — отец спокойно, основательно прикрутил меня к стулу, тихонько стукнул по лбу и показал на бумагу: — Всё, что там, перенеси сюда!»
Но тогда Расулу не было свойственно прилежание. Как, впрочем, и позже. Больше всего остального его влекла сама поэзия. С ней он забывал обо всём, кроме того, что стихи должны быть услышаны. А ещё лучше — напечатаны. Обуреваемый жаждой славы, он предложил свои стихи школьной стенгазете. Проведя бессонную ночь в ожидании своего поэтического дебюта, Расул отправился в школу пораньше. У стенгазеты клубились первые читатели, поджидая автора. Но ждали не только они — Расула ждали первая слава и первое разочарование.
Кто право дал без ведома поэта
Его стихи жестоко сокращать?!
Со всей, конечно, строгостью за это
Редактор главный будет отвечать!
А вечером, на сцену клуба выйдя,
Я, сверстниками встреченный тепло,
Прочёл стихи в несокращённом виде
Притихшей редколлегии назло...
[17]
После стенной печати стихи Расула стали появляться на страницах газет, районных и городских. Появились первые отзывы. Одни были хорошими, вдохновляющими, другие...
Один из таких «других» отзывов помог Расулу обрести своё литературное имя.
Поначалу он подписывал свои стихи псевдонимом отца — «Цадаса». Но то, что было правильным в обычной жизни, оказалось неправильным в творческой судьбе. Люди, не ведавшие о его поэтических устремлениях, недоумевали: «Послушай, Расул, что случилось с твоим отцом? Раньше он писал такие хорошие запоминающиеся стихи, а теперь читаем-читаем, и ничего не можем понять». Расул понял, что за свои стихи он должен отвечать сам, и стал их подписывать «Расул Гамзатов».
Однако позже, когда талант Гамзатова окреп, уже другие начали говорить, что это отец пишет за него стихи. Это завистливое злопыхательство сопровождало Гамзатова многие годы, даже когда его отца уже не стало. Поэт отвечал, что Цадаса пишет за него и теперь.
Сыну от отца достались не только талант, но и замечательное чувство юмора, подкупающая самоирония, свойственная сильным личностям.
Цадаса ещё многие годы оставался требовательным наставником молодого поэта. О его первых опубликованных стихах, как вспоминал Расул Гамзатов, Цадаса говорил: «Если взять щипцы и порыться в этой золе, то можно найти уголёк хотя бы для того, чтобы прикурить папиросу».
Гамзатов признавал правоту отца. В беседе с Владимиром Коркиным он говорил: «Я считаю началом своей творческой жизни то время, когда люди стали меня читать, а не брать газету с моими стихами на раскурку. Первые стихи я писал к календарным датам, как метко определил Евтушенко, — это “датская поэзия”».
Но вернёмся к первым поэтическим опытам юного Расула. Об этом написано много и по-разному. Одно яркое воспоминание стало почти хрестоматийной легендой — о том, что первые стихи Расул написал под впечатлением потрясающего события — в Хунзах впервые прилетел самолёт, а на нём — знаменитый лётчик Георгий Байдуков.
«Я лежал на балконе сакли на шкуре быка и сочинял стихи о том, как соседские мальчики, отдыхающие в постели после одного мусульманского обряда (обрезания), внезапно вскочили и побежали к поляне, на которой впервые в истории Цада в 1934 году сделал посадку самолёт».
Гамзатов упоминает год 1934-й, но случилось это в 1937-м. Однако само событие остаётся весьма значимым в творческой судьбе поэта.
У памяти свой календарь, он отсчитывает не годы, а события.
ГЕОРГИЙ БАЙДУКОВ В ДАГЕСТАНЕ
Лётчика Байдукова знал весь мир. В 1936 году он с Валерием Чкаловым и Александром Беляковым совершил на самолёте АНТ-25 рекордный перелёт почти в 10 тысяч километров из Москвы до Сахалина через Северный Ледовитый океан. За этот подвиг все трое лётчиков получили звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина (золотых звёзд тогда ещё не было, они появились лишь в 1939 году). В июне 1937-го тот же экипаж и на том же самолёте совершил перелёт через Северный полюс от Москвы до американского Ванкувера.
Теперь знаменитый лётчик испытывал первые серийные бомбардировщики. На одном из них — АНТ-40, или СБ (скоростной бомбардировщик), Байдуков и прилетел в Дагестан.
Этому послужили два важных обстоятельства. Во-первых, Байдуков был выдвинут в Совет национальностей Верховного Совета СССР от Дагестанской АССР, и ему хотелось встретиться со своими избирателями. Во-вторых, испытания самолёта продолжались, и было полезно посмотреть, как он поведёт себя в горных условиях. Начальство подумало и согласилось. К тому же было важно показать «силу настоящей социалистической индустриализации».
До того как лететь в Страну гор, будущий депутат постарался узнать о Дагестане как можно больше.
«Уходил 1937 год. Жителям одной шестой части планеты предстояли первые выборы в Верховный Совет Союза ССР, — писал Георгий Байдуков в своих мемуарах. — В свободное время хожу в библиотеки, ищу специальную литературу о Дагестане, обращаюсь в Исторический музей, Музей Революции. Наконец встречаюсь с изумительным человеком — большевиком, секретарём Дагестанского обкома ВКП(б) Максимом Фёдоровичем Сорокиным. Он рассказывает мне много интересного о Дагестанской республике. Сорокин похож на горца — черноволосый и черноглазый, красивый, энергичный. Спрашиваю его: “Вы местный житель?” Отвечает со смехом: “Лезгинку танцевать умею, на коне гарцую, а всех языков республики ещё не освоил...” — “А что, у вас многоязычие?” Искрящиеся юмором глаза смотрят на меня так, что мне кажется, я задал глупый или весьма элементарный вопрос. “Что вы смеётесь? Я же ни черта не знаю о Кавказе, кроме его Эльбруса, Казбека да причерноморских курортов и прикаспийской береговой линии”. Максим Фёдорович успокаивает: “Это уже порядочный объём знаний, но совершенно недостаточный для познания Дагестана”».
Долететь до Дагестана было несложно, труднее было найти место для посадки. Хунзах они с бортмехаником Максимовым наметили сразу, к тому же что-то припоминалось из Толстого и Лермонтова.
По пути они хотели сесть в Ботлихе или Агвали, но подходящей площадки не нашлось. На Хунзахском плато место было, но посредине торчал большой валун. Сесть всё же удалось, но самолёт немного забрался на склон горы, и Байдукову пришлось жать на тормоза, пока Максимов подкладывал под колёса камни, чтобы самолёт не скатился обратно и не съехал с противоположного склона.
«Пока мы осматривали свой СБ, убирали камни из-под колёс, выводили машину на ровное место, перед нами возникали люди — красиво одетые джигиты на лошадях, женщины, укутанные в покрывала, и вездесущие любопытные ребятишки».
Место, где приземлился бомбардировщик, располагалось недалеко от Цада, и вполне возможно, что среди примчавшихся поглазеть на чудо мальчишек был и Расул Гамзатов. Во всяком случае, в мемуарах Байдукова говорится о его встрече с Гамзатом Цадасой: «В Хунзахе я познакомился с очень интересным человеком — поэтом Гамзатом Цадасой. Это отец нашего Расула Гамзатова, великого аварского поэта, стихи которого знает не только Советский Союз, но и весь мир».
К лётчикам прискакал местный партиец: «Сейчас начнётся такое, что вы себе и представить не можете... Уже наш горный телефон от аула до аула известил, что вы прилетели в Хунзах. Горцы наверняка все бросились к нам... Они будут посещать вас и ваш самолёт несколько дней... Поймите, что жители вашего избирательного округа не видели ни живого лётчика, ни современного советского самолёта!»
Так оно и оказалось. Люди ошеломлённо разглядывали «железную птицу», осторожно её трогали и изумлённо цокали языками. Некоторые женщины жаловались, что от шума самолёта разбежалась домашняя птица, не перестают лаять собаки, а скотина отчаянно мычит и не хочет покидать хлев.
В Хунзахе лётчиков встречали с большим почётом. Трибуну на митинге украсили транспарантом «Привет Герою Советского Союза тов. Байдукову — отважному сыну нашей Родины!».
Гамзат Цадаса посвятил Байдукову стихи, в которых говорилось, что неспроста горцы решили избрать Байдукова своим депутатом, что они крепко подумали и признали его достойным доверия.
Сполна вкусив местного гостеприимства, лётчики показывали горцам самолёт, рассказывали про его разрушительную силу и не забывали добавить, что «этот скоростной бомбардировщик — произведение второй пятилетки социалистической индустриализации нашей страны». Интерес к ним не утихал, горцы все собирались и собирались. Это так тронуло Байдукова, что он предложил желающим полетать. Желающих оказалось много.
Опасный валун с поля был убран, и самолёт совершил несколько рейсов с изумлёнными горцами на борту.
Встречи с избирателями продолжились в других сёлах и районах. «И тут выяснилось, что я не такой уж плохой кавалерист. А когда мне пришлось появляться в аулах в седле, горцы срочно сшили черкеску, бурку, папаху, башлык и вручили мне вместе со старинной саблей отменной стали и двумя кинжалами».
О нём писали газеты, поэты слагали звонкие приветствия, а он присматривался к жителям гор, старался понять, как им живётся, размышлял, чем он будет полезен своим избирателям.
«После митинга в толпе людей примечаю средних лет мужчину, знакомлюсь. Его зовут Зархи. Отвечает на мои вопросы только положительно. По его словам, у него всё “карашо”. В разговоре выясняется, что Зархи, вступая в колхоз, сдал весь имевшийся скот и сельскохозяйственный инвентарь. Уточняю количество отданного в колхоз добра и понимаю: он был бедняком из бедняков. После работы в колхозе Зархи идёт батрачить к богачам. Сорокин подтверждает: “Процесс коллективизации далеко не завершён. Встречаем сильное сопротивление...”».
Возвращаясь в Москву, самолёт сделал круг над Дагестаном, который стал для лётчиков родным.
«Только когда остался позади Дагестан, — вспоминал Байдуков, — услышал грустный голос Максимова: “Бедный край достался тебе, командир! Очень бедный... Помогать придётся”».
И он помогал, чем мог. Как и 13 других депутатов, избранных от Дагестана. Когда в 1981 году Байдуков приезжал в Дагестан, то смог воочию убедиться, что то, о чём они говорили с Цадасой, о чём мечтали поэт и лётчик, сбылось.
Именем Георгия Байдукова были названы колхозы, школы, даже горный пик. И он вдохновил не только юного поэта Расула Гамзатова. С тех пор профессия лётчика стала желанной для многих дагестанских юношей и девушек. Многие из них добились больших высот. Появился в Дагестане и свой космонавт — Муса Манаров.
Первое стихотворение Расула Гамзатова так и осталось неизвестным. «Да и где найти то первое стихотворение? — сетовал поэт, беседуя с Владимиром Коркиным. — На самокрутки пошло, наверное».
ЛИКБЕЗ
Развернувшаяся по всей стране ликвидация безграмотности (ликбез) отразилась и на Дагестане. Здесь это движение шло даже активнее, чем в других местах. Горцы заново учились читать и писать.
Больше стало и учеников в школах, куда поначалу не все родители отпускали детей. Школьное образование было куда шире ликбеза, здесь учили многим предметам, и не только на родном, но и на русском языке. Повсюду выводили знаменитое «Мы — не рабы, рабы — не мы» из первой советской азбуки. Этот палиндром, фраза, которую можно было одинаково прочесть слева направо и обратно, имела и другой смысл. Если кто-то писал «не мы» слитно, то получалось образование с революционным акцентом — «рабы немы», а быть немым никто не желал.
Однако появилась другая проблема — остро не хватало учителей. Тогда было решено посылать старшеклассников на ускоренные педагогические курсы. Так четырнадцатилетний Расул Гамзатов оказался в Аварском педагогическом училище в городе Буйнакске. Его уже окончил старший брат Расула — Магомед, работавший теперь в Хунзахской школе, а второй брат — Ахильчи ещё продолжал там учиться.
Прежде город назывался Темир-Хан-Шурой, получив своё название, как гласит предание, от завоевателя Тимура, который некогда стоял здесь лагерем. Сам город возник вокруг царской крепости, считавшейся стратегическим форпостом на пути в горный Дагестан. Здесь же были резиденции командующего войсками и управляющего гражданской частью в Прикаспийском крае. Город был обнесён рвами, валами с орудийными редутами и считался совершенно неприступным. Однако наибу Шамиля Хаджи-Мурату удалось совершить удачный набег на крепость. Его целью был воинский начальник генерал-лейтенант князь Моисей Аргутинский-Долгорукий, но в темноте горцы перепутали его особняк с лазаретом.
Много лет Темир-Хан-Шура считалась столицей Дагестана. Здесь возводились красивые здания, соборы, больницы, учебные заведения. Здесь бывали многие знаменитости, включая Александра Дюма, изучавшего Кавказ и написавшего о нём книгу. Был построен и театр по образу Венской оперы, выступать в котором не считал зазорным даже Фёдор Шаляпин.
В годы Гражданской войны город переходил из рук в руки, пока в Дагестане не утвердилась советская власть. В 1922-м он был переименован в Буйнакск в честь одного из главных борцов за советскую власть Уллубия Буйнакского. Годом раньше другой город был переименован в честь Махача Дахадаева, яркого политического деятеля, организатора и руководителя Красной армии Дагестана. Бывший Порт-Петровск сначала был переименован Горским правительством в Шамиль-Калу, а затем уже стал Махачкалой, нынешней столицей республики. Возможно, последнее переименование могло бы оказаться не по душе самому Махаче Дахадаеву, который был женат на внучке имама Шамиля.
Аварское педагогическое училище, куда поступил Расул Гамзатов, располагалось в том самом особняке Аргутинского-Долгорукого, уцелевшем после набега Хаджи-Мурата. Аргутинский, вернее его памятник, пострадал уже при новой власти, когда Махача Дахадаев велел его снести.
Многое в жизни Гамзатова оказалось связанным с Буйнакском. В беседе с журналистом Далгатом Ахмедхановым он говорил: «Там я влюбился, там жила моя мама, там я участвовал в драках: меня били, и я бил других. Там учились мои братья. Это мой первый город после аула. И это не забывается».
Студенческая жизнь увлекла Расула, а его поэтический талант снискал ему популярность. Однако он унаследовал от отца и дар сатирика, который теперь приходилось отстаивать. Его выступления стенгазете, высмеивавшие нарушителей дисциплины и отстающих, оборачивались частыми стычками с обиженными студентами.
РЕПРЕССИИ
Молодость, весёлая студенческая жизнь, первая любовь, новые публикации в газетах — жизнь казалась прекрасной. Всё остальное, казалось, проходило стороной. И невозможно было осознать, что страна всё глубже погружается в пучину репрессий. Они приобрели зловещий размах после убийства Сергея Кирова, в котором обвинили агентов Льва Каменева и Григория Зиновьева из «троцкистско-зиновьевского центра».
Г. Лелевич, член правления дагестанского Союза писателей, так восторженно говоривший о Гамзате Цадасе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, ратовавший за развитие литературы Дагестана и поддерживавший партийное руководство литературой, был объявлен «троцкистским бандитом», арестован и расстрелян. Та же участь ждала его отца и сына.
Г. Лелевич был не только литературным критиком, но и поэтом. Он будто предчувствовал и своё будущее, когда написал:
Всю ночь огни горели в губчека.
Коллегия за полночь заседала.
Семенова усталая рука
Пятнадцать приговоров подписала.
И вот землёй засыпаны тела...
Семёнов сел в хрипящую машину,
И лишь на лбу высоком залегла
Ещё одна глубокая морщина.
Жертвами режима стали многие участники Первого съезда в Москве. Обвинения печатались как под копирку: враг народа, троцкист, изменник родины, вредитель, буржуазный националист. Изобретательности новых опричников не было предела, и беда могла коснуться любого.
«В 1937 году начались репрессии, и пострадали многие видные литераторы, творчество которых незадолго до этого горячо приветствовалось в Москве, — вспоминал Расул Гамзатов в беседе с Надеждой Тузовой. — В результате репрессий погиб Рабадан Нуров, Эффенди Капиев вынужден был оставить Дагестан и поселиться в Пятигорске, преследовали Аткая Аджаматова, врагом народа и буржуазным националистом объявили бывшего председателя Союза писателей Дагестана и министра просвещения Багаутдина Астемирова. Тогдашний председатель писательского союза Миши Бахшиев вспоминал, что в то время в Дагестане осталось два писателя: член СП Гамзат Цадаса и кандидат в члены Абуталиб Гафуров. Такой ураган пронёсся над писателями. Но, несмотря на репрессии, в те годы литература обогатилась новыми содержательными произведениями. Появился роман Раджаба Динмагомаева “Герои в шубах”, были написаны новые произведения С. Стальским, Г. Цадасой. Будучи в Сибири Б. Астемиров написал стихи “О Енисей!”, он знал, что в репрессиях виноват не русский народ, а отдельные личности, создавшие этот гнусный режим. Многие писатели погибли в лагерях. Им выдвигали самые нелепые обвинения. Так, Рабадана Нурова обвинили в том, что он ещё до революции был награждён за храбрость царскими орденами. Его обвинили в религиозности, спрашивая, почему героиня его книги ходит к могиле мужа по пятницам (пятница — благословенный день у мусульман. —
Ш. К.), он отвечал: “А вы что, хотите, чтобы она ходила туда по воскресеньям?” Его убили».
Чёрная волна репрессий могла унести и Гамзата Цадасу. Как унесла многих других, в том числе и шариатских судей, которые ещё продолжали судить по традиционной системе.
Лев Разгон свидетельствует в своей книге «Плен в своём Отечестве»:
«Пришёл из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от восьмидесяти лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканых одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались они от этой неподвижности только для того, чтобы делать намаз. Трущиеся около УРЧа зеки объяснили нам, что все они были “изъяты” для ликвидации в Дагестане феодальных пережитков. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам, судившим по адату, по обычаям и традициям. Чтобы обратить жителей Дагестана к более прогрессивным формам судопроизводства, всех стариков забрали, дали им — без исключения — по десятке и отправили умирать на Север».
И будто не существовало заверений Сталина, которые он дал горцам, когда объявлял автономию Дагестана, что «Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным правом, какое имеется и у других народов».
НОВЫЙ АЛФАВИТ
Несмотря на значительные успехи ликбеза, в феврале 1938 года дагестанцы вновь стали «неграмотными». «Латинизация» просуществовала почти десять лет, после чего была окончательно заменена алфавитом на кириллице. Снова пришлось переучиваться, в том числе и будущим учителям из Аварского педагогического училища. На этот раз реформа и адаптация новой системы к местным языкам прошли менее болезненно. Разница между алфавитами была не так велика, как между ними и арабской графикой. Теперь у всей страны был один алфавит, властям это многое облегчало. Принесло это пользу и горцам. Кроме прочих выгод, они могли теперь легче усваивать русский язык, читать всё, а не только «адаптированные» газеты, журналы и книги, учиться в лучших вузах страны, а писатели получили больше возможностей для публикаций во всей стране.
В 1939 году, завершив учёбу в педагогическом училище, Расул Гамзатов вернулся в родную школу учителем. Он ещё не раз будет возвращаться в родную школу и однажды напишет:
Я вновь пришёл сюда и сам не верю.
Вот класс, где я учился первый год.
Сейчас решусь, сейчас открою двери.
Захватит дух и сердце упадёт.
И босоногий мальчик, мне знакомый,
Встав со скамьи, стоявшей в том углу,
Навстречу побежит ко мне, седому.
И этой встречи я боюсь и жду
[18]-
К тому времени его отец был уже депутатом Верховного Совета Дагестана, человеком известным и влиятельным. А в начале 1939 года Цадасу наградили орденом, и он отозвался стихотворением «Когда передали по радио о награждении Гамзата орденом Трудового Красного Знамени»:
Песни мои — для людей труда,
Царская власть заглушала их,
Но слово свободы живёт всегда,
Свободен и ясен советский стих...
Я буду напорист в труде и смел,
Мне многое надо успеть.
Пока язык мой не онемел,
О новой жизни я буду петь
[19].
Когда он возвращался из Москвы, его встречали с невиданным размахом, искренне радуясь высокой награде и бросая ковры под колёса автомобиля, на котором Гамзат приехал в Цада. Это было событие, сравнимое разве что со спустившимся с небес Байдуковым.
Расул хотел порадовать отца своими творческими успехами. Он был учителем, но это мало его увлекало, его волновала лишь поэзия. Он писал даже на уроках, предоставляя ученикам самим постигать грамоту и правописание, лишь бы не мешали сочинять стихи. В успевающих у него ходили самые спокойные или те, кто своими шалостями давал повод к новому стихотворению.
Цадаса внимательно прочёл стихи сына, послушал, что говорят о них люди, посмотрел, что пишут в газетах. Видимо, он увидел в стихах сына много знакомого — в стиле, в речевых оборотах, в деталях. Возможно, это привело его к мысли, что те, кто поговаривал, будто он сам пишет за сына стихи, были в чём-то правы. Он объяснял сыну, что писать стихи — это ещё не значит стать поэтом. Что поэзия должна быть неповторимой, иметь своё лицо. Но Расулу ещё трудно было понять отца.
Суть дела объяснили ему простые горцы. «Когда отец работал в Хунзахе, недалеко от Цада, — писал позже Расул Гамзатов, — у него была своя дорога, он по этой дороге сочинял стихи, я тоже решил по этой дороге пойти, но мне старики говорили — отцовскую дорогу оставь, если ты поэт — найди собственную дорогу». Поэт признавался, что учился писать у отца, но влияние его было столь сильным, что поначалу мешало ему обрести свой голос. Позже Гамзатов напишет:
Горная тропа, куда же делась
Сила, вдохновлявшая отца?
Шёл я по тропе, а мне не пелось,
И казалось, нету ей конца.
Но услышал как-то, слава Богу,
Я знакомый голос впереди:
«Мой сынок, ищи свою дорогу,
Проторённой тропкой не иди!»
[20]
И добавит об отцовской тропе:
«Мой отец всегда ходил в Хунзах не общей дорогой, а по своей собственной тропинке. Он её наметил, он её проторил, он ходил по ней каждое утро и каждый вечер. На своей тропе отец умел находить удивительные цветы. Он собирал их в ещё более удивительные букеты. Зимой и справа, и слева от тропы он лепил из свежего снега маленькие скульптурки людей, лошадей, всадников. Жители Цада и жители Хунзаха приходили потом любоваться на эти фигурки. Давно завяли и высохли те букеты, давно растаяли фигурки, вылепленные из снега. Но цветы Дагестана, но образы горцев живы в стихах отца».
ТЕАТР
Школа и театр находились в Аранинской крепости, неподалёку друг от друга. И стоило Расулу задуматься над новой поэтической строкой, повторить про себя сочинённую по пути строфу, как оказывалось, что ноги привели его в театр. Пусть это не было его главным призванием, но всё же было искусством, неразрывно связанным с настоящей литературой.
В конце концов он оставил школу и окончательно перебрался в театр.
Махмуд Абдулхаликов написал книгу воспоминаний «Мой театр», в которой немало сказано о театральной карьере Расула Гамзатова. Его назначили помощником режиссёра, а заодно, как человеку грамотному и склонному к литературе, доверили литературную часть. Гамзатов относился к литературной основе спектаклей с особой ответственностью, когда на сцене шло действие, он зорко следил за ним из суфлёрской будки. «В некоторых спектаклях мне доставались незначительные роли, — вспоминал Расул Гамзатов, — но чаще всего я сидел в будке суфлёра. Мне, молодому поэту, нравилась роль суфлёра больше всех остальных ролей. Мне казалась второстепенной и необязательной игра артистов, их мимика, жесты, передвижение по сцене. Мне казались второстепенными костюмы, грим, декорации. Одно я считал важнее всего на свете — слово. Ревниво следил за тем, чтобы актёры не перевирали слова, чтобы они правильно их произносили. И если какой-нибудь актёр пропускал слово или искажал его, я высовывался из своей будки и на весь зал произносил это слово правильно. Да, текст и слово я считал важнее всего, потому что слово может жить и без костюма, и без грима — его смысл будет понятен зрителям».
Играть приходилось не только в клубе, на более или менее оборудованной сцене, театр много гастролировал. Добираться до аулов было непросто. Где-то и вовсе не было дорог, одни вьючные тропы. Выручали ослы, если удавалось их раздобыть. На них и возили театральный реквизит. А чаще тащили его на собственных спинах, даже через заснеженные перевалы.
Их ждали везде, и каждый раз это был праздник. Как встречали артистов, вспоминал Махмуд Абдулхаликов: «Кому первым удавалось подойти к артисту и пригласить в гости, тот и становился его кунаком... За час до начала основных выступлений артистов начинались танцы, лезгинка с зурной и барабаном. На звуки музыки сразу собирались сельчане. Было большим счастьем, если в селе оказался электромотор. Если его не было, зажигали керосиновые лампы и при их свете начинались выступления. Бывали случаи, когда зажигали костры для освещения... Так, пешком обойдя весь Аваристан, артисты возвращались в центр нагорного Дагестана — родной Хунзах».
Сцены обычно сооружались на годекане, где всегда находилась пара брёвен или скамеек, на которых обычно сидели аксакалы, обсуждая сельские дела. Остальные стулья или табуретки зрители приносили с собой. Если были и навес или крыша — дело облегчалось. Если их не было и вдруг начинался дождь, спектакль переносили, а до той поры отправлялись в гости к кунакам, где пели песни, танцевали и пировали. Расула часто приглашали в сельские школы, чтобы сын самого Гамзата почитал им свои стихи. Кто-то хвалил его стихи, кто-то ругал, но в горах его уже считали поэтом.
«Помню, с этим же театром я впервые приехал в знаменитый высокогорный аул Гуниб, — писал Гамзатов. — Известно, что поэт поэту кунак, хотя бы они и не были знакомы. В Гунибе как раз жил поэт, о котором я слышал, но встречаться с которым раньше не приходилось. К этому поэту я пришёл в гости, у него же я остановился на дни наших гастролей.
Добрые хозяева приняли меня так хорошо, что мне было даже неловко, я не знал, куда себя деть. Особенно же запомнилась мне ласковая доброта матери поэта.
Уезжая, я не находил слов для благодарности. Получилось так, что с матерью поэта я прощался, когда в комнате никого не было. Я знал, что для матери не может быть ничего радостнее, если скажут хорошее слово о её сыне. И хотя я очень трезво смотрел на очень скромные способности гунибского поэта, всё же я начал робко хвалить его. Я стал говорить матери, что её сын — очень передовой поэт, пишет всегда на злободневные темы.
— Может, он и передовой, — грустно перебила меня мать, — но у него нет таланта. Может быть, его стихи и злободневны, но, когда я начинаю их читать, мне становится скучно. Ты только подумай, Расул, как получается. Когда сын учился произносить первые слова, которые и понять-то было нельзя, я несказанно радовалась. А теперь, когда он научился не только говорить, но и писать стихи, мне скучно. Говорят, что ум женщины лежит на подоле её платья. Пока она сидит, он при ней, но стоит ей встать, как ум скатывается и падает на пол. Так и мой сын: пока сидит за столом, обедает — говорит нормально, всё бы слушала, но пока он идёт от обеденного стола до письменного, он теряет все простые и хорошие слова. Остаются только казённые, серые, скучные».
Моему другу-поэту, о котором
его мать, старая аварка, сказала
Когда-то говорить он не умел,
И всё же, мать, я сына понимала,
Давно заговорил он и запел,
И понимать его я перестала
[21].
В странствиях комедиантов по горам Расул лучше узнавал свой народ, его культуру и традиции. В каждом селе было что-то своё, неповторимое, как в хорошей поэзии. Новые впечатления дарили молодому поэту богатый материал для творчества, и многое воплотилось в стихи.
Театральная жизнь многое открыла молодому поэту. Драматургия, где каждое слово сродни действию, научила его дорожить словом и избегать излишеств. Пьесы мировых классиков, которые он знал наизусть, стали отличной школой драматургии. Умение вживаться в образы тоже оказалось в жизни не лишним.
Не обходилось и без курьёзов. Махмуд Абдулхаликов вспоминал:
«Аварский театр показывал спектакль по пьесе Р. Фатуева “Горцы”. Расул был суфлёром. По ходу спектакля герой пьесы Айгази (роль эту играл Абдурахман Магаев), скрывающийся в горах от кровной мести, ночью пришёл в аул, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Она же уговаривает его скорее уйти обратно в горы, а то убьют. Но Айгази говорит ей о любви, обнимает. Тут произошло неожиданное. На сцену вдруг выбежала жена Магаева и набросилась на мужа. Магаев схватил жену, утащил за кулисы. Возлюбленная осталась одна, жена вцепилась в Магаева и не пустила его на сцену. Получилась заминка. Расул, который сидел в суфлёрской будке, выскочил из неё на сцену и сказал возлюбленной все те слова, которые должен был говорить Айгази — Магаев. После спектакля Расул Гамзатович, довольный своим поступком, сказал: “Возможно, для зрителей драма превратилась в комедию, но они поняли содержание пьесы, а это я считаю самым главным”».
Театр рос, появлялись новые актёры, Расул уже и сам пробовал режиссировать. Гастролей становилось больше, театр не просто ждали, писали в руководящие органы, требуя прислать Аварский театр. Но после спектаклей, вдоволь повеселившись, люди становились задумчивыми и всё чаще спрашивали, будет ли война. Финская война была недолгой, но кровопролитной. С гитлеровской Германией, подминавшей Европу, был заключён пакт о ненападении. Сходились на том, что Гитлер не может тягаться со Сталиным, а Германия — с огромным Советским Союзом. Но всё же было тревожно.
Стали возить с собой большую карту мира, чтобы наглядно показать ничтожность Германии по сравнению с гигантским СССР. А Расул читал горцам заметки из газет, одна из них рассказывала о событии необычайной значимости — в начале июня 1941 года в Государственном историческом музее на Красной площади открылась выставка «Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля».
Горцы наполнялись гордостью за великого земляка. Это и в самом деле было удивительное событие. Наследие многих выдающихся деятелей мировой истории становилось жертвой политической конъюнктуры. Не избежал этой участи и имам Шамиль. Не раз героя национально-освободительной войны пытались превратить в агента иностранных держав и едва ли не в борца против советской власти. Когда же обстоятельства менялись, Шамиль вновь обретал статус народного героя.
«СУНДУК БЕДСТВИЙ»
«В тот день жизнь должна была идти своим чередом. В Хунзахе — воскресный базар. В крепости — выставка достижений сельского хозяйства... — вспоминал Расул Гамзатов. — Аварский театр готовил к постановке пьесу моего отца “Сундук бедствий”. Вечером должна была состояться премьера. Но утром открылся такой сундук бедствий, что все остальные бедствия пришлось забыть. Утром началась война».
В тот роковой день 22 июня 1941 года Гамзат Цадаса, лечившийся в санатории, собирался на очередную процедуру. О ней, как и о санатории, пришлось забыть. Теперь нужно было думать не о себе, а о родине.
Люди не могли поверить, что это случилось. Их ведь много лет убеждали, что если кто-то вздумает напасть на СССР, то расплата будет быстрой и «воевать будем на чужой территории».
Но у женщин уже холодели сердца от мрачных предчувствий. Позже Расул Гамзатов напишет от лица матери:
«Что двое дерутся, я часто видала.
Случается им тесновато меж скал.
Но как же все люди взялись за кинжал?..
Неужто Земли человечеству мало?!
Кончались все драки по первому знаку:
Я брошу платок — пресекается драка.
Неужто покончить с войной не могли,
Сорвав свои шали, все мамы Земли?!»
[22]
В полдень народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил по радио: «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...»
Молотов закончил выступление фразой, которая стала символом будущей победы: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Повсюду шли митинги и народные сходы. И наступала гнетущая тишина, когда по радио раздавался голос Юрия Левитана: «Внимание! Говорит Москва!..»
Народ поднимался на защиту родины. А по Дагестану расходились пламенные стихи Цадасы «Жизнь и родина», в которых отразилась боль за родину и детей, идущих её защищать:
Любимый отец мой, родимая мать!
Мне горько и тягостно вас покидать.
Но знайте, вовек не удержат бойца
Ни матери слёзы, ни горе отца.
Отчизна счастливою жизнью живёт.
Предавший отчизну — себя предаёт.
Смерть нас отыщет в дому и в бою.
Отчизну в беде не оставлю свою...
[23]
Гамзат Цадаса писал о том, что глубоко переживал сам. Двое его сыновей ушли на фронт. Магомед — в первые дни. Ахильчи ещё не подходил по возрасту, но вскоре ушёл и он.
«Тотчас потянулись из разных аулов цепочки мужчин и молодых людей, вчера ещё мирных пастухов и земледельцев, а сегодня защитников Родины, — вспоминал Расул Гамзатов. — Старушки, дети и женщины стояли на крышах всех дагестанских аулов и долго глядели вслед уходящим. И уходили надолго, многие навсегда. Только и слышалось:
— Прощай, мама.
— Будь здоров,отец.
— До свидания, Дагестан.
— Счастливой дороги вам, дети, возвращайтесь с победой.
Из Махачкалы, как бы отделяя горы от моря, идут и идут поезда. Они увозят молодость, силу, красоту Дагестана. Эта сила понадобилась всей стране. Слышалось то и дело:
— До свидания, невеста.
— Прощай, жена.
— Не оставляй меня, я хочу с тобой.
— Вернёмся с победой!»
Почти 200 тысяч дагестанцев ушли на войну. Шли пе-
шие, мчались всадники, собираясь в эскадроны. Провожали их на фронт и первые песни на стихи Расула Гамзатова, созданные народными певцами.
Ушли на фронт и многие дагестанские писатели. Они воевали и писали пламенные стихи, воззвания, вдохновлявшие воинов на борьбу против агрессора, посягнувшего на общую для всех родину. Встали на боевые литературные посты и те, кто ещё оставался в тылу.
Когда 3 июля Сталин обратился к народу со словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!..», стало ясно, что быстрой победы не
будет. Призывной возраст был снижен, и Ахильчи, второй сын Гамзата Цадасы, тоже ушёл на войну вслед за старшим братом.
К тому времени семья уже перебралась в Махачкалу по просьбе Дагестанского правительства. Перо Гамзата Цадасы, депутата Верховного Совета, было острее штыка, и он неустанно разил врага словом.
Всё вокруг стремительно менялось: «Всё для фронта, всё для победы!» На север уходили эшелоны с бойцами, а в Дагестан прибывали эшелоны с эвакуированными и ранеными. Повсюду разворачивались госпитали, восстанавливались эвакуированные заводы и открывались такие же эвакуированные учебные заведения.
Произошли изменения и в Аварском театре.
Махмуд Абдулхаликов вспоминал: «Почти все артисты аварского театра тоже ушли на фронт. Как сегодня помню, как у Хунзахского райвоенкомата собралось много народа провожать на фронт группу любимых артистов. Пришлось заново составить концертную программу, вести агитационную работу, призывать горцев защищать Родину, помогать фронту, рассказывать народу о подвигах советских воинов, сатирически изображать тех одиночек, которые уклонялись под разными предлогами от призыва в армию. Всё это было основной целью театра».
«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Расул Гамзатов теперь делил театр и поэзию с агитационной работой. Став корреспондентом газеты «Большевик гор», он писал очерки, статьи, заметки, описывал трудовые подвиги, рассказывал о героизме горцев на фронтах и зверствах немецко-фашистских захватчиков.
«В каждой воинской части, у моряков, у пехотинцев, у танкистов, у лётчиков, у артиллеристов — всюду можно было встретить дагестанца: стрелка, пилота, командира, партизана. Со всех обширных фронтов стекались в маленький Дагестан скорбные письма».
Возмужала и его поэзия, всё больше в ней становилось гражданственности и патриотизма:
Во гневе душа моя, сердце в огне.
И вот в тишине на расстеленной бурке,
Взяв в руки пандур свой, в тревоге и в муке
Я песню слагаю о грозной войне.
Ровесник и друг, обращаюсь к тебе:
Летят повсеместно недобрые вести,
Встань вместе с народом для праведной мести,
Будь стоек и честен в жестокой борьбе!
Перо обмакнув не в чернила, а кровь,
Я ночью пишу эти гневные строчки.
А точный напев подберут без отсрочки
И ненависть наша, и наша любовь
[24].
Из Дагестана на север уходили всё новые эшелоны. И не только с солдатами. Поставлялась нефть, строились бронепоезда, производилось нужное фронту оружие, бомбы, торпеды. Горцы помогали фронту продовольствием, одеждой, слали посылки.
Айшат Гаджиева вспоминала: «Мне было семь лет, когда папа на войну уходил. Мама в войну работала на фабрике по пошиву одежды в Хунзахе, в ханском доме ателье было, для армии шили перчатки, штаны, фуражки, кители-сталинки. В селе работа была — тяжёлый труд, всё отправляли, нам немного картофеля оставалось. Люди голодали».
Положение на фронтах становилось всё тяжелее. Началась блокада Ленинграда. Но с победой под Москвой появилась надежда.
Гамзат Цадаса писал:
С единым кличем: «За Москву! Вперёд!
За Родину! Погибель вражьим сворам!»
И враг отведал наш кулак стальной —
И от Москвы отброшен был с позором
[25].
Но на Кавказском фронте легче не становилось. Он приближался к Дагестану. Гитлеровцы рвались к нефти, грозненской и особенно к бакинской, путь к которой лежал через Дагестан. Нефть теперь можно было перевозить только по морю до Волги, но немецкие самолёты уже долетали и до Каспия. Несколько бомб упало на Махачкалу.
В горы забрасывали парашютистов-диверсантов, шпионов и агентов разных мастей. Немецкое командование надеялось организовать в тылу Красной армии повстанческое движение из дезертиров, уклонистов и недовольных советской властью. После «раскулачивания», «перегибов» и вала репрессий таких было немало. С ними боролись отряды, которые в горах прозвали «бандоловами». Эта борьба усилилась после введения в Дагестане военного положения, планы немецкого командования провалились.
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
Театр скрашивал тяжёлые будни военного времени. Кино горцы видели редко. Кинопередвижки не часто добирались до горных высот. Но один фильм заставил людей из отдалённых селений спешить туда, куда киномеханик всё же добирался. Фильм Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» горцы полюбили как никакой другой. Когда театр и кино оказывались в одном месте, сеансы совмещали с представлением.
На стену вешали полотнище, киномеханик включал свой аппарат и принимался крутить ручку. Зрители сидели, стояли, смотрели с крыш, а мальчишки сидели на деревьях и телеграфных столбах. Когда фильм кончался, никто не расходился, требовали повторить, убеждая киномеханика, что не успели прочитать все титры, которые были на аварском языке, если фильм показывали в аварских районах.
Причиной особенной популярности фильма у горцев был его главный герой — дагестанский пастух Мусаиб. «Орел с далёких гор! Трудом своим упорным, неустанным одолевать преграды он привык. Он овцевод, питомец Дагестана! Гатуев Мусаиб — передовик!» — представляли его в фильме. Его замечательно играл Владимир Зельдин. Марина Ладынина, игравшая свинарку Глашу, горцам тоже нравилась. Любовь передовиков, встретившихся на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, и забавные перипетии их романа трогали всех. На то, что она была свинаркой, внимания старались не обращать, это животное не пользовалось у мусульман уважением, хотя некоторые говорили, что лучше бы она была, например, птичницей. Но считалось, что это символизировало дружбу народов, а птичницей, полагали горцы, она ещё станет, когда выйдет замуж и переедет в Дагестан.
Удивляла горцев и осетинская фамилия героя — Гатуев. Они знали одного Гатуева — Дзахо, автора популярной тогда книги про абрека Зелимхана. Гатуев был репрессирован и расстрелян в 1938 году, этого горцы не знали.
Горы, схватка Мусаиба с волками, приметы родного быта — всё грело душу горцев. Но особый восторг вызывало письмо, которое Мусаиб писал Глаше, вернее пел, а пастушок Гаджи записывал. Причём записывал на аварском языке. Люди просили остановить фильм на нужном месте, чтобы подойти к экрану и лично в этом убедиться. И хохотали до слёз, когда в деревне у Глаши никто не мог это письмо перевести, даже полиглот — армянин: «Грузинский, армянский, азербайджанский знаю, этот не знаю».
Некоторые места поясняли артисты театра, а потом ещё и пели на аварском, в переводе Расула Гамзатова:
Хорошо на московском просторе,
Светят звёзды Кремля в синеве,
И как реки встречаются в море,
Так встречаются люди в Москве...
И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я траве,
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве.
Фильм был светлым и оптимистичным: цветущая Москва, мирные сёла, смех и улыбки, любовь и надежда на счастье. И вдруг всё это закончилось, будто опустился тяжёлый светомаскировочный занавес.
Автор музыки Тихон Хренников вспоминал: «Одно время этот фильм доставил мне много неприятных переживаний. Сначала я влюбился в эту историю. Но когда мы уже заканчивали картину, началась война. Наши отступают, везде паника, уныние, а тут мы со своей любовью. Но всё-таки закончили фильм к сентябрю 1941 года. А потом как-то утром открываю “Правду”, а там статья Алексея Толстого, который пишет, что “Свинарка и пастух” — это потрясающий фильм, что там изображена наша, советская жизнь, за которую мы все сейчас боремся. И наша картина вдруг сделалась самой актуальной. Мало того, нас выдвигают на Сталинскую премию!»
Премию фильм получил, в стране ему не было равных по популярности.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Опять пленён...
Был мальчиком когда-то,
Пришла любовь и, розу оброни,
Открыла тайну своего адата
И сразу взрослым сделала меня.
По гребням лет не в образе богини,
А женщиной из плоти и огня,
Она ко мне является поныне
И превращает в мальчика меня
[26].
Это случилось в Махачкале. Война изменила многое, но отменить любовь, которая вспыхнула в сердце молодого поэта, не в силах была даже она. Это спасительное чудо было сильнее законов военного времени. Вечерами, забывая обо всём, Расул стоял под окнами очаровавшей его девушки, прячась за деревьями, чтобы её родители не заметили ухажёра. Он был счастлив, если удавалось увидеть хотя бы дорогой силуэт, а губы его шептали стихи, которые будто сами являлись, как награда за чистые светлые чувства.
Несколько робких свиданий ошеломили. Расул не узнавал себя, взрослого, как ему казалось, к тому же — поэта. Это хрупкое создание превратило его в неуклюжего стеснительного увальня, не смеющего произнести слова, которые разве что не были написаны у него на лбу.
Но всё вдруг оборвалось, она уехала с отцом, которого перевели на работу в другой город. Образ той девушки остался в сердце поэта и отразился в его воспоминаниях.
Закрыто наглухо твоё окно.
Смотрю, под ним трава растёт давно,
Трава длиннее, чем моя рука,
И зеленее, чем Койсу-река...
Траве расти я раньше не давал.
Я утром, в полдень, в полночь здесь бывал,
Топтал песок я, не жалея ног,
Здесь виден был лишь след моих сапог
[27].
Расул долго не мог очнуться от того неудачного романа, но затем влюбился ещё сильнее. Патимат, дочь поэта, рассказывала в интервью Таисии Бахаревой о том его увлечении:
«Его возлюбленная была художницей, она рано ушла из жизни, оставив после себя несколько картин и разбитое сердце поэта».
Я это помню, как сегодня:
Мне — восемнадцать лет всего,
И я пишу ей писем сотни,
Чтоб не послать ни одного.
Я столько вкладывал старанья,
Терпенья, мужества и сил,
Боялся знаков препинанья
И непокорности чернил!
[28]
РЕШАЮЩИЙ ГОД
В июле 1942 года началась грандиозная Сталинградская битва, которую нельзя было проиграть. Страна напрягала последние силы, чтобы выстоять. «Всё для фронта, всё для победы!» — под этим лозунгом народ жил и шёл на смерть.
Расул Гамзатов стал членом Антифашистского комитета молодёжи. Работы прибавлялось с каждым днём: вдохновляющие стихи были нужны повсюду — на оборонительных стройках, военных заводах, митингах и собраниях, в госпиталях и на призывных пунктах. Выступать приходилось и на радио, которое стало главным средством информирования и агитации.
В 1942 году Гамзат Цадаса написал для Аварского театра пьесу «Базалай». Пьеса была о войне и пользовалась большим успехом.
«Война показала, сколько духовных сил у него в запасе, — писала Наталья Капиева. — Раскрылась новая сторона его дарования. Он создал вошедшие в быт лирические песни, письма-послания, плачи, прославления героев... Воины присылали ему с фронта просьбы сочинить песню на случай рождения сына или в подарок невесте, и Цадаса охотно откликался на такие “заказы”. А когда переписка его с фронтовиками разрослась и отвечать всем старик был уже не в состоянии, он предложил выпускать открытые письма “Дагестан своим фронтовикам”. И письма эти, подобные маленьким лирическим газетам, регулярно выходили в Дагестане с 1943 года на семи языках дагестанских народов».
Расул помогал отцу, готовил тексты к печати, добавлял свои. А когда матери просили его написать от них письмо сыновьям на фронт, он писал их тепло и трогательно.
Следующий год стал переломным. Победа в Сталинградской битве изменила ход войны.
СТАЛИН И РЕЛИГИЯ
Случилось и ещё одно важное событие. Сталин вынужденно или нет, но признал значение религии для народа, патриотизм священнослужителей, которые в своих проповедях призывали паству на борьбу с врагами отчизны. Антирелигиозная пропаганда была прекращена, вновь открылись церкви и мечети, закрытые большевиками, и даже выпущены из лагерей священнослужители, которых не успели расстрелять. Это было тем более важно, что на оккупированных территориях немцы не препятствовали восстановлению закрытых большевиками храмов, и это мешало сталинской пропаганде. В современной историографии встречаются упоминания о том, что и сам Верховный главнокомандующий стал наведываться в храм, где молился и исповедовался.
«Реабилитирован» был и имам Шамиль, деятельность которого если и не осуждалась с высоких трибун, то явно замалчивалась. В стране не должно было быть иных героев, кроме Сталина. Но теперь горцев призывали бороться за свободу родины, как боролся Шамиль.
Этот поворот в вопросах национального духовного самосознания вдохновил Гамзата Цадасу на создание произведения о Шамиле.
Шамиль
В храбреца, чей подвиг смелый
Карлом Марксом оценён,
С бранным визгом мечет стрелы
Тот, кто разума лишён...
Кто осудит ратоборца,
Чья прославилась борьба
Потому, что сердце горца
Сердцем не было раба?
Кто осудит человека.
Кто в горах гремел, как гром.
Что сражался четверть века
С притеснителем царём?
Значит, царь в года былые
Прав был, а Шамиль не прав?
Почему ж народ России
Сверг царя, престол поправ?..
[29]
Население Дагестана восприняло перемены с патриотическим энтузиазмом. Люди активно включились в движение по передаче в Фонд обороны денежных накоплений.
В газетах публиковались впечатляющие примеры самоотверженного патриотизма тружеников тыла:
«Москва, Кремль
Товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В прошлом мы были бесправные, обездоленные, полунищие.
Благодаря Советской власти, большевистской партии и лично Вашей заботе о нас — горцах Дагестана, колхозники нашей республики добились культурной и зажиточной жизни.
Желая помочь своей Родине, героической Красной Армии, я лично внёс в Госбанк 201 тысячу рублей на строительство танковой колонны “Шамиль”. Пусть танк, построенный на мои трудовые деньги, приблизит час разгрома гитлеровских людоедов.
Привет Вам, товарищ Сталин, и нашей родной Красной Армии.
Председатель колхоза им. Дзержинского,
Левашинского района, Дагестанской АССР
Сидаев Магомед».
И ответ Сталина:
«Колхоз Им. Дзержинского,
Левашинского района, Дагестанской АССР
Председателю колхоза тов. Силаеву Магомеду
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Сидаев, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.
И. Сталин».
«Потом появились: эскадрилья истребителей “Дагестан”, танковая колонна “Шамиль”, бронепоезд “Комсомол Дагестана”, — писал Расул Гамзатов. — Отцы и дети воюют в одном ряду. Воинская доблесть снова засветилась над горами. Браслеты, серьги, пояса, кольца, подарки женихов, мужей и отцов, серебро и золото, драгоценные камни, старинное искусство Дагестана наши женщины отдали большой стране, чтобы она ковала победу».
ПЕРВАЯ КНИГА
Тогда же, в 1943-м, вышла первая книга Расула Гамзатова на аварском языке «Пламенная любовь и жгучая ненависть». Некоторые стихи из книги были положены на музыку, с ними бойцы уходили на фронт. Но в более поздние сборники Гамзатов их почти не включал, считая те стихи недостаточно зрелыми. Он говорил, что это было его литературное детство и что он, увы, не Петрарка, не Хайям и не Бёрнс, которые вошли в литературу гениями. И добавлял: «Всё же надо признаться в том, что тогда я был довольно высокого мнения о своих стихах. Мне дороже всех моих книг самая незрелая, но зато — самая первая. Могу ли я забыть свою радость, когда, прочитав эту книгу, девушки-горянки прислали мне письмо? Могу ли я забыть свою обиду, когда увидел, как чабан на зимнем пастбище использовал её страницы для самокрутки?.. Было это в 1943 году, когда я уже брился, курил и почти ежедневно влюблялся... Время пахло порохом и было пропитано кровью. А мой возраст был возрастом любви. Увы, любовь стала ненавистью. ...Но вот я написал поэму, посвящённую дагестанцу — Герою Советского Союза Сааду Алиеву. Бедняжка поэма попалась в руки аварскому поэту Гаджи Залову. И он довольно крепко её избил. Я тоже не дремал и разнёс в пух и прах его книжку “Бой часов”. Время показало, что мы оба были правы».
СОВЕТ КАЛИЕВА
Это уже размышления зрелого мастера, но тогда, в войну, выход книги двадцатилетнего поэта стал событием судьбоносным, для многих невероятным, а для самого Гамзатова ошеломляющим. Он ставил первые автографы, дарил книгу друзьям, редакциям, школам. Выступал на митингах и вечерах.
С этой книгой его в том же году приняли в Союз советских писателей СССР. Он теперь считался настоящим поэтом, несмотря на все литературные огрехи. Тогда же были переведены на русский язык несколько стихотворений из первой книги. Расул Гамзатов решил показать их сведущему в этом человеку, а главным авторитетом по этой части был для него Эффенди Капиев, переводивший на русский язык дагестанских поэтов.
Капиева на фронт не брали, его давно мучила язвенная болезнь. Но он рвался на передовую. Не бойцом, так корреспондентом. Мариэтта Чудакова писала о той его поре: «Мои ровесники и друзья все на фронте, — писал он товарищу осенью 1941 года. — “На фронт! На фронт!” — кричу я и бью крыльями об стол... Тщетно! Военной специальности у меня нет, корреспондентов и без меня, видно, хватает, а в качестве рядового пока не берут: вернули до особого приказа”. Пока Капиев по распоряжению Пятигорского городского комитета обороны выступал с чтением своих стихов в рабочих клубах, работал в возродившихся теперь “Окнах сатиры” — писал агитационные стихотворные подписи для карикатур на фашистов:
Мы сухим держали порох,
Каждый колос стал штыком,
Грозным танком — каждый сноп,
Стали птицы “ястребками”
Над кровавыми врагами.
Каждый камень вместе с нами
Бьёт фашистов в подлый лоб!
В январе 1942 года Капиев впервые выехал на фронт. Он был командирован в Ставропольскую кавалерийскую дивизию “для написания книги о её героях и героических делах”. “Завтра едем на фронт, — записывал он. — Чувства такие: тревожное любопытство, уважение к самому себе и в то же время зависимость (или подавленность, что ли) оттого, что близится, втягивает тебя то самое неумолимое и неведомое чудище, что называется фронтом”... Счастлив и радуюсь, что нахожусь здесь со всеми на фронте. Странное дело — он втягивает и манит. (“Смертельное — манит”, — говорили мудрецы)».
Когда болезнь становилась невыносимой, Эффенди Капиев приезжал подлечиться. На этот раз он оказался в Дагестане, и Гамзатов решился показать ему свои стихи.
«Я думал: только он поймёт меня и оценит, — писал Расул Гамзатов. — Наверное, по выражению моего лица или по другим признакам он почувствовал, как мне хочется, чтобы он обратил на меня внимание, — и однажды на улице он остановил меня, молодого поэта, и предложил пойти в дом своего старого друга, художника и музыканта Магомеда Юнусилау. В этом доме поэты по очереди читали свои стихи, и почти в самом конце мне тоже предложили почитать что-нибудь. Я прочёл несколько стихотворений, уже переведённых на русский язык. Но мне не удалось удивить ими Капиева. Ни одно, ни другое, ни третье не вызвали у него эмоций, хотя некоторым присутствующим они понравились, и кто-то из них не выдержал и спросил Капиева:
— Ну как?
— Ничего, — сказал он.
— Но на аварском языке они звучат ещё лучше.
— Может быть, — сказал Эффенди, — но сейчас другое время, и нужны другие стихи, другие поэты. Тебе, Расул, надо поехать учиться в Москву.
И это говорил приверженец горской поэзии, переводчик “Гомера XX века” неграмотного лезгина Сулеймана Стальского. Разве Сулейман учился в Москве?»
Совет Капиева оказался пророческим. Но до учёбы в Москве было ещё далеко. А тем временем война собирала свою кровавую жатву.
БРАТЬЯ
В боях за Севастополь погиб Ахильчи, брат Расула. Родители были потрясены обрушившимся на них горем. Гамзат Цадаса хотел отправиться на фронт, чтобы найти могилу сына, но точных сведений не было. Была только «похоронка», извещавшая, что Ахильчи Гамзатов погиб «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество».
Оставалась слабая надежда, что это ошибка, такое тогда случалось, но других известий не поступало. Видимо, ошибка всё же была. В недавно обнаруженном документе есть строка об Ахильчи Гамзатове. В ней говорится, что стрелок Гамзатов Ахильчи, 1918 года рождения, беспартийный, родившийся в селении Цада и призванный из Махачкалы в 1941 году, сын Гамзата Цадасы, пропал без вести в феврале 1943 года. В том же документе значатся ещё 14 цадинцев с тем же штампом «пропал без вести», хотя и в разные годы. Но и здесь имеются неточности, принято считать, что Ахильчи родился в 1920 году, а в документе указан 1918-й. К тому же написано «стрелок», тогда как Ахильчи был лётчиком, хотя и на самолётах были прозрачные задние отсеки для стрелков, как на бомбардировщике Байдукова, прилетавшего в Хунзах.
«Мой брат Ахильчи, — писал Расул Гамзатов. — Ты учился в самом земном, сельскохозяйственном институте... Но на войне ты выбрал небо, стал лётчиком. Ты погиб над Чёрным морем. Тебе было 22 года. Ты никогда не вернёшься в родную саклю, я это знаю. Но каждый раз, когда надо мной клекочет орёл, я верю, что это сердце Ахильчи подаёт мне братскую весть».
Не успела семья пережить потерю сына и брата, как пришло печальное известие о Магомеде.
Старший брат Расула, защищавший Сталинград, получил тяжёлые ранения и оказался в госпитале города Балашова.
Из поэмы Расула Гамзатова «Брат»:
Я не забыл глаза скорбящей мамы
И горький взгляд Гамзата Цадаса,
Когда плясали строки телеграммы
В ладонях потрясённого отца.
— Сынок, поедем... Собирайся к брату, —
Сказал он, обернувшись на ходу.
Судьба несла нам новую утрату
В том сорок третьем памятном году.
Мать, обессилев от немых страданий,
От злых предчувствий и глухих тревог,
Впервые в жизни августовской ранью
Нас проводить не вышла за порог...
[30]
К Магомеду они не успели. Он скончался до их приезда. «На берегу маленькой речки мы нашли могилу и прочитали надпись: “Магомед Гамзатов”, — вспоминал поэт. — Отец посадил на могиле деревце, русскую берёзу. Он сказал: “Расширилось теперь наше цадинское кладбище. Большим теперь стал наш аул”».
У Магомеда осталась дочка Патимат, которую он так и не успел взять на руки, а видел только её фотографию, которая лежала в потрёпанной книге стихов Гамзата Цадасы, оставшейся в госпитале.
Расул просился на фронт, горя желанием отомстить за братьев, но его не призвали. Решили, что братья отвоевали и за него.
Горечь утрат, боль от их невосполнимости вылились в особую тему творчества Расула Гамзатова, воплотившуюся в вершинных «Журавлях». Отсветы этого образа — во многих произведениях поэта:
— Парящие над реками и скатами,
Откуда вы, орлы? Каких кровей?
— Погибло много ваших сыновей,
А мы — сердца их, ставшие крылатыми!..
[31]
К 1944 году Красная армия одержала ряд важных побед и погнала врага с родной земли, освобождая города и сёла. Люди по-прежнему, затаив дыхание, внимали Левитану, сообщавшему по радио очередную сводку с фронтов: «Внимание! Говорит Москва. От Советского информбюро...»
Их слышали по обе стороны фронта, включая партизан, которые развернули масштабные действия в тылу гитлеровских войск.
Сводки эти становились всё более оптимистичными. Когда на экраны вышел фильм «В 6 часов вечера после войны», никто уже не сомневался, что разлучённые влюблённые обязательно встретятся после победы. В новой работе Ивана Пырьева, режиссёра фильма «Свинарка и пастух», снова блистала Марина Ладынина. На этот раз она была зенитчицей Варей. Вера в победу, которую излучал фильм, верность влюблённых, дождавшихся своего счастья, салют победы над Кремлём — это было то, чего хотели, о чём мечтали миллионы зрителей. Разумеется, фильм получил Сталинскую премию, как и пять других фильмов Пырьева.
Гамзата Цадасу, в ознаменование пятидесятилетия творческой деятельности, наградили орденом Ленина. Вышла книга его басен. Состоялся его литературный вечер в ЦДЛ — Центральном доме литераторов в Москве, что было особой честью.
Расул Гамзатов был принят в ряды Коммунистической партии [ВКП(б)], что тоже было немалой честью для молодого писателя.
ПОБЕДА
Она пришла в мае 1945-го, как предсказал Иван Пырьев в своём фильме.
Ликование, Парад Победы, салюты, мирная жизнь. Казалось, теперь наступит счастье.
«Для приближения Победы и писатели сражались, — говорил Расул Гамзатов в беседе с Надеждой Тузовой. — Некоторые, к нашему счастью, ещё живы. Но мы служили не только штыком, но и пером, писали книги, были созданы большие произведения. К Победе мы готовились ещё до Победы. Если книгу Сулеймана Стальского, пробитую пулями, нашли у бойца Сталинграда — это большое дело. А сын Сулеймана Стальского, поэт, на этой земле погиб. Гамзат Цадаса не только книги стихов издавал тогда, пел на весь Дагестан о Родине, послал двух сыновей на фронт, и оба, к сожалению, погибли. Алим-Паша Салаватов, крупнейший драматург, чьё имя носит Кумыкский театр, погиб смертью храбрых».
Многие друзья поэта — актёры Аварского театра, тоже не вернулись с той войны.
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых —
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Ещё мы жёнам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас...
[32]
Счастье, конечно, наступило. Но и печаль о погибших была велика. Многие годы люди ждали своих мужей, отцов, сыновей. Надеялись, что они ещё вернутся. Кто-то возвращался — из плена, из партизан, из депортаций.
«И моя мать повязалась чёрным платком, — вспоминал Расул Гамзатов. — Не вернулись Магомед и Ахильчи, два
её сына, два моих брата. Не вернулись многие из тех, кого видела мать в своих окнах играющими на Нижней поляне. Не вернулись те, кому гадальщицы предсказывали скорое возвращение. Сто человек не вернулись в наш небольшой аул. Сто тысяч человек не вернулись домой по всему Дагестану».
«Где, горянка, твои наряды,
Что ты ходишь в старом платке?» —
«Я нарядам своим не рада,
Все лежат они в сундуке».
«Для чего им, горянка, мяться,
Для того ли они нужны?» —
«Тот, пред кем бы мне наряжаться,
Не вернулся ко мне с войны!»
[33]
В стране было много немецких военнопленных. Были они и в Дагестане. Строили здания, работали в разных местах. Дети их сначала забрасывали камнями, потом жалели, бросали еду через проволоку, когда немцы делали им игрушки из дерева, учили своим детским играм и считалкам. Но всё равно пленные оставались фашистами, которые убивали их родных. Немцев потом отпустили.
Перед войной мой старший брат женился,
На свадьбе сапогами он гордился.
Все гости тоже ими восхищались...
Лишь сапоги от тех времён остались
[34].
Война забрала всё. Мужчины были на фронте, невспаханные поля заросли, скотины почти не осталось, к тому же разразилась засуха. В стране снова начались голодные времена. Макуха — жмых, оставшийся от семян, из которых выжали масло, считался почти деликатесом. Продовольственные пайки отменили. Городские жители возделывали огороды, чтобы как-то прокормиться. Повсюду бродили нищие, воровство стало обыденностью. В блокадном Ленинграде людям, находившим силы посещать библиотеки, чтение помогало выжить. Творчество, литература многим придавали силы превозмогать лишения и теперь. Но главной духовной опорой оставалась доставшаяся дорогой ценой великая победа.
В МОСКВУ!
В последний год войны Расул Гамзатов написал поэму «Дети Краснодона» о героях подпольной организации «Молодая гвардия». Илья Сельвинский, широко известный поэт и драматург, побывавший и под огнём критики, и под огнём фашистов на фронте, перевёл её на русский язык.
Слава, краснодонские сыны!
Никогда я не был вам знаком,
Но, как будто братья казнены,
Боль в моей груди и в горле ком...
Это была первая поэма Расула Гамзатова, в которой он по-настоящему прикоснулся к этому поэтическому жанру. Как обычно бывает в таких случаях, поэма не лишена некоторых огрехов, несколько схематична, зато в ней кипели чувства, она была исполнена болью и сопереживанием юными героями.
Гамзатов мечтал показать её мастеру, мнение которого было для него особенно важно. Но Капиева к тому времени уже не было в живых. Он скончался в госпитале Пятигорска, после тяжёлой операции.
Гамзат посвятил Эффенди Капиеву стихотворение:
Прости нас, но памятник, вечный, как стих,
Ещё на твоей не воздвигнут могиле,
И песню, достойную песен твоих,
Друзья о тебе до сих пор не сложили...
[35]
Наставника рядом не было, но совет Капиева Расул Гамзатов помнил: ему нужно учиться.
ЛИТИНСТИТУТ
Летом 1945 года Расул Гамзатов отправился в Москву поступать в Литературный институт.
В душе он считал себя уже состоявшимся поэтом, членский билет Союза писателей вроде бы тоже это подтверждал. Да и сомнения одолевали — чему его там научат, чему не может научить отец — Гамзат Цадаса?
Москва Гамзатова ошеломила. Он гулял по её широким проспектам, ещё не избавившимся от примет войны и напоминавшим то, о чём писал Цадаса после первого приезда в столицу.
Приёмная комиссия Литературного института походила на мобилизационный и демобилизационный пункт одновременно: среди абитуриентов были юноши и девушки, явно не нюхавшие пороха, и были ветераны — кто на костылях, кто с тростью, кто с другими ранами, не видными под одеждой. У многих были боевые ордена и медали.
«Собственно говоря, в институт поступать мне не хотелось, — вспоминал Расул Гамзатов, — я просто мечтал повидать Москву, а потом вернуться домой. Но директор института Фёдор Васильевич Гладков, хотя и видел, что я плохо владею русским языком, а написанный мною диктант стал таким пёстрым от карандашных поправок, что казалось, будто на нём дрались воробьи, всё же написал мою фамилию среди принятых».
Поначалу Расул жил у друзей отца, а после поступления поселился в общежитии Литературного института, располагавшемся в том же здании, в подвале.
После первых занятий Гамзатов начал понимать, сколькому ему предстоит научиться.
«Я не знал в ту пору самого элементарного: кто такие чукчи, евреи, кто такие русские, — признавался Расул Гамзатов в беседе с журналистом и писателем Феликсом Медведевым. — Я просто об этом не думал. В Большом театре Уланову в первый раз увидел — открытие. Тарасову во МХАТе — открытие. Пастернака встретил — открытие. Эренбурга услышал — открытие».
Открытием для Гамзатова стал и сам Литинститут с его замечательной биографией.
Дом Герцена, где некогда родился сам классик, располагался на Тверском бульваре. В этом красивом особняке, обнесённом красивой оградой и не раз описанном в литературе, в XIX веке собиралась литературная богема. Гоголь, Чаадаев, Белинский — их дух всё ещё витал в доме, как и тени Блока, Маяковского, Есенина — всех не перечесть.
Максим Горький, чьё имя теперь носит Литературный институт, стал его основателем. Вернее, он был преобразован из Брюсовского института, который тоже готовил литературные кадры, но был закрыт.
Во дворе усадьбы стоит памятник Александру Герцену, держащему в руке гранки вольнолюбивой газеты
«Колокол», обличавшей из Лондона самодержавную тиранию. Его поставили в начале 1950-х, однако вечный вопрос Герцена «кто виноват?» оставался актуальным во все времена.
ПАЛЬТО
Учёба началась с неприятного происшествия.
«Помню первый день учёбы в Литературном институте в Москве, — писал Расул Гамзатов. — Только мы начали учиться, а у меня день рождения. Конечно, меня не поздравляли, потому что никто ещё не знал, что я в этот день родился. У меня были отложены деньги на покупку пальто, мне их дал отец.
“Давай-ка, бедный Расул, — сказал я, — сделаем в день рождения подарок самому себе — купим пальто”. Взял я деньги и пошёл на Тишинский рынок.
В те первые послевоенные годы что за рынки были в Москве! Свои законы, свои спекулянты, свои милиционеры. Наверно, там можно было купить всё, за исключением разве осла или ослицы.
Больше всего Тишинский рынок походил на растревоженный муравейник. Целый час я толкался среди людей, трясущих перед самым моим носом разным барахлом: костюмами, сапогами, кителями, шинелями, фуражками, платьями, кофтами, туфлями, костылями.
В то время мне хотелось походить на министра. Среди толчеи я искал такое пальто, чтобы как надеть — так сразу и сделаться министром. Наконец я увидел нечто подходящее, перекинутое через плечо одного спекулянта. Вдобавок ко всему была ещё и фуражка — под цвет пальто, из того же материала.
Начал я, конечно, с фуражки. Примерил, посмотрелся в зеркало — настоящий министр. Давай торговаться. Пока я громко и внятно называл маленькую цену, продавец будто меня не слышал. Когда же я тихонько, шёпотом назвал ему настоящую цену, он услышал. Ударили по рукам. Чтобы удобнее было считать все мои трёшки и пятёрки, я отдал пальто спекулянту подержать. Насчитал две тысячи двести пятьдесят рублей. Вручил деньги. Торжественно, с видом министра, пришёл в общежитие. И только тогда вспомнил, что пальто осталось в руках у спекулянта. За две тысячи двести пятьдесят рублей купил я одну фуражку.
Итак, мечтая походить на министра, я остался без пальто и без денег».
Пришлось ходить в том же, в чём приехал в Москву — в шинели. Тогда многие ходили в шинелях, оставшихся после войны.
О небогатой студенческой жизни Расул Гамзатов вспоминал часто, считая её лучшей порой в своей судьбе.
Мы цифрами не утруждали память
И не копили денег про запас.
Порой сберкассой мы бывали сами
Для тех, кто мог ссудить десяткой нас...
Как ни скромна стипендия, а всё же
Мы были завсегдатаи премьер,
Хотя в последний ярус, а не в ложи
Ходили, на студенческий манер
[36].
«ВАРВАР» ГАМЗАТОВ
Расул Гамзатов учился в семинаре Павла Антокольского, знаменитого поэта, переводчика и драматурга. Он был человеком ещё многих дарований и надломленной судьбы. Единственный сын Антокольского — Владимир, ровесник Расула, погиб на войне. Памяти его была посвящена поэма «Сын», удостоенная Сталинской премии. С войны не вернулись и 37 студентов Литературного института.
Антокольский относился к Расулу Гамзатову с отеческой заботой, как, впрочем, и к остальным своим студентам.
«Тому, первому послевоенному набору очень повезло, — вспоминал Расул Гамзатов. — Какая атмосфера товарищества была, какой дух братства, какие учителя нас учили!.. Москва и Литературный институт научили меня держать в руке перо, научили меня сидеть, склонившись над белой бумагой, научили меня любить и ценить святое чувство недовольства собой. Москва, Литературный институт открыли мне доселе неведомые тайны поэзии. Там я понял, что долгое время принимал за золото стёртые пятаки».
В своём неизменном берете, с трубкой, как у Сталина, Антокольский открывал студентам целые миры неизвестной им поэзии, учил правилам стихосложения, делился своим опытом, рассказывал о больших поэтах, о Марине Цветаевой, с которой близко дружил, а после занятий хлопотал в издательствах о публикации их стихов.
«Древнегреческую литературу нам читал добрый седенький старичок Сергей Иванович Радциг. Он все античные тексты знал наизусть, читал нам большие куски по-древнегречески, был влюблён в древних греков, любил говорить о впечатлении, которое они производят на него. Читал он стихи древних так, будто сами авторы слушали его, будто боялся, что вдруг ошибётся, как мусульманин боится перепутать стих Корана. Он думал, что всё, о чём он говорит, мы давно и хорошо знаем. Он даже в мыслях не допускал, что можно не знать “Одиссеи” или “Илиады”. Он думал, что все эти ребята, только что вернувшиеся с войны, четыре года перед этим только и делали, что изучали Гомера, Эсхила, Еврипида. Однажды, увидев, как мало ребята знают, он чуть не заплакал. Особенно его удивил я. Другие всё же кое-что знали. Когда он спросил меня о Гомере, я начал рассказывать о Сулеймане Стальском, помня, что Максим Горький назвал Сулеймана Стальского Гомером двадцатого века. С сожалением посмотрел на меня профессор и спросил:
— Где же это ты вырос, что даже не читал “Одиссею”?
Я ответил, что вырос в Дагестане, где книга появилась лишь недавно. Чтобы сгладить свою вину, я без стеснения назвал себя диким горцем. Тогда профессор сказал мне незабываемые слова:
— Молодой человек, если ты не читал “Одиссею”, то тебе далеко до дикого горца. Ты ещё просто дикарь и варвар».
Юрий Борев, тоже учившийся в те годы в Литературном институте, вспоминал, как профессор Радциг даже заплакал, когда Гамзатов не смог ответить, что на щите Ахилла были изображены сцены времён года.
Гамзатов принялся его утешать, обещая всё выучить и всё узнать. Он так и сделал, он учил всё, что педагоги считали важным для своих студентов. Тем более что это было интересно, увлекало и вдохновляло. Эта бесценная школа выдающихся личностей, эти вершины литературы остались с Гамзатовым на всю жизнь. Спустя годы, обретя поэтический опыт, он будет заново открывать для себя то, что впервые узнал в Литературном институте. И с благодарностью вспоминать своих профессоров — выдающихся учёных Геннадия Поспелова, Сергея Шамбинаго, Валентина Асмуса, Сергея Радцига, Бориса Фохта, Сергея Бонди, Александра Реформатского, Василия Сидорина.
«Я, конечно, плохо отвечал вам на экзаменах, так как плохо ещё говорил по-русски, — писал Гамзатов, став уже знаменитым поэтом. — Но мне кажется, что экзамены мои ещё не кончились. Иногда мне снится, будто я снова сдаю трудные для меня экзамены, проваливаюсь, остаюсь снова на первом курсе».
БРАТСТВО ПОЭТОВ
Царившая в институте аура настоящей литературы просветляла сердца молодых поэтов. Но и за оградой, на Тверском бульваре, их повсюду встречали классики. С одной стороны, их ждал Гоголь в окружении героев своих произведений, с другой — Пушкин с бессмертным изречением «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», начертанным на пьедестале. После яростных диспутов о поэзии и поэтах, после жарких обсуждений студенческих стихов, когда каждый отстаивал своё поэтическое «я», взгляд Гоголя или Пушкина легко остужал полемический задор, стоило лишь сравнить свой предел с беспредельностью гениев.
Владимир Тендряков, живший в общежитии в одной комнате с Расулом Гамзатовым, писал в «Охоте»:
«Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты... Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.
— Дайте закурить, ребята.
Он был автором повально знаменитой:
Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..»
Студентов было немного, и все друг друга знали. Каждый творческий успех, как и явная неудача становились известными. Вокруг ярких личностей создавался свой круг. Соперничали идеи, стили, а бывало — и нецензурные частушки.
«Помню, как прекрасно писалось в Москве на Тверском бульваре — в подвале Литинститута, где мы, шестнадцать студентов-гениев, жили в общежитии, — вспоминал Расул Гамзатов в беседе с журналистом Евгением Дворниковым. — Ещё не высохли чернила — уже спешишь прочитать сочинённое. И чужой удаче радуешься, как своей. Молодость щедра на общение и непритязательна к условиям. Но с возрастом понимаешь, что поэзия требует всё-таки уединения. Творчество, как и любовь, избегает прилюдности... Поэт — как бы собеседник с самим собой, со своим двойником и
мысленно — со всем миром».
«Я РВАЛСЯ К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ»
Гамзатов увлекался то одним поэтом, то другим. То становился «новатором», то превыше всего ставил родную национальную поэзию. Пробовал писать и четырёхстопным ямбом, как у Пушкина, и эпическим гекзаметром, как у Гомера. Влияний было много, как и желания развить особенно понравившееся ему поэтическое направление, которое быстро сменялось другим увлечением. Гамзатов пребывал в растерянности, экспериментировал, писал так, что и сам себя не узнавал.
Можно понять молодого аварского поэта, оказавшегося в пленительном мире незнакомой ему поэзии. А жизнь преподносила всё новые сюрпризы. Даже вручение Сталинских премий по литературе вызывало некоторую растерянность. Александр Фадеев получил премию за роман «Молодая гвардия», Михаил Лозинский — за перевод «Божественной комедии» Данте, Алексей Толстой — за повесть «Иван Грозный»... А Нобелевскую премию присудили немцу со швейцарским гражданством Герману Гессе «За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль». Его роман «Игра в бисер» был неизвестен в СССР, а название намекало на что-то загадочно мистическое, почти потустороннее. Кто-то слышал, что это философская утопия, ещё кто-то — что роман о будущем, где заправляют аристократы духа. Было над чем призадуматься:
«В Литинституте под влиянием разных обстоятельств и поэтов я стал писать совсем по-другому. Я хотел, чтобы в Москве меня поняли и печатали, с аулом, думал я, как-нибудь потом найду общий язык. Своё циркачество в поэзии я выдавал за новаторство, а землякам говорил: “Вы потом поймёте меня”. Аул был далеко, отец жил в горах, и, получив “самостоятельность”, я стал, что называется, сам не свой. О таком состоянии человека говорят: “Вожжа попала под хвост”. Если раньше я подражал горским поэтам, то теперь я стал подражать кое-кому из русских поэтов. Я принял их позу.
Не скрою, мне очень хотелось тогда видеть свои стихи переведёнными на русский язык. Я рвался к русскому читателю, и мне казалось, что моя новая манера для русского читателя будет понятней и ближе. Я совсем перестал обращать внимание на музыку родной аварской речи, на музыку стихотворения. На первое место выходили конструкции, голая мысль. Я думал, что обретаю нужную манеру письма, в действительности же — теперь понимаю это — я делал маневры.
К счастью, я вовремя понял, что поэзия и хитрость не совместимы. Но ещё раньше понял меня мой мудрый отец. Когда он прочитал мои новые стихи, ему сразу стало ясно, что ради курдюка я хочу пожертвовать самим бараном, что я пытаюсь вспахать и засеять голое каменное поле, на котором никогда ничего не вырастет, как его ни поливай, что я хочу иметь дождь, не имея неба.
Отец всё это понял сразу, но он был очень внимательным и осторожным человеком. Однажды в разговоре он заметил:
— Расул, меня беспокоит, что твой почерк начал меняться.
— Отец, я уже взрослый человек, а на почерк обращают внимание только в школе. Со взрослого спрашивают не только то, как он написал, но и то, что он написал.
— Для милиционера и секретаря сельсовета, выдающего справки, может быть, это и так. Для поэта же его почерк, его стиль — ровно половина дела. Стихотворение, какую бы оригинальную мысль оно ни выражало, обязательно должно быть красивым. Не просто красивым, но по-своему красивым. Для поэта найти свой стиль и найти себя — это и значит стать поэтом».
Гамзатов не избежал соблазна новаторства, но это почти неизбежно, когда творец ищет свой, присущий только ему стиль. Однако он скоро потерял интерес к форме, лишённой сути, и грозившей драмой Антея, утратившего связь с Землёй. Гамзатов понял, а в ту пору, наверное, только ещё почувствовал, что истинные поэты обращаются не только к утончённым ценителям, к поэтической богеме, но и к простым людям, сердца которых отзываются на искренность и высокое душевное волнение, ведь только это и составляет сокровища человеческой души.
Молодым национальным поэтам были нужны переводчики. Судьба счастливо свела Расула Гамзатова с Наумом Гребневым и Яковом Козловским. Чудом выживших ветеранов войны трудно было назвать молодыми поэтами, они были одарёнными поэтами и такими же талантливыми переводчиками. Один воевал под Брестом, другой — под Сталинградом. Оба заслужили высокие боевые награды и перенесли тяжёлые ранения. Всегда озарённый доброй улыбкой Яков Козловский и задумчивый Наум Гребнев. И ещё — Владимир Солоухин, тоже ветеран войны и талантливый писатель.
«Переломным моментом в творческой судьбе Расула Гамзатова надо считать поступление в московский Литературный институт, — писал позже Владимир Солоухин. — Здесь он обрёл не только учителей в лице крупнейших московских поэтов, но и друзей, сотоварищей по искусству. Здесь же он нашёл первых переводчиков или, может быть, вернее, переводчики нашли его. Здесь его аварские стихи стали фактом также и русской поэзии».
Елена Николаевская, учившаяся с Гамзатовым на одном курсе, вспоминала: «Моя встреча с Расулом Гамзатовым и его Дагестаном, принёсшая мне на всю жизнь сердечную, душевную радость, началась давным-давно, в незапамятные времена, и с тех пор не прерывается... Тверской бульвар, 25. Литературный институт. Первая послевоенная зима. Холодная, нетоплёная аудитория. Расул читает свои стихи, а потом рассказывает их строчку за строчкой. Читает по-аварски, пленяя нас, слушающих, магическим звучанием, ритмом, инструментовкой неслыханной и мелодией, для нашего уха непривычной. Это было похоже на некую ворожбу, на волшебные заклинания из сказок».
«В ДУХЕ НАПЛЕВИЗМА»
Таланты крепчали, состязались, искали своего читателя. Студенты Литинститута будто не замечали, что происходило вокруг, это их мало занимало. Но им, как и всем писателям, напоминали, что талант — дело не столько личное, сколько государственное, и обязано служить его интересам. Какой быть литературе, что и как писать диктовалось партийными установками, этим занимались на самом верху. А под «линию партии» можно было закамуфлировать всё что угодно — от личной неприязни, зависти, ревности, уязвлённого самолюбия — до невежества или желания спасти собственную карьеру. Интересы трудового народа, на которые ссылались партийные Бенкендорфы, были тут ни при чём. Народ едва оправился после войны и пытался выжить в голоде и разрухе.
Люди хотели не только есть. И к разрухе относились как неизбежному после войны испытанию, которое обязательно будет преодолёно. Наступил мир, завоёванный неимоверными усилиями, гигантскими жертвами. Но мир, в котором хотели жить люди, был понятием куда большим, чем отсутствие войны. Люди хотели покоя, счастья, радости, естественных человеческих чувств, которых были лишены столько лет. А писатели хотели свободы без «прокрустова ложа» партийных установок.
В журналах начали появляться произведения, которые отзывались на эти естественные чаяния, потребности, отражавшие личные драмы, мечты, новое понимание ценности жизни. Мир переставал быть черно-белым, обретал новые краски. Расул Гамзатов и его друзья стали писать более свободно, более лирично, обращались к новым темам.
Однако секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, надзиравший за культурой, за литераторами ещё со времени Первого съезда советских писателей, был начеку.
Первыми жертвами борьбы с «безыдейностью, антинародностью и чуждой идеологией» стали Анна Ахматова и Михаил Зощенко, а заодно и журналы, в которых они печатались.
В постановлении оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» говорилось: «Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко “Приключения обезьяны” (“Звезда”, № 5—6 за 1946 год) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами».
Знавшие Михаила Зощенко в это не верили, он был патриотом и популярным писателем с ярким даром сатирика.
Об Анне Ахматовой постановление сообщало: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, “искусстве для искусства”, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе. Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада».
В обличительном пылу был даже изобретён нелепый, но характерный для стиля «ждановщины» неологизм «наплевизм»: «Советский строй не может терпеть воспитания молодёжи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности».
Обвинения прозвучали, книги были конфискованы, изъяты из библиотек, журнал «Ленинград» был закрыт, а в «Звезде» сменили руководство. Главным редактором стал Александр Еголин, оставаясь при этом заместителем начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б).
Зощенко и Ахматову исключили из Союза писателей, лишив права на публикации и средств к существованию.
Зощенко написал Сталину письмо, в котором пытался объясниться: «Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошёл в ряды Красной армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск. Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне надо идти — с народом или с помещиками. Я всегда шёл с народом. И этого никто от меня не отнимет... В годы Отечественной войны с первых же дней я активно работал в журналах и газетах. И мои антифашистские фельетоны нередко читались по радио. И моё сатирическое антифашистское обозрение “Под липами Берлина” играли на сцене Ленинградского театра “Комедия” в сентябре 1941 года».
Покаянные письма не помогали, помогали почитатели Зощенко и Ахматовой.
Но всего этого литературным начальникам показалось мало, требовалось всенародное осуждение. «Ждановщина» стремительно разрасталась, богатый опыт организации «гласа народа» имелся.
В митингах против Зощенко и Ахматовой участвовали и студенты Литературного института. Расул Гамзатов даже выступил с речью. Позже он признавался, что безоглядно верил Сталину, который, как оказалось, инициировал эту кампанию. Ведь это был вождь, победивший Гитлера, победивший в великой войне, на которой погибли братья Расула.
В беседе с Надеждой Кеворковой Расул Гамзатов вспоминал: «Я сожалею о том, что дал себя обмануть. Торопился судить о многом, к чему не был подготовлен... И я выступил на митинге с осуждением Ахматовой и Зощенко. Меня отец спросил: “Ты их читал?” — Я ответил: “Не читал”. — “А что тебе тогда надо?”».
В другом месте Гамзатов добавлял: «Рядом со мной стояли иные известные писатели, которые тоже разоблачали». Выдающиеся писатели, ставшие позже классиками, тоже оказались по обе стороны идеологических баррикад.
Студентов не спрашивали, хотят ли они участвовать в митингах. Знать творчество неугодных писателей было не обязательно, обязательно было участвовать. Студенты, конечно, имели свои соображения на этот счёт, но приходилось держать их при себе. Многое зависело от склада характера, корней, из которых произрастал талант, личных отношений, творческих устремлений и, как потом выяснялось, от карьерных соображений.
Непонятно, какое отношение имели произведения Ахматовой
[37] и Зощенко к осложнившейся тогда международной обстановке, но «ждановщина» всё сыпала в общий котёл. Выходило, что попавшие в показательную опалу писатели были чуть ли не единомышленниками Уинстона Черчилля, который в американском Фултоне говорил о «железном занавесе», опустившемся между мирами демократии и тоталитаризма. После этой речи бывшие союзники СССР в войне против фашизма превратились в противников в холодной войне, которая тогда же и началась. Возможно, на это отторжение вчерашних союзников повлияло наличие у США атомного оружия, ужасающе продемонстрированного в Хиросиме и Нагасаки. Как и то, что СССР активно укреплял свои позиции в странах Восточной Европы.
ПЕРВАЯ КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В институте Расул Гамзатов близко сошёлся с Яковом Козловским и Наумом Гребневым — замечательными поэтами, которые взялись переводить его стихи. У него уже был опыт работы с переводчиком, с Ильёй Сельвинским, но теперь его переводили друзья, которые успели понять, почувствовать творческое своеобразие Расула. Он и сам понемногу обретал свой стиль, выходил на свою поэтическую тропу. Она была ещё нехожена, но верна. В его поэзии было много от национальной поэтической культуры и немало от мировой. Даже его аварский язык стал заметно другим, Гамзатов что-то к нему прибавлял, от чего-то отказывался, он менялся вместе со временем, менявшим жизнь горцев.
«Силлабический аварский стих, — писал Владимир Огнёв, — даже таким, как его застал Расул после реформы поэтического стиля, произведённой отцом,— зачастую не мог ещё ни лексически, ни интонационно предоставить поэту образных соответствий тому новому сознанию, той мысли, которая требовала для своего воплощения специфически современных образов, понятий. Расулу Гамзатову приходилось не только вводить новые слова, как это делали и до него в аварской поэзии, но и применить к условиям родного стиха целый ряд структурных особенностей русской реалистической поэтики. Сам Гамзатов назвал две такие особенности: живописность и лиризм. Собственное творчество его — яркое подтверждение этому».
Гамзатов писал, друзья переводили. С каждым новым переводом, который горячо обсуждался, сотрудничество становилось продуктивнее. Переводов набралось на небольшую книгу.
Переводчику, не знающему языка автора, требуется подстрочник. В буквальном понимании подстрочник — это строка под строкой, дословный смысловой перевод на русский под строкой на аварском.
Расул Гамзатов объяснял особенности этого непростого процесса в беседе с журналистом Гаджикурбаном Расуловым:
«Подстрочник — это проверка стиха на зрелость. По подстрочнику судить о поэте нельзя, но и без подстрочника тоже нельзя. Это не значит, что в поэзии есть то, что нельзя передать на другом языке. Здесь имеет значение разность культур, разность особенностей национального стиха, национальной поэтики. Русский стих — силлабо-тонический, а аварский — силлабический, в нём очень важную роль играет аллитерация, а вот рифмы — нет».
Гамзатов делал подстрочники в меру своего знания русского языка, объясняя, что он имел в виду. Затем они с переводчиком подбирали русские слова, которые наиболее точно или как можно ближе выражали мысль автора. После чего поэты-переводчики превращали этот «материал» в поэзию на русском языке. И снова обсуждали результат, споря ночи напролёт.
Чудо удачного превращения подстрочника в стихотворение на ином языке совершается взаимодействием талантов автора и переводчика, понимающего поэтические традиции и чувствующего культурную самобытность другого народа.
Позже, со свойственным ему юмором, Расул Гамзатов объяснял суть перевода так:
«Что такое подстрочник? Один парикмахер подстриг, побрил меня, уложил мне волосы и сказал:
— Ну вот, пришёл ты ко мне, как подстрочник, а уходишь, как перевод.
Подстрочники моих стихов выглядели, как черепки от разбитого кувшина. Потом их склеивали, и они получались как новые, и аварские узоры, как ни в чём не бывало, украшали их».
Труды поэта и переводчиков увенчались сборником стихов, который автор назвал «Земля моя». Если книга написана, её следует издать. В Москве издать не удавалось, и тогда Расул Гамзатов и Яков Козловский отправились попытать счастья в Дагестан.
«В 1947 году, будучи в Махачкале, мы с Расулом отправились в дагестанское издательство, — вспоминал Яков Козловский. — Оно располагалось в приземистом, одноэтажном доме. По соседству рокотал Каспий, и воздух был словно настоян на арбузах. Мы оба студенты Литинститута, обуреваемые тщеславной затеей издать книгу Расула на русском. А почему бы и нет? Ведь одно из его первых стихотворений перевёл сам Сельвинский!..
В те годы директором дагестанского издательства был экс-начальник тюрьмы. И вот сидим мы в его приёмной, устланной узорным ковром, и слышим, как он кричит секретарше:
— Введите!
Мы входим, здороваемся. Он поднимается.
— Сейчас я вас посажу... — И, даже не улыбнувшись, подаёт стулья. Потом обращается к Расулу, указывая на меня: — А это, значит, твой подельник?
С виду суровый, облачённый во френч, оказался он отзывчивым доброхотом, мне показалось, что бывший тюремщик в душе придерживался стародавнего восточного присловия “Кто может делать добро и не делает, тому это вменяется в грех”».
Тогда же Козловский познакомился с отцом Расула. О Гамзате Цадасе он тепло вспоминал в беседе с Евгением Некрасовым: «Я его тоже переводил, ещё будучи студентом Литературного института. Он был истинным мусульманином. Высокообразованным арабистом, хотя по-русски плохо говорил. В дом к ним заходил каждый, кто знал аварский язык; была специальная комната, где останавливались гости, — кунацкая. Расул однажды сказал ему: “Пожалей мать, она же день и ночь стоит у плиты, потому что у нас всегда двери открыты, всегда гости”. А отец ему: “Что у тебя на полках стоит?” — “Книги”, — говорит Расул. “Вот, книги — это твоя библиотека, а люди — моя библиотека”».
С Расулом Гамзатовым, когда они поднялись в горы, в аул Цада, случилось больше, чем событие. Он увидел соседскую дочь Патимат, свою родственницу, которая ещё вчера была маленькой девочкой, и вдруг стала цветущей девушкой удивительной красоты. Прежде он не обращал на неё особого внимания, но теперь всё переменилось.
Когда Расул и его друг Яков собрались уезжать, мать снабдила их сельскими продуктами, а отец дал сыну немного денег и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь ещё. Расул, едва сдерживая волнение, попросил родителей засватать за него Патимат.
Позже он напишет:
Я был уже большим в тот год,
Когда ты родилась:
Я знал в ауле каждый сад
И бегал в первый класс.
И если мама занята
Твоя порой была,
То за тобою присмотреть
Меня она звала.
И хоть за это от неё
Подарки получал,
Но помню, до смерти тогда
У люльки я скучал...
Я сам сейчас бы преподнёс
Подарок ей любой...
Я жду — пусть лишь откроет дверь, —
О, как бы хорошо теперь
Книга «Земля моя» вышла в Дагестанском государственном издательстве в 1948 году. Стихи в книге были разные, какие-то из них Гамзатов потом не включал в свои сборники, но это была настоящая книга на русском языке — громкий успех для молодого аварского поэта. А в том, что Гамзатов обещает вырасти в большого поэта, никто уже не сомневался, кроме, наверное, его самого.
На груди материнской
Ребёнок заснул безмятежно.
Так и я среди гор
Засыпаю в долине родной.
И, от зноя укрыв,
Чередою плывут белоснежной
Облака, облака
Над аулом моим, надо мной...
[39]
Для переводчиков это тоже был успех, но главным стало прикосновение к поэзии Гамзатова, с которой им предстояло сосуществовать многие годы. Постепенно они начали понимать, хотя и немного, и саму аварскую речь. Разве что говорить не научились, но некоторые слова знали, чем приводили горцев в восторг.
«В КОСМОПОЛИТЫ Я НЕ УГОДИЛ...»
Гамзатов и Козловский вернулись в Москву героями: с гонораром, вином и сушёным мясом. Пировали в общежитии с друзьями — договор с издательством полагалось «обмыть». Читали стихи из будущей книги преподавателям и угощали их кавказскими яствами.
Казалось, гонения на литературу ушли в прошлое, но вскоре над ней вновь сгустились тучи. Интеллигенция, как обычно, оказалась виноватой перед властями, теперь её обвиняли в космополитизме. Что это такое, понять было трудно.
Владимир Тендряков, один из соседей Гамзатова по общежитию в подвале Литинститута, писал в автобиографической повести «Охота»: «Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)? Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали».
Тендряков задавал мучивший его вопрос многим:
«И я спросил:
— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?
Он ответил почти любезно:
— Должно быть, тем же, чем голова от башки.
— Почему же тогда космополитизм осуждается?
— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением».
Однако вопрос этот был далеко не риторическим, он искорёжил судьбы тысяч людей.
Но у товарища Жданова были готовы и разъяснения, и обвинения. Космополитами, приспешниками Запада, а значит, и идеологического противника, были объявлены все, кто считал, что на свете существуют не только советские идеи, изобретения, политические системы, культурные и научные достижения и прочие плоды развития человечества. Борцы с космополитизмом называли это «низкопоклонством перед Западом», в чём раньше обвиняли и Анну Ахматову. Полагалось считать, что, к примеру, технический прогресс был исключительно российского происхождения, включая радио, электрические лампочки, самолёты и много чего ещё. Сомневаться в этом было не только не патриотично, но и преступно. Люди лишались должностей, кафедр, а порой и свободы.
«Обличали безродных космополитов, — писал Тендряков. — Называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли “святым”. И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накалённые голоса:
— Позор!! Позор!!
От обличённых преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.
— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.
По всей стране идёт облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: “Ату его!”».
Не обошла «охота» и Литинститут. В конце 1947 года арестовали студента Наума Коржавина — Эмку Манделя, как его называли по настоящей фамилии. Он жил в одном общежитии с Расулом Гамзатовым. Друзья считали Эмку почти гением. Многие знали его стихи, которые теперь обретали ореол пророческих:
От судьбы никуда не уйти,
Ты доставлен по списку, как прочий.
И теперь ты укладчик пути.
Матерящийся чернорабочий.
А вокруг только посвист зимы,
Только поле, где воет волчица,
Чтобы в жизни ни значили мы,
А для треста мы все единицы...
В обществе царила гнетущая атмосфера. Подозрительность, доносительство, непонимание происходящего — всё это отразилось в том, как Тендряков описал потрясший студентов ночной арест в подвальном общежитии:
«Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову будёновку. С потным, сведённым в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:
— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...
Я всё ещё ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадёт. А что, если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что, если это гениальный актёр?.. Не с Иудой ли Искариотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...
— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своём углу во время ареста Тихий Гришка. — Талант — она штука опасная!»
Через год, когда СССР испытал свою атомную бомбу, доказав если не своё первенство, то, по крайней мере, равенство с Западом в этом жизненно важном вопросе, охота на космополитов прекратилась. От той смутной поры осталось лишь анекдотично-знаменитое «Россия — родина слонов».
Прошло почти десять лет, пока «социально опасный элемент» Коржавин был реабилитирован и вернулся доучиваться в Литературный институт.
Друзьям его не хватало. И они часто вспоминали стихи Эмки Манделя «Знамёна»:
Иначе писать
не могу и не стану я.
Но только скажу,
что несчастная мать.
А может,
пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?
Мне нечего будет
сказать на митинге.
А надо звать их —
молчать нельзя ж!
А он сидит, очкастый и сытенький,
Заткнувши за ухо карандаш...
Людей, думавших не как велено, было много. Освобождая Европу от фашизма, советские воины видели не только его последствия и преступления, они увидели жизнь простых европейцев, которая явно отличалась от жизни рядовых граждан в СССР. Там всё было устроено иначе, люди жили лучше, по крайней мере, до войны, это бросалось в глаза. И у них было больше свободы. Империализм, конечно, их угнетал, но угнетал как-то гуманно, так, что против него не восставали. Вернувшиеся с войны были чем-то похожи на русскую армию, вернувшуюся из Европы после победы над Наполеоном. Дав свободу другим, они не обрели её на родине. Тогда это обернулось восстанием декабристов.
Война с Германией кончилась победой, война с народом продолжалась, но победить в ней было нельзя.
Возможно, ощущение себя как национального поэта, ответственность перед своей миссией в литературе и спасли Расула Гамзатова в те мрачные годы. Он не понимал или отказывался понимать происходящее вокруг. Ему не хотелось тратить время на политику, которая от него не зависела. По-русски он предпочитал читать не лозунги, а прекрасную русскую поэзию.
Позже он напишет в поэме «Времена и дороги»:
Не в восемнадцатом родился я году,
И не успел к зиновьевским расстрелам.
В тридцать седьмом мы дружно гимны пели,
Мальчишки, не понявшие беду.
В сорок девятом были рукописи целы,
В космополиты я не угодил.
С авангардистами я тоже не дружил,
И кулаками вождь в меня не целил...
[40]
КНИГА В «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Азербайджанский поэт Наби Хазри, тоже учившийся в те годы в Литинституте, вспоминал:
«Москва... Тверской бульвар. Знаменитый дом Герцена. Литературный институт имени Горького. Как шумно бывало в тесных институтских коридорах во время перерывов!.. Разговоры... Смех... Стихи... Споры до хрипоты... Мы, новички, смотрели на старшекурсников, как на кумиров, как на пророков. И первым кумиром моим в Москве из сынов Кавказской земли стал Расул Гамзатов. Он неизменно обрастал ватагами студентов. Он покорял всех своим остроумием, сочными рассказами, стихами. Куда ни пойдёт — всюду за ним потянутся. Радостно, восторженно. В ту пору иней ещё не тронул его волос. Длинные чёрные пряди ниспадали на глаза. Худощавый. Быстрый, как ястреб».
Вышедшая в Махачкале книга сделала Расула Гамзатова известным на родине и в институте. Но он жаждал настоящей популярности, мечтал о славе, которая вот-вот должна была вознести его на поэтические вершины.
Он писал много, иногда в ущерб учёбе. Но что он мог поделать, если его переполняли идеи и чувства, и тетради заполнялись стихами, не оставляя места для скучных конспектов.
Теперь у него и переводчиков стало больше. Начал переводить Владлен Бахнов, тоже учившийся в Литинституте. Он, как и Гамзатов, склонен к юмору, писал эстрадные миниатюры для популярнейших тогда Тарапуньки и Штепселя и Аркадия Райкина. А его весёлую песенку о студентах поют и поныне:
От Евы и Адама
Пошёл народ упрямый,
Нигде не унывающий народ.
Студент бывает весел
От сессии до сессии,
А сессия всего два раза в год.
Что за предрассудки
Есть три раза в сутки
И ложиться в тёплую кровать?!..
Замечательно переводила Гамзатова Ирина Снегова. Иногда она в соавторстве с Еленой Николаевской превращала аварский стих в русскую лирику.
Снегова училась в семинаре Ильи Сельвинского и Веры Звягинцевой. Сельвинский перевёл первую поэму Гамзатова, а теперь и Звягинцева начала переводить аварского поэта. Перевод стихотворения, которое Расул Гамзатов посвятил своей избраннице Патимат Юсуповой, обозначив это лишь буквами «П. Ю.», Вере Звягинцевой особенно удался. Его и сегодня исполняют со сцены:
Дождик за окном — о тебе я думаю,
Снег в саду ночном — о тебе я думаю.
Ясно на заре — о тебе я думаю,
Лето на дворе — о тебе я думаю.
Птицы прилетят — о тебе я думаю,
Улетят назад — о тебе я думаю...
«Песни гор» — так называлась книга Расула Гамзатова, вышедшая в 1949 году в Москве.
Свой первый московский договор на издание книги Расул Гамзатов заключил с издательством «Молодая гвардия». Образованное в 1922 году, оно было одним из главных в стране, выпуская множество книг, журналов и газет. Попасть в авторы «Молодой гвардии» означало войти в круг настоящих писателей, обратить на себя внимание прессы и читающей публики.
Солидное издательство поверило в молодого автора и не ошиблось. В последующие годы в «Молодой гвардии» вышло множество книг Расула Гамзатова. Сотрудничество было долгим и плодотворным. Последний договор, подписанный поэтом, тоже был с «Молодой гвардией».
Книгу Гамзатова заметили. Многое перепечатали газеты и журналы. Стихотворение «Горцы у Ленина» на долгие годы стало в Дагестане почти классикой, а фотография Ленина с его автографом — национальной реликвией.
Им казалось:
Он был выше сосен и гор,
Вынет шашку —
Враги разбегаются в страхе,
Им казалось, что острый, как лезвие, взор
И блестит и горит из-под чёрной папахи.
И когда собрались в путь-дорогу к нему,
Снарядились в столицу послы Дагестана,
Насекли кубачинцы
Огромную шашку ему
И в Анди приготовили
Одним из первых отозвался на книгу Ярослав Смеляков:
«Безусловно, Расул Гамзатов очень талантливый поэт. Я эти два слова “талантливый” и “очень” не часто употребляю. Мне трудно определить всю самобытность, так как я ни малейшего представления не имею о языке, на котором пишет Расул Гамзатов, но, несмотря на это, то, что я читал, и то, что мы сегодня слышим, и, несмотря на то, что переводы делали очень разные по возрасту и квалификации переводчики, сквозь всё пробивается индивидуальность автора. В последнее время мне пришлось иметь дело с 20—30-ю книгами поэтов родственных дружеских республик. Одна
из самых лучших книг, произведшая очень большое впечатление, это книга Расула Гамзатова».
Расул Гамзатов обретал популярность. У него завелись деньги от гонораров, он приоделся, посылал подарки родителям и мог не беспокоиться, что не сможет расплатиться в писательском ресторане.
Художник Иосиф Игин вспоминал, как познакомился в ЦДЛ с Расулом Гамзатовым:
«Я сидел в гостиной Центрального дома литераторов, в обществе молодых поэтов, ещё студентов Литинститута. Они говорили о трудностях и радостях работы над переводами стихов с языков братских литератур на русский. Произносились имена прославленных писателей многих наших республик. Имена, ставшие знакомыми и близкими всем народам нашей страны благодаря усилиям переводчиков. Тогда я услышал впервые новое, до того незнакомое мне имя Расул. Оно было произнесено без фамилии, потому что, как выяснилось, поэты говорили о своём однокурснике по Литинституту.
В это время к столику подошёл улыбающийся молодой человек, небольшого роста, с коричневыми, падающими на лоб волосами. Его радостно встретили и познакомили со мной.
— Дыкий горэц, Расул Гамзатов, — весело представился он».
Гамзатов входил в советскую литературу, не утратив аварского акцента.
ОКОНЧАНИЕ ИНСТИТУТА
Приближался 1950 год, время окончания института, время осмысления пройденного и размышлений о будущем. Многое изменилось с тех пор, как молодой аварский поэт переступил порог Храма литературы. Он и сам стал другим, познав сладость первого успеха, первой, пусть ещё небольшой, славы. Гамзатов вспоминал о той поре:
«Когда в Литинститут поступил, думал, что тут вот и началась моя творческая деятельность. Оказывается, это тоже не начало. Я находился под сильным влиянием хороших и разных русских поэтов, и это была утрата дагестанской почвы. Я из аула уехал, а до города не доехал: так, что-то среднее. Меня упрекали, и справедливо, мне говорили: надо стать известным у себя в ауле, а потом в Москве. Поэтом, считаю, стал тогда, когда появились стихи, которые я мог и в ауле читать, и в Москве. Всегда на первом курсе мы думаем, что мы — прекрасные поэты, только на пятом начинаем сомневаться. Я лично сомнение предпочитаю самомнению».
До получения диплома было ещё далеко, а тем временем страна славила Иосифа Сталина, которому исполнилось 70 лет. И писатели в этом всенародном ликовании были в первых рядах. Кто вынужденно, а кто и искренне, поэты писали стихи, оды, поэмы в честь вождя всех народов.
Написал и Расул Гамзатов:
...Но, проходя дорогами земными,
Услышишь ты повсюду от людей,
Что существует на планете имя,
Которое не знает рубежей...
В стихотворении «Имя вождя» Гамзатов душой не кривил. Он верил в то, о чём писал. Мало того, автор искал оригинальные, яркие сравнения, метафоры, образы, стараясь придать образу Сталина вселенский масштаб:
Оно земные сокращает дали,
Ведёт людей в грядущие века.
Когда б на звёздах люди обитали,
Оно б дошло и к ним наверняка
[42].
«Послевоенные годы — годы расцвета культа личности — были временем начала творчества Расула Гамзатова, — писал Владимир Огнёв. — И надо сказать, его яркое, самобытное дарование оказалось гораздо более стойким к ложным тенденциям лакировки, одописания, чем многие иные дарования. Правда, и в произведениях Расула Гамзатова получило отклик общее для тех лет преувеличение роли И. В. Сталина в истории... Но ведь пагубность культа личности меньше всего сказалась в том, что поэты славили Сталина. Серьёзнее было иное: искажение правды жизни, поверхностное, догматическое представление о действительности, подмена героического начала риторическим. А в этом меньше всего можно упрекнуть Расула Гамзатова».
К поэтическому уровню стихотворения, к его панегирическому настрою можно относиться по-разному. Но в этом Расулу Гамзатову было далеко до живых классиков, произведения которых заполонили газеты, звучали с трибун и из радиоприёмников.
Михаил Исаковский:
О самом родном и любимом, —
О Сталине песню споем!
Самуил Маршак:
Тот, на кого во всех краях планеты
С надеждою глаза обращены.
Сергей Михалков:
Он знал, что Сталин — это есть Победа
На всех фронтах: труда, борьбы, войны.
Лев Ошанин:
Спасибо, великий садовник,
За счастье родимой земли!
Яков Смеляков:
Вела нас в бой с трибуны мавзолея
Рука Победы — Сталина рука.
Алексей Сурков:
Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полёт...
Арсений Тарковский:
Тост наш за Сталина!
Тост наш за партию!
Тост наш за знамя побед!
Венчало восхваления «Слово советских писателей товарищу Сталину», зачитанное Александром Твардовским на юбилейном торжестве в Большом театре:
Спасибо Вам, что Вы нас привели
Из тьмы глухой туда, где свет и счастье,
Что в трудный час родной земли
Спасли её от гибельной напасти.
Что и теперь, когда опять война
Готовится во вражьем злобном стане,
На мир надежда в мире есть одна:
Ей имя — Сталин, — Вы, товарищ Сталин.
И мы пришли, чтоб Вам сказать о том,
Как бесконечно дороги Вы людям,
Как с каждым годом мы и с каждым днём
Вас преданней и бережнее любим...
Много позже, в интервью Далгату Ахмедханову о своём отношении к Сталину Расул Гамзатов говорил:
«Я любил его и глубоко верил, что любые его устремления направлены на благо народа. Все слова, выходившие из-под моего пера, были искренни, и поэтому я считаю, что мои произведения тех лет могут претендовать на поэзию, которая только искренностью и проверяется, да ещё талантом, честью, мужеством. Вот единственные её критерии, а не количество труда или что-то ещё, как, например, политический подхалимаж, конъюнктурные соображения. Мысль, образ можно оценивать как угодно, но если они родились в душе поэта, то тогда это стихи, которые с течением времени и изменением политического климата не перестают быть таковыми. Вот, пожалуй, ответ на возможные упрёки в специальной направленности некоторых моих ранних произведений. Я никогда от них не откажусь, потому что каждый день из прошедших после выхода первой книги пятидесяти лет автором всех моих стихов был один и тот же человек, но с каждым днём этот человек становился уже немножечко другим, чем был вчера. Но это всегда я — Расул Гамзатов. Это ведь так естественно. И всегда я стремился создать образ, а не петь оды. Это — главное, что отличает стихи от конъюнктурщины».
НОВАЯ ССЫЛКА ПУШКИНА
Диплом Литературного института был уже получен, прощальные пирушки закончились, друзья разъезжались по родным местам. Но Расул Гамзатов ждал выхода новой книги, чтобы приехать домой триумфатором.
Произведения Расула Гамзатова сначала выходили на родине, на аварском языке, а затем переводились на русский. Это обычно для национальных авторов, как и то, что до публикации на русском требовалось определённое время. Случалось, что между этими публикациями стихи и поэмы выходили в толстых журналах, которые теперь предоставляли свои страницы и Расулу Гамзатову. В августовском номере 1950 года «Звезда» напечатала поэму «Год моего рождения». Так же называлась и книга, которую готовило к выпуску издательство «Молодая гвардия».
На поэму отозвался Александр Твардовский, бывший тогда главным редактором журнала «Новый мир»: «Год моего рождения”, как явление не только истории дагестанской литературы, но и истории Дагестана в целом, остаётся крупным, общезначимым событием. Это образец того, как можно политическую тему переложить на язык высокой поэзии, поэзии образной, одухотворённой». Заинтересовавшее его произведение молодого поэта Твардовский решил показать Самуилу Маршаку. Мэтр вынес свой вердикт: «Из этой поэмы останется главным образом “Дингир-Дангарчу”». Остальное он счёл слишком приближенным к политике. Гамзатов был удивлён, он ведь писал искренне, не думая о политических дивидендах: «Впрочем, я был тогда молод, многого не понимал, ко всему окружающему относился восторженно, эмоции переполняли меня и я выплёскивал их на бумагу, стремясь донести до людей волновавшие меня мысли и образы. И тогда, и сейчас я считал и считаю, что поэт пишет не учебник жизни, а выражает своё к ней отношение. Разумеется, он может ошибаться... Даже классики ошибаются... Но поэт ведь не стрелочник и не лектор по вопросам внутренней и внешней политики».
Но Гамзатов чувствовал, что Маршак, по большому счёту, прав. С тех пор у них с Маршаком завязалась добрая дружба, мастер относился к Расулу по-отечески бережно. Обычно он бывал у Маршака с Твардовским, участвовал в литературных дискуссиях, внимал откровениям большого поэта, вновь и вновь убеждался, что поэзия — не приложение к жизни, а нечто большее, способное менять жизнь к лучшему.
Многие из друзей Расула Гамзатова были москвичами, и они часто встречались. Обычно это происходило в ЦДЛ, где было шумно и весело.
Они уже не читали друг другу стихи у памятника Пушкину на Тверском бульваре. Гамзатов приходил к «солнцу русской поэзии» один. Ему было о чём подумать, оценить своё творчество под испытующим взглядом великого творца. За годы учёбы Гамзатов глубже узнал Пушкина, начал понимать прелесть его языка, ощутил потрясающую безбрежность его дара.
«Пушкин вошёл в мою жизнь рано и ослепительно, — вспоминал Расул Гамзатов. — Словно утренние солнечные лучи, он проник в окна моей горной сакли. В маленьком высокогорном Цада мой отец Гамзат в 1937 году перевёл на аварский язык “Деревню”, которую и до сих пор я знаю наизусть. Затем отец перевёл сказки Пушкина,
их горские школьники весело рассказывали по вечерам неграмотным аульским аксакалам».
Вслед за отцом Гамзатов и сам начал переводить Пушкина на аварский язык. Его переполняло волнение, когда он читал поэту, хотя бы и бронзовому, его стихи на аварском языке. И Гамзатову слышалось в ответ:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!
По-новому, будто впервые понимая смысл начертанных на пьедестале строк, Гамзатов читал:
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И принимал как завет, как высшее назначение поэта, как панацею от идеологического дурмана:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Однажды он увидел, как памятник начали заколачивать досками, как будто готовясь к новой войне. Не хватало лишь аэростата над головой. Оказалось, что это не война, а ссылка.
Пушкину было не впервой. После ссылки за написание «возмутительных» стихов он создал «Кавказского пленника» и этим, писал Евгений Вейденбаум, «ввёл в моду взгляд на горцев, как на “гордых сынов Кавказа”, воюющих не ради хищничества, а в защиту своей “дикой вольности”, или из рыцарской любви к бранным забавам». Во время путешествия Пушкин живо интересовался нравами и бытом народов Кавказа, размышлял о средствах, могущих поселить в крае мир и процветание, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».
В 1949 году, на празднование 150-летнего юбилея Пушкина, приезжал отец Расула — Гамзат Цадаса. В память о том событии он написал стихи:
России светоч и отрада!
Сыны Кавказа тем горды,
Что им дано вкушать плоды
Густого пушкинского сада.
В том же стихотворении «Пушкину» Цадаса пишет и о своём сокровенном желании, хотя и не называет Расула по имени:
Родится сын в семействе горца —
Родителям мы говорим:
«Да будет Пушкиным вторым!
Да блещет даром стихотворца!»
[43]
Но теперь, когда отшумели торжества, вольнодумного поэта ссылали в монастырь. Вернее — собирались переместить на другую сторону улицы Горького, где раньше стоял Страстной монастырь. После революции в нём размещался музей Союза безбожников СССР. В 1937 году монастырь, как и многие его прихожане, был «репрессирован». Его снесли тоже к своего рода юбилею — столетию смерти Пушкина, бронзовый памятник которого будто наблюдал с Тверского бульвара, как рушат историю и веру.
Памятник перевезли в ночь на 4 сентября, по рельсам. На новом месте его вновь повернули к улице Горького, которая до того была Тверской. Памятник установили примерно там, где прежде высилась колокольня Страстного монастыря. Пушкин и сам был как вечевой колокол:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Эта странное перемещение из одной эпохи в другую вызвало много суждений и мистических толкований. Студенты Литинститута сочиняли прощальные оды и смешные
эпиграммы. Расул Гамзатов не знал, что и думать. Оказываясь на Тверском бульваре, он привычно оборачивался к памятнику, которого уже не было на прежнем месте. Теперь он стоял дальше от Литинститута, зато уже не спиной, а лицом к молодым поэтам.
В отличие от Лермонтова, Толстого и многих других писателей, в Дагестане Пушкин не был. Но Гамзатов убеждал друзей, что Пушкин в Дагестане всегда был и есть. Гости Расула и сами могли в этом убедиться. Ясный профиль поэта был сотворён самой природой, он и теперь отчётливо виден на краю гор, спускающихся к морю, по пути из Махачкалы в Дербент. Увидев это чудо природы, Николай Доризо написал:
Есть такая скала в Дагестане,
Что один поворот головы —
И в далёком её очертанье
Профиль Пушкина видите вы.
Не мираж, чья мгновенна причуда,
Не усталого зренья обман,
Эту явь, это зримое чудо,
Знает с гордостью весь Дагестан.
Наконец новая книга Гамзатова вышла. В ней было опубликовано и стихотворение, посвящённое Сталину. Но не это произведение обратило на себя внимание серьёзных литературоведов.
«Поэма “Родина горца” ещё прямолинейна в построении, — писал позже Владимир Огнёв. — Конкретные, реалистические подробности, связанные с картинами детства героя, сменяются пафосным монологом о времени, как бы быстро перелистанным и взятым в ином масштабе, в ином, более ускоренном темпе, нежели первые две-три главки. Эпические задатки, заложенные в начале поэмы, не получают естественного образного развития в дальнейшем движении сюжета... Но уже в “Родине горца” видна смелая попытка осмыслить личную биографию как биографию поколения. ...Если бы Расул Гамзатов, славя союз с Россией, был простым одописцем, отдавал дань “актуальной теме”, он никогда не стал бы и для Аварии народным поэтом. Диалектика заключается в том, что он органически выразил в своём творчестве сущность новых взаимоотношений между горскими народами и народом русским».
Расул Гамзатов возвращался домой ещё молодым, но уже небезызвестным поэтом. Москва открыла ему другой мир, большую литературу, манящие горизонты. Расул возвращался, обретя хороших друзей и талантливых переводчиков, ставших его надёжными спутниками на пути к вершинам поэзии.
Сокровища национальной поэзии и великая русская литература питали родник творчества Расула Гамзатова, который постепенно превращался в реку, устремлённую к океану духовной культуры человечества.
Теперь он удивлялся своей прежней наивности, когда вместо поступления в Литинститут собирался поглазеть на Москву и вернуться обратно. Гамзатов уже иначе смотрел на подарок судьбы:
Мне дорог был Кавказа быт суровый,
Родной аул в теснине древних гор,
Но, как орлёнок из гнезда родного,
Я всей душою рвался на простор
[44].
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Расул Гамзатов предвкушал, как радостно его встретят, как будет гордиться им отец, как он будет читать своим почитателям стихи из книг, изданных в самой Москве! Особенно его волновала предстоящая встреча с невестой, с чудесной Патимат, образ которой вдохновлял его в далёкой Москве, согревал в зимние стужи.
Но отец встретил сына сдержанно. Не потому, что так предписывали строгие горские обычаи, Гамзат Цадаса пребывал в мрачном расположении духа.
Причина отцовской печали скоро выяснилась. Пока Расул стяжал в Москве первые лавры, в Дагестане происходили удручающие события. Вновь разразилась борьба с религией, начались репрессии и аресты духовенства. Как будто отпала необходимость в уважительном отношении к вере, которая помогала победить в войне с фашизмом. Народ тогда счёл, что всё стало на свои места, и потянулся в храмы. Но кому-то это показалось угрозой, недопустимым отклонением от идейной линии. И недавно стихшая борьба с космополитизмом перешла в борьбу с «опиумом для народа», как называл религию ещё Ленин.
Ошеломлённому Расулу казалось, что он попал в какое-то мрачное прошлое, но реальность была более чем ощутимой. Это казалось вызовом здравому смыслу, сплотившемуся в беде народу и даже государственным интересам. Но за всей этой кампанией стояли вовсе не потребности государства, а амбиции региональных «вождей».
Происходившее вокруг наводило на тягостные мысли, начинало казаться, что там, «наверху», одна рука не знает, что делает другая. Сталин для многих оставался великим и непогрешимым, не ведающим, что творят его наместники. Ведь была Конституция СССР, которую изучали и обсуждали в Литинституте. А в ней говорилось, что «свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». И что гражданам предоставлены свобода слова, печати, собраний и митингов... Но на митингах клеймили лишь новых «врагов народа». Очень скоро травля докатилась и до имама Шамиля — символа национального самосознания горцев. В народе эту политическую вакханалию прозвали «багировщиной» по фамилии начавшего её первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР. Первой его жертвой пал академик Гейдар Гусейнов, написавший книгу «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века». Вернее, он предпочёл покончить с собой вместо унизительного отказа от написанной им правде о Шамиле и той эпохе. Ему ставили в вину, что «книга написана с неправильных политических и теоретических позиций и представляет в извращённом виде характер движения мюридизма и Шамиля, изображая их в качестве прогрессивного национально-освободительного и демократического явления. Такая оценка Шамиля и мюридизма является антимарксистской, противоречит историческим фактам и в корне извращает действительный смысл этого движения, которое было реакционным, националистическим и находилось на службе английского капитализма и турецкого султана».
В опубликованной в журнале «Вопросы истории» статье были обвинения и против дагестанского историка Расула Магомедова, который тоже «неправильно» понимал роль Шамиля в истории, не имеющую «ничего общего с марксизмом». Историка Семена Кузьмича Бушуева, написавшего книгу о Шамиле, обвиняли в том, что он приписывал борьбе горцев демократический, справедливый характер. Милицу Васильевну Нечкину, под редакцией которой вышел учебник по истории СССР, обвиняли в том, что в учебнике превозносятся выдающиеся качества Шамиля, он изображается как защитник народных масс.
Это выглядело мрачным фарсом. Ещё недавно повсюду цитировали того же Карла Маркса, который высоко отзывался о Шамиле. И будто не было выставки 1941 года в Историческом музее на Красной площади, которая как раз и показывала Шамиля вождём масс в национально-освободительном движении. Будто не было народного энтузиазма в годы войны, когда люди отдавали свои сбережения, отдавали последнее на строительство танковой колонны «Шамиль». Тогда их благодарил сам главнокомандующий, а теперь они не были уверены, что их за это не арестуют, не сошлют, не расстреляют.
Объяснить всё это было невозможно, оставалось лишь догадываться о тайных движущих пружинах той отвратительной затеи.
Но особенно Расул Гамзатов беспокоился за отца, который ещё недавно вдохновлял воинов своей поэмой «Шамиль». И начиналась она, по наступившим временам, более чем крамольно:
В храбреца, чей подвиг смелый
Карлом Марксом оценён,
С бранным визгом мечет стрелы
Тот, кто разума лишён...
Трагические судьбы многих известных людей свидетельствовали, что ни ордена, которыми был награждён народный поэт, ни недавнее избрание его в Верховный Совет СССР не могли стать «охранной грамотой». Уже и на руководство Дагестана оказывалось чудовищное давление с требованием признать Шамиля едва ли не врагом советской власти.
ПОЭТ И ОВЦЫ
Осенью Расула Гамзатова, как молодого и активного члена Союза писателей, вызвали в обком партии. Он был готов ко всему — от критики стихов за отрыв от масс до обвинений в преклонении пред Западом за стихи Роберта Бёрнса, которые он переводил и с упоением читал на вечерах. Такого рода «письма наверх» с заголовком «Довожу до вашего сведения» обычно зачитывали, загнув край листа, чтобы скрыть подпись бдительного товарища. Но на этот раз Гамзатова ждало странное поручение.
«Неожиданно выпал снег, который покрыл землю чуть ли не на метр, — писал Расул Гамзатов. — Овцы и ягнята остались без корма. Они начали гибнуть. Меня вызвали в обком партии и говорят:
— Поезжай, Расул, на кутаны, нужно спасать овец.
— Какую же помощь я им окажу?
— На месте увидишь. Придумаешь. Надо найти пути для их спасения.
Дороги к овцам я не знал как следует и в хорошую погоду, каково же мне было искать её в пургу! Но партийная дисциплина превыше всего, и я брёл сквозь снег и ветер. Наконец я набрёл на одну кошару. Меня встретили печальные чабаны. Слёзы на их щеках и усах превратились в ледяные мутные бусинки. Окровавленными мордами овцы пытались сквозь обледенелый снег добраться до травы. Но прогрызть ледяную кору они не могли и погибали. Собаки спрятались от ветра в укромные места, забыв о волках и ворах. Одним словом, бедствие и беспомощность — вот что я нашёл здесь. Увидев меня, чабаны горько засмеялись:
— Чего нам не хватает сейчас, так это стихов и песен. Ведь ты пришёл, чтобы читать нам стихи или спеть нам песню, о сын Гамзата из аула Цада? Ты лучше изобрази нам плач, а мы тебе будем подвывать.
Три дня я просидел в шалаше чабанов, а потом, увидев, что никакой пользы от меня нет и не может быть, показал чабанам свою спину. Путь мой лежал в Махачкалу.
— Ну как, спас овец? — спросили меня в обкоме.
— Трёх баранов я спас.
— Каким образом, расскажи?
— Очень просто, чабаны зарезали трёх баранов, и мы их съели. Считаю, что этих баранов я спас.
— Ладно, — рассердились в обкоме, — иди, занимайся своими стихами, а спасать овец мы будем, как видно, без тебя. А чтобы лучше писались стихи, объявляем тебе строгий выговор».
ПРЕМИЯ НА ПРОЩАНЬЕ
Тёмная волна истории миновала народного поэта. Но не прошла бесследно. «Гамзат сутулится, — вспоминала Наталья Капиева. — Ему уже за семьдесят. Годы и горе сделали своё. Лицо его в крупных складках морщин. Морщины пересекли лоб, избороздили щёки. Они как трещины на камне — следы суровых морозов и грозовых бурь».
Но Гамзат Цадаса был ещё бодр, много писал, переводил и часто встречался с избирателями. Встречи превращались в творческие вечера. Иногда с ним ездил Расул. Выступить ему удавалось не всегда, зато он видел, что такое подлинная народная любовь.
«Хлопали неистово, долго, — писала Наталья Капиева. — Кричали из зала названия стихов. Просили читать ещё. И Цадаса читал. Читал совсем просто, будто с домашними беседовал; без привычных у поэтов, заранее обдуманных модуляций, без подчёркивания голосом особенно удавшихся строк; может быть, именно потому читал очень хорошо!»
Встретиться с ним хотели все, когда не удавалось пригласить к себе поэта, горцы просили встречи с депутатом. И Цадаса приезжал, народ был его вдохновением.
Однажды, как кандидат в депутаты Верховного Совета, Цадаса поехал в высокогорный аул на встречу с избирателями. Он почти добрался до места, когда местные власти постарались оказать ему особое уважение, предложив вместо машины молодого скакуна. «Семидесятидвухлетний старец не захотел обидеть хозяев и, вспомнив былые годы, молодецки вскочил в седло, — вспоминал Расул Гамзатов. — Окружённый молодыми людьми на конях, седобородый поэт походил на имама в окружении наибов. Молодые люди ударили своих лошадей плетьми и поскакали по разным дорогам в разные аулы, чтобы сообщить о скором прибытии Гамзата. Поддавшись общему азарту, конь под Гамзатом тоже понёс. Старик не сумел его удержать, и началась бешеная скачка. Гамзата растрясло, укачало в седле, он чувствовал себя всё хуже и, наконец, совсем вылетел из седла. В Махачкалу он вернулся больным, и эта болезнь не оставляла уж его до самой смерти.
— Так получается и со стихами, — говорил отец, кашляя. — Поэт должен ездить на своём привычном коне, а не садиться на чужого, неизвестного скакуна. Чужой скакун как раз и выбросит из седла».
Он был любим народом и властью. В 1951 году Гамзату Цадасе была присуждена Сталинская премия, самая главная и почётная, потому что средства на неё шли из гонораров самого вождя за издание его трудов.
Цадаса получал премию с Самуилом Маршаком, Ольгой Берггольц, Степаном Щипачёвым, Григолом Абашидзе. Теперь эту премию называют Государственной, хотя на медали той премии профиль Сталина.
Когда Цадаса вернулся, в Дагестане был праздник. Его машину встречали всадники с флагами, под колёса бросали ковры.
Он продолжал творить, но силы его были на исходе. Он надеялся, что успеет порадоваться свадьбе Расула и Патимат, играть которую уже подходило время. Но случилось непоправимое.
11 июня 1951 года Гамзат Цадаса скончался.
«Он и умер в своём кабинете, около своих книг, перьев, карандашей, исписанной бумаги и бумаги чистой, которую он не успел исписать, — писал Расул Гамзатов. — Ну что ж, её испишут другие. Дагестан учится, Дагестан читает, Дагестан пишет.
Мой отец... Из тех, кто его знал, каждый, наверно, по-своему представлял себе моего отца. Конечно, он и пахал землю, и косил траву, и грузил сено на арбу, и кормил коня, и ездил на нём верхом. Но я его вижу только с книгой в руке. Он держал книгу всегда так, точно это птица, готовая выпорхнуть из рук».
Прощание с народным поэтом проходило в здании Верховного Совета Дагестанской АССР. На фотографиях того горестного события Расул Гамзатов выглядит растерянным, с невыразимым отчаянием во влажных глазах.
Гамзата Цадасу похоронили в Махачкале, выбрав для этого самое почётное место — у площади Ленина, в начале главной улицы города, перед домом, в котором он жил последние годы.
15 июня правление Союза писателей обсудило меры по увековечиванию памяти народного поэта. Было решено обратиться в Обком ВКП(б) и Совет министров Дагестана с просьбой о присвоении имени Гамзата Цадаса Институту истории, языка и литературы и Женскому учительскому институту. Предлагалось также издать полное собрание сочинений Гамзата Цадаса на аварском и русском языках, «а на других языках — избранного его однотомника, удостоенного Сталинской премии». Кроме того — учредить пять стипендий имени Цадасы для студентов литературных факультетов. И две стипендии для студентов Аварского педучилища. В доме Гамзата Цадасы в ауле Цада предполагалось организовать музей, на доме, где он жил в Махачкале, установить мемориальную доску, а к 75-летию поэта установить памятник на его могиле в Махачкале. Правление также ходатайствовало о выдаче жене Гамзата Цадасы пожизненной пенсии в размере 400 рублей в месяц и единовременного пособия его семье в сумме 25 тысяч рублей.
Просьбы эти были удовлетворены. Памятник Гамзату Цадасе создали скульптор Хасбулат Аскар-Сарыджа и архитектор Албури Алхазов, он установлен на высоком постаменте.
Кто-то останавливается, чтобы прочитать молитву у могилы Гамзата, кто-то думает, что это просто памятник. Ходили слухи, что Гамзата Цадасу перезахоронили в другом месте, но Расул Гамзатов это отрицал.
Сам Гамзат Цадаса написал незадолго до свой кончины:
Семья, родня, все те, с кем прожит
Был весь мой век, — ах, Боже мой! —
Зароют, камешек положат —
Цадаса остаётся поистине народным поэтом, к творчеству которого уже несколько поколений дагестанцев обращаются за мудростью, советом, добрым и весёлым словом.
И портреты точны, и скульптуры похожи,
Но не в них, неживых, я тебя узнаю.
В старике чабане, в каждом горце прохожем
Вижу взор твой и вижу улыбку твою.
В каждом горце, я знаю, есть нечто такое,
Что всегда мне напомнит отца моего.
Ты, отец, был народом, и он был тобою,
Ты причастен к бессмертью его
[46].
ПАТИМАТ
Патимат — невеста Расула Гамзатова училась тогда в Махачкале, в Женском учительском институте.
Незадолго до своей кончины, чувствуя, что жить ему оставалось недолго, Гамзат Цадаса убедил Расула, что даже поэту с московским образованием не дозволено заставлять невесту долго ждать, девушка или её родители могли и передумать. Что все дела переделать невозможно, даже самые срочные. Создание семьи — куда важнее.
В тот период к Гамзату Цадасе пришёл за советом историк Расул Магомедов, которого напрямую коснулись багировские гонения за объективную оценку Кавказской войны и личности имама Шамиля. Он был снят с работы в Дагестанском филиале Академии наук СССР и лишён звания доктора исторических наук. Репрессии могли обернуться и арестом, и конфискацией имущества. У него был небольшой дом, который он решил заблаговременно продать. Не каждый бы решился помочь опальному историку, но Гамзат Цадаса это сделал. Тем более что сын Расул скоро должен был жениться, и молодым нужно было отдельное жильё. Сталинская премия ушла на покупку дома.
День свадьбы был назначен. А до той поры жених старался не обделять невесту вниманием.
Я ходить научился, чтоб к тебе приходить.
Говорить научился, чтоб с тобой говорить.
Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить,
Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбить
[47].
Дочь поэта Патимат Гамзатова рассказывала в беседе с Асей Омаровой и Теолиной Аршба:
«Когда мама училась в Пединституте, они с девочками снимали комнату (её родители жили тогда в Буйнакске). Папа иногда приходил к ним, что-то рассказывал, болтал с ними, но время от времени он им надоедал. Иногда они не хотели его впускать и закрывались. Папа очень быстро нашёл выход. У них была соседка, старая аварская бабушка, жившая в соседней комнате коммунальной квартиры, он ужасно быстро с ней подружился, читал ей стихи, она слушала их и плакала, ей стихи очень нравились. И стоило ему постучать, как она бежала открывать дверь. А уже непосредственно, когда он стучал в дверь в комнату к маме и её подружкам, им приходилось открывать, и он всячески их развлекал».
Если б каждая дума моя о тебе
Стать могла стихотворной строкой,
Я уверен, что книги большой о любви
Ты второй не сыскала б такой.
Но пока эта книга мала и тонка,
Ведь над ней я не часто сижу,
Потому что мне жалко стихам отдавать
Те часы, что с тобой провожу
[48].
Свадьбу сыграли в декабре. Молодожёны поселились в своём доме на улице Горького. Началась другая — семейная жизнь. В этом доме семья проживёт почти 35 лет.
Вдохновлённый Гамзатов старался писать больше и лучше. Стихи получались разные, и истории с его стихами тоже происходили разные.
«Однажды я принёс в редакцию лирическое стихотворение о своей любимой, — вспоминал Гамзатов. — Редактор отложил это стихотворение в сторону и сказал, что напечатать его не может.
— Почему?
— Народ это читать не будет. Зачем народу стихи о твоей жене?
Тотчас я сочинил четверостишие:
В журнале о тебе стихов не приняли опять,
Сказал редактор, что народ не станет их читать.
Но, между прочим, тех стихов не возвратили мне,
Сказал редактор, что возьмёт их почитать жене»
[49].
ОПЕЧАТКИ ЖИЗНИ
В жизни, как и в литературе, случаются опечатки.
Когда стала очевидной реальная опасность для всего дагестанского народа, руководству республики пришлось выбрать меньшее из двух зол, формально согласившись с «руководящим мнением» о роли имама Шамиля в истории. Все понимали, что «багировщине» когда-то придёт конец, как оно потом и случилось. Багирова осудили и расстреляли, а Шамиля в очередной раз реабилитировали. Сняли обвинения и с историка Расула Магомедова, но докторскую диссертацию ему пришлось защищать ещё раз.
Однако тогда, видя, как творится историческая несправедливость, Гамзат Цадаса не находил себе места, угасал на глазах. Но он был депутатом и старался сделать для народа как можно больше полезного, пока хватало сил.
Расул Гамзатов вспоминал: «Выходило, что двадцать пять лет Шамиль воевал не за свободу народов Дагестана, но ради обмана этих народов. Каково же было моему отцу с его героической поэмой! Ему намекнули, что нехорошо в наше солнечное время копаться в древней истории и было бы лучше, если бы он написал новую поэму о чём-нибудь другом более современном и более близком для читателя.
В те дни к отцу часто приходил друг нашего дома весёлый поэт Абуталиб. Почти всегда он приходил со своей неразлучной зурной либо со свирелью.
— Гамзат, — говорил Абуталиб, устраиваясь поудобнее и налаживая зурну. — Не расстраивайся так сильно. Когда я был мальчиком и не писал стихов, я всегда играл на этой зурне. Не один год она кормила меня и мою семью. Любую мелодию, какую только попросят, умела играть она. Давай вспомним молодость, оставим на время наше стихотворство и займёмся музыкой. Я буду играть на зурне, а ты, Гамзат, на барабане. Оно и легче.
— Что ты, Абуталиб. Если бы мы стали барабанщиками и зурначами, было бы полбеды. Всё-таки зурнач играет, а под его музыку танцует танцор либо канатоходец. Зурнач стоит на земле, а канатоходец танцует на верёвке. Ну, скажи, кому из них хуже, Абуталиб? Канатоходцы — это мы с тобой. Из нас хотят сделать канатоходцев и танцоров.
Весёлый Абуталиб погрустнел, и вместе с ним погрустнела его зурна. Долго играл он молча, потом поднял голову и сказал:
— Трудное дело — писать стихи».
Партийная критика была куда опаснее литературной. Возможно, в потаённом желании отвести от отца надвигавшуюся беду Расул Гамзатов написал стихотворение «Имам». На русский стихотворение было переведено не сразу. Видимо потому, что Цадаса был не рад, что его сын написал строки, направленные против имама Шамиля. Что тогда произошло на самом деле, можно только предполагать. Стихотворение было очевидной калькой с насаждавшихся установок, извращавших историю. Но бросается в глаза другое — внутреннее сопротивление автора, до такой степени, что возникает ощущение, будто стихотворение написано не им. Или во всём виновата поспешность? Или молодой поэт, видевший последствия войны, разруху, голод, потерю близких, искренне полагал, что та далёкая Кавказская война была напрасной? Истоков её он мог не знать, но и повторения не желал.
Но сыну ли знатока ислама, признанного учёного-арабиста, было не знать, что у Шамиля не было семи жён, что Коран ему дали вовсе не англичане и не турки красили хной его бороду, как об этом говорится в стихотворении? В тексте ещё много несуразиц, которые наводят на размышления о том, что с этим стихотворением что-то не так.
Об особенностях поэзии Расула Гамзатова писал Владимир Огнёв: «Сила лирики Расула Гамзатова в удивительном “вживании” в образ. А секрет этого вживания — в неразрывной связи автора и героя. Поэт отлично знает своих героев, их жесты, интонации, манеру вести речь, ход их мыслей».
Здесь этого нет. Зато очевидно, что вынужденность, неорганичность и нехарактерность текста для автора передались и переводчику. Яков Козловский был уже тогда мастеровит, но отчего-то хромали стихотворный размер и композиция. Даже рифмы были не совсем рифмами: врозь — колёс, кого — плутовство, родство — моего, настало — Дагестана. Переводчику, видимо, тоже пришлось нелегко, строки корёжило, перо не слушалось, будто спотыкаясь, не в силах облечь в поэзию слова, похожие на партийный доклад.
Впрочем, это лишь предположения. Сам же Гамзатов на слухи о том, что он написал эти стихи по какому-то приказу, что его вынудили это сделать, отвечал: «Неправда! Меня никто не насиловал, не принуждал. Я сам, добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнёс их в редакцию».
Это стихотворение на всю жизнь стало для Расула Гамзатова незаживающей раной. Позже, раскаиваясь, он напишет горькие строки:
И отец мой до смерти своей незадолго
О герое поэму сложил...
Но, увы,
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,
Стал безвинною жертвою тёмной молвы...
Может, если б не это внезапное горе,
Жил бы дольше отец...
Провинился и я:
Я поверил всему, и в порочащем хоре
Прозвучала поспешная песня моя
[50].
Однажды Гамзатов признался, что был таким большевиком, возле которого Михаила Суслова (многие годы его называли идеологом партии. —
Ш. К.) можно было считать беспартийным. Тогда для Гамзатова всё, что исходило от партийного руководства, было непререкаемой истиной. «Меня в народе не проклинали, но осуждали — старики, читатели, — вспоминал Расул Гамзатов. — Я тогда впервые задумался: как много народа хранит о нём память. Ведь в ранней молодости я думал, что Шамиль — это просто легенда, но позже понял, что он очень много значит для Дагестана».
И всё же можно усомниться в добровольности той ошибки Гамзатова. Во всяком случае, он был в этом отнюдь не одинок, в чём легко убедиться, заглянув в архивные документы Союза писателей. Из них следует, что после злополучной статьи в газете «Правда» «Об идеологических извращениях в литературе» и последовавшего затем постановления обкома ВКП(б) от 31 июля 1951 года «О мерах ликвидации идеологических извращений в дагестанской литературе» чудесным образом «прозрели» многие дагестанские писатели.
Расул Гамзатов не называл их имён, умолчим и мы. Он говорил о своих ошибках, корил себя и время, но о коллегах не сказал ни слова. Между тем, когда пишут об этой больной теме, может сложиться впечатление, что ошибался один лишь Гамзатов. Документы свидетельствуют о другом.
Когда постановление бюро обкома обсуждали в Союзе писателей, многие заявляли, что признают свои ошибки, осуждали свои произведения о Шамиле и даже напоминали другим, что те недостаточно раскаялись. Вот лишь несколько цитат:
— Я о своих ошибках уже год тому назад на собрании городского партийного актива и на секциях говорил. Я полностью ещё раз признаю свою грубую ошибку, выразившуюся в восхвалении в некоторых моих стихах Шамиля и его движения.
— В этих стихах я глубоко ошибочно Шамиля считал героем и сравнивал его с героями нашей родины.
— Я увлёкся историей, изучением прошлого и в результате поневоле отвлёкся от современности. Я приложу все свои усилия исправить ошибки.
— Наша задача развернуть большевистскую нелицепримирительскую критику, создать такую атмосферу нетерпимости ко всяким извращениям на идеологическом фронте.
— Я целиком и полностью признаю свои ошибки.
— Писатели... в своих произведениях допустили буржуазно-националистическое толкование мюридизма и Шамиля.
— С неправильных позиций пытается стать в позу критики... сам без конца воспевавший Шамиля и барахтавшийся в патриархально-феодальной экзотике.
Можно лишь представить, каким было давление на уважаемых людей, известных писателей, если они вынуждены были «приветствовать» изъятие из печати своих произведений, запрещение своих пьес и заниматься столь неубедительной самокритикой, то есть «наступать на горло собственной песне».
Один из писателей, похоже, искренне не понимал, что происходит. С одной стороны, его хвалили за то, что он написал пьесу, основной идеей которой было «под любым предлогом поставить под сомнение движение Шамиля. Эта задача выполнена». С другой стороны, «эта пьеса не была одобрена Комитетом искусств в Москве. Дагестанские же историки отзывались о пьесе, как о произведении, где, по их мнению, я пытался опорочить движение Шамиля».
Более всех недоумевал почтенный Абуталиб Гафуров: «Однако мне не понятно, на каком основании обо мне пишут, как о певце движения мюридизма и Шамиля, тогда как я никогда не касался в своём творчестве таких тем». Исходя из логики этого политического абсурда, ему следовало раскаяться в том, что ему не в чем раскаиваться.
Однако в воздухе витали другие, приводящие в замешательство вопросы, ни задавать, ни отвечать на которые писателей не просили:
— Почему никто не говорит, что Сталин, выходит, сам ошибался, когда благодарил дагестанцев за сбор денег на строительство танковой колонны «Шамиль»?
— Почему в «Кратком курсе истории СССР», одобренном самим Сталиным, о Шамиле говорилось как о вожде национально-освободительного движения, как об умелом правителе и талантливом полководце, четверть века героически боровшемся за свободу?
— Почему никто не вспоминал поэму Гамзата Цадасы, лауреата Сталинской премии?
— И, главное, не стыдно ли партийным функционерам участвовать в этой травле, ведь они уйдут, исчезнут, а Шамиль останется героем своего народа?
Но такие были времена, и писателям ничего не оставалось, как постановить, что следует: «Обсудить... Улучшить... Развернуть смелую принципиальную большевистскую критику и самокритику... Добиться охвата... Обратить внимание... Рекомендовать...»
Свой тяжкий груз Расул Гамзатов нёс сам, он никого не упрекнул, как упрекали его многие годы. И часто повторял выражение Абуталиба: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки».
Тема Шамиля стала для Гамзатова особенной, он не раз возвращался к ней в своём творчестве и много сделал для восстановления исторической справедливости. Он много написал о Шамиле, отдавая должное героизму вождя свободных горцев, его таланту государственного деятеля, его политической мудрости. В поэме «Суд идёт» поэт обвинял уже саму историю за её многоликую лживость, жестокость и бесчеловечность.
«Не знаю, простили ли меня за те старые мои стихи дагестанцы, не знаю, простила ли за них тень Шамиля, но сам себе я их никогда не прощу, — писал позже Расул Гамзатов в «Моем Дагестане». — Мой отец говорил мне: “Не трогай Шамиля. Если тронешь, до самой смерти не будет тебе покоя”. Прав оказался отец».
ИЗБРАНИЕ
27 октября 1951 года состоялось заседание правления Союза советских писателей Дагестана, на котором заведующая отделом литературы и искусства обкома ВКП(б) Ф. Хизриева предложила избрать Расула Гамзатова председателем правления. Она же сообщила об отзыве прежнего председателя Г. Залова на работу в аппарат обкома ВКП(б).
По обыкновению тех времён избрание было лишь подтверждением постановления обкома ВКП(б), принятого ещё 19 октября:
«Постановление
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Дагестанский областной комитет
Строго секретно
Протокол № 152 параграф 54 от 19 октября 1951 г.
О тов. Гамзатове Р. Г.
Утвердить тов. Гамзатова Расула Гамзатовича, члена ВКП(б) с 1944 года, председателем правления Союза советских писателей Дагестанской АССР.
Секретарь обкома ВКП(б)
А. Даниялов».
Учитывая, что назначение Расула Гамзатова было утверждено в партийных верхах, смена власти прошла без неожиданностей. Да и сами писатели связывали с молодым и энергичным председателем большие надежды. При оформлении на новую должность в его личном листке по учёту кадров было, среди прочего, указано:
«Соц. происхождение — крестьяне.
Основное занятие родителей до Октябрьской революции — крестьяне-бедняки.
Основное занятие родителей после Октябрьской революции — служащие.
Основная профессия — литератор.
Участвовал ли в антипартийных группировках — не участвовал».
В документах содержатся и сведения о предыдущих местах работы Расула Гамзатова. Их часто путают или передают неверно, но эти, похоже, самые точные:
«1930— 1937 — учёба в Аранинской школе.
1937—1939 — учёба в Аварском педучилище в г. Буйнакске.
1939, ноябрь — 1940, июнь — учитель Аранинской школы.
1941, январь — 1941, июнь — заведующий литературной частью и помощник режиссёра Аварского Государственного театра.
1941, июнь — 1942, сентябрь — корреспондент, затем заведующий сельхозотделом аварской газеты “Большевик гор”.
1942, октябрь — 1945, сентябрь — уполномоченный Главлита ДАССР и редактор аварских передач Дагестанского радиокомитета.
1945, сентябрь — 1950, июль — учёба в Литературном институте при Союзе советских писателей СССР».
1 ноября председатель правления Союза писателей Расул Гамзатов приступил к работе, которая продлится целых 52 года.
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
Расул Гамзатов с трудом вживался в новую роль. Его одолевали сомнения, правильно ли быть председателем Союза писателей, в котором, похоже, самым молодым писателем был он сам? И не предаёт ли он поэзию, деля время между ней и служебными обязанностями? Эта дилемма не давала ему покоя, а работы становилось больше и больше. Неустроенность членов союза, амбиции графоманов, требования наград и премий, разговоры о близкой дружбе с его покойным отцом — всё требовало действий, помощи, денег, льгот. Времени на творчество катастрофически не хватало.
Поначалу ему казалось, что опыт Литературного института, московский культурный уровень, понимание того, куда движется поэтический процесс, поможет ему двинуть вперёд дагестанскую литературу. Но оказалось, что подсказать, посоветовать что-то полезное можно лишь начинающим писателям. Однако мало кто из них прислушивался к Гамзатову, их больше интересовало, как опубликоваться, желательно в Москве, если не сразу издать книгу, то, по крайней мере, напечататься в литературном журнале. О требовании Капиева насчёт зрелости без скидок на возраст они будто и не слышали. Написавшие пару неуклюжих строф уже мнили себя большими поэтами. А старшие — те и сами могли кое-чему научить своего председателя.
Кроме дел литературных или окололитературных, было много других обязанностей — совещания, собрания, заседания, митинги и отчёты. Не говоря уже о партийных указаниях, правильных вроде бы на бумаге, но до ломоты в зубах скучных и мучительных для поэта, увлечённого новыми замыслами, образами, да и радостями жизни, которые тоже требовали и времени, и сил.
Появились и недоброжелатели, умевшие плести изощрённые интриги, а слова его, произнесённые сгоряча или по присущей поэту наивности, сообщать «куда следует» с весьма опасными по тем временам толкованиями.
Гамзатов был предан поэзии, но жизнь брала своё. И всё же вопрос о том, на своём ли месте оказался Расул Гамзатов, не давал ему покоя. Гамзатов уже подумывал махнуть рукой на чиновничьи мучения, когда из Москвы пришла ошеломляющая новость.
Ему была присуждена Сталинская премия за книгу «Год моего рождения».
«Так нежданно-негаданно Сталинская премия словно свалилась на Расула Гамзатова, — вспоминал Яков Козловский. — Но сказать, что жребий благоволил Гамзатову, было бы опрометчиво. Нет, он сам себя создал как поэт и человек».
Это было тем более неожиданно, что годом раньше эту премию получил Гамзат Цадаса, его отец. Но оказалось, что две эти премии крепко связаны между собой. Позже, беседуя с Далгатом Ахмедхановым, лауреат рассказывал:
«Сталинскую премию, считаю, я получил незаслуженно и чисто случайно...
— То есть как?
— Да так. В 1949 году на премию были представлены мой отец, Гамзат Цадаса, и я. Конечно, я возражал, считая, это не по-дагестански, да и вообще не очень серьёзно. Фадеев, который был тогда председателем правления Союза писателей СССР и большим политиком, настоял на своём, считая, что Сталину это понравится: мол, отец и сын, старшее и молодое поколения едины. Потом Фадеев рассказал, что Сталин спросил, сколько лет отцу и сколько сыну. Ему ответили. Дадим премию отцу, решил Сталин, а сын ещё успеет. На следующий год меня никто на премию не выдвигал, но вдруг эта премия сама свалилась на меня, как гром среди ясного неба. С Фадеевым я был тогда очень дружен, и он рассказал, что Сталин в конце заседания, когда решался этот вопрос, неожиданно поинтересовался: а что — сын того дагестанского поэта написал что-либо стоящее за прошедший год? Нет, ответили ему, не написал. Наверное, обиделся на Советскую власть, заметил Сталин, дадим ему премию, чтобы не обижался. Так я и стал лауреатом».
Недруги присмирели. За работу в Союзе писателей пришлось браться, засучив рукава. Другого председателя теперь быть не могло.
К тому времени новые книги Расула Гамзатова начали выходить одна за другой, иногда почти одновременно в издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», в Гослитиздате и Детгизе. В Москве — больше, чем в Дагестане. Публикации в газетах и журналах счёту уже не поддавались, но гонорары приходили исправно. Его много публиковали, потому что его многие читали и ждали новых произведений Расула Гамзатова.
С особым вниманием читали его новые произведения собратья по перу. Большие писатели публиковали отзывы, которые помогали Гамзатову становиться всё более известным. В журнале «Смена» о Гамзатове написал знаменитый поэт Михаил Светлов. Песню «Гренада» на его стихи пела вся страна:
Но песню иную о дальней земле
Возил мой приятель с собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»
«Некоторые люди считают, — писал Светлов, — что расстроенность чувств — это и есть лирика. Дескать, он её любит, а она его нет — вершина конфликта в лирическом стихотворении. Наступающая осень символизирует старость — ах, как трогательно! Пейзаж, на фоне которого пасутся две-три коровки, — ох, какая наблюдательность!
Всё это, конечно, неверно. И это с неотразимой убедительностью доказывает очень хороший поэт Расул Гамзатов...
У Расула Гамзатова много здорового, свежего юмора... Юмор входит в стихи Гамзатова, как молибден входит в сталь. Для примера прочтём и разберём “Стихи о времени” в очень хорошем переводе Н. Гребнева. Они начинаются так:
Ты спешишь. На деревьях желтеет листва,
Хлещут ливни, мутнеют потоки.
И неделю смололи твои жернова:
Я неделю писал эти строки...
Прочтя книгу Расула Гамзатова, я обнаружил одно отличное качество поэта: в каждом его стихотворении пружинит мысль, ни одно из них не бездумно, ни одно из них не написано потому только, что у автора появилось желание рифмовать».
БЕЗ ВОЖДЯ
Когда казалось, что работа налаживается, когда Гамзатов научился выкраивать время для творчества, жизнь вновь переменилась.
Время будто замерло, история раскололась. Города заполонили скорбные толпы граждан с чёрными лентами на знамёнах, с портретами «вождя всех народов» в
траурном обрамлении. Радости не было заметно даже у тех, кто вождя не любил, кто пострадал при его власти. Над приспущенными флагами, над транспарантами и трибунами, митингами и демонстрациями витал тревожный вопрос: «Что теперь будет?» Ответа никто не знал.
Сталин умер. Вождя не стало, но осталась сталинская гвардия.
В Москву на похороны спешили со всей страны. «Отца народов» положили в Мавзолей рядом с «вождём мирового пролетариата» 9 марта, через четыре дня после кончины.
«Сталина видел только, когда стоял в составе дагестанской делегации у его гроба в Москве, — рассказывал Расул Гамзатов журналисту Далгату Ахмедханову. — Тогда толпа чуть нас не задавила. Фадеев попросил меня выступить на собрании в Доме актёра от Союза писателей. Я написал стихи: “Со слезами в глазах проснулась страна”. Но мне тогда и замечание сделали, почему, мол, со слезами, партия ведь жива, ЦК жив, так что...»
Печалился не только Гамзатов, всенародную скорбь облекали в стихи именитые поэты. Главный редактор журнала «Советский Союз» Николай Грибачев написал:
Если б нам несчастье переспорить,
В грудь его свои сердца вложить —
Десять тысяч лет он мог бы строить,
При потомках в коммунизме жить...
Трудно нам без Сталина на свете,
Но великий гений не угас —
Сталин вновь из вечного бессмертья
Учит нас и исправляет нас...
Не остался в стороне и Александр Твардовский:
Родная партия! Ряды свои сплотив,
Мы над Вождём склоняем наше знамя.
И говорим: «Великий Сталин — с нами!»
И говорим: «Великий Сталин — жив!»
Мрачная неопределённость тянулась ещё долго, пока в Кремле шла тайная борьба за пост руководителя страны. Но вестники грядущих перемен, перемен исторического масштаба, уже меняли жизнь страны.
В конце марта была объявлена амнистия, и больше миллиона выживших в лагерях и ссылках были освобождены. Затем были снижены цены и закрыто «дело врачей-отравителей», которых ещё недавно обвиняли в заговоре и убийствах руководителей государства.
26 июня — очередное потрясение — арест министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии. За ним последовали его приближённые и много других государственных деятелей. Дело кончилось расстрелом, в том числе и Мир Джафара Багирова, которому очень не нравился имам Шамиль.
Едва оправившись от всех этих событий, страна вспыхнула ликованием по поводу испытания советской водородной бомбы. Тогда все были уверены, что холодная война стране больше не страшна. И на этой радостной волне население узнало имя нового вождя. Первым секретарём ЦК КПСС был избран Никита Хрущёв.
Уинстон Черчилль, начавший холодную войну, напомнил о себе вновь. Но это больше касалось писателей, которые с удивлением, а многие с негодованием, узнали, что премьер-министру Великобритании присуждена Нобелевская премия по литературе «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».



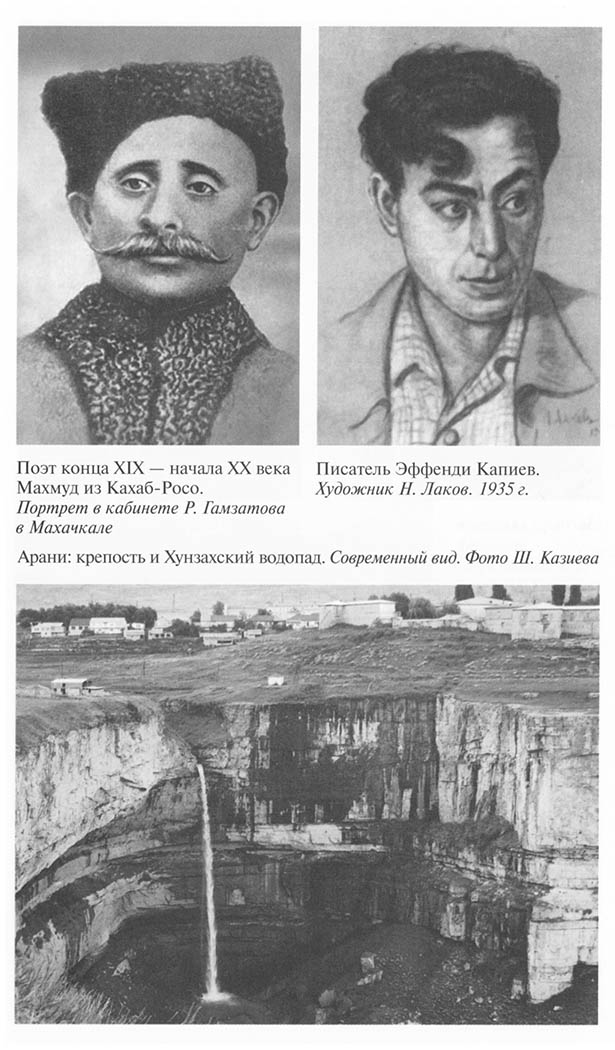


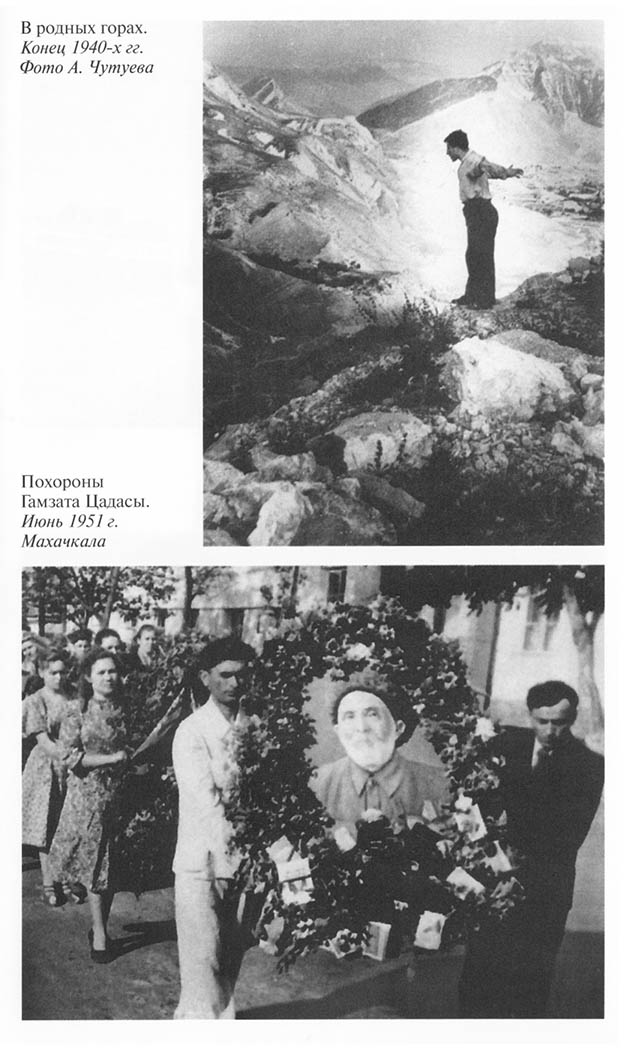






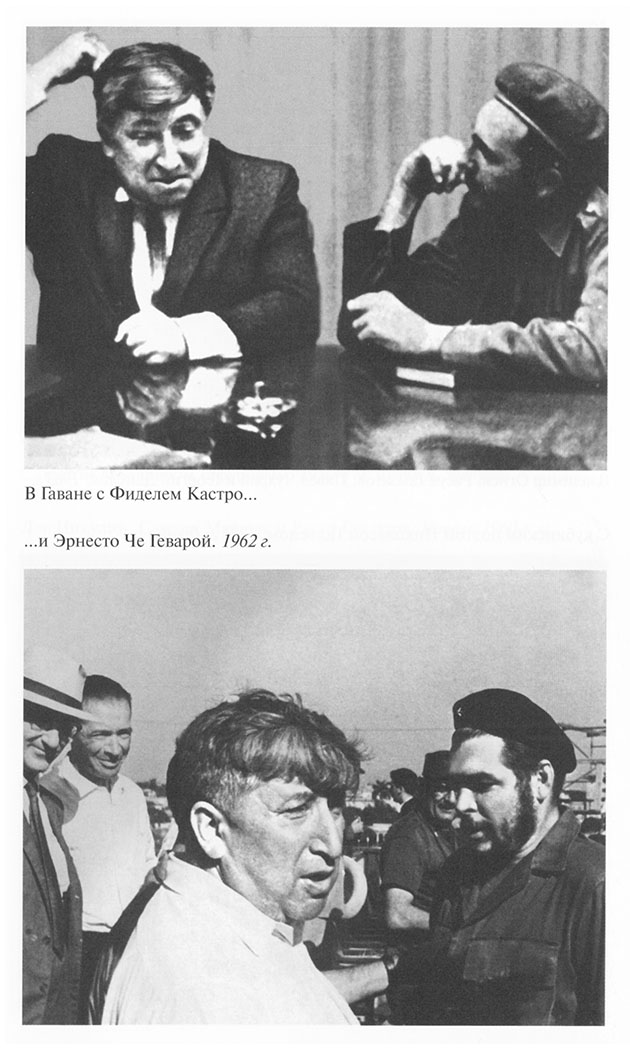
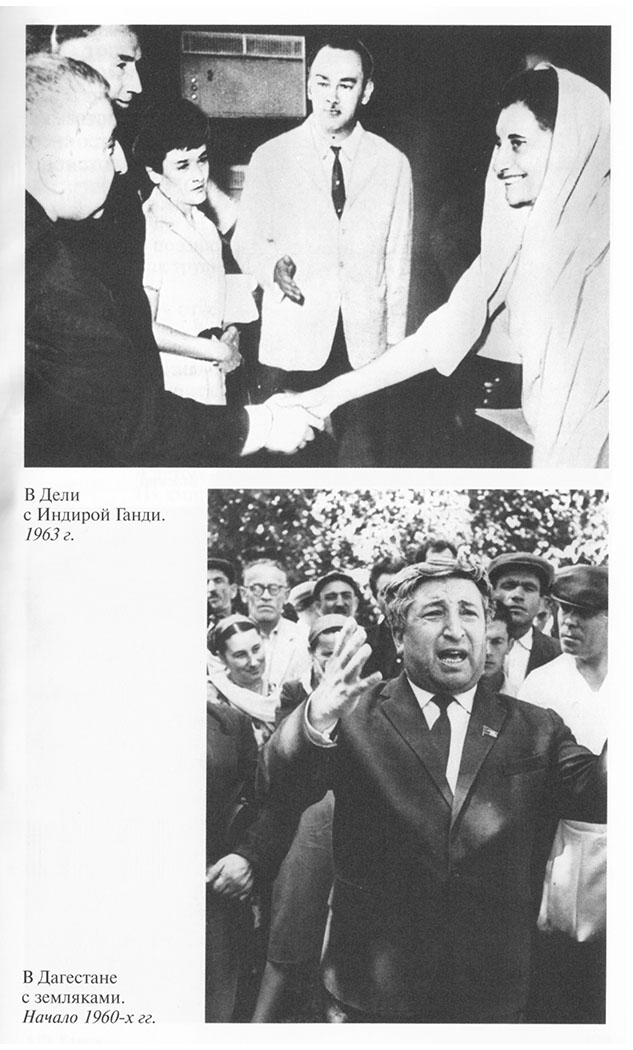

Тень Сталина всё ещё витала над страной, но становилось очевидным, что страна переходит «на другие рельсы».
В это межвременье продолжали выходить новые книги Гамзатова, а Наталья Капиева издала книгу «Творческий путь Гамзата Цадаса».
В поэме «Разговор с отцом» обращался к нему и Расул Гамзатов, которого продолжали мучить сомнения, неуверенность в правильности выбранного пути, непонимание происходящего вокруг:
Растил меня, путь мне указывал верный,
Учил не робеть и преград не бояться.
В поэзию ввёл... Помоги и теперь мне...
Так трудно во всём одному разобраться!..
И отец ему отвечал:
Дешёвую славу купить не пытайся,
Как жалкий хвастун, что стрелять не умеет,
А купит на рынке лису или зайца
И их за охотничьи выдаст трофеи.
Не уподобляйся бездушным поэтам,
Их книгами топят зимою печурку,
А летом — ты сам, видно, знаешь об этом —
Их книги идут чабанам на раскурку.
Пускай пробивается правда живая
В любой твоей строчке, с неправдою споря,
Чтоб песня, не печь, а сердца согревая,
Была им подспорьем и в счастье, и в горе
[51].
Если раньше кое-кто судачил, что Цадаса пишет стихи за сына, то теперь поэт обретал мужество говорить от имени отца. И уроки Цадасы, уроки жизни и поэзии, Расул Гамзатов усвоил в полной мере.
На поэму отозвался Александр Фадеев, написавший молодому поэту письмо.
«Дорогой Расул!
Как-то получилось, что примерно в одно и то же время появились в печати Ваша поэма “Разговор с отцом”, стихотворение “Тост” и два стихотворения, опубликованные в журнале “Смена”. После Вашей, такой хорошей, свежей книжки эти Ваши новые произведения говорят о том, что Вы идёте вперёд и выше, и я рад сказать Вам об этом.
Жалко, конечно, что из-за незнания языка не могу Вас читать на Вашем языке. В переводах, если они очень хороши, обязательно сказывается индивидуальность поэта-переводчика. Если же переводчик малоквалифицированный поэт, он неизбежно лишает стихи оригинала, их природной мускулатуры... Я вижу достоинства этой поэмы в том, что большая мысль об источниках и характере нашей поэзии выражена в ней истинно поэтически. В такой поэме Вы имели право вызвать живую тень отца Вашего, и это трогает до слёз. Последняя, шестая глава поэмы достойно завершает её прекрасным образом дремлющих в Вас стихов, которым пора за работу, и они вот-вот проснутся...
Желаю Вам всего доброго и крепко жму Вашу руку.
1953 год».
В этой поэме есть строка: «Я пел о суровой красе Дагестана», которая станет одним из ярких «опознавательных знаков» поэзии Гамзатова.
ВТОРОЙ СЪЕЗД
Писатели, как и вся страна, пребывали в ожидании больших перемен. В дагестанском союзе начались дискуссии, переосмысление роли писателя, разделение на группки, сведение старых счетов. Всё это выплеснулось и на отчётно-выборной конференции, которая проводилась перед намечавшимся Вторым Всесоюзным съездом советских писателей.
Расул Гамзатов старался урезонить коллег, предлагая перенести горячие дискуссии на другое время, а пока избрать делегатов. Его поддержали старшие товарищи, которые не очень интересовались соперничеством литературных направлений, их больше волновали качество дагестанской литературы и её связь с народом.
Делегатов, наконец, избрали. Съезд проходил в Москве в декабре 1954 года, и на нём было сказано всё, что волновало писателей.
В «Записке отдела науки и культуры ЦК КПСС о ходе и итогах Второго Всесоюзного съезда советских писателей» говорилось:
«Съезд писателей проходил в обстановке острой критики и самокритики... В выступлениях московских писателей В. Каверина и М. Алигер в замаскированном виде нашли отражение реваншистские настроения ряда литераторов, критиковавшихся ранее за те или иные ошибки. Они высказали своё пренебрежительное отношение к критике в печати, рассматривая её как “командование и проработку”. В. Каверин и М. Алигер фактически выступили против руководства литературой, считая, что оно якобы стесняет свободу творчества писателей, мешает им.
Писатели М. Шолохов и В. Овечкин, правильно поставив в своих выступлениях вопрос о необходимости тесной связи писателя с действительностью, о борьбе за повышение требовательности в работе писателя и ответственности перед народом, необоснованно дали отрицательную оценку всей современной советской литературе. Их критика имела односторонний характер, а оценки конкретных явлений литературы носили явный отпечаток групповых симпатий и пристрастий».
Шолохов досадовал на снижение уровня литературы, простительного во время войны и недопустимого в новых условиях: «Тогда слово художника было на вооружении армии и народа, и писателям некогда было придавать своим произведениям совершенную форму. Была у них одна задача: лишь бы слово их разило врага, лишь бы оно держало под локоть нашего бойца, зажигало и не давало угаснуть в сердцах советских людей жгучей ненависти к врагам и любви к родине».
Скороспелость таких произведений он назвал «литературными выкидышами». Затем Шолохов принялся за критиков, приписав некоторым удачное совмещение профессий писателя и интригана. Досталось и Константину Симонову, подсчитав награды которого, Шолохов пришёл к выводу, что для них первым делом Симонов и пишет, а надо бы для народа.
«Чему могут научиться у Симонова молодые писатели? Разве только скорописи да совершенно не обязательному для писателя умению дипломатического маневрирования. Для большого писателя этих способностей, прямо скажу, маловато... Не первый год пишет товарищ Симонов. Пора уже ему оглянуться на пройденный им писательский путь и подумать о том, что наступит час, когда найдётся некий мудрец и зрячий мальчик, который, указывая на товарища Симонова, скажет: “А король-то голый!” Неохота нам, Константин Михайлович, будет смотреть на твою наготу, а поэтому, не обижаясь, прими наш дружеский совет: одевайся поскорее поплотнее, да одёжку выбирай такую, чтобы ей век износу не было!»
Завершил своё выступление Шолохов чем-то вроде наставления для раздираемых всевозможными противоречиями собратьев по перу:
«О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством».
Но писатели уже не доверяли старым лозунгам, они стремились к новой жизни, к смелой, правдивой литературе. Такой, которая в своё время сделала молодого Шолохова большим писателем.
Всё это было удивительно и напоминало Расулу Гамзатову студенческие годы. Тогда за такое сажали, как его друга Наума Коржавина, которого только недавно освободили, но пока ещё не реабилитировали.
На съезде предоставили слово и Расулу Гамзатову. В споры и взаимные обвинения маститых писателей он предпочёл не вмешиваться. Не это его волновало. Он привык смотреть на русскую литературу, как на открытый университет, в котором набирались знаний и мастерства национальные литературы. Во всяком случае — современная дагестанская литература. Но его беспокоило, что к национальным литературам проявлялась некая снисходительность, как будто они только вчера явились на свет и к ним следует относиться, как к литературным младенцам.
В «Записке отдела науки и культуры ЦК КПСС...» говорилось: «Возражая против снижения критериев при оценке национальных литератур, Р. Гамзатов сказал: “Поэты братских республик не нуждаются в ложных похвалах и скидках, они ждут серьёзного разговора, настоящей творческой учёбы у русских писателей”».
Но для этого была нужна иная обстановка, а пока в литературном процессе было много неясного. Георгий Маленков, председатель Совета министров, требовал появления советских Гоголей и Щедриных: «Которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение вперёд. Наша советская литература и искусство должны смело показывать жизненные противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием критики как одним из действенных средств воспитания». Но когда такие сатирические произведения стали появляться, начальственному гневу не было предела. В который раз принялись за Михаила Зощенко, следом — за Александра Твардовского с его поэмой «Теркин на том свете». В ход пошли обоймы обвинений — от «пасквиля на советскую действительность» до «клеветы на руководящих работников».
Твардовский не соглашался: «Избранная мною форма условного сгущения, концентрации черт бюрократизма правомерна, и великие сатирики, чьему опыту я не мог не следовать, всегда пользовались средствами преувеличения, даже карикатуры, для выявления наиболее характерных черт обличаемого и высмеиваемого предмета».
Зощенко недоумевал: «Были предъявлены грозные обвинения по поводу действий и поступков, которые, как я ожидал, заслуживали бы поддержки и одобрения, а наши возражения и разъяснения по существу дела звучали всуе. Не согласен немедленно признать себя виновным — значит, ты ведёшь себя не по-партийному, значит, будешь наказан. Но чего стоит такие “автоматические” признания ошибок, которые делаются или из страха быть наказанным, или просто по инерции: обвинён — признавай вину, есть она или нет в действительности».
Гамзатова эта неопределённость беспокоила, потому что он и сам был не чужд сатире, как и его отец. Обсуждался этот вопрос и на заседании в Союзе писателей Дагестана, где острое словцо всегда было в почёте.
Сатиру критиковали за то, что сатира критиковала, исполняя своё жанровое предназначение. Гамзатов описал характерную по тем временам ситуацию, когда крупный начальник стучал кулаками по столу, критикую автора сатирического произведения:
«— Ну где, где ты увидел, например, такого ленивого, нерадивого бригадира и к тому же пьяницу?!
— В нашем ауле видел, — смиренно отвечал автор.
— Это клевета. Я знаю, что в вашем ауле передовой колхоз. В передовом колхозе не может быть такого бригадира.
Короче говоря, сатира посыпалась на голову самого сатирика. Получилось, как на карикатуре в польском журнале. Там были нарисованы два балкона: один на первом этаже, другой на четвёртом. На каждом балконе — по человечку. Нижний человечек кидает в верхнего кирпичи, но кирпичи не долетают до четвёртого этажа и, возвращаясь, ударяют по голове того, кто их кинул. Верхний же человечек спокойно кидает кирпичи вниз, и они тоже падают на бедную голову стоящего на нижнем балконе. Под карикатурой подпись: “Критика снизу и критика сверху”».
ЛЕКИ
Общение писателей огромной страны не ограничивалось съездами. Куда свободнее им было в гостях друг у друга. Писатели приезжали к Гамзату Цадасе, а теперь стали приезжать к Расулу Гамзатову, всё чаще и чаще.
Он был хлебосолен, остроумен и скоро уже стал известен не только как замечательный поэт, но и как блистательный оратор.
Когда в 1955 году Грузия отмечала 250-летие своего поэта-классика Давида Гурамишвили, в числе приглашённых был и Расул Гамзатов. К юбилею вышло несколько книг Гурамишвили. Последнюю, в переводе Николая Заболоцкого, Гамзатову прислал Ираклий Андроников вместе с приглашением на юбилей. Гамзатов читал знаменитого поэта, наслаждаясь его чудесным слогом, озаряясь светом, исходившим от поэзии большого мастера. И ещё он искал в его стихах описание Дагестана. Гамзатову хотелось лучше узнать драматическую историю Давида Гурамишвили, понять душу поэта, которого угораздило попасть в плен к горцам. Было это ещё в XVIII веке, пленённый князь был ещё молод, но свободу любил больше жизни. Он бежал, сначала неудачно, а затем, после многих мытарств, вышел к казачьей станице. Позже он ещё раз оказался в плену, уже в Магдебурге, после ранения на войне России с Пруссией. Вернувшись из второго плена, он поселился в своём имении в Малороссии. Уже многое было написано, но лишь на склоне лет Гурамишвили собрал всё в книгу «Давитиани», судьба которой оказалась сродни судьбе поэта. Книга переходила из рук в руки, пока не оказалась в лавке букиниста. На родине поэзия Гурамишвили была издана лишь в 1870 году, почти через сто лет после написания.
И вот — большой юбилей поэта, на который собирался Расул Гамзатов. Ситуация была непростая, отчасти двусмысленная: плен поэта у горцев, а теперь вот горец-поэт едет к нему в гости. Но подобные обстоятельства лишь придавали природному дару Гамзатова особый блеск, как вспышка молнии в грозовую ночь. Для него не существовало несовместимого, особенно когда дело касалось поэзии и Кавказа.
Ираклий Андроников, писатель, литературовед и неподражаемый рассказчик, вспоминал:
«В Тбилиси съехались представители нашей многоязыкой поэзии, в Театре оперы и балета шло заседание, поэты читали свои переводы, стихи, произносили речи о дружбе. Слово было предоставлено Расулу Гамзатову...
Он вышел на трибуну и, обращаясь к залу, сказал:
— Дорогие товарищи! Разрешите мне приветствовать и поздравить вас от имени тех самых леки — лезгин, которые украли вашего Давида Гурамишвили!
По залу побежал добрый хохот.
— Дело в том, — продолжал Расул, хитро улыбаясь, — что с нами произошла неприятная историческая ошибка: мы думали, что крадём грузинского помещика, а утащили великого поэта. Когда мы осознали эту неловкость, мы очень смутились. Но это произошло только после Великой Октябрьской революции...
Дорогие товарищи! Давид Гурамишвили жестоко отомстил нам! Мы держали его в плену только два года и всё же кормили — солёным курдюком. А он забрал нас в плен навсегда. И угощает стихами... А теперь разрешите поговорить с человеком, который находится здесь и не понимает происходящего...
Он повернулся к портрету:
— Дорогой наш друг, великий Давид Гурамишвили! Ты умер в слезах, когда враги мучили твою бедную Грузию. Ты отдал свою рукопись чужим людям и даже не знаешь, попала ли она на твою родину. Ты ничего не знаешь, бедный человек, что случилось за это время, какая слава пришла к тебе, как дружат теперь наши народы, и леки — теперь добрый — качает грузинских детей...
Он говорил то, что всем нам известно, о чём говорилось и на этом торжественном вечере. Но оттого, что эту речь произносил дагестанский поэт и она была обращена к портрету человека, который действительно не знал всего этого, речь обрела черты высокой поэзии и глубоко взволновала притихший зал.
Видя такое необычайное действие слов своих, Расул Гамзатов снова обратился к аудитории:
— Дорогие товарищи, я очень люблю Давида Гурамишвили. Но ещё больше мне нравятся сидящие в этом зале грузинские женщины и девушки!
Эта речь имела необыкновенный успех. И на другой день Расул Гамзатов стал в Тбилиси человеком таким же любимым и популярным, каким является всюду, где его видели, знают и любят.
Но речь, как я вижу, не прошла для него бесследно. Она отразилась в стихах Гамзатова, посвящённых дочери его друга — поэта Ираклия Абашидзе, отразилась в стихах, обращённых к грузинским девушкам:
...Припомнив стародавние обиды,
Вы нынче отомстили мне сполна
За то, что вас аварские мюриды
В седые увозили времена.
Как вы со мной жестоко поступили:
Без боя, обаянием одним,
Мгновенно сердце бедное пленили
И сделали заложником своим
[52]».
На этом празднике поэзии было уже не понять — то ли горцы пленили грузинского поэта, то ли поэзия Гамзатова пленила Грузию.
Ираклий Абашидзе был давним другом Расула Гамзатова и отзывался о нём так:
«Вечно взволнованный, непоседа — именно таким был (и всегда должен быть) Расул Гамзатов. Я не могу сейчас его представить иным, так же как не могу представить иной горную реку Андийское Койсу.
Расул Гамзатов на трибуне блещет острословием...
Расул Гамзатов — неутомимый собеседник в кругу друзей-литераторов...
Расул Гамзатов — громко смеющийся в московских издательствах...
Расул Гамзатов — лихо пляшущий лезгинку...
Расул Гамзатов — возмутитель спокойствия московских гостиниц».
ДОЧЬ
В марте 1956 года в семье поэта случилось долгожданное событие — родилась дочь Зарема. Горцы мечтают о рождении сыновей — наследников, воинов, защитников. Но в жизни порой оказывается, что дочери становятся ближе, остаются рядом, а сыновья — всё дальше и дальше.
Впервые увидев свою дочь, растроганный отец почувствовал, что это и есть чудесный подарок судьбы. Он уже не мог думать о чём-то другом, а улыбающаяся во сне дочурка, сама не зная того, его как-то особенно вдохновляла. Счастливый поэт назвал новую поэму — «Зарема» и написал её от лица дочери:
Был он просто добрым горцем,
Был он просто молодцом,
Был он просто стихотворцем,
А теперь он стал отцом.
И поэт к орлиным кручам
Сердцем рвался оттого,
Что меня признали лучшим
После поэмы «Зарема» продолжилась и детская тема. В том же году вышла книга Расула Гамзатова «Мой дедушка».
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Тем временем страна мучительно выходила из политической комы.
Для укрепления своей власти Хрущёву было необходимо избавиться от всех влиятельных сподвижников Сталина. Сделать это сразу было трудно, но можно было попытаться выбить из-под них политический фундамент.
Недавняя амнистия освободила уголовников и прочих преступников, но почти не коснулась политических заключённых, опасных для прежнего режима. Теперь выпускали и их. Если они и не были антисталинистами, то в лагерях и ссылках вполне могли ими стать. Жертв репрессий не только выпускали, но и реабилитировали, многих — посмертно, а в государственных органах развернулись «чистки».
Но коренной перелом произошёл на XX съезде КПСС, где Никита Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».
«Происшедшее на нём меня буквально потрясло, — говорил Расул Гамзатов Далгату Ахмедханову. — Много раз я встречался с Хрущёвым, был очень дружен с его зятем Аджубеем, редактором “Известий”. Хрущёв говорил, что Дагестан он знает, был здесь с 11-й армией. Но меня в то время более всего волновала проблема Шамиля, на что мне Хрущёв сказал: “Передайте дагестанцам, что русский народ Шамиля уважает”. Этим дело и ограничилось, ничего конкретного он не предпринял».
Сталинизм был осуждён, но не повержен, страна была пропитана им ещё многие годы. Однако это «политическое землетрясение» значительно поколебало прежние основы и расчистило место для построения новой жизни. Её хотели все, но никто пока не знал, какой она будет и как её строить.
Для Александра Фадеева, автора ставшей уже легендарной «Молодой гвардии», писателя с высоким положением, наградами и званиями, эти перемены стали роковыми. 13 мая 1956 года он застрелился. В предсмертном письме в ЦК КПСС он исповедально и жёстко сказал то, что никто другой сказать не посмел:
«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли преждевременно; всё остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув сорока-пятидесяти лет...
Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить...
Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни».
Письмо было опубликовано только на исходе века. Гамзатов о нём не знал, но потеря старшего друга, который поддерживал его и словом, и делом, больно отозвалась в сердце поэта.
Хрущёвская «оттепель» понемногу раскрепощала культуру. Писатели становились всё смелее и откровеннее, доставали из столов неизданные произведения. Начали выходить книги, прежде запрещённые, и те, которые неминуемо были бы запрещены, если бы авторы не хранили их в укромных местах. Страна начала дышать свободней.
Политические изменения давали надежду на сворачивание разорительной холодной войны, теперь признавалось право государств Восточной Европы на свой особый коммунистический путь. Но всё это имело и другие международные последствия — коммунисты Китая и Албании отвернулись от СССР, объявив происходящее оппортунизмом.
Творческую интеллигенцию эти политические метаморфозы не особенно впечатляли. Гораздо больше их волновали происходившие в послевоенной Европе культурные процессы. Литература, театр и особенно кино обратились к простому человеку, к его чувствам, эмоциям, радостям и печалям. Стремление к счастью, любовь, семья, человеческое достоинство отодвинули государственные интересы далеко за рамки экрана. Это явление называлось «неореализмом», и оно преображало искусство куда более действенно, чем «партийное руководство». Там его попросту не существовало, а искусство чудесным образом развивалось во всех формах и жанрах — от трагикомедии до фантастики. Не говоря уже о Сальвадоре Дали, который возвёл эпатаж в искусство и развесил на своих безумных усах медальоны с портретами коммунистических вождей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и даже Маленкова — как переправу от Сталина к Хрущёву. И так же шокирующе об этом написал:
«Маленков физиономией, телосложением и характером похож на резинку для стирания с фирменной маркой, на которой изображён Слон. Сейчас стирают коммунизм... А Сталин, — тот, кого уже напрочь стёрли, — кто же он? И где теперь его мумия?»
Кому-то казалось, что и в СССР наступит творческий ренессанс, стоит лишь избавить реализм от приставки «социалистический».
Эпоха Сталина подходила к концу. Ещё через пять лет тело генералиссимуса вынесли из Мавзолея Ленина и там же, на Красной площади, перезахоронили.
Гамзатову не давала покоя ошибка, совершенная им пять лет назад. У него было время осмыслить деяния имама, и он горел желанием всё исправить, покаяться, поставить всё на свои места. Казалось, наступило время написать правду о Шамиле. И он её написал, взяв названием и сделав эпиграфом строку Роберта Бёрнса «В горах моё сердце. А сам я — внизу»:
Снова рана давнишняя, не заживая,
Раздирает мне сердце и жалит огнём.
Был он дедовской сказкой. Я сызмальства знаю
Всё, что сложено в наших аулах о нём.
Помню, седобородый, взирая с портрета,
Братьев двух моих старших он в бой проводил.
А сестра свои бусы сняла и браслеты,
Чтобы танк его имени выстроен был...
[54]
Поэму хвалили, но печатать не торопились, советовали подождать. Гамзатов вложил в эту палинодию — стихотворение против прежнего стихотворения — всю свою боль, своё безоглядное раскаяние, горечь отречения от написанного. Ему казалось, что среди читателей, среди зрителей, рукоплещущих его стихам, всегда был некто, мысленно взвешивающий успехи и ошибки поэта, и второе перетягивало. Он жаждал избавиться от этой тягостной ноши, но запрет на имя мятежного имама ещё не был снят. Некоторые послабления ещё не означали свободы творчества.
На сабле Шамиля горели
Слова, и я запомнил с детства их:
«Тот не храбрец, кто в бранном деле
Думает о последствиях!»
Поэт, пусть знаки слов чеканных
Живут, с пером твоим соседствуя:
«Тот не храбрец, кто в деле бранном
Думает о последствиях!»
[55]
Гамзатов не мог больше ждать. Он хотел опубликовать поэму, чего бы это ему ни стоило. Предлагал её в журналы, издательства, газеты.
ТРАВЛЯ
Вместо публикации поэмы Гамзатов услышал критику в свой адрес. Это случилось вскоре после XX съезда КПСС и речи Хрущёва о необходимости преодоления ошибок прошлого. Расул Гамзатов был не главным объектом критики, но она звучала с «самого верха», в «Записке отдела науки и культуры ЦК КПСС...». Целями гневных обличений были роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», стихи Бориса Пастернака и его роман «Доктор Живаго», произведения Даниила Гранина, Константина Симонова, Евгения Евтушенко.
О Пастернаке говорилось: «В этой обстановке активизировались такие литераторы, которые и раньше с недоверием относились ко всему, что делается в нашем обществе. Б. Пастернак сдал в журнал “Новый мир” и в Гослитиздат свой роман “Доктор Живаго”, переправив его одновременно в итальянское издательство. Это произведение проникнуто ненавистью к советскому строю. Хотя роман Пастернака не был принят к печати, он имеет хождение в рукописи среди литераторов, а сам Пастернак пользуется в известных кругах и, в частности, среди студенческой молодёжи славой непризнанного гения. Недавно на филологическом факультете МГУ была выпущена стенгазета, которая заполнена безудержным восхвалением трёх “величайших” поэтов нашей эпохи — Пастернака, Цветаевой и Ахматовой. Характерно, что никто из преподавателей-коммунистов не нашёл в себе смелости открыто выступить против этих уродливых пристрастий студентов-филологов, раскритиковать и высмеять их дурные вкусы».
Среди «неправильных» авторов «безыдейных произведений», направленных «против партийного руководства искусством», оказался и Расул Гамзатов со стихами, опубликованными в журналах «Нева» и «Новый мир». В записке отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР «О серьёзных идеологических недостатках в современной советской литературе» он упоминается дважды.
Особое возмущение авторов записки вызвало то, что «под видом свободы творчества, развития творческих индивидуальностей, создания благоприятных условий для развития стилей, жанров, многообразия изобразительных средств в литературу усиленно протаскивается формализм и натурализм (стихи П. Антокольского, И. Сельвинского, Б. Пастернака, Л. Мартынова и др.)... Дело доходит до отрицания вообще метода социалистического реализма. Секретарь парткома московских писателей В. Сытин говорит: “Никто не знает, что такое социалистический реализм, и никто не дал ещё определения этому методу”».
Ещё недавно это звучало бы как приговор. Теперь — пронесло. «Оттепель» всё же наступила. Однако желающих «разоблачить» Расула Гамзатова было ещё немало. Среди его «грехов» припомнили и полученную им Сталинскую премию. Это было странно, потому что вокруг были те, кто знал, за что была присуждена премия. Гамзатов не считал нужным отвечать на вздорные обвинения, но на исходе века вспомнил и об этом, беседуя с Феликсом Медведевым:
«Я вырос в Дагестане, в семье, в которой Ленина изучали по Сталину. Самого Ленина мало изучали. Больше Сталина цитировали. И первое стихотворение я о нём написал, совсем мальчишкой напечатал ту оду. Редактор газеты восклицал в передовой статье, что в горах не будет человека, который это стихотворение не выучит наизусть. Как тогда праздновали день приезда Сталина, ведь он автономию республики объявил!
За поэму, написанную о событиях тех лет: приезд вождя, получение автономии, рождение республики, день, который каждый считал днём своего рождения (я это искренне написал), — я получил тогда Сталинскую премию. В то время у моего народа всё было связано с ним одним.
С другой стороны, я считаю, что у меня украдено время. Часть жизни украдена. От меня многое, оказывается, скрывали. Я жил в ауле, ходил в школу, и от меня скрывали какую-то часть истории, целый её пласт... Жизнь была огромным театром, и, что происходило за его кулисами, я о том не ведал. Я просто всему наивно верил. И когда в 1937 году четырнадцатилетним мальчишкой из газет узнал, что людей стали репрессировать, то мне воистину казалось, что сажают врагов народа».
У каждого писателя свой почерк, стиль, свой реализм. Принуждать его писать в соответствии с методом социалистического реализма или с каким-то другим дело бессмысленное, всё равно что приказать курице нести страусиные яйца. И литературный дар всегда уникален, как капиллярный узор на пальцах, которыми автор держит перо. Состоялся писатель или нет, решает читатель. Но чтобы прийти к читателю, писатель должен издавать свои книги. Гамзатов по себе знал, как это важно, особенно для тех, кто только входил в литературу.
Помочь выпустить книгу — это было самым трудным в работе Гамзатова на посту руководителя Союза писателей. Не хватало всего — денег, бумаги, типографской краски. Приходилось убеждать начальство, требовать увеличения средств на издания, уговаривать редакторов газет и журналов, рекламировать новые произведения, кричать о новых талантах и не забывать уже состоявшихся писателей.
«Оттепель» породила приток в литературу свежих сил, открывала новые имена. Многие оканчивали Литературный институт и возвращались на родину. Шихабудин Михаилов в «Краткой литературной энциклопедии» пишет о репрессированных писателях Багаутдине Астемирове, Абумуслиме Джафарове, Ибрагимхалиле Курбаналиеве, которые выжили в ГУЛАГе, вернулись и снова влились в литературную жизнь.
Тем временем популярность Расула Гамзатова обретала песенные крылья. Песни стали его верными спутниками на всю жизнь. Одной из самых ярких исполнительниц песен на стихи Расула Гамзатова была Муи Гасанова, певица с необычайно красивым голосом и природным артистизмом.
Покорённый её талантом, Расул Гамзатов создал стихотворный цикл «Песни Муи». Другой природный самородок композитор Ахмед Цурмилов создал на стихи Гамзатова песни, и сегодня звучащие в горах. В руках у певицы всегда был бубен, который и увековечил поэт:
«Ты спой о любви нам, ты спой о любви», —
Просили меня молодые.
«О битвах минувших ты спой нам, Муи», —
Сказали мне горцы седые.
Давайте, давайте, чтоб песню начать,
Вино молодое пригубим,
И в левую руку возьму я опять
Мой бубен, мой бубен, мой бубен.
В горах молодым про любовь я спою,
Чтоб горцы седые вздыхали,
Про подвиги вспомнив, про юность свою,
Про то, как невест похищали.
Спою старикам, чтоб и парни могли
Гордиться скакавшим под пули:
Нашли его шапку от дома вдали,
А сердце — у милой в ауле...
[56]
Булач Гаджиев писал о Муи: «Потрясающее до самых основ звучание голоса, напитанного колоссальной энергетикой гор и неподражаемого природного темперамента, — таков образ аварской певицы, ставшей легендой ещё при жизни... Не раз её убеждали продолжить обучение в Москве, в консерватории, но принимавший у неё экзамен московский профессор отговорил “портить природный народный голос” с его необыкновенным тембром и первозданной свежестью».
Её уникальный певческий дар смогли оценить и участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. А песню «Мой бубен» позже подхватили на всесоюзной эстраде. Уже на музыку А. Экимяна и слегка изменив текст, её исполняли Анна Герман, Ольга Вардашева, Ксения Георгиади, Тамара Гвердцители, Умразият Арбуханова.
Песни на стихи Гамзатова пели по всему Дагестану,
но когда композитор Сергей Агабабов написал песню «По горным дорогам», а знаменитый Рашид Бейбутов её исполнил, она зазвучала повсюду:
Белеют вершины в молчании строгом,
Ручей устремился к ручью.
По горным дорогам, по горным дорогам
Веду я машину свою...
Эта песня, конечно, была о Патимат, которая была неприступна, как Хунзахская крепость, но которую поэт обещал увезти во что бы то ни стало. Это была и песня «Оттепели», овеянная страстной любовью и мечтой о счастье.
И там, где на небе сверкают высоком Созвездья в орлином краю, По горным дорогам, по горным дорогам Спешите на свадьбу мою
[57].
Ещё более яркая судьба ждала песню «Пожелание». Стихи были написаны в 1957 году, но знаменитыми стали много позже, когда песню исполнил Вахтанг Кикабидзе.
Я хочу, чтобы песни звучали,
Чтоб вином наполнялся бокал,
Чтоб друг другу вы все пожелали
То, что я вам сейчас пожелал...
Стихотворение было опубликовано в только что вышедшей в «Молодой гвардии» книге Расула Гамзатова «Новая встреча», которая очень отличалась от прежних книг поэта. Главными темами стали любовь и радости жизни. Они будто вырвались на свободу, окончательно «десталинизировав» творчество Гамзатова. В лирических стихах зазвучали звонкие ноты, бал правили яркое воображение и романтические идеалы, отражавшие его истинное поэтическое призвание.
КАВКАЗСКИЙ БЛОК
Я знаю наизусть всего Махмуда,
Но вот не понимаю одного:
Откуда о любви моей, откуда
Узнал он до рожденья моего?
[58]
Восторженное почтение непревзойдённому мастеру любовной лирики Махмуду из селения Кахаб-Росо тоже досталось Расулу Гамзатову в наследство от отца. Гамзат Цадаса, близко знавший легендарного поэта-романтика и написавший о нём книгу, говорил: «Он оседлал до сих пор никем не обузданного коня горской поэзии».
Сиражутдин Хайбуллаев, исследователь творчества Махмуда, приводит высказывание Гамзата Цадасы о том, что, когда горцы услышали песни Махмуда, другие песни начали забываться.
«Свои стихи отец показал славному Махмуду, — писал Гамзатов. — Поэт удивился стихам отца и сказал, что они ему непонятны и что вообще он не понимает, как это можно сочинять стихи о корове, о собаке, о тропинке в аул Хунзах.
— О чём же сочинять? — смиренно спросил отец.
— О любви и только о любви! Надо строить дворец любви».
Прочитав Махмуда в переводах Эффенди Капиева, Николай Тихонов написал: «Это же большой поэт, кавказский Блок. Открытие!»
Умру я, но песню любви неизменной
Оставлю народу во всей чистоте.
Я верю: влюблённые, в час вдохновенный,
К моей устремятся надгробной плите.
«Не перестаю думать о Хаджи-Мурате», — писал Лев Толстой. Гамзатов не переставал думать о Махмуде и его трагической судьбе.
Сын углежога, он влюбился в прекрасную Марьям, дочь богатых родителей. Он называл её Муи и посвящал избраннице своего сердца стихотворение за стихотворением. Стихи его её волновали, но Муи была замужем, и любовь Махмуда оставалась безответной. Надеясь избавиться от мучительного наваждения, Махмуд отправился на войну. Храбро воевал в Дикой дивизии, писал, как Сирано де Бержерак, стихи за сослуживцев к их возлюбленным, оставшимся в Дагестане. Ему это было нетрудно, потому что он писал о любви, разрывавшей его собственное сердце.
Однажды, после боя, он почти настиг уцелевшего австрийца, но тот укрылся в костёле. Когда Махмуд ворвался туда, случилось чудо. Австриец молился у образа Девы Марии, а Махмуд, ошеломлённый сходством Марии с его Марьям, замер. Любовь Махмуда сохранила австрийцу жизнь.
Очертание лба сияние глаз...
Я погибну сейчас, я увижу тебя!
Так же брови черны, улыбка чиста,
Лишь раскроет уста, — услышу тебя!
Когда Махмуд вернулся на родину и увидел Муи, он воспылал ещё большей страстью.
Когда ты с косою пройдёшь смоляною,
Старик, что давно погребён, оживёт.
Узрели б тебя современники Ноя, —
Вернулись бы к нам из разверзшихся вод.
Мужа её уже не было в живых, но отдать Муи за Махмуда родственники отказались. Он не терял надежды, писал новые стихи, пел о своей любви, не страшась угроз. Говорили, что Муи отвечала ему взаимностью, но их отношения покрыты тайной. Известно лишь, что однажды ночью он её похитил. Но когда стало ясно, что ей не отдадут детей, если она станет женой Махмуда, она вернулась домой.
Жизнь его превратилась в муку, его подвергли экзекуции плетьми, требуя отказаться от любовных стихов. Но он продолжал воспевать свой идеал. В Гражданской войне он не участвовал, братоубийство было противно душе поэта. Он был убит в духане, выстрелом в спину. Он боролся за любовь словом, а в ответ летели пули.
Узнав об этом, безутешный отец сжёг чемодан с его рукописями: «Горите, проклятые стихи! Это из-за вас погиб мой сын!»
Поэзия Махмуда стала для Гамзатова очищающим откровением, бесконечным путешествием в чудесный мир поэзии. Махмуд был проводником Расула, его Вергилием в Царстве любви, где нет ничего дороже самой любви. Махмуд писал:
Если бы люди прославили сильную страсть,
Я бы стал над землёю могучим владыкой,
Утвердил бы над миром я царскую власть,
Если б мир трепетал пред любовью великой.
«Махмуд не поёт с нами песни сегодняшнего дня, — писал Расул Гамзатов, — но то, что он успел спеть, для нас стало сокровищем. Его жизнь, его личность, его эпоха вызывают с каждым годом всё больший интерес, но прежде всего он интересен нам как поэт, как певец. Сейчас каждая строчка Махмуда, каждое сравнение, каждый эпитет, каждая метафора, замечательная аллитерация его поэзии, его утверждение, его отрицание являются предметом изучения и дискуссий... В нём бурлит раскалённая докрасна лава страстей, чувств, которые выплёскиваются лишь отлитыми в слова, в слова нестёртые, живые».
Песни Махмуда стали классикой, их поют и сегодня. О нём говорят: «Серебряный череп, а мозг золотой». То, как народ любил своего поэта, Гамзатов увидел, когда ещё учился в Буйнакске, а позже описал в одной из своих статей. Случилось так, что московские
студенты, подрабатывавшие переводами на русский язык писем из Дагестана в центральные органы, увидели необычное ходатайство о помиловании. Осуждённый на пять лет за кражу просил о снисхождении, а в его анкете было указано, что в своё время его осудили на три месяца за убийство поэта Махмуда.
«Студенты возмутились. Как же так? — писал Расул Гамзатов. — За то, что человек воровал, он приговаривается сейчас к пяти годам лишения свободы, а за убийство Махмуда в то время ему только три месяца дали. Написали студенты в Верховный Совет. Это было в 1938 году. Верховный Совет СССР обратился в Союз писателей: есть ли такой поэт в Советском Союзе? Союз писателей ответил, что в списке членов Союза писателей Махмуда нет. Тогда обратились к знатоку Кавказа Николаю Семёновичу Тихонову, который подробно объяснил, кто такой Махмуд, какой он популярный, какой великий певец. Несмотря на то, что со времени его убийства прошло 19—20 лет, дело возвратилось в Дагестан. Надо наказать убийцу Махмуда. Этот суд происходил в Буйнакске. Весь народ собрался. Не знаю, ходили ли так в театр, как на этот суд. Пришли певцы, учёные, земляки, крестьяне. Я учился тогда в педагогическом училище. Это была настоящая дискуссия. Защитники убийцы, которые официально его защищали, повторили ошибочное мнение о Махмуде, что он был только поэтом любви, оторванным от политики. Подумаешь, пел о Муи, только об одной женщине пел, из-за того его классиком делают. Сегодня мы можем убедительно сказать: Махмуд — поэт и гений! Даже если бы он писал только о Муи, он был политически зрелый поэт для того времени. Что такое о Муи петь, горянку возвышать, с самыми лучшими словами к женщине обращаться? В то время это была храбрость и за это платили жизнью».
Что жизнь без любви?
Кто не любит — сгорает,
Не стоит любви даже царская власть.
Гамзатов высоко чтил Махмуда, его «горящего сердца пылающий вздох». Стремясь к высотам его поэтических откровений, Гамзатов создавал свой мир чудесной, вдохновляющей, очищающей душу любви, которая ещё покорит всю страну.
Лаура гор, прелестная аварка,
Чтобы воспеть тебя на целый свет,
Жаль, не родился до сих пор Петрарка,
Где скальный к небу лепится хребет.
И над рекой, объятой скачкой громкой,
Быть может, ты, не ведая причуд,
Осталась бы прекрасной незнакомкой,
Когда бы не воспел тебя Махмуд...
[59]
В беседе с Далгатом Ахмедхановым Расул Гамзатов говорил: «Предмет любви у меня есть, но холст сейчас остаётся чистым. Я недавно исписал о любви Махмуда три тетради, но остановился, поняв, что лучше самого Махмуда сказать о ней не смогу. А ведь у него была потрясающая любовная история, ничуть не менее интересная, чем у Ромео и Джульетты, Лейли и Меджнуна, Тахира и Зухры. Может, нельзя было и ставить перед собой такую цель...»
Это было сказано позже, а тогда Расул Гамзатов писал поэму, которая должна была стать продолжением богатой традиции аварской лирики.
В стране происходили удивительные события. Атомный ледокол «Ленин» взламывал льды. Был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. В горах он был виден невооружённым глазом — среди сияющих россыпей звёзд двигалась яркая точка. Мир поразился неожиданному научно-техническому прогрессу СССР. Сегодня — спутник, завтра — ракета. Холодная война перерастала в гонку вооружений.
Хрущёвская «оттепель» продолжалась. В Москве прошёл VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, на котором парни и девушки со всего мира посмотрели в глаза друг другу и пожали руки.
Фестиваль привнёс в СССР много нового, а зарубежные участники увидели совсем другую страну, не похожую на штампы западной пропаганды. Символом фестиваля стал «Голубь мира» Пабло Пикассо, основателя кубизма. В моду входили иностранные танцы, особенно рок-н-ролл и твист,
повсюду звучал джаз. Появились стиляги, копировавшие западный стиль жизни, одежды, причёсок, демонстративно противоречившие советскому образу жизни. Бороться с этим было трудно, особенно после американских выставок в Москве. На них демонстрировались товары, о которых советские граждане могли только мечтать. Вице-президент США Ричард Никсон, приехавший на открытие выставки, спорил с Хрущёвым о том, чья социальная система лучше. Он признавал превосходство СССР в освоении космоса, но считал, что цветные телевизоры для народа свидетельствуют о превосходстве американской экономики. Хрущёв не соглашался: «Мы тоже, знаете ли, не мух ноздрями бьём. Догоним и перегоним!»
Вырастало из идеологических ограничений и кино. В кинотеатрах шёл «Тихий Дон», снятый так, будто партийного руководства искусством и вовсе не было. А на главном мировом кинофестивале в Каннах «Золотую ветвь» триумфально завоевала человеческая драма времён войны «Летят журавли».
Жизнь становилась всё интереснее. Расул Гамзатов становился всё задумчивее. Он писал большую поэму «Горянка».
«Цадаса был первым в аварской поэзии поборником не только личных, как Махмуд, но и гражданских прав женщины, первым запечатлел в своих стихах образ раскрепощённой горянки, — писал Владимир Огнёв. — Расулу ближе была та сторона волнующей темы, которую разрабатывал великий Махмуд. Он вступил на тропу Махмуда. Эта тропа привела его сначала в щебечущий птичий сад. Солнечный сад с тенистыми тропинками грусти. Короткими тропинками грусти. Из солнечных лучей, из ветра, из морских брызг вылепил поэт чудесное тело любви. Глазами любви, только ими одними, можно так увидеть омытую дождями природу:
Как девушка, что вымылась в реке,
А высохнуть на солнце не успела.
Это чувство богато и щедро. “Я влюблён в сто девушек”, — заявляет поэт, — и, оказывается, имеет в виду одну любимую, ту, что подарила целую гамму чувств, в почти неуловимых оттенках, в сложности... Но если попытаться определить принципиальное качество любовной лирики Расула Гамзатова, то оно, конечно, в богатстве и естественности раскованного чувства любви, как счастья... А вспомним легенду о Камалил Башире, сказочном красавце, невольном горском Дон Жуане, который стал народным бедствием, так как ни одна жена не могла якобы устоять перед силой его глаз. На сходе отец Камалил Башира сам вызвался отрубить ему голову».
«ГОРЯНКА»
В 1958 году журнал «Дружба народов» опубликовал в седьмом и восьмом номерах поэму Расула Гамзатова «Горянка», ставшую одной из главных вершин в творческой судьбе поэта.
Поэму в 4 тысячи строк перевёл Яков Козловский. Затем её редактировал Ярослав Смеляков. Поэма произвела удивительный, почти революционный, эффект, имела громкий успех и получила широкую известность. Это было новое слово, новое понимание, новое отношение к женщинам гор, возвышенное и в то же время правдивое. Гамзатов писал о том, о чём не было принято писать. Образы, темы, герои поэмы были востребованы временем. Гамзатов сумел услышать и поэтически воплотить то, без чего «оттепель» не была бы «оттепелью» — он обратился к человеческим чувствам, которые только ещё пробивались сквозь «политический асфальт» и идеологические установки. Поэма стала крупным событием в отечественной литературе.
Судьба героини была судьбой многих горянок, но не только они видели в Асият родственную душу. Волнующий образ героини поэмы отражал грани множества женских судеб, прикасался к потаённым струнам девичьих сердец.
Пою тебе сердцем влюблённым.
И пусть твой задумчивый взор,
На счастье моё, просветлённым
Становится, женщина гор!
Драматическая и светлая история героини поэмы Асият стала символом порыва к новой жизни, торжеством чистой любви над отжившими обычаями, сломавшими немало судеб. Отец, давший когда-то слово своему кунаку, хочет выдать дочь за его сына, к которому не лежит душа Асият. Девушка решается на отчаянный по тем временам шаг — отказывает жениху. Оскорбительное для горца неповиновение дочери, дерзнувшей его ослушаться, пойти наперекор адатам — горским обычаям, приводит к изгнанию Асият из отчего дома.
Она уезжает в город и поступает в педагогический институт. Встречает свою любовь. Но отвергнутый жених горит жаждой мести. Он покушается на жизнь Асият, но её спасают врачи и её возлюбленный Юсуп. Преступника настигает кара, а Асият возвращается в село учительницей.
Романтической поэмой зачитывались, её переиздавали и переводили на разные языки. Она стала значительным явлением в литературе, чем-то родственным послевоенному итальянскому неореализму с его обращением к судьбам и чувствам простых людей.
«Поэма “Горянка” — как раз такая поэма, где он идёт по стопам великолепного Махмуда из Кахаб-Росо и Гамзата Цадасы, — писал Николай Тихонов, — когда пишет о том, что поэты грешны перед женщиной гор, что они бывали глухими и слепыми, воспевая только её красоту и прелесть в своих стихах, забывая её слёзы, её горе, её трудную, тяжёлую, безысходную жизнь... Насколько я знаю, впервые на аварском языке появилась такая большая поэма о современной горянке. В этой поэме много доброго. Она по-настоящему лирична, вы дышите воздухом высот, этим прозрачным и свежим потоком, доносящим голубой холод ледяных вершин, слышите горное эхо, косматый шум горных рек, видите каменистые, крутые тропы. Но сильнее всего вы ощущаете красоту и прелесть горских девушек и женщин... Молодые поколения смело смотрят навстречу своему будущему. Их ничто не запугает и не остановит. Об этом говорит поэма Расула Гамзатова, молодая и смелая, как и те студентки Дагестанского педагогического института имени Гамзата Цадасы, которым она так сердечно посвящена».
Это и в самом деле было новым продолжением высокой традиции горских поэтов. Поэма и начинается обращением к Махмуду:
Лишь март принесут, словно чудо,
На маленьких крыльях стрижи,
Ты вновь на могилу Махмуда,
Горянка, цветы положи.
В груди его сердце горело,
Как будто в ненастье костёр.
Влюблённо, и нежно, и смело
Он пел тебя, женщина гор...
А разве слыхала ты ране,
Что кто-нибудь так до него
С тобой говорил в Дагестане?
Вовек не бывало того!
Очень скоро «Горянка» получила театральное воплощение. Горянкам мало было прочесть поэму, им хотелось увидеть эту необыкновенную девушку. Театры просили, требовали, чтобы автор написал пьесу по мотивам поэмы. Гамзатов написал. Пьеса шла в переполненных залах, ставилась в других национальных театрах. И с ней начали происходить метаморфозы.
«В конце спектакля по ходу дела герой убивает героиню, — писал позже Гамзатов. — Мне было жалко мою горянку, моя рука дрожала, когда я писал сцену убийства, и сердце обливалось кровью. Но я ничего не мог изменить. Течение событий само подводило к тому, что горянка должна быть убитой. Аварский театр так и поставил спектакль и, хотя зрители печалились и жалели героиню больше даже, чем я сам, все они понимали, что иначе быть не могло.
В даргинском театре пьесу подредактировали. Вместо того чтобы девушка была убита, ей отрезали косу. Конечно, это позорно, когда горянке отрезают косу, может быть, даже это хуже смерти, но всё-таки — не смерть.
На сцене кумыкского театра решили не убивать и не резать косу, но ослепить. Конечно, это ужасно. Может быть, это ужаснее, чем убить или отрезать косу, но всё-таки горянка оставалась жива и с косой, ибо так захотели в кумыкском театре... Так каждый режиссёр переделал пьесу по своему образу и подобию. Никто не подсказал им, что, жалея и спасая героиню, они тем самым убивают пьесу и не жалеют зрителей, не говоря уж о драматурге».
В 1960 году, когда в Москве проходила Декада искусства и литературы Дагестана, аварский театр играл спектакль «Горянка» на сцене Малого театра. Позже «Горянка» стала первым дагестанским балетом. А затем по ней был снят художественный фильм.
К читателю поэма пришла уже проторённым путём: сначала публикация в аварской газете, потом — в московском журнале. На этот раз это была «Дружба народов». А затем и в книге. Одно из изданий «Горянки», которое Расул Гамзатов и Яков Козловский подарили Корнею Чуковскому, хранится в библиотеке поэта на его даче в Переделкине. В книге есть автограф, написанный рукой Козловского:
«Любимому Корнею Ивановичу
от Расула Гамзатова и меня грешного. Мы боготворим Вас.
Я. Козловский.
4/IX — 1963».
ГОД «ЖИВАГО»
958 год начался с кубинской революции. Советский народ ликовал и пел песни о бородатых героях-революционерах. Продолжалась реабилитация жертв сталинских репрессий. Жизнь явно менялась к лучшему.
Книги Расула Гамзатова выходили одна за другой, как и книги Гамзата Цадасы — их вышло несколько, включая книгу Камиля Султанова о нём самом.
А осенью случилось событие, напомнившее о всё ещё существовавшем «партийном руководстве литературой».
Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Его уже несколько раз номинировали на высшую литературную награду, на этот раз его кандидатуру предложил Альбер Камю, и вот — свершилось.
Советская пропаганда сочла это политическим вызовом Запада, почти оскорблением. Было спешно организовано массовое негодование советских граждан. Ряды писателей оказались расколоты: одни поздравляли коллегу, другие недоумевали, третьи возмущались и осуждали. Последних было большинство, по крайней мере, в газетах печатали их выступления. Всё началось с постановления Президиума ЦК КПСС «О клеветническом романе Б. Пастернака». Очередная травля была объявлена.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти
[60].
Роман «Доктор Живаго» в СССР издавать отказывались, и он вышел в Италии, а затем и в других странах. Газеты писали об этом как о провокации Запада, предательстве, клевете на советский строй: «Те сорок или пятьдесят тысяч американских долларов, которые получил Пастернак, — это не премия, это благодарность за соучастие в преступлении против мира и покоя на планете, против социализма, против коммунизма. Вот что это такое!» И это было не единственное обвинение, прозвучавшее на собрании московских писателей. Не читавшие книгу Пастернака тоже его осуждали и называли «несколько юродивым». Требовали исключить из Союза писателей и выслать из страны.
Он отвечал: «Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моём исключении из Союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать всё, что вам угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, всё равно через несколько лет вам придётся меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз».
Исключили, осудили, вынудили отказаться от престижной премии. Оставили лишь право зарабатывать на жизнь переводами Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона. И ещё он много переводил грузинскую поэзию.
Пророчество Пастернака сбылось — его всё же признали великим поэтом, только премию, после кончины отца, получил за него его сын.
Среди тех, кто посмел не участвовать в травле лауреата, был и Расул Гамзатов. Не пожелал повторять горький опыт, когда, ещё не понимая, что происходит, он участвовал в митинге против Ахматовой и Зощенко. Он хорошо усвоил, что поэзии лучше держаться подальше от политики, а если они оказываются рядом, то поэзия неминуемо терпит поражение.
«Прожита жизнь, и теперь, оглядываясь назад, вижу: всё, что связано в моих стихах с политикой, оказалось, к великому огорчению, недолговечным, — говорил Расул Гамзатов в беседе с Кларой Солнцевой. — О многом сожалею: писал то, что мог бы не писать. Случалось, стоял с “дежурной одой” календаря, как выразился по этому поводу А. Твардовский. Лучше бы я этого не делал».
В 1965 году, когда Нобелевская премия по литературе «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время» была присуждена Михаилу Шолохову, ему её получить разрешили. При этом в газетах с неким злорадством подчёркивали, что советский писатель не поклонился королю Густаву VI, хотя это полагалось по протоколу.
«В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ»
Если бы Расулу Гамзатову предложили выбирать между Нобелевской премией и публикацией исповедальной, покаянной, многострадальной поэмы «В горах моё сердце», он бы, наверное, выбрал второе. На стене в его писательском кабинете и сейчас висит портрет Шамиля, который подарил Гамзатову его учитель Павел Антокольский, внук художника. Поэту казалось, что с каждым годом взгляд имама становится всё тяжелее.
Были раны кинжальные и пулевые,
Но тобой причинённая — трижды больней,
Ибо рану от горца я принял впервые.
Нет обиды, что силой сравнилась бы с ней.
...Газават мой, быть может, сегодня не нужен,
Но когда-то он горы твои защищал.
Видно, ныне моё устарело оружье,
Но свободе служил этот острый кинжал
[61].
Прежде земляки были опечалены историей с поэмой о Шамиле, но они жили в ту же эпоху и могли догадываться о причинах случившегося. Теперь, когда в Москве вышла новая книга Гамзатова, на обложке которой было название долгожданной поэмы, горцы вздохнули с облегчением.
Гамзатов не верил своим глазам. Только он знал, чего стоило добиться издания поэмы, в которой имам Шамиль представал в своём истинном величии, в образе народного героя. Гамзатов вновь и вновь открывал страницу с началом поэмы.
«Как же теперь объясняет поэт, кто виноват в прошлой братоубийственной войне? — размышлял Владимир Огнёв и цитировал поэму:
О Россия — поборница правды и мира!
Ты когда-то не дружбу дарила горам.
Даже русских поэтов в солдатских мундирах
По веленью царя присылала ты к нам.
Ты поручика Лермонтова потеряла.
Рядового Бестужева... Помнят у нас
Твоих бедных сынов. Их погибло немало.
Как святыню, хранит их могилы Кавказ.
Он выкупил солидную часть тиража и дарил книгу всем — друзьям, родственникам, коллегам, школам, библиотекам. И чувствовал, как душа его постепенно избавляется от гнетущей тяжести, хотя рана на сердце ещё не затянулась.
Что мне личная слава? На что она, право?
Не собой, а тобою горжусь, мой народ.
Я лишь искра твоей полыхающей славы,
Без тебя эта искра погаснет, замрёт.
...Я люблю твою гордость и тягу к свободе,
Мой народ, что когда-то родил Шамиля
[62].
23 октября 1958 года ему было присвоено звание Народный поэт Дагестанской АССР, он принял его без показной радости, но с благодарностью своему народу.
Наступила пора осмыслить пройденный путь, задуматься о жизни, о своём месте в литературе.
«Видимо, всё-таки, не без оснований появились в творчестве Расула Гамзатова нотки тревоги, — писал Владимир Огнёв. — Где-то, в чём-то ослабил он, видимо, связи свои с жизнью народа. Занятость громадной общественной работой, расширяя кругозор, отвлекает его всё-таки от сосредоточенного творчества (Расул Гамзатов — председатель правления Союза писателей Дагестана, депутат Верховного Совета Даг. АССР, зам. председателя Бюро СП по РСФСР, член редсовета “Дружбы народов”)».
Радости и печали поэта разделяла его супруга Патимат. Она же дарила ему и счастье. В марте 1959 года у них родилась вторая дочь. Её тоже назвали Патимат — имя очень популярное у горцев и вообще у мусульман, имя, идущее от Фатимы — дочери Пророка Мухаммеда. Опять не дождавшийся сына, поэт стал величать себя доктором «патиматических» наук.
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ»
Писателей в Дагестане становилось всё больше, и это было хорошо. Но качество литературы росло не так быстро, как количество членов Союза писателей. Прежде Расул Гамзатов не считал себя вправе учить других литераторов, мнение своё высказывал осторожно, как правило, в дружеской форме и с добрым юмором. Однако руководителю писательской организации следовало заботиться о состоянии литературы, особенно — поэзии, которая была самым популярным жанром. Многие напирали на экзотику, полагая, что это и есть национальное лицо поэзии. Гамзатов с горечью писал:
И если б собрать воедино чернила,
Которыми столько расписано было
Тенистых ущелий, скалистых высот
И прочих ни с чем не сравнимых красот,
То горы б взмолились: «Помилуй, Аллах!
Мы тонем, мы тонем в чернильных волнах!»
[63]
Беспокоили его и переводчики:
«Заметили ли вы, как часто иные переводчики, переводя наши стихи на русский язык, применяют этот “национальный колорит”, употребляя слова “джигит”, “папаха”, “черкеска” и т. п.? Чтобы читатели знали, что перед ними национальный поэт, переводчики надевают на него бешмет, который он никогда не носил. В этом ли заключается национальный колорит, национальная форма, национальные традиции? Нет, и ещё раз нет! Тайна национальности каждого народа, говорил В. Г. Белинский, не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи... Истинный художник народен и национален без усилия, он чувствует национальность, прежде всего, в самом себе и потому налагает печать на свои произведения... Истинно национальное проявляется в духе характера, психологии народа».
Из такой экзотики получалась плохая поэзия, вернее, вовсе не получалась. Стихи были как близнецы, и авторам оставалось спорить, как героям комедии Гоголя, кто первым сказал «Э!». В результате поэзия превращалась в «продукт ограниченного пользования» и навевала скуку.
Один поэт, рождённый среди гор,
Клянусь, был истинный гипнотизёр.
Он всякий раз, когда стихи читал,
Мог усыпить неосторожный зал
[64].
Кроме экзотики, было много стихов неумелых, какие пишутся в пору первой влюблённости, где много пыла, но мало поэзии. Явление характерное и простительное. Или стихов загадочных, невнятных, смысл которых и сами авторы объяснить были не в силах. Читая такие наивно-многозначительные мудрствования, Гамзатов вспоминал свою учёбу в Литинституте, когда «болел» новаторством. Вспоминал он и Ивана Бунина, «Окаянные дни» которого часто перечитывал. Там было про экспрессиониста Леонида Андреева: «Прочитаю две страницы — надо два часа гулять на свежем воздухе!»
Количество изданий Гамзатова сбивало с толку. Начинало казаться, что стоит лишь что-то такое сочинить про орлов и горы с бурными реками, найти ловкого переводчика, и вот он — успех. Когда Гамзатов пытался объяснить, что поэт — не тот, у кого выходят книги, а тот, кого читают не только друзья и родственники, это мало кого убеждало. Но те, в ком теплился поэтический дар, понимали, о чём говорил Гамзатов, и это шло им на пользу.
Как и его отец, для большей доходчивости Расул Гамзатов облекал своё беспокойство в сатирическую форму.
Поёт о прекрасных вершинах Кавказа
И тот, кто Кавказа не видел ни разу.
И тот, кто видал лишь из окон вагона
Мелькавшие, лесом покрытые склоны.
«Ах, горы высокие, снежные горы!
Как вы хороши! Ах, увижу ль вас скоро?»
И очень досадно порою бывает,
Что эти восторги в печать попадают.
И ловкий художник на переплёте
Рисует орла, что взмывает в полёте;
Под ним помещает лохматые тучи,
А тучи кладёт он на горные кручи;
А ниже (чтоб стала картина ясна)
Он в бурку решает одеть чабана
[65].
Начинающие авторы, так или иначе, находили свою поэтическую дорогу. Но что было делать с наседавшими графоманами?
Умерить зуд энергичных сочинителей бесконечных од было затруднительно, спорить с болезненным пристрастием, даже если оно выражалось в лёгкой форме, — бессмысленно. Автор полагал, что написал хорошо, если не сказать — гениально, и убеждать его в обратном значило наживать себе нового врага. Гамзатов писал об этом с мягким юмором.
Надпись на книге скучных стихов
Немало собраний я знал, на которых
Мы все засыпали докладчику в лад,
И в спальный вагон превращалась контора,
Где был как снотворное скучный доклад...
Я честно дремал под мотивчик унылый
Твоих сочинений, снотворный певец!
Когда же окончится лекция, милый?
Когда же начнётся кино, наконец?
[66]
Были и не состоявшиеся поэты, которых оставалось лишь пожалеть. О некоторых, подававших когда-то большие надежды, Гамзатов говорил с болью. Рассказывал, как они отправлялись в Москву и... пропадали без вести. Как в надежде на широкий литературный простор утрачивали то, что у них было — образное мышление своего народа. Как вместо стихов давали переводить на родной язык неумелые подстрочники. Как, оторвавшись от знакомой родной почвы, оказывались в положении солдат, попавших в окружение, из которого мало кому удавалось выйти.
«Поэзия без родной земли, без родной почвы — это птица без гнезда, — писал Гамзатов. — Я помню многих поэтов, стихи которых позабылись, погибли, как воробьи, которым не давали возможности опуститься на землю, заставляли летать до тех пор, пока они не падали замертво».
Гамзатов знал, что настоящая поэзия с годами становится только ценнее, что инфляция съедает лишь графоманов, но легче от этого руководителю Союза писателей не становилось. Особенно когда после первых же четверостиший пропадало желание читать дальше и возникало возмущённое недоумение оттого, что у тебя крадут время.
Но крали не только время, «заимствовали» фразы, строки, речевые обороты, мысли... Да мало ли чем можно было поживиться на обильных угодьях литературы?
Поэту, склонному к заимствованию
Хоть и в твоей отаре иногда
Бывают славные ягнята,
Но ведь в другой отаре, вот беда,
Они уж блеяли когда-то
[67].
А однажды предложил и способ лечения для поэтических клептоманов:
Я слышал, что вора спиною вперёд
Сажал на осла в Дагестане народ,
Чтоб целый базар осмеять его мог,
Чтоб стыд ему щёки бесстыжие жёг.
Поэта, крадущего голос чужой,
Я сам бы, как вора, пред гневной толпой
Возил по земле, посадив на осла,
Чтоб вкус он забыл своего ремесла!
[68]
Высказывался Гамзатов и о прискорбной манере тиражировать удачное стихотворение в разных формах. Он сам когда-то попытался «клонировать» удачное стихотворение о русской учительнице в горах Дагестана, сделав героями новых стихов русских людей других профессий, тоже работавших в горах. Но из этого ничего не вышло, тема была исчерпана в первом стихотворении.
Подобные «болезни роста» были характерны не только для Дагестана. Похожую картину можно было наблюдать и в других республиках Кавказа. Повторялись заблуждения, о которых писал ещё Белинский: «Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве».
В своём отзыве о творчестве Расула Гамзатова председатель Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики Алим Кешоков говорил о разнице между настоящей поэзией и поэзией декоративной: «Расул Гамзатов вносит в аварскую поэзию новое содержание. Не воспевание лишь храбрости мужчин и безудержное нагромождение бурок и кинжалов при описании жизни горцев, не выспренное перечисление внешних красот Кавказа, а поиски ярких примет нового в нашей действительности и нового лирического героя — вот что волнует его как поэта. Новое содержание потребовало ломки традиционных форм стиха, ибо рамки старинных горских песен, силлабических стихов с их аллитерацией, созвучием слогов внутри строк, вместо рифмы в обычном понимании, оказались недостаточно гибкими и современными. Черпая из богатейшего источника русских поэтических форм и отказываясь от излишеств многословной риторики, Расул Гамзатов продолжает оставаться глубоко национальным поэтом с богатым метафоричным языком, насыщенным национальными обрядами и красками».
Гамзатов чтил традиции в литературе, но предостерегал от их примитивного понимания. Называя традиции духовным завещанием народа, он говорил в интервью с Владимиром Коркиным: «Но завещание поэзии не счёт в банке, с которого можно припеваючи жить на проценты. Это строгая точка отсчёта. Она-то как раз и не позволяет быть рантье в поэзии. Не сочтите за нескромность, но, о чём бы я ни писал, я всегда думаю: а как бы об этом написали Шекспир, Пушкин, Тагор?»
ДЕКАДА И ХРУЩЁВ
В апреле 1960 года в Москве проходила Декада литературы и искусства Дагестана. В Кремлёвском дворце и на других сценах столицы были представлены творческие достижения Страны гор. Дагестан предстал во всём великолепии своих талантов. Композиторы, певцы, художники, танцоры, канатоходцы открыли зрителям неожиданный, неизвестный Дагестан. В Малом театре шли спектакли национальных театров. Аварский театр показывал спектакль «Горянка» по пьесе Расула Гамзатова.
Встреча с дагестанскими писателями проходила в Союзе писателей РСФСР. Известные советские поэты, переводчики, критики с неподдельным интересом слушали выступления своих собратьев по перу из Дагестана, обсуждали состояние национальных культур, спорили о тонкостях перевода, размышляли о преемственности и судьбах литературы. Знакомства перерастали в творческую дружбу, авторы находили своих издателей. Гамзатов пытался управлять процессом, но творчество регламенту не поддавалось. Одного дня не хватило, продолжили на следующий.
Встречи с читателями перерастали в творческие вечера. Расул Гамзатов был ошеломлён тем, как много людей знало и любило его поэзию. Его просили читать на аварском, переводчики читали на русском. Вечера затягивались до ночи. Гамзатов не мог отказать, когда читатели протягивали ему его книгу для автографа. Он оказался самым неорганизованным участником и самым популярным.
Евгений Евтушенко писал о Расуле Гамзатове той поры:
«Мне лично ближе всего поэты многогранные, от трудных аналитических раздумий легко переходящие к весёлой звонкой шутке, от сложных психологических сюжетов — к живописности, воздушной и объёмной. Именно таков один из моих любимых советских поэтов аварец Расул Гамзатов.
И в жизни он такой же, как и в стихах, вечно с новой шуткой на устах. Но шутить-то шутить, а из-под уже поседевших бровей смотрят глаза умные, проницательные.
Не случайно, если на наших поэтических собраниях бывают такие минуты, что ряды редеют от скуки, и стоит только объявить: выступает Гамзатов — из всех уголков начинает стекаться народ. Гамзатов — значит, это будет интересно!
У его стихов много друзей, ибо его сердце открыто всему огромному сложному миру, ибо его глаза понимающе и глубоко смотрят на этот огромный и сложный мир. Всё вместил он в своём сердце — и красавиц Грузии, и лицо друга за вагонным стеклом на перроне в Ереване, и мокрый блеск парижских мостовых. И от этого всего он не перестаёт быть всё тем же взлохмаченным аварским мальчишкой».
Гамзатов готов был провести ещё не один авторский вечер в любимой им Москве. Однако надо было спешить домой. Ожидалось прибытие в Дагестан самого Никиты Сергеевича Хрущёва.
Первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР возвращался с празднования сорокалетия установления советской власти в Азербайджане. Поезд шёл через Дагестан, в Махачкале планировалась короткая остановка.
На привокзальной площади спешно возвели трибуну, расстелили ковры, подготовили красавиц в национальных нарядах с хлебом-солью, украсили здания знамёнами и транспарантами, собрали трудящихся и студентов. Для демонстрации успехов республики свезли породистый скот, гигантских мороженых осётров, продукцию виноделия. Отдельно стояла платформа с початками кукурузы — «царицы полей». Никита Хрущёв видел в кукурузе спасение от продовольственных проблем и так к ней благоволил, что велел выращивать её «с южных гор до северных морей», В Дагестане кукурузу растили с незапамятных времён, это могло понравиться вождю государства. Были тщательно подготовлены приветствия. Среди выступающих числился и Расул Гамзатов.
Город ждал исторического события. Вдоль оцепленной железной дороги перекрыли движение транспорта, вместо машин и автобусов по улицам двигались колонны передовиков и оркестры, включая пожарных с медными трубами.
Когда поезд подъезжал к вокзалу, тысячи облепивших парапеты и деревья людей узрели улыбающегося Никиту Сергеевича, который помахивал им шляпой из открытого окна. Это так всколыхнуло народный энтузиазм, что, когда поезд остановился, люди смели охрану и совершили на поезд форменный набег. Внутрь они, конечно, не попали, зато сумели взобраться на крыши спецвагонов. Милиция бросилась снимать нарушителей с вагона, но те сопротивлялись. Это так напугало охрану, что торжественная встреча было отменена и поезд проследовал дальше.
Власти были огорчены досадным недоразумением, которое могло иметь политические последствия. Но Хрущёв не рассердился, он полагал, что это было всего лишь неудержимое проявление любви. Вождь уехал, но запланированный банкет состоялся. Гамзатов выступил на нём. Это было легче и веселее, чем участие в ответственном политическом мероприятии.
4 мая 1960 года Расул Гамзатов был награждён орденом Ленина «За выдающиеся заслуги в развитии дагестанского искусства и литературы и в связи с декадой искусства и литературы ДАССР в городе Москве». Посыпались ордена, медали и звания и на многих других участников успешно проведённой декады.
«ПОЕХАЛИ!»
12 апреля 1961 года случилась небесная революция. Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим орбитальный космический полёт. Миру стало ясно, что СССР обладает возможностями, которых ни у кого больше нет.
«Поехали!» — улыбнулся Гагарин перед стартом. И скоро страна вывалила на улицы: «Космос наш!», «Ура Гагарину!», «Все там будем!», «Даёшь невесомость!» И восторженно откликнулась планета, которую первым увидел из космоса Гагарин: «Yuri Gagarin — first man in space».
Гагарин обратился к миру: «Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!»
Это событие изменило понимание мира и сознание человечества. Теперь все хотели быть космонавтами. Космические темы обрушились и на поэзию. О космосе и космонавте писали повсюду. Полёт Гагарина вдохновлял, как первая любовь. И никто уже не разбирал, хорошо написано или плохо. Главное, что про победу в космосе.
Автору стихотворения
«Я полечу к звёздам»
Мой друг, когда вернёшься цел,
Почти ответом однозначным:
К небесным звёздам иль коньячным
Летал в загадочный предел?
С тех пор как начал ты полёт
Среди аульского тумана,
Уж не один из ресторана
Тебя разыскивает счёт
[69].
Не остался в стороне и сам Расул Гамзатов. Но не лозунговые вирши вышли из-под его пера, а строки зрелого поэта:
Звёзды ночи, звёзды ночи
В мой заглядывают стих,
Словно очи, словно очи
Тех, кого уж нет в живых...
Горец, верный Дагестану,
Я избрал нелёгкий путь.
Может, стану, может, стану
Сам звездой когда-нибудь.
По-земному беспокоясь,
Загляну я в чей-то стих,
Словно совесть, словно совесть
Волна космической эйфории докатилась до XXII съезда КПСС, делегатом которого был и Гамзатов. Он с болью в сердце вслушивался в перечень чудовищных преступлений сталинизма и голосовал за вынос тела Сталина из Мавзолея. Он аплодировал обещаниям Хрущёва о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» и что «к концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения».
Трудно было во всё это поверить, «кукурузная» затея Хрущёва тоже обещала изобилие, но оно всё никак не наступало. Однако кое-что из решений съезда начало претворяться в жизнь немедленно. Газеты заполнили свидетельства жертв репрессий и повсюду начали убирать памятники Сталину. Оставили лишь один, на родине генералиссимуса. Сталинград стал Волгоградом, но название великой битвы осталось прежним.
Одну из этих исторических экзекуций Расул Гамзатов наблюдал в парке Махачкалы, неподалёку от Союза писателей. Это была скульптурная композиция скульпторов Ефима Белостоцкого, Григория Пивоварова и Элиуса Фридмана «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках», которая тиражировалась по всей стране. Они сидели на скамье, и Ленин слушал Сталина, устремив взгляд куда-то в светлое будущее.
И в парках легче дышится деревьям,
Толпой оттуда статуи ушли.
И веточки зелёные с доверьем
На плечи дню грядущему легли...
[71]
Памятник снесли быстро, обломки увезли в сопровождении милиционеров на мотоциклах. Снести эпоху было труднее.
В том же году вышла первая книга литературного критика Владимира Огнева о творчестве Расула Гамзатова «Путешествие в поэзию», которая уже не раз цитировалась. «Зрелость поэта выразилась ещё в одном качестве, также принципиально важном для развития нашей поэзии, — писал Огнёв. — Многим стихам сегодня не хватает того, что Чернышевский называл “диалектикой души”. Гамзатов умеет показать борение чувств, процесс, развитие, становление мысли...
Сулейман Стальский сказал хорошие слова:
Писать стихи — не лёгкий труд —
Нас одержимыми зовут.
Верен завету этих больших поэтов и Расул Гамзатов. Жизнь сердца должна диктовать слова твоему перу. А в человеческом сердце может вместиться весь мир! Поэт, когда-то требовавший показа нового, как “примет”, сегодня почти демонстративно заявляет, что трактор “не лезет”, хоть убей, в его стихи, а птицы зато, — пусть требуют этого критики, — не улетают из его поэзии... Куда как “опасно” такое признание с точки зрения вульгаризаторской критики! Но, полно, не будем хмуриться. Поэт дразнит нас. И не без оснований. Было время, когда всё происходило прямо в противоположном смысле: птиц гнали из поэзии, а трактор втаскивали туда насильно... Но мы верим, что и трактору найдётся место в поэзии. Было бы место главному — человеку. Полноте его мироощущения».
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В 1962 году Расула Гамзатова избрали в высший орган власти страны. Когда-то в нём заседал и его отец. Председателем Президиума Верховного Совета был Леонид Брежнев, будущий руководитель СССР.
В Верховном Совете было несколько комиссий. Гамзатов выбирал недолго. Он вошёл в ту, которая занималась судьбами людей, попавших в беду — комиссию по помилованию.
Работа была нелёгкой, по-человечески трудной. Жизнь открывалась поэту мрачной, почти неизвестной ему стороной. Это мешало писать стихи, вдохновение будто пряталось от трагичности бытия. Но когда удавалось спасти человеческую жизнь, когда он представлял себе радость людей, к которым возвращались муж, отец, сын, поэт чувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Это спасало его от мук вынужденного творческого бездействия.
«В нашей стране — если по большому счёту — нет такого разграничения деятельности: на общественную и личную, — говорил Расул Гамзатов в беседе с Далгатом Ахмедхановым. — Если бы ко мне не приходили люди со своими заботами, то я не был бы собой — Расулом Гамзатовым. Это часть моей биографии, а она неотделима от биографии литературной. Тот не человек, чей талант шагает в противоположную от его собственного пути сторону. Некрасов говорил, что борьба мешала ему быть певцом, а песня мешала быть борцом. Но я думаю, в этом он был не прав: певцом он стал потому, что был борцом, а борцом потому, что был певцом. Ночью я говорю с собой, а днём разговариваю с людьми».
Но творчество — явление загадочное, если поэт не пишет стихов, это вовсе не означает, что он не творит. Работа идёт где-то в потаённых уголках сознания, души, сердца и вдруг выплёскивается на бумагу готовым или почти готовым произведением.
Сессии, на которых нужно было присутствовать, проходили два раза в год. Гамзатов и без того часто бывал в Москве по творческим делам, по делам возглавляемого им Союза писателей, или когда готовилась поездка делегации по стране или в зарубежные страны. Но и дома, в Махачкале, депутатская работа его находила всё чаще. К привычным просьбам избирателей добавились ходатаи о судьбах осуждённых. Слухи о том, что Гамзатов кому-то помог, кого-то вызволил из тюрьмы, кому-то помог избежать расстрела, разносились быстро. У дома и у Союза писателей собирались толпы людей, искавших помощи.
Дагестанский писатель Магомед-Расул Расулов писал в своём обращении к Расулу Гамзатову:
«Помню, как однажды к вам пришёл на приём седовласый, сухопарый горец и заговорил по-аварски. Я собрался было деликатно удалиться, но вы сказали:
— Посиди. Секретов у меня от тебя нет. Если у гостя есть что-то такое, ты всё равно ничего не поймёшь: для тебя мой аварский язык, что для меня твой кубачинский.
Горец говорил взахлёб. Вы дали ему высказаться, высвободиться от наболевшего и довольно скоро отпустили, обменявшись с ним несколькими словами.
На мой вопрошающий взгляд вы не замедлили пояснить:
— Сыну его грозит расстрел. Он возмущается, что нет правды на свете. Я спрашиваю: “Тебе что важнее — правду установить или сына спасти?” Я, говорит, всю жизнь боролся и борюсь за правду. Я тоже, говорю, боролся и борюсь, но её, правды этой, не могу найти. Лучше ты к кому-нибудь другому обратись. В конце концов, мы сошлись на том, чтобы попробовать помочь его сыну».
Айшат Гаджиевой тоже доводилось быть свидетельницей подобных историй: «Все к ним приходили за помощью, и больной, и попавший в беду. Ящиками лекарства привозили из-за границы для Расула друзей, и для людей, которые заболели и просили помощи. Патимат всем гостям и подарки давала, и лекарства тем, кто нуждался. Находила время уделять людям внимание. Про Расула можно сказать, что он был создан не для себя, не для семьи, он был создан для всего народа».
«НЕ КРАЙ ЛИ ДАЛЁКИЙ ТЕБЕ ПОЛЮБИЛСЯ?»
У депутата Верховного Совета обязанностей прибавилось, но это не мешало его творчеству, талант подавлял «помехи», зато его депутатство помогало дагестанской литературе. Депутат мог сделать больше, чем просто председатель Союза писателей, особенно если этим депутатом был Расул Гамзатов.
Появились и другие возможности. В составе всевозможных делегаций Расул Гамзатов побывал во многих странах. Тогда выезд за границу был особой привилегией, почти недоступной простым смертным. Даже дозволенные туристические путёвки оформить было очень сложно. Для этого следовало преодолеть несколько барьеров, пройти собеседование на благонадёжность, получить рекомендации от партийных или комсомольских органов. Их давали не всем. Контролировали граждан и в самих поездках, в каждой делегации для этого был специальный человек, а то и двое.
Гамзатова возмущал не столько неусыпный контроль, он, может быть, кому-то и помогал избежать провокаций, сколько недоверие к своим гражданам. «Даже в 1937 году мы пели: “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”, — говорил позже Расул Гамзатов в беседе с Феликсом Медведевым. — Но вольно дышать — это не только жить у себя дома, но и мир посмотреть, по Парижу поездить, лондонского тумана вдохнуть. Надо чаще выезжать за границу. Не общаясь с зарубежными странами, не имея научно-технического обмена, литературных, культурных связей, как можно двигаться вперёд? Хорошо, что много в этом отношении сделано XX и XXII съездами партии. Надо срочно облегчить человеку оформление поездок за границу, снять нервозность в этих делах. Сколько комиссий надо пройти, бумаг оформить, чтобы выехать за рубеж! Ощущаю это на себе. В конце концов, я не прогуливаться еду, а по литературным, государственным делам».
Гамзатов прибывал в другое государство как член официальной делегации, депутат, член комитета или комиссии, но покидал страну в совсем другом статусе. Талант пробивался сквозь официальные рамки, поэзия находила поэзию, преодолевая языковые барьеры.
При всеобщем стремлении попасть за границу Гамзатов порой отклонял приглашение под благовидным предлогом. Но причина всегда была одна — творчество.
В беседе с Кларой Солнцевой поэт приводил в пример Александра Твардовского: «Как-то у него гостил американский поэт Роберт Фрост и пригласил его в Америку. Твардовский отказался. Я удивился: “Почему?” Твардовский пояснил: “Расул, если бы я поехал в Америку, пришлось бы отложить поэму ‘За далью даль’. А я жил этой вещью, буквально жил”. Всего-навсего одна причина, но в ней отношение поэта к себе и своему предназначению».
Он ехал, когда нельзя было не ехать. Или когда выпадала возможность увидеть то, что хотелось увидеть давно. Первой страной, в которой побывал Гамзатов и куда он потом часто ездил, была Болгария. Она во многом напоминала Дагестан, да и было ли где такое же радушное, тёплое отношение к советским людям — наследникам России, чьи воины погибали, освобождая Болгарию в XIX и XX веках? Где ещё их называли «братушки»? Болгарская речь похожа на русскую, как и алфавит — дар болгарских просветителей Кирилла и Мефодия. Даже в различиях русские спутники Гамзатова улавливали общие корни, уходящие в старославянскую речь. Если, указывая дорогу, болгары говорили «наляво» — это было почти общее, но если говорили «направо» — это оказывалось «прямо». Русское «направо» было по-болгарски «вдясно», и в слове этом отзывалась десница — устаревшее обозначение правой руки.
Болгария, войди в мой стих, войди,
Как в сердце входит то, что сердцу мило.
Войди, как входят тёплые дожди
В распаханные земли мира
[72].
«Я чувствую себя особенно крепко связанным с Родопами — родиной Орфея и Спартака, — говорил Расул Гамзатов. — Там написал я цикл сонетов. Там оставил частицу своего сердца».
Страны, которые довелось увидеть Расулу Гамзатову, были разными. Открытая, дружественная Болгария, настороженная Германия, пребывающая в бесконечном Ренессансе Италия.
— Скажи «люблю», — меня просили в Риме,
На языке народа своего! —
И я назвал твоё простое имя,
И повторили все вокруг его...
[73]
Соседствующие с Кавказом Турция и Иран тоже удивляли схожестью некоторых традиций и культурных особенностей.
«Если бы иранские шахи пришли в Дагестан не с огнём и мечом, — писал Расул Гамзатов, — а с мудростью Фирдоуси, с любовью Хафиза, с мужеством Саади, с мыслью Авиценны, им не пришлось бы убегать без оглядки. В Нишапуре я посетил могилу Омара Хайяма. Там я подумал: “Мой друг Хайям! Пришёл бы ты к нам тогда вместо шаха, с какой бы радостью приняли тебя народы гор”».
Он не писал «отчётных командировочных» стихов, писал лишь то, что само выливалось в строки, что накопилось в душе. Позже за книгу стихов об Иране Расул Гамзатов получил премию имени Фирдоуси. Об этой книге он говорил Далгату Ахмедханову:
«Никогда не ставил себе целью написать стихи о той или иной стране. Если бы они рождались по такому принципу, то сейчас я мог бы, вероятно, показать вам пятьдесят книг о пятидесяти странах, в которых довелось побывать... В Иране я бывал трижды, и если из-под пера вышли стихи, то навеяны они были, как всегда, размышлениями о жизни, о людях, о Родине, о том, насколько мои иранские впечатления перекликаются с Дагестаном. Иначе ни для читателя, ни для меня они не представляли бы ценности. Самый верный судья — время. Разве мало было написано стихов о зарубежных странах? И что они теперь? Мы помним лишь те из них, что, рассказывая о чужих землях, поют о Родине поэта. “Катюша” Исаковского сама покорила весь мир, потому что эта песня о Родине... И ещё можно сказать, что эта книга соответствует моему творческому возрасту и не случайно названа — “Последняя цена”. Она содержит размышления о цене нашей жизни, любви, дружбы. Вспомним, как торгуются на восточном базаре... Вроде уже сторговались, но покупатель ещё и ещё спрашивает: а какова последняя цена? И продавец уже ударил с ним по рукам, а всё повторяет: ладно, но вот товару последняя цена... Торгуются и бедные, и богатые: дешёвый товар хотят продать подороже, а дорогой купить подешевле. Всех волнует последняя цена... Какова последняя цена всему, что есть в нашей жизни? Нет, если бы это были чисто персидские стихи, они бы не стоили и копейки на тегеранском базаре. Для меня они — и дагестанские, и общечеловеческие».
Страны отличались друг от друга, но сами люди были везде похожи. Казалось, переодень их в дагестанскую одежду — не отличишь. Даже среди европейцев он видел людей, удивительно напоминавших его друзей и знакомых. Разными были условия жизни. В поверженной недавно Германии люди жили заметно лучше, чем в победившем СССР, и не только в Германии. Было о чём призадуматься государственному деятелю Гамзатову. Но поэт Гамзатов видел желание людей жить в мире, забыть тяжёлое прошлое, все на свете хотели любви и счастья.
В Японии читал стихи свои
На языке родном — в огромном зале.
— О чём стихи? — спросили. — О любви.
— Ещё раз прочитайте, — мне сказали.
Читал стихи аварские свои
В Америке. — О чём они? — спросили.
И я ответил честно: — О любви.
— Ещё раз прочитайте, — попросили.
Знать, на любом понятны языке
Стихи о нашем счастье и тоске,
И о твоей улыбке на рассвете.
И мне открылась истина одна:
Влюблёнными земля населена,
А нам казалось, мы одни на свете
[74].
Когда Луиза Ибрагимова в интервью с Гамзатовым спрашивала, не мешало ли ему незнание языков, он отвечал, что вполне полагался на переводчиков, а что касается самих языков, то он предпочитал вслушиваться в музыку речи: «Меня волнуют звуки чужой речи, мне доставляет удовольствие вслушиваться в непонятные слова, мне нравится бывать в театрах, на концертах, хотя на сцене и говорят на чужом языке. Вслушайтесь в испанский, итальянский... По-моему, все языки красивы».
...И две мулатки песню пели,
В словах искрились угольки,
Горячих губ, что пламенели,
Слегка белели уголки.
Пленён был песней этой сразу
И оценил её чекан
Я — горец, преданный Кавказу,
Из Индии он писал Твардовскому:
Ни облачка над улицами города,
И, кажется, что выцвел небосвод.
Шумит Бомбей и, захмелев от голода,
В тарелках щедро солнце раздаёт.
Пью только чай и охлаждаюсь соками,
Жара похожа на сухой закон...
[76]
В беседе с Таисией Бахаревой дочь поэта Патимат вспоминала: «Ещё помню, как, возвращаясь из зарубежных поездок, родители привозили нам подарки. Мы всегда с трепетом ожидали их приезда. Папа никогда не покупал одежду, а дарил нам сувениры из разных стран. У него в кабинете висела индонезийская кукла-марионетка, стояли там и японские деревянные куклы».
В ЦАДА, К МАТЕРИ!
Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,
Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далёкий тебе полюбился?»
На гору взошёл я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краёв повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете...»
[77]
Где бы ни был Гамзатов, его всегда тянуло на родину, в Цада. Там, среди родных гор, его всегда ждало вдохновение. Там, несмотря на свои регалии, он с волнением ждал, что скажут старики о его стихах. Стать знаменитым труднее всего на родине — в верности этой истины он убеждался снова и снова. Но когда Расул Гамзатов переступал порог отчего дома, сердце его трепетало от радости — радости встречи с матерью.
Хандулай всё ещё носила траур по сыновьям и мужу. И приезд сына был для неё теплом, согревавшим опечаленное сердце. Она слышала его по радио, читала о нём в газетах, но ей, как и всем другим матерям, больше всего хотелось, чтобы он оказался рядом.
Мальчишка горский, я несносным
Слыл неслухом в кругу семьи
И отвергал с упрямством взрослым
Все наставления твои.
Но годы шли, и, к ним причастный,
Я не робел перед судьбой,
Зато теперь робею часто,
Как маленький, перед тобой.
Расул рассказывал матери о своих успехах, о семье, о новых книгах, а её беспокоили его усталые глаза и появившаяся в висках седина.
Мне горько, мама, грустно, мама,
Я — пленник глупой суеты,
И моего так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты...
А ты, с любовью, не с упрёком,
Взглянув тревожно на меня,
Вздохнёшь, как будто ненароком,
Слезинку тайно оброня.
Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полёт.
Тебе твой мальчик на ладони
Гамзатова, как известного теперь поэта, земляки встречали с радостью. В Цада чтили его отца, его память, и в сыне хотели видеть человека, достойно представляющего их аул. Критерии у стариков были устоявшиеся, неколебимые, главным было — какой Расул человек, какая от него польза аулу, а остальное было делом второстепенным. Гамзат Цадаса провёл водопровод, Расул Гамзатов помогал в сельских нуждах, хлопотал о хорошей дороге к селу, и это было хорошо. Но когда речь заходила о стихах, в которых горцы знали толк, вердикт аксакалов был суров.
«У одного старика оказалась свежая газета, а в ней были мои стихи. Разговор перешёл на них, — вспоминал Гамзатов. — Всаднику нравится, когда люди хвалят его коня. Я тоже надеялся, что земляки сейчас похвалят моё стихотворение. В Москве и в Махачкале я уже стал привыкать к похвалам. Старик, державший газету, заметил:
— Отец твой Гамзат писал стихи. И ты, сын Гамзата, тоже пишешь стихи. Когда же ты будешь работать? Или ты думаешь и век прожить, не поднимая ничего тяжелее куска хлеба?
— Стихи — это моя работа, — ответил я как можно смиреннее, несколько ошарашенный таким поворотом разговора.
— Если стихи — работа, то что же тогда безделье? Если песни — труд, то что же тогда наслаждение и отдых?
— Для тех, кто песни поёт, они действительно наслаждение, но для тех, кто их сочиняет, они работа. Работа без сна и отдыха, без выходных дней и отпусков. Бумага для меня — то же, что для тебя поле. Мои буквы — это мои зёрна. Мои стихи — колосья.
— А, всё это красивые слова. Поле не приходит ко мне на крышу сакли. Я должен ходить в поле работать. Песни же сами находят тебя, где бы ты ни был, даже в твоей постели. Каждая твоя песня — это твой гость, который стучится в дом. Значит, каждая песня — это праздник. А наше поле — ежедневная, будничная жизнь.
Так, или примерно так, выражали свои мысли старейшины с нашего годекана.
— Но песня — это и есть моя жизнь.
— Значит, жизнь у тебя — вечный праздник. Песни ведь дело таланта. У кого он есть, тому легко написать хорошую песню. Кто не наделён им, тому, конечно, приходится трудиться. Только труд в этом случае мало помогает.
— Нет, вы не правы. Тот, у кого мало таланта, смотрит на искусство как на очень лёгкое дело. Он порхает с песни на песню. Он, как мы говорим, халтурит. Большой же талант приходит вместе с ответственностью за него, и человек с настоящим талантом смотрит на свои стихи как на очень важное, трудное дело. Не всё то, что поётся, песня, и не всё то, что рассказывается, рассказ.
— Тогда расскажи, как ты работаешь и в чём трудность твоего ремесла?
Вокруг меня сидели старые пахари. Я начал им рассказывать, но вскоре понял, что мне трудно объяснить им самые простые, самые понятные для меня вещи. Я сбился, засмущался и замолчал. Старцы с годекана в тот день взяли надо мной верх. Я не мог объяснить им, почему трудно писать стихи и вообще, что это за работа — писать стихи».
Старики были по-своему правы. Трудно объяснить, что такое творческие муки, как непросто найти, сложить слова так, чтобы они и авторскую мысль выразили, и сами по себе звучали красиво. Чтобы строчки не выбивались из общего ритма и чтобы между ними таилось нечто, что словами не выразишь, а читатель почувствует. Только тогда стихотворение и получится, постучится в сердце, запомнится. А если форма не будет соответствовать содержанию, то и содержание исчезнет.
Они в горах живут высоко,
С времён пророка ли, бог весть,
И выше всех вершин Востока
Считают собственную честь.
И никому не сбить их с толка,
Такая зоркость им дана,
Что на любого глянут только —
И уж видна его цена...
Душой робея, жду смущённо,
Что скажут на мои стихи
Не критики в статьях учёных,
А в горских саклях старики
[79].
Прежде чем проносился слух о его приезде, Гамзатов успевал пройтись по окрестностям, вдохнуть родного, настоянного на травах, воздуха, посмотреть, что делается в полях и садах. Потом на это могло не хватить времени. Он бродил, повсюду встречая волнующие приметы детства и уже незнакомых ему детей со знакомыми чертами.
Он спрашивал, и это тоже было традицией, чей он сын, чья она дочь. И они отвечали с достоинством и гордостью за своих родителей. Мальчишки старались пожать руку как можно крепче, а девочки смущённо улыбались, когда их гладили по головке.
Приехавшему в село полагалось проведать всех родственников, зайти в каждый дом с гостинцем. Затем наступала очередь давних друзей, с застольями и песнями. За всем этим Расул Гамзатов не забывал и о главной обязанности — побывать на кладбище, где покоились его предки и родственники.
Цадинское кладбище...
В саванах белых,
Соседи, лежите вы, скрытые тьмой.
Вернулся домой я из дальних пределов,
Вы близко, но вам не вернуться домой
[80].
При посещении кладбища полагалось читать «Ясин» — заупокойную молитву на арабском языке. Расул Гамзатов читал её сам или приглашал старшего из родственников, что тоже было в обычае. Изменить этот порядок не могло ничто. Какими бы карами ни грозили борцы с религией, горцы следовали своим традициям. И вряд ли нашёлся бы в Дагестане человек, даже фанатичный атеист, разрушавший мечети, которого бы не похоронили по правилам веры и над которым бы не читали «Ясин».
На кладбище людей невольно посещают мысли о скоротечности бытия, о трагичности самого существования человека, которому неминуемо предстоит расстаться с этим миром. Поэт часто размышлял о тайне смерти, о смысле жизни, о бренности всего земного. Одно из таких поэтических осмыслений человеческой судьбы мы находим и в последней в ту пору книге Расула Гамзатова «Высокие звёзды».
Хоть я не бессмертник, хоть ты не сирень,
Но срезать однажды нас будет не прочь
Белый садовник по имени день,
Чёрный садовник по имени ночь.
Хоть ты не пшеница, хоть я не ячмень,
Щадить нас не будут — им это невмочь —
Жнец белолицый по имени день,
Чёрная жница по имени ночь...
[81]
Исполнив главные человеческие обязанности, Гамзатов отправлялся в Хунзах, где его с нетерпением ждали местные власти. Впрочем, начальство являлось само, ведь Гамзатов был «большим депутатом». Обязательные встречи с избирателями превращались в творческие вечера, всем хотелось увидеть и послушать Расула Гамзатова, своего знаменитого земляка, который и стихи им читал, и пошутить умел так, что весь район вспоминал его слова ещё долгие годы, а что-то оставалось навсегда.
«ЛЮДИ И ТЕНИ»
Став депутатом Верховного Совета, а вскоре и членом его Президиума, Гамзатов обрёл значительную власть. Теперь он мог помогать не только отдельным людям, но и всему Дагестану. Если нужно было провести воду — уже не водопровод в Цада, а целую оросительную систему республиканской важности, то и это было Гамзатову по силам.
В Верховном Совете, среди знаменитых государственных деятелей, героев страны, легендарных полководцев, он не потерялся. Расул Гамзатов стал яркой и влиятельной государственной персоной, да ещё в ореоле многочисленных поклонников своего творчества. Для кого-то это становилось вершиной успеха, но для Гамзатова его поэтическая судьба была важнее политической карьеры.
Времена были удивительные, парадоксальные. В 1962 году Твардовский опубликовал в своём «Новом мире» Александра Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» взорвал литературный мир. Громкий успех правды о ГУЛАГе разделил и читателей, и критиков. Но свою поэму «Теркин на том свете», обличавшую гримасы советского строя, засилье бюрократизма и власть партийных аппаратчиков, Твардовский опубликовать не смог, не позволили.
А тут вдруг и Расул Гамзатов, поэт, лауреат и государственный деятель, выложил на стол крамольную поэму «Люди и тени».
В дали туманной годы, как планеты,
И, верный их загадочной судьбе,
Раздвоенного времени приметы
Я чувствую мучительно в себе.
И сам с собой дерусь я на дуэли.
И прошлое темнеет, словно лес.
И не могу понять ещё доселе,
Когда я Пушкин, а когда Дантес.
О том, что за этим последовало, вспоминал Яков Козловский, который перевёл поэму Расула Гамзатова:
«О чём эта трагедийная вещь? Да о том же, о чём рассказывают расстрельные списки, — о судах, затмивших приговоры инквизиции, когда насильно отворяли кровь, а не заговаривали её. Место действия Кавказ и Россия. И в оригинале, и в переводе поэма долго пребывала в безвестности, сокрытая от посторонних глаз. Но вот наперсник Расула Дмитрий Мамлеев, в ту пору ответственный секретарь “Известий”, решил, что пора извлечь на свет узницу письменного стола. Он стал закопёрщиком чтения поэмы на редколлегии. Аджубей (Алексей Аджубей, зять Н. С. Хрущёва, был главным редактором газеты «Известия». —
Ш. К.) находился тогда в Германии. Поэму читал я, и принята она была благосклонно. Даже восторженно. В каком-то раскованном, безоглядном порыве журналистская братия решительно высказалась в том смысле, что прозвучавшие стихи надо печатать немедленно. Не согласен был с такой скоропалительностью только заместитель Аджубея — Алексей Гребнев. От обсуждения поэмы он предусмотрительно самоустранился. “Вот возвратится Алексей Иванович, тогда и примем окончательное решение”, — посоветовал опытный лис. “Нет, нет, — хором зашумели остальные, — мы сами с усами!” Гамзатов попросил меня перепечатать поэму и завтра же отнести в газету.
— У меня такое предчувствие, Расул, что их храбрость — на час. Они все под Аджубеем ходят.
И как в воду глядел. Принёс я на следующий день перепечатанную рукопись, и ни одного члена редколлегии нет на всех этажах — кроме Гребнева.
Вскоре из-за Берлинской стены возвратился Аджубей. Воистину: “Вот приедет барин, барин нас рассудит”. Гамзатов созвонился с ним и сговорился о встрече.
А был зять Хрущёва недоученным актёром, и я, грешным делом, подумал, что желает он покрасоваться в роли чтеца, блеснув искусством дикции.
Бок о бок со мной сидел Всеволод Цюрупа. Я испытывал к этому благородному человеку чувство глубокой симпатии. К тому же смолоду мне было известно, что его легендарный отец Александр Дмитриевич Цюрупа, член первого советского правительства, однажды упал в голодный обморок. А занимал должность наркома продовольствия. Всеволод Александрович наклонился ко мне:
— Будет читать сам. Это плохое предзнаменование.
И действительно, как только Аджубей дошёл в первой главе до строк “В дали туманной годы, как планеты, / И, верный их загадочной судьбе, / Раздвоенного времени приметы / Я чувствую мучительно в себе” — последовал надменный вопрос с обвинительной интонацией:
— Скажите, Гамзатов, где, интересно, вы видите раздвоенность в советском человеке и советском обществе?
Присутствующие, сникнув, безмолвствовали, как народ в “Борисе Годунове”. По скулам Гамзатова прошли желваки.
— Двуличие этого общества я вижу здесь, в “Известиях”. Люди, что ещё неделю назад хвалили мою поэму, сегодня напоминают утопленников.
— Прошлый раз, как мне доложили, был ни к чему не обязывающий разговор, — отпарировал Аджубей таким тоном и с такой миной, что я почувствовал — перед нами не просто редактор “Известий”. Не зря по Москве ходили слухи: не сегодня — завтра Аджубей сменит Громыко на посту министра иностранных дел. А это значит — войдёт в Политбюро, самого Бога возьмёт за бороду. А тут! Не много ли позволяет себе этот Гамзатов? Что с того, что случалось быть его застольником. Времена меняются...
Хрущёвский зять нарочито коряво читал поэму. Вот он дошёл до фрагмента, где горец в честь рождения сына стреляет в потолок из пистолета. Пуля рикошетом попадает в портрет Сталина, и незадачливый стрелок оказывается на Колыме. И вдруг, к смятенности присутствующих, словно выдавая что-то сокровенное. Аджубей произносит:
— А если бы пуля попала в портрет Никиты Сергеевича? — И осклабился: — Мы бы такого ворошиловского стрелка посадили, как воспетого тобой земляка, дорогой Расул.
— От чьего имени вы говорите? — с вызовом бросил Расул.
— Я говорю от имени советского народа!
— Не рано ли?
Ещё некоторое время с обеих сторон “высекались молнии”. Аджубей потерял контроль над собой и, хотя по тогдашней табели о рангах он был ниже члена Президиума Верховного Совета, предостерёг:
— Подумайте о себе, товарищ Гамзатов!
Расул глянул на него, как всадник на пешего, и перешёл на ты:
— По-моему, это тебе надо опуститься на землю и хорошенько поразмыслить о том, что говоришь.
Начали расходиться. Я, достав сигарету, потянулся к зажигалке Аджубея, что лежала на столе. Он хвастливо пошутил:
— Не положи в карман. Она золотая. Её мне сам Крупп подарил.
В то же лето эту зажигалку он обронил на рыбалке, и исчезла она на дне речном. А вскоре грянуло низвержение Хрущёва, и в мгновение ока улетучился и Аджубей, талантливый журналист и недальновидный функционер».
В этой поэме о мрачном фарсе истории проявлены мучительные раздумья поэта, осмысление своей судьбы и судьбы всей страны.
Двойственность, которую Гамзатов ощущал в себе, была присуща самой эпохе. Разоблачение культа личности сошлось в мучительном противоречии с победой в войне, которая была неотделима от имени Сталина. Гамзатов читал, что писали, и слышал, что говорили о Сталине и сталинизме именитые писатели. Страх, который сидел в них все эти годы, обиды, потери близких — всё, или почти всё накопившееся за эти годы хлынуло в общество мутным потоком. Но почему-то никто не спешил отказываться от Сталинских премий, которыми кто-то награждался и по нескольку раз. Выговориться и освободиться — это считалось панацеей от недугов совести, но почему-то не помогало.
Живёт нелепо, как химера,
Как неразумное дитя,
Почти языческая вера
В непогрешимого вождя.
И коммунист у стенки станет
И закричит не для газет:
— Да здравствует товарищ Сталин!
И грянет залп ему в ответ.
Поэту снится, что арестовали и его:
Но есть и пострашнее прегрешенья,
Терпи, терпи, бумаги белый лист:
Я на вождя готовил покушенье,
Как правый и как левый уклонист...
Бросают на тюремные полати
Мужей учёных, к торжеству ослов.
Вавилов умирает в каземате.
И Туполев сидит. И Королёв.
Казнённый поэт оказывается в мире умерших, призывая невинных вернуться к жизни, к народу, которому их не хватает.
Встречает он и своего отца и обращается к нему с упрёком:
— Родной отец, неся раздумий гору,
Зачем и ты о многом умолчал?
— Боялись сыновей мы в эту пору,
И ты отцом другого величал.
Поэт ищет искупления и оправдания, пытается понять, почему история так несправедливо поступала с людьми, что ослепило целый народ. Он спрашивает об этом у Александра Фадеева, маршала Тухачевского, командарма Якира, у других жертв репрессий. Однако всё смолкает, когда является новая тень:
Но стало страшно мертвецам несметным,
И я подумал, что спасенья нет,
Когда старик, считавшийся бессмертным,
В парадной форме прибыл на тот свет.
Поэт решается прочесть Сталину свою поэму, но тот лишь посмеивается над его попыткой найти правду и обличить зло. Он растолковывает ему, что наивный народ сам сотворил из него кумира.
Несмотря на все свои регалии, напечатать поэму Расулу Гамзатову не удавалось. Она была опубликована только в 1988 году, в книжке библиотеки «Огонька», спустя четверть века после написания. Ещё через год поэма была напечатана в «Роман-газете» тиражом почти в 4 миллиона экземпляров. Это был выпуск с подзаголовком «Современная поэма». В том же номере были опубликованы произведения Анны Ахматовой, Александра Твардовского, Ларисы Васильевой, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского.
И все эти годы за внешностью всемогущего Расула Гамзатова, весельчака и балагура, скрывались израненное сердце и неспокойная душа. А тогда, в 1962-м, после неудачи с публикацией поэмы, Гамзатов увидел, что до преодоления культа ещё далеко. И дело было не только в Сталине. Историческая инерция была сильна, как тяжёлый состав, который никак не мог остановиться, несмотря на старания машиниста. Была эта инерция и в самом машинисте. Реформатор общественного сознания порой демонстрировал это с шокирующей наглядностью.
В декабре в московском Манеже открылась выставка, посвящённая тридцатилетию московского отделения Союза художников СССР, там же была размещена и выставка авангардистов. Многие восприняли её как прорыв, как созвучие с мировыми тенденциями в искусстве. Но другие узрели в этих подозрительных абстракциях тлетворное и весьма опасное влияние Запада.
Посетил выставку и сам Никита Хрущёв. Увидев искусство, весьма далёкое от социалистического реализма, Никита Сергеевич пришёл в ярость. Взяв на себя роль критика, он разразился гневной бранью, которая вошла в историю, затмив даже его кукурузную эпопею. Не утруждая себя выбором выражений, он высказался без абстракций: «Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть! Вот эти чувства — вызывает».
Ему пытались объяснить про новые формы искусства, творческие поиски и эксперименты, но Хрущёв от этого приходил в ещё большую ярость. Он требовал запретить непонятную народу мазню, выкорчевать опасную заразу. В работах художников и скульпторов он заподозрил антисоветчину, буржуазное влияние и предложил им покинуть страну, если им так нравится Запад. Или отправить их на лесоразработки, пока не отработают деньги, которые государство потратило на их обучение. Переходя от картины к картине, он искренне недоумевал: куда это с лица пропал второй глаз и что это за ноги у советской женщины? Задавался вопросом, умеют ли вообще эти художники рисовать, уверял, что его внук нарисует лучше, и подводил неутешительный итог: «Мы вот с этой мазнёй в коммунизм пойдём?»
«Мазня» и «дерьмо» были не самыми крепкими выражениями, которые употреблял первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР. Впрочем, они широко известны, та речь давно разлетелась на цитаты и вошла в политический фольклор.
Грандиозный скандал обернулся более чем эффективной рекламой. На следующий день у Манежа выстроились огромные очереди желающих своими глазами увидеть запрещённое искусство. Для большинства это стало откровением, окном в иной мир, удивительный и волнующий.
В выставке участвовал и скульптор Эрнст Неизвестный, удостоившийся персональной критики.
«Теперь вот этот Неизвестный нечто неизвестное выставил. И думает, что он теперь известный, — возмущался Хрущёв. — Эти скульпторы, по-моему, медиумы. Вот он написал, вылепил, создал, а мы ходим и не понимаем: что это? Следовательно: мы — виноваты. Если бы эти “товарищи неизвестные” стали бы товарищами известными и создали бы свой Центральный комитет, так вы бы, наверное, нас не пригласили на это заседание. А мы вас пригласили!!!»
Многие участники той выставки стали позже мировыми знаменитостями, кто-то эмигрировал, как предлагал Хрущёв, кто-то остался.
Когда Хрущёва не стало, история вновь явила свою непредсказуемость. Именно Эрнст Неизвестный создал памятник Никите Хрущёву, который стоит на Новодевичьем кладбище: две проникающие одна в другую мраморные формы, чёрная и белая, как две ипостаси Хрущёва, и золотая голова между ними.
События в Манеже послужили поводом для развёртывания новой пропагандистской кампании. На этот раз мишенью стали абстракционизм и другие непривычные направления в искусстве.
Георгий Данелия приводит пример такой борьбы, связанный с Расулом Гамзатовым. Будто бы, готовясь к съёмкам фильма «Хаджи-Мурат» по повести Льва Толстого, Данелия с киногруппой колесил по горам Дагестана, выбирая натуру, типажи и стараясь почувствовать атмосферу, окружавшую легендарного героя. И на одной из дорог вдруг увидел удивительный плакат.
«На плакате: блондинка в розовой комбинации сидит на кровати, глаза от ужаса вытаращены, рот открыт, руки протянуты, она взывает о помощи! Внизу под ней — алые языки пламени, наверху, над головой, крупными красными буквами написано: “НЕ КУРИ В ПОСТЕЛИ!” В Дагестане есть обычай — на месте аварии, если поблизости нет дерева, привязывать ленточку к шесту. Около плаката таких шестов было немало.
— Какой идиот додумался поставить здесь это полотно?! — удивились мы.
— Абстрагамз, — угрюмо сказал наш водитель...
Когда в 1962 году на выставке в “Манеже” Хрущёв поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам (областным комитетам Коммунистической партии) выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из Союза художников. А Дагестанский обком, к ужасу своему, обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят. Расул пришёл в восторг от такого поручения и всем о нём рассказывал. Прошло время, все уже забыли об этом. Но когда в прошлом году на дорогах начали появляться эти плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его — Абстрагамзом (Абстракционист Гамзатова).
— Горцы идеалисты! Думают, пообещаешь нищему художнику квартиру, он всё бросит и сразу приедет! — сказал Расул, когда мы вернулись в Махачкалу. — Ни один, даже самый немодный, не согласился к нам приехать. Сказали, что будут бороться за свободу здесь, на переднем крае, — в Москве! Или — в Соединённых Штатах Америки!»
Было ли это в реальности или это одно из занятных преданий, каких много окружает образ Гамзатова, судить читателю.
Художниками Никита Хрущёв не ограничился. В марте он принялся за культуру в целом.
На встрече с творческой интеллигенцией в Кремле Хрущёв обрушился, в основном, на писателей. Когда выступал Андрей Вознесенский, Хрущёв уже не мог спокойно слушать и переходил на крик:
— Нет, довольно! Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки — а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы!
— Я не могу спокойно слышать подхалимов наших врагов. Не могу! Я не могу слушать агентов!
— Здесь вот ещё агенты стоят. Вон два молодых человека, довольно скептически смотрят. И когда аплодировали Вознесенскому, носы воткнули тоже. Кто они такие? Я не знаю. Один очкастый, другой без очков сидит.
— Мы создали условия, но это не значит, что мы создали условия для пропаганды антисоветчины!!! Мы никогда не дадим врагам воли. Никогда!!! Никогда!!!
— Ишь ты какой Пастернак нашёлся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт?..
— Думают, что Сталин умер, и, значит, всё можно...
— Так вы, значит... Да вы — рабы! Рабы! Потому что, если б вы не были рабами, вы бы так себя не вели. Как этот Эренбург говорит, что он сидел с запертым ртом, молчал, а как Сталин умер, так он разболтался. Нет, господа, не будет этого!!!
— Товарищи, это вопрос борьбы исторической, поэтому здесь, знаете, либерализму нет места, господин Вознесенский.
С годами те события обросли мифами и разнятся в деталях. Магнитофонные записи тех встреч нашёл и расшифровал Дмитрий Минчёнок, они были опубликованы в журнале «Огонёк». Появляются и новые материалы. На фотографии из архива газеты «Известия» запечатлёно рукопожатие Хрущёва (из президиума) и Вознесенского (с трибуны) с уточнением, что это момент «прощения». Хрущёв был грубоват, но отходчив. Видимо, они всё же пожали друг другу руки после словесного поединка.
И всё же из полемики с Андреем Вознесенским, хотя полемикой это назвать трудно, больше ораторствовал Хрущёв, перебивая и иронизируя на свой манер, было нетрудно сделать печальный вывод — «оттепели» наступает конец.
Ничего хорошего не приходилось ждать и Расулу Гамзатову, особенно после стычки с Аджубеем, зятем Хрущёва, по поводу поэмы «Люди и тени». В ней Гамзатов как раз и говорил о мрачных сторонах правления Сталина и подавлении всякого инакомыслия.
И ГАМЗАТОВ...
Он ожидал всего, вплоть до исключения из партии и прочих гонений. Но вместо мучительной неизвестности отправился в неизвестность экзотическую, в Индию и Непал, с делегацией писателей. В индийской Калькутте его разыскали сотрудники советского посольства, чтобы передать срочную телеграмму из Москвы. В ней сообщалось, что Расулу Гамзатову присуждена Ленинская премия за книгу стихов «Высокие звёзды».
Видимо, Аджубей уже почувствовал закат эпохи Хрущёва, и мнение его теперь не имело весомого значения. Или он попросту забыл конфликт с Гамзатовым как досадное недоразумение, да и таланта его Аджубей не отрицал.
Но, скорее всего, книгу прочли те, от кого многое зависело, и сочли, что «Высокие звёзды» достойны высокой награды.
Это было значительным успехом для сорокалетнего поэта. Впрочем, это не удивляло помнивших, что Сталинскую премию Расул Гамзатов получил, когда ему было меньше тридцати. К тому же вместе с Расулом Гамзатовым Ленинскую премию за свои замечательные повести получил и Чингиз Айтматов, которому было тогда 35 лет.
Ещё одним лауреатом стал патриарх детской литературы Самуил Маршак, который, казалось, был больше рад за своего молодого друга:
«Я был очень обрадован, увидев в списке лауреатов Ленинской премии этого года рядом с моим именем имя чудесного дагестанского поэта Расула Гамзатова. По своему возрасту он мог бы быть мне сыном, но мы вместе, рядом, бок о бок идём “навстречу солнцу и движенью”, навстречу светлому будущему нашего народа, и всего человечества».
Книга Расула Гамзатова, вместившая в себя лучшую лирику поэта, его философские раздумья, произведения разных жанров и тем, стала ещё одной значимой вехой его творчества. Она удивляла мастерством, силой таланта, новизной.
Поэт Сергей Наровчатов откликнулся щедро:
«Если бы мне предложили назвать десять лучших, на мой взгляд, поэтов — современников, я бы перечислил заветные имена, а в конце добавил: “И Гамзатов”. Когда бы список сократили до пяти, я тоже в конце сказал бы: “И Гамзатов”. Наконец, если бы пришлось выбрать одного любимого поэта, я и тут бы прибавил “И Гамзатов”... Я не преувеличиваю. По пальцам сейчас можно пересчитать поэтов такого размаха, с таким видением мира.
На днях вышла его новая книга “Высокие звёзды”. Без сомнения, и она разойдётся так же быстро, как его прежние книги. Когда я читал её, меня попеременно волновали противоположные чувства. Порой я не мог удержать улыбку, а порой слёзы навёртывались на глаза. И не скрою — иногда овладевало мной чувство хорошей зависти. Той зависти, которая возбуждает соревнование, заставляет руку тянуться за карандашом и лихорадочно исписывать листок за листком.
Для того, чтобы в твой сборник не затесалось ни одно слабое стихотворение, нужно быть по-настоящему хорошим поэтом. Но для того, чтобы в книге не оказалось ни одного даже посредственного стихотворения, надо быть поистине отличным поэтом. Таковы “Высокие звёзды” Расула Гамзатова...
Дар поэта — его воображение. Это прирождённое свойство таланта, которое отличает его от посредственности.
Господи! А сколько ещё стихотворцев с воображением крота и с фантазией кролика!.. Но оставим в покое нищих духом и обратимся к тем, у кого в руках щедрый рог таланта...
Перечитывая эти стихи, я подумал, что многие из нас, справедливо избегая ложной сентиментальности, стали забывать и о красоте — неизменной спутнице поэзии. Много ли сейчас найдётся поэтов, способных создать стихи в ключе лермонтовской “Молитвы” или блоковского “О доблестях, о подвигах, о славе?”.
Вот и ещё один из секретов притягательности его стихов. Подлинная человечность одухотворяет творчество дагестанского поэта.
А о скольких простых безвестных людях можно сказать, остановившись около могильных камней, словами Гамзатова:
Он мудрецом не слыл
И храбрецом не слыл,
Но поклонись ему:
26 июня 1963 года в Махачкале состоялось торжественное собрание, которое вёл первый секретарь Дагестанского обкома КПСС Абдурахман Даниялов.
Выступления были очень характерными для той эпохи, когда, прежде всего, следовало клясться в верности партии, обещать непременно выполнить решения её последнего пленума, благодарить «дорогого и любимого Никиту Сергеевича Хрущёва», а уже затем переходить к сути дела, не забывая периодически упоминать всю ту же Коммунистическую партию. Её руководящую роль могли приписать всему — движению небесных тел, течению рек и созреванию винограда.
Так было и на этот раз: «Наше собрание проходит в замечательное время, когда советский народ, вдохновлённый историческими решениями XX съезда партии и только что закончившегося июньского Пленума ЦК КПСС, самоотверженно борется за успешное выполнение
заданий пятого года семилетки. Над просторами нашей Родины льётся песня труда и созидания. Яркий свет коммунистического завтра зовёт людей уже сегодня трудиться по-коммунистически, рождает тысячи и тысячи новых героев, составляющих нашу славу и гордость... Позвольте мне заверить Центральный комитет КПСС и нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущёва, что творческая интеллигенция, работники идеологического фронта Дагестана сделают всё, чтобы с честью выполнить решения июньского Пленума. С законной гордостью мы говорим сегодня о замечательных успехах нашей социалистической культуры и искусства, знаменующих собой торжество марксистско-ленинской идеологии... Наиболее ярким подтверждением этого расцвета является творчество выдающегося советского поэта Расула Гамзатова, произведения которого последовательно и бескомпромиссно утверждают высокие идеалы коммунизма... Честь и хвала ему — сыну бедного горца ставшему одной из ярких высоких звёзд Великой социалистической Родины.
(Аплодисменты)».
Теперь, по прошествии десятилетий, это может показаться странным, почти языческим, священнодействием, но тогда это было в порядке вещей, обязательным ритуалом. И люди, как правило, говорили совершенно искренне. Однако в дальнейшей речи Даниялова любовь к Расулу Гамзатову, гордость за большой успех дагестанца затмили роль партии в создании талантливых произведений.
Событие было большое, приехало много знаменитых людей. Вручал премию и знак лауреата народный артист СССР Юрий Завадский, который сказал, что Гамзатов «вошёл в наши сердца, вошёл в наши дома, вошёл в наши судьбы, как настоящий великий поэт».
От представителей рабочего класса выступил бригадир смены коммунистического труда Махачкалинского вагонного депо Ильин. Он сказал, что светлая, яркая, умная поэтическая речь Расула Гамзатова глубоко волнует человеческие сердца, дал наказ написать поэму о рабочем классе, а затем подарил молоток, сопроводив подарок стихами:
Кузнец, работая, поёт,
Поэт сердца людей куёт.
Александр Твардовский, тоже лауреат Ленинской премии, сказал о Гамзатове, что это «явление необычайно яркое и во многом примечательное».
Колхозница Хунзахского района Б. Абдуллаева благо дарила поэта за образ Асият из «Горянки»: «Отряхнув прах старых адатов, она показала пример женщинам гор, пошла по пути, указанному партией Ленина... Твои глубоко содержательные и высокоидейные стихи и поэмы помогают нам, горянкам, строить прекрасную жизнь, совершать подвиги но имя коммунизма». Она подарила лауреату серп и тоже прочла стихи:
Перо и серп — друзья всегда.
И в этом смысл поэзии труда...
Чингиз Айтматов говорил, что мало кто из великих попов мира удостоился такой всенародной любви и признания, как Расул Гамзатов. «Это ваше счастье, дорогой Расул, что вам довелось жить и творить в наше время, в советскую эпоху». Сказал Айтматов и о покорившем его стихотворении о горцах, переселяющихся на равнину, которых поэт просит взять с собой звонкие кувшины и колыбели, а главное — честь и достоинство.
От воинов Махачкалинского гарнизона выступил старший сержант Семенюк, который всех растрогал, рассказав, как служащие вдали от своих любимых солдаты находят в поэзии Гамзатова свои мысли и переживания: «Дождик за окном — о тебе я думаю...» Затем он уверил поэта, что его оружием «является страстное, разящее слово, от которого наши недруги трепещут не меньше, чем от советских ядерных ракет», и подарил Гамзатову штык, который «приходится родным братом Вашему острому и вдохновенному перу».
С годами пусть становятся острей
Разящие штыки поэзии твоей.
Расул Гамзатов был смущён и взволнован происходящим, говорил, что его награда — это награда всего Дагестана, каждого горца: «Вы создали меня, вы дали мне язык, мысли, чувства. Моя заслуга в том, что я верен традициям, которые созданы нашим дагестанским народом».
Политический этикет был бы не соблюдён, если бы Гамзатов не упомянул и политику партии, но поэт этим не ограничился: «Силу мне дала наша идея, идея революции, идея коммунизма, ленинская идея и сегодня я вижу не просто присуждение Ленинской премии, я вижу торжество пекинской национальной политики, в этом вижу не собственную славу, а славу родного Дагестана».
Во втором отделении состоялся концерт, контрапунктом которого были стихи из книги «Высокие звёзды», которые исполнил Айгум Айгумов.
В третьем отделении... Грандиозное застолье длилось несколько дней, в городе и в горах.
Исследователь творчества Расула Гамзатова критик Камиль Султанов писал: «Эта книга писалась в то время, когда наши поэты, словно забыв о своём земном существовании и назначении, в едином порыве устремились в небеса. Понятно, что в век освоения космоса поэты не могут оставаться равнодушными к достижениям отечественной науки и техники. Они не имели морального права не писать обо всём этом. Но они не должны были также забывать о матери — Земле, о её тревогах и заботах. Однако многие горские поэты после первых полётов космических кораблей сразу же ринулись в небо, забыв о Земле. У нас появилась своеобразная “небесная поэзия”... При появлении гамзатовской книги “Высокие звёзды” люди, привыкшие к литературным шаблонам, были уверены, что она целиком состоит из стихов, воспевающих небесные тела, прославляющих космические полёты и т. д. Каково же было их удивление, когда они прочли четверостишие, являвшееся лейтмотивом книги:
К дальним звёздам, в небесную роздымь
Улетали ракеты не раз.
Люди, люди — высокие звёзды,
Долететь бы мне только до вас
[83].
Не надо было быть большим знатоком поэзии, чтобы понять, что “Высокие звёзды” — подлинно новаторская книга».
Вспоминал о высокой премии и сам лауреат, в своём неподражаемом стиле:
«Когда моей, больной тогда, матери сказали, что её сыну присудили Ленинскую премию, она вздохнула и ответила: “Хорошая весть. Но я бы обрадовалась больше, если бы услышала, что сын помог бедному человеку или сироте. Пусть отдаст эти деньги для проведения воды в какой-нибудь жаждущий аул. И люди похвалят. Его отец, когда получил премию, отдал все деньги на то, чтобы искали новые родники. Где родник, там и тропинка, где тропинка, там дорога. А дорога нужна всем и каждому. Без дороги человек не найдёт свой дом, скатится в пропасть”».
Заветы матери Расул исполнял и делал для земляков больше, чем им казалось возможным.
Страна продолжала покорять космос, рекордные полёты следовали один за другим, американцы тоже начали пилотируемые полёты, но явно отставали. В июне 1963 года к звёздам отправилась женщина. Космонавт Валентина Терешкова провела на орбите трое суток и стала самой известной женщиной планеты. Поэзию вновь всколыхнула космическая тема.
Откликнулся и Расул Гамзатов:
Стремились люди в солнечные дали
И оставляли холмики могил,
Ещё под Перекопом умирали
Те, кто дорогу к звёздам проложил.
Достигли дальних звёзд не все герои,
И, Валя Терешкова, ты склонись
Над прахом Лизы и могилой Зои,
Без них и ты бы не взлетела ввысь
[84].
После хрущёвских «погромов» интеллигенции было странно увидеть на Московском международном кинофестивале премьеру фильма знаменитого итальянского режиссёра Федерико Феллини. Ещё более неожиданным было присуждение его фильму «Восемь с половиной» Большого приза кинофестиваля. Картина о творческом кризисе кинорежиссёра, которого играл Марчелло Мастроянни, о его безумных, но тщетных попытках обрести вдохновение и смысл жизни мгновенно стала культовой. Советская творческая интеллигенция испытывала схожие проблемы.
Феллини был околдован страной, где запускали сверхсовременные космические корабли, а на обеспеченную жизнь, на добротную одежду денег не хватало. Он был к тому же художником, любившим рисовать шаржи. Так он и нарисовал СССР, где люди, почти босые, с восторгом смотрят в небо, куда взлетает космический корабль. Жизнь менялась и уже всё меньше зависела от идеологических установок.
Книга «Высокие звёзды» стала для Расула Гамзатова «программной», в ней определились главные темы его творчества и уровень достигнутого мастерства, воплотилась могучая сила его таланта, по праву занявшего своё особое место на поэтическом Олимпе. Эта книга станет его путеводной звездой на многие годы. Её будут бесконечно пере-
издавать, вспоминать и цитировать строки из включённых в книгу стихов.
Корней Чуковский писал:
«Сегодня ко мне привязались стихи. Что бы я ни делал, куда бы ни шёл, я повторяю их опять и опять:
Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру...
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру...
Этот щедрый, широкий анапест, органически слитый с торжественной темой стихов, эти трубные ра-ро-ра-ру, которыми так искусно озвучен весь стих, сами собой побуждают к напеву. И мудрено ли, что этот напев не покидает меня сегодня весь день:
Дорогая моя, мне в дорогу пора...
Чьи это стихи? Никак не вспомню. Старого поэта или нового? Не может быть, чтобы это был перевод: такое в них свободное дыхание, так они естественны в каждой своей интонации, так крепко связаны с русской традиционной мелодикой.
Поэтому я был так удивлён, когда кто-то из домашних, услышав, какие слова я бормочу целый день, сообщил мне, что это стихи знаменитого дагестанца Расула Гамзатова, переведённые поэтом Н. Гребневым с аварского на русский язык. И мне вспомнилось, что я действительно вычитал эти стихи в книге Расула Гамзатова “Высокие звёзды”, но по плохому обычаю многих читателей так и не потрудился взглянуть, кто же перевёл эти чудесные строки.
О Гребневе заговорили у нас лишь в самое последнее время, лишь после того, как “Высокие звёзды”, переведённые им (и Я. Козловским), по праву удостоились Ленинской премии...
Вспомним переведённые им песни Гамзатова “Как живёте-можете, удальцы мужчины?”, “Вон у того окна”, “Мне в дорогу пора” и т. д.
Но песнями не исчерпывается творчество дагестанского барда. Есть у него другие стихи — философские. Это тоже народный жанр: во всяком, особенно восточном, фольклоре бытует несметное множество стихов-афоризмов, стихов-изречений, воплощающих в себе народную мудрость. В последние годы именно к этим стихам всё чаще тяготеет Гамзатов. Здесь второй из его излюбленных жанров. Здесь он является нам не как поэт-песнопевец, а как пытливый мудрец, доискивающийся до подлинного смысла вещей...
Переводить их не так-то легко. Порождённые философским раздумьем, они чрезвычайно далеки от канонической песни, от её склада и лада. Так как вся их ставка на лаконизм, на меткость, они требуют самой строгой чеканки... Здесь каждая буква на весу, на счету. Для этого жанра типична следующая, например, надгробная надпись Расула Гамзатова:
С неправдою при жизни в спор
Вступал джигит.
Неправда ходит до сих пор,
А он лежит.
Такая огромная мысль, а Гамзатов вместил её в четыре строки. Лаконичнее выразить её никак невозможно. Мобилизованы только такие слова, без которых нельзя обойтись».
ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕВОДЧИКИ
Литература, если рассматривать её в контексте затронутой Чуковским темы, состоит из оригиналов и переводов. Перевод может сделать автора мировой знаменитостью, без перевода даже самое хорошее произведение рискует остаться малоизвестным. Здесь есть много нюансов и сложностей. Но в целом развитие литературы весьма зависит от хороших переводчиков.
Гамзатова переводили большие мастера слова, которые и сами были талантливыми писателями и поэтами. Его недоброжелатели поговаривали, что Гамзатов не такой уж и талантливый, что его успех — заслуга, большей частью, переводчиков. Он и не отрицал, что переводчики сделали для него очень много:
«Действительно, если бы не переводчики, не было бы и меня. Они, во-первых, дали мне возможность узнать Гейне, Бёрнса, Шекспира, Саади, Сервантеса, Гёте, Диккенса, Лонгфелло, Уитмена и всех, кого я прочитал в своей жизни и без кого я не стал бы писателем. Они, во-вторых, открыли дорогу моим стихотворениям. Они перевели их через бурные реки, через высокие горы, через толстые стены, через пограничные посты и через самые прочные границы — через границы другого языка: через глухоту, через слепоту, через немоту».
Гамзатов сравнивал своих переводчиков с лётчиками, которые доставляют его поэзию к разным народам и в разные страны.
Переводчикам
Спасибо, дорогие лётчики,
За то, что вам благодаря
Увидел мир, его моря
И земли, в небесах паря!..
Но больше, чем небесным лётчикам,
Я благодарен переводчикам!..
На языки своих поэзий,
Небес, равнин, лесов, морей —
Спасибо, что переводили
«Мне очень повезло с переводчиками, — говорил Расул Гамзатов. — Сначала И. Сельвинский, потом, когда в Литинституте учился, мои вещи начали переводить Я. Хелемский, Н. Гребнев, Я. Козловский, Е. Николаевская. Потом Р. Рождественский, В. Солоухин, Ю. Нейман, Ю. Мориц. Они аварского не знают, но почувствовали нашу землю, нашу культуру, наш язык. Спасибо вам, друзья!»
Список этот значительно шире. Ещё многие переводчики хотели переводить Расула Гамзатова и переводят до сих пор. Ему не приходилось искать переводчиков, они шли к нему сами. Но утверждать, что Гамзатова сделали переводчики, всё равно что говорить, будто Маршак сделал Шекспира или Бёрнса. Переводчики Гамзатова переводили и других национальных авторов, но результаты не всегда были столь впечатляющими. Впрочем, лучше всего об этом могут судить сами переводчики.
Яков Козловский в беседе с Евгением Некрасовым говорил:
«Всё это ерунда. Поэзия Гамзатова тем и интересна, что, о чём бы он ни писал, в ней всегда присутствует дух Дагестана. Переводчики тут ничего не могут придумать...
Я вам расскажу секрет моего дела. Нужно, во-первых, сохранить достоверность, чтобы вы читали мой перевод и верили, что именно так написано у автора. Во-вторых, стихи не должны вонять “переводизмом”, а то вот переводят среднеазиатские стихи — как будто арба тянется в горы. А нужно, чтобы переведённое стихотворение читалось, как русское.
“Поздно ночью из похода возвратился воевода” — это же Мицкевич, а в пушкинском переводе звучит совершенно по-русски...
Нет, Гамзатов — поэт самобытный, весь от Бога. Мысли, чувства и образы у него удивительные, яркие. Но вокруг всякого человека, который не ортодоксален и талантлив, немало завистников и клеветников. Какие только бочки на него не катили! Он же всегда держался независимо».
Ослы бывают — мимо не пропустят.
И человек бывает в свой черёд:
Коль спереди зайти к нему — укусит,
Коль сзади подойти к нему — лягнёт
[86].
Особенности взаимоотношений поэта и переводчика аксакал дагестанской поэзии Абуталиб объяснял на своём примере. У него были прилежная дочь и сорванец сын. Успехи дочери приписывали школе и пионерскому воспитанию, а проказы сына — исключительно дурному воспитанию отца.
Автограф на книге,
подаренной Якову Козловскому
Когда стихи Гамзата и Чанка
Переводил ты, сам слывя поэтом,
Я сожалел о том, что ты при этом
Аварского не ведал языка.
Теперь ты переводишь молодых,
Каких у нас в Аварии немало,
А то, что с языком оригинала
Ты не знаком — лишь ободряет их
[87].
Определённую ясность в вопрос об отношениях автора и переводчика внёс лингвист Сергей Гиндин: «Что греха таить — в истории советской литературы случалось, что русские переводчики попросту писали за именитых литературных генералов из национальных республик. Такие генералы могли удостоиться и всесоюзных премий, и почестей, но книги их оставались пылиться на прилавках. А читатели Расула Гамзатова сквозь все различия переводческих манер и языковых навыков разных русских поэтов сразу чувствовали неподдельность живого человеческого голоса, неповторимую личность автора».
Те, кто приписывал главные заслуги переводчикам, возможно, изменили бы своё мнение, знай они аварский язык. Для аварцев Гамзатов на родном языке звучит так глубоко, красиво, весело, что не передаст и самый талантливый перевод.
Елена Николаевская делилась своим опытом:
«Как актёр вживается в роль, вот так, видимо, переводчик вживается в роль того поэта, кого он воплощает на свой язык, кому он даёт возможность говорить на другом языке. Кроме всего этого, я должна знать, что он любит, что он не любит, что его возмущает, к чему он равнодушен, над чем он смеётся, то есть я должна знать его внутренний мир не понаслышке, а это знание даётся многолетним общением, дружбой. Расул — великий человек и великий поэт, он мудрец и тончайший лирик, способен выразить чувства умнейших людей, самых простых людей, женщин, мужчин, детей, кого угодно. Людей, которые сами как будто немы, но когда они читают его стихи, они понимают, что он оформил их чувства, их мысли, их страдания. Их впечатления, их ощущения он оформил в свои слова, и они удивляются, что всё это он выразил удивительно точно».
Переводчики открыли Гамзатова не только русскоязычному читателю, но и многонациональному Дагестану, где аварец, кумык, лакец или лезгин узнавали поэзию друг друга через русские переводы. Начало этому процессу сближения национальных литератур положил Эффенди Капиев, которого часто и с благодарностью вспоминал Расул Гамзатов:
«По просьбе Льва Толстого ещё Фет перевёл на русский язык несколько дагестанских песен. Но Фету это не удалось, поэтому Толстой в своём “Хаджи-Мурате” использовал только подстрочные переводы этих песен. В переводе Фета ясно чувствуется камерность, гладкость, даже манерность. В переводе же Капиева — сам дух, характер. То, что для Фета красиво, экзотично, для Капиева естественно. Для него это — он сам.
В 1940 году один дагестанский художник, думая, что это будет приятно Капиеву, сделал на него несколько подобострастный дружеский шарж. Он нарисовал Капиева бегущим по ущелью, как бы скрывающимся от преследующих. Рука его была поднята к самому небу, и в руке он высоко держал всю поэзию и поэтов Дагестана: Махмуда, Батырая, Сулеймана, Гамзата Цадаса, Абуталиба. Это означало, что-де Капиев всех поднял, а сам остался незаметным, в тени, в ущелье. Капиев был возмущён. Художнику он сказал: “Рисунок мещанина. Знай же, горская поэзия не нуждается, чтоб я ей подмогу подставлял. Не я поднимаю этих поэтов, наоборот, они меня поднимают, тебя поднимают, всех нас, горцев, Дагестан, Россию, наши идеи, нашу великую поэзию они поднимают. Ими мы подняты. И не надо глупых шуток”».
Чудесные перевоплощения аварских стихов в русские стихотворения оставались некой тайной, которая волновала Расула Гамзатова всю жизнь. Поначалу Гамзатов был очень требователен к переводчикам, следил за точностью перевода, настаивал на доработках и переработках. Но со временем стало ясно, что его давние переводчики просто неспособны испортить авторский замысел. Они скорее придадут ему дополнительный объём, раскроют потаённые смыслы, которые автор, быть может, не подчёркивал, считая это само собой разумеющимся. Главным в стихотворении он считал человеческие чувства, боль, неравнодушие, стремление к красоте, а они близки каждому, и переводчикам в том числе. Важно и то, чтобы переводчик чувствовал природу поэтического мировосприятия, понимал культурную самобытность другого народа. И когда возникало созвучие автора и переводчика, то профессионализм, искусство перевода доводили результат до возможного совершенства. А если возникали сомнения у самих переводчиков, то они обсуждали верность перевода с автором. Когда автор и переводчик талантливы, всё получается.
Но случалось и такое, о чём Расул Гамзатов написал:
Переводчику Лермонтова на аварский язык
В котов домашних превратил ты барсов,
И тем позорно будешь знаменит,
Что Лермонтов, к печали всех аварцев,
Тобою, как Мартыновым, убит
[88].
В многонациональном Дагестане переводы были важной составляющей литературного процесса. В основном переводили на свои языки русскую и советскую литературу. Но не все знали русский язык так же хорошо, как Эффенди Капиев. Случались казусы. В одном из переводов «Поднятой целины» Михаила Шолохова станица Вёшенская превратилась в станицу, «где вешают». Особенно доставалось пословицам и поговоркам, которые порой теряли изначальный смысл. А переводы Некрасова, Пушкина, даже Цадасы походили друг на друга, теряя авторские особенности и стилевые отличия. Качество переводов росло медленно, но были «мастера», которые ставили переводы на поток. Они оплачивались Союзом писателей, и переводчики были больше заинтересованы в количестве строк, чем в их качестве.
В своё время кавказские произведения Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Пушкина, Толстого оказали огромное влияние на развитие русской литературы. А затем русские переводчики открыли миру национальных писателей, которые, в свою очередь, переводили на родные языки русскую классику. Это и было началом диалога культур, который вёл к взаимоузнаванию и взаимопониманию народов.
Заслуги русской переводческой школы невозможно переоценить. Если прежде перевод был лишь небольшой частью творчества больших писателей, то со временем случалось, что замечательные поэты становились больше известны как переводчики.
Евгений Некрасов беседовал об этом с Яковом Козловским:
«— Яков Абрамович, вы ведь и сами интересный поэт. У вас нет чувства, что вы вложили свой талант в чужую славу?
— Нет. Я никогда не думал о его славе. Я вообще считаю, что поэты славой не меряются. Грибоедов написал одну пьесу и остался в литературе, а Софронов написал множество и никогда не останется. Конечно, одним достаётся больше, другим меньше.
В прежние времена тоже было так. Вы думаете, не баловали Крылова? Баловали. Дали деньги на издание книжки, а он проиграл их в карты, и Николай I сказал: “Не жалко денег, жаль, что в карты играет”... А уж какие отношения с царём были у Пушкина, как они отзывались друг о друге — оба, в один голос: “Я говорил с самым умным человеком в России”...
Боюсь, что сегодня ни один правитель не скажет такое ни об одном поэте. И наоборот. Потому что у нас же ценят поэтов порою не за стихи. Иные из них играли с властью, строили свою карьеру. А Гамзатов сам был властью».
Сегодня традиции отечественной школы перевода во многом утрачены. Она разделила судьбу самой поэзии, которая уже не так востребована, как в прежние годы. Ситуация печальна настолько, что явись где-то на просторах России новый яркий поэт, пишущий на родном языке, он может так и остаться поэтом, известным только своим землякам. Немало найдётся произведений знаменитых национальных поэтов, которые так и не переведены на русский, а следовательно, и на другие языки.
На склоне лет Расул Гамзатов сетовал, что не знает даже, что нового написали его друзья Мустай Карим, Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Алим Кешоков.
Впрочем, ситуация с русской современной поэзией ненамного лучше. Даже юные влюблённые теперь редко пишут стихи своим избранницам.
Уже говорилось о подстрочниках, с которыми имеют дело переводчики, как «промежуточном» этапе между оригиналом и переведённым на русский язык стихотворением. Вместе с тем и сами подстрочники могут представлять литературную ценность. Расулу Гамзатову не раз предлагали издать книгу подстрочников. Было бы очень интересно сравнить подстрочник с окончательным вариантом стихотворения.
Книга подстрочников не вышла, но отдельные публикации подстрочников были. «В подстрочнике было напечатано стихотворение “Моей внучке Шахри”, — рассказывал Расул Гамзатов в беседе с Гаджикурбаном Расуловым. — Восемь переводчиков, каждый по-своему, перевели это стихотворение. Но мне говорили, что подстрочник — лучше. Когда я вижу плохой перевод, то возникает желание напечатать подстрочник».
Непросто передать национальную красоту поэзии Гамзатова средствами другого языка, имеющего другую образную традицию. К тому же в аварском языке нет рифм, как в русском, зато есть внутренний ритм. Силлабика — система стихосложения — совсем другая, а это уже разница не только в форме или размере.
Примерный набросок подстрочного перевода известного стихотворения:
Рорхатал цIвабзазде сухъмахъал гьарун,
Проложив тропинки (пути) к высоким звёздам
Гьенире ракетал роржеян абе.
Скажите — пусть летят к ним ракеты
Бищун тIадегIанал гIагарал цIваби —
Самые высокие родные звёзды —
ГIадамазухъе щвей буго дир мурад.
Это люди, достичь которых — моё желание (цель)
Последние строки можно перевести и в другом смысле:
Я хочу, чтобы люди овладели
Самыми высокими звёздами
Яков Козловский перевёл это так:
К дальним звёздам, в небесную роздымь
Улетали ракеты не раз.
Люди, люди — высокие звёзды,
Долететь бы мне только до вас.
Перевод не абсолютно точный по значению слов, они могут быть многовариантны, зато очень верно и вдохновенно переданы идея, образ, смысл произведения. Возможно, подстрочник воспринимается на русском не столь литературно, однако на аварском языке это стихотворение звучит замечательно.
Переводил и сам Расул Гамзатов, следуя и в этом традиции отца. В 1937 году, к столетию Александра Сергеевича Пушкина, в Дагестане объявили конкурс на лучший перевод стихотворения Пушкина «Деревня» на национальные языки.
«Сорок поэтов перевели это стихотворение на аварский язык, — писал Расул Гамзатов. — Большинство из них знало русский. Но всё же первую премию получил Гамзат Цадаса, не владевший в то время русским языком. Надо, чтобы переводчик тоже был поэтом, писателем, художником. Надо, чтобы он чувствовал себя сыном своего народа, как я чувствую себя сыном своего».
Пушкин, Блок, Лермонтов, Шевченко, Есенин, Маяковский и многие ещё поэты в переводах Расула Гамзатова стали почётными кунаками аварской поэзии.
Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!..
Стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» на аварском языке стало первой переводческой публикацией восемнадцатилетнего Расула Гамзатова. Возможно, в судьбе Пушкина ему виделась и судьба аварского певца любви Махмуда.
«И по сей день занимаюсь переводом, — писал Гамзатов. — Перевёл много, классику в основном. Есенин, который близок мне, который подарил мне Россию, Русь, никак не поддаётся, не звучат, как хотелось, пока на моём аварском его стихи. А Маяковский, очень далёкий от аварского стиха — пошёл. Некрасова я сейчас перевёл, нашёл ключ к нему, наконец. К каждому приходится подбирать особый ключ, потому что каждый замок со своим секретом, и чужеземцу непросто войти в этот дорогой ему, прекрасный, но не свой дом.
Перевод — необходимая, ничем не заменимая учёба, целая специальная школа. Чтение читателя и чтение переводчика — разное чтение. Я чуть ли не наизусть знаю пушкинскую “Полтаву”, читал её бессчётно, а сел переводить — другое чтение: со справочниками, энциклопедиями, исторической литературой».
Порой он читал в русских аудиториях свои переводы на аварском, а затем только сообщал удивлённой публике, что читал Пушкина или Маяковского. Читал свои переводы и аварцам, чтобы проверить себя, чтобы понять, находят ли стихи русских классиков отклик в сердцах земляков. Горцы чувствовали хорошую поэзию, но могли и поправить переводчика.
«Как-то в ауле я читал старикам — горцам поэму Пушкина в своём переводе, — вспоминал Гамзатов в беседе с Далгатом Ахмедхановым. — Они, конечно, не знали русского языка. Иногда старики меня останавливали: “Нет, у Пушкина не так, ты, наверное, не так перевёл”. Проверяю — действительно не так. Всем сердцем чувствуют поэзию Пушкина горцы Дагестана...»
МАРШАК, СОЛЖЕНИЦЫН, БРОДСКИЙ
И ложатся слова на бумагу,
Я над ней, как над люлькой, дышу.
Сладкой каторге давший присягу,
Снова мучаюсь, снова пишу
[89].
В 1964 году вышел двухтомник избранных произведений Расула Гамзатова (Стихотворения и поэмы 1943— 1963 годов). Солидное издание, подтверждавшее популярность и значимость поэта.
Предисловие к двухтомнику написал Самуил Маршак, что тоже говорило о многом. Оно было озаглавлено «Набирающий высоту», хотя многим казалось, что Гамзатов уже набрал такую высоту, что выше уже не взлететь. Литературный патриарх смотрел на дело иначе, он верил, что достигнутое — далеко не предел для Расула Гамзатова, и жизнь доказала, что Маршак был провидцем.
«Горец, сын малочисленного аварского народа, он сумел раздвинуть в своей поэзии национальные, территориальные границы и стать известным далеко за пределами родного края, — писал Маршак. — А может быть, он потому и заслужил высокое право считаться одним из видных советских поэтов, что сохранил горское своеобразие, кровную связь с бытом и судьбой своего народа.
Многие годы я пристально слежу за каждым стихотворением Расула Гамзатова, появляющимся в печати, и мне радостно видеть, как набирает он всё большую высоту поэтической мысли, не теряя конкретности, теплоты — той душевной щедрости, которой отмечены стихи истинных поэтов».
Он достиг многого, но это уже было пройденным путём. Гамзатова влекли новые горизонты, ему грезилось нечто более высокое и совершенное. Одна из главных отличительных черт творчества Расула Гамзатова — предельность. Писать так, как никто до него не писал. Так, чтобы никто уже не решился ступить на его суверенную духовную территорию. Это были творческие муки иного порядка, о которых он сказал:
Мне всё чего-то хочется давно.
Не этого и не того — другого,
Неведомого, странного, такого,
Что только мне найти и суждено
[90].
4 июля 1964 года Самуил Маршак скончался. Это стало тяжёлой потерей для Расула Гамзатова, как и для всей советской литературы.
Матвей Гейзер приводит отрывок из статьи Расула Гамзатова в «Литературной газете»: «Мы звоним вам по печальному поводу: умер Маршак — так сообщили мне из Москвы... Хожу, потрясённый известием: Маршак Самуил Яковлевич, мой дорогой, мой учитель!.. Я его полюбил ещё до того, как увидел впервые. А потом... Помню, как, будучи студентом Литературного института, я робко поднялся к нему, оставив свои калоши в парадном. Хоть и старался я тогда его слушать, но не слышал, а всё смотрел на него, на его лицо. Чувство, которое испытал я в те часы, было чувством удивления, и оно никогда не покидало меня при встречах с поэтом. Читая или слушая Самуила Яковлевича, я всегда испытывал удивление, — как мальчишка, который заворожён могучими горскими пловцами. Около него те, кого я считал большими, становились маленькими. Казалось, что он прожил не десятилетия, а века. Казалось, он был свидетелем всех до единого событий, которые происходили на нашей земле ещё задолго до его рождения...
Я не могу сравнивать Маршака ни с кем, кроме как с Маршаком, как и своего отца не могу сравнивать ни с кем, кроме как с отцом. Самуил Яковлевич не был похож на моего отца. Но каждый раз, будучи с ним, я вспоминал отца...
Мне кажется, что все дети мира несут его гроб... Мне кажется, что у гроба вместе с нами стоят и Бёрнс, и Шекспир, и Гейне, и Гёте. И я, один из его многочисленных учеников, стою у гроба любимого поэта...»
В вышедшей в том же году книге «И звезда с звездою говорит» было опубликовано стихотворение Расула Гамзатова «В гостях у Маршака»:
И современник не усталый —
Шекспир положит горячо
Свою ладонь, по дружбе старой
Ему на левое плечо.
И вновь войдёт, раздвинув годы,
Как бурку, сбросив плед в дверях,
Лихой шотландец, друг свободы,
Чьё сердце, как моё, в горах...
[91]
В том году было немало и других огорчений.
Расул Гамзатов, к тому времени ставший членом Комитета по Ленинским премиям, приехал в Москву для обсуждения кандидатур. Среди выдвинутых на Ленинскую премию был Александр Солженицын с нашумевшей повестью «Один день Ивана Денисовича». Все понимали, что премии он достоин больше других кандидатов, но желавших не допустить этого тоже хватало. Твардовский, первым опубликовавший повесть в «Новом мире», отчаянно боролся за Солженицына. Участником развернувшейся, хотя и скрытой от посторонних глаз, борьбы оказался и Расул Гамзатов.
Людмила Сараскина в своей книге «Александр Солженицын» описывает, какие страсти разгорелись вокруг присуждения главной премии страны:
«Твардовский надеялся, что А. И. получит премию несмотря ни на что, ибо это вопрос принципиален для литературы... Он страдал, что критика высокомерна, говорит о Шухове и “людях из-за проволоки” как о мире, с которым у неё нет ничего общего, ведь “у нас зря не сажают”. Он гневно отметал аргумент, будто присуждать премию за такую вещь невозможно. “Эта повесть — один из предвестников того искусства, которым Россия ещё удивит, потрясёт и покорит мир...”
Однако линия “не тот герой” упорно брала верх. 7 апреля на секциях определяли список для тайного голосования. Писатели национальных литератур — Айтматов, Гамзатов, Стельмах, Токомбаев, Зарьян, Карим, Марцинкявичюс, Лупан, — а также Твардовский голосовали “за”. С ними — вся целиком секция драматургии и кино. “Против” — “бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно, погубленные школой культа чиновники и вельможи от литературы” (как аттестовал противников Твардовский)...
11 апреля, в день голосования, “Правда”, напечатав обзор писем, дала указание забаллотировать кандидата с его “уравнительным гуманизмом”, “ненужной жалостливостью”, непонятным “праведничеством” — всем тем, что мешает “борьбе за социалистическую нравственность”. Партгруппу Комитета обязали голосовать против Солженицына. В редакции “Нового мира” Расул Гамзатов рассказывал, как выговаривала ему Фурцева: “Товарищ Гамзатов притворяется, что он маленький и не понимает, какие произведения партия призывает поддерживать”. Голосование с предрешённым исходом Твардовский называл гнусным делом: тот факт, что Премия принадлежит Солженицыну, подтвердили его враги, рискнувшие пойти на прямую ложь и фальсификацию. “За” — двадцать, “против” — пятьдесят; с таким счётом вывели “Ивана Денисовича” из списка, но нужных голосов никто не собрал. “Нате вам, — торжествовал Твардовский, — он всех за собой в прорубь утянул!” Но далее — был стыд и срам: собрали Комитет и заставили переголосовать хотя бы за тех, кто немного не добрал голосов: в фавориты вышел Олесь Гончар с “Тройкой”».
Почти тогда же затеялась грязная игра и вокруг будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Ещё очень молодого поэта судили за тунеядство. Его пытались защитить Анна Ахматова и Самуил Маршак, Сергей Шостакович и Корней Чуковский, и не только они. Однако признать написание стихов серьёзным трудом в суде отказывались. О том, что происходило вокруг того постыдного судилища, Гамзатов вспоминал, беседуя с Евгением Дворниковым:
«Приезжая в Москву из Дагестана, я останавливался в гостинице. Иногда наведывался ко мне Твардовский. Однажды сидим за дружеским столом. Заходит поэт Александр Прокофьев, руководитель Ленинградской писательской организации. Твардовский к нему: “Слушай, Саша, что у вас в Ленинграде происходит с этим Бродским?” Прокофьев махнул рукой: “Не обращай внимания. Какой-то халтурщик, тунеядец...” “Но судить-то зачем?” “Он плохой поэт...” Твардовский: “Допустим. Но судить-то зачем?” “Правильно, что его арестовали”. “Опять арестовывать? — побагровел Твардовский. — Вон отсюда”. И ко мне: “Расул, или я, или он”. Я говорю: “Вы два русских поэта, гостей я не выгоняю, дам каждому по ножу — убивайте друг друга”».
Расул Гамзатов описал эту историю сдержанно, не упомянув, что в тот вечер Твардовский был у него по важному поводу: они с Козловским читали главному редактору журнала «Новый мир» поэму «Люди и тени», которую Гамзатов всё ещё надеялся опубликовать. Поэма Твардовскому понравилась, растрогала, он назвал её вещью впечатляющей, сильной и обещал напечатать. Тут-то и появился Прокофьев, тоже входивший в Комитет по премиям и живший в соседнем номере. Яков Козловский рассказывал о деталях произошедшей схватки:
«— Не выдавайте себя за совесть русской поэзии, Александр Трифонович. Мы можем кое-что и вам напомнить...
— Напомни, напомни...
— Мой отец погиб за советскую власть не для того...
Твардовский прервал его:
— Твой за советскую, а мой от советской.
Гамзатов с багровым лицом ходил из угла в угол. Он не пытался примирить спорщиков — оба были его гостями. Это попытался сделать я, но Прокофьев оскалился:
— А ты кто такой?!
Кончилась она тем, что Твардовский выгнал Прокофьева.
— Ступай вон! Нечего тебе делать среди порядочных людей!
Они разошлись навсегда»
Ободрённые согласием Твардовского на публикацию, Гамзатов и Козловский отдали поэму в «Новый мир».
«Прошло месяца два, — продолжает Козловский, — и вот звонит мне Гамзатов из Махачкалы и огорчённо говорит:
— Получил письмо от Твардовского, пишет, что напечатать поэму не может. У него якобы большие претензии к твоему переводу.
Я сразу смекнул, что дело не в переводе. Время делало новый поворот, но не только это было причиной отказа Твардовского. Я без звонка явился к нему в журнал. Он мигом понял цель моего появления. А я, не будь дурак, чуть не с порога встал на его сторону:
— Наверное, вы правы, Александр Трифонович, что мой перевод слабоват. Надеюсь, вы поступите по-хозяйски и не выплеснете с водой прекрасное дитя. Не сомневаюсь, что уже размышляете о том, кому заказать новый перевод.
Он как-то стеснительно опустил глаза:
— Будем откровенны. Вы умный человек и понимаете, что напечатать это я сейчас не могу. И уж простите за мой неуклюжий и несправедливый ход.
В 1985 году Мария Илларионовна Твардовская издал книгу эпистолярного наследия своего мужа. Есть письмо Гамзатову по поводу неопубликованной поэмы. Вот строки из него: “Поэма производит в целом сильное впечатление, это вещь, вырвавшаяся из сердца и многократно обдуманная, — её композиционное построение в своём плане очень стройно и сцеплено частностями с целым. Это — исповедь и поучение, взыскательный суд и раскаянье (в несовершенных грехах), изложение средствами лирико-патриотического признания большого политического, общественного содержания”. А дальше посыпались шишки на мою бедную голову: “Но вот что мешает этой вещи сегодня явиться ‘граду и миру’, получить широкую слышимость, дойти до сердец, до сознания читателей во всей полноте и силе — перевод!” Дальше: “Бедный Яша Козловский! Ему это оказалось не под силу, и я в затруднении: я не вызывал его для беседы, так как такую беседу мыслю себе только в твоём присутствии и при сличении с подстрочником, который бы ты слово за словом сам подтверждал”.
Конечно, ни о каком “сличении” Твардовский не помышлял. Просто Козловский стал козлом отпущения. Мне довелось видеть экземпляр рукописи с его замечаниями и подписью “А. Т.”. Замечаний было не более десяти, и то не со всеми можно согласиться. Загвоздка была не в моём “плохом” переводе, а кое в чём другом”.
В своё оправдание Твардовский счёл возможным попрекнуть нас: “И, наконец, не могу умолчать о том, что ты и Яков Козловский поступили не слишком мудро, ознакомив с поэмой — до предоставления нам — известное лицо. Это создаёт дополнительные трудности, которых могло не быть”.
Неназванное “известное лицо”, разумеется, Аджубей. Вот ведь как!..»
Случись всё это на полгода позже, возможно, поэма и была бы напечатана. В октябре произошла очередная смена власти.
Никита Хрущёв отдыхал на Черном море, в Пицунде, не подозревая, что против него готовится «дворцовый переворот». 14 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил Хрущёва от должности первого секретаря ЦК КПСС, затем его лишили и поста председателя Совета министров. Формулировка для народа была простой — «по состоянию здоровья».
Явных сожалений слышно не было, было разочарование от несбывшихся надежд. Все устали от беспокойного вождя, взявшего на себя тяжёлый процесс десталинизации, но оказавшегося не очень сильным в государственных делах. Ему негласно ставили в вину политический и экономический волюнтаризм, хаотичность реформ, сокращение армии, урезание привилегий номенклатуры и многое другое. О заслугах не вспоминали.
Новым руководителем партии и страны Пленум ЦК КПСС избрал Леонида Брежнева.
Меняются правители, вожди,
Как летом облака или дожди.
И только мной всю жизнь, не зная смены,
Любовь и песня правят неизменно
[92].
ПАТИМАТ И ЕЁ МУЗЕЙ
Патимат Саидовна, супруга Расула Гамзатова, была для него спасением. Его неорганизованность и простительная поэту
рассеянность с лихвой компенсировались умением супруги всё приводить в порядок, её мягким характером и твёрдой волей, когда дело касалось семьи и мужа.
Глядя со стороны на обаятельную жену поэта, трудно было назвать её «сильной женщиной», но Патимат приходилось ею быть.
У неё хватало домашних хлопот, не говоря уже о бесконечных гостях Расула Гамзатова.
В 1964 году Патимат Гамзатова возглавила Дагестанский музей изобразительных искусств. Патимат хорошо понимала, что в развитии нуждалась не только дагестанская литература, национальному искусству тоже требовалось серьёзное внимание.
Трудно было назвать настоящим музеем коллекцию из пары сотен экспонатов, однако новый директор была полна решимости создать учреждение, достойное своего названия, сохранить в возможной полноте культурное наследие народа.
Целеустремлённость и подвижничество на ниве национального искусства, при поддержке влиятельного супруга, позволили Патимат Гамзатовой превратить музей в один из лучших на Кавказе. Замечательные образцы декоративно-прикладного искусства — произведения ковровщиц, оружейников, ювелиров, гончаров, медников, вышивальщиц, мастеров насечки по дереву, картины, костюмы, предметы быта и другие уникальные экспонаты стали регулярно пополнять коллекцию музея.
Но этого оказалось мало, искусство Дагестана было многообразно и уходило корнями в незапамятные времена. Для поиска новых экспонатов Патимат отправлялась в экспедиции по всему Дагестану. К тому же она выявляла произведения дагестанского искусства, всё, что имело отношение к Дагестану, в других музеях страны, в коллекциях за рубежом. И порой ей удавалось добиться их передачи в Дагестанский музей. Немалые усилия пришлось приложить, чтобы в музее обрели своё естественное место картины одного из основоположников дагестанской живописи Халилбека Мусаева. Они были получены от вдовы художника после длительной переписки и нескольких поездок в США.
Люди и сами начали приносить интересные, порой очень древние предметы искусства.
С годами коллекция музея значительно увеличилась, и для него выделили здание, в котором прежде размещался Верховный Совет Дагестанской АССР. В музее были налажены научно-исследовательская работа, реставрация, атрибуция, издание каталогов. Было подготовлено множество выставок, которые демонстрировались в стране и многих зарубежных странах.
«Патимат Саидовна нередко открывала выставки вместе с Расулом Гамзатовичем, что превращало их в настоящий праздник, — писала Елена Андреева. — Она была способна на смелые, неординарные поступки, если понимала, что это необходимо для нашей культуры. В апреле 1980 г. после четырёхлетнего ремонта музея открылась новая экспозиция, которую украсили работы А. Родченко, А. Экстер, А. Лентулова, Н. Удальцовой и других представителей русского авангарда. Гамзатова пошла на этот беспрецедентный в то предельно идеологизированное время шаг, когда произведения этих художников и их собратьев по искусству томились в запасниках не только провинциальных, но и центральных музеев».
Главной мечтой директора музея было восстановление панорамы Франца Рубо «Штурм аула Ахульго». Это было одно из главных событий Кавказской войны. После трёхмесячной блокады под артиллерийским обстрелом царские войска пошли на решительный штурм крепости имама Шамиля, расположенной на горе Ахульго. В обмен за обещание генерала Граббе отвести войска Шамиль отдал в заложники сына Джамалуддина. Это был шанс закончить войну. Но генерал, желавший во что бы то ни стало взять Шамиля, чтобы загладить свой грех причастности к декабристам, нарушил условия перемирия. Война продлилась ещё 20 лет.
Штурм этот остался в истории столь значимым событием, что правительство решило увековечить его посредством живописи. На исходе века работа была поручена Францу Рубо, который написал несколько картин, а затем, по собственной инициативе, взялся за создание панорамы длиной 120 метров и высотой целых 12 метров.
Рубо хорошо знал, что такое война, а дагестанцев, героическую битву которых с царскими войсками он столь уважительно изобразил на своей панораме, Рубо почитал за братьев. Он писал панораму в Мюнхене. Труд был грандиозным, не только Рубо, помощники его — и те валились с ног.
Панорама имела большой успех в Европе и России, принесла автору звание академика и орден Святого Михаила. Панораму хвалили, но покупать не спешили. Рубо оказался в долгах у кредиторов, ему пришлось просить императора Николая II приобрести панораму хотя бы за половину цены. Военное министерство милостиво заплатило, будто бросило подачку.
Панорама сначала была передана в тифлисский «Храм Славы», выставлялась в Севастополе, а позже её перевезли в Санкт-Петербург. В конце концов она оказалась в подвальном хранилище Артиллерийского исторического музея. В очередное наводнение Нева вышла из берегов так широко, что затопила множество улиц и помещений. Вода залила и хранилище Артиллерийского музея, где лежала свёрнутая панорама. Когда её достали и попытались развернуть, чтобы просушить, стало ясно, что творение Франца Рубо значительно пострадало.
В 1928 году панорама была доставлена в Махачкалу на открытой платформе и пролежала ещё несколько лет в запасниках, продолжая гибнуть. Только через четыре года её развернули для осмотра. Выяснилось, что панорама в очень плохом состоянии, и было принято решение вырезать три наиболее сохранившихся фрагмента, а остальное списать как не подлежащее реставрации. Оставшиеся фрагменты хранились в подвале Краеведческого музея и о них со временем забыли. Нашлись они только в 1970 году, когда Краеведческий музей переезжал в новое здание, а на его место перевели Музей изобразительных искусств, в который и передали остатки панорамы Рубо. И теперь ими занялась Патимат Гамзатова, которая искала их многие годы, но не могла найти.
Патимат Саидовне не хотелось думать, что великолепное творение Рубо, ставшее олицетворением героической истории дагестанского народа, утеряно безвозвратно.
Она надеялась не только реставрировать, восстановить панораму, но и создать для неё специальное здание, по примеру Музея-панорамы «Бородинская битва» в Москве. Автором этой панорамы был тот же Франц Рубо, которому её заказали после успеха «Ахульго» и следующей его панорамы «Оборона Севастополя».
«Почти 20 лет боролась она с чиновниками всех рангов, утверждающими, что тема Кавказской войны неактуальна, что у нас торжествует дружба народов, — продолжала Елена Андреева. — Боролась за восстановление трёх фрагментов, оставшихся от трагически погибшей в 1930-е годы панорамы Франца Рубо “Штурм Ахульго”. Преодолев все препятствия, в 1972 году фрагменты панорамы заняли достойное место в музейной экспозиции».
Работа по воссозданию панорамы на этом не остановилась. Студии военных художников им. М. Б. Грекова был заказан уменьшенный эскиз панорамы, на приёме которого присутствовал и Расул Гамзатов. В 1997 году, к двухсотлетию имама Шамиля, эскиз был открыт и с тех пор представлен в музее, а панорама всё ещё ждёт своего «воскрешения».
Люди, близко знавшие семью, утверждают, что Патимат значительно повлияла на творческую судьбу Расула Гамзатова. «Она была очень хорошей женщиной, — вспоминала её подруга Айшат Гаджиева. — Не знаю, состоялся ли бы Расул, если бы не она, с её уважением к гостям, к людям, к творчеству. Она во всём была надёжным помощником Расула. Патимат подняла его авторитет. Очень умная женщина».
Мне объездить весь мир довелось,
Тот, который и нищ, и богат,
А за мною, как эхо, неслось:
Патимат, Патимат, Патимат...
Наши дочки, чисты, как родник,
На тебя восхищённо глядят.
Словно доброе солнце для них —
Патимат, Патимат, Патимат.
Красоте твоей радуюсь я
И твержу похвалы невпопад.
Ты судьба и молитва моя:
Патимат, Патимат, Патимат
[93].
«И, кажется, обо всём уже написал поэт, затронул все стороны их бытия — и светлые, и печальные, — писала искусствовед Татьяна Петенина, близко знавшая Патимат Гамзатову, — но нет, не иссякает поэтический поток, потому что не угасает жар сердечный. Меняется только интонация поэта, подводящего итоги пройденного пути и осознающего, что у него осталась только Патимат».
Поэт написал жене множество стихотворений, но ему всегда казалось, что он ещё не сказал о ней самого главного, сокровенного. Это и в самом деле было непросто, как описать чудо.
Ты среди умных женщин всех умнее,
Среди красавиц — чудо красоты.
Погибли те, кто был меня сильнее,
И я б давно пропал, когда б не ты...
[94]
«СИЖУ В ПРЕЗИДИУМЕ, А СЧАСТЬЯ НЕТ»
Лев Толстой как-то сказал: «Хороший писатель — второе правительство». Расул Гамзатов многие годы и был им, участвуя в делах государственной важности. Но его не покидало сомнение: тем ли он занимается? Его ли это дело? Гамзатов верно служил своему народу, депутатом которого был, но у поэзии свои вечные мерила. И ничто не могло его убедить, что политическая карьера важнее поэтической судьбы. Он голосовал за множество проектов духовного возрождения, за чудесные законы, обещавшие свободу и процветание, но благоденствие всё не наступало.
Своё отношение к вопросу о поэте во власти Расул Гамзатов позже высказал, беседуя с поэтессой Косминой Исрапиловой:
«Многие поэты были у власти. Сам Гёте был министром, но от этого не стал меньше как поэт. Айтматов — посол, но не перестал писать свои произведения. Много посредственных писателей стали депутатами, а пишут по-прежнему плохо. Есть, конечно, поэты, которые борются против политического руководства. Я никогда не боролся. И многие не боролись. Они ставили более широкие задачи — общечеловеческие. И к тому же от борьбы против политической власти каждый раз пахнет кровью, а литература — это человеколюбие. Литература борется не столько против преступления, сколько против порока. Если порока не будет, преступления не будет. Говорят, жизнь — борьба. Я бы так о себе не сказал. Моя жизнь не столько борьба, сколько любовь. Надо помогать совершенствовать власть, систему, реформу, так же как поэт совершенствует стиль, форму своих произведений. Поэт очень далёк от власти, и власть далека от поэта. И это хорошо. Если бы Чехов стал бороться против злоумышленников и хамелеонов, то ему некогда было бы о них писать, а тем более ещё быть доктором и лечить людей».
Собрания! Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания...
Неделю заседают пастухи,
Оставив скот волкам на растерзание.
В газетах не печатают стихи:
Печатают отчёты о собраниях...
Хочу работать, жить, хочу писать,
Служить вам до последнего дыхания...
Но не окончил я стихов опять:
Пришли ко мне — позвали на собрание!
[95]
Для писателя нет ничего невозможного, пока он сидит за своим рабочим столом. Творческое воображение легко сотворит идеальное государство, где просвещённые правители обеспечивают процветание гармонично устроенного общества. Но если тому же писателю вверить бразды правления им же придуманной державы, то его неминуемо постигнет катастрофа. Государство — слишком сложный механизм с противоречивыми интересами разных слоёв общества, и для управления им одних благих намерений далеко не достаточно. Не случайно Гамзатов называл свои государственные бдения то трагедией, то комедией, и то и попросту — фарсом.
Я в жизни столько выслушал речей,
Зевоту подавляя для приличья,
А в это время где-то пел ручей,
И где-то раздавалось пенье птичье
[96].
«Я долгое время был в Верховном Совете СССР, но больше всего запомнил одно заседание, — рассказывал Расул Гамзатов Космине Исрапиловой. — В зал Кремлёвского дворца залетела ласточка, и все ей аплодировали. Она словно напомнила депутатам: весна наступила, а вы тут говорильней занимаетесь».
Яков Козловский писал, как однажды в перерыве заседания Президиума Верховного Совета к Гамзатову подошла сотрудница аппарата: «“Не желаете ли отправить телеграмму домой?” Гамзатов вырвал из депутатского блокнота страницу и написал: “Сижу в Президиуме, а счастья нет”». Эту историю рассказывают многие, в разных вариантах, но суть остаётся одной.
По-своему рассказывал об этом и кинорежиссёр Георгий Данелия. В его книге «Тостуемый пьёт до дна» есть несколько историй, связанных с Расулом Гамзатовым. Одна из них — тоже о Гамзатове в Верховном Совете:
«На одном из заседаний после голосования Микоян сказал:
— Товарищи, Министерство здравоохранения рекомендует через каждый час делать пятиминутную производственную гимнастику. Думаю, и нам стоит последовать этому совету. Не возражаете?
— Возражаем, — сказал Расул.
— Почему? — насторожился Микоян.
— Я целый час руку поднимаю — опускаю, поднимаю — опускаю. Разве это не гимнастика?
И это ему простили!»
Верховный Совет возвышался над страной, как Эльбрус над Кавказом. Здесь обитали почти небожители, не перестававшие удивлять Гамзатова, который теперь мог наблюдать их в самых разных ипостасях.
«Маяковский как-то сказал, что хорошо тому, кто плохо осведомлён, — говорил Расул Гамзатов Далгату Ахмедханову. — Я был восторженным, как и все, мальчишкой, который в 13 лет написал стихи о Сталине, которые распевали все пионеры в Аварии. Я оставался в неведении, пока сам близко не узнал Ворошилова, Молотова, Микояна, Хрущёва, Брежнева... А когда узнал... Как не вспомнить слова завоевателя Тамерлана: “Человечество пришло бы в ужас, если бы знало, кто им руководит”. Скажу лишь, что разочарований было много».
Однажды Расул Гамзатов рассказывал автору этой книги о странном диалоге с маршалом Климентом Ворошиловым, который тоже был членом Верховного Совета, а в недавнем прошлом его же и возглавлял. В перерыве между заседаниями можно было перекусить, этим и был занят Гамзатов, когда появился Ворошилов. Он был в гневе и ругал кого-то по-татарски. На этом же языке он обратился и к Гамзатову. Поэт ответил, что не понимает, о чём говорит Климент Ефремович, чем ещё больше рассердил маршала.
— Родного языка не знает, а ещё народный поэт!
Видимо, Ворошилов полагал, что все нерусские должны быть татарами. Расул Гамзатов хорошо знал татарскую литературу, дружил с коллегами из Татарской АССР, но оставался аварским поэтом. Знание Ворошиловым татарского языка приятно удивило Гамзатова, однако невежество, сквозившее в речах легендарного маршала, поневоле огорчало.
Позже, давая интервью Далгату Ахмедханову, Расул Гамзатов вспоминал о многих вершителях народных судеб, в том числе и о Леониде Брежневе:
«Он был добрым человеком в личном общении. Например, у членов Президиума была своя обеденная комната, а у членов Политбюро — своя. Так он мне однажды говорит: “Надо тебя к нам перевести обедать, ведь ты тоже коммунист. Вот такая честь”. И он, и Щербицкий (в то время член ЦК КПСС. —
Ш. К.) не раз говорили, что жёны их меня любят. Суслов то же говорил о своей внучке, на что я отвечал, что ничто не мешает им самим меня полюбить. Впрочем, грех жаловаться, все они ко мне хорошо относились, и хотя сейчас в их деятельности многие стараются отыскать тёмные стороны, и как бы плохо они о стране ни заботились, я этого по отношению к ним делать не могу и не хочу. Я вырос в той системе, впрочем, мы и сейчас продолжаем в ней жить, хотя наше время делят на сталинское, хрущёвское, брежневское, горбачёвское. Но это неверно. Система была и всё ещё остаётся прежней — одной и той же. Тем более — для поэта».
Тем не менее верховная власть Расула Гамзатова вниманием не обделяла, регулярно вручая ему награды. В 1965 году он получил ещё одну — орден Трудового Красного Знамени.
АВТОГРАФЫ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Поэта терзала необходимость отдавать государственной работе время, отнятое у творчества. Но у неё были и свои преимущества. Как бы ещё он мог помогать своим избирателям, своей республике столь значительно, как ему это удавалось? Одна его книга с автографом, подаренная нужному человеку, могла увеличить бюджет Дагестана, обеспечить предприятия заказами и сырьём, больницы — оборудованием, колхозы — техникой. Он почти не говорил о том, что делал для Дагестана, но земляки это хорошо знали и шли за помощью к Гамзатову.
«На депутатских бланках часто писал стихи, — говорил Расул Гамзатов в беседе с Далгатом Ахмедхановым. — Но как член Президиума я имел возможность помогать людям: устраивать в больницы, на учёбу, освобождать из тюрьмы и даже спасать от расстрела. В тяжёлые для республики времена, как после землетрясения, я мог помогать Дагестану ресурсами, поскольку был накоротке знаком со многими членами правительства и вхож в самые высокие инстанции, чем и пользовался, конечно, если видел в этом для республики необходимость».
Родственник поэта Анварбек Кадиев, бывший тогда директором завода «Дагэлектромаш», рассказывал, что Гамзатов решал такие вопросы, которые не мог решить первый секретарь обкома. И сбивался со счёта, перечисляя дороги и мосты, которые он помог построить.
Однажды Расул Гамзатов приехал к аварцам, издавна проживавшим в Грузии. Село Тиви в Кварельском районе Кахетии имело небольшую четырёхклассную школу в плохо приспособленном помещении. Учившийся в этой школе Рамазан Баркалаев рассказывал, как встречали Расула Гамзатова. Увидеть знаменитого сородича собралось всё село. И Гамзатов сказал им: «Вы — дважды аварцы, аварцы здесь, в Грузии, и в Дагестане». Бедственное состояние школы не оставило его равнодушным. Он пообещал, что поможет построить новую школу, и сдержал слово. Вскоре появились проектировщики и строители. Школу построили двухэтажную, со спортивным залом. Сделали даже котельную — большая редкость по тем временам. Это была восьмилетняя школа, в которой преподавались грузинский, аварский и русский языки. Появились новые рабочие места. Из Дагестана присылали учебники аварского языка, школьные пособия, приезжали преподаватели.
Гамзатов часто бывал в кавказских республиках, где у него было много друзей. Но посещал он не только столицы. В Азербайджане, как и в Грузии, есть дагестанские сёла. Аварцы живут преимущественно в Закатальском и Белоканском районах. Когда Гамзатов приезжал, его встречали как национального героя. А он радовался тому, как аварцы хранили свой язык, берегли традиции и культуру. В клубах мест не хватало, приходилось устраивать творческие вечера на школьных стадионах. Иногда Расул Гамзатов привозил с собой дагестанских певцов и других артистов, которые давали концерты. Поэт читал стихи, дарил свои книги, рассказывал, чем живёт Дагестан, отвечал на вопросы. И думал, что можно сделать для этих людей, почти земляков. После особенно многочисленной встречи в селе Динчи решили создать Аварское общество, которое с помощью Расула Гамзатова открыло много возможностей. В дагестанских вузах появились студенты из аварских сёл Азербайджана, для которых были выделены специальные квоты. И большинство из них, очарованное поэзией Гамзатова, хотело учиться именно на филологических факультетах. Рассказавший об этом Адиль Адиев и сам был в числе первых студентов, приехавших учиться в Дагестан.
О многом, что было сделано из уважения к Гамзатову, из любви к его поэзии, они сам не знал. Лишь иногда выяснялось, что кого-то в Москве задержала милиция, а потом отпустила, когда провинившийся сказал, что он — племянник самого Расула Гамзатова. Некоторые даже получали квартиры, назвавшись родственниками поэта и подарив его книгу. Когда не удавалось получить для такой книги автограф, ставили их сами, как умели. Таких историй известно множество, ещё больше остались неизвестными. Гамзатов и не подозревал, что у него так много «племянников», но и не сердился. Только однажды, когда оказалось, что «Гамзатов» позвонил куда-то и что-то серьёзное уладил, воззвал: «Оставьте мне хоть голос!»
Известный спортсмен Магомед Юсупов не переставал удивляться масштабу его личности. «Все грани стирались, когда речь заходила о Расуле Гамзатове, — говорил он. — Его поэзия возвышала человека, а книги с его автографами творили чудеса. Даже “заочная” встреча с живым классиком становилась для людей значительным событием, уроком жизни и человечности».
Способность большого поэта перевести любой разговор в осмысленное русло, умение облечь высокие истины в привлекательную, порой окрашенную мягким юмором, форму, которой открывалось сердце собеседника, делая его добрым, одухотворённым, просветлённым, — всё это свидетельствовало, что Расул Гамзатов — явление особого порядка, а дар его, щедрый и безбрежный, делает этот мир лучше.
Когда Юсупов осторожно попросил разрешения сфотографироваться с Гамзатовым, тот, со свойственным ему юмором, ответил: «Конечно! У меня тоже нет с тобой ни одной фотографии».
«Ко мне, как к депутату, приходят люди: “Помогите попасть к тому-то и к тому-то”, — рассказывал Гамзатов Феликсу Медведеву. — Мне уже кажется, что к министру простому человеку попасть невозможно. Тысячи людей ищут правду. Тысячи людей стоят в очередях канцелярий, пребывая в бесконечных ненужных командировках, отпусках за свой счёт. Сама наша борьба с бюрократизмом превращается подчас в говорильню. По-прежнему много различных бумаг, много пустых решений! Каждый день какие-то инициативы появляются. Но надо же старые доводить до ума, не забывать о них. Чувствую, заседаний стало больше, во всяком случае, в наших писательских организациях. И многие нерезультативны. Ибо на них занудство и тоска».
А люди всё шли и шли, и возможность помочь им становилась для Гамзатова спасением от тягостной раздвоенности между творчеством и государственными делами.
Когда умирал от рака Георгий Арутюнянц — один из героев-краснодонцев, он попросил книгу Расула Гамзатова. «Отважный человек, подполковник и военный учёный, преподаватель академии, обладатель огромной домашней библиотеки, он был приговорён судьбой к одиночеству в госпитальной палате, — вспоминал писатель Валентин Осипов, бывший в ту пору главным редактором издательства «Молодая гвардия». — В одно из посещений неожиданно слышу: “Ты, говорят, только что издал Гамзатова. Мне плохо здесь без поэзии. Очень...” Я поспешил не в издательство на склад, а к Гамзатову. Он тут же откликнулся, и на книге появился дарственный автограф: необычайно тёплый и поддерживающий. Жора взял в руки книгу, прочитал себе посвящение и — истинно так — скупая мужская слеза скатилась по щеке».
ХИРОСИМА ВИДНА ОТОВСЮДУ
В феврале 1965 года Расул Гамзатов посетил Японию как участник Всемирного конгресса «За запрещение ядерного и водородного оружия».
В Хиросиме звучал колокол мира. Его печальный набат напоминал человечеству об атомном кошмаре, который уничтожил город и его жителей. От множества людей не осталось и пепла, лишь тени на опалённых стенах и ступеньках. Оплавленные детские велосипеды без детей, часы без тех, кто их носил, замершие в 8 часов 15 минут. От древнего города осталось лишь несколько развалин.
Толпа безмолвна. А над ней, взлетая,
Так неуместно праздничны, пестры
Лиловой, белой, красно-синей стаей
Качаются воздушные шары.
— Что это значит? — я спросил несмело.
— Эмблема смерти, — раздалось в ответ.
— Шары цветные — жертвы прошлых лет,
А знак недавней смерти — шарик белый
[97].
С той трагической даты прошло 20 лет, но люди продолжали умирать от лучевой болезни, которая обнаруживалась даже у недавно родившихся младенцев.
Были шествия, конференции, возложение венков к мемориалу погибших. На одной из фотографий Гамзатов снят во время демонстрации защитников мира. С цветочной гирляндой на шее он несёт транспарант с надписью «USSR».
«Хиросима — горе всего человечества, это не далёкая чужая беда. Увидев этот город, я позабыл всё, что видел, — писал Расул Гамзатов. — Увидев его, я вспомнил всё, что пережил. Я думаю о погибших отцах, о братьях, павших на полях сражений, о тех, кто лежит под каменными плитами кладбища моего аула, моего города. Вспоминаю памятники трагедий Освенцима, Лидице... Мне рассказывали в Японии, что миллионы людей уехали далеко от Хиросимы, чтобы избавиться от страшных воспоминаний. Но Хиросима, где бы люди ни жили, смотрит на мир. Хиросима видна отовсюду... На одной из площадей Хиросимы, на маленькой возвышенности, стоит колокол мира. Я бил в этот колокол. Его звон до сих пор раздаётся в моих ушах, и я слышу: “Пусть никогда не повторится Хиросима!”».
Восстаньте, исчезнувшие в огне.
Пусть кровь заклокочет в аортах.
Колокол бьёт, и кажется мне —
Вы восстаёте из мёртвых.
Плакальщиц мира родная сестра,
Где в камень впечатались тени,
Встала обуглившаяся гора
Пред городом на колени
[98].
В стихотворении Гамзатова «Колокол Хиросимы» Вергилием в этом аду становится «сошедший с пьедестала проводник» — японская девочка Садако Сасаки. Ей было всего два года, когда над городом взорвалась атомная бомба, прозванная американскими пилотами «Малыш».
Садако чудом удалось выжить, но через десять лет её настигла лейкемия. Радиационная болезнь была неизлечима, но девочка боролась за жизнь, складывая бумажных журавликов — оригами. Считалось, что если сделать тысячу таких журавликов, исполнится любое желание. Садако успела сложить больше шестисот. Остальных сложили её друзья, её похоронили с тысячей журавликов.
В память о Садако, обо всех детях — жертвах варварской бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме был установлен памятник. Девочка с бумажным журавликом в руках и надписью на постаменте: «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всём мире»,
В Хиросиме этой сказке верят:
Выживает из больных людей
Тот, кто вырежет, по крайней мере,
Тысячу бумажных журавлей.
Мир больной, возьми бумаги тонкой,
Думай о бумажных журавлях,
Не погибни, словно та японка,
С предпоследним журавлём в руках
[99].
Врач из хиросимского госпиталя рассказал Гамзатову:
«В тот августовский день, как обычно, мне нужно было ехать на работу в Хиросиму. Я стоял в очереди на остановке автобуса, далеко от города. Но когда я собирался войти, встретил знакомую женщину и уступил ей своё место. Через несколько минут над Хиросимой взметнулось пламя, столбы дыма и пыли. Над городом повис зловещий гриб. Потом пошёл голубой дождь, и ничего не было видно.
Ни своей знакомой, которой я уступил место в автобусе, ни коллег я в городе не нашёл. Все погибли. Не раз думал я последовать за ними, но вокруг меня стояли больные, лечить которых ни я, ни кто другой не были в силах. С мольбой взывала ко всему миру моя родная, моя сожжённая Хиросима. И я, один из многих людей мира, двадцать лет ищу лекарства от боли моего города, но настоящего исцеления ещё не нашёл. И мне некогда умирать, потому что я должен найти облегчение людям, гаснущим от рака, туберкулёза, распада тканей. Двадцать лет прошло с тех пор, но люди Хиросимы умирают и поныне. А кто остался в живых, того трудно назвать живым.
Расул Гамзатов писал о поразившем его в Хиросиме рояле, у которого обгорели клавиши. Но погибший, молчащий уже много лет инструмент не был нем — его музыку слышал поэт:
...Я думал о событье давних дней,
Что не вернёшь ничто и не поправишь,
Что нету даже праха тех людей,
Чьи пальцы знали холод этих клавиш.
И молчаливый траурный мотив
Плыл над землёй, где столько льётся крови,
И, потрясённо голову склонив,
Ему внимали Моцарт и Бетховен
[100].
Поэт из Хиросимы поведал Расулу Гамзатову свою трагедию:
«В день этой неслыханной беды я был в отъезде. Когда вернулся, то не нашёл ни дома своего, ни города. Не нашёл ни жены, ни детей, ни родных. Не нашёл их ни убитыми, чтобы похоронить, ни ранеными, чтобы прижать их к груди. Так и не пойму — в пыль ли, в золу ли они превратились. Но и поныне их тени бродят по улицам города. Я думал: “Всё кончено. Покончу с собой”. Но страшное горе подсказывало мне стихи. Я пишу их все двадцать лет. Иначе я давно бы покончил с собой. Нет конца печальной песне о Хиросиме!»
Расул Гамзатов посещал Хиросиму несколько раз. И всегда это была новая боль. Тревога за судьбы человечества вновь и вновь влекла поэта к перу, как несчастного поэта из Хиросимы. Образ мира был запечатлён в трагедии города, драма человечества — в образе девочки Садако. Неприятие войны и страданий, горестных потерь и обугленных судеб рождали произведения, которым было суждено войти в большую литературу.
Там же, в Хиросиме, на листки блокнота лёг набросок стихотворения, ставшего в будущем знаменитыми «Журавлями».
Поэзия оставалась верной спутницей Расула Гамзатова. Она спасала его в самые трудные минуты, разделяла его радости и печали.
Его пребывание в Японии ещё продолжалось, когда из Дагестана донеслась скорбная весть.
Я сжал в руке квадратик телеграммы.
И задрожал и прочитал едва,
И до сознанья не дошли слова...
Но сердце поняло: «Нет больше мамы»...
Мама! В ночь мучительную ту
Я, твой сын, с тобою не был рядом.
Тщетно ты меня искала взглядом,
Уходя во тьму и немоту
[101].
МАМА
Кончина матери оглушила Расула Гамзатова. Он не мог в это поверить даже в Хиросиме, где погибли десятки тысяч матерей.
Старой люльке пустовать не нужно,
Без детей, мол, в доме нет тепла...
Прошептала нам: «Живите дружно.
Помните меня». —
И умерла.
...Как ты просила — камень самый скромный
Могильный холмик осеняет твой.
Но для меня и неба свод огромный,
И всё вокруг — твой памятник живой
[102].
«Моя мать Хандулай была обычной и неграмотной женщиной, — писал Гамзатов. — Родила четырёх сыновей, двое из которых сложили головы на полях Великой Отечественной, вырастила дочь, была хорошей соседкой для соседей, надёжной и отзывчивой родственницей для родных».
И ещё она была надёжной опорой для своего мужа — большого поэта Гамзата Цадасы, который прожил славную, но трудную жизнь, и Хандулай разделила её с ним.
Расул Гамзатов вспоминал прощальные слова отца: «Я ухожу туда, где буду всем обеспечен и от всего защищён, — говорил он. — Ты, Расул, теперь старший в доме, и потому не огорчай и не давай огорчать мать. Береги её покой и не укорачивай остаток дней недостойным поступком и опрометчивым словом».
А когда надел он первый орден,
Он сказал нам:
— Надо б награждать
Тех, чей подвиг молча благороден.
Ордена заслуживает мать...
А когда за столбик первых строчек
Дали мне в газете гонорар,
Мама, я тебе принёс платочек...
Как ценила ты мой скромный дар!
[103]
Никто не может дать матери столько, сколько даёт она. Мать дарит жизнь, заботу, ласку, бесконечную любовь. Расул Гамзатов не уставал писать и говорить о матери, о неоплатном сыновнем долге.
«Волнение, которое вызвал у меня образ моей матери, вначале было явлением внутренним, моим личным, впоследствии оно стало и внешним, всеобщим. Я писал о своей матери, о её коротких радостях и больших печалях, о её недолгой молодости и ранних сединах. Я писал о её шалях, которые ей приходилось часто красить в траурный цвет. Но потом я написал о светлых песнях матерей, которые они пели от колыбели до кончины сыновей. Ибо тот, кто забывает песню матери, забывает и родной язык — так говорил мне отец. Я всегда выделял три песни.
Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей:
Её слагает мать над колыбелью.
Вторая — тоже песня матерей.
Рукою гладя щёки ледяные,
Её поют над гробом сыновей...
А третья песня — песни остальные.
Да, мать уже не услышит мои запоздалые стихи о ней, но услышали многие живущие матери, их сыновья и дочери, они откликнулись на мою поэму. Среди сотен писем только одно было написано в виде злобного заявления в адрес вышестоящих органов на меня за эту поэму. Это был не читатель, а мой земляк — “брат писатель”. Он негодовал: как можно в такое величественное время о собственной матери писать, какие заслуги она имеет перед народом и государством... и так далее. Есть люди с заслугами и без заслуг. Есть люди хорошие и плохие, но нет матери, которая не имеет заслуг, и матери бывают для сыновей только хорошие...
В нашей печати много писали, но мало сказали о проблеме отцов и детей. О матерях и детях почти ничего не писали и тем более ничего не сказали. И, казалось бы, в этом нет необходимости, ибо, как справедливо писал Некрасов:
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и позы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы —
То слёзы бедных матерей.
Я говорю не только о своей матери, а вообще о матери, которая является душой Мира, её началом и бесконечностью, я говорю о матери каждого в отдельности и в целом, “чтобы глухое равнодушие или невнимание к ней на совесть камнем не легли”».
Написанное Расулом Гамзатовым о матери вызывало у читателей тёплые чувства, они узнавали в его стихах своих матерей, находили в них свои переживания. И присылали поэту множество писем, которые, в свою очередь, трогали и волновали поэта: «Мне пишут о матери, которая от имени сына сама сочиняет себе письма и показывает их соседям. А сын давно забыл о своей матери, о её существовании».
Беды я не ведал с тобою, мама.
Сбегались удачи гурьбою, мама.
От счастья не знал я отбоя, мама.
Была моею светлой судьбою мама.
Так что же теперь ты ушла до срока?!
И в мире так сыро... Так одиноко
[104].
Гамзатов часто вспоминал, как только что вернувшаяся из космоса Валентина Терешкова ответила на вопрос иностранного корреспондента о самом любимом человеке:
— Мама!
Любой человек, тепло говоривший о своей матери, становился в глазах Расула лучше и добрее.
Яков Козловский перевёл стихотворение «Мама», которое и теперь остаётся одним из самых популярных в творчестве Гамзатова.
По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски — ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого — особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним звоном становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему...
В июле 1965 года у четы Гамзатовых родилась третья дочь. Не дождавшийся сына супруг послал жене телеграмму: «Благодарю за принципиальность!»
Патимат, средняя дочь Гамзатовых, рассказывала в беседе с Таисией Бахаревой: «Когда на свет появилась моя старшая сестра Зарема, родителям было всё равно, сын это или дочь. Папа был совершенно счастлив, написал поэму “Зарема”... Ожидая моего рождения, папа с мамой надеялись, что будет мальчик. Они даже придумали мне два имени: Шамиль и Хаджи-Мурат. Женское имя загадывать не стали, но тут появилась я. Меня назвали в честь рано ушедшей из жизни папиной племянницы, дочери его погибшего брата. Ведь в Дагестане принято называть детей в память о покинувших этот мир родственниках. После рождения младшей сестрёнки Салихат родители уже не грустили, мама дала ей имя своей бабушки».
Когда счастливый отец примчался в Махачкалу, к нему потянулись родственники и друзья, чтобы поздравить с прибавлением в семействе. Гамзатов встречал их со словами «Добро пожаловать на остров женщин!». Так же — «Остров женщин» — называлась и одна из его будущих поэм, хотя содержание её было совсем иным.
«ХАДЖИ-МУРАТ». ДУБЛЬ II
«Хаджи-Мурату» Льва Толстого в кино фатально не везло. Многие хотели снять фильм по знаменитой повести, но дело не трогалось с мёртвой точки. Наконец за фильм взялись режиссёр Георгий Данелия, Расул Гамзатов и Владимир Огнёв — сценарист, бывший к тому же редактором на киностудии.
«Данелия должен был снимать эту картину, — вспоминал Расул Гамзатов в беседе с Феликсом Медведевым. — Но нашлись люди, которые сразу приклеили нашей работе ярлык: дескать, она мешает дружбе народов. Но почему мешает? Лев Толстой не мешает, а я мешаю? О Шамиле существует огромная литература, в том числе повесть Петра Павленко, давно не переиздававшаяся. С именем Шамиля связаны те или иные страницы уже нашей современной истории. Многие поплатились карьерой, судьбой, а то и жизнью только за то, что писатель, историк сказал правду об отношении к Шамилю, о его роли в истории дагестанского народа. Если кто-то думает, что для интернационального воспитания нужно именно так искажать историю, то он глубоко ошибается. Такое отношение лишь озлобляет человека. Перестройка должна коснуться и имени Шамиля. Это очень важно».
Сценарий был написан и даже одобрен. Госкино выделило деньги, фильм поставили в план киностудии «Мосфильм». Началась большая подготовительная работа. Но что-то пошло не так.
Георгий Данелия вспоминал:
«— Нам нужен большой павильон, а производственный отдел не даёт! — пожаловался я директору “Мосфильма” Владимиру Николаевичу Сурину.
— По какой картине?
— По “Хаджи-Мурату”.
— Тебе что, не сказали?
— О чём?
— Вас закрыли!
— Когда?!
— Уже месяц почти. Извини!
— Кто закрыл?
Владимир Николаевич устало посмотрел на меня, развёл руками и поднял глаза к потолку. Я тоже посмотрел на потолок. После недавнего ремонта потолок в кабинете директора был свежевыкрашен.
За полгода до этого разговора Расул Гамзатов, Владимир Огнёв и я написали сценарий. Его приняли без замечаний, и к моменту этой моей беседы с Суриным мы уже выбрали натуру, утвердили актёров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта».
Надпись на рукописи
собственного сценария «Хаджи-Мурат»
Лихой наиб, в отчаянном бою
Давно срубили голову твою.
Покоится близ отчего предела
В могиле обезглавленное тело.
Но почему, хоть ты погиб давно,
Тебя ещё боится Госкино?
Кинематографическому «Хаджи-Мурату» было не привыкать к превратностям судьбы. К тому времени фильмы по повести Льва Толстого были сняты в нескольких странах. Первый вышел в 1930 году в Германии. Фильм был немой, героя играл великий Иван Мозжухин, режиссёром был Михаил Волков. Фильм назывался «Белый дьявол», на плакате был изображён Хаджи-Мурат в белой черкеске, с белой чалмой мюрида на папахе и на белом коне, который летел на битву во главе отряда джигитов. На этом связь фильма с повестью Толстого заканчивалась. Дальше демонстрировалось нечто «из времён Шамиля», местами достоверное изображённое сотнями эмигрантов, ещё помнивших своё отечество. Иван Мозжухин играл замечательно, особенно на крупных планах, видимо, чувствуя близость печальной судьбы отлучённого от родины Хаджи-Мурата. Но это не спасло фильм, который был изуверски отлучён от литературного источника.
Фильм начинался безумными плясками в ауле, где джигиты с факелами в руках кружили вокруг весело танцующей, неведомо откуда взявшейся племянницы Шамиля Заиры, которой не было ни в истории, ни в самой повести. Тем временем Хаджи-Мурат, вернувшийся с охоты с косулей на плече, вожделенно поглядывал на Заиру, которую хотел сделать своей женой. Куда девалась большая семья Хаджи-Мурата, которая играла в повести Толстого важную роль, было неизвестно. Заира поглядывала на Хаджи-Мурата с не меньшим интересом, и это могло кончиться самым худшим образом, но тут на аул налетели царские войска. Складывалось впечатление, что авторы фильма не читали Толстого, во всяком случае, они его не чтили.
Пленённую Заиру отправили в Петербург. В отместку Хаджи-Мурат устроил засаду на отряд, шедший с песнями по отличной альпийской дороге с бордюрами, каких в горах никогда не было, и триумфально привёл пленных в аул. Далее творилась новая череда несуразиц, в результате которых Хаджи-Мурат оказался в Петербурге, где собирался заколоть кинжалом царя, заглядевшегося на Заиру, которая к тому времени успела стать лучшей танцовщицей в балетной труппе. Спасённую Заиру Хаджи-Мурат умчал в Дагестан на лихой тройке. А там уже готовилась расправа над матерью и сыном «предателя», переметнувшегося к врагам горцев. Однако Хаджи-Мурат, проявляя чудеса храбрости, отбиваясь от преследователей, смертельно израненный, привёз Шамилю его племянницу, на которой успел по дороге жениться. Его похоронили как героя, а Заира стала новой матерью осиротевшему сыну Хаджи-Мурата.
То, что это не Толстой — великий мыслитель, не Шамиль — вождь вольных горцев, и тем более — не Хаджи-Мурат, трагедию которого превратили в мелодраму, явно никого не смущало. Как ни странно, фильм был принят восторженно. Мужчины вскакивали с мест и кричали «браво!», а растроганные дамы утирали слёзы. Исторические
несоответствия их не волновали, достаточно было, что вольные горцы, как бы то ни было, храбро боролись за свободу, а любовь преодолевала все преграды.
Ещё один фильм был снят в Италии в 1959 году. Хаджи-Мурата играл американский культурист Стив Ривз, который при каждом удобном случае демонстрировал свою фигуру и играл мускулами. Были и другие фильмы, имевшие весьма отдалённое отношение к повести Толстого.
И вот, казалось, наступило время фильма настоящего, который сделают люди, знающие Кавказ, чтущие Толстого и любящие Хаджи-Мурата.
Владимир Огнёв, имевший непосредственное отношение к сценарию, описал происходившее в очерке «Скитания Хаджи-Мурата»:
«Популярный певец и киноактёр Вахтанг Кикабидзе вспоминает: “Есть два героя, которые мне особенно нравятся... Морган у Хемингуэя в “Иметь и не иметь”. И Хаджи-Мурат у Толстого. Была мечта у меня — сыграть эту роль: Хаджи-Мурата. Думал, сыграю — и могу больше не сниматься. Лет пятнадцать назад картина должна была вот-вот сниматься про Хаджи-Мурата. Замечательный сценарий был тогда у Георгия Николаевича Данелии, изумительный сценарий. То, что там играл бы, это точно, но кого — не знаю. Про себя надеялся: вдруг он меня поставит на “Хаджи-Мурата”? И возраст был тогда подходящий. Но сценарий не пропустили, такие скандалы из-за него были, не пропустили — и всё. Тем дело и кончилось”.
Я имел самое прямое отношение к этому “замечательному”, “изумительному” сценарию, потому что писал его вместе с Данелия.
Настало время рассказать и о том, почему фильм Данелия не состоялся.
Начиналось всё так. Я рассказал В. Б. Шкловскому о замысле сценария в 1966 году. Виктор Борисович вдохновился, забегал по комнате, приговаривая любимое своё “дык вот”, потом сел на край широкой тахты и крикнул: “Симочка! Где моя заявка?” Через минуту я, несколько, сознаюсь, обескураженный, читал и перечитывал две странички “заявки” на экранизацию повести Л. Н. Толстого, выдержанную в стиле раннего Шкловского. Понять что-нибудь было трудно, кроме того, что автор заявки был гениальный человек. Но к повести Толстого это не имело никакого отношения. Как поставить головоломные парадоксы в кино, в современной эстетике, было непонятно. Хаджи-Мурат по заявке В. Б. оказывался крестьянином, который бунтовал против самой идеи ханства, что уже отдавало 1920-ми годами. Конфликт наиба с имамом не оставлял места для русской части, для горской войны как таковой. А когда Хаджи-Мурат попадал в театр — это был театр Мейерхольда... Ну и всё в этом роде.
Короче, я передал сценарий на киностудию, но его отвергли...
Г. Чухрай предложил Гии Данелия работать со мной. Гия меня тогда знал мало. Зато, как и все, знал Расула Гамзатова. Расул предложил обсудить ситуацию в ресторане.
...Жарко пекло солнце. Мы с Гией, повязав полотенца чалмою, в плавках лежали на траве у коттеджа Дома творчества в Переделкине. Строгий Литфонд дал путёвки Расулу и мне. Под фамилией Гамзатова жил Данелия.
Рядом с нами лежало в бумажной обложке расчёрканное мною издание “Хаджи-Мурата” с рисунками Лансере. Я писал и писал. Гия кусал травинку и смотрел в небо. Со своей постоянной японской улыбкой он говорил мне: “Хорошо”, я радостно гнал дальше. Гия после часа-другого: “Надо сделать перерыв”. После перерыва как ни в чём не бывало Гия задумчиво предлагал совсем другое решение, щедро отбрасывая варианты, казавшиеся мне гениальными...
Однажды в Москву заявился Расул Гамзатов и с ходу придумал эффектнейшую сцену встречи Хаджи-Мурата с Шамилем. Потом рассказал мне что-то о Шамиле, чего я не знал...
Сценарий получался. Это признавали строгий Гия, замечательный оператор Вадим Юсов, часто присутствовавший на читке очередного варианта и предложивший ряд решений, которые касались места действия, признали и на студии, единодушно принявшей с первого раза сценарий, и даже Комитет по кинематографии, высоко оценивший его качество.
И вот приехал Расул Гамзатов и пригласил нас для читки в фешенебельный посёлок Верховного Совета СССР в Снегирях. Я начисто переписывал финальную сцену, когда позвонил Расул и сказал так:
— Гигант мысли! Ко мне едет корреспондент газеты “Труд”. Он спрашивает, какой у нас консепций. Какой? Скажи, пока он едет...
Я что-то наговорил. Расул сопел в трубку:
— Не так быстро...
На следующий день, купив “Труд”, я прочитал нечто вроде следующего: “Экранизацию знаменитой повести Л. Н. Толстого сделал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Постановщик Г. Данелия, главный оператор Вадим Юсов”. И далее: “О концепции фильма рассказал поэт...”.
Рассказал хорошо. К обеду мы с Гией были в Снегирях...
Сели за стол. Расул предложил выпить за окончание работы. А потом уже устроить читку. Принципиальный Гия накрыл рюмку ладонью:
— Как тебе не стыдно! Ты даже не упомянул Володю.
И вынул из кармана мятую газету.
И тут Расул выдал надолго запомнившуюся мне остроту. Лукаво так и с удивлением:
— Слушай. В ресторане — кого знают? Апициантку, да? А шеф-повара кто знает?
Мы расхохотались. И я начал читать сценарий.
Лучше всех слушал Расул...
Далее — как кадры кинохроники. Я, Гия, Юсов вылетаем в Крым. Студия. Натура. Потом — Гия, Юсов, группа — в аулы Дагестана. Натура. Кинопробы горцев. Шьются костюмы. Гия ищет актёра на главную роль. Мечтает заполучить Омара Шарифа. Иннокентий Смоктуновский звонит Гии. Очень хочет главную роль. Я в восторге:
— Почему ты хочешь чужую звезду? У нас — своя. Это только на первый взгляд Смоктуновский абсолютно не подходит. Он — гений. Он гений перевоплощения!
Гия снисходительно улыбается.
Смоктуновскому он ответил так:
— Кеша, а ты не хочешь сыграть Анну Каренину?
В остальном всё идёт “штатно”, как говорят космонавты.
И вдруг рвётся плёнка, остановлен мотор...
Что случилось? Грубая, непоправимая ошибка Данелия.
Он, неисправимый грузин, решает отметить запуск в производство “Хаджи-Мурата”. В квартире его на Чистопрудном — высокий гость, заместитель председателя Государственного комитета по кинематографии Владимир Евтихианович Баскаков с молодой женой-венгеркой. Расул с Патимат, Юсовы, Павел Лебешев, некий Абдильбиев — знакомый Гии, я.
Чача из Тбилиси делает своё чёрное дело. Расул выбит из седла первым. Он, набычившись, долго смотрит, тяжело смотрит на Баскакова, пустившегося в исторический экскурс о горской войне. Тот неосторожно задевает святое святых Расула — имама Чечни и Дагестана. Это незаживающая рана...
И вот за праздничным настроением стола — резкий слом. Расул:
— Ты — жалкий чиновник. Ты умрёшь, что после тебя останется? Шамиль — великий человек. Ты не можешь говорить как равный с имамом, даже с мёртвым!
Я толкаю Расула ногой под столом. Но тот уже не может остановиться...»
Баскаков резко ответил. Гамзатов пришёл в ярость. В разгорающийся конфликт вступили новые силы. Патимат Гамзатова старалась всё сгладить.
«Но, увы, поздно, — продолжает Владимир Огнёв. — Баскаков встаёт и выходит из-за стола. Встаёт и венгерка-жена. Хозяин пробует препятствовать уходу, но тщетно...
Дальше события развивались по логике советского абсурда. Слухи, что фильм остановлен по идейным соображениям, быстро распространялись. Говорили, что Суслов был недоволен Ермашом — ответственным в ЦК за кино. Потом на мои запросы Комитет ответил, что причина отказа в запуске фильма — техническая. Мол, все павильоны “Мосфильма” заняты фильмами, имеющими первостепенное значение — к пятидесятилетию советской власти... Но я мечтал о “Хаджи-Мурате”».
Огнёв рассказывает и о других попытках снять фильм, с разными режиссёрами, в разных странах, но все они кончились ничем.
Настоящая причина отказа Госкино оставалась тайной. Однажды Владимир Огнёв позвонил автору этой книги и рассказал о том, как всё было на самом деле. Но откровение это было столь «горячего» свойства, что приводить его здесь вряд ли уместно.
Такая же сложная история происходит и с черепом Хаджи-Мурата, который уже более 150 лет хранится в запасниках Кунсткамеры. Его множество раз пробовали вызволить оттуда и предать земле, но экспонат № 119 всё ещё остаётся в Антропологическом музее.
Отрубленную вижу голову
И боевые слышу гулы,
А кровь течёт по камню голому
Через немирные аулы...
Спросил я голову кровавую:
«Ты чья была, скажи на милость?
И как, увенчанная славою,
В чужих руках ты очутилась?»...
Тропинками, сквозь даль простёртыми,
В горах рождённые мужчины.
Должны живыми или мёртвыми
Мы возвращаться на вершины
[105].
«МНЕ ГНЕВ ЕГО НУЖЕН, МНЕ СМЕХ ЕГО НУЖЕН...»
В 1966 году вышел сборник стихов Расула Гамзатова «Мулатка» в переводе Наума Гребнева и Якова Козловского. Как и все предыдущие, издание быстро разошлось. Поклонники творчества Гамзатова знали, как он умеет удивлять, что он всегда непредсказуем и неподражаем. В книге и на этот раз было много новых произведений, которые читались и перечитывались, и в каждом из них открывались иные смыслы, незатронутые ранее грани таланта и поэтические высоты.
Покарай меня, край мой нагорный,
За измену твоей высоте.
Верил я в чей-то вымысел вздорный
И разменивал жизнь в суете...
[106]
«Расул Гамзатов удостоен редкой радости раннего и безусловного признания, — писал Яков Козловский. — Прошло почти два десятилетия, как вышла его первая книга на русском языке, а похвалы критики с нарастающей силой сопровождают появление каждого нового сборника. Трудно, пожалуй, назвать другого советского поэта, чья судьба сложилась бы так счастливо. Временами рождалось даже опасение, что талант Гамзатова подорвётся на мине критического радушия, что поэт привыкнет к славе, как привыкали к ней многие стихотворцы, не в пример Гамзатову, весьма скромного дарования.
Но нет, оказалось, что молодой горец, знакомый с крутизной заоблачных высот, довольно устойчив к головокружению. А рано поседевшая его голова полна мыслей мудрых, зрелых и несуетных».
Зря познал я усердье
И касался пера.
Зря будил милосердье
Я во имя добра.
Зря кружил по планете,
Что тревоги полна.
Все дороги на свете —
Анализируя это стихотворение, Казбек Султанов писал: «Апофеозом безысходности воспринимается поначалу стихотворение “Зря познал я усердье и касался пера”. Познавший горечь разочарования (“Зря кружил по планете... Зря огонь мне завещан... Зря я верил в удачу”), поэт, тем не менее, сохраняет это ощущение многомерности жизни, изменяя оптику и эмоциональный вектор в сюжетном движении к другому полюсу: “Нет, не зря! — словно дочка, мне из тысяч одна / Отвечает та строчка, что осталась верна”».
Книга полна философских раздумий, тонкой лирики, светлых воспоминаний. Однако есть в ней и юмор, и сатира.
Поэт будто открывает дверь в одну из своих поэтических сокровищниц, завещанных большим мастером острого слова Гамзатом Цадасой.
Торгаш, лицемер и базарный карманник
Страшились карающих слов стихотворца.
И мысли мои обратились к оружью,
Которым отец побеждал многократно.
Мне гнев его нужен, мне смех его нужен,
Мне стих его нужен, простой и понятный
[108].
В стихотворении «О ворах» («Песня воров») Гамзатов продолжает эту яркую традицию, высмеивая номенклатурное правосудие, которое оберегает настоящих воров и карает невиновных. Читая его, вспоминается «Король Лир»:
Сквозь рубища грешок ничтожный виден,
Но бархат мантий прикрывает всё.
Позолоти порок — о позолоту
Судья копьё сломает, но одень
Его в лохмотья — камышом проколешь
[109].
«Песня воров» сразу же обрела популярность. Впрочем, на аварском языке стихотворение было уже известно — знаменитый комедийный актёр Махмуд Абдулхаликов исполнял его со сцены.
Помалу, помногу
Воруют вокруг:
То заднюю ногу,
То целый курдюк...
Гора на горе, Вор на воре...
Угонит овец,
Говорят: «Удалец!»,
А спёр петуха —
Народ хохотал, начальство нервничало.
Махмуд Абдулхаликов вспоминал:
«Расул Гамзатов всегда соблюдал такое правило, которое стало традицией: прежде чем дать на публикацию, все свои новые произведения он читает поэтам, критикам, артистам, творческим работникам... С разрешения Расула Гамзатова я выбрал из этого ещё неопубликованного сборника несколько понравившихся сатирических стихотворений для своего репертуара...
“Песню воров” под свой мотив я решил исполнить в эфире, через некоторое время спел её по телевидению. Конечно, знал, что рисковал. Тогда была установлена строгая цензура, и не разрешалось исполнять неопубликованные произведения. Люди боялись говорить, что в стране воровство, взяточничество, коррупция. Расул Гамзатович смелый человек и часто возражал даже против секретарей ЦК партии, и он мог писать:
Воруют страну;
Взрослые воруют,
Молодые воруют.
Видимо, многие слушали исполнение этой песни и видели меня на экране телевизоров, не обошлось и без доносов. Доложили об этом и тогдашнему заведующему отделом пропаганды и агитации Обкома партии...»
Затем «наверх» вызвали и самого Махмуда:
«— Махмуд, вы пели песню по телевизору о том, что воруют, без конца воруют, воруют... Что это за воровство бесконечное и кто автор песни? Наверное, сам сочинил?
— Я исполнял эту песню, но она не моя, её автор — Расул Гамзатов.
— Она опубликована?
— Нет, не опубликована, лежит в типографии.
— А вы знаете, что неопубликованные произведения искусства нельзя исполнять; ни читать, ни петь, ни слушать.
— Я знаю, но Расул Гамзатович авторитетный человек, запрещённые вещи он не будет издавать.
Меня отпустили с миром. Но на следующий день прошёл слух по городу, что меня арестовали. Арестовать меня, конечно, не арестовали, но могли строго наказать. Возможно, авторитет Расула Гамзатова меня спас...
В то время, когда я исполнял его “Песню воров”, Р. Гамзатов был в загранкомандировке. Вернувшись, он узнал о случившемся. Возможно, его приглашали в обком партии. Этого я не знаю. Через некоторое время Расул подарил мне книгу “Общий хлеб”, изданную на аварском языке в Махачкале в 1967 году, с автографом:
МахIмуд, гьанже цIале цIогъазул сарин
Судалде мун ккани, вихьизаве дун!
В переводе на русский это означало:
Махмуд, теперь читай воровские стихи,
И если вызовут на суд, Расул готов».
Расул Гамзатов часто бывал в зарубежных поездках и по стране ездил немало. Последние годы он всюду возил с собой новую рукопись, от которой боялся оторваться, чтобы она не оказалась в «долгом ящике». Задуманная книга была ему особенно дорога, она должна была отличаться от всех остальных.
«МОЙ ДАГЕСТАН»
Эта книга стала одним из сигнальных костров на большом творческом пути Расула Гамзатова. Но прежде, чем вспыхнул этот неугасающий костёр, автору пришлось преодолеть много дорог, перевалов и ущелий.
Всё началось с письма из редакции одного известного журнала с миллионным тиражом. Расула Гамзатова просили написать десяток страниц о Дагестане: о его прошлом, о замечательном «сегодня» и светлом «завтра». А если автору некогда, то редакция готова была прислать помощника, который бы из нескольких мыслей и деталей Гамзатова сам всё сделал: «Нам главное — чтобы имя».
«Когда я развернул письмо, оно показалось мне с буйволиную шкуру, которую горцы расстилают на кровле сакли, чтобы хорошенько высушить, — писал Расул Гамзатов. — И страницы, когда я их перебирал, гремели не хуже буйволиной шкуры, когда она уже высохла и её складывают вчетверо, чтобы нести в саклю. Не было только резкого, щиплющего в носу запаха шкуры. Письмо не пахло ничем».
Это послание Гамзатова покоробило. Вместить в десяток страниц его любовь к родине, историю Дагестана и судьбы горцев было для поэта невозможно. Но желание создать прозаическое произведение о родине зрело в нём долгие годы.
«Эта мечта — рассказать о Дагестане всё, что думаю о нём, что знаю, — жила во мне давно, — говорил Расул Гамзатов журналисту Далгату Ахмедханову. — Собственно, она и заставила меня писать, сделала меня тем, кем я стал. Мне хотелось показать людям свой родной край таким, каким живёт он в душе каждого дагестанца, хотелось сказать: смотрите, вот каков Дагестан — без прикрас, живой, тёплый. Смотрите, как он разговаривает, работает, отдыхает, любит, веселится, печалится, как он ругается и как поёт, как спит и как танцует. Я понимал, что никогда до конца не справлюсь с этой задачей, но если хочешь прийти даже в соседний аул, то надо собираться в дорогу, а не сидеть дома. И я пошёл. “Дорогу осилит идущий,” — прекрасная пословица...
Но перед тем как вывести первую строку, требовалось найти очень лаконичный способ выражения в художественной форме всего того, что было задумано. И пусть даже в малохудожественной, даже в совсем не художественной, но лишь бы выразить. Молчать я не мог... Нашёлся и способ выражения задуманного: через людей близких, простых, понятных, людей достоверных — Абуталиба, моего отца, друзей, соседей... Ведь в книге нет цитат из документов и изречений знаменитых людей. В ней фигурируют рядовые люди».
Нелепое предложение послужило толчком, который, как лавину в горах, обрушил на письменный стол Гамзатова накопившиеся воспоминания, впечатления, думы, предания о Дагестане и его людях. Он принялся за работу, которая продлилась не один год. Прежде он прозу не писал, но и проза его была необычной, как и всё, что выходило из- под пера Расула Гамзатова.
ПОГИБШАЯ РУКОПИСЬ
А теперь о том, как погибла первая рукопись книги. Гамзатов возил её с собой по разным странам и континентам, она не требовала много места в его чемодане, зато спасала от вынужденного ничегонеделания. Он фиксировал на бумаге свои мысли, наброски, воспоминания, когда сидел на важных международных симпозиумах, летел в самолёте, ехал на поезде или плыл на корабле. В долгих поездках всегда находилось время, чтобы написать несколько слов или страниц. А когда уже что-то создано, то наслаиваются новые мысли, краски, переживания.
Возвращаясь в столицу из командировок или приезжая из Махачкалы, он обычно останавливался в гостинице «Москва». Здесь к нему давно привыкли, а сам он считал эту гостиницу вторым домом.
«Что я останавливаюсь всегда в “Москве”, известно и моим московским друзьям, — писал Гамзатов, — среди которых, правда, есть и такие, для которых слова “Расул в Москве” равнозначны счастливому случаю зайти в гости от нечего делать...
Одни пожаловали поздравить меня с возвращением из-за границы, другие — пожелать мне счастливого пути в Дагестан, третьи — без всякого дела. Одних я позвал сам, другие пришли без приглашения.
Шумно хвалили одних и пили по этому поводу, шумно ругали других и пили по этому поводу. Говорили и пили. Смеялись и пили. Пели песни и пили. В номере к тому же было так дымно, словно под столом или под кроватью чадил костёр из сырых дров.
Абуталиб говорил, что его состарили три обстоятельства.
Первое из них: когда все приглашённые собрались и ждут одного, который опаздывает.
Второе из них: когда жена уже поставила на стол обед, а сын, пошедший за водкой, не возвращается.
И, наконец, третье обстоятельство: когда все гости ушли, а один, который целый вечер молчал, вдруг останавливается у порога и начинает говорить, выговариваясь за все предыдущие часы своего молчания, и чувствуется, что речам его не будет конца...
Один такой гость оказался у меня в номере в тот вечер, который так ужасно завершился и о котором я теперь хочу рассказать. Этот гость, оставшись, когда все ушли, пьяно вис у меня на плече, тыкал окурки во всевозможные места комнаты, гасил их о штору, о спинку стула, о мой чемодан, о бумаги, разложенные у меня на столе.
Сначала он хвалил меня, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить себя, и я соглашался с ним. Потом он стал хвалить свою жену, и я соглашался с ним. В конце концов, он начал ругать меня и молоть обо мне всякую чепуху, но я и тут соглашался с ним. “Сейчас он начнёт ругать себя, потом свою жену”, — с ужасом думал я. Но, дойдя до того места, где, по логике, ему надо было начинать ругать себя, мой гость неожиданно заторопился и пошёл спать к себе в номер. Правда, чтобы его уход не слишком огорчил меня, он пообещал прийти завтра».
Уставший с дороги от назойливого гостя, Гамзатов быстро уснул. И приснилось ему, что он спит в горах, на стоянке чабанов, около костра, накрывшись тёплой буркой:
«Костёр дымит, а дым ест мне глаза и щекочет в носу... Проснулся я от нестерпимой рези в глазах. Вскочил, ничего не вижу. В комнате полно дыму, а у дверей как будто даже горит. Бросившись к огню, я увидел, что догорает мой чемодан.
Весь он у меня был в наклейках первоклассных отелей мира. Сколько стран повидали мы с ним! Сколько таможен миновали благополучно!.. И вот — ни на одной таможне не погорел мой чемодан, а в мирном номере московской гостиницы сгорел».
Гамзатов рванулся спасать останки чемодана, бросив его под душ в ванной, а затем принялся тушить всё, что горело вокруг. Обгоревшими руками набрал номер дежурной:
«— Я — горю! — прокричал я в трубку. — Приходите меня спасать! Но дежурная, видимо, подумала, что Расул не может гореть иначе, как огнём любви, и что в данном случае я сгораю от любви к ней. Спокойно, с материнскими интонациями в голосе она ответила:
— Полноте, Расул, спите. К утру всё пройдёт!
О женщины! Сколько раз я говорил им в шутку, что я горю, и они верили и приходили ко мне на помощь. Но когда я единственный раз в жизни попал в настоящий огонь, никто не поверил мне.
Словно бравый пожарник, я один на один воевал с огнём. В конце концов, мне удалось, конечно, потушить и ковёр, и стул, и штору, и начавший обугливаться паркет. Да, я одержал победу над огнём, но прежде чем я это сделал, огонь нанёс мне немалый ущерб.
Должно быть, пьяный гость засунул в чемодан окурок, с которого всё и началось. Сгорели мои рубашки, костюм, сгорели подарки, привезённые мной из Брюсселя. Администрация гостиницы составила акт на ковёр, на стул, на штору, и получилась чудовищная сумма. Самому мне пришлось лечь в больницу. Я позвонил домой жене и сказал, что задерживаюсь по важным делам. Я ещё не придумал, по каким, и обещал позвонить ещё раз. Вот что наделал один проклятый окурок.
Но скажу вам, что всё это оказалось мелочью по сравнению с главным моим ущербом. На дне чемодана лежала рукопись, над которой я работал уже два года...
Говорят, что самая большая рыбина та, которая сорвалась; самый богатый тур тот, по которому промахнулся; самая красивая женщина та, которая ушла от тебя.
Многие страницы моей рукописи сгорели! Теперь мне кажется, что это были лучшие страницы.
Кроме того, сорвавшаяся рыбина всё равно была не моя. Тур, по которому промахнулся, был не мой. И женщина, которая ушла, тоже не моя. Но сгоревшие страницы были мои. Я их сам придумал, сам пережил и выстрадал. Я провёл над ними немало бессонных ночей и дней в терпеливом труде. Вот отчего я страдал, утратив свою рукопись. Вот отчего я думаю, что это была моя самая лучшая книга.
Я сразу осиротел, как поле, с которого увезли снопы, или как последний сноп, который забыли увезти с поля.
Каждая буква сгоревших страниц стала представляться мне жемчужиной. Строки сияли в моём воображении, как драгоценное ожерелье.
Я был так потрясён, что два года не мог сесть за восстановление утраченного. А когда успокоился и сел, то понял, что я могу, конечно, написать заново и примерно о том же, но восстановить те прежние страницы невозможно».
«Рукописи не горят», — утверждал булгаковский Воланд, но эта сгорела. Физически. Однако Гамзатов не смирился, слишком многое было вложено в этот труд, чтобы он пропал бесследно. Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», но что-то удалось восстановить потомкам. Гамзатов взялся задело сам:
«Вот я и раскладываю всё, из чего должна создаваться такая книга. Как у хорошего мастера-кубачинца, всё у меня под руками. У него — серебро, золото, режущие инструменты, молоточки, зубильца, клейма, рисунки. А у меня: родной язык, опыт жизни, портреты людей, характеры людей, мелодии песен, чувство истории, чувство справедливости, любовь, родная природа, память о моём отце, прошлое и будущее моего народа...
Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Вот моя жизнь, моя симфония, моя книга, вот моя тема».
Наверное, новая рукопись была не во всём похожа на сгоревшую, но чувства, с которыми Гамзатов писал книгу, были ещё живы в его душе. Он написал книгу заново и уже сам не знал, какая была лучше.
Книга получилась волнующей, будто в ней билось несколько сердец — погибшей книги и новой, а может быть потому, что в ней билось горячее сердце самого Дагестана.
За перевод взялся давний друг Гамзатова писатель Владимир Солоухин. Особенность этого взаимодействия двух талантов отмечал Валентин Осипов: «Два таланта на ристалище. По счастью, талант Владимира Солоухина оказался настолько могуч, что он отказался переписывать Расула Гамзатова “под себя” и перевёл книгу просто блестяще».
Всё было необычно в «Моем Дагестане». Казалось, читаешь предисловие, а оказывалось, что уже погрузился в суть повествования. «У всякой хорошей книги должно быть такое вот начало, без длинных оговорок, без скучного предисловия, — писал Расул Гамзатов. — Ведь если быка, пробегающего мимо, не успеешь схватить за рога и удержать, то за хвост его уже не удержишь».
Но путь к читателю был нелёгок. Расул Гамзатов немало написал о Шамиле, и это насторожило Михаила Суслова, отвечавшего в Политбюро ЦК КПСС за идеологию. В беседе с Далгатом Ахмедхановым Гамзатов вспоминал: «Суслов, когда Брежнев отослал меня к нему по поводу Шамиля, сказал, что в Дагестане есть и другие насущные вопросы и что партия заботится о счастье народов Дагестана и добьётся своего с вами (то есть со мной) или без вас (то есть без меня). И вопрос на этом был им тут же закрыт».
Помощь пришла от Анастаса Микояна — другого члена политбюро и недавнего председателя Президиума Верховного Совета СССР, в котором состоял и Расул Гамзатов. «Микоян помог мне, когда печатание второй книги “Мой Дагестан” было задержано из-за того, что в ней много места уделялось Шамилю. Выбрасывать этот текст я не соглашался. Выслушав меня, Микоян сказал, что возвращение Шамилю доброго имени можно осуществить публикацией художественного произведения. Не знаю, звонил ли он куда, но через три дня книга была принята в производство, и весь текст был сохранен».
Писать о Дагестане без Шамиля невозможно. Расул Гамзатов помнил свою давнюю ошибку и не хотел её повторять: «Не пером написана история горских народов — она написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками».
В 1967 году журнал «Новый мир» опубликовал «Мой Дагестан» Расула Гамзатова в трёх номерах — девятом, десятом и одиннадцатом.
Эпическое полотно Гамзатова открыло читателям пленительную красоту Страны гор и её древней культуры. Читая «Мой Дагестан», даже сами дагестанцы открывали для себя свою удивительную родину. Белинский назвал «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни», «Мой Дагестан» походил на энциклопедию жизни Дагестана.
Владимир Солоухин не только перевёл книгу, он написал и предисловие.
«...Нет ничего удивительного в том, что мальчик, растущий в семье старого горского поэта, полюбил поэзию и даже сам стал писать стихи. Однако сын поэта, сделавшись поэтом, далеко раздвинул пределы известности или — скажем более громко — славы своего отца...
И вот Расул Гамзатов написал первую книгу в прозе. Можно было заранее предположить, что талант Расула и здесь проявится во всём своеобразии и его проза не будет похожа на обычные романы и повести. Так оно и вышло на самом деле...
Книга автобиографична. В какой-то мере она имеет исповедальный характер. Она искренна. Она поэтична. Она освещена мягким авторским юмором и, я бы сказал, лукавством. Одним словом, она как две капли воды похожа на своего автора Расула Гамзатова...
Читатель найдёт в книге “Мой Дагестан” множество аварских пословиц и поговорок, то смешные, то грустные истории, либо пережитые самим автором, либо сохранившиеся в сокровищнице народной памяти, зрелые размышления о жизни, об искусстве».
Успех был невероятным. Журналы с «Моим Дагестаном» не только переходили из рук в руки, книгу переписывали от руки, перепечатывали на машинке.
После выхода книги, как констатировал Сергей Гиндин, «эффект присутствия её автора в русской литературе стал и вовсе стереоскопическим. Интонация этой книги создавала у читателя ощущение давнего и доброго знакомства с автором. А в то же время богатство мира, встававшего с её страниц, чарующая, но нелёгкая для русского ума прихотливая смесь реальных историй с народными притчами и преданиями убеждали читателя: такая книга могла родиться только в горах Дагестана и только у горца, но у горца, впитавшего русский язык, русскую культуру и с их помощью узнавшего весь мир».
Казбек Султанов назвал книгу «Лирико-философской энциклопедией Дагестана», Эдуардас Межелайтис — «Поэтической прозой». Яков Козловский сказал о таланте Гамзатова-прозаика: «Художественное мастерство этого произведения нисколько не уступает мастерству поэтических произведений Гамзатова».
Вскоре «Мой Дагестан» вышел в издательствах «Молодая гвардия» и «Художественная литература». Тиражи разлетелись быстро, и тогда «Мой Дагестан» опубликовал журнал «Роман-газета» тиражом 2 миллиона 100 тысяч экземпляров. Теперь трудно представить такой тираж, как и цену журнала — 24 копейки.
Доцент кафедры русской литературы Дагестанского университета Муса Гаджиев рассказывал, как однажды заснул в электричке с «Роман-газетой» в руках. Было это в Белгородской области, где он трудился в студенческом стройотряде. Проснувшись, вместо журнала он обнаружил записку с извинениями неведомого поклонника Гамзатова. Гаджиев был в куртке с надписью «Дагестан», и автор записки оправдывал себя тем, что ему Гамзатов нужнее, а у дагестанцев он и так есть.
С тех пор книга издавалась множество раз. «Мой Дагестан» стал одной из тех книг, о которых говорят: «книга на все времена». Книгу переводили и продолжают переводить на национальные и иностранные языки. О Дагестане и воспевшем его Расуле Гамзатове узнал весь мир.
Вместе с тем продолжались и приключения многострадальной рукописи. Издания на русском языке и языках народов Дагестана не во всём идентичны. Некоторые сокращения касаются, в основном, первых изданий на русском. Горцы читали книгу особенно внимательно и немало удивлялись, когда не находили в изданиях на русском некоторых запомнившихся им мест.
Цензура в СССР была бдительна, она следила, чтобы не разглашались государственные секреты, не публиковались вредные в политическом и прочих смыслах сведения и произведения, она контролировала всё. Главное управление по делам литературы и издательств имело право запретить любую публикацию или требовало удалить из текста то, что считалось нежелательным, особенно «антисоветчину». Спорить было бессмысленно, результат мог быть лишь в отлучении от возможности печататься, то есть лишиться литературного заработка. Наказание могло стать и более ощутимым. Вплоть до снятия с работы, тюремного заключения или койки в психиатрической клинике. Выручал «самиздат», но и на него велась охота.
Могущество цензуры не раз ощущал на себе и Расул Гамзатов. Несколько его произведений, как поэма «Люди и тени», так и оставались неизданными. При Хрущёве цензура несколько ослабла, но не исчезла. Иногда спасало то, что Расул Гамзатов писал на аварском языке, и первые публикации произведений тоже были на аварском. Для цензуры более важным было то, что издавалось на русском. Так произошло и с «Моим Дагестаном».
«Особенно хорошо я знаю и помню “Мой Дагестан”, — писал в своих мемуарах член Конституционного суда России Гадис Гаджиев. — Дело в том, что я вырос в городе и не знал с детства родной лакский язык. Точно знал с десятка три слов и фраз. В восьмом классе я решил самостоятельно изучить родной, или, как у нас точно говорится, материнский язык. В этих целях я начал параллельно читать эту повесть на русском и на лакском языках. “Мой Дагестан” был издан в 1968 году в лакском переводе М. К. Алиева. Как же я был удивлён и даже поражён, когда обнаружил в этом издании фрагменты, которых не было в русскоязычном издании, благодаря, видимо, усилиям цензоров.
Что же было исключено в русском переводе книги? Это очень любопытно, поскольку показывает, что считалось невозможным печатать в советское время. В главе “О смысле этой книги и её названии” была изъята страничка о “слишком идейных коммунистах”. Поэт писал о том, что от таких больше вреда, чем пользы.
Я спросил у Расула Гамзатовича про эти отсутствующие в русском переводе сюжеты. Он тогда, помнится, оживился и сказал, что это истории, рассказанные его отцом, Гамзатом Цадасой, который, будучи мудрым человеком, подмечал эти причуды и очень иронично высказывался по их поводу».
В более поздних изданиях изъятые цензурой фрагменты присутствуют:
«Однажды наш учитель Гаджи получил выговор за то, что у его троюродного брата родственник был, кажется, из князей, а учитель Гаджи в своей анкете не написал об этом.
Понуро брёл Гаджи домой в аул Батлаич, неся своё партийное взыскание. По пути догнал его райкомовский конюх Михаил Григорьевич. Разговорились. Гаджи рассказал о своей беде.
— Да тебе и выговора мало! Надо было исключить из партии. Какой же ты партиец, какой коммунист? Настоящий коммунист должен был сам написать заявление куда следует... Даже если бы это был не троюродный брат, а родной, или родная сестра, или родной отец.
Учитель поднял глаза, поглядел на Михаила Григорьевича и сказал:
— Недаром тебя считают сверхидейным. Удивляюсь, как это ты до сих пор не выровнял все дагестанские горы.
Ровное место “идейнее” и проще, чем отвесная каменная гора. Впрочем, с таким, как ты, говорить бесполезно.
Гаджи свернул с дороги на боковую тропу, хотя обоим нужно было идти в один и тот же аул.
— Куда же ты? — удивился Михаил Григорьевич.
— Куда бы ни было — не по пути нам с тобой.
— Но я иду в коммунизм! А если ты хочешь идти в противоположную сторону...
— Даже в коммунизм я не хочу идти с тобой рядом. Посмотрим, кто из нас дойдёт до него скорее.
Закончив эту историю, оратор продолжал:
— Один поэт написал такие стихи про чабана:
Рассеялся в горах туман,
Путь ясен впереди.
Своих баранов, о чабан,
Ты в коммунизм веди».
Популярность Расула Гамзатова становилась не просто большой, она превращалась в стихийное явление, в культурное цунами, перед которым ничто уже не могло устоять. В Дагестане это особенно ощущали. Республика обретала ореол высокой культуры, родины выдающегося поэта, она уже не воспринималась как некая окраина. Даже туристическая индустрия заметно ожила, люди стремились не просто в горы и на море, они хотели оказаться в чудесном мире, созданном творчеством Расула Гамзатова.
Росло и влияние Расула Гамзатова. Когда возникла проблема со строительством нового здания Аварского театра в Махачкале, именно Гамзатов помог её решить. Он называл театр «паспортом нации» и не мог остаться в стороне, тем более что театр носил имя его отца, да и сам он был театру не чужим человеком, в молодости Расул Гамзатов в нём работал, играл, и в нём же ставили спектакли по его произведениям.
Гадис Гаджиев вспоминал, что когда Госплан СССР отказал в финансировании, ссылаясь на нехватку средств, в дело вмешался Расул Гамзатов: «Это он позвонил председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину и добился принятия положительного решения о строительстве театра, по проекту архитектора академика Мовчана». В 1968 году Аварский театр перебрался в Махачкалу, в красивое здание, украшающее приморский парк.
Иначе стали решаться и вопросы, далёкие от культуры. Анвар Кадиев рассказывал, как Расул Гамзатов помог получить трубы большого диаметра для водоснабжения — большой дефицит по тем временам. Вместе с дагестанским министром он направился к главному чиновнику страны по этой части. В приёмной дожидалось множество людей, но Гамзатов был принят без очереди. «Это моя проза, — сказал Гамзатов, протягивая книгу с автографом. Затем достал и письмо. — А это — моя просьба». Начальник полагал, что Дагестану столько труб не нужно, но Гамзатов настаивал, и вопрос был решён. Министр вернулся в Дагестан триумфатором, но не забывал подчёркивать: «Если бы не Расул, он бы меня скушал и никаких труб не дал».
Однако «головокружение от успехов» Гамзатову не грозило. В «Моем Дагестане» он размышлял: «Сейчас, когда мне за сорок, я сижу над сорока своими книгами, перелистываю их и вижу, что на поле, засеянном моей пшеницей, попали растения с чужих полей, те, которые я не сеял. Пусть это не сорняки, пусть это добрые растения — ячмень, овёс или рожь, — но они чужие на поле моей пшеницы. В своей отаре я вижу чужих овец. Им никогда не привыкнуть к высоте и к воздуху гор. В самом себе я замечаю иногда других людей. Но в этой книге я хочу быть самим собой. Хорош ли я, плох ли — принимайте таким, каков есть».
БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА
Творчество Расула Гамзатова оказывало всё возрастающее влияние на развитие дагестанского искусства. Это благотворное влияние ощущали на себе не только привычные жанры, появлялось и нечто новое.
В богатом на события 1968 году на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова был поставлен первый дагестанский национальный балет «Горянка» по поэме Расула Гамзатова. Музыку написал Мурад Кажлаев. Дирижёром был тоже дагестанец Джемал Далгат.
На премьере присутствовали выдающиеся государственные деятели и мастера искусств. Посетил балет и итальянский композитор Нино Рота. Поставил балет хореограф Олег Виноградов, прославившийся балетом «Асель» по повести Чингиза Айтматова.
Под ритмы горного края пред зрителями предстали семь полных драматизма картин. Партию главной героини Асият исполнила Габриэла Комлева: шаловливая школьница, мечтательная девушка, будто сотканная из прозрачного воздуха гор, она же — невеста на грани отчаяния в сцене нежеланной свадьбы. Недолгая радость освобождения, предчувствие большой любви воплотились в лирическом дуэте с Юношей, роль которого исполнил ещё юный Михаил Барышников, впоследствии ставший звездой мирового балета. Последняя трагическая встреча с Османом — гнев, сострадание, решительное «нет!». Смерть. Это — партия героини, редкостная по богатству чувств и хореографической щедрости. Роль «отрицательного персонажа» Османа в талантливом исполнении Валерия Панова получилась столь колоритной, что вызывала сочувствие к отвергнутому жениху.
Сцена Кировского театра стала счастливой для первого балета Дагестана. Бурные овации искушённых знатоков, одобрительные рецензии в прессе, восторженные отзывы музыкантов...
Расул Гамзатов назвал балет «Горянка» самым удачным переводом своих стихов и добавил: «Там, где слов не хватает, нужна музыка. То, что было написано мною аварскими буквами, Мурад Кажлаев — горец, горячо переживший судьбу наших горянок, — перевёл на доступный сердцу каждого язык современной музыки».
Но не всё было так безоблачно. Музыковед Манашир Якубов писал: «“Горянка” Кажлаева (и, разумеется, Виноградова, как автора либретто) не вполне совпадала с привычными идеологическими схемами. Исполнители центральных партий балета покидали страну, оставались во время гастролей театра за рубежом. Спектакль с их участием 27 июня 1976 года на сцене Большого театра Союза ССР в Москве — 34-й со дня премьеры — оказался последним».
Но судьба балета на этом не закончилась. «Горянка» возобновлялась в новых редакциях, была поставлена на многих сценах в стране и за рубежом. Поставлена она и на сцене Дагестанского театра оперы и балета.
О судьбах балета и его участников писала театральный критик Нина Аловерт:
«Для дебюта в театре Виноградову предложили поставить балет “Горянка” на музыку Мурада Кажлаева. Гамзатов, узнав, что по его поэме делается балет, пригласил Виноградова с женой в Дагестан. Там Гамзатов и Кажлаев оказали им приём по всем правилам кавказского гостеприимства. Им показали красоты Дагестана, их повезли в такие отдалённые места, где жители деревень по-прежнему занимались натуральным хозяйством, как в XVI веке, а русских вообще видели впервые.
В одном из аварских селений Виноградов видел танец девушек на ГОЛЫХ ПАЛЬЦАХ (а не в специальных балетных туфлях), причём девушки танцевали на камнях. Эту поездку Виноградов очень живо описал в своих воспоминаниях “Исповедь балетмейстера”, книга недавно вышла в Москве.
Я хорошо помню премьеру балета в прекрасных декорациях М. Соколова. Дирижировал известный дирижёр Д. Далгат.
...Балет был по тем временам очень необычным, хореограф совмещал дагестанские танцы и классику. Весь балет был поставлен в стиле монументальной фрески, насыщенной сложными танцами. Большую роль играл кордебалет, у него была самостоятельная роль в балете как отдельного действующего лица (такую роль играет кордебалет в спектаклях Эйфмана). В балете не было привычных дуэтов, поскольку по дагестанским (мусульманским) обычаям женщина и мужчина не должны были касаться друг друга до свадьбы.
Первые прогоны балета (репетиции на сцене в гриме и костюмах) танцевали Наталья Макарова (в прошлом соученица Виноградова) и Габриэла Комлева. Но Макарова порой меняла что-то в хореографии, подчиняясь своей вольной фантазии, а Виноградов, естественно, нервничал, он хотел, чтобы его
первый балет на сцене Кировского театра шёл так, как он его поставил. Мне казалось, что Виноградов предпочитает Комлеву, исключительно техничную балерину, которая всегда скрупулёзно исполняла хореографический текст и производила впечатление в драматических моментах роли. Но меня восхищала Макарова, лёгкая, нервная, как говорил Виноградов, “козочка, скачущая по горам”. Мне казалось, что её повышенная эмоциональность делает образ Асият более интересным. Но именно вокруг исполнительниц главной роли возник внутритеатральный конфликт. Третьей исполнительницей на роль была назначена Калерия Федичева...
Федичева в те времена была не просто примой-балериной театра, а “первой дамой королевства”, поскольку пользовалась “особым” покровительством директора театра Петра Рачинского. По прочности положения в театре она уступала только Ирине Колпаковой и то не потому, что Колпакова была, вне всяких сомнений, неизмеримо лучшей танцовщицей, чем Федичева, но в силу прочного партийного положения Колпаковой...
Так вот, именно из-за Федичевой разразился конфликт на том самом заседании художественного совета, который был не нужен Рачинскому. Худсоветы тогда состояли из артистов со званиями, критиков, представителей обкома и горкома. Федичева посещала репетиции нового балета нерегулярно, “текст” от репетиции до репетиции забывала, но именно её Рачинский поставил танцевать премьеру. Виноградов заявил, что если Федичева будет танцевать первый спектакль, он отказывается от спектакля.
Уладил дело Гамзатов, который сказал, что Виноградов — автор балета, ему и решать. Рачинский не смог перечить Гамзатову, Комлева танцевала премьеру, Федичева — второй спектакль, а Макарову поставили в третий состав. Виноградов, сколько ни возмущался, поделать ничего не мог. Несправедливое распределение спектаклей стало одной из тех обид Макаровой на руководство театра, которые толкнули её в 1970 году на решительный (и счастливый для неё) шаг: она осталась на Западе. Макарова — избранница судьбы, её жизнь сложилась на Западе счастливо, и она достойна своей великой славы.
Спектакль “Горянка” имел заслуженный успех. В нём незабываем был Валерий Панов в роли главного героя Османа. Его Осман — и обаятельный и страшный — был центром спектакля наравне с Асият. Судьба Панова, который уехал в Израиль, могла бы стать сюжетом романа или кинофильма. Его выпустили в Израиль в 1972 году после длительной травли, скандалов, попыток попросту убить строптивого танцовщика. Панов, однако, вырвался на Запад, много танцевал в разных странах мира, руководил различными театрами, ставил балеты. Кажется, он по-прежнему является директором балета в Бонне (Германия).
Хорошим исполнителем роли Османа был и Олег Соколов. Вторую мужскую роль Юноши танцевали Вадим Гуляев и совсем молоденький Михаил Барышников. Виноградов, Комлева, Панов и Соколов получили за этот спектакль Государственную премию.
Отношения Федичевой с Виноградовым как-то уладились, но ненадолго. В 1972 году подобный же конфликт Калерия спровоцировала на репетициях “Зачарованного принца”, который ставил Виноградов. На этот раз директор не уступил хореографу. В результате Федичева танцевала премьеру, но Виноградов ушёл из театра.
В 1977 году Виноградова заставили вернуться в Кировский театр на должность художественного руководителя балета и главного балетмейстера. В 1984 году он создал новую версию балета “Горянка”, назвав его “Асият”. Я была уже в Америке, поэтому только слышала, что изумительной исполнительницей роли стала молоденькая “восходящая звезда” театра Алтынай Асылмуратова».
«ЖУРАВЛИ»
Будущая песня постучалась в сердце Гамзатова в Хиросиме.
В 1968 году в апрельском номере журнала «Новый мир» было опубликовано пять стихотворений Расула Гамзатова. Одно из них было теми самыми «Журавлями», чей скорбный клич вскоре отозвался в сердцах всего народа.
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей...
[111]
На аварском это первое четверостишие написано так:
Дида ккола, рагъда, камурал васал
Кирго рукъун гьечIин, къанабакь лъечIин.
Доба борхалъуда хъахIил зобазда
ХъахIал къункърабазде сверун ратилин.
Сравнивая аварский оригинал с переводом, становится понятно, сколь глубоко Гребнев прочувствовал замысел поэта, как близок был не однажды раненному ветерану светлый образ крылатой души воина, погибшего за родину.
Гамзатов вспоминал: «Мой друг Наум Гребнев превосходно перевёл “Журавлей” на русский язык. Он был не просто переводчиком, а почти соавтором. Оно оказалось ему ближе всех других стихов, ибо он сам — израненный воин, потерявший на войне своих близких и друзей. Оно стало для него собственной болью. Он говорил: “Этот стих обо мне и моих друзьях”».
И всё же «Журавли» могли остаться лишь одним из замечательных произведений Расула Гамзатова, если бы на стихотворение не обратил внимание уже легендарный в то время Марк Бернес.
Бернес много снимался в кино, создавая запоминающиеся образы. Роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца» (1943) и песня «Тёмная ночь», которую он исполнил в картине, сделали актёра по-настоящему знаменитым. И скоро уже вся страна пела и даже, по тогдашнему обыкновению, насвистывала его песни. Особой популярностью пользовались «Шаланды полные кефали», «Тёмная ночь», «Спят курганы тёмные», «Любимый город». Позже не менее популярными стали песни «Если бы парни всей Земли», «Враги сожгли родную хату», «Путь-дорожка фронтовая», «Хотят ли русские войны», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь».
Артист большого таланта, Марк Бернес был феноменально популярен и как киноактёр, и как певец. Многие из песен, которые впервые исполнил Бернес, вошли в духовную сокровищницу страны, популярны и сегодня.
Слава Бернеса многим не давала покоя. Его пытались оклеветать, запретить, отлучить от сцены, от экрана, от поклонников его могучего таланта. Однако «ниспровергатели» и «обличители» со своими нелепыми обвинениями были не в силах отменить всенародную любовь, а популярность Бернеса уже преодолевала государственные границы.
Он постоянно расширял свой репертуар, читал множество стихотворений в поисках основы для новой песни. В 1968 году Бернес увидел в журнале «Новый мир» стихотворение Расула Гамзатова. Так началась удивительная судьба песни «Журавли», которая стала главной песней для её создателей — певца, композитора и поэта.
Каждый из них глубоко чувствовал, о чём эта песня. Война коснулась их всех, в каждом сердце оставила незаживающую рану. Как и в сердцах миллионов людей, которые, услышав «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...», и сегодня невольно встают, утирая навернувшиеся слёзы.
Песня рождалась непросто. Для песни стихотворение нужно доработать, полагал Бернес. «Бернес попросил меня также сократить несколько строк для песенного варианта, — вспоминал Гамзатов. — Мне было жаль некоторые из них. Но Бернес доказал их “архитектурные излишества”. Он сказал: “Слабые строки каждый может сократить, но настоящий поэт ради цельности произведения пойдёт на сокращение и хороших строф”. Я пошёл на это. И сделал песенный вариант стихотворения, хотя в некоторых изданиях его печатают полностью».
Текст и в самом деле стал более удобным для песенного исполнения. И это ещё раз подтвердило убеждение поэтов-песенников, что даже самое хорошее стихотворение не всегда может стать хорошим песенным текстом.
Изменения коснулись и деталей. Бернес предложил заменить слово «джигиты» на «солдаты». «Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца справедливыми, — писал Гамзатов. — ...Это как бы расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание».
Работать приходилось быстро, неизлечимо больной Бернес торопил. Хотел успеть записать полюбившуюся ему песню.
К тому времени, когда был готов доработанный текст, Бернес уже работал над песней с композитором Яном Френкелем. Френкель тоже был фронтовиком, перенёсшим тяжёлое ранение, и тема песни была ему близка.
В воспоминаниях музыковеда Зиновия Столяра есть интересные подробности о том, как Френкель воспринял предложение Бернеса: «Сначала я не решился браться за эту песню, — рассказывал мне Ян, — слишком серьёзной и ответственной показалась мне задача. Но Марк энергично настаивал... Вчитываясь в строки Гамзатова, — продолжал свой рассказ Френкель, — я чувствовал, что идея песни всё больше и больше меня захватывает. Где-то в подсознании стали мелькать отдельные мелодические интонации, но целостно мелодии всё ещё не было. И вдруг пришла идея: то была мелодия бестекстового припева-вокализа, который впоследствии вписался между куплетами и которым песня завершалась. А уж потом как-то легко и естественно, как бы на одном дыхании, сложилась и вся песня».
Гамзатов говорил о той захватывающей эпопее создания песни: «Мне повезло и с композитором Яном Френкелем. Именно к нему обратился Марк Бернес с просьбой написать музыку на эти слова. И он, солдат и музыкант, прошедший всю войну, сделал это великолепно. Это была не столько удача композитора, сколько победа таланта, безошибочное, точное восприятие и воспроизведение движений души. Эта молитвенная песня стала началом нашей бесконечной дружбы».
О создании «Журавлей» написано немало. Порой разнятся даты, подробности, обстоятельства. Но суть остаётся единой — рождалось великое произведение.

Марк Бернес снова торопил Френкеля, требовал. Он из последних сил боролся с тяжёлой болезнью, надеясь успеть записать песню. И ему это удалось.
Из воспоминаний Зиновия Столяра: «Премьера песни “Журавли” состоялась в канун Дня Победы, 7 мая 1969 года в редакции газеты “Комсомольская правда”. Сюда на свою традиционную встречу “Землянка” собрались крупные военачальники и командиры Советской армии, участники разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. “Журавлей” слушали в полной тишине, затаив дыхание. Когда песня отзвучала, аплодисментов не последовало. И тогда на эстраду поднялся Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, подошёл к нам и, обняв Бернеса, обратился к нему со словами: “Дорогой друг, как несправедлива судьба, что лишила нас, солдат, права плакать. Вы такое право нам вернули, спасибо вам за это”. И прослезился...»
А 8 июля 1969 года, когда Бернеса привезли в студию, чтобы записать песню на пластинку, у него уже не было сил самостоятельно передвигаться. Но их хватило, чтобы исполнить последнюю мечту — записать песню «Журавли». С первого раза, с первого дубля. Второго могло не быть.
Окончательный вариант песни стал таким:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры, с времён тех дальних,
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
А в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
«Стихи не возникают из мелочей, они начинают звучать в такт с чувствами, родившимися после глубоких потрясений, — писал Расул Гамзатов. — ...Я подумал о своих братьях, не вернувшихся с войны, о семидесяти односельчанах, о двадцати миллионах убитых соотечественников. Они постучались в моё сердце, скорбной чередой прошли перед глазами и — на миг показалось — превратились в белых журавлей. В птиц нашей памяти, грустной и щемящей нотой врывающихся в повседневность. Там, в Хиросиме, я написал стихи. Их замечательно перевёл Наум Гребнев, потом Ян Френкель переложил на музыку. А вскоре в Махачкалу позвонил Марк Бернес и прямо по телефону спел новую песню».
На поэта это произвело ошеломляющее впечатление, такое, что Бернес навсегда остался для него лучшим исполнителем «Журавлей».
Через месяц Марк Наумович покинул этот мир. И многие верили, что он занял тот «промежуток малый» в журавлиной стае, о которой так проникновенно пел. Бессмертная «лебединая песня» Бернеса стала «журавлиной».
Когда его хоронили на Новодевичьем кладбище, над пантеоном знаменитостей звучала песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.
«Заслуги Бернеса в создании “Журавлей” были настолько значительны, что многие друзья-поэты попросили меня посвятить их памяти Бернеса, — писал Гамзатов. — Я немного сомневался, но, в конце концов, согласился. И по Всесоюзному радио стали исполнять песню с посвящением Марку Бернесу. Но, оказалось, не зря я сомневался. В мой адрес стали поступать письма. “Эта песня не столько твоя, сколько наша общая, она — явление не столько поэтическое, сколько жизненное”, — писали мне. Такие письма поступали и в редакции: “По этому вопросу надо советоваться и с павшими, и с живыми. Было бы странно, если бы свои строки ‘Враги сожгли родную хату’ Исаковский посвятил композитору или певцу”. “Как можно песню ‘День победы’ или стихи ‘Я убит подо Ржевом’, или ‘Его зарыли в шар земной’ адресовать отдельному человеку, если даже он гений? И сам Бернес не согласился бы с этим...” и т. д. В дальнейшем песню стали исполнять без посвящения. Исполняли её лучшие певцы нашей страны, да и многие за рубежом. Но никто не исполнял её лучше Бернеса. Как ни у кого работала его душа. Он был непревзойдённым исполнителем».
Песня полетела по стране, вознеслась над миром. Гамзатовский журавлиный клин отзывался праздниками, памятниками, спектаклями, песнями на разных языках и благодарными слушателями. У каждого человека, у каждого народа песня находила свой отклик, смысл, свою память и печальную историю.
«Говорят, что война не заканчивается, пока последний погибший на ней солдат не будет похоронен, — писал Юрий Борев. — Я скажу по-другому: война не заканчивается, пока последний погибший на ней солдат не будет воспет, оплакан и возвеличен в своём подвиге. И поэтому для меня война началась со знаменитой песни Лебедева-Кумача, а закончилась великой песней Расула Гамзатова, “Журавли”, написанной много позже 1945 года».
Яков Козловский вспоминал: «А через несколько лет из далёкой Филадельфии пришло письмо в Дагестан. Настоятель небольшой католической церкви господин Батлер писал: “Мистер Гамзатов, пусть Вам многие лета отпустит Бог за Ваше доброе сердце. Спасибо от меня и моих прихожан, чьи души потрясают Ваши “Журавли”».
Размышляя о необыкновенной судьбе песни, Гамзатов писал: «У “Журавлей” особая судьба: одних они провожают, других встречают. Они не ищут тёплых краёв, не портятся от повторения, а те, кто не поёт, хранят их в душе, как молитву. Это “поняли” некоторые “старые большевики”, которые писали письма в ЦК партии и ко мне, чтобы эту песню запретили, что ею могут воспользоваться религиозные деятели в церквях, в мечетях и просто в жизни. Должен сказать, даже в годы застоя у этой песни не было застоя. Мои “Журавли” не относятся ни к каким партиям, течениям, группировкам, союзам. Мы и так со своими требованиями партийности снизили и опошлили высоту, дальность и вечность живой души поэзии. Не принадлежат они и никакой отдельной религии, отдельной нации, отдельному поколению. Не ограничены временем, системой, сословием. И в то же время они не отрицают, а утверждают человека всех наций, всех религий, всех поколений, всех времён».
Успех был неожиданным для её авторов, но природа успеха оставалась для Гамзатова тайной. Невозможно было постичь, почему то, над чем работаешь годами, может остаться невостребованным, а результат мгновенного озарения может обессмертить автора. Возможно, одно неотделимо от другого. Алхимия успеха не поддаётся банальным расчётам.
«Возьмём одно из самых известных стихотворений Гамзатова — “Журавли”, ныне ставшее популярнейшей песней, одной из любимейших в стране, может быть, лучшей, — писал Кайсын Кулиев. — Почему это стихотворение стало песней, вызвавшей такой огромный интерес? Опять-таки, думается мне, потому что поэт в нём говорит об очень близких каждому из нас вещах, о тех незабвенных детях Родины, которые полегли на родной земле, чтобы отстоять её от врагов. Но ведь и до Гамзатова писали об этом очень много. Но всё дело в том, что Расул написал иначе, то есть очень талантливо, сильно, сердечно, проникновенно, пронзительно. А ведь в этом и сила лирики».
В одной из наших бесед Расул Гамзатов высказал то, над чем, наверное, немало размышлял. Он признался, что почувствовал себя настоящим поэтом только тогда, когда вся страна запела «Журавли»: «Ты не поэт, пока твоё стихотворение, твоё глубоко личное переживание не вознесётся до уровня общенационального явления».
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ...»
Горцы — народ музыкальный, песни и танцы для них так же привычны, как бурка и папаха. Они традиционно взыскательны к мелодии и слову. Их песенная культура самобытна, богата и по-прежнему почитаема.
Рита Райт-Ковалева в книге «Роберт Бёрнс» писала: «И если велико счастье стихотворца, ставшего для своего народа учителем, помощником в его поисках и живописцем его жизни, то бесценен и песенный дар поэта, рождающий новую песню, вспоенную всем творчеством народа и к народу же возвращающуюся».
За хорошую песню поэтам дарили коней, за плохую — могли с позором изгнать из аула. Когда даргинский певец Батырай пел то, что было неугодно правителям, люди в складчину покупали быка, чтобы заплатить штраф.
Певице Анхил Марин, как гласит предание, ханы приказали зашить губы, но её песни всё равно звучали в горах.
Анхил Марин, чей рот зашит наибом,
Горянка из аула Ругуджа,
Захлёбываясь кровью, стоном, хрипом,
Рвёт нити, вольной песней дорожа.
Над Махмудом учинили расправу за его песни, но он продолжал петь.
«Простой гость — это гость твоего дома, — передавал Гамзатов слова отца. — Но гость-певец, гость-музыкант — это гость всего аула. Всем аулом встречают и провожают его. Махмуда, например, встречали лучше, чем губернатора».
Песни горцев полны страстной любви и трепетных откровений, потому что любовь для горца — это вся его жизнь.
Батырай пел о чуде любви:
Есть в Египте, говорят,
Наша давняя любовь:
Там портные-мастера
Режут выкройки по ней.
В аварском языке стихотворение и песня — это одно слово — «кеч1». Удачные стихи быстро превращались в песни, к которым исполнители могли добавить что-то своё, могли сократить текст, могли добавить повторы, которых не было у автора. Каждый исполнитель «прилаживал» песню к своей манере исполнения. Но чаще всего пели сами авторы, наигрывая на музыкальном инструменте. У аварцев это двухструнный пандур — верный друг поэта. Потому и стихи, как правило, писались так, чтобы их можно было петь. В музыкальном сопровождении они лучше воспринимались и легче запоминались.
Гамзатов писал в «Моем Дагестане»:
«Однажды приближённые спросили у великого Шамиля:
— Имам, скажите нам, почему вы запретили сочинять стихи и распевать их?
Шамиль ответил:
— Я хотел, чтобы остались поэтами только настоящие поэты. Ведь настоящие всё равно будут сочинять стихи. А лжецы, лицемеры, именующие себя поэтами, конечно, испугаются моего запрета, смалодушничают и замолчат».
После того как Марк Бернес исполнил песню «Журавли» на музыку Яна Френкеля, всё больше замечательных композиторов стали обращаться к поэзии Гамзатова. Трудно перечислить всех, легко кого-то пропустить: Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Раймонд Паулс, Алексей Экимян, Эдуард Колмановский, Павел Аедоницкий, Владимир Шаинский, Игорь Лученок.
Много песен в разные годы создали дагестанские композиторы, среди которых Сергей Агабабов, Мурад Кажлаев, Готфрид Гасанов, Ширвани Чадаев.
Немало знаменитостей и среди исполнителей песен: Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Вахтанг Кикабидзе, Рашид Бейбутов, Анна Герман, Полад Бюль- Бюль оглы, Нани Брегвадзе, Валерий Леонтьев, София Ротару, Сергей Захаров, Юрий Богатиков, Галина Вишневская, Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Юрий Гуляев, Александр Постоленко...
Трудно найти дагестанских исполнителей, в чьём репертуаре не было бы песен на слова Расула Гамзатова. Среди них — его давние друзья Даку Асадулаев, Тагир Курачев, Магомед Синдиков, Абдула Магомедмирзоев. Песню «Нет, не мал, друзья мои, наш прекрасный Дагестан» знают все, когда она звучит, люди встают, как под звуки гимна.
Многие песни на слова Расула Гамзатова стали широко популярными. Порой достаточно названия, первой строки, чтобы возник образ известной песни и её исполнителя:
Иосиф Кобзон:
Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.
Муслим Магомаев:
Кто смертельно не влюблялся,
Ни с одной не целовался, —
Разве тот мужчина?
Юрий Антонов:
По планете немало постранствовал я,
Уходил в никуда, приходил ниоткуда.
Валерий Леонтьев:
Исчезли солнечные дни
И птицы улетели.
И вот проводим мы одни
Неделю за неделей.
Группа Стаса Намина «Цветы»:
Какую песню спеть тебе, родная?
Спи, ночь в июле только шесть часов.
Тебя, когда ты дремлешь, засыпая,
Я словно колыбель качать готов.
Список их бесконечен.
Мураду Кажлаеву, автору музыки балета «Горянка» и песен на стихи Гамзатова, поэт написал:
Строка без музыки — бескрыла,
Ты удружи мне, удружи
И всё, что в слове сердцу мило,
На музыку переложи.
Своё мнение о роли композитора в создании песни Расул Гамзатов высказал в беседе с Владимиром Коркиным: «Он подобен мальчишке на птичьем рынке, которому позволено выпускать из клетки любую понравившуюся ему птицу. А хозяин, как ни странно, и сам рад, что может полюбоваться свободным полётом птицы, которую так долго держал в клетке».
Дань любви к поэзии Гамзатова отдали декламировавшие его стихи со сцены, на радио и телевидении артисты Михаил Ульянов, Василий Лановой, Армен Джигарханян, Фаина Графченко, Олег Табаков, Александр Завадский, Ростислав Плятт, Яков Смоленский, Александр Лазарев, Никита Высоцкий. Всех не перечесть.
«ЧЁТКИ ЛЕТ»
Настоящая слава приходит внезапно. Если раньше, завидев Расула Гамзатова на улице или в парке, люди шептались, провожая его взглядами, то теперь останавливались, окружали поэта, не хотели отпускать, рассказывали о своей любви к его поэзии, читали его стихи и просили автографы. Трудно было догадаться, что слава начинает его тяготить.
Как бредил я славой! И вспомнить неловко
Сегодня, когда мне давно уж не двадцать.
А что она — слава? Над бездной верёвка,
Что выдержать может, а может порваться.
Чего же хочу я? Работы, заботы,
Чтоб руки мои не повисли в бессилье.
А слава? Пусть славятся эти высоты,
Которые создали нас и вскормили.
И если однажды забудусь я слишком,
О люди, прошу отрезвить меня встряской,
Одёрнуть меня, как на свадьбе мальчишку,
Что вылез вперёд, околдованный пляской
[112].
А тем временем популярность его приобретала самые неожиданные формы. Народный поэт Башкирии Мустай Карим вспоминал:
«Я приехал на предвыборные встречи с избирателями. В фойе клуба как наглядная агитация стоял довольно большой стенд, посвящённый моей творческой работе. Рядом находился таких же размеров стенд, где были собраны книги, фотографии, высказывания Расула Гамзатова и статьи о нём. С напускной строгостью в голосе я спросил у завклубом:
— Что, он тоже кандидат в депутаты?
Женщина немного растерялась:
— Он же поэт, он же ваш друг... Я думала, так будет хорошо, и вам будет приятно, — сказала она торопливо. — Его очень любят у нас.
Увидев моё ликование, она засмеялась и добавила: “Любят независимо от вас. Вот так!”
Я обнял её. Я был полон благодарности этой немолодой женщине, всем, кто радовался вместе со мной, за их понимание и признание высокой поэзии, высокого таланта».
Гамзатов успел привыкнуть к популярности, однако теперь это превращалось в нескончаемые звонки из редакций, интервью, встречи на телевидении. Ни одно значимое событие в Дагестане уже не обходилось без присутствия Расула Гамзатова. Его звали на праздники, спортивные турниры, театральные премьеры, не говоря уже о свадьбах, где он превращался в фигуру, порой более значимую, чем жених с невестой. А затем расходились повсюду рассказы тех, кто оказался рядом с ним, и как он что-то сказал Расулу, и как тот ответил, и какие замечательные тосты были произнесены поэтом.
Приходилось принимать меры. Но даже на сокращённые вполовину мероприятия времени всё равно не хватало. И ему вспоминался роман Ивана Гончарова «Обломов», когда герой, изнемогая от беспокойной деятельности Штольца, восклицал: «Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить?» И когда писать? — добавлял Гамзатов.
Он уезжал в Москву. Там у него было много дел и были давние друзья, по которым он скучал. На вершинах власти Расул Гамзатов обрёл и новых друзей, которые по-разному, но надолго вошли в его судьбу.
По горской традиции он навещал их независимо от политической конъюнктуры. Одним из них был Вячеслав Молотов — пребывавший в негласной опале, но известный на весь мир бывший министр иностранных дел СССР и председатель Совета народных комиссаров.
«Имело место это в правление Брежнева, — вспоминал Яков Козловский. — Привёл меня Расул к опальному В. М. Молотову. Наведывал он ближайшего соратника Сталина и раньше. И, как известно, однажды в компании Мустая Карима и Кайсына Кулиева. Спустя некоторое время после посещения Вячеслава Михайловича оказались мы квадригой на даче Твардовского в Пахре. Мы — это Расул Гамзатов, Мустай Карим, Кайсын Кулиев и я. Выпили, и стал нас хозяин дома корить за то, что общались с Молотовым.
— Прохиндеи! Ходили к государственному преступнику!
И вдруг Гамзатов, как бы без всякого подвоха, даже с благодушной лицеприятностью, сказал:
— А вы знаете, Александр Трифонович, у Молотова на улице Грановского есть прекрасная библиотека. В ней есть и ваша книжка с благодарственным автографом.
В этот момент из кухни вышла Мария Илларионовна и с женской непосредственностью напомнила мужу:
— Саша, он ведь нам помог квартиру получить.
Художники знают, что небольшой штрих способен придать портрету то, что скрыла фотография. Все под Богом ходим...
Когда Твардовский был тяжело болен, я навестил его в Кунцевской больнице. И, словно в искупление незаслуженно приписанного мне “переводческого греха”, он подарил мне свою поэму “За далью — даль” с надписью: “Яше Козловскому — не для чтения, но для доброй памяти. — А. Т. 29. VII. 69”».
В жизни такое случается. Не по чёрствости души, не от неблагодарности, а по несовершенству человеческой природы. Когда недолюбливавший советскую власть Михаил Булгаков маялся в Москве без жилья, ему посоветовали обратиться к жене Ленина. Он обратился, и Надежда Крупская (Ульянова) помогла ему сначала прописаться в «нехорошей квартире», которую он потом не раз опишет, а затем и обзавестись своим жильём. «Самое главное то, что я забыл её поблагодарить, — писал Булгаков в «Воспоминаниях». — Забыл».
Судьба ещё не раз сводила Расула Гамзатова с Вячеславом Молотовым. Одну из этих историй приводит Юрий Борев:
«В середине 1970-х годов Расул Гамзатов лежал в Кунцевской больнице вместе с Молотовым. Расул спросил его:
— Я читал мемуары одного маршала. Он говорит, что Сталин руководил войной по карте. А по словам Хрущёва, Сталин работал по глобусу. Кто же прав?
Молотов с укоризной изрёк:
— Хрущёв был великим путаником. Весь первый этаж Ближней дачи товарища Сталина был увешан картами. Товарищ Сталин любил и умел работать с картой».
С особыми чувствами Расул Гамзатов навещал Корнея Чуковского, литературного патриарха, к которому Гамзатов питал почти сыновьи чувства. Когда, в конце октября 1969 года, Чуковский скончался, Гамзатов будто бы снова осиротел.
В библиотеке Чуковского в его доме в Переделкине хранится книга, подаренная Расулом Гамзатовым. Автограф гласит:
«Сказочному Нарту нашей детской литературы, одному из лучших джигитов великой русской речи, большому и доброму человеку Корнею Ивановичу с дагестанской любовью.
Расул Гамзатов.
28/XI — 1958».
(Нарты — герои кавказского эпоса, богатыри, великаны. —
Ш. К.).
Чувства, питаемые к большому мастеру, не могли не вылиться в стихи:
Ровесник разных поколений,
Среди других ты и меня
Почтил вниманьем, добрый гений,
Вблизи очажного огня...
И не меня ль на перевале
Венчал ты, будто бы Казбек,
Рукой, которую пожали
Минувший и двадцатый век
[113].
В том же году в издательстве «Молодая гвардия» вышла новая книга Расула Гамзатова. «В этой книге собраны стихи, написанные мною за последние пять лет, — говорил поэт. — Я назвал книгу “Чётки лет”. Это название дала мне моя мать, перед которой я в вечном неоплатном долгу. ...Она загадывала на чётках свои желания. А мои чётки — мои стихи. Я посвящаю их милым женщинам и достойным их мужчинам».
Многие стихи из этого сборника уже были или стали потом популярными песнями: «Журавли», «Разве тот мужчина?», «Есть глаза у цветов», «Долалай» («Горский парень поёт о девчонке одной...»).
Любовь, освещавшая творческую судьбу Расула Гамзатова, пламенела и в новых его стихах. Как талисман, как проповедь о том, что дольше и красивее всех живёт тот, кто всю жизнь умирает от любви.
Если в мире тысяча мужчин
Снарядить к тебе готова сватов,
Знай, что в этой тысяче мужчин
Нахожусь и я — Расул Гамзатов...
Если не влюблён в тебя никто
И грустней ты сумрачных закатов,
Значит, на базальтовом плато
Погребён в горах Расул Гамзатов
[114].
«Для меня поэзия очень похожа на любовь, — писал Гамзатов. — Без поэзии, как без любви, не было бы таинства красоты, волшебства преображений. Горы без поэзии — простое нагромождение камней, солнце — небесное тело, излучающее тепловую энергию, пение птиц — призывы самок самцами, а трепетание сердца — всего лишь учащённое кровообращение».
Тем временем поэзия Расула Гамзатова покоряла звёздные просторы. Космонавт Виталий Севастьянов, совершивший с Андрияном Николаевым рекордный полёт в июне 1970 года, писал:
«Мы взяли в полёт: Я — избранное Шолохова, Андриян Николаев — стихи Гамзатова... Мы готовились к полёту немалое время. Но когда отбирали книги, не сговорились. В полёте же... я читал Гамзатова, а Андриян — Шолохова. Я вообще люблю стихи Расула Гамзатова. За их философскую мысль, страсть, темперамент. Для меня его строчки пронзительны и необычайно человечны. Но там, на орбите, особый смысл приобрели стихи о дружбе. В них находил я всё то, чего мне так не хватало в те дни».
А вскоре затем на воду был спущен теплоход «Гамзат Цадаса», приписанный к Дальневосточному морскому пароходству. Космические дали и морские просторы сошлись в поэзии отца и сына из маленького дагестанского аула Цада.
Теплоход, носящий имя моего отца
Совсем не обязательно поэту
Без передышки странствовать по свету —
Ведь истинный талант оставит мету,
Что не сотрут ни люди, ни года.
Отец мой за пределы Дагестана
Не выезжал... Но нынче, как ни странно,
Он бороздит моря и океаны,
А я из дальних стран спешу в Цада
[115].
«ТРЕТИЙ ЧАС »
В изданной в 1971 году книге «Третий час» есть стихотворение «Пять минут тому назад». Существует видеозапись о том, как Расул Гамзатов читает его Якову Козловскому на аварском языке, а затем — примерный подстрочный перевод. Важны не только слова, но и чувства, эмоции, с которыми Гамзатов объясняет свой замысел. Порой это и было главным для переводчика. Но если в обсуждении не вспыхивала искра, не совпадало настроение, работа могла затянуться надолго. В этом видеофрагменте Яков Козловский говорит и о другом стихотворении — «Зря познал я усердье...» — которое перевёл раньше, но автор перевод не одобрил. Козловский читает новый перевод, который и вошёл в книги Гамзатова.
Бывало и так, что сначала за работу брался один, а в результате переводил другой. Это произошло и со стихотворением «Пять минут тому назад»: начинал Яков Козловский, а перевёл Наум Гребнев.
Был я молод, беден, жизни рад,
Даль вокруг казалась голубою.
Я, казалось, был самим собою
Только пять минут тому назад...
Значит, вот как наступает старость.
Голос хрипнет и тускнеет взгляд,
Что ещё горел, как мне казалось,
Только пять минут тому назад...
Сам Расул Гамзатов в беседе с Евгением Дворниковым сказал об этой книге: «Люди мечтают к звёздам полететь,
но если мы друг к другу не можем найти дорогу, то как долетим до звёзд? Говорят, у мусульманского пророка Магомета был час, когда он с Богом говорил, — “третий час”. Я так назвал одну из своих книг. Мы все спешим, спешим, ругаемся друг с другом, доказываем правоту, оспариваем глупцов. Все заняты собой, и некогда написать письмо другу, поцеловать ладони матери. Никак не хватает “третьего часа”. Потом приходит раскаяние. И бывает, что уже ничего нельзя поправить в собственных делах и поступках. Горькая пора прозрения. Вот о чём всё больше думаю. Поэт может сделать свою боль — болью народа, миг — вечностью. А если не будет художников и мудрецов, то, наоборот, вечность превратится в миг».
С естественной неизбежностью книга включала в себя и раздумья мудреца, и юмор, и нестареющую жажду любви, которая останавливает время. Стихотворение «С женщиной наедине» Яков Козловский перевёл с первого раза.
Друзья, извините, я к вам не приду,
И вы не звоните ко мне.
Вечер сегодняшний я проведу
С женщиной наедине.
Мы будем вдвоём: только я и она,
Часов остановится ход.
Музыкой сделается тишина
И таинство обретёт.
Вскоре вышла и книга «Две шали», в которой Расул Гамзатов вновь обращался к вечной тайне любви.
«Национальный аварский характер, присловья и народные речения, особый строй параллелизмов придаёт книге любви неповторимое своеобразие, — написала о книге поэтесса Лариса Васильева. — Как не подивиться ещё раз родному русскому языку, чья щедрая способность проникать в особенности иных речений даёт нам возможность наслаждаться переводами, чувствуя отличие итальянца от калмыка, эстонца от индийца».
БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ
Когда, в феврале 1970 года Александр Твардовский ушёл из «Нового мира», это событие стало ударом по творческой интеллигенции. Событие было куда значительнее очередного пленума ЦК КПСС. «Новый мир» Твардовского реанимировал великую литературу, открывал дорогу талантливым писателям, поощрял свободомыслие, публиковал то, что раньше было немыслимо увидеть на страницах советского журнала.
Всё это давалось беспрерывной борьбой с бдительной цензурой, партийными установками, доносами лжецов, нападками критиков-инквизиторов, интригами литературных властей. Неоспоримый талант, популярность и авторитет были его оружием. Твардовский сражался за настоящую литературу, пока хватало сил. Но силы его были на исходе, а болезнь отнимала последние.
В Индии считается, что змеи
Первыми на землю приползли.
Горцы верят, что орлы древнее
Прочих обитателей земли.
Я же склонен думать, что вначале
Появились люди, и поздней
Многие из них орлами стали,
А иные превратились в змей
[116].
Не прошло и года, как Твардовский ушёл из жизни. Ошеломлённый скорбной вестью Расул Гамзатов примчался в Москву. Он не мог не сказать прощального слова на похоронах близкого друга и большого поэта. Но этого не случилось. Яков Козловский вспоминал тот печальный день в беседе с Евгением Некрасовым:
«Вот хоронят Твардовского. Гроб стоит в ЦДЛ. Василий Филимонович Шауро, который возглавлял отдел культуры ЦК КПСС, просит Гамзатова выступить. Тот согласился, и тогда Василий Филимонович говорит: “Расул Гамзатович, здесь много корреспондентов. Молю вас, когда будете выступать, немножечко подумайте и о государстве”. Гамзатов банальностей говорить не мог. Поэтому он спускается в буфет и скоро оказывается “неоратороспособным”».
Но прощальное слово Гамзатов всё же сказал, написав стихотворение «Костёр Твардовского». Он пишет о костре в больничном парке, где они часто гуляли с Твардовским, беседуя о литературе и жизни. Но это не просто мемуарное описание, Гамзатов говорит о поэзии и власти, о совести и правде:
И откровенный норов слога,
Как чистой совести сестра.
Тобой взлелеянная строго,
Являла правда у костра.
В её удаче не изверясь,
Желал ты ближнему добра.
И походил костёр на ересь
Среди больничного двора...
Когда «местный сумрачный начальник» требует погасить костёр, Твардовский отвечает:
— Ступайте прочь! Вам знать бы надо,
Что мой неугасим костёр!..
В конце стихотворения Расул Гамзатов говорит то, что ему не дали сказать на похоронах:
И у свободы он в почёте,
И не подвластен никому,
И ложь в сусальной позолоте
Не смеет подступить к нему!
[117]
Позже Расул Гамзатов рассказывал Феликсу Медведеву: «Последние годы мне посчастливилось, я очень дружил с Твардовским... Он приходил ко мне в гостиницу, я бывал у него дома. Что меня лично в нём привлекало? Отличное знание всей европейской, восточной поэзии, Хафиза, влюблённость в китайскую поэзию. Он был скромен. И в статьях своих, и в разговорах, и в делах. Был самостоятелен, самобытен. Никогда не стремился кому-то понравиться.
Вспоминаю знаменитый бар около Литинститута. Частенько я там бывал. Приходил и он. Не забыть задушевных разговоров. Мои стихи, честно говоря, он никогда не хвалил, а “Мой Дагестан” напечатал.
Стал я членом редколлегии “Нового мира”. “Литературная Россия”, членом редколлегии которой я был тогда, написала гнусную статью о “Новом мире” и об Александре Трифоновиче. Твардовский мне говорит: “Я написал протест, и ты, если хочешь, выбирай между мной и “Лит. Россией”...
Поэтому поэму “Два сердца”, написанную давно, я дал Твардовскому на прочтение. Он ответил мне письмом, которое я, конечно, храню. Письмо было суровым, Александр Трифонович резко меня критиковал. Я не обиделся на него за это, хотя считаю, что он не во всём прав...
Твардовский называл себя моим другом, но на самом деле он был моим учителем. Но этого он никогда не подчёркивал. Не выпячивал своё наставничество, своё учительство. Его поэзия была на стороне слабых, рядовых людей. А мы очень часто были на стороне сильных. Хотя это противоречит природе, природе литературы, мы как бы сало мажем маслом».
Печально было расставаться с друзьями, их становилось всё меньше. Эта жестокая реальность, особенная для Гамзатова ценность человеческой дружбы, которой он очень дорожил, отразились его в книге «Берегите друзей», вышедшей в 1972 году. Она стала событием знаковым в творческой судьбе поэта.
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его — вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей...
[118]
Друзей у него было много, друзей настоящих, потому что он сам был хорошим другом и знал цену дружбе. А друзья приходят и приезжают в гости. Если бы в доме Расула Гамзатова была гостевая книга, она стала бы бесценным документом истории литературы. В той книге могли бы остаться и впечатления Феликса Медведева о приезде в Дагестан к Расулу Гамзатову:
«Он стоял у самолёта, седоголовый, тяжеловатый, смущающийся, уставший человек. Он излучал радушие и доброжелательность. К нему запросто, по-свойски подходили люди. Он жал им руки, перекидывался словом, находил секунды уединения. И все называли его “Расул”. Скольких гостей принял он на своей хлебосольной земле, сколько раз вылетал отсюда в столицы мира посланцем солнечного Дагестана!
Расул Гамзатов. Поэт. Философ. Сын Гамзата Цадасы. Отец Патимат, Заремы и Салихат. Дед четырёх внучек. Балагур-рассказчик. Дипломат. Поклонник Бахуса. Эпикуреец. Хитрован. Сама наивность. Открытая душа, распахнутый щедрый характер. Человек-эпоха. Удачливый, везучий. Обласканный Сталиным. Гаргантюа и Пантагрюэль одновременно. Санчо
Панса и Дон Кихот. Собеседник Шолохова. Друг Твардовского, Фадеева и Симонова. Живой классик. Легенда. Непоседа, объездивший полмира. Проведший часы общения с Фиделем Кастро и Индирой Ганди. Вечный слуга двух самых преданных ему женщин на свете: поэзии и жены Патимат. Коммунист. Наш прославленный современник. Автор сотни книг. Почти памятник...
Я пробыл с Расулом Гамзатовым восемь дней. По горным дорогам, на вертолёте, на машинах мы объездили большую часть Дагестана. Эта страна потрясает. Удивляет. Лишает сна. Красота её неописуема».
Дагестан покорял всех, кто оказывался в его поднебесных пределах. Традиционное горское гостеприимство — это праздничный эпос, который с каждым годом становится ценнее. Расул Гамзатов был его живым воплощением. Воспоминания людей, которым посчастливилось быть гостями поэта в Дагестане, восторженны и нескончаемы.
Дочь поэта Патимат Гамзатова рассказывала Асе Омаровой и Теолине Аршба:
«Общение с людьми было для него большой радостью. У нас всегда в доме бывало много гостей. У нас была немного сварливая нянечка, которая говорила: “Это не дом, это проходной двор, и пеший и конный — все тут”. Мы от этого не уставали. Наоборот, появление гостей было связано с радостью. Некоторые могут подумать, что на Кавказе гостеприимство тяготит, у женщин уходит на это много времени, но моих родителей это абсолютно не смущало, и нас, детей, тоже радовало».
Другая дочь поэта, Салихат, добавляла:
«А это чувство было действительно удивительным... Рядом с ним все были приятными, настроенными на добрый лад, настроенными увидеть что-то очень хорошее — и это чувство всегда меняло людей, раскрывало их лучшие стороны... Сегодня я сама воспринимаю папину поэзию как бесценный духовный опыт живого и мудрого, благородного человека. И часто вспоминаю папины строки из стихотворения “Пожелание”:
Я желаю всем друга такого,
Что в тяжёлый и в радостный час
Произнёс настоящее слово,
Что спасительным будет для вас.
Он и сам стал для многих людей таким другом. Для меня он навсегда остался воплощением того, каким должен быть человек — добрым, щедрым, снисходительным».
Расул Гамзатов, убеждённый в том, что «вернее дружбы нету талисмана», посвятил дружбе много стихотворений, каждый раз находя новые смыслы, краски, непривычные образы и метафоры. Тема эта была неисчерпаема, как сама жизнь.
Он не принимал словеса о том, что дружба — это рудимент, отжившее понятие, когда правят бал расчёт и выгода. В его словах о Мустае Кариме — его понимание дружбы, как дара:
«У нас много сказано о дружбе народов, но мало сказано о дружбе людей... Я познакомился с Мустаем Каримом в одной из московских больниц сразу после войны. На больничной койке лежал тяжелобольной двадцатишестилетний красивый воин и поэт. Меня привели к нему его стихи, рассказы о нём и люди, любившие его. Их уже тогда было много. Тяжело было смотреть на участника первых боёв, видевшего поле боя и в последний день войны, когда стоял сплошной лес немецких винтовок, воткнутых штыками в землю, на человека, который перенёс тяжёлые ранения и выходил невредимым из окружения, а теперь, прямо из похода, попал в такой неприятный “очаг”, где его мучил туберкулёз».
Друзья подбадривали Мустая, уверяли, что недуг его скоро покинет, ведь у него столько друзей, готовых сделать для него что угодно. А он отвечал: «Да, друзья меня балуют. Но я капризный... Хочу большего, хочу, чтобы они меня на руках носили. Ведь так, кажется, носят покойников?» Гамзатов на всю жизнь запомнил горький юмор друга.
В жизни не так много радостей, как поначалу представляется, и дружба — одно из явлений, которые придают смысл человеческому существованию. Но когда о дружбе говорят, это почему-то наскучивает, куда интереснее говорить о любви, хотя и то и другое суть глубоко личные переживания человека. Расул Гамзатов предпочитал писать о дружбе стихи, петь об этом высоком чувстве, которое в Дагестане возведено в разряд высших добродетелей:
В горах дагестанских джигиты, бывало,
Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,
Дарили друг другу клинки, и кинжалы,
И лучшие бурки, и лучших коней.
И я, как свидетельство искренней дружбы,
Вам песни свои посылаю, друзья,
Они — и моё дорогое оружье,
И конь мой, и лучшая бурка моя
[119].
Душевная щедрость, готовность радоваться успехам друзей, добрая помощь, полезный совет, данный как бы между прочим, с ноткой юмора — это было для Расула Гамзатова органично, естественно, как дыхание. Того же он ждал и от остальных, хотя порою горько ошибался.
Противны мне люди с повадкою лисьей.
Сказать откровенно, я очень устал
От их удивительно правильных мыслей
И прорепетированных похвал.
Был друг у меня. Я любил его, верил,
Считал его чуть ли не братом родным.
Пред ним раскрывал я приветливо двери,
Я сердце своё раскрывал перед ним.
Каким простодушным я был вначале,
Как было доверчиво сердце моё.
Я говорил о своей печали
Тому, кто был причиной её.
Он восклицал: «Я долго не спал,
А уснул и увидел тебя в сновиденье!»
Я не думал, что лгал он, а он и не лгал:
Он полночи писал на меня заявленье...
[120]
Зависть, клевета, предательство — трудно назвать выдающуюся личность, которая не испытала бы на себе эти тёмные стороны жизни. Вокруг духовных Гулливеров всегда вьётся стая моральных пигмеев, пытающихся отравить им жизнь, остановить, опутать, обездвижить. К этому нелегко привыкнуть, но придавать этому какое-то особое значение бессмысленно. «Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку», — говаривал Уинстон Черчилль. Расул Гамзатов относился к этому людскому пороку снисходительно, с печальной иронией, вспоминая своего любимого Пушкина.
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.
Его больше огорчало не само предательство, а вынужденное разочарование в людях, которых он считал своими друзьями.
Я не умру от твоего обмана.
Был друг — и нет... Утешусь. Не беда.
Но у меня осталась в сердце рана,
И я боюсь — осталась навсегда...
Я разорву страницы писем гладких,
Я позабуду дни разлук и встреч.
И лишь портрет, где ты с улыбкой сладкой,
До самой смерти буду я беречь.
И пусть всегда он будет мне укором.
Пусть он стоит (спасибо за урок),
Как чёрный придорожный столб, который
Нам говорит о трудности дорог.
«Жить с людьми, быть руководителем, быть в верхних эшелонах власти и не иметь завистников, клеветников — бывает ли так? — писала в своих воспоминаниях Салихат Гамзатова. — ...Он действительно сумел подняться выше, не ввязываться в склоки. А были люди, которые завидовали ему и стремились навредить всеми способами, искали компромат и создавали его, примерно такого толка: много ездил и не успел вовремя заплатить партвзносы, на собственном 50-летии поблагодарил партию, но не поблагодарил лично Леонида Ильича Брежнева. Не случайно папа написал:
Поэт, чужие видящий грехи,
Ей-богу, и тебе, брат, не мешало б
Оставить в память по себе стихи,
А не собранье анонимных жалоб
[121].
...Уже став взрослой, я спросила его, почему он нигде не говорил о том, с чем ему приходилось сталкиваться — о клевете и травле, об интригах этих людей, и он ответил: “Они хотели, чтобы я с ними спорил, ругался, а я хотел заниматься своим творчеством”. Тогда эта позиция показалась мне немного малодушной, почему не сказать о своём отношении к подобным поступкам и о самих поступках? Но сейчас, повзрослев, я понимаю, что, наверное, человеку невозможно, отдаваясь всем сердцем, делать два дела сразу: писать стихи и бороться с клеветой... Сам папа говорил: “На вражде со мной они делают себе имя, а я их и знать не хочу”.
...Меня поразили слова одного дагестанского писателя (не буду называть здесь его имя), написанные в заявлении на папу, наверное, в 1960—1970-е годы: “Расул Гамзатов пишет стихи о своей матери. А кто она — герой труда, передовик?” ...Говорю я об этом для того, чтобы читающие эти строки могли представить живой образ человека, создавшего замечательные книги, сказавшего мудрые слова, и понять, что при той огромной любви, которую испытывали к нему люди и он к ним, и в его жизни было очень много огорчений, боли и грусти...»
Мне исколола, исколола грудь
Игла уже пустого сожаленья,
О том, что тех, чьё место в отдаленье,
Я приближал, не разглядев их суть
[122].
И всё же необходимость, незаменимость дружбы оставалась для Расула Гамзатова одной из главных опор в жизни и творчестве. Он навещал своих давних друзей, которые оставались достойными людьми несмотря ни на какие испытания, и всегда звал их к себе, в Дагестан, в горы.
Мой друг, кончай пустые споры,
Смех прекрати, сотри слезу,
Быстрее поднимайся в горы
Ты, суетящийся внизу!
Не бойся головокруженья
От высоты,
Не бойся здесь лишиться зренья
От красоты!
И друзей у Расула Гамзатова становилось всё больше. Им уже не хватало чтения его произведений. Они хотели видеть и слышать любимого поэта, творчество которого стало всенародным достоянием.
На предложение провести большой творческий вечер в Колонном зале Дома союзов Гамзатов согласился не сразу. Его тревожило: заполнят ли зрители такой большой зал, так ли уж нужна им его поэзия? Обычное волнение творца, сомнение высокого порядка.
Авторский вечер состоялся 22 октября 1972 года. Зал был полон, телевидение и радио транслировали происходящее на всю страну.
Расул Гамзатов читал свои стихи на аварском, Наум Гребнев, Яков Козловский, Владимир Солоухин — на русском.
Композитор Оскар Фельцман представил песенный цикл на слова Гамзатова «С любовью к женщине». В сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева песни исполнил Муслим Магомаев.
— Скажи, каким огнём был рад
Гореть ты в молодости, брат?
— Любовью к женщине!..
— Чем дорожишь ты во сто крат
Превыше славы и наград?
— Любовью женщины!..
— А с чем, безумный человек,
Тогда окончится твой век?
— С любовью женщины!
[123]
«Литература Гамзатова относится к высоким образцам гуманистического творчества, которое обогащает духовный мир человека, делает его ещё более содержательным и прекрасным, — говорил Оскар Фельцман. — Книги поэта были всегда в нашем доме. Но в последние годы мои отношения с Расулом Гамзатовым стали не просто отношениями поэта и читателя, а творческими связями, создающими в искусстве очень важное и дорогое для обоих — песню».
Вечер собрал созвездие знаменитостей. Песни на слова Расула Гамзатова исполнили Иосиф Кобзон, Тамара Синявская, Лев Лещенко, Полад Бюль-Бюль оглы, солисты Большого театра Евгений Нестеренко и Валентина Левко, ансамбль «Гая», дагестанские певцы Даку Асадулаев и Муи Гасанова. Многие из впервые исполненных на вечере песен стали шлягерами.
Песенные номера перемежались выступлениями друзей Расула Гамзатова и инсценированными отрывками из повести «Мой Дагестан».
На сцене восседал большой президиум, на краю которого скромно расположился виновник торжества. Впрочем, так оно было лучше, потому что Гамзатов часто выходил к микрофону под требовательные аплодисменты. Он был блистательным оратором, стихи читал артистично, эмоционально, его остроумные, рождающиеся на глазах экспромты становились афоризмами.
Разумеется, был и грандиозный банкет, «третье отделение», как называл его Гамзатов.
После вечера в Колонном зале авторские вечера Расула Гамзатова стали регулярно проходить в стране и за рубежом. И каждый раз он сомневался — нужно ли? И каждый раз поклонникам поэта не хватало мест в залах.
«Многие считают Гамзатова баловнем судьбы, — писал Яков Козловский. — Мол, рано был замечен и отмечен. Они не ведают, что в литературе, как на войне, порою год засчитывается за три. К тому же Бабель прав: на этой войне лучше быть убитым, чем пропавшим без вести. Внешняя сторона событийности обманчива. Сын известного аварского поэта и арабиста Гамзата Цадасы начинал, как все молодые стихотворцы. Никто ему не радел со стороны. Я это доподлинно знаю, ибо довелось мне жить в доме Гамзата Цадасы».
ЦДЛ
Кто не слышал этой магической аббревиатуры, тот ничего не знает о советских писателях. Центральный дом литераторов располагался на улице Герцена, которая прежде была Большой Никитской, а позже снова ею стала. Теперь ЦДЛ называют клубом писателей, но он всегда был сакральным местом, университетом литературной жизни и её же храмом. Здесь все были равны перед литературой, независимо от званий, премий и гонораров.
Что бы ни происходило вокруг, в ЦДЛ мало что менялось. Концентрация мыслителей, талантов, а заодно и бездарностей была столь высока, что помогала переживать любые политические или экономические катаклизмы.
В ЦДЛ пускали только по писательским билетам. После истории с Иосифом Бродским наличие членского билета стало своего рода охранной грамотой. Если соседи вызывали милицию, сообщив о проживающем рядом тунеядце, который выдаёт себя за писателя, а на работу не ходит, являлся участковый. Но увидев членский билет, с почтением отдавал честь и удалялся, не требуя гонорарных справок.
Получить заветный билет члена Союза писателей СССР значило примерно то же, что получить звание рыцаря от британской королевы. Теперь не тебя проводили в ЦДЛ, теперь ты мог проводить друзей в эту обитель литературной богемы.
Встретиться в ЦДЛ — считалось признаком посвящённости, недоступной простым смертным причастности к ордену успешных писателей.
Когда девушку приглашали в ЦДЛ, она соглашалась охотнее, чем если бы её пригласили в Большой театр. Где ещё можно было увидеть столько знаменитых писателей, актёров, режиссёров, художников?
Писатель, пригласивший друзей в ЦДЛ, мог быть уверен, что платить будет не он. Люди ходили в ЦДЛ как на экскурсию, как в музей мадам Тюссо, только фигуры были не восковые, а что ни на есть реальные, и настолько живые, что с ними даже можно было выпить.
Самым популярным местом в ЦДЛ был «Пёстрый зал». В этом полуподвальном кафе царила атмосфера вольнодумства, здесь дрались из-за рифмы, уличали в плагиате, заключали договоры, читали стихи, обсуждали и осуждали. Возводили в гении и ниспровергали вчерашних кумиров. А какие хитроумные интриги там плелись, какие словесные, и не только, дуэли происходили! Не говоря уже о тех, которые не преуспели в поэзии, но оказались большими мастерами «подковёрных» игр.
Здесь ели пирожки, сосиски и знаменитый жульен из грибов. Но больше — пили отменный кофе и, разумеется, напитки иного свойства. Когда писатели не могли расплатиться, их обслуживали в долг.
Для многих писателей это был второй дом. Никто не удивлялся, если после долгого отсутствия обнаруживал какого-то поэта за тем же столиком, с той же чашкой кофе и рюмкой коньяку. Членом этого весёлого братства Расул Гамзатов был со студенческих лет.
«Меня всегда трогало, как дружили Фадеев, Федин, Светлов, Смеляков, — вспоминал Гамзатов, беседуя с Феликсом Медведевым. — Все встречались в ЦДЛ за чаем или бокалом вина, подолгу засиживались за дружеской беседой.
Единственно Твардовский мне однажды сказал: “В ЦДЛ не ходи. Если хочешь выпить, иди в другое место”».
Кроме кафе, в ЦДЛ был ещё ресторан в «Дубовом зале» с резными колоннами и цветными витражами, оставшимися от прежних хозяев, последней из которых была графиня Олсуфьева.
В «Дубовом зале» проходили официальные приёмы, «обмывали» выход новой книги или долгожданный приём в Союз писателей. В нём бывали многие мировые знаменитости, включая президента США Рональда Рейгана, с которым приглашённые по особому списку писатели «обмывали» конец холодной войны.
«Пёстрый зал» был знаменит не только своими звёздными посетителями, на его стенах красовались настоящие реликвии, имевшие отношение к известным личностям: шаржи, карикатуры, эпиграммы, автографы. Написать или нарисовать на стене мог любой, но не каждый решался. Это были стены славы, автографы бездарные или авторов безвестных загадочным образом исчезали. Оставалось то, что было как резьба на камне, как нечто вечное. Когда случались ремонты, находился некий цензор, который решал, что оставить, а что закрасить. Среди уцелевших фресок есть и строки Гамзатова:
Пить можно всем,
Необходимо только
Знать где, когда и с кем,
За что и сколько.
Богатая история ЦДЛ породила свой эпос и фольклор. Именно в «Пёстром зале» с Расулом Гамзатовым случилась знаменитая история, которую многие рассказывают на свой лад. Ясность внёс сам поэт, беседуя с Индирой Кодзасовой:
«Очень много о вас анекдотов рассказывают. А самый знаменитый — похвала буфетчицы Дома литераторов. “Только Гамзатов правильно сказал: ‘Дайте один кофе’ ” — и тут же её разочарование, когда вы добавили: “...и один булочка”. Это правда?
— Я сам могу больше всех про себя анекдотов рассказать! Но про “булочка” — это правда».
С ЦДЛ у Гамзатова связано многое, как и у его друзей, которых он часто туда приглашал. В книге Георгия Данелии «Тостуемый пьёт до дна» есть глава, в которой он описывает визит в ЦДЛ с Расулом Гамзатовым и Владимиром Огневым:
«Пока я запирал машину и снимал щётки, чтобы их не украли, Расул и Володя прошли в ресторан. Меня на входе остановила вахтёрша:
— Ваше удостоверение. (В Дом литераторов пускали только по членским билетам Союза писателей, а у меня такого не было.)
— Я шофёр Расула Гамзатова, — сообразил я и показал ей щётки.
— Проходите.
Лет через десять, когда приехала итальянская делегация — Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Луиджи Де Лаурентис, — я пригласил их на ужин в ресторан Дома литераторов.
За эти годы я стал узнаваемой личностью: меня несколько раз показывали по телевизору в “Кинопанораме”, фотографии мелькали в журнале “Советский экран”. И теперь в Доме литераторов меня встречали тепло и сердечно.
Когда мы все вошли в вестибюль, я сказал вахтёрше:
— Это итальянские гости. Они со мной.
— Пожалуйста, пожалуйста, очень рады вас видеть! — поприветствовала меня вахтёрша.
Я повёл гостей к гардеробу. За спиной слышу мужской голос:
— Ты чего это пускаешь кого попало? Почему членские билеты не спрашиваешь?!
Я обернулся. К вахтёрше подошёл важный мужчина. (Как выяснилось потом, администратор Дома литераторов.)
— Это не кто попало, это гости вот этого товарища, — вахтёрша показала на меня.
— Гражданин, я извиняюсь, вы член Союза писателей? — спросил меня администратор.
— Нет.
— Фёдор, не раздевай! — дал он команду гардеробщику. — Сожалею, но у нас только для членов Союза писателей.
Но тут вахтёрша поспешно громким шёпотом сообщила:
— Это — шофёр Расула Гамзатовича!
— Что ж ты сразу не сказала?! Здравствуй, дорогой! — администратор крепко пожал мне руку. — Фёдор, раздевай!»
РЕКА ПОЭЗИИ
«Великая и нескончаемая река поэзии протекает через века и эпохи, — говорил Чингиз Айтматов на пятидесятилетием юбилее Расула Гамзатова. — Она вечна, её истоки — в природе человеческой души и бытия. Но эта река течёт вместе с историей народа. И всякий раз, когда обновляется история, вместе с ней обновляется поэзия. И тогда сама жизнь, её новые идеалы, её новые устремления и достижения вызывают к творчеству новые силы в недрах народа».
Река поэзии Гамзатова становилась всё шире и полноводнее, но поэт всегда помнил о её живительных истоках:
Над крышами плывёт кизячный дым,
А улицы восходят на вершины.
Аул Цада — аварские Афины,
Теперь не часто видимся мы с ним
[124].
Цада был не единственным очагом дагестанской поэзии. Он был, наверное, самой яркой звездой в поэтическом космосе Страны гор. Но поэзию, песню любят в горах повсюду, Дни песни проходят в разных уголках Дагестана.
В тот год праздник проходил в ауле Игали, знаменитом своими певцами и песенными традициями. Для Гамзатова Игали был особым местом, связанным с именем его любимого поэта Махмуда из Кахаб-Росо. В Игали устраивались состязания певцов, после одного из которых и был убит Махмуд. Предания донесли последние слова великого поэта:
В серебряном черепе мозг золотой,
Не думал, что нынче мне смерть суждена.
Певец любви бывал там часто. Сиражудин Хайбуллаев писал: «Народный учитель Заирбег из Хунзаха вспоминал, что он неоднократно ездил в Игали к известному певцу Арашил Омару, которому Махмуд больше чем кому-либо доверял исполнение своих песен. Поездки учитель совершал, чтобы записать из уст певца произведения Махмуда. Каждый раз Омар исполнял широко известные песни Махмуда, ни одной новой песни не спел, хотя знал их великое множество. Певец унёс их с собой в могилу. Так же поступали и другие известные знатоки песен Махмуда... Испокон веков было принято, чтобы певцы не повторяли однажды спетую песню, чтобы у каждого из них был свой собственный набор песен».
В стихах Гамзатова Игали тоже не забыт:
Кавказец из-за женщины красивой,
Как слышал я в ауле Игали,
В седло садился и, склонясь над гривой,
Сломя башку скакал на край земли.
Случалось, государь властолюбивый
Вдруг потрясал стоустую молву,
Когда в мольбе пред женщиной красивой
Склонял, как раб, покорную главу.
И ты ответь, читатель мой правдивый,
В любви отвага — это ль не талант?
И ехал из-за женщины красивой
Стреляться, как на праздник, дуэлянт
[125].
На этот раз Расул Гамзатов отправился в Игали с Яном Френкелем, рассказывая, что игалинцы начинают петь ещё в люльке. Тысячи гостей собирались в Игали из других районов, артисты репетировали, администрация готовилась явить такое гостеприимство, чтобы удивить даже видавшего виды Гамзатова. Но самолёт с гостями всё не прилетал, и никто не знал, куда он делся. Начальство нервничало. Шутка ли — пропал не просто поэт, а целый член Президиума Верховного Совета СССР! Да ещё с важными гостями. Начался переполох. Наконец стало известно, что самолёт, а это был трудяга «кукурузник», по ошибке или из-за непогоды сел в Унцукуле — соседнем районном центре. По тем временам это было не близко, дороги были опасные, да и подходящей машины для гостей не находилось. А ехать было нужно. Из Игали выслали депутацию на легковых автомобилях. У знаменитой горы Ахульго увидели осторожно едущий навстречу самосвал, в кузове которого, держась за борт, возвышались Ян Френкель и Расул Гамзатов. Вернее, возвышался именно композитор двухметрового роста. С ними были и другие гости из Москвы, изумлённые столь неожиданным приключением. В кабине самосвала сидели Патимат и Чакар — супруги братьев Гамзатовых Расула и Гаджи.
Приключения на этом не закончились, Гамзатов и Френкель отказались пересаживаться и ехали на самосвале живыми памятниками. Их сопровождали всадники в черкесках, мотоциклисты с флагами. В сёлах, которые они проезжали, их отказывались пропускать без застолья, пионеры приветствовали гостей транспарантами и трубили в горны на мотив «Журавлей».
У подъезда в Игали почётным гостям по традиции подвели коней. Гамзатов лихо вскочил в седло, его примеру последовали и гости. Френкель отказывался. Его едва уговорили и с трудом водрузили на самого спокойного коня.
Когда, после торжественного ужина, гостей укладывали спать, с Френкелем снова возникла проблема, ни одна кровать его не вмещала. Пришлось соорудить новую, по росту.
Зато праздник удался на славу. Френкель восхищался горскими певцами, особенно хором игалинцев из пятидесяти человек. И сам пел «Журавли», подыгрывая себе на гитаре. В награду ему вручили горский пандур, которому на любую мелодию хватало двух струн.
Это пиршество поэзии продолжалось несколько дней. Певцы пели, поэты читали стихи, артисты показывали сценки. Расул Гамзатов читал, пел с друзьями и говорил пламенные речи о красоте аварской поэзии, о великой русской литературе, о красивых горянках и замечательных гостях. Френкель успел освоить пандур и не расставался с папахой. Особую значимость празднику придавал и пятидесятилетний юбилей Расула Гамзатова, который тоже не забыли отметить в Игали. Там он был не просто дорогим гостем, но почти односельчанином, потому что помог провести воду в село. Гамзатов и в этом продолжал добрые дела отца, который провёл воду в Цада.
Подготовился к юбилею и Аварский театр, поставив спектакль «Пламенное сердце» по произведениям Гамзатова. Махмуд Абдулхаликов играл поэта. Но, по своему обыкновению, добавил к спектаклю то, чего не могли предположить ни режиссёр, ни Гамзатов и ни сам актёр, невольно превративший спектакль в трагикомедию.
«Поскольку в зале сидел Расул Гамзатович, я понимал свою ответственность и слишком старался, — вспоминал он. — Зрители были очень довольны, я был похож на поэта, все жесты, походка, манера говорить, речь — всё было его. До окончания выступления оставались считаные минуты. Я выходил из глубины сцены и, увлёкшись, не заметил, как дошёл до края, — луч прожектора был направлен прямо в лицо — и я провалился в суфлёрскую яму...
Придя в сознание... я заметил Расула Гамзатова среди людей, которые меня окружали. Наши взгляды встретились. Он очень волновался. Хотя я чувствовал сильные боли, чтобы успокоить его, я сказал:
— Расул, извини, что не мог до конца сыграть роль поэта, не можешь ли сам это сделать, зрители, наверное, ждут.
— Дорогой друг Махмуд, я уже пятьдесят лет играю роль поэта Расула Гамзатова, а ты вот полтора часа не мог этого выдержать. Нелегко, друг, быть поэтом, тем более играть роль.
Улыбаясь, он протянул мне руку. После этого, через несколько дней он подарил мне своё стихотворение “Невыдуманная история”.
Вот поднят занавес.
Что это?
Не понимаю ничего.
На сцене в озаренье света
Себя я вижу самого.
И голос мой, и каждый жест,
И нос мой.
Отрицать не стану,
Что он до самых дальних мест
Всему известен Дагестану...
Меня копируя, актёр
Пред тайной разорвал завесу:
Свалился в яму, где суфлёр
Сидит, когда играют пьесу...
[126]»
ПУШКИН В НАГРУЗКУ
27 сентября 1974 года в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда группе писателей «За большие заслуги в развитии советской литературы, активную общественную деятельность и в связи с сорокалетием со дня образования Союза писателей СССР».
Вместе с Расулом Гамзатовым звания Героя с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» удостоились Валентин Катаев, Григол Абашидзе, Константин Симонов, Георгий Марков, Эдуардас Межелайтис, Борис Полевой и несколько других писателей.
Это было главной наградой страны, золотую звезду полагалось носить выше орденов. Главным орденом был орден Ленина, которым Расула Гамзатова наградили год назад, в связи с пятидесятилетием.
Теперь уже трудно представить, что таких высот смог достичь поэт, которому едва исполнилось полвека. Разумеется, были и недовольные, и были они совсем рядом. Власть, награды, премии сыпались на Гамзатова как из рога изобилия, не говоря уже об огромных книжных тиражах и несчётных публикациях.
О своих наградах поэт написал строки, ставшие крылатыми:
Дагестан, всё, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю...
[127]
Наград у Гамзатова действительно было много, но главным мерилом его таланта, могучего и яркого, было народное признание. Его живого, яркого, весёлого слова ждали повсюду. Если происходило что-то важное, горцы вопрошали: «Что скажет Расул?»
«Его русская речь была далека от эталонов правильности: акцент, затруднения в выборе форм слов, паузы, от которых порой страдала синтаксическая цельность предложения, — писал Сергей Гиндин. — И всё же непреложный факт: с середины 1960-х годов, по данным и библиотек, и книготоргов, Гамзатов неизменно находился в числе самых читаемых поэтов России. Чтобы удовлетворить все заявки на его новые книги, пришлось бы истратить половину всей бумаги, выделявшейся тогда в стране на издание поэзии. Да и те, кто не имел привычки читать стихи, знали его по песням, и прежде всего по одной из них — по “Журавлям”: их поют до сих пор, уже не вспоминая имён ни поэта, ни композитора».
Видимо, это беспокоило и самого поэта, который написал «Стихи о бумаге».
...И всё ж не зря погибли дерева.
В тетрадях, не исписанных впустую,
Малыш начертит первые слова,
Мудрец закон великий обоснует.
Поэт любимый ночи напролёт
Глаз не сомкнёт и озарит страницы,
И лес столетний в слове оживёт,
Запахнет хвоя, защебечут птицы.
И будет этот лес из века в век
Шуметь ветвями, кровь тревожить в жилах,
И ни один на свете дровосек
Свалить его стволы не будет в силах
[128].
Был и другой способ стать обладателем книги Расула Гамзатова — сдать макулатуру — ненужную бумагу, тогда и леса оставались целее. Но книг всё равно не хватало. Их везли даже из заграницы, из стран социалистического содружества, которое тогда существовало. К примеру, в Софии был Дом советской книги, где можно было купить то, что невозможно было купить в СССР, хотя издавались эти книги именно там. На крайний случай в Москве существовали «Берёзки» — валютные магазины, где знакомый иностранец мог купить желанную книгу за доллары США.
Если прежде лучшим подарком из Дагестана считались коньяк и чёрная икра, то теперь их затмили книги Расула Гамзатова, достать которые было куда труднее. Дефицит порождал курьёзы. В Махачкале можно было увидеть очередь за новой книгой Расула Гамзатова, но, чтобы купить её, нужно было приобрести ещё и двухтомник Александра Пушкина — юбилейное издание к 175-летию со дня рождения поэта. Это называлось «нагрузкой». В библиотеках махачкалинцев оказались десятки одинаковых двухтомников Александра Сергеевича, которые они раздаривают по сей день.
Узнав об этом, Расул Гамзатов добился прекращения такого своего единения с «солнцем русской поэзии». Пушкина он чтил и любил почти сыновней любовью.
Счастливый, хожу по альпийским просторам,
По нивам вершинным, где зреет пшеница.
И пушкинский томик со мною, в котором
Аварский цветок меж страничек хранится
[129].
«Книга Расула — самый желанный, самый ценный подарок, — писал Сиражутдин Хайбуллаев, — ибо в ней всегда найдётся, что прочесть матери, сестре, брату, другу, любимой женщине и в часы радости, и в минуты грусти, что способно поддержать могучий дух в человеке».
На страну обрушилось всесоюзное поэтическое наваждение, творилась магия «Гамзатизации». Издательства соперничали за новые книги Расула Гамзатова. Тиражи росли, сами книги становились всё изысканнее, выходили иллюстрированные альбомы и миниатюрные издания. Самым редким стала изящная книжица «Письмена», размером всего 5 на 4 сантиметра, выпущенная в 1969 году издательством «Молодая гвардия». Расул Гамзатов назвал «Молодую гвардию» не просто книжным издательством, а издательством любви. Здесь вышло множество книг Гамзатова, включая самую первую.
Разумеется, соответствующими тиражам были и гонорары. Супруга поэта, случалось, жаловалась, что у неё побаливает рука от того, сколько уведомлений о переводах ей приходилось заполнять каждый день. В те времена гонорары присылали по почте, и на каждый — будь он большим или не очень, например из районной газеты, — полагалось заполнять почтовый формуляр, вписывая в узкие поля фамилию, имя, отчество, номер паспорта, адрес и прочие обязательные сведения. Гонорары были не только за книги или публикации в прессе, они приходили от телевидения, радио, театров, концертных залов. Присылали их и из других стран. Это породило и известную шутку — будто бы на вопрос о любимой книге супруги Гамзатов ответил: «Сберегательная». Ходили слухи и о том, что Расул Гамзатов попал в число официальных советских миллионеров.
Система выплаты гонораров была не совершенна, скорее — бюрократична. Валентин Осипов приводит несколько высказываний Гамзатова по этому поводу:
«— Гонорар платить за строку?! Глупость! Я бы за миниатюры платил в сто раз больше. Сколько же надо труда, чтобы скалу отшлифовать в скульптуру!
— Платить за объём написанного? Платить надо за талант!
— Поэт — винодел. Редактор — дегустатор. Если вино в этой бутылке скисло — на свалку!
— Не люблю больших предисловий. Мне отец говорил: “Предисловие напоминает человека в большой папахе, заслоняющей в театре сцену”.
— Издательство должно знать мнение читателя. Вот мой отец любил отдавать свои стихи в сельсоветскую стенгазету: уж аул обязательно прочтёт и обязательно обсудит.
— Э-э, нельзя издателю медлить с выпуском книг. Это то же самое, если женщине запрещать родить. Абуталиб однажды вразумлял директора нашего издательства: “Сложился обычай — издавать двухтомник после смерти автора. Я облегчаю ваши будущие заботы. Первую книгу выпустите сейчас, при жизни”».
В Советском Союзе существовала цензура, были ограничения, но авторские отчисления выплачивались исправно. В XXI веке всё изменилось, не выплатить авторский гонорар стало считаться чуть ли не доблестью.
На вопрос Далгата Ахмедханова о том, сколько у него вышло книг, Расул Гамзатов ответил: «Не знаю. Никогда не считал ни книг, ни денег. Собственно, у меня всего три книги: та, что написал, та, что пишу, и та, что ещё не написана».
Он и в самом деле не знал. Кто-то попытался подсчитать за Гамзатова, но из этого ничего не вышло.
Гамзатова называли главным поэтом страны, но невероятная популярность не мешала его неустанным поискам первозданной чистоты слова и исповедальной предельности чувств.
Он стеснялся своей славы, а Давид Кугультинов, Народный поэт соседней Калмыкии, писал:
«Плохо, когда к иным писателям слава приходит раньше, чем они научились как следует писать.
Слава, пришедшая не по заслугам, всё равно, что похищенное сокровище. Она аморальна. Но как я радуюсь, когда в беседе с чабаном ли, рабочим или космонавтом заходит речь о поэзии, и я слышу имя Расула Гамзатова! В чём сила поэзии Расула? В его удивительно тонкой лирике, обнажённости души, в той высокой правде, которая излучает свет добра, счастья, любви.
Его стихи о любви, о женщине, его стихи о совести и мужестве пробуждают в человеке, быть может, на какое- то время дремлющие, скрытые благороднейшие качества, вызывая их к жизни. И человек вдруг видит внутренним взором себя как бы пробуждённого, со всем красивым, заложенным в нём, и он, действительно, возвышается. Он становится лучше в собственных глазах. И в этом — одна из самых высоких задач поэзии».
О феномене гамзатовской поэзии говорил и Сергей Михалков:
«Наверное, даже в самом Дагестане не все раньше знали, что есть такое село Цада. Теперь знают все. И не только в Дагестане, но и в Москве, Киеве, Томске, Якутске — всюду, где есть книжные полки библиотек и читален. На этих полках не могут не стоять томики произведений Расула Гамзатова, ибо стихи его давно уже заняли почётное место в сокровищнице советской литературы».
Елена Николаевская, много переводившая Гамзатова, размышляла о тайне его невероятного успеха:
«Много, очень много его книг (пересчитать их и перечислить — дело библиографов). Они выходили огромными тиражами, на полках и на прилавках книжных магазинов не залёживались, раскупались мгновенно читателями разных возрастов, разных интересов, разного чина — физиками и лириками, академиками и плотниками...
Расул близок им всем — каждый находит в его стихах своё... А в чём тайна поэзии Расула? Наверно, тайна должна оставаться тайной».
Тайна его поэзии, как тайна поэзии вообще, остаётся непостижимой загадкой, сколько бы о ней ни писали. Ни учебники, ни руководства для начинающих поэтов, ни словари рифм не наделят талантом посредственность. Когда автор этой книги спрашивал Расула Гамзатова, в чём разница между талантом и бездарностью, он улыбался и складывал пальцы так, что они почти касались друг друга: «Чуть-чуть».
Вершина далёкая кажется близкою.
С подножья посмотришь — рукою подать,
Но снегом глубоким, тропой каменистою
Идёшь и идёшь, а конца не видать.
И наша работа нехитрою кажется,
А станешь над словом сидеть-ворожить,
Не свяжется строчка, и легче окажется
Взойти на вершину, чем песню сложить
[130].
Он и сам пытался постичь эту вечную тайну: «Если сила таланта в одном зрении, то как же пел лезгинский поэт Кочхурский, которому хан выколол оба глаза? Если сила таланта в богатстве, то как же прославился лезгинский поэт Етим Эмин, бедняк и сирота? Если сила таланта в образовании, то как же Сулейман Стальский сделался “Гомером XX века”, не умея даже расписаться, — вместо своей подписи он прикладывал палец, макнув его предварительно в чернила? Если сила таланта в начитанности и эрудиции, то почему же я встречал столько начитанных, очень эрудированных людей, которые не могли написать ни одной путной строчки?» И добавлял: «Литература — тяжёлый труд, но если бы всё заключалось только в этом, все козлы и ослы давно уже запели бы соловьями».


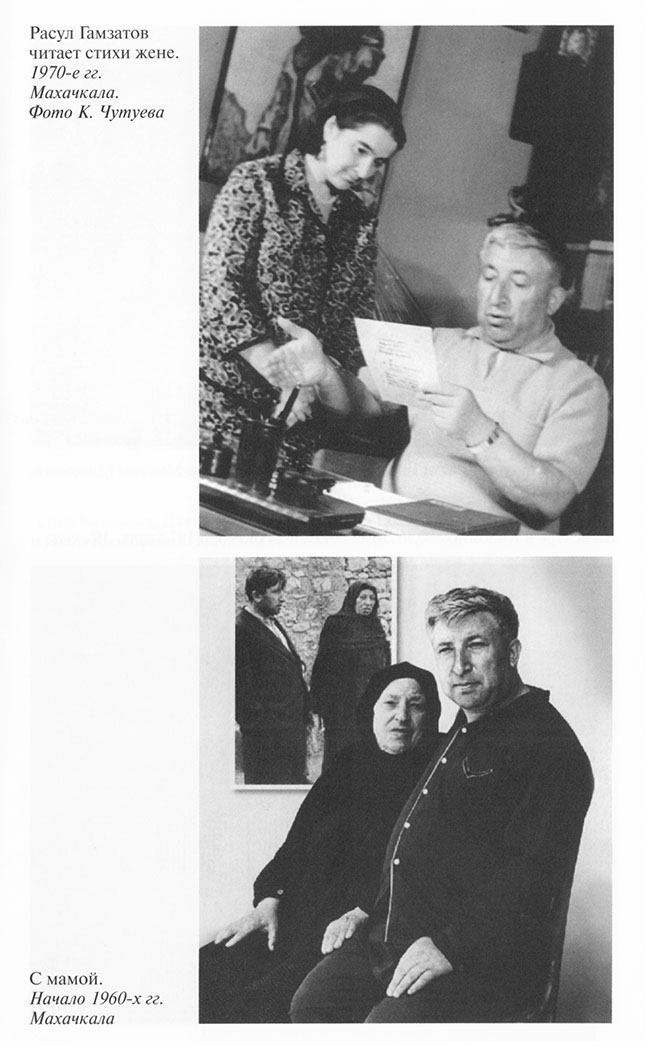







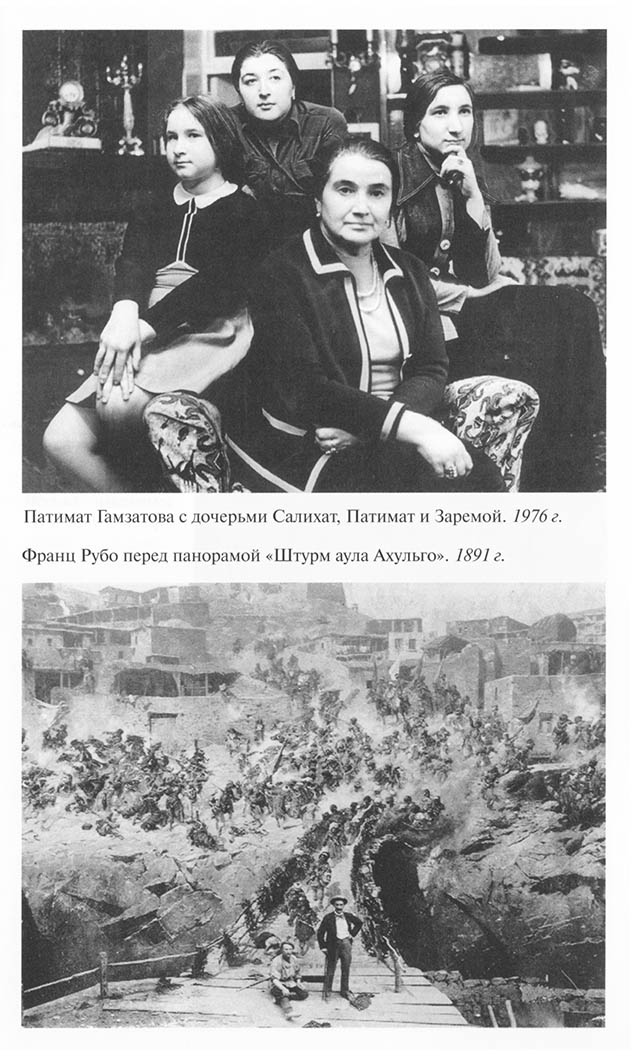

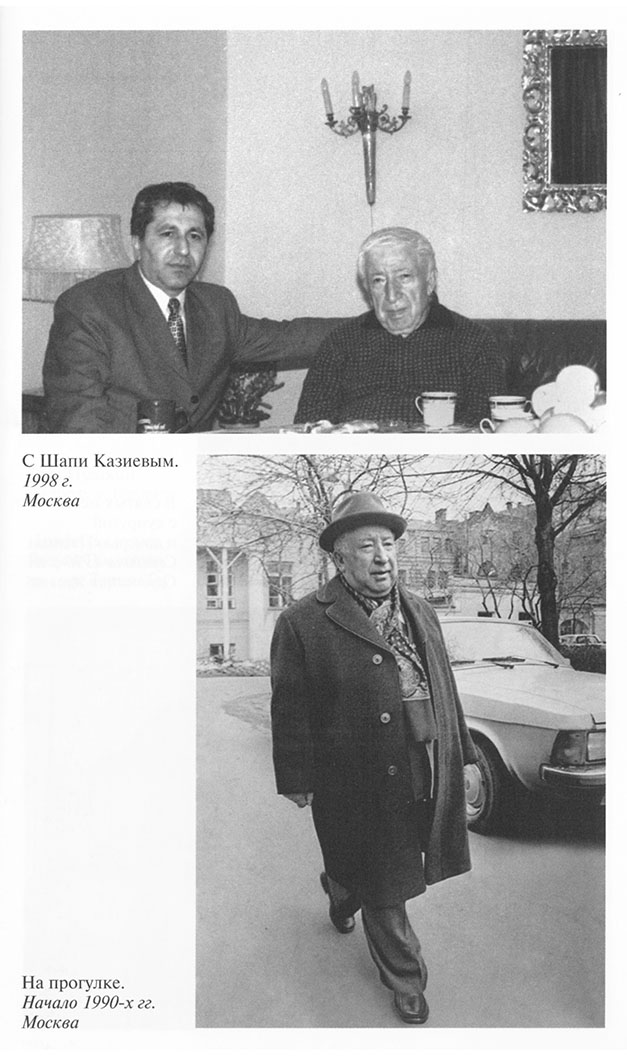


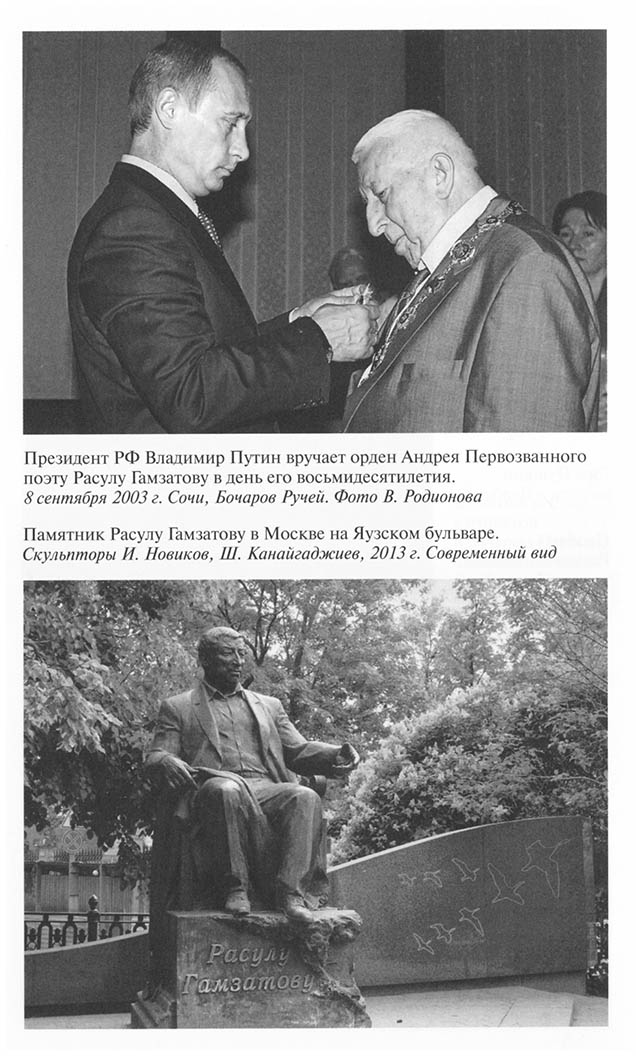
Не помогало даже специальное высшее образование. Литературный институт оставался
alma mater молодых дарований, сотни выпускников получили его дипломы, но это не гарантировало серьёзных творческих успехов. Расул Гамзатов любил Литинститут, открывший ему литературный мир, но иногда и шутил по его поводу: «У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики. Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда, многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи».
БУДНИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
Союз писателей Дагестана располагался в старой части города, там же, где и сейчас — на улице Буйнакского, которая по вечерам превращалась в подобие Невского проспекта. Публика густо дефилировала по красивой улице со старинными зданиями, переходившей в городской приморский парк. С другого конца короткой улицы располагались гостиницы и рестораны. Редакции газет и журналов, издательства и типографии тоже располагались поблизости. Всё, что было связано с писательской деятельностью, включая книжный магазин и библиотеку, было рядом. Творцы могли целыми днями перемещаться между редакциями, а по вечерам отдыхать в ресторане, обсуждая литературные новости и осуждая редакторов, которые норовили сократить каждое произведение, а то и вовсе вернуть рукопись автору.
Трудиться, особенно в летнюю жару, не особенно хотелось. Многие искали вдохновения на пляже, среди красивых туристок. Более опытные добивались творческих командировок на природу, к примеру, для написания цикла стихотворений о передовых чабанах, коневодах, рыбаках или виноделах. Тёплый приём всегда был гарантирован, а заодно можно было устроить свой творческий вечер, кончавшийся подарками и застольем.
Тем не менее работа в союзе кипела. Планы, отчёты, собрания, кустовые совещания, как тогда именовались совещания выездные, литературные вечера. Особое место занимало обсуждение произведений и переводов. Первое имело важную подоплёку, так как после одобрения в писательской организации рукопись могла претендовать на включение в издательский план,
борьба за который не прекращалась никогда. Переводы были не менее важны, они открывали широкую дорогу национальному автору, когда его переводили на русский язык. Кроме того, на переводы и написание подстрочников выделялись деньги, на которые можно было существовать.
Особой частью деятельности Союза писателей было проведение писательских юбилеев. Члены союза относились к этому с особым вниманием. К юбилею, как правило, прилагались награды, звания, издание «избранного», творческий вечер с банкетом и хвалебные статьи в прессе. Для кого-то это было вынужденной необходимостью, для других — поводом напомнить о себе. Но в любом случае заниматься этим приходилось руководителю Союза писателей Расулу Гамзатову.
Юбилейное
Организуем юбилей поэту,
Ведь у него чины, награды, звания.
Одна беда: стихов приличных нету
Для юбилейного изданья
[131].
Ещё одной «скатертью-самобранкой» было Бюро пропаганды художественной литературы, которое направляло писателей в районы Дагестана читать лекции и всячески просвещать население в духе любви к социалистическому реализму. Командировки эти были популярными и обоюдополезными. Труженики встречались с живыми писателями, писатели лучше узнавали жизнь и набирались впечатлений.
При каждом Союзе писателей существовал и Литературный фонд, главной задачей которого была помощь писателям. Литфонд оплачивал санаторное лечение, больничные листы, оказывал денежную помощь и делал много другого на благо писателей. В его распоряжении имелись поликлиники, больницы, дома творчества и даже собственные ателье. В Москве на Кузнецком Мосту была Книжная лавка, где только писатели могли купить книги, бывшие в большом дефиците. Хорошие книги становились своего рода валютой, которую можно было продать или обменять. В результате Литфонд был не менее популярен, чем издательства и редакции с их гонорарами. Но благ на всех не хватало, за ними выстраивались очереди. Талант писателя здесь значения не имел, единственным условием было наличие членского билета.
В дагестанском отделении Литфонда, как и везде, заявления рассматривала комиссия. Бумаги туда поступали с резолюцией Расула Гамзатова.
Резолюция на заявлении в Литфонд
Прошу из соответствующих смет
Подателю помочь деньгами снова.
И нам известно: он плохой поэт,
Но дети литератора плохого
Не знают, что в семье талантов нет,
И просят есть, как дети Льва Толстого
[132].
Работа в Союзе была налажена и шла своим чередом, так что если Гамзатов отсутствовал, по творческим обстоятельствам или государственным делам, то ничего не останавливалось. Поговорка «Не место красит человека, а человек — место» приходилась здесь как нельзя кстати. Сотрудники были только рады — можно было уйти с работы пораньше или устроить небольшую пирушку с приятелями прямо на рабочем месте.
Однако и безоблачной жизнь Союза писателей не была. Однажды его руководителя даже попытались свергнуть. «Переворот» был затеян, когда Расул Гамзатов был в отъезде. Однако этот замысел успеха не имел. Когда похожим образом смещали Хрущёва, никто не возражал, но здесь возразили. «Как мы можем переизбирать нашего председателя в его отсутствие?» — возмутился поэт Нуратдин Юсупов, и его поддержало большинство. Нелепость этой истории заключалась ещё и в том, что отсутствовал Гамзатов потому, что поехал в Москву, чтобы помочь инициатору «переворота» в продвижении его произведения. Поступок человека, которому Гамзатов очень доверял и немало помогал, причинил поэту большую боль.
«Конечно, должность председателя СП не была очень высокой должностью, — говорила Салихат Гамзатова, — но то, что Гамзатов являлся членом Президиума Верховного Совета СССР, нравилось не всем. Программа была понятной: сначала подорвать авторитет человека на родине, а дальше... Не буду рассказывать дальше о развитии событий и о других попытках сместить моего отца, закончившихся неудачей».
Расул Гамзатов смотрел на эти «мятежи» философски. Но однажды не выдержал и ответил, явив при этом всю мощь своего остроумия. Как рассказывают очевидцы, дело происходило в ЦДЛ. За одним из столиков Гамзатов увидел своего «ниспровергателя», который ужинал с главным редактором одного из центральных журналов. Там было принято к печати большое произведение, что, видимо, автор и «обмывал» с редактором. Недолго думая Гамзатов подошёл к их столику и провозгласил тост за редактора, за то, что он неоценимо помогает дагестанской литературе, печатая такого выдающегося, такого талантливого писателя, к тому же близкого друга и соратника Расула Гамзатова. Тост Гамзатова редактора ошеломил, он-то полагал, что его визави и Гамзатов почти враги, и вдруг такое. На следующий день редактор объявил «другу» Гамзатова, что не будет его печатать в журнале. А на недоумённый вопрос «Почему?» ответил: «Не люблю я Гамзатова... И его друзей тоже».
Свергнуть Гамзатова с его поста больше уже никто не пытался. Но была другая напасть, схожая с нескончаемым стихийным бедствием. Многие, видя перед собой сверхуспешного Расула Гамзатова, бросались писать стихи.
«Раньше у нас стихи становились пословицами, поговорками, были у всех на кончике языка, — говорил Гамзатов, — а теперь берут изречение, меткое слово и длинное предлинное стихотворение пишут».
Писали даже те, кто искренне полагал, что писатель отличается от обычного человека наличием пишущей машинки.
Но курьёзами дело не ограничивалось. Расул Гамзатов рассказывал, как однажды к нему явился отцовский кунак, уважаемый человек, с просьбой устроить его сына поэтом. Сын в поэты не годился, но объяснить это горцу было невозможно. Он возмущённо недоумевал, как это сын Гамзата Цадасы, который ни в чём и никогда кунаку не отказывал, не хочет устроить в поэты его сына? Объявив Расулу Гамзатову, что он, видно, зазнался и что он ему больше не кунак, обиженный горец ушёл.
«Таким-то вот образом из-за таланта, вернее, из-за отсутствия его, я потерял хорошего кунака, — писал Расул Гамзатов. — Кунак мой и правда был хорошим человеком, он только не понимал, что никто — ни председатель Союза писателей, ни секретарь парторганизации, ни глава правительства — не может раздавать таланты, как куски баранины, когда горцы усядутся вокруг стола, а курящаяся горячим паром баранья туша уже взгромождена на стол».
Тем не менее в поэты попадали самые неожиданные фигуры. Некоторым даже удавалось выпускать тома своих «нетленок», которые, за неимением спроса, приходилось раздаривать или навязывать всевозможным учреждениям, благо всюду находились приятели или родственники, не смеющие отказать в помощи. Получалось даже зарабатывать деньги, но слава приходить не спешила. Значит, полагали они, нужно выпустить новую книгу, желательно «избранного».
Что делать?
Жена министра вздумала писать
И принесла стихов не меньше пуда.
Что делать? Эти вирши не издать
В сто раз труднее, чем издать Махмуда
[133].
«Была такая жена у одного небезызвестного дагестанского поэта, — писал Расул Гамзатов. — Весь Союз писателей, все издательства и газеты бросало в дрожь при упоминании её имени. Я тоже её побаивался и даже, чтобы задобрить её, повесил у себя в кабинете портрет её мужа. Я думал, она будет довольна и будет обходиться со мной помягче. Но это на неё мало подействовало. Ведь она не получала ни копейки за то, что портрет её мужа висел в моём кабинете.
Однажды она потребовала от издательства, чтобы немедленно был издан сборник стихотворений её мужа. Директор робко возражал, что планы на этот год утверждены, мало бумаги и что они могли бы издать в следующем году...
— Ты бессовестный человек! — кричала разъярённая женщина. — Ты просто боишься, что люди увидят, насколько стихи моего мужа лучше твоих. Вот для чего ты рассказываешь мне сказки о бумаге и планах. О, я тебя вижу насквозь. Я не дам себя провести. Я заставлю тебя издать сборник моего мужа.
С этими словами женщина хлопнула дверью издательства. Через два часа на директорском столе зазвонил телефон. В трубке послышался голос секретаря обкома.
— Ради бога, сделай как-нибудь так, — умолял секретарь, — чтобы эта женщина больше ко мне не приходила. Я не успеваю менять стёкла на своём столе: она разбивает их, стуча кулаком по столу.
Что же получилось в итоге? Выкинули из плана повесть Льва Толстого “Хаджи-Мурат”, а также детскую книгу Гамзата Цадаса. За счёт этих двух книг поставили в план сборник стихотворений мужа воинственной женщины.
Казалось бы, должен наступить мир. Но вскоре разразился новый скандал. Оказывается, в сборник не поместили фотографии поэта.
— Бессовестные люди! — кричала разгневанная жена. — Вы боитесь, что люди увидят, насколько мой муж красивей вас всех! Вот почему вы не поместили фотографии.
— О нет, — ответил директор издательства. — Просто мы не знали, чью фотографию помещать в этой книге: твою или твоего мужа.
— А что, — ухмыльнулась женщина, — ещё неизвестно, стал ли бы он поэтом, если бы не я».
Рассказывал Гамзатов и о писателе, который никак не мог напечататься и стал посылать свои произведения под псевдонимом, вернее — под именем свой жены. Расчёт был на то, что женщинам полагалось особое внимание, в противном случае можно было пожаловаться на редакторов в вышестоящие органы: «Должен сказать, он это сделал не без успеха, хотя успеха в поэзии он не имел, ибо как бы ни кукарекали курица или петух, они не станут соловьями».
Но когда дело касалось талантливых молодых писателей, Расул Гамзатов принимался за дело с особой заинтересованностью.
Мой юный друг, мой продолжатель милый,
Когда умру я, твой земляк Расул,
Сложи стихи, чтоб встал я из могилы
И, успокоенный, опять уснул
[134].
В молодых, подающих серьёзные надежды писателях он видел будущее родной литературы, старался им помочь, делился опытом, внимательно разбирал их первые произведения, рекомендовал в печать. Посылал сотрудников в командировки с целью выявления новых талантов. И регулярно проводил совещания молодых писателей Дагестана, чтобы начинающие свой творческий путь могли узнать друг друга, послушать старших и лучше понять, что литература — это чудесное безбрежное море, в котором им предстояло найти свой неповторимый остров и сделать его частью литературного континента.
«Когда поэт становится поэтом? — вопрошал Гамзатов в беседе с журналисткой Фатиной Убайдатовой и сам же отвечал: — Не тогда, когда его таковым называют литературоведы, а когда далёкий от поэзии человек читает его стихи и проникается всем тем, что создано в словах и написано между строк».
Молодые поэты жаловались на суровых редакторов, которые их не печатали или безжалостно сокращали. Такое случалось, вернее, было правилом. Редкий поэт проскальзывал в это «игольное» ушко без потерь. В литературной жизни случалось всякое. Расул Гамзатов приводил гротескную историю отношений одного аварского поэта с редактором. Поэт принёс в редакцию стихи, газета их напечатала. Но оказалось, что редактор сократил четыре строки.
«Поэт побежал в редакцию.
— Кто зарезал четырёх лучших моих баранов из тех, что я выпустил пастись на просторные луга вашей газеты? Кто сократил четыре моих строки?
Редактор газеты спокойно ответил:
— Я выбросил... Ну и что?
— Зачем ты их выбросил?
— Пришёл срочный материал, не хватало места.
— Но если ты можешь без разрешения поэта выбрасывать из его стихотворения строки, то я тебя самого выброшу сейчас в окно.
У поэта была горячая горская кровь. Он схватил редактора за шиворот, за ноги и действительно выбросил в окно. Дело, правда, было на втором этаже, и под окном была мягкая клумба. На суде поэт говорил:
— Кровь за кровь! Зуб за зуб! Он отредактировал меня, я отредактировал его!
“Отредактированный” редактор, говорят, по-прежнему сокращает стихи (без этого, наверное, не может быть редактора), но всё же он спрашивает теперь разрешения поэтов».
РАСУЛ БЕЗ ЮМОРА — НЕ РАСУЛ
В жизни знаменитостей наступает момент, когда даже сделанная на них карикатура лишь добавляет им популярности. Если на кого-то не делают шаржи, не пишут литературных пародий, то это означает лишь одно — он ещё недостаточно знаменит.
Поначалу Расул Гамзатов не одобрял такого внимания к своей персоне, но друзья уверяли, что это — явное свидетельство успеха, неизбежный атрибут популярности. Тем более что рисунки были добродушные и весёлые, как и сам Гамзатов.
«Есть лица, узнаваемые хотя бы... по многочисленным дружеским шаржам, — писал Евгений Дворников. — Сколько раз видел на рисунках чуть тяжеловатый добродушный профиль, увенчанный великолепным орлиным носом... Рисовальщики прямо-таки обмирают от этой детали, зная необидчивый нрав поэта».
Точно схваченные и с юмором утрированные характерные черты, детали, узнаваемый образ — для мастеров было делом техники и таланта. Когда Кукрыниксы нарисовали карикатуру на Расула Гамзатова, он ответил:
Надпись на карикатуре моей,
сделанной Кукрыниксами
...Смешон. И волосы вразброс,
И славно скальный выступ — нос.
Они сложились на троих,
Мой образ довообразили.
Клянусь, никто правдивей их
Изобразить меня не в силе
[135].
Популярный карикатурист Иосиф Игин, сделавший шаржи на многих знаменитостей, писал в своей книге «О людях, которых я рисовал»:
«Каждая встреча с ним была наполнена обаятельным юмором. В кафе Дома писателей художники и поэты оставляют на стене живописные и стихотворные автографы: шаржи, эпиграммы, афоризмы... Как-то я сказал Расулу, что намерен изобразить его на этой стене.
— В каком месте? — спросил он.
Я показал.
Через несколько дней я пришёл в ЦДЛ с кистями и красками. Но рисунка не сделал. Место на стене было занято стихами Расула Гамзатова». Это были те самые стихи, которые и теперь можно увидеть на стене «Пёстрого зала» — «Пить можно всем...».
Шарж Игин сделал в другой раз. Он изобразил Гамзатова, вернее его лицо, в виде солнца, встающего над Кавказскими горами, вдоль которых скачет джигит. Это была картинка с папирос «Казбек», дополненная фантазией художника.
В Дагестане очень популярны керамические скульптурные шаржи, изображающие Расула Гамзатова. Их автор Ислам Шовкринский изобразил поэта так узнаваемо и весело, что они понравились и Гамзатову.
Говоря о Расуле Гамзатове, люди первым делом вспоминают искромётный юмор, остроумные шутки, весёлые афоризмы. Каждая его речь разлеталась по горам весёлыми птицами — афоризмами. «Расул сказал!» — передавалось из уст в уста, из аула в аул, и все понимали, о ком идёт речь.
Ни одно застолье и теперь не обходится без того, чтобы кто-то не произнёс: «Как сказал Расул...» и чтобы другие не добавили что-то весёлое о Гамзатове. Но затем могут и поспорить, так ли было дело и кто при этом присутствовал. Создаётся впечатление, что Расул Гамзатов сидит с ними за одним столом и произносит свои блистательные тосты. Во всяком случае, присутствие Гамзатова ощущается всегда. И вряд ли найдётся в Дагестане человек, который скажет, что не знает Расула и не расскажет о нём какую-нибудь историю. Счастливчики бережно хранят экспромты и даже стихи, которые посвятил им Гамзатов или хотя бы надписал распечатанный фрагмент из поэмы. Книги с автографами Гамзатова тоже стали особой ценностью. Многие из тех, кто знал Гамзатова, были в те времена комсомольскими работниками. Поэт тоже их хорошо знал: «Комсомольцы — удивительные ребята: работают как дети, а пьют как взрослые».
В ресторанах с Гамзатова не брали денег, поэтому его часто окружали молодые поэты. Чтобы всё же поблагодарить хозяев, он мог взять ручку и написать на стене: «Бух., оплатить!» Это означало, что счёт может быть предъявлен бухгалтерии Союза писателей. Ни одного счёта туда не поступило, а надписи Гамзатова хранятся владельцами ресторанов как реликвии.
Михаил Светлов писал: «У Расула Гамзатова много здорового, свежего юмора. Это юмор не развлекательный, не снижающий лирического накала стихотворения, а, наоборот, повышающий его. Юмор входит в стихи Гамзатова, как молибден входит в сталь». Александр Твардовский подметил особенность юмора Гамзатова: «Чудесным качеством является юмор, обращённый как бы к себе. Это сразу подкупает читателя. Это редкое качество, отличающее настоящий талант».
Но стихами и афоризмами Расул Гамзатов не ограничивался. В нём дремал и артистический талант с пародийным оттенком. Певец и композитор Тагир Курачев вспоминал: «Патимат, его супруга... часто просила мужа показать комедийные сольные номера. И что вы думаете? Он послушно уходил в свой кабинет, переодевался и показывал такие комические миниатюры, что мы просто все со стульев падали от смеха. Он импровизировал на ходу. И вы знаете, мало кто ведь это видел. В его репертуаре были образы дагестанских борцов на ринге, артистов эстрады и многих других персонажей».
Яркая личность Гамзатова была столь самобытна и масштабна, что оставить её без внимания не могли и авторы литературных пародий. Фазиль Искандер написал эпиграмму, в которой было немало правды:
Его сиятельство
Расул
Издательство
Раздел, разул.
Поэт Александр Иванов в 1970-х годах вёл на Первом канале телевидения юмористическую программу «Вокруг смеха». В программе выступали и поэты-пародисты, в том числе и сам Иванов. Популярность её была столь высока, что многие мечтали попасть в герои передачи, потому что сразу становились известны всей стране. Гамзатова знали и без пародий, а написанное Ивановым было лишь своеобразным отражением его невероятной популярности.
С успехом демонстрирует поэт
Всю многогранность творчества богатого:
Уж невозможно отыскать предмет,
Где не было бы надписи Гамзатова.

Речь шла о «Надписях» Расула Гамзатова, кратких изречениях, которыми по горской традиции украшают люльки, кинжалы, трости, кувшины и прочие предметы. Мудрые и весёлые «Надписи» Гамзатова были широко известны. Он следовал в этом традициям, а его надписи сами стали традицией, их теперь можно увидеть на самых разных сувенирах — от бурок до тростей.
Владлен Бахнов, друг Расула Гамзатова по Литинституту, тоже не остался в стороне. Не станем приводить его сочинение, куда веселее получилась история про самого Бахнова, о котором Расул Гамзатов написал в «Моем Дагестане»:
«Московский литератор Владлен Бахнов прихрамывает и ходит с палкой. Уезжая в Дагестан на каникулы, я обещал привезти ему красивую палку работы прославленных унцукульских мастеров. Приехав домой, я первым делом написал знакомому резчику в Унцукуль о своей просьбе. Резчик был старый мастер, кунак моего отца, и можно было надеяться, что палка будет что надо. Не знал я только, какую надпись сделать на этой палке.
В это время в центральной газете появилась большая статья на литературные темы. Называлась она “Дубинка вместо критики”.
“Ага, — подумал я, — вот какая надпись будет кстати на палке, подаренной московскому литератору”.
Через две недели палка была готова. Это была лучшая из всех унцукульских палок. На нужном месте красовались следующие слова:
“Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики.
От Расула Гамзатова ”.
Вообще-то унцукульские палки продаются в магазинах сувениров в Махачкале, Кисловодске, Пятигорске, а то и в горных аулах на базарах. Спустя несколько месяцев во всех этих местах появились вдруг палки с одинаковой надписью. “Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова”. Вероятно, удивлялись курортники, покупая сувениры с такой надписью. Но всех больше удивился я сам.
Оказывается, старый мастер, который делал самую первую палку, не знал ни слова по-русски. Он механически перевёл на своё изделие то, что я ему написал на бумажке. Он подумал, что если поэт пожелал иметь на палке именно эти слова, значит, в них заключена какая-нибудь большая мудрость. Тогда почему же этим словам не красоваться и на всех других палках?
Старого мастера винить нельзя. Он наивно доверился поэту и был в своей доверчивости добрым и искренним. Но не бываем ли иногда на него похожи и мы, опытные литераторы?»
Жизнь Расула Гамзатова обрастала легендами, многие из которых имели вполне реальную основу.
«Значительная личность всегда легендарна, — писал Юрий Борев. — Де Голль, например, начинал нервничать, если о нём неделю не рассказывали легенд, анекдотов, не публиковали в газетах карикатур. В этих случаях генерал сетовал: “Я теряю популярность. Французский народ меня забывает”. Расулу Гамзатову не на что сетовать. Такая личность, как он, не могла не стать легендой, не могла не обрасти преданиями».
Легенды и анекдоты о Гамзатове всегда полны юмора. Гадис Гаджиев писал:
«Говорят, что однажды, провожая гостей, Расул в вестибюле гостиницы искал швейцара, чтобы тот вызвал такси. Обращаясь к солидному седовласому человеку в кителе, с красными лампасами, он сказал:
— Швейцар, срочно такси!
— Я не швейцар, Расул Гамзатович, я адмирал флота!
— Извините, не разглядел. Но тогда хотя бы катер!»
Подобных анекдотов, шуток, экспромтов ходит великое множество. Гамзатов и сам их иногда пересказывал. Этот жанр обрёл такую популярность, что если рассказчик забывал, где он услышал какой-нибудь анекдот, то мог запросто приписать его Гамзатову. Тогда даже не очень удачный анекдот воспринимался куда лучше, потому что за именем Гамзатова вставала могучая смеховая культура.
С именем, вернее, с фамилией Гамзатова связана ещё одна анекдотичная история. Будто бы, когда Моссовет выделял ему квартиру, поэт попросил, чтобы улица, на которой он будет жить, имела название, которое можно было бы когда-то безболезненно поменять. Якобы Гамзатов имел в виду возможное, после его смерти, переименование улицы в свою честь. Тогда трудно было представить, что всё случится ровно наоборот, что скоро названия московских улиц начнут менять на прежние, исторические. Первую квартиру Гамзатов получил на проспекте Калинина, другую — на улице Горького. Обоим улицам позже вернули их прежние названия. А проспектом Расула Гамзатова назвали центральную улицу Махачкалы — бывшую улицу Ленина.
«Горский эпикуреец, остроумец Гамзатов и в стихах, и в жизни являл свободу духа, независимости и вольнодумства, — писал Яков Козловский. — Одно стихотворение “О ворах” чего стоит в этом отношении! А ведь написано задолго до нынешней вседозволенности. И таких, бросающих вызов сильным мира сего, у него немало. И в жизни за словом в карман не лезет. Будучи с Бахусом на дружеской ноге, не он ли, похожий на искрящийся костёр, неоднократно становился душой компании, застолья, даже официальных церемоний. Кто из бывших “думцев” мог сравниться с ним в этом?
На приёме в американском посольстве шёл напряжённый разговор со взаимными укоризнами о причинах того, что обе стороны никак не могут прийти к согласию по важной проблеме. Взял слово Гамзатов:
— Вся беда в разнице времени... — Хозяева и гости с любопытством притихли... — Когда у вас наступает вечер, вы начинаете искать истину в вине, а мы, — он положил руку на бутылку с боржоми, — трезвы ещё, как эта горная вода, ибо у нас утро. Когда же у вас появится на небе луна, мы расслабляемся, осушив первые рюмки, а вы только проснулись и в ваших головах ни облачка. Потому, хоть для меня это будет очень тяжело, предлагаю на определённый срок у вас и у нас ввести сухой закон.
Раздался смех, аплодисменты. Диспут обрёл примирительные черты. Рассказами о кавказском гаерстве моего друга я мог бы наполнить не одну пороховницу».
Юмор, самоирония, остроумие, яркие экспромты делали даже самую серьёзную речь Гамзатова занимательной и человечной. Это ощущали на себе все, кто знал поэта. Его дочь Салихат вспоминала:
«Папа прилетел в Танзанию в составе какой-то делегации, и у него заболело сердце. На следующий день всё прошло, но доктору очень хотелось посмотреть страну вместе с делегацией, и она попросила папу, сославшись на плохое самочувствие, взять её в составе делегации сопровождающим врачом. По его просьбе она поехала в составе группы, а потом написала ему: “Я всегда знала, где Вы находитесь: где были Вы — было больше всего людей, и был слышен смех”. Она прислала папе фотографию, сделанную в это время, и написала слова благодарности: ведь если бы не он, она не смогла бы увидеть страну, в которой работала. Она очень верно заметила эту особенность: там, где был папа, — там всегда были и смех, и радость... Любой ситуации он мог придать яркие краски, перевернуть её. Это было действительно великое свойство — взглянуть иначе, не зацикливаться на своём».
Когда в Москве говорили «Дагестан», все вспоминали Гамзатова. Когда говорили «Расул Гамзатов», вокруг поднимались дагестанские горы. Поэт и сам был подобен Дагестану, — сколько по нему ни ходи, сколько ни вчитывайся в Гамзатова — всегда открываешь что-то новое и удивительное.
«Он вообще очень интересный человек, находчивый и отчаянный, — рассказывал Яков Козловский в беседе с Евгением Некрасовым.
— Отчаянный?!
— Я вчера перечитывал свои дневники и нашёл один эпизод... Были мы в Группе советских войск в Германии: Гамзатов — тогда член Президиума Верховного Совета, Ян Френкель и Яков Смоленский, замечательный чтец. Я почти не пью, Ян Френкель имел привычку налить большой фужер, выпить — и всё. Смоленский тоже бражничеством не увлекается. Но в каждой воинской части нам устраивали большое застолье — им самим хотелось погулять, они устали. И вот сопровождавший нас капитан мне говорит: “Боюсь я: вы гуляете, а шифровки-то идут!”
Я пересказал этот разговор Расулу. Говорю, кончать надо это дело, мы же людей подводим. Ночью мы приезжаем в штаб какой-то дивизии, и Гамзатов подходит к дежурному офицеру: “Немедленно соединить меня с Брежневым!” У того глаза на лоб. Листает какой-то журнал с телефонами, а Гамзатов: “Отойдите, я сам наберу”. И набрал, я слышу гудки. Он говорит: “Все спят, только я один работаю!” — и удаляется. Выходим из штаба, я бросаюсь к нему: “Ты с ума сошёл?! Это же телефон правительственной связи!” “Конечно, — говорит Расул. — Кто бы мне поверил, если бы я стал звонить по обычному? А так завтра они будут знать, что я звонил Брежневу, и прекратят посылать свои шифровки”».
АВАРСКИЙ СОНЕТ
Многое в творчестве Расула Гамзатова стало новым для дагестанской литературы. Он обогатил её новыми образами, формами и жанрами. Афористичные надписи и письмена перекликались с изящными сонетами и элегиями, созывая на поэтическое пиршество культурные традиции Востока и Запада.
«Русский язык стал для нас вторым родным языком, — писал Расул Гамзатов. — Русскую литературу мы воспринимаем как собственную литературу. Русская литература помогла нам писать лучше, сильнее, писать точнее, конкретнее, выразительнее излагать мысли и чувства. Мы стали мыслить шире, стали чувствовать глубже. Она нас познакомила с замечательными образцами неизвестных нам жанров. Горская поэзия приобрела новые черты: её музыкальность обогатилась словесной живописью, умением создавать выразительные, реалистические картины».
Гамзатов многое делал в литературе горцев впервые, одной из форм его новаторства стала поэзия в жанре сонета и элегии.
Стихотворение — стихов творенье.
Такого ремесла на свете нет.
А что же есть? Есть горы в отдаленье,
Дожди и снегопады, тьма и свет.
На свете есть покой и есть движенье,
Есть смех и слёзы — память давних лет,
Есть умиранье и возникновенье,
Есть истина и суета сует,
Есть жизни человеческой мгновенье
И остающийся надолго след.
И для кого весь мир, все ощущенья
Поэзия — тот истинный поэт.
Но как же пишутся стихотворенья?
На сей вопрос я сам ищу ответ
[136].
Потребность сказать ещё несказанное, выразить невыраженное, исповедальность очищающей душу поэзии всегда оставались манящим горизонтом, к которому он стремился. Он верил, что для поэзии нет ничего невозможного. А новые формы — это новый духовный опыт, а не количество строк, катренов или терцетов. Каждый замысел, чувства, переживания требовали своей особой формы.
Когда вышла книга сонетов Расула Гамзатова, началась яростная дискуссия. Когда-то и в русской литературе сонетов не было, но затем они стали её органичной частью. Сонеты писал ещё Василий Тредиаковский в XVIII веке, их писали Александр Пушкин, Афанасий Фет, Александр Блок, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Иннокентий Анненский, Анна Ахматова, Максимилиан Волошин, Илья Сельвинский и многие другие поэты. Особенную популярность сонеты обрели после перевода Самуилом Маршаком сонетов Шекспира, за эти переводы он даже получил Сталинскую премию в 1949 году.
«Когда мои сонеты были опубликованы в аварской газете “Красное знамя”, они вызвали ряд недоумённых вопросов, — вспоминал Расул Гамзатов. — ...Напоминая мне о вековых строгих законах сонета, цитируя толкование этого термина в словарях, ссылаясь на Петрарку и Шекспира, меня спрашивают: не выглядят ли мои сонеты на аварском языке как горский кинжал на европейском костюме?
Мой силлабический аварский стих — он не имеет в конце строки рифм. Его крепость, напевность и созвучие основаны на других средствах, его архитектура имеет другую базу.
Новшество рифм, созвучий в конце строк многие “новаторы” хотели внести в аварский стих под влиянием поэзии других народов, других литератур. Но эти подковы горским коням не подошли, лошади падали вместе с всадниками. Сколько бы плёткой ни ударяли, они и с места не сдвинулись. Это было насилие. Насилие противопоказано поэзии».
Элегии, сонеты
И поэмы —
Всё разработка
Той же самой темы.
Мои стихи —
Как их ни назови —
Диплом
И диссертация любви
[137].
«Когда-то я написал книгу восьмистиший — тогда восемь строк были соразмерны моему замыслу, — говорил Гамзатов. — На этот раз в четырнадцати строках мне было удобнее высказать всё, что я чувствую. В этой “сакле” мне было уютно со своими мыслями.
Когда вышла моя книга “Письмена” со всеми восьмистишиями, четверостишиями и надписями, многие критики заметили в них использование каких-то восточных форм. Я утверждаю, что Восток тут ни при чём. Своих “детей” я должен одевать сам.
Долгие годы свои мысли, раздумья и наблюдения я заносил в тетрадь. Я думал, что они мне пригодятся потом, когда я буду писать большие поэмы. Но потом, когда я всё перечитал, то понял: зачем писать поэмы, когда эти отрывки живут как самостоятельные произведения!
Восьмистишия и четверостишия — это не традиционно аварский стих, как некоторые хотят представить. Но в каждом стихотворении бывают особенно запоминающиеся две, четыре или восемь строк. И мои “Письмена” составлены как бы из этих запоминающихся строк придуманных, но не написанных мною стихотворений. Когда я поделился замыслом своей предстоящей книги и прочёл первые наброски, друзья сказали: да это же аварские сонеты! Действительно, по сути, по композиции и даже по теме мой замысел, показалось мне, ближе всего к форме сонета. И я решил написать сонеты средствами аварской поэтики...
Брак аварского стиха с европейским сонетом — это брак по любви, и в нём не было никакого насилия. Здесь я на своём коне и у своей калитки...
Когда Марине Цветаевой, отдавая должное её стихам, французы выражали сожаление и недовольство тем, что она пишет не свободным стихом, а в рифму, она ответила: “Разве это я пишу, народ писал и пишет рифмами”.
Так же и меня могут спросить: почему вы не пишете в рифму, а делаете главный упор на аллитерацию? И я должен ответить: разве я это делаю, это народ делает!..
При переводе, перенося формы поэзии одного языка на другой, нельзя нарушать формы и законы этого, другого языка. Я по опыту знаю, что это непременно потерпит крах. У нас уже пытались “Евгения Онегина” перевести онегинской строфой. Стих получился, а Пушкина не получилось... Поэтому для меня главное было — сохранить дух и характер сонетов. Конечно, хорошо было бы соблюсти и форму. Но ведь и погода в разных местах бывает разная!
Есть на Северном Кавказе всемирно известный артист Махмуд Эсамбаев. Он танцует танцы разных народов. Но он носит и никогда не снимает с головы свою чеченскую папаху. Пусть разнообразны мотивы моих стихов, но пусть они ходят в горской папахе».
Объяснить не значит убедить. Сонеты Расула Гамзатова оказались среди его лучших произведений, а вопрос так и остался спорным.
Жизнь, что ни день, становится короче,
И кредитор наш, не смыкая глаз,
Неся в своём хурджуне дни и ночи,
Всё, что должны мы, взыскивает с нас.
Пишу ль, любуюсь высью ли лазурной,
Всему ведёт он, скряга, точный счёт,
А жизнь — река, и над рекою бурной
Мосты он за моей спиною жжёт.
А я прошу: заимодавец грозный,
Бери назад земные все дары,
Лишь час свиданья с милой, час мой поздний
Не обрывай внезапно до поры.
Но катится моя арба с горы.
Мой кредитор мольбы не слышит слёзной
[138].
Гамзатова ещё не раз будут спрашивать о его новшествах в аварской поэзии. Болгарский журналист Любен Георгиев писал об одной из таких дискуссий, в которой Расул Гамзатов терпеливо объяснял, что тут к чему, но когда кто- то спросил, зачем поэт обращается к таким «старомодным жанрам», как элегия и сонет, он не выдержал:
«— Элегия не может быть старомодной, как не может быть старомодной любовь! Сонет никогда не устареет, как не устареет мысль!»
«Напоследок я замечаю, — продолжает Георгиев, — что почти при каждом разговоре (особенно на публике) Расул Гамзатов неизменно спрашивает, не переборщил ли он со своими рассуждениями, не лучше ли перейти к стихам, чтобы показать нам, что его занимало в последнее время, чему он отдавал бессонные ночи. Встреча с поэтом — это, прежде всего, встреча с его произведениями, говорил он. Я возражал, что стихи мы можем прочесть и сами, нам интересно получше познакомиться с их автором, посмотреть на него вблизи. Но он не был бы Расулом Гамзатовым, если бы не знал, что ответить:
— Было бы странно, если бы пианист, выходя на сцену, начинал рассказывать о себе и мудрствовать, вместо того чтобы играть на фортепьяно».
— Элегия — сестра Сонета,
Как ты попала на Кавказ?
— Сюда опального корнета
Сопровождать,
я помню это,
Был с неба отдан мне приказ...
— А какова твоя примета?
Отличье в чём заключено?
— Про то у Пушкина и Фета
Ты мог бы выяснить давно...
[139]
Владимир Огнёв размышлял о новаторстве в творчестве Расула Гамзатова:
«В предисловии ко второму изданию “Кавказского пленника” Пушкин писал, что успехом обязан он “верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов”. Но скорее этот успех объясняла привычно романтическая, “байроническая” складка поэмы.
Новый, “экзотический” материал (Кавказ) в привычной форме байронической поэмы и не мог не вызвать успеха: новое вино, влитое в старые мехи — самый распространённый случай широкой популярности. Но большой художник только в короткие переходные периоды попадает на подобное скрещение старого и нового. Он активно ищет новую форму. И чем крупнее дарование, тем решительнее и смелее рвёт оно стесняющие оковы...
Это закон искусства. Подвластно ему и творчество Расула Гамзатова. В начале своего творческого пути Расул, умело используя новое содержание, часто отливал его в привычные жанры традиционного аварского стиха.
Формы эти складывались из несколько усовершенствованной письменной поэзией горской народной песни.
В песнях горцев всегда присутствовало эпическое начало — балладность, элементы диалога. Теперь диалогическая форма становится важнейшей, получает развитие до развёрнутого спора.
Расул Гамзатов обогатил и развил этот приём лирически, ввёл лирический образ автора. Это изменило и форму традиционного стиха — диалога... Подобную трансформацию, качественное видоизменение претерпевают в творчестве Расула Гамзатова многие стилистические приёмы горских песен: уподобление, аллегория, параллелизм образов, авторская речь».
ФИЛЬМ «ГОРЯНКА»
О Расуле Гамзатове было снято несколько документальных фильмов, теперь настала пора художественных фильмов по его произведениям. В 1975 году «Мосфильм» начал работу над картиной «Горянка» по поэме Гамзатова. Режиссёр Ирина Поплавская сняла до этого несколько фильмов со знаменитыми актёрами. Два фильма были сняты по произведениям Чингиза Айтматова «Джамиля» и «Я — Тянь-Шань» по повести «Тополёк мой в красной косынке».
Сценарий был написан Расулом Гамзатовым при участии Ирины Поплавской и не раз переписывался. Это обычная практика в кино, когда каждый день что-то меняется. В зависимости от количества изменений в титрах фильма вместо «по поэме» может оказаться «по мотивам поэмы», иногда это идёт на пользу. Всё зависит от режиссёра. В фильме сюжет тоже был несколько изменён, в основном это касалось финала, который, в отличие от поэмы, остался открытым. Но сам сюжет, идея поэмы сохранилась — поэт звал к барьеру отжившие обычаи, калечившие судьбы и мешавшие развитию общества.
В фильме снимались профессиональные актёры и артисты народных театров. Консультантом по этнографии стала супруга поэта Патимат Гамзатова, она же предоставила и украшения из своего музея, которые были необходимы по сюжету.
Автор этой книги учился тогда на сценарном факультете Института кинематографии и проходил на фильме «Горянка» практику. Натурные съёмки шли в древнем живописном ауле Чох в Дагестане. Работе сопутствовали обычные в таких экспедициях трудности и неожиданности. Если в кадр попадали электрические провода, их приходилось снимать, оставляя Чох на некоторое время без света. Актриса, снимавшаяся в эпизодической роли, отказывалась в третий раз бросать на каменистую улочку свой кувшин, доставшийся ей от бабушки, оставляя растерянного режиссёра без ещё одного дубля. Порой не могли добудиться главного героя после минувшего застолья. Но работа всё же шла, вызывая большой интерес жителей села, которые помогали киногруппе во всём. Местный переводчик творил невероятное, когда объяснял пожилой горянке сверхзадачу её небольшой роли. Ирина Поплавская ставила задачу обстоятельно, подчёркивая особенно важные детали. То, на что у неё уходило минут десять, переводчик доносил до актрисы за десять секунд. И всё получалось. Удивлённому режиссёру он объяснял чудо своего перевода тем, что аварский язык очень богатый, а слова необычайно содержательны. Он не знал, что практикант из ВГИКа и сам аварец. Но практикант молчал о том, что сверхзадача от Поплавской уместилась у него в несколько фраз: «Надо выйти оттуда и пройти сюда, посмотреть туда и сделать это».
Когда материал фильм был снят, настала очередь монтажа. По каким-то причинам к работе подключился Сергей Бондарчук, который к тому же читал за кадром стихи Расула Гамзатова. Премьера фильма состоялась в 1977 году в московском Доме кино, а затем и в Дагестане.
Это был первый опыт художественного кино по произведениям Гамзатова, но не последний.
Сколько было там беды своей,
И мужья ревнивые, со стоном
Сжав в ладонях серебро ножей,
Подходили к горским Дездемонам.
Сколько их прошло за сотни лет
Там, в горах, почти на крыше мира,
Гамлетов, Офелий и Джульетт!
Было всё, но не было Шекспира...
И когда трагическим концом
Завершался краткий путь Джульетты,
Речь о ней не песнею — свинцом
Кровники вели, а не поэты
[140].
«ДРУГОЙ ХОЧУ Я МУЗЫКИ И СЛОВА»
В 1976 году вышли «Избранные стихи» Расула Гамзатова в переводе на английский язык. Переводчиком стал Питер Темнеет, который переводил русскую литературу, от Пушкина до Есенина, и поэзию национальных авторов. Темнеет и Гамзатов познакомились ещё в 1957 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Англичанин Темпест и его жена — болгарка были тогда аккредитованными в Москве журналистами. Увидев иностранцев, которые спорили, стоит ли покупать сувенирный будильник, Гамзатов купил его сам и подарил им. С тех пор они стали друзьями и бывали в гостях друг у друга.
Разумеется, в этом были и политические интересы, но для авторов это была, наверное, единственная легальная возможность донести своё творчество до иностранного читателя, возможность очень редкая.
Современная мировая литература сложилась таким образом, что в ней, за небольшими исключениями, доминируют авторы, пишущие на английском языке. Этому способствует и книжный бизнес, следующий за интересами основной массы читателей. Огромны книжные рынки Китая, Индии и Латинской Америки, но литература на этих языках не оказывает серьёзного влияния на мировые тенденции. В этой ситуации российским авторам очень сложно обрести за рубежом массового читателя.
Расула Гамзатова переводили на десятки иностранных языков, переводили и других замечательных писателей. Но перевести и издать — это ещё половина дела. Без постоянных усилий в продвижении отечественных авторов
рассчитывать на серьёзный успех не приходится, особенно когда эта задача ложится на плечи писателей.
Другое дело, когда зарубежные издатели и переводчики сами проявляют инициативу. Турецкий писатель и переводчик Мазлум Бейхан был очарован книгой Расула Гамзатова «Мой Дагестан»:
«У меня не было ощущения, что я читаю книгу на иностранном языке. Мне казалось, что всё это написано на турецком и в какой-то степени о нас, турках... Хорошая книга всегда рассказывает о человеке... Как-то друг прислал мне шахматные журналы и шахматную доску. Раскрываю доску, а там “Мой Дагестан”! Знал друг, что прислать: читал не отрываясь. Тут же начал работать над переводом. О шахматах и думать забыт. Как приняли книгу читатели? Могу сказать, что тираж в восемь тысяч экземпляров разошёлся очень быстро, и сейчас встал вопрос о переиздании».
Самым известным в мире произведением Расула Гамзатова стала песня «Журавли» на его стихи. Её и сегодня можно услышать в самых разных странах. Песня, в которой отразилась печаль всего человечества, нашла отклик в людских сердцах.
Если переводчики открывали Расула Гамзатова своим народам, то астрофизик Н. Черных решил познакомить с поэтом вселенную. 9 марта 1977 года, работая в Крымской астрофизической обсерватории, Н. Чёрных открыл новый астероид между орбитами Марса и Юпитера и назвал его «Гамзатов». Астероиду был присвоен официальный номер 7509.
В том же году были изданы «Собрание сочинений» в двух томах, «Таинственность» и в который уже раз переиздан «Мой Дагестан». Счёт своим книгам Расул Гамзатов давно потерял. Но каждая новая книга отражала нового Гамзатова, непривычного, ищущего, сомневающегося. Некоторые поэты издавали очередные книги, всего лишь по-новому составив их содержание из старых стихов. Гамзатов стремился быть новым в творчестве, но с каждым годом это становилось труднее. Было уже много написано, достаточно, чтобы «забронзоветь» в ореоле живого классика. Но Гамзатов по-прежнему следовал своей «поэтической программе»:
Другой хочу я музыки и слова,
Что не было досель изречено.
Его беспокоило, не остался ли он в прошлом, не отстал ли от бурного течения времени, ведь народилось уже новое поколение его читателей. Примут ли они его? Поймут ли? Почувствуют ли волнение, читая его стихи?
«Меня пугает не столько старость физическая, сколько старость души, — говорил поэт в интервью Владимиру Коркину. — Поэт не может постареть душой. Для него это смерть... Мне кажется, одна из причин неясной тоски, которую мы подчас испытываем во “взрослом” состоянии, — утрата свежести чувств. Душевная усталость, которая приходит с годами, убивает дар удивления и, в конечном счёте, способность к творчеству».
Но вдохновение усталости не знает. Оно легко отрывало поэта от грешной земли, завораживало, одаривало нежданным откровением, новым ощущением красоты, высоты, света. Непостижимая природа этого таинства властно отстраняла политику, государственные заботы, житейские неурядицы, разочарование в людях. Оставалась лишь сама поэзия, всё остальное теряло смысл, которого, быть может, и вовсе не было. Во всём этом была тайна, разгадать которую творцы пытались с начала веков.
Смеёмся или хмурим брови,
Для нас в любые времена
В раздумии, в поступке, в слове
Таинственность заключена...
Таинственна несхожесть лиц,
И души многих поколений
Пленяет таинство страниц,
Которые оставил гений...
Но в мире следствий и причин,
Спускаясь в тайные глубины,
Не смог добраться ни один
До истины, до сердцевины
[141].
Поиски смысла бытия Гамзатова сродни душевным исканиям больших поэтов. Не случайно стихотворение «Таинственность» Расула Гамзатова созвучно пастернаковскому «Во всём мне хочется дойти...».
Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протёкших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...
Раблезианское наслаждение жизнью и суровая, до аскетичности, требовательность к своему творчеству рождали поэзию, которая заглядывала вдаль, увлекала читателя с первых строк и больше не отпускала.
«Быть всегда новым всегда важнее и куда труднее, чем притворяться нестареющим юношей, — говорил поэт. — Это всё равно будет симуляцией, которая так или иначе даст о себе знать и в творчестве».
Столетья таинства полны,
И не исчезнет жизнь, покуда
Есть ощущенье новизны,
И удивления, и чуда
[142].
ГЛАВНЫЙ ТАМАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Среди множества портретов Расула Гамзатова есть несколько, где он изображён с винным рогом или рюмкой и непременно с доброй улыбкой. Вино — не от пристрастия, просто тосты его стали почти народным фольклором. А улыбка — от радости встречи с друзьями.
Тамада по традиции ведёт стол, но Расулу Гамзатову достаточно было просто сидеть за общим столом, чтобы оказаться в центре внимания. А если он сам брался за дело, то любой стол превращался в праздник юмора и веселья.
Застолья с тамадой Гамзатовым отозвались во множестве воспоминаний. Слова Гамзатова передаются в самых разных вариациях.
Когда в стране ввели «сухой закон», все ждали, что скажет Гамзатов. Он сказал, явившись в ресторан ЦДЛ: «Не беда. Будем приносить в себе». Или: «Сухому закону — сухое вино». Закон свирепствовал, но закрасить на стене «Пёстрого зала» знаменитое изречение Гамзатова «Пить можно всем...» никто не посмел.
Пока в стране менялись вожди и их периоды, как «застойный период» Леонида Брежнева, Гамзатов неизменно пребывал в периоде «застольном», в котором, собственно, стола было два — писательский и ресторанный.
«Расул Гамзатов не был бы истым кавказцем, — говорил Корней Чуковский, — если бы самые торжественные, величавые оды не завершались у него неожиданной шуткой, как у заправского мудреца-тамады, произносящего застольные тосты».
Тосты он произносил блистательные, эти шедевры остроумия мгновенно обретали облик пословиц или анекдотов, которые разносились быстрее сообщений ТАСС.
Кто пил — ушёл, кто пьёт — уйдёт.
Но разве тот бессмертен, кто не пьёт?
[143]
«Весельчак, жизнелюб и мудрец, — писал Юрий Борев. — Щедрый и гостеприимный человек. Лучший тамада Кавказа и его окрестностей. Помню один из тостов, поднятых Расулом в застолье за меня: “Выпьем за Юру Борева. У него было много возможностей стать подлецом, но он ни разу не воспользовался этими возможностями”».
Даже когда Расул Гамзатов выступал с высоких трибун или сидел за столами президиумов, возникало ощущение, что это не совещание или заседание, а весёлое дружеское застолье.
Наполнив кружки, мудрствовать не будем
И первый тост такой провозгласим:
«Пусть будет хорошо хорошим людям
И по заслугам плохо — всем плохим!»
[144]
Гамзатов говорил, что у поэтов с виноделами много общего: «Стихотворение, как и вино, должно перебродить в душе, должно выдержаться. И содержится в хорошем стихотворении какой-то таинственный, радующий душу хмель. Этим вино и поэзия очень близки друг другу».
Гамзатова называли эпикурейцем, в его образе жизни видели раблезианство и гедонизм. Но более всего он был гуманистом. Уважение к человеческой личности, его праву на свободу, счастье, независимое развитие своих природных способностей стали основой гуманизма эпохи Возрождения. Теперь гуманизм сам нуждался в возрождении, и Гамзатов способствовал этому своей жизнью и поэзией. Его вера в то, что поэзия способна озарять, очищать душу, была волшебным эликсиром его творчества. Наслаждение жизнью рождало наслаждение поэзией Гамзатова.
А может, к столу не из бочек
Нацежено это вино,
А было добыто из строчек,
Меня опьянивших давно...
[145]
Его способ «оживления» жизни бокалом древнего напитка ни для кого не был секретом. В том числе и для его супруги Патимат, которая прилагала героические усилия, стараясь оградить поэта от каких бы то ни было возлияний. Их запрещали и врачи, но слишком много было у Гамзатова друзей, полагавших, что бокал вина или рюмка коньяку поэту только на пользу. Лечащий врач Расула Гамзатова невролог Тажудин Мугутдинов разделял опасения жены поэта, но он же вспомнил и случай с Расулом Гамзатовым, когда это обернулось спасением для его коллеги. Что-то печальное случилось в его жизни, поэт запил, дело дошло до обкома партии, где ему решили объявить строгий выговор. По тем временам это было серьёзным наказанием с непредсказуемыми последствиями. Гамзатов его защитил: «Да, он пьёт. Но он же со мной пьёт!»
Михаил Захарчук передал рассказ Владимира Солоухина:
«Расула я очень много переводил. Кроме “Моего Дагестана” — стихи разных лет, сборник “Сказания”, прозаические вещи... Поэтому часто гостил у Расула. Каждый раз он мне оказывал такой “горячий приём”, что удивляюсь, как я потом и ноги уносил. Но ко мне он ни разу не захаживал. Всё дела не позволяли. Ведь ни один советский писатель не тянул на своём горбу стольких общественных нагрузок, как этот горец. И всё же однажды я его затащил в свою квартиру на Красноармейской. Открываю бар, а там у меня на восьми полках напитки со всего мира собранные, и говорю: “Выбирай, дорогой Расул! Что твоя душа подскажет, то мы с тобой сейчас и выпьем”. Он прищурил свой орлиный горный взор и сверху донизу внимательно оглядел разноцветные ёмкости с забугорным пойлом. Потом виновато так произнёс: “Слушай, Володя, тут у тебя одни иностранцы. Я их не знаю, они меня не знают. Ты лучше поставь мне обыкновенной русской водки”».
Расул Гамзатов старался избегать больших компаний, слишком много времени они отнимали. И мог ответить, когда поднимался очередной тост за его здоровье: «Этот тост меня и погубил».
Но совсем избегать компаний не получалось. Если в республику наведывались именитые гости, иностранные делегации, открывался съезд или проходил какой-нибудь праздник, обойтись без Расула Гамзатова было невозможно. Разумеется, после торжеств следовал банкет, на котором Гамзатов был главной звездой. Тут уж и супруга была бессильна: интересы республики, политики, культуры и другие очень важные обстоятельства делали своё дело.

Периодически Гамзатов говорил всему этому «нет!», особенно когда чувствовал, что страдает не только он, но и его поэзия. Но даже отречение от вина порой превращалось в свою противоположность, как в стихотворении «Прощай, вино!»:
Ну нет, не повернётся мой язык
Тебя порочить, как другие могут.
Прощай! С тобою вместе я привык
Друзей встречать и провожать в дорогу.
Я знаю цену твоему огню!
Боржом с нарзаном не согреют взора...
Но ты не знаешь, сколько раз на дню
Из-за тебя пылала в доме ссора!
Прощай, вино! Сменять тебя на чай?
Пить не вино, а сладкий чай из кружки —
Как молодой любви сказать «прощай!»
И без любви уйти в мужья к старушке!..
[146]
Мятущаяся душа поэта жаждала отдохновения от славы, аплодисментов, застолий.
«Мне кажется, ваша поэзия стала грустнее. Если это так, то что произошло, Расул Гамзатович? — спрашивал его Владимир Коркин.
— Что, и вы представляли меня до сих пор беззаботным тамадой-эпикурейцем, баловнем судьбы, успеха? Я благодарен жизни, судьбе, подарившей мне и радость, и муку поэзии. Но могу ли я быть настолько самонадеян, чтобы не сомневаться, что так будет всегда? В общем-то, это понимание приходит с годами, полными всяческих жизненных и житейских открытий. Право на поэзию доказывается не однажды и на всю жизнь, а всю жизнь, и каждый раз заново».
Хвалю уменье пить вино.
Для жизни, может быть,
Ценней уменье лишь одно —
Совсем вина не пить
[147].
«ВАМ БУДЕТ ТРУДНО РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ...»
У Расула Гамзатова право на поэзию было. Его новая поэма «Берегите матерей» это впечатляюще подтвердила.
Святой теме матери он посвятил немало стихов, но она не переставала волновать поэта. Будто осталось что-то недосказанное, недостаточно поэтически выраженное.
Закончив долгую работу над поэмой, Гамзатов показал её, вместе с письмами детей и матерей, своему переводчику Козловскому, но тому показалось, что поэзия уступила теме. Гамзатов не согласился: «Кинжал в руках разных людей может убивать человека и в то же время спасать ему жизнь, смотря в какие руки попадает. Так и тема, смотря кто к ней обращается. Кроме того, нельзя назвать собственную мать темой. Это живая душа, большая судьба, предмет любви и вдохновения. Одно слово “мама” заставляет нас вздрогнуть, почувствовать тепло и свет».
Юлия Нейман иначе почувствовала поэму и замечательно её перевела.
Над плитой могильной спину горбя,
Я взываю к сердцу сыновей:
— Знайте, люди, нет страшнее скорби,
Чем расстаться с матерью своей!
Мать уйдёт, в душе оставив рану.
Мать умрёт, и боли не унять...
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира, берегите мать!
[148]
В исповедальной поэме «Берегите матерей» Гамзатов говорил, пел, кричал о том, что волновало людей, что их мучило и не давало покоя. Он писал о матерях, которые уходят от нас, а вместе с ними гаснут иллюзии о грядущем счастье. И приходит понимание, что счастье — это возможность прильнуть к самому родному, поцеловать усталую руку, заглянуть в добрые глаза той, что подарила тебе жизнь. Писал о радости и печалях, песнях матери и наставлениях отца, о погибших братьях, о поэзии, любви, красоте жизни и бесчеловечности войн.
Поэма была опубликована в журнале «Знамя», а вскоре затем прозвучала по радио. И произошло то, чего не ожидал даже привыкший к славе Расул Гамзатов.
«В печати на неё ещё не появились отклики критиков. Так что широкий круг читателей не имел возможности познакомиться с поэмой. Тем не менее я был удивлён тем большим потоком читательских писем, которые поступили в редакцию журнала, в радиокомитет и лично мне сразу после публикации поэмы.
Хотя пишу стихи и поэмы не первый год, такого большого интереса разных незнакомых людей к моему творчеству я давно не наблюдал. Поэма вызвала отклики у людей разных поколений, разных профессий, языков, даже у таких, которые раньше стихов никогда не читали, поэзией не интересовались и, как они сами признаются, моего имени никогда не слышали».
Произошло нечто похожее на то, как неожиданно быстро стала знаменитой песня «Журавли». Расул Гамзатов как будто прикоснулся к трепетным струнам человеческой души, к переживаниям, которые не перестают волновать людей. Поэма нашла широкий эмоциональный отклик.
Валентин Осипов приводит щемящий отклик Виктора Астафьева:
«Глубокоуважаемый Расул Гамзатович!
Я потерял мать, когда мне шёл седьмой год — она плыла с передачей в красноярскую тюрьму, где сидел мой папа, как сын подкулачника, и лодка опрокинулась, мать затащило под сплавную баржу и зацепило косой за скрепления. Она висела там девять дней, пока не оторвало косу...
С тех пор я боготворю слово МАМА, содрогаюсь, когда обижают матерей, не почитают их, и негодую, когда вяло, плохо и слащаво пишут о них.
О матери, как и о Родине, надо заработать, не заслужить, а именно заработать право писать. А то у нас пишут на эти святые темы все кому не лень, считая их выигрышными, стало быть, верно оплачиваемыми...
Но женщина при любом строе — женщина, и счастье её неподсудно, политике недоступно, счастье её в продлении жизни, — есть дети и в них её счастье, смысл жизни, политика, власть её превыше всех властей, вместе взятых; назначение творить жизнь и добро.
Как прекрасно, как высоко и величаво Вы написали о матери! Я, кажется мне, довольно-таки неплохо знал Вашу поэзию и теперь, наверное, знаю, как Вы долго шли к ней, к этой поэме, от отдельных стихотворений, мыслей, через смерть матери, стало быть, через страдание, к самой высокой песне, с почтением и коленопреклонением.
Только так! Только так возможно писать об этом! Много, очень много в мировой литературе написано о женщине и матери — Ваша поэма “Берегите матерей” будет в ряду высочайших поэтических достижений на эту вечную, немеркнущую тему, тут даже и пророком не надо быть, просто внимательным читателем.
Я плакал о своей матери, давно уже истлевшей в земле, читая Ваши величавые и такие доступные моему сердцу слова, которые звучали всю жизнь и во мне, а выразить мои чувства, да и мои ли только, дано было Вам!
Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо ещё и за то, что, взявшись говорить о матери и вечности, Вы не размельчились на политиканство, так унижающее нашу литературу, поднялись выше националистических ветров, скорее, поветрий, сказавши, что мать для всех едина, как Бог...
Вам много напишут и скажут много добрых и прекрасных слов за Вашу поэзию, за этот гимн матери. Вам будет трудно работать дальше, ибо, взяв такую высоту, преодолев её, надо взбираться ещё выше — таков закон жизни, следовательно, удел творца!
Я пишу Вам из махонькой вологодской деревеньки, сплошь почти населённой старенькими вдовами, большей частью вдовами военных лет. Я кланяюсь Вам от имени их и желаю ихними добрыми устами того, чего они желают всем добрым людям: — Дай Вам бог здоровья!
Позволю себе обнять Вас, как бывший солдат и человек, так рано познавший сиротство.
Земной Вам поклон!»
Из писем, которые получил Расул Гамзатов после выхода поэмы, можно было составить книгу — книгу любви, светлой печали, книгу гимнов матерям мира.
«Мать — вечная тема поэзии, — отозвался Чингиз Айтматов. — Невозможно даже представить, сколько прекрасных слов сказано об этом. Но вот Расул нашёл новые, необыкновенные слова. Он не боялся повториться. И оказалось, что его гимн матери зазвучал в общем резонансе мировой лирики. Это, конечно, произошло потому, что Гамзатов открыл их в своём сердце, сердце поэта и человека, опалённого любовью и нежностью. В том, с какой потрясающей силой он излил свои переживания, — непреходящая современность искусства в целом... Своей поэзией он утверждает величие подлинной человечности как нравственной основы бытия. Он славит Мать как первородный источник и начало всего сущего, как надежду и веру в бессмертие всего человечества».
Вот и ныне, мама, я стою
Пред холмом, понурясь виновато,
С болью вспоминаю жизнь свою,
Всё, чем огорчал тебя когда-то...
Если мать хоронит сыновей,
Плачет мать и слёз унять не может.
На могиле матери своей
Сын молчит. И сына совесть гложет.
В 1980 году за поэму «Берегите матерей» Расул Гамзатов был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
«ПРИЛЕТИМ В СОФИЮ И — КОНЕЦ ТВОЕЙ СЛАВЕ»
Расула Гамзатова иногда называют всемирно известным поэтом. Для этого есть немало оснований. Его перевели на множество языков, ему присуждались международные литературные награды. Но сам Гамзатов относился к этому более сдержанно. Когда Далгат Ахмедханов спрашивал поэта о том, как складываются его отношения с читателями за рубежом, Расул Гамзатов отвечал:
«Думаю, что не следует обольщаться: я не так популярен в мире, чтобы мог ответить на такой вопрос. К тому же нельзя относиться к зарубежным читателям с меркой, привычной для нас. За границей на встречу со своим любимым национальным поэтом могут явиться всего пять-десять человек, а в нашей стране на неё придут тысячи. И потом — самое главное — они постольку мои читатели, поскольку хотят узнать о Дагестане и читают о нём. Им интересен он, а не Расул Гамзатов. Впрочем, меня знают в литературных кругах и, возможно, уже через них... Буду безмерно рад, если хоть немного послужил своему родному краю».
В Болгарии он чувствовал себя как дома. Болгары знали русский языки много переводили Расула Гамзатова. В культурах Болгарии и Дагестана, горных стран, было много похожего. Казалось, одень болгарина в костюм горца — и не отличишь. Похожими были и пища, и вино. География, природа на всё накладывали свой отпечаток. В Болгарии у Расула Гамзатова было много друзей, там он был не просто известен, он был популярен. Но Яков Козловский, похоже, этого не знал, иначе не сказал бы Гамзатову, когда они собрались лететь в Болгарию: «Прилетим в Софию и — конец твоей славе».
Но он ошибался, о чём и поведал в воспоминаниях: «Не успели мы приземлиться в Софии, как повторилось то, что происходило в Москве: его узнавали совершенно незнакомые люди. Явно раздосадованный, он вздохнул: “Я Гамзатов, я не Райкин”».
Расул Гамзатов гордился, что стал первым мусульманином, награждённым болгарским орденом Кирилла и Мефодия. На вручении ордена случилась занятная история. Давая интервью после вручения, Расул Гамзатов вдруг заявил, что не признает советско-болгарской дружбы. Посол Дмитрий Жулев был ошеломлён, но Гамзатов, выдержав драматическую паузу, всё прояснил: «Я признаю только советско-болгарское братство!»
Дипломатический казус был исчерпан, не успев начаться, а слова Расула Гамзатова восторженно растиражировали газеты.
Ещё через несколько лет Расул Гамзатов стал лауреатом премии имени Христо Ботева — классика болгарской литературы. Этого поэта Гамзатов любил. Он говорил о нём в беседе с болгарским журналистом Любеном Георгиевым после вручения премии:
«Я несколько раз был в Калофере, в доме Ботева. Это сокровенное место для каждого болгарина и для каждого иностранца, связанного с Болгарией. Как скромно жил в детстве Ботев! Я написал в книге музея: “Я недолго был здесь, но запомнил это место на всю жизнь”. Особенно тронул меня барельеф матери поэта перед порогом дома. Я вспомнил стихи Ботева о матери. Меня поражает целеустремлённость этого человека. Поражают и его стихи — двадцать стихотворений всего-навсего! И я подумал: зачем мы пишем так много? Для него каждое стихотворение — событие. Каждое стихотворение имеет свою историю, связанную с жизнью Ботева и с жизнью Болгарии. Трогательна простота и внутреннее величие этого человека».
Поездки по миру были самые разные — с делегациями советских писателей, делегациями Верховного Совета, от Международного комитета по Ленинским премиям, на конференции стран Азии, Африки и Латинской Америки, корреспондентом от центральных газет и по многим другим поводам.
Мы нарасхват — и ездим, и летаем,
Торопимся с приёма на приём,
А список наших дел неиссякаем,
И мы себе поблажки не даём.
Визиты, совещания, дебаты,
Каскады тостов, череда речей,
Сенаторы, министры, депутаты,
Толпа секретарей и толмачей.
Под пышною парламентскою кровлей,
За длинными столами разместись,
Толкуем о культуре и торговле,
Крепим взаимовыгодную связь
[149].
В беседе с Далгатом Ахмедхановым поэт рассказывал о странах, в которых побывал. О местах, которые открывали ему другие миры, самобытные культуры. О том, что ему не нравилось, что возмущало:
«Необразованность, чванство, самонадеянность. Высказываюсь так решительно потому, что часто был свидетелем того, как беспардонно выносились людьми суждения о вещах, совершенно им незнакомых. Многого там не читают и многого не понимают, однако судят обо всём с видом непреложных оракулов. Наблюдать это очень неприятно. И ещё: скупость и голод. Скупость богачей и голод миллионов».
Там, где парни открыто целуют девчонок,
Вспоминал я горянку в ауле своём,
Что, встречая меня, проходила смущённо
И поспешно лицо прикрывала платком...
[150]
Расул Гамзатов посещал и ближневосточные страны, где проживали дагестанские диаспоры — мухаджиры, оказавшиеся на чужбине по многим причинам, большей частью после Кавказской войны XIX века. Там выходили его книги, и автора приглашали на их презентации.
Когда в Сирии вышла на арабском языке книга «Мой Дагестан», Гамзатов приехал туда по приглашению Союза арабских писателей. Люди помнят этот визит и теперь. Потомок выходцев из Дагестана режиссёр Акрам Бадрахан вспоминает: «Расул Гамзатов провёл вечер поэзии в Дамаске, следующий состоялся в городе Хомс. Присутствовали самые известные писатели, поэты и художники Сирии. Затем дагестанская диаспора привезла его в село Дерфуль, где, в основном, жили дагестанцы. Поприветствовать знаменитого земляка собрались все жители села. Встреча превратилась в праздник дагестанской культуры, были старинные танцы и песни, бережно хранимые поколениями мухаджиров. Расул Гамзатов читал на аварском свои стихи, и его понимали. Затем его угостили хинкалом, какой и теперь готовят в Дагестане. На глазах у людей были слёзы».
Селение Дерфуль, о котором шла речь, теперь лежит в развалинах. Война в Сирии не пощадила вторую родину дагестанцев.
Гамзатов отправлялся в путь послом Дагестана и возвращался полномочным представителем человечества, каждый раз убеждаясь, что главное на нашей маленькой планете — мир, любовь и добро. Не понаслышке зная, что такое война, он пламенно призывал человечество избавиться от этого разрушительного порока. Как гражданин мира, он находил слова, опирался на духовные основы, близкие всем людям планеты. И тогда глубоко личное в его поэзии становилось явлением общечеловеческим.
«Когда времена смягчились, — вспоминал писатель Расул Магомедов, — я и сам однажды оказался в составе официальной дагестанской делегации, посланной в Кашмир для установления культурных контактов. В беседе с главой правительства штата всё никак не удавалось объяснить ему: что это за страна — Дагестан и где она находится. Он то путал нас с Афганистаном, то предполагал нас в Средней Азии... И тут в отчаянии, как утопающий за последнюю соломинку, ухватился за имя нашего поэта — и недаром! Наконец-то недоумение на лице моего собеседника сменилось понимающей улыбкой: “О! Расул Гамзатов!” Дальше разговор пошёл уже легче — ведь мы земляки этого известного в Индии человека».
Но были и совсем другие впечатления, о которых Расул Гамзатов позже рассказывал в интервью Далгату Ахмедханову:
«В таких поездках лучше понимаешь свои достоинства и недостатки. В своей последней поездке мне было особенно больно. Раньше нас любили или ненавидели, но с этим можно было спорить. Теперь же я наблюдал холодное равнодушие и даже презрение. Получается, что пальцы на руке у нас есть, а кулака нет — не сжимаются пальцы в кулак, хотя и должны, в этом всё дело. Как представитель страны я стал за рубежом неинтересен, хотя, как Гамзатов, может быть, и да. Надо такое положение исправлять».
ОСТРОВ ЖЕНЩИН
Поэт Махмуд провозгласил себя царём любви, Гамзатов стремился сотворить свою землю обетованную. Однажды он услышал, что в Мексике есть Остров женщин —
Isla de las Mujeres. Романтичное название запало ему в душу, и воображение поэта принялось наделять этот неведомый остров всем, чего Гамзатову не хватало в окружающем мире. Гамзатов представил себе остров, на котором властвует любовь, где не может быть войны, где добро окончательно победило зло.
Не знают здесь ни танков, ни орудий,
Здесь навсегда запрещены бои,
Здесь только от любви страдают люди,
Все раны тоже только от любви
[151].
Созданная из поэтических грёз Республика Любви обретала свои законы, беспредельно расширяла территорию, возносила над миром свои чудесные знамёна, на которых было начертано «Влюблённые всех стран, соединяйтесь!».
Когда в составе парламентской делегации Расулу Гамзатову довелось посетить Мексику, он хотел лишь одного — увидеть свою мечту — Остров женщин.
Мексика покорила Гамзатова свой яркой культурой. Женщины вокруг напоминали ему знакомые образы: горянок, Анны Ахматовой, Галины Улановой.
Ещё звучат анапесты и ямбы.
Но вот по серебру озёрных вод
Под пенье скрипок, в переливах рампы
Крылатая Уланова плывёт.
Но Мексика его и опечалила, когда поэт увидел, сколько потеряла эта древняя цивилизация от нашествий конкистадоров.
Его отговаривали ехать на отдалённый Остров женщин, говорили, что там нет ничего интересного, но он своего добился.
Смотрите все! Мы наконец у цели.
В тумане раннем, словно в облаках,
К нам шествует мадонна Рафаэля,
Нетленная, с младенцем на руках.
В прибрежных кущах перекличка птичья,
Песок в солёных брызгах и росе.
Глаза потупив, донна Беатриче
Ступает по песчаной полосе.
Остров оказался небольшим островком, чуть больше аула Цада. На нём не пели серенад, не было слышно смеха, в глазах аборигенов читалась вековая печаль. Люди попали сюда, спасаясь от завоевателей. А однажды, когда все мужчины ушли в море на ловлю рыбы, разразилась свирепая буря, погубившая рыбаков и их судёнышки. Женщины ещё долго жгли по ночам костры, надеясь, что их мужья, братья, женихи увидят свет и смогут вернуться. Но они не дождались.
Гласит молва, что женщины иные
Окаменели от печали долгой
И постепенно превратились в скалы,
Стоящие над бездною морской...
О берег, с яркой сказкою несхожий,
О вымысел неподтверждённый мой,
Как мне вернуться с этой скорбной ношей
К рабочему столу, к себе домой?..
«Я вспомнил печальных болгарских партизанских вдов, вспомнил шахты, в которых погибли сыновья многих польских матерей, вспомнил леса и поля Белоруссии, где матери до сих пор ищут могилы своих детей, — рассказывал поэт Любену Георгиеву. — И тогда мне захотелось сказать своей поэмой — мы не должны допустить, чтобы наша планета стала Островом женщин!»
Радужная идиллия, созданная творческой фантазией поэта, столкнулась с жестокой реальностью. Увидев в этом предостережение для всего мира, Гамзатов взывал:
Я прибегаю к помощи эфира,
Взываю к людям: — Не щадите сил,
Чтоб шар земной как добрый Остров Мира
Сиял среди бесчисленных светил.
«Сюжет “Острова женщин” повторяет известную в романтическом искусстве коллизию-конфликт между возвышенным миром поэтической мечты и миром действительным, — писала исследователь творчества Расула Гамзатова Чакар Юсупова. — ...В поэме возникают образы исторических лиц — Колумба, испанских королей Фердинанда и Изабеллы, генерала Энрике Кортеса, реальных людей, корреспондента ТАСС, президента Мексики, деятелей культуры и искусства, легендарных женщин и образы вымышленные... Картины далёкого прошлого легко перемежаются с эпизодами современной жизни, возникают вновь, сопоставляются, сравниваются, сменяются поэтическими раздумьями и размышлениями, лирической экспрессией».
Однако мечта о стране любви, вера в то, что это и есть единственно достойная людей романтичная держава, не покидала Расула Гамзатова. К этой идее он возвращался снова и снова. О том же и его стихотворение «Хочу любовь провозгласить страною».
Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн её строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою...
Хочу, чтоб все людские племена
В стране Любви убежище просили
[152].
С каждой новой книгой Гамзатова подданных его поэтической державы становилось всё больше. Если бы все, ставшие добровольными «кавказскими пленниками» его таланта, подали друг другу руки, мир обрёл бы чудесный меридиан любви и братства.
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Как члену Комитета по Государственным премиям, Расулу Гамзатову доводилось участвовать в дискуссиях о будущих лауреатах. В 1981 году на премию номинировался фильм Татьяны Лиозновой «Мы, нижеподписавшиеся». Картина была снята по наделавшей много шуму остросоциальной пьесе Александра Гельмана, которая шла во многих театрах, в том числе и во МХАТе.
Действие происходило в купе поезда, на котором возвращалась комиссия, отказавшаяся подписывать акт о приёмке нового хлебозавода из-за небольших недоделок. Здесь же оказывается и главный герой, пытающийся убедить комиссию подписать нужные бумаги. Он прилагает отчаянные усилия, применяет сомнительные приёмы, готов пойти на всё, чтобы получить нужные подписи. Но, как выясняется, он хочет спасти не столько завод, сколько честного человека, своего начальника, которого непременно снимут с работы, если акт не будет подписан.
В фильме отразилась назревавшая в обществе необходимость перемен. Люди устали от лицемерия, от партийных указаний, от конформизма и лжи, пропитавших общество. Выбор между добром и злом становился не таким простым, как о том привыкли писать в газетах. Фильм волновал, беспокоил, порождал опасные для застоявшегося общества вопросы.
Несмотря на рекомендации «сверху», обсуждение проходило весьма бурно. Фильм было велено исключить из списка претендентов, но Расул Гамзатов с этим согласен не был. Писатель Дмитрий Мамлеев, в ту пору заместитель главного редактора газеты «Советская культура», вспоминал:
«Несколько раз Гамзатов брал слово, но по результатам голосования оказался в меньшинстве. Кто-то из именитых членов комитета пытался успокоить Гамзатова.
— Расул, ты проявил принципиальность...
— Принципиальность у нас есть, а вот справедливости не хватает.
Много раз поэту, перед которым были открыты все двери, удавалось остановить несправедливость, защитить человека, но случилось и так, что даже он был бессилен».
Но поэт оставался поэтом и облекал свои горестные размышления в стихи.
Учёный муж качает головой,
Поэт грустит, писатель сожалеет.
Что Каспий от черты береговой
С годами отступает и мелеет.
Мне кажется порой, что это чушь,
Что старый Каспий обмелеть не может.
Процесс мельчанья человечьих душ
Меня гораздо более тревожит
[153].
Нижеподписавшимися тогда были все: писатели подписывали свои произведения, руководители подписывали приказы, органы власти — законы и указы. Возможно, кто- то и испытывал угрызения совести, отправляя, к примеру, в ссылку академика Андрея Сахарова — правозащитника и будущего нобелевского лауреата, однако система продолжала работать по-старому, наращивая обороты, но теряя эффективность. Ремонту она не поддавалась, а заменить было нечем. Это сказывалось на всём, в том числе и на литературе, что весьма заботило Расула Гамзатова. Он говорил, отвечая на вопросы Далгата Ахмедханова:
«Как председатель правления Союза писателей Дагестана я забочусь о количестве, а как литератор — о качестве. Жизнь — борьба противоречий. Наличие хороших изданий объясняется работой хороших писателей. Но плохими изданиями их не воспитаешь. Так замыкается круг. И не мне решать, кто хорош и кто плох. Писателя судят читатели. О многих, что сверкали вчера, ныне и не вспоминают, а те, что были в тени, сегодня читаемы и почитаемы... Об Анне Ахматовой говорили, что она далека от народа, оказалась же она гордостью нашей поэзии. Зощенко, мол, не писатель, а его читают и перечитывают. И Цветаева сегодня лучшая среди лучших, и Пастернак, подаривший отечественной литературе Шекспира. А хулители их забыты. Нет, эту проблему решает только народ... Писать — не значит быть поэтом. Быть читаемым — вот задача».
Главный человек страны генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев тоже стал невероятно читаемым, написав, или, как говорят, лишь подписав созданные из его мемуаров книги «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина». Их, вольно или невольно, читала вся страна, изучали студенты и школьники, исполняли на Всесоюзном радио и ставили по ним фильмы. За эти книги Леонид Брежнев получил Ленинскую премию по литературе. Автор книгами гордился и с удовольствием дарил их роскошные издания, разве что творческие вечера не устраивал. Но кто сегодня помнит эти книги? Молодёжь, даже читающая, их не знает, вряд ли помнит она и самого автора. Время — суровый судья, особенно в литературе.
Однако пример был заразителен. Чиновники пошли в литературу, вернее — обрушились на неё. Это напоминало угрозы пьяного подпоручика Дуба из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»: «Вы все меня ещё не знаете, но вы меня узнаете!» Писательские организации не знали, что делать с этой волной чиновничьей литературы, среди которой попадались и таланты, но общий поток был угнетающе безликим. Но книги эти издавались, а авторы требовали премий и прочих литературных регалий. Это стало явлением повсеместным.
Расул Гамзатов говорил в беседе с Луизой Ибрагимовой: «Можно написать одну такую книгу, как “Дон Кихот”, и стать писателем для всех времён и народов. Можно написать всего тридцать семь стихотворений, как Бараташвили, и стать классиком грузинской литературы. У прекрасных горских поэтов Батырая и Махмуда произведений наберётся на один томик стихов. У некоторых нынешних “классиков” выходят пухлые собрания сочинений, а поэзии в них на тощую книжицу.
Мы привыкли к тому, что солидные литературные премии захватывают должностные лица. Раньше с гор приходили в литературу и науку, как некогда Ломоносов с далёкого Севера пришёл в Москву. Теперь в литературу и науку спускаются с вершин руководящих постов, используя положение и связи. Бороться с этим трудно. Может быть, это под силу только истинному искусству. Посредственность была, есть и будет. Творческий процесс посредственности напоминает мне самогоноварение: сами пишут, сами пробивают в издательствах, сами читают. Вообще-то я наших писателей разделяю на четыре группы. Первые — пишут хорошо вначале, им дают звания, премии, посты. Таким образом, создают все условия, чтобы они не писали вообще. Вот живой родник “мёртвых душ” литературы. Вторые — сначала пишут плохо, потом хорошо. Здесь опасна поспешность категорических оценок. Третьи — пишут плохо в начале и в конце. Единственное, в чём им не откажешь, — в завидном постоянстве. Четвёртые пишут хорошо всегда. Но талант редкость. На мой взгляд, у истинных писателей нет спадов и подъёмов, но есть, как у художников, разные периоды: голубой, розовый, чёрно-белый. У Тютчева были разные периоды, но плохих стихов не было.
Дореволюционные горские поэты не жили на литературные труды. Сегодня нередко ещё книги издаются по телефонным рекомендациям. Это привело к расцвету конъюнктуры, к заигрыванию с “модными” темами на злобу дня. Как председатель правления Союза писателей Дагестана, я вижу, что борьба с халтурой пока безрезультатна, ибо дети посредственности хотят есть так же, как и дети гения. С этим нельзя не согласиться».
О будущем своих произведений Расул Гамзатов не беспокоился, но его, конечно же, волновало: что из них останется, а что забудется? Он мечтал добавить к богатой аварской поэзии «хотя бы три камушка», но возникало ощущение, что его творчество изменило, усовершенствовало культурный код целого народа.
МАЛЫМ НАРОДАМ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ПОЭТЫ
Сомнения поэта, его неудовлетворённость собой — чувство благородное, беспокойное и плодотворное. Приближавшийся шестидесятилетний юбилей Расула Гамзатова это подтвердил. Самым волнующим событием той поры стал авторский вечер во Дворце спорта «Лужники».
Он не был уверен, что огромный стадион заполнится зрителями, но поклонникам таланта Расула Гамзатова опять не хватило мест.
Дочь поэта Салихат вспоминала, что уговорил Гамзатова провести этот вечер Виль Головко. Это был известный режиссёр, работавший в Союзгосцирке, а затем ставивший в Лужниках грандиозные празднества, в том числе — открытие XX Олимпийских игр. Он любил поэзию Гамзатова и был близок к дагестанской культуре. Супругой Головко была Алмаз Гаджикурбанова — дочь легендарного канатоходца, одного из создателей уникальной труппы «Цовкра». Алмаз, как и шесть её сестёр принимали участие в выступлениях уникальной труппы, которую знали во всём мире.
«Головко смог убедить папу, — писала Салихат Гамзатова, — и администраторы Лужников тоже говорили, что билеты были раскуплены с необычайной быстротой. На этом вечере, кстати, папа высказал замечательный экспромт, который много цитировали. На вопрос: “Как вам удалось достичь таких высот?” — он ответил: “Наоборот, я родился в горах, и мне пришлось спуститься”».
Гамзатова просили читать на аварском языке, люди хотели услышать первородную музыку аварской поэзии, которую они знали по переводам.
О книга любви, я тебя не один написал,
Сложить мне тебя помогли ни перо, ни чернила.
Тебя написала любовь, в ней — начало начал,
А эту любовь мне горянка одна подарила...
Когда бы на свете её отыскать не сумел,
Ты, книга любви, оказалась бы тоньше тетради.
Я имя её на обложке поставить хотел,
Вверху, над своим, написать справедливости ради
[154].
«Когда тебя читают земляки, когда народ приходит на твои вечера, когда заполняются многотысячные Лужники, — говорил Расул Гамзатов, — два чувства властвуют над тобой: признательность и ответственность. Люди пришли к тебе — спасибо им, говори с ними честно, неси правду, зови к добру. Поэт достигает своей цели только тогда, когда, склонясь над его строкой, читатель думает: “Здесь и мои мысли, и мои чувства, здесь я сам”».
В газетной статье о вечере в Лужниках Дмитрий Мамлеев писал:
«...Во Дворец спорта пришла рабочая молодёжь и убелённые сединами ветераны минувшей войны; в зале можно было встретить первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и Чрезвычайного представителя Организации освобождения Палестины в Москве Мухаммеда аш-Шайера, горских студентов и Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Уругвая Родиса Арисменди, известного египетского поэта лауреата международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Абдуррахмана аль-Хамиси, члена Политкомиссии ЦК Коммунистической партии Чили Володю Тейтельбойма и советских учёных, инженеров и медиков, артистов.
— Три венка надежды, любви и дружбы, — сказал на вечере Расул Гамзатов, — я привожу в Москву. Первый — к Мавзолею Ленина, самого великого и человечного из людей, второй — к могиле неизвестного и всем известного солдата, который уничтожил зло нашего века, и третий — к памятнику Пушкину...
Председательствовал на вечере Мустай Карим, верный друг и поэт настоящий, как написал о нём Расул Гамзатов. Стихи аварского поэта читали друзья-переводчики Елена Николаевская и Яков Козловский, Владимир Солоухин и Юлия Нейман, Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, Яков Хелемский и Юнна Мориц. Прозвучали и хорошо знакомые всем песни, написанные на слова поэта его друзьями-композиторами, тоже пришедшими на встречу, — Игорем Лученком, Эдуардом Колмановским, Павлом Аедоницким, Оскаром Фельцманом, Яном Френкелем... Их исполняли и авторы, и артисты — Вахтанг Кикабидзе, Иосиф Кобзон, Виктор Вуячич... Стихи поэта прозвучали в исполнении Якова Смоленского и Фаины Графченко. О встречах с поэтом и его творчестве рассказали Михаил Ульянов, Юлия Борисова, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Виталий Севастьянов...
Расул Гамзатов читал на аварском языке Пушкина, Лермонтова, Блока и Маяковского, отвечал на записки из зала, а в заключение вместе со своими земляками Муи Гасановой, Тагиром Курачевым, Хайбуллой Магомедовым и Магомедом Омаровым спел аварскую песню о Дагестане, о том, что это не малая страна, а великая, так как у неё миллионы друзей в Стране Советов.
Многих наград, званий и отличий удостоен выдающийся советский поэт. На вечере к ним прибавилась ещё одна — Почётный знак Советского фонда мира, который вручил Расулу Гамзатову чемпион мира по шахматам, председатель Советского фонда мира Анатолий Карпов.
Вечер, организованный Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР, прошёл с большим успехом. Это был яркий праздник поэзии, мира и дружбы народов».
Сбор от вечера Расул Гамзатов передал в Советский фонд мира.
Сам же юбилей поэт отмечал в Дагестане. К тому времени вышли новые книги. Гамзатова наградили международной итальянской премией «Лучший поэт XX века» и очередным орденом Ленина.
В гости к Гамзатову приехали его друзья — коллеги по перу, артисты, депутаты. Торжества проходили по всей республике. Собирались и в доме Гамзатовых. Там пело цыганское трио «Ромэн», которым аплодировали Лев Лещенко и Вахтанг Кикабидзе. Ираклий Абашидзе подарил Расулу Гамзатову его портрет с доброй улыбкой, рюмкой в руке и соловьём на плече. Этот замечательный портрет написал художник Борис Курхули.
Гамзатов писал в «Моем Дагестане»:
«Малым народам нужны большие кинжалы. Так сказал Шамиль в 1841 году.
Малым народам нужны большие друзья. Так сказал Абуталиб в 1941 году».
Малым народам нужны большие поэты — добавим мы.
Стихотворцы на пенсию не уходят. Несмотря на свои 60 лет, Расул Гамзатов оставался поэтом более современным, чем многие его более молодые коллеги. Не изменилось и его отношение к поэзии, как вечному таинству, требующему особого почтения. Ставший уже почти классиком, Гамзатов каждое своё стихотворение поверял поэтическим «казабом» — такой инструмент был у кубачинских златокузнецов, они проверяли им драгоценные металлы, настоящие они или нет. И прежде чем опубликовать, он читал стихи своей жене Патимат, которая умела отделить «зёрна от плевел», или показывал их друзьям, в литературном вкусе которых не сомневался. Одним из них был Ираклий Андроников, большой знаток Лермонтова и не только его.
Автограф на книге, подаренной
мною Ираклию Андроникову
Мои стихи, коль выпадет досуг,
Прочти, Ираклий, в долгий шкаф не спрятав,
Но утаи от Лермонтова, друг,
Что эту книгу написал Гамзатов.
Ему другое имя назови;
Теперь поэты, лишь в Союз их примут,
Тщеславью предаваясь, как любви,
Пред Пушкиным самим стыда не имут
[155].
«Я АВАРЕЦ, ТАКОВЫМ РОДИЛСЯ»
Родной язык Расул Гамзатов считал бесценным наследством, полученным от предков.
«Я аварец, таковым родился и другим мне не быть, — писал поэт. — Первые люди, которых я увидел, открыв глаза, были аварцы. Первые слова, которые я услышал, были аварские. Первая песня, которую мне пропела над колыбелью мать, была аварская песня. Аварский язык сделался моим родным языком. Это самое драгоценное, что у меня есть, да и не только у меня, но у всего аварского народа.
Родной мой язык! Не знаю, доволен ли ты мной, но я тобой живу и тобой горжусь... Вслушиваюсь в свой собственный шёпот, вслушиваюсь в тебя, мой язык, и кажется мне, что рокочет в теснине сильная горная река, пробивает себе дорогу. Люблю я рокот воды. Люблю я и звон булата, когда два кинжала, вынутые из ножен, бьются друг о друга. И это всё есть в моём языке. Люблю я также шёпот любви.
Трудно мне, мой родной язык, сделать так, чтобы все знали тебя. Как богат ты звуками, как много их у тебя, так трудно неаварцу научиться произносить их, но как сладко их произносить, если умеешь! Вот хотя бы простенький счёт до десяти:
цо, кIиго, лъабгго, ункъго, щуго, анлъго, анкъго, микъго, ичIго, анцIго.
Таковы языки наших аулов, зажатых в теснинах скал. Чтобы записать наше произношение, наши звуки, то есть, по-учёному говоря, чтобы дать транскрипцию наших звуков — гортанных и придыхательных, — не нашлось букв ни в одном алфавите. Поэтому, когда создавали нам письменность, пришлось к буквам русского алфавита добавить особые буквы и сочетания букв».
Когда имам Шамиль жил в почётной ссылке в Калуге, состоявший при нём пристав Аполлон Руновский хотел выучиться аварскому языку. Но вскоре выяснилось, что язык аварцев почти недоступен в произношении. Горцы же лишь посмеивались над мучениями Руновского и убеждали его, что язык у них такой лёгкий, что по-аварски в горах говорят даже дети. В этом, собственно, и был секрет аварского языка, на котором надо говорить с детства или уже не говорить никогда.
Махачкала — не Калуга, и век на дворе был другой. Люди должны знать, должны понимать своих родителей, своих предков. Если прежде человек, в совершенстве знающий английский язык, был в Дагестане редкостью, то теперь становилось всё меньше тех, кто так же хорошо знал родной язык. Росло поколение, особенно в городах, которое почти не владело языком предков. Чтобы родной язык оставался родным, родители отправляли детей в горы, но это не всегда помогало, потому что и сами родители зачастую общались между собой на русском. Время диктовало свои порядки.
Как аварского поэта, как председателя правления Союза писателей, в немалой мере ответственного за национальную литературу, Расула Гамзатова беспокоило то, что происходило с дагестанскими языками:
«К стыду нашему, надо признать, что многие поэты не владеют первоэлементом поэзии — языком. А ведь не зная языка, писать — всё равно, что танцевать, не научившись ходить».
Появились молодые писатели, предпочитавшие писать на русском, хотя во владении им были далеки от совершенства. Далеки они становились и от родных языков, которые не есть что-то окаменелое, это живая среда, которая меняется и развивается.
Когда начали поговаривать, что национальные языки — это рудимент прошлого, что они всё равно исчезнут, так что нечего о них особенно беспокоиться, Расул Гамзатов встал на их защиту. Ещё в начале 1960-х годов, когда подобные дискуссии уже возникали, он написал стихотворение «Родной язык»:
Всегда во сне нелепо всё и странно.
Приснилась мне сегодня смерть моя.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижно я...
Так я лежал и умирал в бессилье
И вдруг услышал, как невдалеке
Два человека шли и говорили
На мне родном, аварском языке...
И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нём не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть...
[156]
Последнее четверостишие стало особенно популярным у многочисленных народов Кавказа, языки которых оказались на грани исчезновения, как и дагестанские.
Расул Гамзатов боролся против сокращения изданий на родных языках, он не принимал объяснений, что такие книги нерентабельны. Культура всегда была нерентабельна с меркантильной точки зрения, но она же оставалась и вечным духовным стержнем любого народа. Гамзатов способствовал открытию новых журналов на национальных языках. У них не хватало читателей, но они были жизненной необходимостью.
«Вульгаризаторы, под видом консолидации разноязычных народов Дагестана, предлагали упразднить литературные секции на языках, преобразовав их в общую секцию, — говорил Расул Гамзатов, — создать из национальных театров общий дагестанский театр, вместо газет на национальных языках выпускать одну, а потом её дублировать... Такие без конца кричат о том, что Дагестану мешает многонациональность и многоязычие. Как будто, если ветви отрубят, дерево станет красивей, если радугу сделать одного цвета, она будет ярче».
Но и против профанации языка он возражал. Язык, на котором пишет поэт, должен быть его родным языком или другим, который надлежит глубоко знать. И приводил в пример Чингиза Айтматова, которого называл «Мой именитый полуевропеец. Мой знаменитый полуазиат»:
«От того, что Чингиз Айтматов многие свои произведения написал на русском языке, киргизская литература не погибла, напротив: приобрела новые черты и краски». И добавлял: «Творчество Айтматова — огромное явление, революция в восточной прозе. У Айтматова есть понимание сущности мирового искусства, и сам он подарил миру слово, сказанное по-своему, по-киргизски. Он передал народный дух, перенёс на свои страницы характеры героев в их общечеловеческой сущности».
Забвение национальных корней влекло за собой легковесную, банальную поэзию, лишённую души и красоты. Гамзатов считал их произведения вторичными и риторичными: «Основное содержание их произведений — бесконечные признания в любви к своему народу, вроде таких: “Ты мой великий народ, ты мне зренье дал, руки дал, голову дал, сердце дал. Спасибо тебе!” Но, к сожалению, это сердце и эта голова, которые народ им дал, не смогли осмыслить и воспеть силу и величие народа. Эти глаза не смогли увидеть новые процессы жизни. И такие поэты, — я говорю не только о Дагестане, но и о многих других национальных республиках — вместо того, чтобы создавать настоящие художественные произведения о жизни народа, год за годом объясняются в любви к своему народу. А народ наш мудрый: когда без конца говорится о любви, он не очень-то верит. Ведь даже очень молоденькие девушки не слишком верят таким объяснениям».
Впрочем, и в интимной лирике такие поэты оказывались неспособными выразить тонкие деликатные чувства. У них получались примитивно рифмованные сообщения, далёкие от чуда любви, зато навевающие скуку. О живых образах говорить уже не приходилось, стихи получались «без образные», которые так и тянуло назвать попросту «безобразными». Называл Гамзатов и характерные темы таких стихов: «Для наших поэтесс — это сероглазые юноши, которые никак не хотят обратить на них внимание. Но если раньше в нашей поэзии воспевались чёрные глаза, а сейчас — серые, то нельзя всё же считать, что это — новаторство. А для поэтов-мужчин — это бесхарактерная девушка, послушавшая маму и папу и не захотевшая идти замуж за поэта».
Явилась и другая напасть, поэты возжелали сделаться учёными.
Стихотворцы, тщеславьем объяты,
Отказались от творческих мук,
Вдруг пошли, как один, в кандидаты
Философских и прочих наук.
Диссертации, словно адаты,
Превратились в кавказский недуг...
[157]
С тщеславием, амбициями, манией величия не смогла справиться даже медицина, не по плечу это было и председателю правлению Союза писателей. Ему оставалось лишь... Если перевести аварскую поговорку, то получится примерно следующее: «Что толку говорить — махнуть рукой да присвистнуть».
ВАНГА
О чудесном даре слепой болгарской ясновидящей ходили легенды. Считалось, что она может разговаривать с душами умерших и предсказывать то, что обязательно сбывается.
Говорили: «Ванга чуть тронет,
Да не тронет — глянет едва,
И пред нею как на ладони —
Чем чужая душа жива».
Её посещали и знаменитости, и простые люди. Навестить «бабу Вангу», как звали в Болгарии Вангелию Пандеву-Гуштерову, решил и Расул Гамзатов. Встреча была волнующей, Гамзатов о ней не раз рассказывал, но говорил не все. Что-то сокровенное оставалось между ними, о чём стоило промолчать. Но Гамзатов не был бы поэтом, если бы не написал о столь необычном событии.
Зашептала мало-помалу,
С кем я рос и учился где,
Так, как будто век вековала
Между кумушками в Цаде...
Показала мне, как на блюдце,
Всё, что явно или тайком
Написали добрые люди
На меня в мой родной обком...
Гамзатов привёз ей в подарок унцукульскую трость из кизилового дерева с красивой насечкой, а Ванга предрекла, что такой палкой его поколотят родители, когда он окажется на том свете.
— На меня обрушат?!
За что же?
Чем прогневал я дорогих?
Ну, грешил, когда был моложе,
Но теперь я скромен и тих!
— Ой ли? Трость говорит иначе.
Здесь в узорах —
всё существо!
Знаешь, кто ты?
Ты — вор, растратчик
Сил и времени своего!
Гамзатов поразился прозорливости Ванги, но пытался оправдываться, объясняя, что он всё же поэт, а поэты... Они, видите ли... Ванга видела.
Что? Стихи?..
Но всё ль пригодится
Людям в новые времена?
Слишком много ты пил водицы,
Что Кораном воспрещена!..
С трудной правдой
всегда ль шёл в ногу?
Был порой уклончив твой стих.
Оттого и томит тревога
За тебя стариков твоих!
Слушал я, смирясь поневоле,
Ядовитые эти слова.
Было мне обидно, тем боле
Что вещунья была права...
[158]
Говорили, будто Ванга предсказала Леониду Леонову, что его рукописи сгорят. Вернувшись домой, он перевёз их с дачи в городскую квартиру... Где они и сгорели. Это наводило на беспокойные мысли, и обвинения Ванги заставляли задуматься. Впрочем, Гамзатов и сам знал свои прегрешения, слова Ванги лишь разожгли тлевшие в душе угли.
ДРУГОЙ ГАМЗАТОВ
Расул Гамзатов пишет поэму «Суд идёт». И снова удивляет читателей, создав произведение, не имеющее примеров по форме и содержанию. Он вызывает к барьеру саму историю, эту далёкую от святости «священную корову» апологетов прошлого. Историю, которая надругалась над человечеством, с лицемерием инквизиторов лишала его корней, моральных опор, идеалов. Историю, которая с маниакальной регулярностью возносила и низвергала кумиров, уничтожала целые народы, оскорбляла человеческую память и унижала самого человека.
«Весельчак и балагур» Гамзатов, каким его многие привыкли воспринимать, заговорил языком народного трибуна, от лица народа и от себя — поэта, не раз горько обманутого историей.
«Думается, совершенно прав был Л. Толстой, сказавший в беседе с Мечниковым: “Говорят, что человеку стыдно меняться. Какая чепуха! Стыдно не меняться!” — писал литературный критик Камал Абуков. — Убедительность и притягательность музы Гамзатова именно в том, что она отличается подвижностью и способностью обновляться. Не дай тому случиться, чтобы поэт такой величины и такого общественного влияния вдруг застопорится, забуксует, застынет, и — что ещё хуже! — заупрямится на каком-либо заблуждении, бредовой идее, ложной версии. Если же исходить сугубо из специфических закономерностей профессии поэта, из логики неизбежных расхождений оценок в процессе эмоционального и рационального восприятия реалий, то станет ясно: Гамзатову вообще-то и нечего каяться, ибо это — раздвоенность самой истории, зигзаги века, гримасы идеологии. Но не в оправданье своих ошибок, а ради объективности Расул Гамзатов в поэме “Суд идёт” предъявляет справедливый счёт истории. И при этом важна исходная позиция: “История, тебя судить мы будем по праву, осквернённому тобой”. Прозрение, стоившее дорого, обнажило горькую истину: история напоминает женщину, которая меняет мужей, “как змея меняет кожу”, она критикам подобна, “чьё мненье, извиваясь без конца, становится прямым, когда удобно для высокостоящего лица”, “Под чьи ты только дудки не плясала, в чьи только платья не рядилась ты”.
Не ты ль в бараний рог согнула правду,
А кривду обтесала, как бревно?..
Оказывается, не только язык вертится вокруг больного зуба — на незаживающую рану шершавым камнем сползает воспалённая мысль:
Ведь даже Шамиля ты пятикратно
Оговорила, глазом не моргнув...
...Ясно, творцы истории сами же извратили историю, далее нашлись ловкие приспешники в лице “верных ленинцев” и идеологического корпуса. И зачем в таком случае так злобно и нещадно взыскивать с Поэта? Тем более — воображаемые ночные пришельцы ему говорят: “Ты народом нашим уважаем, только знай, поэт — не прокурор”. Знает Гамзатов это и никогда не брал на себя роль не только прокурора, но и судьи, ибо с давних пор он не в ладах с самим собой.
...И диалог этот с Историей и Временем не окончен — он будет продолжен, ибо Гамзатов не из тех художников и мыслителей, которые свою осторожную, вполголоса реплику считают защитной речью, робкие начинания революцией, хитроумный компромисс противостоящей стороны — собственной победой. Оставаясь большим поэтом, он никогда не терял и не теряет чувство реальности. Поэт знал и с годами ещё острее осознает: до воцарения справедливости в мире ох как далеко!.. И не случайно Гамзатов в своих выступлениях и беседах часто апеллирует к русской классике, которая ценна именно единством тирады: Кто виноват? Что делать? Не могу молчать!»
История, тебя я обвиняю!
Кто различит, где истина нагая?..
Где ложь в парче и царских соболях?..
Преодолев угрозы и невзгоды,
Не отрекусь от выстраданных слов.
Поэт и лжесвидетель — антиподы,
Несовместимы, как добро и зло
[159].
«Все мы стоим перед судом совести, перед судом истины, — говорил Гамзатов в беседе с Любеном Георгиевым. — Поэта называют свидетелем перед великим судом истории... Если поэт даёт неверные показания, приговор может быть ужасен: он перестанет существовать как поэт, гибель его неотвратима. Но творец не только свидетель. Его внутренний голос — сам по себе суд. Лучше не иметь таланта, чем талантливо служить лжи, давая нечестные показания перед судом истории».
Встать! Суд идёт! И невозможно
Его уже остановить,
Как невозможно правду с ложью
И жизнь со смертью примирить
[160].
ДОМ
Дом на улице Горького в Махачкале, где жил Расул Гамзатов, был небольшим. Он был уютным для семьи, но для гостей, которых приезжало всё больше, дом становился тесноват.
Стучите ночью и средь бела дня:
Стук гостя — это песня для меня
[161].
Люди так и поступали. А не уважить гостя — большой грех для горца. Расул Гамзатов решил построить новый дом. Вернее, так решила его супруга Патимат, а он согласился.
Спроектировал дом академик архитектуры Абдула Ахмедов. Он создал много замечательных зданий, а за Государственную библиотеку Туркмении получил Государственную премию СССР.
Мой друг, Ахмедов Абдула,
Построй мне саклю городскую.
И, если в ней я затоскую,
Пусть будет грусть моя светла...
Идут побеги от корней,
Да будет дом в зелёной сени —
И обитают в доме тени
Отца и матери моей...
[162]
Дом, который он создал для поэта, напоминает модернистский вариант горской сакли. Кто-то называет этот стиль брутализмом за объёмные выразительные конструкции из «необработанного железобетона», как называл эту технологию Ле Корбюзье.
Строительство — дело весьма хлопотное, для поэта — попросту невозможное. «Дом, который есть у нас в Махачкале, построила мама, — рассказывала в беседе с Таисией Бахаревой дочь поэта Патимат. — Конечно, папа тоже в этом участвовал, но лишь финансово. А переговоры с архитектором, поиск рабочих, покупка мебели — всё было на плечах мамы. У папы не было даже каких-то общепринятых мужских хобби. Он никогда не ездил за рулём, у него всегда был водитель. Не стремился “погонять” на машине, не увлекался спортом и не был футбольным болельщиком. Однажды его пригласили на охоту, но он не смог выстрелить из ружья. Рассказывал, что навстречу ему выбежала красивая лань, а он не в силах был поднять на неё ствол. Больше на охоту никогда не ездил. Всё его время поглощали литература, поэзия, общение с людьми, работа в Союзе писателей Дагестана».
Необычным получился и интерьер дома. Это стало заслугой не только архитектора, но и супруги поэта, которая внесла в оформление национальный колорит. Она украсила его старинными дагестанскими коврами, металлической и глиняной посудой. Как искусствовед и директор Музея изобразительных искусств, она хорошо знала особенности горского быта.
На втором этаже располагался кабинет Расула Гамзатова, который он постепенно обживал, скорее — одухотворял.
Среди памятных подарков, которые поэт забрал из старого дома, были две особенно дорогие ему реликвии — вышитый портрет отца и деревянное, с металлической насечкой унцукульское блюдо, красиво обрамлявшее портрет Махмуда из Кахаб-Росо. Он повесил их в своём кабинете, где они находятся и теперь.
Перед домом вьётся виноград, взбираясь на верхние этажи, а вокруг дома и позади него раскинулся сад. Дом получился очень необычным и красивым.
Построенный в 1984 году, дом поэта и сегодня выделяется своим оригинальным стилем и не затерялся среди роскошных особняков, возведённых в 1990-х годах.
В те годы в Махачкале бывало очень много туристов. Считалось, что в Дагестане есть тёплое море, высокие горы и Расул Гамзатов. Все хотели увидеть дом знаменитого поэта, а если повезёт, то и его самого. Агентствам ничего не оставалось, как внести остановку у дома Расула Гамзатова в туристический маршрут.
«К нему бесконечно шли люди, — вспоминал Тажудин Мугутдинов. — Шли государственные и политические деятели, писатели, учёные, его земляки, просто горцы и горожане, желающие сверить свои мысли с тем, что скажет Расул, шли поучиться, послушать и, наконец, просто поговорить, чтобы потом поразмыслить над тем, что он сказал, получить дозу бодрости и оптимизма.
Двери его дома всегда были открыты. Я даже удивлялся и, заходя к нему, говорил: “Расул Гамзатович, у Вас калитка во двор открыта, входная дверь открыта!” Поэт, посмеиваясь, отвечал: “А от кого мне закрываться?! От людей, что ли?”».
Не все люди были такими, какими их хотелось видеть Гамзатову. На него принялись писать жалобы и доносы в самые высокие инстанции, требовали проверить, откуда у народного поэта средства на такой дом в центре города.
«Да, злословили, говорили и о кирпичах, говорили о нетрудовых доходах, — улыбался поэт, беседуя с журналистом Феликсом Бахшиевым. — Но ведь я имел средства, у меня были деньги, заработанные честно, трудом. То был мой звёздный час: я был лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом многих международных премий, получал высокие гонорары».
На мучивших многих вопрос о своём богатстве, который позже прозвучал в беседе с поэтессой Косминой Исрапиловой, Расул Гамзатов отвечал:
«Я не так богат, как считают многие. Беден — сказать тоже Бога боюсь. Со мной учился в Литературном институте поэт Виктор Гончаров. В то время ребята называли меня “бедным Расулом”. Как-то через тридцать лет он приехал ко мне в Махачкалу, увидел дом, награды и т. д. и сказал: “Я, как липка, ободран, а ты, как Липкин, стал богат”. Вообще, я довольствуюсь малым, нетребователен. Никогда не был скупым, как богачи. И не торговал лирой никогда. Но меня уже не называют “бедным Расулом”».
Высокие инстанции реагировали на возмущённые письма и явные кляузы, органы проверяли по служебной необходимости, но единственный вопрос, который возникал у проверяющих, был таким: «Нельзя ли получить автограф?» Как было отказать, если они предусмотрительно приносили с собой книги Гамзатова?
В той же беседе с Феликсом Бахшиевым поэт говорил: «Аура была тёплая в моём доме на улице Горького, 15. Там было лучше мне. К этому дому пока никак не привыкну. А тот дом помнит моих старых друзей. Отца. Маму: она была жива. Абуталиба с зурной. Аткая. Тот дом насыщен их теплом. Места в нём было меньше, конечно, но тепла больше. Душа была».
Об Абуталибе Гафурове, лакском поэте и мудреце, ставшем одним из главных героев книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан», было уже немало сказано. Аткай Аджаматов, кумыкский поэт и прозаик, драматург и переводчик, тоже был удивительным человеком. В 1937 году был репрессирован, но доказать его вину не удалось даже следователям, не особо беспокоившимся о справедливости обвинений. Через полтора года его освободили. Он был искренним патриотом, и этого у него не отняли даже сталинские лагеря. Рассказывают, что однажды Аткай обзавёлся хорошими хромовыми сапогами. Тогда это считалось роскошью. А затем пошёл навестить приболевшую родственницу. Увидев, как бедно живёт её семья, Аткай оставил свои сапоги у её порога, сказав, чтобы их продали и купили себе еды. Так и ушёл, необутый.
«Я НЕГР СВОИХ СТИХОВ»
Будь у него желание, Расул Гамзатов мог бы построить ещё один дом, и даже не один. Гонорары по-прежнему были обильны. Книги издавались, пьесы ставились, песни пелись. В 1985 году вышла новая книга «Колесо жизни», а вместе с ней — множество переизданий других книг, в том числе и переводов на языки народов СССР. В очередной раз перевели и «Мой Дагестан», на этот раз книга вышла на итальянском языке в переводе С. Танганелли. Получил Расул Гамзатов и премию «Лотос», присуждаемую Ассоциацией писателей стран Азии и Африки.
Однако Расул Гамзатов не стремился выглядеть литературным нуворишем, он никак не мог привыкнуть к новому дому, ему хватало и старого. Он был невзыскателен, ему хотелось лишь одного — покоя, которого требует творчество. Однако жизнь знаменитого поэта и могущественного, как многие полагали, государственного деятеля была далека от желанной тишины писательского кабинета.
«Приходили гости и обычно, неожиданно, — вспоминала Салихат Гамзатова. — В таких случаях я корректно говорила, что пойду посмотрю, не спит ли папа (у него была бессонница, и он иногда спал днём). Если он спал — я извинялась, просила прийти позже. Если он не спал — звала его, но очень часто, видя, что он работает, я говорила, что могу сказать, что он спит, и попросить гостей прийти позже. Но папа всегда бросал работу и спускался. Я всегда удивлялась этому. Ведь вдохновение поэта, его работу, как мне казалось, нельзя прерывать, тем более что гость нередко просто хотел поболтать. Но если я не сообщала о приходе гостя, желая не беспокоить его, папа сердился и делал мне замечание. И я делала, как хочет он. Папа обожал людей».
Средняя дочь Патимат вспоминала, что по утрам из отцовского кабинета слышалось, как «папа в такт иногда взволнованно, иногда тихо и ритмично произносит стихи, словно выравнивая и подгоняя слова».
Домашние старались не беспокоить поэта, особенно когда он творил. Они привыкли уважать творчество и понимали, что оно во многом — дитя одиночества. Расул Гамзатов посвятил супруге и её заботе о нём много замечательных стихов, но мог и пошутить по этому поводу.
Писал поэт стихи жене:
«Ты свет мой, и звезда, и зорька.
Когда ты рядом — сладко мне,
Когда тебя не вижу — горько!»
Но вот жена — звезда и свет —
Явилась, встала у порога.
«Опять ты здесь, — вскричал поэт, —
Дай мне работать ради Бога!»
[163]
Вдохновение отпусков не давало. Расул Гамзатов работал всегда и везде. «Если пишется, то пишется везде: в вагонном купе и даже на плече покупателя, стоящего перед тобой в очереди магазина, — говорил он в беседе с Евгением Дворниковым. — А не пишется, то не помогут ни Михайловское, ни подлинное пушкинское перо, ни приезд современной Анны Керн по телеграфному вызову».
Муза Гамзатову не изменяла, но и он был преданным адептом поэзии. Любил работать на даче, у моря, пока не начинали мучить каспийские ветры. Иногда стихотворение слагалось почти само, будто спускалось на невидимых крыльях с таинственных высот. А порой он работал по нескольку дней, пока не находил строку, слово, интонацию, которая освещала его творение.
Я негр своих стихов. Весь божий день
Я спину гну, стирая пот устало.
А им, моим хозяевам, всё мало:
И в час ночной меня гонять не лень.
Я рикша, и оглобли с двух сторон
Мне кожу трут, и бесконечна тряска,
И тяжелее с каждым днём коляска,
В которую навек я запряжён
[164].
Но у каждого стихотворения был свой роман с поэтом, который труднее продолжить, чем начать. Казалось бы, ему ли, признанному поэту, властителю дум, робеть перед чистым листом, но исчезали вдруг и опыт, и мастерство, и поэтические приёмы. Но охватившее поэта чувство, окрылившая его мысль — они уже делали свою чудесную работу. Каждое новое стихотворение становилось для него манящей загадкой, которую было непросто разгадать. И каждая новая строфа была не такой, какой он ещё мгновение назад её представлял. Эта магия завораживала поэта и рождала поэзию.
«Стихи приходят неожиданно, как подарок, — писал Расул Гамзатов. — Хозяйство поэта не подчиняется жёстким планам. Нельзя запланировать для себя: сегодня в десять часов утра я полюблю девушку, встретившуюся мне на улице... Я не знаю, что такое талант, как не могу сказать, что такое поэзия. Но иногда — то на пути к дому, то в чужой стороне, то во время сна (как бы приподняв полу моей бурки), то когда я ступаю по зелёной траве (как бы переливаясь в меня из живой зелени и разливаясь в крови), то во время еды, то во время музыки, то в кругу семьи, то в кругу шумных друзей, то когда я поднимаю на руки ребёнка, как бы благословляя его на долгий путь, то когда я подпираю плечом, помогая нести, гроб с останками друга, провожая его в последний путь, то когда я смотрю в лицо своей любимой — вдруг меня посещает нечто редкое, удивительное, загадочное и могучее. Оно бывает то весёлое, то печальное, но всегда побуждает к действию, всегда заставляет меня говорить. Оно приходит без приглашения и без спроса».
Когда его спрашивали о природе поэтического творчества, он не умел объяснить это таинство во всей полноте, он сам пытался его постичь. Но иногда приводил в пример Сулеймана Стальского, то, как он ответил жене, которая, не дозвавшись мужа к обеду, принесла хинкал на плоскую крышу сакли, где он лежал на своём тулупе:
«Сулейман рассердился. Он вскочил с места и закричал на свою старательную жену:
— Вечно ты мне мешаешь работать!
— Но ты же лежал и ничего не делал. Я думала...
— Нет, я работаю. И больше мне не мешай.
Оказывается, и правда, в этот день Сулейман сочинил своё новое стихотворение».
Эта история описана в книге «Мой Дагестан». Есть у этой темы и продолжение.
«Поэт женился. Сыграли свадьбу. Гости разошлись, оставив новобрачных одних в комнате, специально приготовленной для брачной ночи. Невеста возлегла на брачное ложе в ожидании жениха. Однако жених, вместо того чтобы прийти к своей невесте, сел за стол и начал писать стихи. Всю ночь он писал стихи и к утру закончил длинное стихотворение о любви, о невесте, о брачной ночи.
Должны ли мы сделать вывод: “Итак, поэт работает даже в ночь любви?” Если бы я работал так же, как этот аварский поэт, у меня было бы книг в пятьдесят раз больше, чем сейчас. Но я думаю, что это были бы фальшивые книги».
Покой наступал лишь ночью, когда Гамзатову удавалось выкраивать время для творчества. А днём... Днём были не только гости и служебные обязанности. Днём была жизнь, которая теперь делала очередной неожиданный поворот.
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Михаил Горбачёв. Тогда мало кто предполагал, что очередная смена генсека станет началом исторического перелома, значительно повлиявшего не только на страну, но и на весь мир.
Генсеки тогда менялись часто, население страны уже так к этому привыкло, что, когда по телевизору вдруг начинали показывать балет «Лебединое озеро», все собирались у экранов в ожидании траурного сообщения о кончине очередного генерального секретаря.
Теперь не все понимают, почему партия обладала абсолютной властью, когда были и Верховный Совет, и Совет министров, но тогда это было нормой жизни, и несогласные с этакой «социалистической демократией» считались диссидентами, то есть попросту «врагами народа». А тут вдруг руководитель государства стал предлагать такое, что не всякому диссиденту могло прийти в голову. Горбачёв провозгласил «перестройку». Должно было измениться всё — от идеологии до экономики. Поначалу делался упор на экономическое ускорение, чтобы вывести страну из глубокого кризиса «развитого социализма» и по-современному модернизировать. Затем наступила пора общественно-политических реформ, гласности и демократизации, без которых экономика не желала ускоряться. Зато можно было воочию наблюдать, к примеру, «антиалкогольную кампанию», не дававшую желаемых результатов, но шумно пропагандируемую. Такой же провальной оказалась «борьба с коррупцией и нетрудовыми доходами».
Государство хотело, чтобы появились другие люди, а люди ждали, что появится новое государство, и от личных интересов отказываться не спешили. Гораздо больше народу нравились заверения Горбачева о том, что к 2000 году экономический потенциал СССР удвоится и каждая семья будет иметь отдельную квартиру. Генсек Никита Хрущёв обещал, что тогдашнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, теперь партия говорила не о коммунизме, а о совершенствовании социализма. Наученный горьким опытом, народ мало верил в обещания генсеков. Но Горбачева поддерживали, ему аплодировали даже идеологические противники.
Экономика расти не спешила, но были и явные перемены. Долгожданные гласность, демократизация, отмена цензуры, свобода слова — эти предвестники новой реальности коснулись всех и быстро прижились. Это было похоже на отмену крепостного права и дарование личных и экономических свобод при царе Александре II.
При всей неоднозначности перемен, писателям стало легче. Печатались прежде запрещённые книги, издавались новые, бесцензурные. Но вместо партийного руководства литературой появилась не менее жёсткая экономическая целесообразность. Теперь хорошим писателем считался тот, чьи книги раскупались, а содержание не имело прежнего значения. Вместо хлеба — свобода. Но народу требовались и хлеб, и зрелища, а не по отдельности. «На коне» оказались те писатели, у кого было, что достать из стола — талантливые произведения, для которых всё не наступало время. Расул Гамзатов как будто и не сходил со своего Пегаса, неизданного по «политическим» причинам у него накопилось много, и появилась надежда это опубликовать.
Общество менялось, но государственная машина всё ещё оставалась прежней. Старые партократы не торопились уступать натиску молодых энергичных реформаторов.
Было много надежд и много разочарований. Поначалу все хотели, чтобы всё было как на Западе, чтобы платились высокие зарплаты, чтобы магазины ломились от деликатесов, качественной одежды и бытовой техники, а в остальном — чтобы оставалось как раньше, с социальными гарантиями, бесплатной медициной и т. д. Но перестроечный энтузиазм не давал желаемых экономических результатов, всё становилось только хуже. Многие были разочарованы и, будто очнувшись, начинали с ностальгией вспоминать «застойные времена», хотя возвращаться туда никто не хотел.
Тем временем сочинения многих писателей, прежде считавшиеся советской классикой, подвергались ревизии. Социалистический реализм окончательно сошёл со сцены. Но были произведения, которым «ветер перемен» не грозил. Такие, как «Журавли» Расула Гамзатова, ставшие общенародным реквиемом по воинам, отдавшим жизнь за родину.
6 августа 1986 года в Гунибе, знаменитом аварском ауле, где располагалась последняя ставка имама Шамиля и где закончилась Кавказская война в Дагестане, был открыт первый памятник «Белым журавлям». 27-метровый мраморный обелиск, вокруг которого поднимался журавлиный клин, будто вознося его в небо, был установлен на высоком утёсе. На стеле начертаны слова из знаменитой песни: «Мне кажется порою, что солдаты...».
Движущей силой строительства мемориала стал ветеран войны Гаджи Инчилов, который работал тогда первым секретарём РК КПСС Гунибского района. Журналист Найда Гасретова писала о его впечатлении от стихов Расула Гамзатова и о том, как создавался памятник:
«Когда я впервые услышал песню “Журавли” на стихи Расула Гамзатова, во мне словно всё перевернулось. Я долго не мог прийти в себя от глубины этих строк. Расул — поистине великий поэт, он передал в своих поэтических строках все чувства и переживания людей, потерявших близких на войнах, и в то же время высказал своё восхищение журавлиным клином. Строчки из этой песни настолько тронули меня, что я твёрдо решил: памятник участникам войн, погибшим на полях сражений, непременно должен быть связан с этой песней».
В создании памятника приняли участие председатель райисполкома Д. Гасанов, руководители предприятий М. Шахназаров и К. Гасанов и ещё многие люди. Тогда это называлось «методом народной стройки». Автором памятника стал талантливый архитектор Гаджи Ганиев, участник войны, сражавшийся на германском и японском фронтах.
На торжественное открытие мемориала приехал композитор Ян Френкель. Специально для него из местного дома культуры на гору был привезён рояль, за которым он исполнил «Журавлей». Песню подхватили все собравшиеся. С тех пор берёт начало традиция проведения Дней «Белых журавлей» — дней памяти о погибших во всех войнах.
Это был не первый памятник «Журавлям» Расула Гамзатова. В 1979 году монументальная композиция «Журавли» замечательного скульптура Башира Увайсова была установлена на фасаде здания Дагпотребсоюза в Махачкале.
КНИГА КУМАРИ
Не все были рады переменам. Свобода предполагала личную ответственность, необходимость принимать трудные решения, которые раньше принимались за граждан властями страны. Для кого-то свобода оказалась делом и вовсе обременительным, им было спокойнее при старом режиме. Но мыслящие люди понимали, что наступила другая эпоха. Она была похожа на тюрьму, лишившуюся охранников и засовов, но из которой не все решались выйти на свободу.
Однако время больших публикаций всё не наступало, «Люди и тени» ещё томились в ящике письменного стола. А Гамзатов продолжал писать.
«Сейчас я закончил книгу под названием “Концерт”, — говорил Гамзатов Феликсу Медведеву. — Жизнь — концерт, мир — концерт, история — концерт. Современная жизнь мне кажется непрекращаюшимся концертом. Развесёлым, трагическим, будничным, одурманивающим. Читал я как- то эту поэму в одной аудитории. И меня спросили: “Почему в ней нет концерта Пугачёвой, рок-музыки?” Я не знал, то ли смеяться, то ли плакать.
Мне кажется иногда, что та нестабильность, эскапады перемен, сменяемость эпох, личностей, которые творятся на наших глазах, — это тоже некий вселенский несмолкаемый концерт, действо с трагической окраской. Труба, балалайка, орган... Одно возносится, другое — в пропасть. Чем закончится этот великий концерт нашего бытия — знать бы!..
Вы спрашиваете меня о том, как, будучи в течение двух десятков лет членом Президиума Верховного Совета СССР, я голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или иных “героев”, как мы теперь знаем, недостойных людей... Да, я
раздвоен. Одна истина остаётся по левую сторону, другая — по правую. Наверное, разные поколения по-разному думают, по-разному оценивают события».
Но что бы ни происходило вокруг, Гамзатов верил, что поэзия, любовь, семья защитят поэта от политических аттракционов и разочарований.
Расул Гамзатов оставался пылким влюблённым и заботливым отцом. И вновь обыгрывал в стихах женское население своего дома, с супругой Патимат и Патимат — дочерью:
Не математик я:
На что мне числа?
Я — патиматик:
В том немало смысла.
Я — патиматик
С самых ранних лет
И говорю:
Важней науки нет!..
Я — патиматик:
Встречи и разлуки,
Любовь и страсть —
В мире по-прежнему было много прекрасного и удивительного. В новой книге «Колесо жизни», вышедшей в 1987 году, Расул Гамзатов написал о живой богине Кумари, которую увидел в далёком Непале. Тогда он многое для себя открыл и теперь открывал это своим читателям.
Кумари — цветок. Из цветений всех
Избрали её одну,
Чтоб мир, погруженный во мрак и грех,
Себе вернул белизну...
Кумари — дитя. Почти что с пелён
Ламы её земли
На самый высокий, сияющий трон
Девочку вознесли...
Избрание Кумари — древняя непальская традиция. Жрецы отбирают нескольких четырёхлетних девочек по только им ведомым признакам. Затем кандидаткам в живые богини устраивают «экзамены», которые пройдёт не каждый взрослый, а может не пройдёт никто. Как избирают Кумари — тайна. После мистических испытаний та, на которую укажет совет жрецов, должна ещё сама дойти до Катманду — столицы Непала, в которой она никогда не была, из тибетской деревни, которую ещё никогда не покидала. Но и это ещё не всё, в Катманду она должна найти свой дворец и занять свой трон. Это звучит невероятно, но так происходит уже много столетий.
Жду... Мелькнуло пурпурное сари...
И, глазами длинными блестя,
Появляется она — Кумари,
Свет-богиня, девочка, дитя!..
Чуть вздохнула... Задрожала губка...
Почему, Кумари, ты бледна?..
Что с тобою, тихая голубка?!
Чем душа твоя угнетена?..
Богиней она считается, пока не повзрослеет. А дальше... Это-то и беспокоит Расула Гамзатова, его волнует её будущее.
Зрелость наступает. Зрелость близко.
А едва придёт она — тогда
Из богов, из золотого списка
Вычеркнут бедняжку без суда...
Из чертогов — на жару и стужу...
Будь хоть раскрасавицею, но
Не найти богине бывшей мужа...
Замуж ей идти запрещено.
...Годы нежное лицо состарят,
Никому не будешь ты мила,
И увянет бывшая Кумари
Без детей, без ласки, без тепла
[166].
Невинное дитя, чудесное создание превращается в гонимую несчастную душу. Трагичное будущее живой богини не даёт поэту покоя, он возвышает голос в защиту несчастной девочки. Не оставила она равнодушным и автора этой книги, которому довелось повторить тот путь Расула Гамзатова.
Непал — страна удивительная, где на каждом шагу вас поджидает экзотическое приключение. На Золотой набережной дымят сандаловым ароматом костры, но если приблизиться, то оказывается, что это ритуал кремации. Люди в Непале гордые, как в Дагестане, никто не будет клянчить у вас доллар, как это бывает в других странах. Старинный трёхэтажный дворец Кумари великолепен. У входа стоят раскрашенные каменные изваяния мистических существ, но войти во дворец может каждый. Посреди дворца — прямоугольный двор, балконы и решетчатые ставни украшены резными многорукими божествами. В главном, покрытом золотом окошке, если очень повезёт, можно увидеть и саму Кумари. Она действительно невероятно красива, и есть в ней нечто необъяснимое, то, что убедило жрецов в её чудесной сущности. Её с почтением навещает король Непала. На большие праздники Кумари выносят на специальных носилках. Считается, что если она ступит на землю, случится землетрясение.
Всё это завораживало, но не давал покоя главный вопрос — неужели так трагично её будущее, как описал Расул Гамзатов?
На осторожные вопросы служители дворца отвечали уклончиво, а затем вдруг проявили живой интерес:
— Мистер хочет жениться?
— Разве можно жениться на Кумари?
— Можно!
После последнего посещения Расулом Гамзатовым в небольшом тибетском государстве Непал многое изменилось. А может быть, там прочли его поэму и решили пересмотреть старые порядки. Во всяком случае, служители принесли альбом раритетного вида, который оказался чем- то вроде книги предложений, открыли особый раздел и, недолго думая, вписали туда очередного претендента. Всё это казалось чем-то нереальным, но служители заверили, что когда Кумари выйдет в отставку, особый совет выберет ей жениха из списка претендентов. Список был большой, претенденты были из многих стран. Не было в списке лишь самих непальцев. На настойчивые расспросы по поводу этого обстоятельства служители признались:
— Боятся. Она ведь существо другого уровня. Мужчины быстро теряют силы и... умирают.
Так и осталась та запись в книге Кумари. Видимо, ей достался отважный жених. Но память о той чудесной девочке жива и сейчас.
Гамзатов уехал, поэзия осталась. Индия и Непал не раз обрели поэтическое воплощение в его творчестве, которое будет отмечено международной премией имени Джавахарлала Неру.
КТО ТАКОЙ ПАРКИНСОН?
Судьба поэта представляется многим счастливой и безоблачной, но мало кто знает, сколь трудна и коварна она была на самом деле. Какого мужества требовало от поэта время, чтобы остаться поэтом нашего времени.
Творчество — сродни переливанию крови, переливанию души. Для него тоже требуется здоровье. Если следовать прозрениям Гурджиева, недостаток творческой энергии приводит к «заимствованию» энергии из других энергетических центров, и это не лучшим способом сказывается на здоровье. При фантастической творческой результативности Гамзатова, при его немалых трудах вне писательского стола, постоянных переездах, депутатских заботах проблемы со здоровьем становились всё более очевидными. Даже большое сердце Гамзатова не могло бесконечно поддерживать напряжённый ритм его жизни и начало подавать тревожные сигналы. Когда начали рушиться привычные устои, когда изнемогала от всевозможных экспериментов страна, он с горькой иронией отвечал на вопросы о собственном самочувствии: «Неприлично быть здоровым в этом больном мире».
В 1980-е годы были очень популярны бег трусцой и бассейны с саунами. Считалось, что это лечит все болезни и дарит нескончаемые жизненные силы. Активным сторонником такой формы здорового образа жизни был друг Расула Гамзатова кардиохирург Идрис Расулов. Гамзатов отказывался, так как пришлось бы изменить не только пристрастиям, но и режиму творческой работы. Он часто работал по ночам, а пробежки и бассейн предполагались по утрам. Кардиохирург был полон решимости укрепить здоровье поэта, и ему, в конце концов, удалось убедить Гамзатова. В бассейне «Москва» доктора хорошо знали, а когда там стал появляться Расул Гамзатов, то выдали и отдельные ключи от «правительственной» сауны. Бассейн, построенный на месте разрушенного большевиками храма Христа Спасителя, был популярным местом. Теперь там снова возвышается храм.
Бег и плавание продолжались недолго. После нескольких утренних вылазок за здоровьем пробежки отпали. Остались бассейн и сауна с целительными чаями. Но вскоре прекратились и они. Во-первых, объяснил Гамзатов, грешно плескаться в бассейне на месте разрушенного храма. А во-вторых, единственная пробежка, подобающая поэту с его регалиями и наградами — это лёгкая прогулка до ресторана «Баку», иногда — до «Арагви», а ещё лучше — до ресторана ЦДЛ. Что же касается сердца поэта, то медицина тут бессильна.
Позже Гамзатов напишет в поэме «Времена и дороги»:
Прощай, что было, было и прошло,
Закрыли тучи призрачное счастье.
И вот хирург меняет, как запчасти,
Мне сердце. Мол, состарилось оно.
Другое сердце пусть дадут другим,
А мне моё, измученное, ближе.
Оно ещё, по-юношески слышит
Любви чудесной сокровенный гимн
[167].
«Природа наградила Расула Гамзатова отменным здоровьем, — говорил Тажудин Мугутдинов. — Это был крепко скроенный горец со слаженной работой всех систем организма. Однажды меня пригласили проконсультировать его по поводу болезни Паркинсона, которая проявилась у Расула Гамзатовича. С того самого момента и до последних дней поэта я волею судьбы был его лечащим врачом по той части, которая касалась неврологии. Я постоянно его навещал. Не только по поводу лечения, но и просто по- человечески, ведь с ним было очень приятно и интересно беседовать. Возникшие проблемы со здоровьем не сломили его духа, не сказались, к счастью, ни на его работоспособности, ни на его творческом вдохновении. Врачам всегда было легко работать с Расулом Гамзатовичем ввиду его исключительной дисциплинированности, коммуникабельности, аккуратности в выполнении врачебных назначений. В одном лишь с ним всегда была проблема: его было трудно уговорить отдыхать, делать необходимые перерывы в работе. Меня многое в нём удивляло, особенно — потрясающий интеллект, изумительная память. Стоило его собеседнику лишь напомнить название или первый абзац его бесчисленных произведений, как он начинал декламировать их без запинки. По своим психологическим качествам Расул Гамзатович был непреклонным оптимистом. Другое, что бросалось в глаза, — это его искрящийся меткий юмор, который готов был у него к любому случаю и событию, и всегда к месту. Вот с этих двух позиций — оптимизма и юмора он подходил к своим физическим недомоганиям».
Вспомнил доктор и такой диалог:
— Кто такой этот Паркинсон? — вопрошал Гамзатов.
— Учёный, который впервые описал эту болезнь.
— Сильный человек... Горцев даже Надиршах сломить не смог, а этот нехороший Паркинсон вот что со мной сделал!
Когда Гамзатову посоветовали поехать на обследование к директору Института мозга Наталье Бехтеревой, он положил руку на плечо Мугутдинова и сказал: «Вот мой Бехтерев». Он знал, что говорил. Бывало, что после лечения в главных московских клиниках Гамзатову становилось только хуже, и Мугутдинов не раз исправлял ситуацию, подбирая свою схему лечения.
«Сердце и болезнь Паркинсона — были папиными постоянными проблемами, — вспоминала Салихат Гамзатова. — В области кардиологии сердца в Дагестане его консультировало несколько врачей, в последние годы — Алигаджи Абдуллаев, а по болезни Паркинсона великолепно лечил папу прекрасный врач Тажудин Магомедович Мугутдинов. Когда папа чувствовал себя хуже, они приходили к нам. Иногда папа рассказывал, что у него болит, иногда говорил: “У меня что-то болело, но вы пришли, и всё прошло”... Я только сейчас понимаю, что бывают пожилые люди, часами говорящие о своих болезнях, о том, как они сегодня спали, ели и т. д. Папа таким не был. В нём не было того, что называют “стариковское”. Он был очень невнимательным к своему здоровью».
Гамзатов верил своим врачам, но полагался и на волшебную силу творчества, которое способно скрашивать горечь бытия, спасать от недомоганий и помогать жить.
«Дело в том, что я работаю всегда, пока себя помню, — писал он в «Моем Дагестане». — Во время еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадьбе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то и почти готовые стихи. Значит, даже во сне продолжается мой рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку! Иногда мне кажется, что все вокруг работают, а я тунеядствую. Иногда мне кажется, что я один работаю, а все остальные бездельничают по сравнению со мной».
НЕДОСКАЗАННОЕ «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ХОЧБАРЕ»
Так назывался фильм по поэме Расула Гамзатова «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о хане Казикумухском, о Хунзахском нуцале и о дочери его Саадат».
Это была драматическая история о популярном в горах герое — аварском Робин Гуде, вступившем в единоборство с Хунзахским ханом.
Тысячам бедняков роздал он «по сто овец» из ханских отар, «восьмистам бескоровным по шести коров» из ханских стад. Нуцал-хан пытался расправиться с Хочбаром, но у него ничего не выходило. Тогда коварный хан задумал обмануть его, пригласив к себе в гости, якобы для примирения.
Вот отрывок из сказания в переводе Петра Услара:
«От аварского хана пришёл посланный звать гидатлинского Хочбара. “Идти ли мне, матушка, в Хунзах?” — “Не ходи, милый мой, горечь пролитой крови не пропадает; ханы, да истребятся они, коварством изводят людей”. — “Нет, пойду я; не то презренный Нуцал подумает, что я струсил”. Погнал Хочбар быка в подарок Нуцалу, взял перстень для жены его, пришёл в Хунзах. “Привет тебе, аварский Нуцал!” — “И тебе привет, гидатлинский Хочбар! Пришёл ты, наконец, волк, истреблявший баранов!” — Пока Нуцал и Хочбар разговаривали, кричал ханский глашатай: “У кого арба, вези на арбе дрова из соснового леса, что над аулом; у кого нет арбы, навьючь осла; у кого нет осла, тащи на спине. Враг наш Хочбар попался в руки: разведём костёр и сожжём его”. Кончил глашатай; шестеро бросились и связали Хочбара. На длинном хунзахском подъёме развели костёр такой, что скала накалилась; привели Хочбара. Подвели к огню гнедого коня его, изрубили мечами; переломили остроконечное копьё его, бросили в пламя. Не мигнул даже герой Хочбар!»
Глумясь над пленником, аварский хан распорядился развязать Хочбара, чтобы он спел предсмертную песню. Напомнив народу о своих подвигах и призвав к продолжению борьбы против ханов, герой сам кинулся в огонь, прихватив с собой двух сыновей Нуцал-хана, пришедших поглазеть на казнь... Такова была месть за неслыханное нарушение священных законов гостеприимства.
У кого-то жестокий финал этой драмы вызывал неприятие, но суровая жизнь в горах диктовала свои законы, понятные каждому горцу. Вероломство требует отмщения, хотя бы и таким ужасным способом.
Пусть, час рожденья проклиная,
Скрипя зубами в маете,
Все подлецы и негодяи
Умрут от болей в животе.
Пусть кара подлеца достанет
И в сакле, и среди дворца,
Чтоб не осталось в Дагестане
Ни труса больше, ни лжеца!
[168]
До фильма была инсценировка поэмы в Аварском театре. «По её поводу у зрителей были разные мнения, — писал Махмуд Абдулхаликов. — Одни говорили, что так не может быть (имелся в виду тот момент, когда народный герой Хочбар с двумя младенцами-сыновьями хана бросается в огонь). Другие говорили, что так должно быть, надо мстить. Как бы там ни было, Хочбар остался Хочбаром на сцене Аварского театра. Зрители восприняли Хочбара — мужественного, честного, верящего в слово, превыше всего ставящего честь свою, бесстрашного борца против произвола ханов. Таким он в жизни и был, таким остался в легендах, песнях, преданиях. Так его интерпретировал и поэт Расул Гамзатов».
О Хочбаре было написано много, но высокое художественное осмысление горской легенды стало хрестоматийным лишь после появления поэмы Расула Гамзатова. Такое в литературе случается. «Гамлет» Уильяма Шекспира тоже был не первым произведением о датском принце, их были десятки, но смысловую предельность история Гамлета обрела лишь под пером Шекспира.
На «Ленфильме» картину снимали несколько лет. Режиссёром стал живший в Ленинграде дагестанский режиссёр и художник Асхаб Абакаров. Он прикладывал невероятные усилия, чтобы добиться запуска картины, носился между студией в Ленинграде, квартирой Гамзатова в Москве и натурой в Дагестане.
Автором сценария выступила Светлана Кармалита, супруга режиссёра Алексея Германа, который и сам помогал в работе над фильмом. Съёмки были в самом разгаре, когда случилось непоправимое. Режиссёр погиб в автомобильной катастрофе, он ехал посмотреть нового актёра на эпизодическую роль. Фильм заканчивал режиссёр Михаил Орловский.
Дискуссионность финала истории Хочбара неким образом отразилась и на восприятии фильма. Новый режиссёр многое сделал по-своему, как видел и понимал. Это было его право. Печально лишь, что зрителям не довелось увидеть картину такой, какой её задумал Асхаб Абакаров.
Расул Гамзатов помог осиротевшей семье режиссёра получить новую квартиру в Ленинграде.
Начало 1988 года омрачилось новой бедой. Ушёл из жизни Наум Гребнев, воин и поэт, бывший для Гамзатова больше, чем другом, больше, чем переводчиком. Он по праву занял место в том знаменитом журавлином клине, который воспел Расул Гамзатов. Гребнев переводил много — от национальных поэтов до Хайяма и библейских стихов. Перевод «Журавлей» его обессмертил.
Сопричастный к легендарным «Журавлям» Ян Френкель, воин и композитор, ненадолго пережил Гребнева. Он скончался в августе 1989 года. На экслибрисе Яна Френкеля, созданном художницей Ниной Канделаки, можно увидеть нотный фрагмент знаменитой песни и летящих журавлей.
Замечательный композитор создал много выдающихся песен, оставшихся в памяти народа: «Калина красная», «Сколько видано», «Погоня», «Русское поле», «Для тебя», но вершиной его творчества остались «Журавли».
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Свершилось то, что Расул Гамзатов ждал много лет. В 1988 году была, наконец, опубликована его многострадальная поэма «Люди и тени». Была опубликована скромно — в книжке библиотеки журнала «Огонёк». И не бросалась в глаза — на обложке было написано «Две поэмы». Второй поэмой была «Любовь Шамиля».
Но Гамзатов был рад и этому, вспоминая, как пытался её напечатать ещё в 1963 году, как противился Аджубей, как шарахались от неё редакторы, будто это была граната с вынутой чекой.
Кто виноват?
Не ты ли, мой Учитель,
Кремлёвский житель, злая голова,
Доверия людского отравитель,
Поссоривший поступки и слова?
Живой, ты возносился, бронзовея.
И что скрывать — тебе я славу пел
И вынести потом из Мавзолея,
Как делегат партсъезда, повелел
[169].
Тогда это было криком души, болью израненного сердца, откровением, отречением, приговором сталинским репрессиям. Но время приглушило набатное звучание поэмы, пригасило накал. За четверть века многое изменилось. Общество пресытилось разоблачениями, духовной пищи было хоть отбавляй, а еды всё меньше. Людям становилось не до поэзии.
Если спросить не специалистов, а простых, верных и по-прежнему многочисленных поклонников творчества Расула Гамзатова, которые не перестают цитировать его строки, читали ли они поэму «Люди и тени», слышали ли о ней, то вопрос этот их, скорее всего, удивит. Выдающаяся поэма так и не стала заметным явлением в обществе, потому что общество её не прочло.
О том, как менялось восприятие поэтов и поэзии, Расул Гамзатов позже высказал Гаджикурбану Расулову: «Сейчас популярность писателя определяется не его книгами, не его талантом, а появлением на страницах газет, на радио, на телевидении. Такая популярность часто бывает хорошо организованной. Когда меня показали по телевидению — позвонило более ста человек, а когда вышла моя новая книга — телефон молчал».
Замечательная поэма осталась почти незамеченной. Но ещё печальнее было то, что в смутном хаосе перестройки зрел запрос на «твёрдую руку». Обманутые надежды вызывали тень генералиссимуса, за которой чудились порядок и надежда на лучшее будущее.
Я разные увидел времена —
Каким был Сталин до и после смерти...
Каких вождей сдувало лёгким ветром,
«Кузькина мать» — и та не сберегла.
Сменил Хрущёва Леонид Ильич,
Грудь в звёздах — точно коньяка бутылка.
«Процесс пошёл...». Пришла другая клика.
Мне перемен тех странных не постичь
[170].
Расул Гамзатов размышлял в беседе с Феликсом Медведевым:
«Сейчас идёт перестройка. Оглядываясь назад, нужно идти вперёд — это необходимо. Иначе нельзя. Только стремление своё не показывать надо, а доказывать.
Но в каждом хорошем начинании, к сожалению, иногда появляется порча. Сейчас наблюдается то, что я бы назвал однобокостью: крикуны, говоруны, ниспровергатели. Под видом гласности — голосистое кликушество. А истина-то в серьёзной дискуссии, в сопоставлении разных взглядов...
Не нравится мне и суета некоторых уже немолодых писателей, которые поскромнее должны себя вести. Они считают, что перестройка благодаря им наступила. Да, настал черёд Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих “немолодых” голосовали за исключение Пастернака из Союза писателей. Никто из нынешних радетелей имени великого поэта не выступил в своё время в его защиту. А ведь они знали уже тогда все его стихи, все его произведения, знали, что он подарил России прекрасные переводы Шекспира, Гёте, Бараташвили. Отчего же молчали?
О Твардовском много говорят и пишут. Твердят, что музей Твардовского надо открывать, и всё такое... Но, дорогие мои, сходите на его могилу. Посмотрите, в каком она запущенном состоянии. Хоть бы цветок положили. Где были те или иные из нынешних смелых, когда на публикации “Нового мира” сочинялись коллективные письма под названием “Привлечь к ответственности за...”? Где были они, когда травили Твардовского, уже больного, лежачего?! Почему же тогда не защитили большого поэта?..
Меня тревожит массовость в искусстве, в литературе. Ведь искусство не спорт. Одних писателей сейчас чуть ли не одиннадцать тысяч. На писательских съездах, стыдно было участвовать в этом, самый большой спор разгорелся не по какой-то важной творческой или государственной проблеме. Нет, во время голосования вокруг кандидатур. Но, если по высокому счёту подходить, разве имеет значение та или иная кандидатура? Значение имеет только одно — талант».
Однако и талант рисковал сделаться разменной монетой. Темы и сюжеты принялся диктовать капитал, который смотрел на писателей, как на обслуживающий персонал. Как тут было не вспомнить знаменитое ленинское «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».
Мало кто мог противостоять сложившимся обстоятельствам. Эта древняя дилемма касалась не всех, лишь тех, чьё перо что-то ещё значило. Расул Гамзатов понимал, что происходит, но имя своё берёг. У него было много возможностей изменить самому себе, но он помнил, как древнеримский поэт Гораций ответил даже щедрому и бескорыстному Меценату, чьё имя стало потом нарицательным: «Если твои подарки сковывают мою свободу — возьми их назад!»
Поэзия, ты сильным не слуга,
Ты защищала тех, кто был унижен,
Ты прикрывала всех, кто был обижен,
Во власть имущем видела врага.
Поэзия, с тобой нам не к лицу
За сильным возвышать свой голос честный,
Ты походить не можешь на невесту,
Которую корысть ведёт к венцу
[171].
СКОЛЬКО НИ ГОВОРИ «ХАЛВА»...
Остановили не только фильм, складывалось впечатление, что остановилось всё вокруг. Страна, разумеется, продолжала трудиться, просто народ перестал безмолвствовать. Кругом шумели и митинговали. Но это уже были другие выступления, чем те, которых наслушался Расул Гамзатов в верхах власти и о которых теперь писал в стихотворении «Аплодисменты»:
Мы хлопали.
Ладоням было больно.
Они, бывало, в прошлые года
От собственных ударов добровольных
Краснели, словно щёки от стыда...
Как исступлённо мы в ладони били
В ответ словам проклятий и похвал.
И если руки — это наши крылья,
Я неразумно крыльями махал...
Я хлопал, я стучал ногами об пол,
И по нужде, и по охоте, всласть.
Мне кажется: я молодость прохлопал
Или её значительную часть...
[172]
На Первый съезд народных депутатов СССР в мае 1989 года делегат Расул Гамзатов ехал с большими надеждами. Он хотел понять, разобраться, высказать наболевшее. Но список желающих выступить оказался так велик, что до Гамзатова очередь просто не дошла. Следовало позаботиться заранее или «поработать локтями», чего поэт не умел. Объяснить избирателям, почему не прозвучал его голос, почему не «блеснули сабли горцев», когда так громко выступали другие, было трудно.
О чём он собирался говорить, Расул Гамзатов рассказал в интервью с Ириной Пироговой для газеты «Советская культура»:
«Я хотел бы начать с того, что земля наша всё-таки не оскудела смелыми и умными людьми. Несмотря на всё прожитое и пережитое, к нашему счастью, есть много не тронутых коррозией голов, не оккупированных, не обюрократившихся сердец, нештампованных мыслей и неподвластных голому расчёту чувств. Они, именно они способствуют тому коренному прорыву и перелому в нашем обществе, которого жаждут миллионы и в котором пока что сомневаются многие. Некоторая категоричность суждений, предвзятость мнений, дуэли запросов, вопросов и требований друг к другу, очереди к трибуне, как за сахаром и мылом, на мой взгляд, как в зеркале отражают ту незавидную действительность, в которой находится наша страна... Вот почему о взаимоотношениях наших людей, а порою даже и участников съезда, увы, не скажешь: “И звезда с звездою говорит”.
Некоторые берут под сомнение необходимость союза друзей и братьев, утверждая, что лучше быть отдельно, чем вместе, лучше разобщённость, чем общность...
Я не за слияние языков и наций. Я за то, чтобы все они друг с другом теплом и светом делились. У нас гораздо больше причин быть вместе, чем отдельно, особенно в этот ответственный момент болезненного “переходного возраста” нашей перестройки. Её исход — судьба всех и каждого из нас. Мало радости от того, что распадаются семьи, и обществу, и им самим, а особенно детям...
Соревнование амбиций не поможет торжеству мудрости. Крик, шум, лозунги и воззвания никогда не были лучшей формой разрешения сложных проблем, даже если их пытаются приодеть в одежды гласности и демократии. Порой думаю: неужели это правда, что некоторые о нас говорят? Неужели действительно мы умеем только бороться, а не жить? Если не с кем бороться, мы не столько борцы, сколько скандалисты. “Кто друзей себе не ищет, тот враждует сам с собой”, — говорил Шота Руставели. Наша гласность тогда приведёт к согласию, когда друзей будем искать...
Вот мы на съезде всё время и спрашивали: “Кто виноват?”, “Что делать?” И всегда оказывались виноватыми минувшие зимы и ушедшие правители...
В нашей системе созданы все условия, чтобы стать богатым, не работая, и оставаться бедным, не щадя себя в труде. Не из Сицилии же в самом деле к нам пришли мафия и коррупция. По этой части взяточники, воры, преступники, провокаторы и убийцы во всех эшелонах, во всех республиках своим “интернациональным опытом” сами могли бы успешно поделиться с “коллегами” из Палермо и Чикаго».
Атмосфера в трещавшей по швам стране становилась всё тревожнее. Это сказывалось и на литературе, которая вдруг стала почти ненужной. Оказавшись не у дел, писатели послабее пустились разоблачать и ниспровергать друг друга. Литературная критика смолкла в недоумении, наблюдая, как Союз писателей превращается в клуб боёв без правил.
«Талант у нас стал не редкостью, а массовым явлением, — удивлялся Расул Гамзатов, беседуя с Ириной Пироговой. — Как спорт... Скоро, кажется, и стать членом Союза писателей будет так же легко, как членом какой-нибудь новорождённой организации неформалов».
Поэт Расул Гамзатов всё ещё оставался крупным политическим деятелем и заглядывал куда дальше, чем самые смелые витии на митингах. И виделось ему то, чего не принимала душа — катастрофа СССР. Чтобы увидеть, во что превращалась политика, далеко заглядывать уже не приходилось. Из науки управлять обществом и государством политика становилась способом их изощрённого ограбления.
Из космоса этого видно не было. Там по-прежнему всё шло правильно, и задания выполнялись точно. На орбитальном комплексе «Мир» теперь работал дагестанский космонавт бортинженер Муса Манаров, установивший новый мировой рекорд продолжительности космического полёта и получивший за этот подвиг звание Героя Советского Союза.
НА РУИНАХ КОЛОССА
Но на одной шестой части суши, в СССР, всё было иначе. Государственный механизм разладился. Спасти страну от надвигающейся катастрофы было уже невозможно. Гамзатов тревожился за Дагестан, за будущее небольшой республики, но журналистов больше интересовала судьба самого поэта.
Из беседы с Евгением Дворниковым:
«— Вы защищаете Дагестан и горцев. А вот читатели не всегда готовы защищать вас. Недавно наша редакция получила письмо из Дагестана, Извините, процитирую: “Расул Гамзатов не великий поэт, потому что он “певец застоя”. Пик его славы пришёлся на брежневские времена. И в годы Хрущёва ему жилось неплохо. И при Сталине”. Скажите откровенно, сердят такие письма? Или вы считаете их хулой?
— Конечно, самолюбие задевают, но в ответную атаку идти не собираюсь. Во-первых, знаю, что я не великий поэт.
Тут с автором письма полностью согласен. Во-вторых, поэтической славы я ещё не вкусил. Быть может, у меня есть некоторая популярность, но слава — это совсем другое. Кроме того, не думаю, что поэт — если он в самом деле художник — живёт в какие-то периоды: хрущёвский, брежневский и т. д. Такая периодизация может быть у обывателя, но не у поэта. Сегодня, как и в “брежневские” годы, я пою “Журавли”. Всё о том же моя лирика: берегите детей, берегите матерей...
Прожита жизнь, и теперь, оглядываясь назад, вижу: всё, что было связано в моих стихах с политикой, оказалось, к великому огорчению, недолговечным. О многом сожалею. Сожалею, что не написал то, что мог бы написать. Но куда больший грех: писал то, что мог бы не писать...
— Помните у Пастернака: “И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба”?
— Пастернак — поэт вечности. В двух этих строках уместился весь смысл поэзии...
— Был ли в вашей жизни случай, когда вы устыдились собственного поступка? Пусть не поступка — хотя бы молчания...
— Было, всё было... Однажды я с женой сидел в Москве в ресторане “Баку” — это напротив моего дома. И вдруг из-за соседнего столика от незнакомых людей получаю такую записку на бумажной салфетке: “Как же так, поэт Гамзатов? Вы до сих пор не написали об афганских “Журавлях”.
Уже шли в мою страну цинковые гробы; ко мне, депутату Верховного Совета СССР, почтальон чуть ли не каждый день приносил горестные письма, а на праведных устах поэта лежала печать молчания. Эта записка на бумажной салфетке и эти письма, облитые слезами, — укор на всю жизнь... Мы сейчас ругаем “тройки”, которые принимали трагические решения в годы репрессий. Но разве не трое-четверо санкционировали афганский поход?
— Простите, простите... Вы же были членом Президиума Верховного Совета СССР. К кому же вы теперь апеллируете? У вас власть от имени народа.
— Да меня никто не спрашивал, отправлять ли наших ребят в огонь. О вводе войск я узнал, как и все, из газет. А люди думают, будто на заседании Президиума было какое-то голосование, и Гамзатов поднимал руку “за”.
— Тогда напрашивается философский вопрос. Может быть, поэт вообще должен быть подальше от власти? Он — властитель дум и сердец, и этого достаточно. Прямая связь с государственными структурами чревата, как видим, конфликтом с собственной нравственностью...
— Нет, лучше пусть будет поэт в органах власти, чем кто-то другой. Всё-таки почти всякий художник — гуманист, душа государства. Ведь у всех государств — сердечная недостаточность. Тяжко только, когда твоим мнением не интересуются».
Что было дальше известно всем, кто видел те годы, но каждый трактует это по-своему. Осмыслить происходившее было трудно, не понимали этого до конца и сами вершители истории. В поэме «Времена и дороги» Расул Гамзатов писал:
Не знаю, я не знаю, что за снег
В горах такое породил ненастье.
Иль это время, полное напастей,
В засаде поджидало, как абрек.
Что за очки у сердца моего? —
Минувшее ясней того, что рядом.
Каким меня окутывает чадом,
Что впереди не видно ничего?
[173]
В марте 1990 года Михаила Горбачева избрали президентом СССР. В июне Борис Ельцин стал президентом РСФСР. И то и другое было зыбко, и президенты схлестнулись в борьбе за главную власть.
А тем временем начались массовые забастовки, породившие экономический хаос и разрыв экономических связей. Деньги обесценивались, как коммунистические идеи. Инфляция съедала последние сбережения, банковские вклады были заморожены. Кризис уравнял всех, обнищавшему населению предлагали самому о себе позаботиться.
Либерализация цен сделала продукты малодоступными. Однако, по изумлявшему иностранцев советскому обыкновению, при пустых прилавках магазинов холодильники граждан, как правило, бывали полны. Талонная система на самое необходимое, введённая впервые с послевоенных лет, кое-как спасала положение. Привилегированным слоям еженедельно выдавались «продуктовые заказы». Но тревожное ожидание, что скоро и это всё может кончиться, заставляло людей запасаться впрок всем, что можно было ещё найти.
Помнится почти фантасмагорическое зрелище, когда известные московские писатели, осчастливленные талонами на закрытую распродажу в Манеже, стояли в огромной очереди за посудой, кофемолками, коврами и прочим «дефицитом». Лица у классиков были озабоченные, глаза они старались отводить в сторону, ощущая чувство стыда, почти позора. Да и товары эти не были им нужны, но приходилось брать, что дают, потому что вполне могло случиться, что исчезнет и это. Расула Гамзатова среди покупателей не было, его больше волновала исчезающая держава.
СССР оказался колоссом на глиняных ногах и неудержимо рушился. Бывшие советские республики объявляли себя независимыми государствами. Попытки удержать их оборачивались столкновениями. Разгорались споры о территориях, межнациональные конфликты, начиналось вооружённое противостояние, пролилась кровь. «Начали с перестройки, а закончили перестрелкой», — вспоминал горький юмор Гамзатова его врач Тажудин Мугутдинов.
Больше всего Расул Гамзатов опасался, что распри затронут и Кавказ. Затронули. Он боялся за единство многонационального Дагестана. Его пытались расшатать.
«Национальный вопрос тут ни при чём, — говорил он в интервью Фатине Убайдатовой. — Это борьба за власть. Основа всех военных конфликтов — деньги. Всякий переворот совершает брюхо. А человек, если голоден, может натворить много бед... Лучшее решение национального вопроса — не поднимать его. На этом делают деньги, карьеру. Поднимают еврейский вопрос, создали образ “лица кавказской национальности”. Когда я приехал учиться в Литинститут, я не знал, кто какой национальности. Какая мне разница. Мне подавайте талант, какой бы нации он ни был. Горький хорошо сказал: “Не командовать надо друг другом, а надо учиться друг у друга”».
Последующие годы показали, что единство многонационального дагестанского общества выдержало суровые испытания. В смутные времена народы сплотились, в них веками было укоренено понимание, что выстоять, победить можно только вместе, по отдельности можно только пропасть. Не мог себе представить Гамзатов и отделения Дагестана от России. Когда начинали набирать силу сепаратистские тенденции, Расул Гамзатов громко заявил: «Некоторые в Москве говорят: Дагестан хочет уйти, отложиться от России. Это враньё! Дагестан хотят оторвать от России! Хотят отшвырнуть его на четыреста лет назад, в полную нищету и хаос». А затем произнёс фразу, ставшую одной из его самых знаменитых: «Дагестан добровольно в Россию не входил и добровольно из России не выйдет».
Российская Федерация сохранила свою целостность. СССР попытались сохранить отжившими способами. Блокировав в Крыму президента СССР Михаила Горбачёва, самопровозглашённый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который входили весьма высокопоставленные фигуры, ввёл чрезвычайное положение. Августовский путч выглядел фарсом, но мог привести к большой крови. Народ вышел на улицы, чтобы защитить демократию. Войска, стянутые в Москву, отказались стрелять в народ. На большом митинге у российского Белого дома Ельцин взобрался на танк и объявил ГКЧП преступниками, пытавшимися совершить государственный переворот.
Путч провалился, руководители ГКЧП были арестованы. Горбачёв вернулся в Москву и сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС.
Утратил свою власть и Верховный Совет СССР, членом президиума которого всё ещё состоял Расул Гамзатов. В последний раз депутаты собрались на Съезд в сентябре 1991 года, чтобы объявить о самороспуске.
Об исчезнувшей должности Расул Гамзатов не сожалел. В политике он давно разуверился. «Чтобы стать писателем, нужно написать три книги, — говорил он. — А чтобы стать политиком — достаточно три раза соврать». Он даже почувствовал облегчение, потому что всегда предпочитал политической карьере поэтическую судьбу.
Вскоре последовали Беловежские соглашения, покончившие с СССР и образовавшие 8 декабря 1991 года СНГ (Содружество Независимых Государств) из нескольких республик, посчитавших за лучшее держаться вместе. Расул Гамзатов писал:
Как партизаны, в Беловежской Пуще
Биллиардисты били по шарам.
И разогнали по своим углам
Пятнадцать неделившихся республик
[174].
А затем последовало заявление Горбачева о сложении полномочий президента СССР.
И без того нездоровое сердце Расула Гамзатова обрело ещё одну боль. Слишком много в его жизни было связано с СССР. Много хорошего, светлого, правильного. Он был патриотом своей страны, хотел её обновления, восстановления могущества государства, которое ещё недавно было сверхдержавой. Особенно больно было сознавать, что перестройка привела к объединению Европы и... развалу СССР.
О реакции отца на гибель СССР рассказывала в интервью Таисии Бахаревой дочь поэта Патимат: «В это время он был в Махачкале, случившееся стало для него потрясением. Конечно, он видел и говорил о многих недостатках, которые были в Советском Союзе. Больше всего его взволновала агрессия народов, которые ещё недавно были друзьями. Это не громкие слова — папа действительно дорожил дружбой народов. А тут всё рухнуло в одночасье. Он состоял в Коммунистической партии и ни минуты не раздумывал над тем, чтобы выйти из её рядов. Папа был членом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета, знал многих членов правительства, но дружбы с первыми лицами государства никогда не водил. Ему больше нравилось общаться с людьми творчества».
Поэт не принимал происходящего, но чувствовал, что до конца этой грандиозной геополитической драмы ещё далеко. Он старался укрепить ослабшие творческие связи, сохранить хотя бы подобие Союза писателей СССР. Он верил, что культурные мосты между людьми и народами ещё крепки, что они мало подвержены инфляции и их не так легко разрушить, как СССР.
Но кризис был повсюду, лез из всех щелей, разъедал государственный организм, как ржавчина. Лучшие экономические умы пытались придумать волшебную формулу спасения страны, однако дело кончилось большевистским заветом «отнять и поделить» и новым лозунгом «разрешено всё, что не запрещено».
Страна погибает, дают нам рецепты,
Как это исправить, как вылечить это.
Рецепты от краха, от разных мытарств...
Но нету в аптеках подобных лекарств
[175].
Если раньше считалось, что отнимают у «буржуев» для государства, то теперь государственное имущество, заводы, нефтяные месторождения, рудники и прочие высокодоходные предприятия передавались в частные руки. Делалось это с помощью государственных же кредитов, которые смогли получить самые хваткие и приближённые к власти люди.
Пока кругом неслось на все лады:
Дзержинский, миновало ваше время!
Лукавых мудрецов лихое племя
Распродало Вишнёвые сады.
Нам новые законы написали
И принялись по-своему рулить,
Да так, что всё сумели растащить...
А виноватых нет... И не искали
[176].
Творилось нечто загадочное для большинства населения страны. Были выпущены ваучеры, и формально каждый получил право на часть национального богатства. Было объявлено, что за каждую такую бумажку можно будет получить два автомобиля «Волга». Получить автомобили не удавалось, люди не знали, что делать с этими «приватизационными чеками». А так как население к тому времени практически лишилось своих трудовых сбережений, замороженных в банках, то оно попросту продавало свои ваучеры за гроши на чёрном рынке, чтобы получить хоть что-то. Ваучеры охотно скупали те, кто знал, что с ними делать. За ваучеры прежние директора могли выкупить акции своих предприятий. Сколачивались колоссальные состояния. А народ, как всегда, оставался обманутым.
Смотри — там очередь за водкой, за вином,
За квасом, за бензином, молоком.
И толькокровь течёт безвинно,
Она дешевле кваса и бензина
[177].
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!» — предостерегал мудрец Конфуций. Но ловкие дельцы смотрели на дело иначе. Почувствовав, что безумное время таит в себе безумные возможности, они вольготно мародёрствовали на руинах советской экономики.
Ослабление морального иммунитета приводило к тому, что люди утрачивали способность делать достойный выбор между выгодой и нравственностью. Духовный вакуум оказывался опаснее вакуумной бомбы, порождая кризис социальных и культурных ценностей. Бездуховность вела к бесчеловечности. В опустошённые души легко можно было посеять всё, что угодно — от терроризма до наркомании. Эти губительные сорняки прорастали быстро и не требовали окультуривания. Моральные барьеры становились всё ниже и грозили исчезнуть окончательно. Человеческие добродетели пора было записывать в Красную книгу как отмирающее явление.
«Сон разума рождает чудовищ», — предрекал испанский живописец Гойя. «Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы!» — взывал Толстой, проповедуя жизнь по совести. Но их не услышали, как не слышали множество других творцов, писателей, философов, пытавшихся вернуть человечеству человеческий облик.
И всё же Расул Гамзатов и его почитаемые в стране коллеги пытались спасти духовное единство. Но их не слушали. После экономики принялись делить культурные ценности.
Это наследие было огромно, но в цене оказалось лишь то, что имело материальную ценность — недвижимость, денежные средства, музейные ценности и многое другое. Предлагалось разделить даже Большой театр — бесспорно общее культурное наследие, но как это сделать, никто не знал. Разве что снять квадригу с крыши и установить где-нибудь в парке на окраине бывшего СССР. Ещё можно было разобрать по бывшим республикам фигуры, окружавшие фонтан Дружбы народов на бывшей Выставке достижений народного хозяйства СССР.
В Министерстве культуры СССР существовал экспертный совет, участвовавший в финансировании театров. Последним деянием совета стала раздача денег, зарезервированных на покупку пьес. Десятки драматургов из разных республик получили приличные гонорары, на которые уже и не рассчитывали. Последней пьесой, закупленной Министерством культуры СССР, оказалась пьеса автора этой книги под названием «Анабиоз, или Игра в дурака». Комиссия сочла её очень актуальной на том основании, что речь в пьесе шла о тюрьме, оставшейся без охраны, и бывших заключённых, не спешивших её покидать.
Расул Гамзатов не скрывал своего возмущения тем, что творилось вокруг:
А тот, кто обещал на рельсы лечь,
Стал режиссёром этого позора.
Его бояр бесчисленная свора
Не собиралась ничего беречь
[178].
Расул Гамзатов писал теперь меньше, состояние общества к поэзии не располагало. Да и близких ему переводчиков, из тех, что ещё остались, Гамзатову заботить не хотелось. Он понимал, что им приходится нелегко, за издания платили всё меньше, и нужно было как-то выживать. «Kunst will Gunst», — говорят немцы («искусство нуждается в покровителе»). Но государство отстранилось от культуры, литературы, поэзии, а новые Медичи и Морозовы всё не появлялись.
Школа перевода, которая уже многие годы едва подавала признаки жизни, была в смертельной опасности, ещё немного, и она могла исчезнуть совсем. Это беспокоило не только Расула Гамзатова, национальная литература могла лишиться моста, который связывал её с литературой мира. Поэт сказал об этом в беседе с Косминой Исрапиловой:
«— На протяжении многих лет вас переводят одни и те же переводчики. С одной стороны, это вроде бы хорошо, но с другой — у них возникает стереотип “гамзатовской поэзии”, который неминуемо сказывается на качестве работы. Как-то в разговоре со мной Валентин Берестов даже сказал, что Гамзатова “затрепали” старые переводчики, ему нужны молодые, со свежим взглядом. Вы согласны с ним?
— Переводчиков нет молодых и старых, так же как и поэтов. Пастернак перевёл в старости “Фауста”, Заболоцкий — “Витязя в тигровой шкуре”, Маршак был уже не молод, когда перевёл сонеты Шекспира и песни Бёрнса. Этих переводчиков никто не заменил.
В молодости меня перевели хорошо, потому что я плохо писал. Считаю, что надо конкретно сказать. Для меня большая потеря — Гребнев. Мои поэмы хорошо перевёл Хелемский, лирику — Козловский, прозу — Солоухин. Я благодарен Елене Николаевской, Юнне Мориц, Роберту Рождественскому, Юлии Нейман. Удачно перевела Марина Ахмедова поэмы “Ахульго” и “Суд идёт”. Книгу моих элегий перевёл Станислав Сущёвский. Сейчас, как и всё искусство, переводческое искусство в забвении. Но я думаю не о переводах, а о том, как писать».
Переживая за свой народ, Расул Гамзатов выступал в печати, на телевидении, на встречах с людьми. Он пытался их поддержать, обнадёжить, вдохновить. Но приходилось называть и причины тяжёлой болезни, поразившей страну.
«От кривой палки прямой тени не бывает, — размышлял Расул Гамзатов, беседуя с Евгением Дворниковым. — Мы же пока всё время стремимся тень выпрямлять вместо того, чтобы выпрямить палку... Разоблачили сталинские репрессии, хрущёвский волюнтаризм, брежневский застой, но ведь это всё — тени. Пора ответить на кардинальный вопрос: почему вообще могли произойти такие извращения в рамках социализма?
Мы называем нашу дорогу ленинской. Хотя известно, после Ленина чуть не каждый прокладывал её по-своему... Самые трагические годы насилия назвали периодом окончательной победы социализма. При этом и палачи, и жертвы пели: “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”. Стали двигаться к развитому социализму. Но как? При помощи лозунгов и помпезных парадов... А думаете, сейчас слова равны делам? Нет, по-прежнему между словом и делом протекает широкая река, и самая высокая гора стоит между благими намерениями и претворением их в жизнь. Мы начинали с “Манифеста” и “Капитала”. Как же случилось, что у нас теперь остался только манифест и нет никакого капитала? А весь капитал — у них, кто разумно жил и работал. А произошло вот что: сперва мы из хороших землепашцев сделали не очень квалифицированных рабочих. Потом этих рабочих подучили и выдвинули на руководящие должности, сделали из них кабинетных деятелей. Так природные крестьяне стали иждивенцами страны. Теперь хватились. Но вернуть нынешних начальников в прежние землепашцы куда сложнее. К примеру, из поэта можно сделать президента, а наоборот — не всегда».
Он призывал народ сберечь страну, сохранить то, что оставили им предки и тот же СССР — культуру, интернационализм, веру в светлое будущее.
Я — Дагестана пёс сторожевой.
Лишь свиснет он, к его судьбе причастный,
Вновь вздрогну, как от раны ножевой,
И полечу на этот зов всевластный.
Его вершины, славу, письмена
Не я ли охранять давал поруку?
И впредь с любовью женщина одна
На голову мою положит руку.
И одолев в честь собственных заслуг
Я вплавь громокипящие потоки,
Несу дозор у входа в звёздный круг,
Где по ночам беседуют пророки
[179].
«Как кажется кое-кому, “его время прошло”, — писал Камал Абуков. — Ибо те высокие звания и награды, которых Гамзатов удостаивался по праву, как будто бы потеряли ценность, книги, за которые он получил Сталинскую премию, затем и Ленинскую, якобы ныне также не представляют интереса... Но не повинен поэт в том, что развалилась держава, поруганы идеалы, в которые он верил. А поэмы “Год моего рождения”, “Горцы у Ленина” или же “Горянка” и “Весточка из аула” остаются явлениями классическими, ибо их высокий художественный уровень не способны умалить капризы блудливой политики и маневры флюгерных критиков.
Вероятно, Гамзатов обо всём этом думает, но думает по-своему, со свойственной ему мудростью и не делает из независящей от него ситуации трагедии, не ходит в облике жертвы. Совесть чиста: он творил не во имя славы, а по потребности души.
Ничего не скажешь — тоскливая картина: было гигантское дерево, да срублено. Так ли это? Нет! Бывает, конечно же, что у Гамзатова и батареи холодные зимой, иногда и свет тушится, и телефон барахлит, и книги задерживаются в типографиях дольше обычного, и гонорары выплачиваются с перебоями, и давление поднимается, и настроение паршивое. Но Расул Гамзатов из этого не делает трагедии, ибо он не только поэт, но и философ, не только человек, а мудрый человек. Он живёт, как все, по принципу, заявленному ещё в 1980-е, в пик своей шквальной славы, “Мне отдельного счастья не надо!”».
Иногда, устав от волнений и льющегося со страниц газет безумия, Расул Гамзатов уезжал в горы, в Цада. Истоки оставались лучшим советчиком. И легче становилось на душе.
Ах, Пушкин, Пушкин! Митинги вокруг,
Листовки, крики, ругань, вопли, споры...
Но ты со мною, мой любезный друг,
У нас ещё орлы парят. И тишина. И горы
[180].
«МНЕ ВСЕ НАРОДЫ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ»
«Когда нахожусь дома, то в окно моего маленького аула стучится весь мир, — писал Расул Гамзатов. — В окно большого мира всегда стучится и мой маленький аул, мой Дагестан. Это значит, что я не могу думать о судьбах страны, о судьбах мира, не думая в свою очередь о жизни моего Цада, моего Дагестана. Такое высокое духовное состояние, в котором нет места собственному любованию, националистической исключительности, свойственно моим современникам, всем советским людям. Чувство интернационализма, “высокий трепет приобщения” к радостям и волнениям народов-братьев, единство которых вечно и несокрушимо, неприятие национализма — вне этого я не мыслю своего существования, не представляю своей работы в литературе».
Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ
[181].
Дружба на Кавказе священна. Гость всегда был важнее хозяина. Кунаки были почти братьями, а детей отдавали на воспитание в дома друзей даже других национальностей, следуя традиции аталычества. Эти обычаи бережно хранились, как бы далеко ни оказывались горцы от родного дома.
В начале 1990-х годов автор этой книги был главным редактором нового московского журнала «Эхо Кавказа». Журнал освещал историю и культуру Кавказа, публиковал материалы просветительского и миротворческого характера, устраивал вернисажи национальных художников, участвовал в различных акциях по укреплению и развитию межнационального сотрудничества и сотворчества. Поначалу многие редакции Дома российского прессы, в котором располагался и журнал, восприняли его появление настороженно. Но, познакомившись с первыми его номерами, стали друзьями и очень помогли становлению журнала. Поддерживали журнал и кавказцы разных национальностей, жившие в Москве. Серьёзную помощь оказывали Министерство печати и мэрия столицы.
Когда известный борец Ваха Евлоев устроил презентацию журнала в весьма солидном заведении, состав гостей напоминал многонациональный Советский Союз. Идея журнала была близка и понятна, необходима и позитивна. Расул Гамзатов даже уговорил врачей отпустить его из больницы, чтобы принять участие в этом редком по тем временам событии. И прибыл он со своим близким другом — знаменитым артистом Махмудом Эсамбаевым.
Это был праздник друзей. Расул Гамзатов выступал, как всегда, ярко и афористично: «Культура — это уникальный опыт народов, передаваемый всему миру». Он назвал себя и всех собравшихся «специальными корреспондентами журнала “Эхо Кавказа”», а затем прочёл своё ещё не переведённое стихотворение о братстве людей и красоте дружбы между народами.
Махмуд Эсамбаев говорил, что нет ничего важнее мира, нет ничего красивее, чем дети: «И дай Бог, чтоб дети не плакали. Дай Бог, чтобы наши старики не были вынуждены копаться в кучах мусора. Дай Бог, чтобы женщины улыбались. Дай Бог, чтобы люди сеяли добро, а не зло».
Муса Манаров, Артур Чилингаров, Георгий Шахназаров, Александр Мишарин, Эрнест Бакиров — знаменитых гостей и артистов было много. Не обошлось и без автографов. В честь Расула Гамзатова был проведён импровизированный аукцион, на котором его книга «Клятва землёй» была куплена за сумму, которую, как сказал поэт, ещё никогда не платили за его книгу. Поэт написал на ней:
«Гостю журнала “Эхо Кавказа ”
с добрыми дагестанскими пожеланиями».
Расул Гамзатов сам был наглядным воплощением интернационализма в единстве формы и содержания, как призывал социалистический реализм.
Ректор Центрального многопрофильного института в Москве Абубакир Тамбиев, большой почитатель творчества Расула Гамзатова, вспоминает о нём с особой теплотой. Он с юности был увлечён поэзией Гамзатова, и книги с автографом поэта стали украшением библиотеки Тамбиева. Ему посчастливилось познакомиться с ним в Москве, и однажды он рассказал Гамзатову, что могила сына Шамиля Магомеда-Шапи находится на родной для Тамбиева Карачаевской земле. Генерал-майор Магомет-Шапи скончался в 1905 году, когда лечился в Кисловодске, его похоронили неподалёку, в селе Абуковском, теперь это село Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Когда Расул Гамзатов оказался в тех краях, они вместе навестили могилу сына легендарного имама.
Карачаевский народ, как и многие народы Северного Кавказа, подвергся репрессиям, о которых Расул Гамзатов писал в поэме «Люди и тени»:
И повеленьем грозного владыки —
Как под метёлку до одной души,
Чеченцы выселяются, калмыки,
Балкарцы, карачаи, ингуши...
«Он был не просто великим поэтом, — говорит Тамбиев. — Его поэзия была источником вдохновения для других поэтов, на его стихах воспитано не одно поколение». Тамбиева не переставало удивлять, что при всей своей славе, регалиях, наградах Гамзатов оставался доступным человеком, мудрым горцем с огромным чувством юмора и продолжал писать замечательные стихи, которые трогали сердце, волновали и запоминались. Как эти строки, которые Тамбиев часто цитирует:
Пусть будет хорошо хорошим людям
И по заслугам плохо — всем плохим!
И к которым Гамзатов добавлял: «Пусть плохие тоже станут хорошими, а хорошие — ещё лучше».
В книге «Звёзды Кавказа» Народный поэт Карачаево-Черкесии Назир Хубиев рассказывает о визитах Расула Гамзатова в республику. Каждый его приезд сопровождался запоминающимися историями и высказываниями поэта. Его ждали везде, и Гамзатов наслаждался не только великолепной природой Домбая или Архыза, но и общением с людьми. Особенно тёплыми были его встречи с поэтами, которые читали ему свои стихи, переводы на родной язык произведений Расула Гамзатова и даже стихи, посвящённые ему самому. Но любовь к Гамзатову отражалась не только в поэзии.
«В сентябре 1973 года, — пишет Назир Хубиев, — в честь пятидесятилетия Расула Гамзатова поклонники его таланта из города Карачаевска поэты Азамат Суюнчев, Магомет Хубиев и я совершили восхождение на одну из вершин Мухинского хребта и оставили надпись:
В честь юбилея сына Гамзата
Там, где ветер горный уснул,
Мы покорили вершину Кавказа,
Назвали её Пиком — Расул.

С этой вершины мы дали поздравительную телеграмму поэту, пожелав ему столько десятков лет жизни, сколько слов в песне “Журавли” и столько счастья, сколько строк в поэме “В горах моё сердце”».
Гадис Гаджиев приводит диалог, который случился у него в Москве:
«В 1972—1973 годах, будучи аспирантом ДГУ, я находился в Москве, в научной командировке. Направляясь в библиотеку, разговорился с одним сибиряком.
— Издалека приехали, молодой человек? — спрашивает он.
— Из Дагестана.
— Значит, земляк Расула Гамзатова?
— Да. Правда, читаю его, как и вы, на русском языке. В оригинале не могу, так как я лакец, а он — аварец, языки разные.
— Никакой он не аварец...
— А позвольте у вас поинтересоваться, кто же он тогда по национальности? — вопрошаю я недоумённо.
— Он гений, а у гениев национальности не бывает».
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Тревожные предчувствия Расула Гамзатова снова подтвердились. Он бы предпочёл обратное, но реальность была такова — вслед за распадом государства последовал развал Союза писателей СССР. Была в этом и гнетущая историческая связь. Отец поэта — Гамзат Цадаса стоял у колыбели создания Союза писателей СССР, Расулу Гамзатову, члену и секретарю этого союза, довелось присутствовать на его похоронах.
Наподобие того, как СССР преобразовался в СНГ, Союз писателей перевоплотился в МСПС — Международное сообщество писательских союзов. Это была не просто смена вывески, изменилось многое, почти всё. Членами МСПС были уже не сами писатели, а писательские организации некоторых бывших республик СССР.
Литературный фонд постепенно отстранился и стал почти самостоятельной организацией. Писательскую общественность теперь будоражили не столько новые произведения коллег, сколько схватки за писательскую недвижимость в столице, дачи в Переделкине, за привилегии и имущество бывшего союза, которое было немалым.
Окололитературные битвы вылились в разделение писателей на группы и сообщества, которые считали себя самыми правильными. Наплодившиеся, как грибы после дождя, писательские организации объявляли себя правопреемниками прежнего Союза писателей и его владений. Когда не помогали слова и бумаги, пробовали применять силу.
Для придания себе веса в члены союзов срочно рекрутировались начинающие и подающие надежды, среди которых были и полные невежды, графоманы, страдающие манией величия дельцы, которым не хватало лишь литературного ореола.
Гамзатов как в воду глядел, когда говорил, что скоро вступить в Союз писателей станет проще простого. Прежде это право нужно было заслужить многими годами творчества и немалым количеством изданных произведений, которые получили хорошие отзывы в печати. Необходимы были и рекомендации от известных писателей. И лишь затем высокая комиссия принимала дело к рассмотрению. Членский значок «обмывали» как боевой орден. Теперь даже писать становилось не обязательно, могли написать и за кандидата в члены, для соблюдения формальностей. Главным было «разделять взгляды», быть сторонником и ненавидеть конкурентов. А ещё лучше — оказывать спонсорскую помощь родному союзу. В результате всё так запуталось, что писатели, вступавшие в союз ещё при СССР, уже не знали точно, в каком союзе они состоят. Им это объясняли, когда наступала пора платить взносы, но потом и взносы были забыты, лишь бы писатели не уходили.
Чтобы дать дорогу одним, приходилось отодвигать других. Скоро мешать начали даже классики, соседство с которыми было невыносимо даже для новых гениев. Потом стали ранжировать и признанных классиков.
«Везде пришли новые люди, — размышлял Расул Гамзатов в беседе с Евгением Дворниковым. — Сняли прежних кумиров, провозгласили новых... Возьмём литературу, сферу, наиболее близкую мне. Почему сейчас почти напрочь вычеркнули, скажем, имя Николая Тихонова? Только потому, что он не был репрессирован? Выходит так: если бы он сидел при Сталине, мы бы подняли его на щит, верно? Поэт он превосходный. Но неужели факт биографии имеет такое решающее значение? Что же для нас первично: дар или биография? Почему забыт Исаковский? Ни одного упоминания о Рыленкове, Николае Ушакове, Маршаке... Да, в своё время они были награждены. Спрашивается: весомо ли их художественное слово? Или былая награда — теперь как проклятье?.. Почти забыты Галактион Табидзе, Чиковани, Самед Вургун, Турсун-заде, Рыльский, Тычина, Сосюра... Это же несправедливо — одним махом перечеркнуть целые литературные поколения, вознося лишь имена, которые когда-то были в опале и забвении. К Горькому придрались: “Если враг не сдаётся, — его уничтожают”... Маяковского упрекают: “Ваше слово, товарищ маузер!” Допустим, спорный взгляд, но ведь, кроме этой спорной строчки, у него есть что-то и другое. И этого “что-то” немало. Шолохова стали поминать с небрежением, Фурманова, Фадеева...
Получается, кто-то пытается прожить жизнь как бы заново, из сегодняшнего дня. Но ведь была живая жизнь. Такая, какая была. И писатели жили в той, живой, жизни со всеми её высотами и драмами. Куда ж мы уйдём от этого?..
Земля наша никогда не была скудна на смелых и решительных людей. Но не слишком ли много появляется запоздалых Галилеев? Теперь каждый второй становится Матросовым, зная, что из амбразуры стрелять не будут».
Союзы были разные, и репутация у них была разная, в основном они группировались вокруг известных имён и носили в писательском обиходе их же имена.
Расулу Гамзатову было горько наблюдать за тем, что творилось в писательских кругах Москвы, где разворачивались основные баталии. Он надеялся на мудрость литературных патриархов, верил, что большие русские писатели уберегут великую литературу от разрушительных процессов, сохранят единство братьев по перу.
Серьёзных писателей это не могло не печалить. Но и поделать с этим что-то было трудно. Пытавшиеся сохранить респектабельность союзы держались на громких именах свои председателей и почтении к ним в кругах власти.
Расул Гамзатов вошёл в руководство МСПС, которым руководил Сергей Михалков. Он видел в нём единственное сообщество, желавшее сохранить духовные связи, творческое сотрудничество между писателями бывшего СССР.
В ресторане ЦДЛ все по-прежнему были равны, но и Центральный дом литераторов вскоре преобразовался в Клуб писателей с особыми правилами. Если знаменитый «Пёстрый зал» с его историческими фресками ещё оставался демократичным местом, то зал Дубовый, где размещался сам ресторан, превратился в элитарное заведение, куда, учитывая цены, мог теперь заглянуть не каждый писатель.
«ПОЭТАМ НИКОГДА НЕ БЫЛО ЛЕГКО »
Расколотые писательские организации не сулили самим писателям ничего хорошего. В многонациональном Дагестане это было ещё опаснее. Возникшие сепаратистские движения могли растревожить и Союз писателей. В нём были национальные секции, но национального разделения не было. Гамзатов вспоминал мудреца Абуталиба, который говорил о временах Гражданской войны: «За одним котелком толокна говорили на двадцати языках. Один мешок муки делили на двадцать народностей».
Если весь союз во главе со своим руководителем не в силах был обеспечить писателям достойную жизнь, что могли бы сделать отдельные группы? Расулу Гамзатову с его авторитетом пока ещё удавалось получать для писателей поддержку от правительства, но она становилась всё скуднее. Сокращались издательские планы и тиражи, гонорары стали выплачивать книгами, которые автор продавал, если удавалось, падал спрос на литературные журналы. Начинающие писатели поневоле начинали задумываться: не заняться ли чем-нибудь другим? Оставались самые стойкие и талантливые, но и им приходилось думать о хлебе насущном.
Так было не только в Дагестане. Кое-где ситуация была ещё плачевнее. Если прежде власть писателей чтила, то теперь они оказались в сложных отношениях. Независимость писателей власти раздражала. Хотя кто, как не писатель, способен заглянуть в беспокойную душу народа, понять, что его тревожит, чему он радуется, о чём мечтает?
Писатели лишились миссии духовного учительства, ореола властителей дум, им попросту не находилось места в новом формате общества. Расул Гамзатов считал это серьёзной государственной ошибкой.
Времена, когда писатели могли существовать за счёт своих литературных трудов, канули в Лету. О писателях теперь вспоминали перед выборами, тогда они были востребованы, да и то лишь известные.
Писатели оказались на обочине общественных процессов. Возможно, это и есть настоящее место литературы, её башня из слоновой кости. Оттуда удобно наблюдать за происходящими процессами, пытаться предупреждать о надвигающейся опасности и указывать пути спасения. Многие продолжали это делать, не считаясь с тем, что их не слышат, а сами они превращаются в касту отверженных, которым сносно платят только тогда, когда они развлекают или повергают в ужас, а не тогда, когда они взывают к совести и пытаются пробудить душу. При отсутствии трибуны и мизерных тиражах голос писателя оставался гласом вопиющего в пустыне. В результате не только большинство людей оказывались оторванными от хорошей литературы, сами писатели — и те уже не понимали, в каком мире они живут. Лишь вечная надежда написать книгу, которая изменит мир к лучшему, сделает его чище и светлее, помогала творить.
Прежде мыслителей, философов высылали из страны целыми пароходами, теперь их просто не замечали. Мир изменился, литература уже не играла той роли, что прежде. И дело было не только в глухоте власти, куда страшнее оказывалось читательское равнодушие, пересилить которое теперь мог лишь гений, способный «глаголом жечь сердца людей».
Коммерциализация литературы катастрофически снизила её уровень, процветали, как правило, те, кто пичкал массы литературным фаст-фудом. Порой это напоминало рассказ Чехова «История одного торгового предприятия», в котором прекраснодушный господин попытался пролить свет просвещения во мрак уездного городка, погрязшего в невежестве и пороках. Он открыл там книжный магазин, выставив в нём произведения прогрессивных писателей. Но за неимением спроса магазин его очень скоро превратился в лавку с товарами, на которые был спрос, вроде гвоздей, свечей и спичек.
«На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает “американцами”, иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.
— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку “Вестника Европы”? — спрашивают его.
— Нет, не читал-с... — отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой. — Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся».
Книги на языках народов Дагестана всё ещё выходили, выпускались хрестоматии и антологии. Но ситуация становилась всё более печальной. Национальные авторы сталкивались с проблемами и вовсе неожиданными. Случилось то, во что Расулу Гамзатову не хотелось верить. Его
alma mater, его любимый Литературный институт перестал принимать авторов, не пишущих на русском языке. Выходило, что народись где-то новый Расул Гамзатов или Давид Кугультинов, и не видать им Литературного института, не найти друзей-переводчиков, не войти в большой мир российской литературы. Как не узнали бы русские читатели или путь к ним стал бы дольше и сложнее для талантливых дагестанских писателей Ахмедхана Абу-Бакара, Фазу Алиевой, Юсупа Хаппалаева и многих других.
О том, в каком положении оказались дагестанские писатели, Расул Гамзатов говорил Космине Исрапиловой:
«Поэтам никогда не было легко. Но сейчас особенно тяжело. Раньше была цензура, мы её ругали. А теперь нет цензуры. И всё равно книги до читателя не доходят, потому что их не выпускают. Раньше арестовывали две-три книги, теперь вся литература под арестом. Раньше было гонение на инакомыслящих писателей, теперь и согласномыслящие, и инакомыслящие ведут полунищенский образ жизни. В общем, те же лица, те же улыбки. Те же актёры, но поменяли грим и играют другие роли. Борьба с бюрократизмом породила новую бюрократию, борьба с тоталитаризмом породила новый тоталитаризм. Только форма изменилась. Наряду с обычной порнографией процветают и политическая, прокурорская '‘лирика”, и судебная музыка. Поэт Николай Глазков сказал о нашем необычном веке, что он “чем интереснее для историков, тем печальнее для современников”. Перефразируя его, я хочу сказать о конце нашего века: чем интереснее для иностранцев, тем печальнее для соотечественников, или чем интереснее для политиков, тем печальнее для лириков. Лирика и музыка оказались в последних рядах. Писатели всегда были одинокими, но так одиноки не были никогда».
СЛАВА С ПРИВКУСОМ ГОРЕЧИ
В 1993 году, в свой семидесятилетний юбилей, Расул Гамзатов был награждён орденом Дружбы народов. В формулировке говорилось: «За большой вклад в развитие многонациональной отечественной литературы и плодотворную общественную деятельность».
В интервью с Далгатом Ахмедхановым Расул Гамзатов с иронией говорил о своих регалиях, которые не переставали на него сыпаться:
«Ну, как можно, в самом деле, указом объявить поэта народным? Ведь такое признание завоёвывается талантом, и подарить его способен только сам народ. Пушкина народным поэтом никто указом не объявлял, как и Тютчева, Бёрнса, Бараташвили... И может ли поэт быть антинародным? Ведь тогда он не поэт!
Столь же смешно звучит “народный депутат” — будто предполагаются и антинародные депутаты. Так что гербовой печатью такое звание присудить невозможно.
Что же до звания Героя Труда, то я искренне был в своё время рад ему, даже банкет по этому случаю устроил, хотя и тогда и сейчас всем в глубине души было совершенно очевидно, как это глупо. Ну, каким трудом — социалистическим, капиталистическим или другим — можно измерить талант писателя? Пушкин достоин быть героем труда? Или Толстой, который страницы “Войны и мира” по двадцать восемь раз переписывал? Поэтому сказать тут можно только одно: награды всегда приятны, даже если они смешно сформулированы и глупо мотивированы».
Он был избалован похвалами, но давно ими пресытился. Куда важнее было то, что среди огромного количества статей он почти не находил серьёзного анализа, подробного и точного разбора своих произведений. Исследований было много, но они зачастую повторяли друг друга, от других тянуло скукой, были и такие, которые, как кислота, разъедали очарование гамзатовской поэзией.
«Меня долго хвалили одни и ругали другие, — говорил Расул Гамзатов. — А с недавних пор, с началом перестройки, все вдруг разом про меня забыли, будто и нет меня вовсе. Я даже перечитал себя: неужели, думаю, я такой плохой. А перед юбилеем восхваления посыпались снова. А я про себя снова прикидываю: неужели я такой хороший? Да, есть у меня кое-что, может, талантливое, интересное, но, наверное, не настолько же... Поэтому, я считаю, истинный поэт стоит вне времени: или он есть всегда, или его никогда и не было».
В жизни каждого большого писателя наступает пора, когда непредвзятая серьёзная критика становится для него едва ли не важнее очередной награды. Профессиональная литературная критика весьма способствует литературному процессу вообще и творческому самочувствию отдельного автора в частности.
В этом смысле Расулу Гамзатову явно не везло. Даже когда вышло восьмитомное собрание сочинений, рецензий не появилось. Критики будто вовсе не существовало. Зато стало привычным, что Расула Гамзатова называли великим, выдающимся, крупным поэтическим явлением, возводили в гении.
«Во-первых, я — не Пушкин, — говорил поэт Гаджикурбану Расулову. — Может быть, потому и Белинского сейчас нет. Я очень интересуюсь критикой, когда меня критикуют, а относился к ней в разное время по-разному. В юности, когда писали хвалебные статьи обо мне, я был благодарен критикам. Наверное, потому, что был тщеславным. Сегодня меня раздражает, когда говорят “гений” или что-то в этом роде... Я разбалован критикой. Одно огорчает: это была кампанейщина. Писали обо мне или по поводу получения премии или к юбилейным датам. В таких случаях неизбежно преувеличение заслуг».
Особенно ему хотелось услышать мнение аварских литературоведов, глубоко знающих язык и национальную поэзию.
«Я жду аварского критика, — говорил поэт в том же интервью. — В аварской поэзии есть национальное начало, а в аварской критике — нет... К сожалению, до сих пор нет точного, полного анализа отдельных стихотворений — есть много общих слов. Я люблю критику с серьёзным анализом того или иного произведения, с разбором причин, почему у поэта были те или иные удачи и неудачи. И всё же я благодарен таким критикам, как Камиль Султанов, Камал Абуков, Магомед-Загид Аминов, Сиражудин Хайбуллаев, Магомед-Расул Усахов и другие, которые первыми разбирали мои произведения».
Критики не хватало, зато в избытке было другое: хула, нападки, клевета.
«Расул — очень ранимый человек, — говорила позже его супруга Патимат в интервью Фатине Убайдатовой. — Он тяжело переносит ложь. Ему уже за семьдесят, но он реагирует на всё так же эмоционально, как и в молодости. Это выбивает его из колеи надолго. Я всю жизнь пыталась научить его не реагировать так бурно, относиться ко всему спокойно и не обращать внимания. Но у него до сих пор никак не укладывается в голове, как можно вот так запросто говорить заведомую ложь. Ко всем его достоинствам и недостаткам, он ещё невероятно правдив. Не умеет говорить неправду, даже по мелочам».
Но хулители Расула Гамзатова даже в Геростраты не годились. «Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения», — писал Белинский. Но его критика была бесценной. Он ставил точный «литературный диагноз», после которого писатели, не страдавшие манией величия, видели не только свои достижения, но и ошибки, недоработки, недостатки и понимали, как их исправить, преодолеть. Критика Белинского не оскорбляла, она — вдохновляла. Он говорил о главном, о сути, о том, что, быть может, не осознавал и сам автор.
О Пушкине с его «Евгением Онегиным»:
«И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, — такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта».
О национальном, цитируя Гоголя:
«Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами».
Последнее вполне могло быть применено к творчеству Расула Гамзатова. А первое, как творческая дерзость, как внутреннее ощущение необходимости облечь материал в новую форму — к «Моему Дагестану».
Но не о критике теперь приходилось говорить, Расула Гамзатова удручало, что от многонациональной отечественной литературы мало что осталось. По крайней мере, он уже не знал, как она развивается, не было переводов, всё меньше звонили друзья. На литературном Олимпе воцарилось затишье. Он говорил, что литературы уже нет. Что давно не читал книгу, которая бы его увлекла. И каждый раз, когда брал в руки новую книгу, мысленно повторял, как некогда Дягилев, устроитель «Русских сезонов» в Париже, принимая в труппу новую балерину: «Удиви меня!» Расул Гамзатов говорил Евгению Дворникову: «Мне интересны, прежде всего, те, кто в творчестве не похож на меня. Например, интересен Вознесенский. Но тут важно различать: хороший поэт и интересный. Внимание привлекает чаще всего тот, кто неожиданно и нетрадиционно работает с формой. И всё-таки этого мало, чтобы в самом деле стать явлением. Интересный поэт — поэт поколения, а хороший — поэт народа. Не одно и то же. Истинная поэзия та, которая трогает людей, казалось бы, далёких от неё. “Я убит подо Ржевом” — это уже больше, чем стихи, тут сама жизнь, сама боль».
Ему хотелось нового, необычного. Чтобы возникло ощущение, что в тёмной комнате вдруг включили свет. Но комната оставалась тёмной. Те, от кого он ждал поэтического света, или ушли из жизни, или уехали. «Мы надеялись, что придёт демократия, исчезнет цензура и литература станет хорошей, — говорил Гамзатов в интервью с Надеждой Кеворковой. — Цензура исчезла, но почему же тогда не появилось ни одной крупной и значимой для литературы вещи: поэмы, повести, романа, ни одного нового имени? Почему все уехали? Почему Евтушенко, Коржавин живут на Западе? Откуда такое повальное бегство? Может быть, я со своими ослепшими глазами делаю неправильные выводы?»
От новых наград он уже не испытывал прежней радости. А потому отметить свой юбилей Расул Гамзатов постарался скромно. Но зал Русского театра в Махачкале был, как всегда, полон. Приехали друзья, которых он теперь редко видел. Гамзатова любили, его слова ждали. Он сказал главное, о чём думал: «Нет независимых людей и нет независимых народов! Суверенитет? Этого слова нет даже в словаре Даля, наш лозунг должен быть — единство!»
На фоне «парада суверенитетов», среди повсеместных лозунгов об отделении и независимости слова почитаемого поэта охладили многих. Он утверждал это горячо, искренне. Об этом же он говорил и в интервью с Далгатом Ахмедхановым.
«Я не понимаю, что такое независимость. Ты женишься и уже становишься зависим. Причём празднуешь этот день с друзьями, родственниками, хотя теряешь свою независимость на всю жизнь. Но это мы воспринимаем нормально, это в порядке вещей. Какая же независимость может быть в своей республике, в своей стране от соседнего народа, своего брата, с которым живёшь столько лет одной семьёй, вместе растишь хлеб, пасёшь овец, строишь дома и плотины, добываешь рыбу и нефть? Всё это пустые слова: все мы, слава Аллаху, зависимы друг от друга, и это великое благо, которое надо беречь от злых рук и дурного глаза. А мы кричим о независимости, косясь на соседа, стараясь разорвать кровеносные сосуды, которыми давно уже связаны в один неразделимый организм. Да, разорвав их, мы зальёмся кровью и все погибнем. Пора бы уже это понять. Всякие дни независимости являются антинациональными. В Дагестане, я думаю, день памяти “ Белые журавли” надо превратить в день братства, единства дагестанских народов. И все они, я уверен, хорошо это воспримут...
Моё влияние — это мои книги. Кто понимает их, тот слышит меня. А кричать на митингах я не могу. Да криком ничего и не добьёшься. Своим пером я утверждаю аварцев в дагестанской семье, а всех дагестанцев — среди других народов России».
Чакар Юсупова приводит «Послание поэту», которое направил юбиляру осетинский писатель Нафи Джусойты: «Ныне к Расулу обращены мысли всех горских литераторов: как нам быть в современной нечеловечески трудной ситуации?.. Все мы в меру своих сил старались служить человеческому братству, очеловечиванию людей добром и красотой, тысячелетиями по крупице собранной мудростью. Но ныне всё это разрушено и осквернено, испоганено кровью и ненавистью, насилием и разбоем, ложью и демагогией, апологией зверства и хищничества, наживы и властолюбия. Что же делать в этом безвременье поэту и поэзии? Этот вопрос... задаёт себе каждый сознательный литератор, но поэты Кавказа задают его ещё и тебе, Расулу Гамзатову, как самому большому поэту современного Кавказа».
Гамзатов не молчал, он не мог молчать, когда говорили пушки. Его вера в добро и людей была сильнее заклинаний политических мракобесов. Его стихи, исполненные болью за народ, его публицистика, звавшая к здравому смыслу, его речи, остужавшие горячие головы — они страстно и горячо защищали нравственные ценности, укрепляли пошатнувшиеся основы мира, братства, гуманизма.
Когда Кавказ раздирали конфликты, когда соседние народы вдруг начали враждовать, Гамзатов воспринял это как большую личную драму. Он, как мог, пытался всех примирить, не допустить крови между народами, которые считал братскими, о которых написал немало стихов. «Мне пришлось писать о событиях в Армении и Азербайджане, — рассказывал поэт Евгению Дворникову. — Хотел примирить, взывал к братству, ссылался на заветы классиков той и другой республики. И что же? Получаю письма: почему вы наших классиков упомянули не первыми, а вослед? Оказывается, даже очерёдность обижает. И мне, выходцу из Дагестана, где мусульманская вера, уже грозят поставить на могиле... православный крест. То есть шлют проклятие. Сиюминутные обиды ослепляют настолько, что лишают людей разума. Стало как-то неловко произносить: “Друзья, прекрасен наш союз!” До того мы дожили. А всё потому, что часто нарушались святые основы этого союза».
«КОНСТИТУЦИЯ ГОРЦА»
В апреле 1997 года в Махачкале проходил Конгресс соотечественников, на который съехались представители дагестанских диаспор из многих стран мира. Это были учёные, писатели, художники, бизнесмены, предки которых оказались вдали от родины в разные времена и по разным причинам. Расул Гамзатов бывал у многих из них в гостях, там выходили его книги, и он считался за рубежом главным дагестанцем. Потому и услышать его хотели все.
Для Гамзатова это было особенно важное событие, он видел в нём путь к единению всех дагестанцев мира. Прежде это было невозможно по политическим и многим другим причинам. Но ситуация менялась, студенты из зарубежных диаспор учились в дагестанских вузах, начались культурные обмены, бизнесмены налаживали сотрудничество, а родственники, после более чем столетней разлуки, раскрывали объятия друг другу.
Расул Гамзатов выступил с большой речью, которая вошла в историю под названием «Конституция горца».
«Нелёгкой судьбой разбросанные по разным странам, краям, городам собрались мы сюда на первый конгресс соотечественников, — говорил поэт. — Мы говорим на разных языках, у каждого своё восприятие и понятие тех или других проблем. Возможно, будут борение мыслей и столкновение чувств, непримиримость суждений и несогласие друг с другом. Но на каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, как бы наши суждения ни расходились в частностях, нас объединяет одно — любовь к Дагестану. В этом у нас разногласий нет. И это главное. Это нас объединяет, это даёт нам силы, уверенность и мудрость».
Расул Гамзатов говорил о наболевшем, о жизненно важной необходимости чувства единства дагестанцев, о том, что ещё недавно было под запретом. Сказал он и об одном из самых знаменитых дагестанских эмигрантов — о художнике с мировым именем Халилбеке Мусаеве (Мусаясуле). Чтобы остаться художником, ему пришлось покинуть родину, в которой правили большевики. В судьбе аварского
живописца переплелись революции и войны, эмиграция и ностальгия, успех и трагические утраты. Странствия по миру, шумные выставки, головокружительные романы, женитьба на баронессе Мелани фон Нагель, сопротивление нацистской тирании и помощь советским военнопленным, мучительные поиски своего места в этом противоречивом мире... Всё это наполняло жизнь Халилбека драматическими перипетиями. Отлучённый от родины, где его назвали «невозвращенцем» и лишили советского гражданства, Халилбек всю жизнь тосковал по родному Дагестану и воспевал его в своих картинах. Самобытная национальная культура в слиянии с традициями европейского искусства сделали Хал ил бека художником, который вошёл в мировое искусство, по выражению искусствоведа Марины Мацкевич, «не снимая бурки». Он умер в 1949 году в США. После смерти мужа Мелани ушла в монастырь. Она сохранила творческое наследие художника и передала его потомкам.
Расул Гамзатов назвал его гениальным художником, «Шамилем искусства». Он с горечью говорил о преданном сыне Дагестана: «И в Германии, и во Франции, и в Италии, и в Иране, и в Турции, и в Америке его картины на дагестанские сюжеты вызывают всеобщее признание и восхищение. Но у нас десятилетиями его картинам, его таланту, его подвигу, его любви к родине и даже его имени была закрыта дорога. А он, подлинный сын наших гор, перед кончиной всё своё бесценное творческое наследие завещал родному Дагестану. И эти картины вернулись к нам. Когда же, если не сейчас, кому, как не нам, где же, как не в нашей столице эти шедевры сделать достоянием наших народов, создать дом-музей великого сына Дагестана. Однако уже два года эти картины лежат в запасниках».
Говорил Гамзатов и о Кавказской войне, ведь многие из тех, кто его слушал, были потомками людей, оказавшихся в далёких краях в результате той исторической драмы. Говорил он и о революции, о Гражданской войне, тоже немало повлиявших на раздробление и без того небольшого дагестанского народа. Говорил о незаконно репрессированных в годы Второй мировой войны: «Целые народы Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Балкарии, Карачая и другие были лишены родины, возможности жить на родной земле, дышать воздухом прекрасного Кавказа».
Откровением для многих стали слова Расула Гамзатова о России, о той, которой, скорее всего, не знали его зарубежные соотечественники: «Русская нация, Россия сама много страдала от своих царей, властителей, от всевозможных режимов и насилия. Но русская учительница, которая учила в далёких аулах наших детей, и русские врачи, которые в трудных условиях лечили наше население, и русские учёные, которые создавали институты для нас, ничего общего не имеют с теми, кто возглавлял репрессии в отношении нашей интеллигенции».
Он говорил о многом, о том, что волновало всех дагестанцев, особенно в те переломные годы, когда на Кавказе происходили тревожные события. И не уставал повторять: «Ещё и ещё раз взываю к вам: опасайтесь потерять друзей. Теряя друзей, мы теряем часть своей жизни».
Ещё одной болью Расула Гамзатова, болью всех дагестанцев было ощущение размывания духовных основ горского сообщества, утраты обычаев, традиций, культуры, которые веками сплачивали и спасали горцев. Не допустить этого была призвана «Конституция горца», написанная Расулом Гамзатовым. В ней было семь статей, которые поэт снабдил необходимыми комментариями.
«Первая статья. Мужчина.
Кинжал должен быть острым, а мужчина должен быть мужественным. Но истинное понимание мужества ничего общего не имеет с митинговым рукомахательством.
Вторая статья. Женщина.
Была бы моя воля, эту статью сделал бы первой. Она гласит: “Мерилом человеческого достоинства для мужчины является его отношение к женщине”. Мужчина имеет право драться только в двух случаях — за родную землю и за прекрасных женщин. В остальных случаях дерутся только петухи.
Третья статья. Дети.
Они идут вслед за нами. После своего поражения на дагестанской земле грозный властелин Ирана спросил: “Кто ваш предводитель?” Вперёд вышла обыкновенная горянка с ребёнком на руках. Вот под чьим руководством мы одержали победу и защищаем свободу.
Четвёртая статья. Память.
Пройдите по нашей земле, почитайте о наших городах, вспомните названия колхозов, артелей, улиц и площадей, предприятий и учебных заведений, а то и целых районов. Такое впечатление, что Дагестан впервые появился только в 1917 году. Если судить только по этим наименованиям и понятиям, то из памяти выпадают целые пласты истории. Разве у нас не было до революции борцов и певцов? Разве у нас не было войн, кроме Гражданской и Отечественной? Неужели нашему подвигу, нашей славе, нашей культуре — только 75 лет? Если бы такие, как Шамиль, Хаджи-Мурат, были бы в других странах, то их именем украшались бы новые города и сёла. Им бы воздвигли памятники на центральных площадях столиц.
Пятая статья. Дружба.
Шестая статья. Гость, гостеприимство.
Седьмая статья. Сосед, добрососедство».
«Эти три статьи взаимосвязаны, — добавил Гамзатов. — “Берегите друзей, опасайтесь потерять их”, — завещали нам отцы. Я бы добавил: гостей и соседей. В этом равенство и колесо нашей жизни».
1997 год стал для Дагестана особенно значительным и тем, что в российском обществе произошло серьёзное изменение в отношении к Шамилю. Двухсотлетие имама отмечали на государственном уровне в России и СНГ.
Для Расула Гамзатова это был особый праздник. На торжественный вечер в Колонном зале Дома союзов Расул Гамзатов пришёл со звездой Героя Социалистического Труда на груди. Он будто воплощал свои строки:
Люблю, как сын большой державы,
Тебя, мой маленький народ.
Мэр Москвы Юрий Лужков говорил о Шамиле как о национальным герое России, призывал стереть с исторической карты отечества «белые пятна», грозившие превратиться в «чёрные дыры» на пути единства народов страны. Зал аплодировал стоя.
Были выпущены юбилейные медали и ордена, переименованы в честь Шамиля улицы и проспекты. Издательство «Эхо Кавказа» выпустило к юбилею иллюстрированную энциклопедию «Шамиль», в издании которой участвовало и Министерство по делам национальностей России. Дагестанский русский театр им. М. Горького поставил написанную автором этой книги пьесу «Шамиль».
«ЭТО НЕ МОЙ ДАГЕСТАН»
Но мир продолжал распадаться, и неясно было, где основа, на чём утвердить свою судьбу, где путь, где нравственные ориентиры, к которым лежала бы душа.
«Свобода... Разве сейчас свобода? — размышлял поэт в интервью с Надеждой Тузовой. — Разве свобода поведения — в хулиганстве, воровстве, грабежах? А посмотрите на наши выборы! Это же позорище, это зоопарк, уродство какое-то. Голоса покупаются. Это вызывает неприязнь друг к другу, неискренность, фальшь. Люди из одного аула братьями жили, на одном языке говорили, потом столкнулись на депутатстве и стали враждовать. Многие стремятся к власти, она для них дороже, чем друзья, чем семья».
Позже он напишет:
Достоинство таится, точно вор.
Народу много — но людей так мало.
В пыли любовь, и схоронили славу.
Но мы без них — уже не дети гор.
Летать рождённых ползать научили,
Рождённых ползать — вижу в облаках.
Есть головы из ног, прости Аллах,
И головы, которые ногами были
[182].
В трудные времена слово писателя значило очень много. Литераторы всегда ощущали свою ответственность за человечество, взваливая на себя непосильное бремя, которое им каким-то чудом удавалось нести. Своими книгами они вдохновляли народы. Одни, как Кампанелла, даже в кандалах писали о грядущем царстве света. Другие сражались с пороками мира. Порой сражались, как Дон Кихот с ветряными мельницами, но даже это приносило благодатные плоды.
Поэт Валерий Шамшурин вспоминал, как Гамзатов называл Ельцина подрывником, разрушающим мосты, как негодовал о пренебрежении культурой: «Раньше... Церковь у нас была отделена от государства, а теперь отделена культура. А что, как не культура, больше всего способствует объединению и развитию. Даже мысль требует культуры, без чего засыхает и наука. А любовь? Нет настоящей любви, если нечистые чувства и стремления, если она не укреплена традициями и культурой народных обрядов. Нельзя убивать любовь. В кого же может превратиться человек?»
Расула Гамзатова не раз приглашали участвовать в избирательной кампании Бориса Ельцина, но он отказывался, хотя и понимал, что Ельцин победит. Дочь Патимат вспоминала, что с кем-то в разговоре Гамзатов сказал, что Ельцин — «всадник без головы». Когда Ельцин наградил его орденом Дружбы народов, Гамзатов на вручение не поехал.
Литература с её великими гуманистическими традициями ещё на многое была способна, но оставалась невостребованной. Зато в политических противостояниях известные поэты ценились, и Гамзатова не раз пытались в них втянуть. Но его влекло другое, то, по чему соскучилась его поэтическая муза.
Орать с трибуны предлагают мне,
Не лучше ли шептаться в тишине
С красавицей застенчивой и юной,
Чем глотки драть на митинге с трибуны?
[183]
В апреле 1999 года Расула Гамзатова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» за выдающийся вклад в развитие многонациональной культуры России.
«Награды — не самое главное, — говорил поэт, беседуя с Фатиной Убайдатовой. — Важнее истина, признание народа. Сегодня даже то, что противоречит поэзии, стало поэзией. Не помню ни одного настоящего поэта, который бы не был страдальцем. Двадцатый век уходит, кто останется? Блок, Пастернак, Гумилёв, Цветаева, Ахматова — всех их преследовали и без единой награды похоронили. Но у них была другая награда — признание народа. А я по сравнению с ними праздно жил. Правда, о многом жалею».
Многочисленные награды поэта уже не гарантировали привычно большого количества изданий. Гонорарное половодье иссякало, мелели финансовые реки, пересыхали их привычные русла... Но Гамзатов беспокоился не о себе, а о своих коллегах:
«Взять нас, писателей. Мы должны книги писать, издавать их, получать деньги за свой труд, содержать себя и семью, — говорил Гамзатов в интервью с Надеждой Тузовой. — Сейчас если шестидесяти- или семидесятилетний писатель хоть небольшую пенсию получает, то сорокалетний не имеет ничего! Как жить? Да и авторитет писателя упал. Раньше один писатель говорил — тысячи человек слушали. Сейчас тысячи говорят — одного слушателя не найдёшь. Богатым читать некогда, а бедным книги купить не на что».
Не желая принимать то, что происходило вокруг, Расул Гамзатов не раз говорил, что ему надо бы писать не стихи, а книгу «Это не мой Дагестан». То, что сделали с Кавказом, со всей Россией, он воспринимал как предательство, как государственное преступление и личное оскорбление.
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ ИЗ ПЕСЕН»
В мае 1999 года широко отмечалось двухсотлетие Александра Пушкина. Любовь к великому поэту в семье Гамзата Цадасы стала наследственной.
С милым томиком Пушкина
Встретил я юность,
На столе моём рядышком
Расул Гамзатов писал: «“На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн”, — сказал Пушкин о Петре Великом. Теперь всему цивилизованному миру ясно, что сам Пушкин стал Петром Первым русской поэзии — смелым и могучим преобразователем, ускорителем культурного возрождения великого народа.
Мне дорог Пушкин прежде всего тем, что он преданно любил Россию. Но он становится мне ещё и ещё ближе при укоренившейся в сознании мысли, что подлинно русский поэт, по словам Гоголя, “единственное явление русского духа”. В век самодержавного высокомерия с надеждой и верой думал он о том времени, когда “народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”...
Пушкин сопровождает нас всю сознательную жизнь, но на склоне лет мы как бы возвращаемся к нему, будто на исповедь. Помню, как в больнице Твардовский перечитывал письма Пушкина. В годы моей молодости старый Маршак посоветовал: читайте Пушкина! Теперь я понимаю, как глубоко и Твардовский и Маршак были правы. Нравственные заветы Пушкина — на всю жизнь, на века!..
Прав был тот, кто изрёк, что гений — это символ. Пушкин стал символом света и совести. Но даже имя гения не обошлось без капризов сплетения хулы и хвалы. Как бы ни было горестно, приходится вспомнить призывы: то — “сбросить его с корабля современности”, то — “назад, к Пушкину”. Кое-кто приноравливался даже встать рядом с ним, а то и с надеждой примеривался к его пьедесталу. Но всё суетное потерпело безнадёжный провал, ибо Пушкин — величина неизменная и ни с чем несоизмеримая».
Гамзат Цадаса, сказавший о Пушкине: «Певец, народа собеседник», перевёл на аварский язык его «Памятник». Ощущение сопричастности к наследию гения, которое с годами лишь усиливалось, подвигло и Расула Гамзатова на продолжение традиции осмысления миссии творца. Восходящая к оде «Exegi monumentum» («Я воздвиг памятник») Горация, поэта золотого века древнеримской поэзии, эта традиция не прерывается тысячи лет. Гораций написал:
Я памятник себе воздвигнул долговечный,
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно
Не сокрушат его. Не весь умру я, нет:
Больша'я часть меня от строгих парк уйдёт;
В потомстве возрасту я славой справедливой...
[185]
Вечная мечта о бессмертии, надежда придать смысл бренному существованию, утвердить в памяти потомков свои творческие озарения волновали поэтов во все времена.
Гораций и сам продолжал более древнюю традицию, но его ода «Памятник» считалась классической. Переводы, подражания, переложения оды стали особым поэтическим жанром и были неисчислимы. Немало было их и в России. «Памятник» Горация шествовал через века, как ожившая статуя Командора из пушкинского «Каменного гостя». В разных стилях, разным размером, с разнообразными смысловыми акцентами ода Горация являлась в стихах Ивана Баркова, Дениса Давыдова, Антона Дельвига, Гавриила Державина, Михаила Ломоносова, Аполлона Майкова, Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского и многих других поэтов.
Даже отрицание идеи памятника становилось известным стихотворением, как у Владимира Маяковского:
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать на мраморную слизь.
Сочтёмся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный в боях
социализм.
Иосиф Бродский писал по-своему:
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию — спиной.
К любви своей потерянной — лицом.
И грудь — велосипедным колесом...
Однако русским Горацием признали Александра Пушкина. Гораций взывал к Мельпомене, ждал, что она наградит его лавровым венком. Пушкин обращался к России с глубоко выстраданными чувствами, с верой в духовные силы народа, и народ его слышал.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа.
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа...
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...
Строки Пушкина восходят к Горацию через Державина, переосмысленные и будто впервые созданные. Строки Расула Гамзатова перекликаются со строками Пушкина. На лавры классиков, а тем более Александра Сергеевича, Гамзатов не покушался. Не говорил, как другие, о неслыханной высоте своего «Памятника». Но было и у Гамзатова явно пророческое:
Я памятник себе воздвиг из песен —
Он не высок, тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
Ни ветер, что в горах по-волчьи воет,
Ни дождь, ни снег, ни августовский зной.
При жизни горы были мне судьбою,
Когда умру, я стану их судьбой.
И моё имя, как речную гальку,
Не отшлифует времени поток.
И со стихов моих не снимут кальку,
Ведь тайна их останется меж строк
[186].
Кто-то сочтёт это творческой дерзостью, кто-то продолжением и развитием традиции, право на которое Расул Гамзатов заслужил.
«Однажды он не то спросил меня, — вспоминал Валентин Осипов, — то ли проверяя себя, то ли утверждаясь в мысли: “Кто имеет право в России после Пушкина написать ‘Памятник’?” Я отшутился. Он написал “Памятник”, но так, что этот стих растворил в себе и скромность самооценки, и самобытность образов и метафор».
Когда уйду от вас дорогой дальней
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне...
Пусть гордый финн не вспомнит моё имя,
Не упомянет пусть меня калмык,
Но горцы будут с песнями моими
Веками жить, храня родной язык.
На карте, что поэзией зовётся,
Мой остров не исчезнет в грозной мгле.
И будут петь меня, пока поётся
Хоть одному аварцу на земле
[187].
Литературоведы часто пишут о влиянии Пушкина на творчество Гамзатова, о яркости их «внутренних солнц», о их возвышающем воздействии на литературу и общественное сознание.
В стихотворении Расула Гамзатова «Поэты пушкинской плеяды» идёт спор о том, стали бы ярче, известнее поэты — современники Пушкина, если бы Пушкина не было, или, напротив, о них узнали лишь потому, что они были современниками Пушкина? Гамзатов разрешить этот спор не берётся:
Никчёмный спор...
У мира на виду,
Что есть предел заманчивой отрады,
Хотя б одну затеплить мне звезду
И стать поэтом пушкинской плеяды
[188].
Дагестанцы давно разрешили этот вопрос. Для них Расул Гамзатов — это «наше всё», как в России говорят об Александре Пушкине. В сквере перед Домом поэзии в Махачкале стоят два памятника — Александру Пушкину и Расулу Гамзатову. Пушкин здесь старожил, его скульптуру установили в 1949 году в честь 150-летнего юбилея поэта перед библиотекой, носившей его имя. Бронзовый Гамзатов пришёл в гости к Пушкину позже, когда библиотека перебралась в новое здание, а на её месте возник Дом поэзии.
Ответила на вопрос о поэтах пушкинской плеяды и сама природа: к известному профилю Пушкина на скальном краю по дороге в Дербент добавился профиль Гамзатова неподалёку от Махачкалы. Его обнаружил Анварбек Кадиев. Когда он показал Гамзатову его характерный профиль, поэт был ошеломлён. С тех пор левый край горы Тарки-Тау, если смотреть на неё с обратной от Махачкалы стороны, многие называют «Расул-Тау».
О трепетном отношении Расула Гамзатова к «солнцу русской поэзии» говорит и стихотворение «Ответ Ираклию Андроникову на приглашение с группой поэтов поехать в Михайловское». Гамзатов благодарит давнего друга за приглашение, но ему кажется, что не стоит ехать к Пушкину, в сакральный храм поэзии, большой делегацией.
Хозяин дома окна закрывал,
Чтоб слуха не тревожили сороки,
Когда роиться начинали строки
И с неба ангел стремя подавал.
Там Пушкин творил, мыслил, мечтал, и нарушать эту атмосферу шумной компанией, почти туристической, вряд ли было уместно. Гамзатов видел свой путь в Михайловское совсем иначе:
Со школьных лет до роковой черты
Весь век стихами Пушкина мы бредим.
Давай с тобой вдвоём к нему поедем,
Служенье муз не терпит суеты...
Давай с тобою Пушкина почтим
И, не сказавши жёнам и соседям,
В Михайловское тайно мы уедем
И головы седые преклоним
[189].
ВТОРЖЕНИЕ
В начале августа 1999 года Дагестан вновь оказался перед лицом тяжёлых испытаний. Через дагестано-чеченскую границу в республику вторглись отряды боевиков. Кто-то посчитал, что сложные политические процессы разобщили народы, что Дагестан превратился в территорию безвластия и неспособен к сплочённому сопротивлению.
Расул Гамзатов осудил вторжение, попрание вековых традиций добрососедства. Тем более что после событий в Чечне 1994—1996 годов дагестанцы приютили десятки тысяч семей беженцев из соседней республики.
Но не одобрял он и того, что происходило в те годы в Чечне, он был уверен, что чеченский народ хочет мира и что нельзя было доводить ситуацию до вооружённого противостояния, штурмов городов, бомбёжек. Он считал всё это результатом непродуманной национальной политики, если не её полного отсутствия.
После внезапного нападения были захвачены несколько высокогорных сёл и населённые пункты в низменном Новолакском районе. Но вскоре ситуация изменилась. Народное ополчение, плохо вооружённое, но решительно настроенное, остановило вторжение. Держали оборону и небольшие подразделения милиции, ОМОНа. Затем подоспели федеральные войска.
На помощь землякам дагестанцы спешили со всех уголков страны, повсюду собирали средства на оружие, продукты, амуницию. Планы по отторжению Дагестана от России были сорваны.
27 августа в Дагестан, в высокогорный Ботлих прибыл новый председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин. Оценив происходящее, отдавая должное мужеству и патриотизму дагестанцев, он сказал: «Видя, как они защищают свою землю и Россию, я ещё сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев».
О событиях 1999 года Расул Гамзатов говорил в интервью с журналистом Мурадом Ахмедовым:
«В последнее время я был сильно разочарован тем, что происходит в нашей стране, особенно тем, какой становилась наша молодёжь. Но недаром Анна Ахматова, когда началась война, написала: “Час мужества пробил на наших часах”. Думаю, именно такой час мужества настал для всего Дагестана во время последних событий. Бывают в жизни каждого человека, и даже народа, такие минуты, когда нужно определиться: кто ты, с кем ты и где ты? А ведь отвечая на эти вопросы, ни себе, ни жизни не соврёшь. Тут не поможет ни ораторство, ни митинги, а только личное участие в происходящем. Пусть даже каждый будет участвовать в этих событиях по-своему, но равнодушию здесь места быть не должно.
— А как, по-вашему, проявила себя наша молодёжь?
— К моей большой радости, я ошибался, что наша нынешняя молодёжь на многое уже не способна. Оказывается, есть и будут у нас люди, которые являются дагестанцами не только на словах, но и на деле. Уже тот факт, что наши соотечественники, которые жили и работали в разных уголках России, бросив всё, приехали сюда, с оружием в руках защищать свою Родину, говорит о многом».
Позже, вспоминая о событиях августа 1999 года, Владимир Путин заявил: «На самом деле речь шла именно о целостности России. Именно то, что народ Дагестана занял такую позицию — с оружием в руках защитил и свою республику, и Россию в целом, — это и было решающим фактором победы над бандами международных террористов».
Гамзатов был горд за свою родину, за своих земляков, он мог теперь с лёгкой душой вновь говорить: «Это мой Дагестан!»
«ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»
В начале 2000 года Расул Гамзатов закончил поэму, в которой он говорил о том трудном периоде Дагестана, о «чёрном ящике» своей судьбы, который был потерян, и если даже найдётся, то расшифровать его вряд ли кто-то сможет.
Поэму автор посвятил Гаджи Махачеву — яркому политическому и государственному деятелю, который стоял на страже интересов Дагестана, активно участвовал в отражении агрессии и не раз рисковал жизнью, спасая захваченных боевиками заложников. К нему же поэт обращался и в самой поэме, размышляя о бедах страны гор, о своей жизни и судьбе своего собеседника.
Стою у подножья огромной горы
И знаю, что нет перевала...
Разрушены царства, исчезли миры,
Связь времени в бездне пропала.
Стою над рекою, а мост унесён
Теченьем её сумасшедшим.
И нет уже больше раскидистых крон
Деревьев, где зрели черешни...
[190]
В пору написания поэмы Расул Гамзатов рассказывал о ней в интервью с Юрием Васильевым, вернее, прочитал часть своего подстрочника:
«Прошла ещё одна ночь, открыл окно — какие же новости в мире сейчас?
Луч солнца, обмакнувшийся в чёрной реке, какой новый укол ты сделаешь этой больной стране?
Болеет земля — как женщина, которой матерью не дано стать.
Болеет любовь, ставшая наркотиком.
Тысячесерийный “Санта-Дагестан”, не кончается твой путь никогда.
Мой конь пал, я несу седло на спине. Не пойдёшь ли со мной в святые места, чтобы отмолить грехи?
Я как чабан, на чью отару упала скала, стою на вершине с палкой своей.
А ты, внизу идущий, не видел ли отары моих годов, что разбрелись по всему свету?
Самолёт горит, парашюта нет — как пилот, я падаю.
Молодой друг, новый друг, не поискал бы ты “чёрный ящик” моей жизни?
Но у тебя нет времени — ты идёшь вверх.
Как фуникулёр: ты — вверх, я — вниз”».
В других интервью Гамзатов объяснял свой замысел в ещё одном измерении. Он говорил, что теперь его главным героем стало само Время. Он делил своё время на три периода, олицетворяя их в трёх жёнах. «Моё поэтическое время — как три жены, — говорил он в беседе с Индирой Кодзасовой. — Первая — злая, жестокая, беспощадная сталинская эпоха. Хотя эта жена злая была, но при ней порядок был. Вторая — красивая, свободная, но — проститутка. Это наше время. Третья жена — мы все её ищем. И я ищу. Думаю найти. Надеюсь, будет справедливой и спокойной. Об этом я пишу в поэме “Чёрный ящик”. В нём — то секретное, неизведанное, что было в моей жизни».
Глядит на планету вселенское зло
Своим немигающим оком.
И, может быть, больше тому повезло,
Кто раньше предстал перед Богом?
«ОНА ОБО МНЕ ЗАБОТИЛАСЬ...»
Патимат Гамзатова, муза и ангел-хранитель поэта, была надёжной опорой своего знаменитого супруга. Все в доме и друзья семьи хорошо знали, как много она значила для Расула Гамзатова. Большой дом, где бывает много гостей, сам по себе — тяжёлый труд. Не говоря уже о дочерях и внучках, которые к тому времени народились. Люди, близко знавшие Патимат, восхищались её терпением, интеллигентностью, мягкостью обращения и твёрдостью характера. Но в нужный момент она становилась тверда и непреклонна, особенно когда дело касалось знакомых Расула Гамзатова, полагавших, что нужно непременно поднять с ним рюмку-другую. Такого уважения к поэту она не признавала. Спиртное безжалостно изымалось, и миновать этот всё видящий и всё знающий «детектор» мало кому удавалось. Расул Гамзатов написал по этому поводу:
Не боюсь я ЦРУ,
страшусь я ПРУ!
Патимат, твоя разведка
Ошибается так редко!
ПРУ он объяснял так: «Патимат — разведывательное управление» и часто признавался, что главный осведомитель — он сам, не державший от жены секретов.
«Она внимала ему кротко, — писал Валентин Осипов. — Но мне приходилось быть свидетелем, когда этот кроткий взгляд — правда, упрямо долгопротяженный — укрощал самые взрывные порывы супруга.
Или такой знак внимания жене — самоироничный, но характерный. О нём я узнал, когда сама Патимат прочитала вслух:
Рождённое в бессоннице ночей,
Творение моё нерукотворное
Прими скорее, свет моих очей,
Когда тебе прописано... снотворное».
Это был автограф на книге, подаренной Гамзатовым своей жене.
Быть женой поэта — доля нелёгкая, тем более поэта большого, талантливого, неуёмного. Достоинств у Патимат было много, но главной её заслугой, её человеческим подвигом останется то, как она берегла и вдохновляла Расула Гамзатова.
Многие полагали, что без умной и преданной жены Расул Гамзатов никогда бы не стал тем, кем он стал. Но каких усилий ей это стоило, не знал никто.
«Вся домашняя работа лежит на мне, — соглашалась Патимат, беседуя с Фатиной Убайдатовой. — Конечно же, мне помогают, но основной груз несу я. Я с ним советуюсь, но и речи быть не может, чтобы возлагать на Расула какие-то заботы. Он должен творить, а не тратить время впустую».
А на вопрос, трудно ли быть женой поэта Расула Гамзатова, отвечала:
«Обязанности жены в любой семье очень тяжёлые. Даже при самом хорошем муже, а тем более, если ты живёшь с такой неординарной личностью. С самого начала нашей совместной жизни я поняла, что от такого одарённого, творческого человека нельзя требовать, чтобы он починил утюг, прибил гвоздь, помог принести сумки с базара. Гамзатов совсем не приспособлен к жизни. Он теряется, когда ему приходится сталкиваться с элементарными житейскими проблемами. Поэтому все вопросы, не связанные с творчеством, я беру на себя».
И добавляла: «Он очень рассеянный человек. У него была привычка делать записи на листах. Естественно, он их терял, и ему приходилось начинать всё заново. Мне пришлось долго его уверять писать в тетрадях. Сейчас, слава Богу, он аккуратно заносит туда свои мысли и ничего не теряет».
С годами становилось труднее со всем управляться. А тут ещё болезни, подтачивавшие здоровье Расула Гамзатова. Врачи, предписания, лекарства, режим — контролировать всё было трудно, особенно когда поэт увлекался работой и забывал обо всём остальном.
Когда ты уходишь — так худо
Становится мне в тот же час!
А сердце — как перстень, откуда
Вдруг выпал бесценный алмаз.
Когда ты уходишь — простые
Дела усложняются вдруг.
Глаза мои — гнёзда пустые,
Что птицы оставили вдруг
[191].
А к ним по-прежнему шли люди, надеявшиеся на помощь, когда от государства получить её было почти невозможно. Общество явно разделилось на богатых и бедных, и тем и другим всегда чего-то не хватало, в результате росла преступность, а о справедливости уже никто и не помышлял.
«Люди доведены до отчаяния, — печалилась Патимат. — Раньше к нам обращались с просьбами дать денег для того, чтобы женить сына, или на покупку машины, или на строительство дома. Сейчас тоже приходят, но просят, знаете, на что? На лекарство и на хлеб. У них не осталось других желаний». А Гамзатов добавлял: «Когда ко мне стучатся старые горцы, у которых считалось высшим позором что-то просить, и просят денег на хлеб, мне становится до слёз обидно».
Не лучше обстояли дела и в музее, которым по-прежнему руководила Патимат Гамзатова. Зарплаты были столь мизерными, что директору было стыдно перед своими сотрудниками. Денег не хватало на самое необходимое — на реставрацию, на затраты по обеспечению хранения коллекции, на организацию выставок, не говоря уже о закупках новых экспонатов. Расул Гамзатов помогал музею, чем мог, но и он был уже не столь всемогущ, как прежде.
Телевизор показывал такое, что не хотелось смотреть, газеты лучше было и вовсе не читать, хотя бы из гигиенических соображений, телефон звонил всё реже, и новости были невесёлые. Но дом поэта оставался его поэтической крепостью, в котором царствовала его муза — Патимат. И она по-прежнему вдохновляла творца на замечательные произведения. В одной из посвящённых ей элегий Гамзатов писал:
Люблю я ночи чёрные, как порох,
Люблю гнездовье отчее — Цада.
Люблю всех женщин я, среди которых
Не знала ты соперниц никогда
[192].
Казалось, эта твердыня нерушима. Беда пришла нежданно. Патимат уже несколько лет серьёзно болела, но держалась, а потом произошло резкое ухудшение.
«Мама очень больна, — писала Салихат Гамзатова. — У неё онкология и ей совсем немного остаётся жить. Папа с ней в Москве уже несколько месяцев. Мы приходим в больницу, и она просит папу уехать в Махачкалу. Папа говорит, что останется, что он не может оставить её. Моя мама была очень мужественная женщина и всегда заботилась о папе, как о ребёнке. Она смотрит на папу и говорит: “Расул, что ты можешь сделать? Чем ты можешь помочь? Ты будешь сидеть в московской квартире. И ты даже не сможешь выйти на улицу подышать”. И у папы катятся слёзы. Квартира моих родителей была на седьмом этаже на Тверской улице, и, естественно, папе с его болезнью Паркинсона трудно было бы ходить по Тверской. Мама обещала приехать после окончания курса лечения. Она, действительно, приехала, но мы знали, что выздоровления уже не будет. Она приезжала всегда такая красивая, элегантная, радостная, что возвращается домой. А приехала домой обессиленная, на носилках. Потерянный папа никому не рассказывал о своих чувствах, но после её смерти он не мог спать в их спальне, перешёл в другую комнату, только через год вернулся в прежнюю, рядом с которой был его кабинет».
Патимат Саидовна Гамзатова скончалась в июне 2000 года, не дожив до золотой свадьбы всего полгода.
Когда Гамзатов говорил о своей горестной утрате, глаза его наполнились слезами:
— Она обо мне заботилась.
И в этом отразилась вся его жизнь, вся его великая любовь к Патимат.
Вокруг не замечая ничего,
Какое счастье мне она дарила!..
Мюрид любви — она меня хранила
Как подданного сердца своего
[193].
В музее изобразительных искусств осталась книга отзывов, в которой Гадис Гаджиев нашёл поразившую его запись:
«Был во многих музеях мира. Лучшего музея не видел. Этот музей мне дороже Эрмитажа, Лувра и Ватикана. Здесь моя Патимат.
20 марта 1975 г.
Расул Гамзатов».
Осиротевший музей возглавила их дочь, искусствовед Салихат Гамзатова. Вскоре изменилось и название музея. Теперь он носит имя Патимат Саидовны Гамзатовой.
«СЕЙЧАС СВЕТАЕТ, Я ЛЕЖУ В БОЛЬНИЦЕ...»
Потеря жены стала для поэта тяжёлым ударом, болью, которой он чувствовал до последних дней. Это очень отразилось на здоровье Гамзатова. Ему стало трудно ходить, теперь рядом всегда должен был кто-то быть, чтобы его сопровождать.
На город ночь спешит навеять дрёму,
Один я в доме, и не спится мне.
И чудится, не сам хожу по дому,
А призрак мой, привидевшись во сне
[194].
Весь первый год после смерти супруги Гамзатов ночами почти не спал, мучимый бессонницей, и рядом всегда был его зять Умахан Амирханов. Потом на помощь пришли молодые родственники зятя Магомед Мажидханов и Саидахмед Алиханов. Они сопровождали его повсюду и, когда Гамзатов лежал в больницах, врачи удивлялись, с какой преданностью заботились о нём эти замечательные люди.
Позже, когда в последние дни жизни поэту было трудно говорить, Саидахмед по взгляду, по губам, по шёпоту понимал, что хотел сказать Гамзатов.
Врачи окружали его особой заботой, доставали лучшие лекарства, регулярно устраивали консилиумы.
Бесконечная череда посетителей и радовала, и утомляла. У горцев не принято сидеть или лежать, когда входит гость. Состояние Гамзатова не всегда позволяло ему соответствовать горскому этикету, но он, преодолевая себя, вставал.
«Приходя навещать его в Махачкале, мы слушали папины рассказы о том, как о нём заботятся, — вспоминала Салихат Гамзатова, — что все молодые медсёстры по вечерам собираются в его палате, поют ему аварские песни, рассказывают о себе. Ему было интересно слушать их, что они говорят, как думают... Он говорил, что теперь молодые аварки стали другими. Когда папа лёг в другой раз в больницу, которая была рядом с этим же реанимационным центром, медсёстры из его прежнего отделения пришли к нему, упрекая, почему он не лёг в их отделение. Папа был очень доволен и говорил им, что в больнице лучше условия, но он их ни на кого не променял и не забыл. После реанимации папа сказал: “Я думал, люди стали злые, равнодушные, а они по-прежнему добрые и хорошие”. Не случайно на своём восьмидесятилетии, благодаря всех, он добавил: “и особенно медсестёр”».
Даже в больницах поэтическая муза посещала его чаще других. В его палате трудно было увидеть лекарства — всё было занято рукописями.
Он не переставал творить, потому что поэзия была его жизнью. И сила духа превозмогала немощь тела, новые строки ложились на листы тетрадей, а глаза поэта светились чудесным огнём, когда он читал написанное. И лишь изредка можно было заметить во взгляде поэта тень одиночества, горечь непонимания, печаль недостижимости идеала, хотя Гамзатов, похоже, приблизился к нему более других.
Врачи старались лечить поэта. Поэзия Расула Гамзатова врачевала эпоху.
Новые произведения мастера, их масштаб и великолепие свидетельствовали, что поэзия Гамзатова переживала новый подъём.
Он писал поэму «Времена и дороги». Когда И сентября 2001 года Расул Гамзатов читал фрагменты поэмы со сцены Аварского театра, стало известно, что в США произошли ужасающие террористические акты. Он с трудом, часто запинаясь и вновь вспоминая, дочитал стихи. И стоял на сцене, даже когда стихли аплодисменты, в скорбной тишине.
«В МОЕЙ ДУШЕ ЕЩЁ НЕМАЛО СВЕТА»
Последние годы были для творца непростыми, но он слишком ценил жизнь, чтобы поддаваться унынию. Гамзатов теперь не часто выходил из дома, но в интервью не отказывал. Они, кроме прочего, отвлекали его от грустных мыслей, заставляли вспомнить свою жизнь, в которой было много хорошего, доброго, светлого.
Пускай я таю, как в ночи свеча,
В моей душе ещё немало света,
Ещё хочу я странствовать по свету,
Пренебрегая мнением врача
[195].
Журналисты не всегда спрашивали его о том, что его по- настоящему волновало. Были вопросы, на которые ему уже не хотелось отвечать, на которые он отвечал сотни раз, но они были важны для читателей, которые, быть может, услышат его ответы впервые, и Гамзатов говорил, ярко и мудро.
О своих ошибках он тоже не умалчивал, видя в них отражение сложности человеческого существования, неизбежность заблуждений и в чём-то даже явления, необходимые для совершенствования природы человека, взросления его души.
Беседовать с Феликсом Бахшиевым, его давним другом и коллегой по перу, было интересно и самому Расулу Гамзатову. Его вопросы касались многого, о чём болела душа поэта, и это рождало ответы эмоциональные, афористичные:
«Лично я полного счастья не испытал никогда и такого человека не знаю, кто бы его испытал. Для полного счастья одним здоровья не хватает, другим — денег, третьим — времени, а многим — всего этого вместе.
— Не за счастьем надо гнаться и бояться не другого мира, а позора.
— Идеология всегда была, и она всегда есть. А вот свободы никогда не было и сейчас её нет. Голодной свободы и нищей независимости не бывает.
— Идеология, возвышающая один класс, позволяющая одной партии править всеми, одному аппарату руководить всеми, — такая идеология ущемляет человека.
— Я во многом разочаровался в том, во что верил. Тем, что я дал себя обмануть.
— Я бы создал две партии — партию хороших людей и плохих людей. И пусть плохие станут хорошими, а хорошие ещё лучше.
— Каждая эпоха имеет хорошую и плохую стороны.
— Вот стали винить во всех грехах коммунистов. А ведь коммунистами были и Пикассо, и Неруда, и Арагон, и Хикмет, и Шолохов. А какие они великие и талантливые люди — весь мир знает.
— Не перестают твердить, что сегодня всем дарована свобода. Ложь. Что всем дарована независимость. Она пагубна. Надо наконец понять: всем места хватит на земле, как звёздам в небе и волнам в море».
Сожалел Расул Гамзатов, главным образом, о том, что был излишне очарован политическими галлюцинациями, что государственная работа отняла слишком много времени, которое он мог посвятить творчеству. Он перелистывал свои многочисленные книги, чтобы собрать томик избранного, и приходил в отчаяние от того, как далеки от истинной поэзии оказались некоторые его стихи, в которых сквозила политическая конъюнктура, но не было живого чувства. На счастье, Гамзат больше писал о вечном — любви, женщине, друзьях, родине. Эти стихи остались жить, были на слуху, продолжали дарить людям волнение любви и чудесную красоту мира.
Но мы пред собою не лживы
И трезвым достигли умом:
Не всё, что живёт, пока живы,
Жить будет, когда мы умрём...
[196]
1 июля 2001 года скончался Яков Абрамович Козловский.
Поэтесса и переводчица Марина Ахмедова-Колюбакина рассказывала, что Расул Гамзатов узнал об этом во время проведения очередного съезда писателей Дагестана. Гамзатов сказал о случившемся горе в микрофон и... не смог сдержать слёз. Все встали, и эта минута молчания была очень долгой.
Яков Козловский был для Расула Гамзатова больше, чем другом и переводчиком, он стал значительной частью его жизни. Козловский перевёл огромное количество гамзатовских строк. Несколько стихотворений в его переводах стали знаменитыми песнями. Свою роль в творческом успехе Расула Гамзатова он никогда не преувеличивал, напротив, давал отповедь досужим болтунам, толковавшим о том, что Гамзатова якобы сделали переводчики.
Впрочем, Гамзатов и сам говорил, что без переводчиков мог остаться просто аварским поэтом, мало известным в стране и мире.
Яков
Козловский был светлым и добрым человеком. После тяжёлого ранения на войне, едва выжив, он пришёл в Литинститут на костылях и посвятил поэзии всю оставшуюся жизнь. Он и сам был замечательным поэтом.
День на смену полумраку
Занялся, кровоточа.
Лейтенант хрипит:
— В атаку! —
Автомат сорвав с плеча.
Он недавно прибыл в роту:
Прежние в земле лежат,
На смертельную работу
Поднимавшие солдат...
Сочинял Козловский и для детей. О его книжке «Весёлые приключения не только для развлечения» Сергей Михалков писал: «Вся книжка — волшебная игра в слова. Не думаешь о том, что рифмы свежи, что строки энергичны и отточены. Мастерство-то и создаёт иллюзию того, что стихи родились в весёлой игре, между прочим, и открыли трогательный мир взаимоотношений букв и слов».
Такса
Сев в такси,
Спросила такса:
— За проезд
Какая такса?
А водитель: — Денег с такс
Не берём совсем.
Вот так-с!
И вот, Якова Козловского не стало. Сталин утверждал, что незаменимых людей нет. Но разве кто-то сможет заменить Козловского, Гребнева, Твардовского? И даже самого Сталина, нового пришествия которого многие ещё ждут.
Потеря близких друзей — всегда тяжёлое испытание. Эта печальная неизбежность, которая ожидает всех, навевала горестные мысли. Трудно было представить, что набрав знакомый номер, уже не скажешь: «Яша, приезжай, посидим!» И что Козловский тоже не позвонит, чтобы прочесть новый перевод.
Приезжая в Москву, теперь уже чаще на лечение, чем по делам творческим, он вспоминал свою студенческую жизнь и друзей, с которыми вступал в большую литературу. Их становилось всё меньше. Он жил в Москве на улице Горького, которая теперь вновь стала Тверской. Оттуда было рукой подать до Литературного института, до ЦДЛ, до Красной площади. Эти небольшие расстояния было уже трудно преодолеть. Но к памятнику Пушкину он, с одним из своих помощников, всё же приходил, сидел на скамье, смотрел на великого поэта, на влюблённых, по-прежнему назначавших здесь свидания, на детей, которые ещё не знали, по соседству с кем они резвятся. Кругом была жизнь, и поэт будто узнавал в окружавших его лицах своих однокурсников и вспоминал свои стихи, посвящённые им.
Когда-то стихи мы друг другу
Читали в пылу молодом.
И строфы ходили по кругу,
Как будто бы чаша с вином...
И часто мне снитесь не вы ли,
Незримых достойные крыл,
И те, кто меня позабыли,
И те, кого я не забыл?
Иду вдоль бульвара Тверского,
Плывёт надо мною луна,
И счастлив по-дружески снова
Я ваши шептать имена
[197].
Сохранилось много фотографий Расула Гамзатова, было написано немало замечательных портретов.
И живописец знает в деле толк:
Чтоб молодым меня увековечить,
Он на мои натруженные плечи
Другую голову по-дружески кладёт.
Другая голова — другим нужней.
Им не достигнуть высоты иначе.
Я и за две, за сто голов в придачу
Не соглашусь расстаться со своей
[198].
ПОТЕРЯННОЕ, УТРАЧЕННОЕ, НЕИЗДАННОЕ
Расул Гамзатов продолжал творить. Что-то переводилось, что-то публиковалось в аварском оригинале, многое так и оставалось на писательском столе. Бумаг на нём становилось так много, что с трудом удавалось найти даже написанное недавно.
Порой поэт обращался к своим архивам, перечитывал неизданное, незаконченное. Старые рукописи опять ложились на стол, когда вспоминались чувства, запахи, звуки, краски, оживали образы... Вдруг рождались новые строки, и всё начиналось заново. Как у Пушкина:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Вместо ненайденного давнего стихотворения появлялось новое.
«Он создавал очень много, помнил на память, но вот хранить не умел, — вспоминала Салихат Гамзатова. — К большому сожалению, неаккуратно относился он и к своим рукописям и к архиву. Конечно, сохранением занималась мама, но что-то он даже потерял, переезжая из Махачкалы в Москву и обратно».
Многое из некогда написанного он никак не мог отыскать. Ему не хотелось думать, что это утрачено безвозвратно. Он не терял надежды найти главную пропажу — рукопись третьей книги «Моего Дагестана», искал снова и снова, но найти её так и не удалось.
О своей рассеянности он писал в том же «Моем Дагестане», в его опубликованной части:
«Теперь меня знают в ауле как поэта Расула Гамзатова. А было время, знали как растяпу и неряху. Я делал одно, а думал в это время о чём-нибудь другом. И получалось, что рубашку я надевал задом наперёд, пуговицы у пальто застёгивал неправильно, да так и выходил на улицу...»
Не раз предпринимал он и попытки систематизировать своё творчество, свои первые рукописи, разложить по датам и папкам... Но как разложить биение сердца, чувства, ощущения неосязаемого? Поэтическая канцелярия ему не давалась.
Неизданного оставалось немало. Но рукописями, удачными или не очень, он дорожил, ведь каждая из них была частью его жизни и за каждой вставали воспоминания.
Критик Камал Абуков видел в этом особую закономерность творческого процесса: «И потому, может, не стоит отчаиваться, ибо не сделано одно, зато сделано другое! А в принципе, кто из творцов ушёл и уйдёт, воплотив, реализовав всё задуманное?..»
У Гамзатова были большие планы, он ещё многое собирался написать. Это было лучшим спасением от одиночества, от невесёлых дум, от неприятия того, что творилось в мире. Сил физических оставалось у поэта всё меньше, но его творческая энергия была по-прежнему поразительна. Сила духа превозмогала немощь тела, листы его тетрадей покрывались мелкими ровными строками, и глаза поэта вновь озарялись творческим огнём.
«ЖИВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ»
Близкие друзья Расула Гамзатова всегда были рядом. Они поддерживали поэта, издавали его книги, навещали, приглашали в гости, устраивали праздники поэзии Расула Гамзатова. Они хорошо понимали его высокую значимость для литературы, Дагестана, для России. Они называли его, как в Японии называют великих людей — «живое национальное сокровище». И пропадала грусть, исчезало уныние, светлело на душе поэта, когда он видел, что нужен своему народу и по-прежнему им любим.
Он тоже любил своих друзей и готов был для них на многое. Дочь поэта Салихат вспоминала: «Порой, уходя в гости, он мог забыть выпить лекарство и чувствовать себя отлично. В такие дни он мог побывать на нескольких свадьбах и ещё пойти в гости. Иногда я спорила с ним: мне казалось, что после того, как он жаловался днём, что плохо чувствует себя, ему вечером лучше было бы быть дома, но он радостно бежал к людям. Я и сейчас вижу эту картину: папа в распахнутом пальто и развевающемся шарфе, как ребёнок, бежит к машине. Я, расстроенная, завёртываю в бумажки его лекарства и пишу часы приёма, чтобы он принял их вовремя, а мой муж удивлённо говорит: “Я удивляюсь, как этот человек почти в 80 лет вот так спешит и радуется”. А я только сейчас понимаю, что не все люди почти в 80 лет так радуются, бегут общаться, забыв о своих болезнях».
Расул Гамзатов был дружен с мэром Хасавюрта Сайгидпашой Умахановым, который высоко чтил поэта. В 1999 году Умаханов создал и возглавил хасавюртовские отряды народного ополчения, которые не допустили вторжение в город боевиков.
Гамзатов тепло относился к Умаханову, понимал и ценил его. Когда против Умаханова была развёрнута кампания по его дискредитации, некоторые деятели культуры подписывались под письмами с его осуждением. Расул Гамзатов таких писем не подписывал. Вместо этого он произнёс одну из своих знаменитых фраз: «Я солист, я в хоре не пою». Кампания провалилась.
В одном из телевизионных фильмов Расул Гамзатов, принимая в своём доме Сайгидпашу Умаханова, говорил: «Многие считают его национальной надеждой. Я с этим согласен, он один из самых надёжных и верных сынов Дагестана».
Умаханов вспоминал: «Какие только темы не волновали поэта, — и политика, и обучение детей родному языку, и социальная помощь особо нуждающимся землякам, и строительство дорог — всего не перечислишь. Я всегда считал за честь выполнить любую его просьбу: ведь он просил не для себя, а для народа».
Центральная городская библиотека Хасавюрта была названа именем Расула Гамзатова ещё при жизни поэта.
«ИЗ ТОГО МИРА МНЕ ИДУТ ТЕЛЕГРАММЫ»
Кто-то считал Расула Гамзатова закоренелым материалистом, кто-то полагал, что это заблуждение, что сын почитаемого мусульманского учёного, глубокого знатока шариата Гамзата Цадасы не может быть вне веры. И последние оказались правы.
Расул Гамзатов делал много ошибок, но нашёл в себе мужество раскаяться и вернуться на праведный путь.
Молитва
Молю, Всевышний: рассеки мне грудь,
Чтобы душа очистилась от скверны.
Бывали, и за то не обессудь,
Слова мои порою легковерны.
Не облачный, земной мне выпал путь,
Я предавался мыслям греховодным,
К тому же я считал себя свободным,
А может, вовсе не в свободе суть?..
[199]
Большевизм оказался дьявольским миражом, и люди, им околдованные, не сразу, но всё же вернулись к праведным истокам. В стихотворении Гамзатова «Аульская мечеть» есть строки:
...И страшных годов захмелевший юнец,
Я не был обучен Корану.
И тайно молился мой честный отец
С душой, походившей на рану...
Хоть век мне твердили:
«Ты в Бога не верь!»
На этом опомнившись свете,
Открыл покаянно скрипучую дверь
Забытой аульской мечети
[200].
С годами он всё лучше понимал, где истина, всё больше открывал сердце и душу спасительной вере своих предков.
«Думаю, если бы не религия, если бы не культура, если бы не язык, то трудно было бы нам сохранить себя и свою нацию, — говорил поэт журналисту Космине Исрапиловой. — Выслали в своё время чеченцев, ингушей и другие народы, но выслать их дух, характер, религию, культуру не удалось». И добавлял главное, о Всевышнем: «Когда с ним не советуешься, ошибаешься. Когда советуешься, не ошибаешься. Мне очень нравится: да храни вас Бог!»
Гамзатов был на пороге своего восьмидесятилетия, в такую пору, подходя к краю неизвестности, люди поневоле задумываются о том, что их ждёт. Расул Гамзатов как будто знал, чувствовал, почти физически ощущал приближение неизбежного. Когда Феликс Бахшиев спрашивал его об ином мире, поэт отвечал: «Человек, уже рождаясь, боится жизни. А как смерть близка — боится смерти. Ту сторону мира я не боюсь. Боюсь того, что многого не успел сказать, поведать. Сил нет. Дум, мыслей много, а из того мира мне идут телеграммы, телефонные звонки: зовут...»
Гамзатов не торопился покидать этот мир, но когда вспоминал дорогих ему людей, ждавших его в иной жизни, на душе становилось легче. Его дочь Патимат вспоминала, как отец однажды сказал то ли в шутку, то ли всерьёз: «Можно было бы быть неверующим, если бы мы были бессмертны».
В прежние годы Расул Гамзатов трижды совершил паломничество в святые места — Мекку и Медину. Был он там и с женой и дочерью Патимат, когда совершал малый Хадж по приглашению королевской семьи Саудовской Аравии. Он был бы рад совершить ещё одно паломничество, но сил на это уже не было.
Велика была радость его земляков-единоверцев, когда Расул Гамзатов обратился к ним в священный месяц Рамазан, призывая беречь свою веру, соблюдать обряды, помогать нуждающимся. Правоверным он желал идти по верному пути, а оступившимся — на него вернуться.
«У каждого свой путь к Богу, — писала в своих воспоминаниях дочь поэта Салихат, — и, как сказано в Коране, “ночь, проведённая за учёбой, дороже ночи, проведённой в молитве”. Молитвы, обращения к Богу ярко звучат в его стихах последних лет “Аульская мечеть”, “Молитва” (Молю, Всевышний: рассеки мне грудь), “Ночей и дней всё нарастает бег...”, “Одиночество”, и более ранних “Свои стихи читать мне странно...”, “Молитва” (Когда поднимешься к вершинам синим...)... Я уверена, что только истинно верующий человек мог написать, как он в стихотворении “Одиночество”:
Я вовсе не один — со мной Аллах
В безмерном одиночестве Вселенной.
Когда папе выделяли квартиру в Москве, ему предложили очень хорошую квартиру в районе проспекта Мира в тихом переулке под названием “Безбожный”. Папа отказался, прокомментировав нам: “Поэт не должен жить на улице с таким названием”. Интересно, что квартира, в которую въехали мои родители, находилась в доме, расположенном на углу улицы Горького и переулка с совсем другим, в данном случае символическим названием — “Благовещенский”. В этой квартире мои родители жили все годы, когда приезжали в Москву».
Рассказала Салихат Гамзатова и о том, как, приехав в советское время в одно большое дагестанское село, Расул Гамзатов попросил показать ему сельскую мечеть. Там тогда располагался склад. Когда открыли дверь, Гамзатов снял обувь, прежде чем войти, как это положено у мусульман. Бывшие с Гамзатовым люди удивились:
— Это же склад, там пыльно.
— Для вас склад, а для меня мечеть, — сказал Гамзатов.
«МЕНЯ ЗАБУДУТ...»
Юбилейный для поэта 2003 год был объявлен в Дагестане Годом Расула Гамзатова. Планировалось множество мероприятий, готовились к изданию книги, включая восьмитомник поэта. Но Гамзатова продолжали одолевать сомнения: нужно ли это теперь? Не зарежут ли быка в честь того, что найден пропавший ягнёнок?
Его убеждали, уговаривали, но он продолжал сомневаться. Когда стало известно, что его юбилейный вечер будет проведён в Москве, в Концертном зале «Россия», он и вовсе пришёл в замешательство: «Разве придёт столько людей? Разве меня ещё помнят?» Ему казалось, что время поэзии прошло, а с ней и время поэтов. «Меня забудут, — говорил он автору этой книги. — Потом вспомнят и опять забудут, окончательно». Он ошибался, но это были высокие сомнения большого поэта, которого хватило на два века и которому, наверное, уготована вечность.
Невероятная поэтическая судьба и необыкновенная жизнь были порукой тому, что забвение и равнодушие Гамзатову не грозят.
Расул Гамзатов продолжал работать над поэмой «Времена и дороги». Иногда он говорил, что это общее название для нескольких поэм, а порой говорил как об отдельном произведении. Поэма росла, обретала новые краски и измерения. Он часто переделывал написанное, что-то добавлял, от чего-то отказывался. А однажды вдруг сказал, что посвятил поэму Шапи Казиеву, и предложил её перевести.
В заснеженном окне встаёт рассвет,
Уже декабрь, который мне пророчит,
Что к белым журавлям ещё короче
Мой путь теперь,
и возвращенья нет.
Мой алфавит немало пострадал,
Пока до буквы «Ш» от «А» добрался,
Шапи, в календаре моём остался
Листок последний.
Я его сорвал...
Переводить Гамзатова после таких мэтров, как Илья Сельвинский, Наум Гребнев, Яков Козловский, было нелёгким испытанием. Но вдохновляло то, что, может быть, впервые это будет прямой перевод с аварского на русский, без подстрочника. Как и надежда постичь то особенное, что роднит поэзию Гамзатова с вечностью.
Затем, в Барвихе, где он отдыхал после лечения, автор читал поэму на аварском и внимательно слушал её перевод на русский. Гамзатов делал важные поправки, уточнения, повторял какие-то строки, будто примериваясь к переводу, а иногда вносил небольшие изменения в аварский текст. Порой казалось, что Расул Гамзатович, который давно уже считался классиком, слишком требователен к своему творчеству.
Гамзатов тяжело переживал то, что творилось со страной и культурой. И это тоже отразилось в поэме, исповедальной и светлой, как светла была его вера в добро и людей. Проступало в поэме и то, как Гамзатов, оставаясь поэтом национальным, преодолел невидимую грань традиции, устремив своё творчество ко всему человечеству. Поэма казалась прощанием с этим миром.
Каков этот мир, каким он его любил и каким оставляет, и каким он сам был в этом мире — об этом писал Гамзатов. Он как будто спешил сказать то, что недосказал, что уже не мог не сказать. Это была пронзительная исповедь поэта, свободного от каких-либо условностей или границ.
Мне Мурсал-Хан не выколол глаза,
Хоть на красавиц я глазел немало.
И губы, как Марин, не зашивали,
Хоть лишнего немало я сказал.
Я пил, но яду мне не поднесли
На чохской свадьбе, как Эльдарилаву.
Я воспевал в стихах Хочбара славу.
Но на костёр, как он, не угодил.
Ирчи Казак в цепях попал в Сибирь,
И я там был, но не Шамхалом сослан.
Как Батырай, за пламенное слово
Владыкам я быками не платил.
Без жарких споров я не помню дня.
Я дерзок был, известный был повеса.
Но не нашлось в горах у нас Дантеса,
Который бы хотел убить меня.
И всё же Расул Гамзатов не считал эту поэму последней в своём творчестве, но так, к несчастью, случилось. И потому многое в ней обретает особенный трагический смысл, хотя в поэме немало юмора и поэтических жемчужин, свойственных Гамзатову. Над его строками витало волнующее ощущение другого, непривычного Гамзатова.
Пусть голова моя — не серебро,
Она не от веселья поседела.
Пусть в голове не золото, но пел я
Не для наград, а веруя в добро.
Как лестница, в неведомую даль
Кровавыми ступенями уходят
Мои стихи.
Что ждёт их?
Кто готовит
Им приговор?
Я не узнаю, жаль.
В том же году издательство «Молодая гвардия» подготовило к выпуску в серии «Библиотека лирической поэзии “Золотой жираф”» книгу лучшей лирики Расула Гамзатова. Поэт был нескрываемо тронут, когда взял в руки договор, и с улыбкой его подписал. В «Молодой гвардии» вышла его первая книга на русском языке, здесь всегда ждали его новые произведения, которые, бывало, выпускали миллионными тиражами. В книгу «Суди меня по кодексу любви» были включены и новые произведения Гамзатова, над которыми он работал последнее время. Судьба распорядилась так, что это оказался последний автограф Расула Гамзатова на авторском договоре с издательством.
В том же году мы с режиссёром Рафаэлем Гаспарянцем снимали документальный фильм «Расул Гамзатов. Моя дорога», в котором попытались средствами кино передать беспредельный масштаб личности поэта. «Государство не тема поэзии, — говорил в фильме Расул Гамзатов. — Тема поэзии — родина. Моя тема — Дагестан, любовь к женщине, к матери». Увидеть этот фильм Гамзатову не довелось.
В СОЧИ, К ПРЕЗИДЕНТУ
Утром 8 сентября из аэропорта Махачкалы вылетел специальный рейс, доставивший Расула Гамзатова в Сочи, где в резиденции «Бочаров Ручей» его ждал президент России Владимир Путин. Он пригласил поэта, чтобы лично вручить ему высшую награду Российского государства — орден Святого апостола Андрея Первозванного. «За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и активную общественную деятельность», — говорилось в президентском указе.
В приветственной речи президент страны сказал:
«Уважаемый Расул Гамзатович!
Уважаемые друзья!
Прежде всего, позвольте ещё раз от всего сердца поприветствовать Вас и сказать, что я, мы все, все, кто Вас любит в России, рады видеть Вас в добром здравии. Нам очень приятно, что сегодня мы можем поздравить Вас с юбилеем, с восьмидесятилетием.
Уже много десятилетий политическую и общественную жизнь нашей страны, не говоря о литературной жизни, невозможно представить без имени Расула Гамзатова. Оно известно миллионам людей, которые преданно называют Вас своим любимым поэтом. Здесь сегодня много Ваших поклонников, почитателей, несмотря на то, что зал маленький. Но страна у нас большая, и у нас в стране Вас любят. Любят за то, что Вы так искренне и так изысканно учите нас очень простым общечеловеческим ценностям, таким как дружба, верность, совесть.
У Вас много наград и много званий, но среди них есть самая большая награда и самое большое звание — Вы народный поэт. И Вы поэт не только своего народа, не только аварского, не только дагестанского народа. Мы все гордимся, называя Вас великим поэтом России.
Ваше имя — Расул — переводится как “представитель”, “посланник”. И Вы всей своей жизнью и своим творчеством оправдали это высокое значение. Вы, безусловно, представитель, как я уже сказал, всего российского народа, представитель общечеловеческой культуры, а Ваша поэзия — это достояние всех народов Российской Федерации.
Именно Вы сделали свою малую Родину знаменитой и известной всему миру. Вы прославили аварский язык и людей, живущих на этой прекрасной земле.
Если открыть одну из наиболее известных Ваших книг — “Мой Дагестан”, а её можно открыть с любой страницы, и все они будут интересны. Так много в ней мудрых мыслей, красивых легенд и очень доброго юмора. Эта книга — сгусток мыслей и чувств целого народа.
Одну из своих последних книг Вы назвали “Конституцией горца”. В этом своде личных законов всего семь статей, но они вместили суть и смысл человеческой жизни. Вашими духовными ориентирами по-прежнему остаются и совесть, и честь, и добро, и любовь.
Вы всегда умели слышать голос времён, умели сказать людям о самом насущном, о том, что их волнует и беспокоит. И сегодня очень многих поддерживают как Ваши стихи, так и Ваша гражданская мудрость, личное достоинство.
Благодарю Вас за Ваш выдающийся просветительский труд, Ваш талант и Вашу твёрдую, мужскую гражданскую позицию.
Ещё раз позвольте мне сердечно поздравить Вас с днём рождения, с юбилеем. Позвольте пожелать Вам здоровья, творческих успехов».
Вместе с Расулом Гамзатовым к президенту приехали его друзья — писатели Даниил Гранин и Давид Кугультинов, певица Нани Брегвадзе, дочери поэта и его внучка.
После вручения награды Расул Гамзатов выступил с ответным словом, в котором говорил не столько о себе, сколько беспокоился о состоянии отечественной культуры: «Дорогой Владимир Владимирович, дорогие друзья!
Не скрою, я с иронией относился к юбилеям в последнее время, потому что юбилей — это преувеличение заслуг... Я разбалован наградами, званиями и поощрениями в области литературы, искусства и политики, но сегодняшняя награда в сегодняшнее время наших надежд, это мне дорого, я это высоко ценю, большое спасибо. Почему именно сегодня дорого? Сегодня наша литература переживает то же самое, что пережил виноград, помните — антиалкогольная кампания в Дагестане — уничтожены с корнями лозы, и мы лишились этого богатства, а потом тратили миллионы денег — восстанавливали это богатство. Под видом демократии многие годы от прошлой литературы отказались, и настоящей литературы не было. В Махачкале недавно был вечер литературы, мне говорили — сто человек еле-еле вы найдёте, а у меня в спортивном зале поэтический вечер. Шесть тысяч пришли, я думал — на футбол попал. Народ соскучился по художественному слову, по литературе, наша задача — это делать... Я сейчас окружён здесь хорошими людьми. Что человеку ещё надо? И президент с нами. Желаю президенту нашей страны долголетия, крепкого здоровья, всё, что он себе желает и то, что он народу желает!»
На праздничном обеде Владимир Путин и Расул Гамзатов обменялись личными подарками. Президент подарил поэту часы, поэт президенту — роскошно изданное собрание своих сочинений.
В тот же день Расул Гамзатов вернулся в Дагестан, где его встречали в аэропорту с особыми почестями.
ЮБИЛЕЙ
На следующий день торжества продолжились в Махачкале. На вечере в Русском театре была зачитана поздравительная телеграмма президента Российской Федерации.
К юбилею поэта многие театры республики воплотили на сцене произведения Расула Гамзатова.
Множество мероприятий, посвящённых творчеству Расула Гамзатова, проходило в школах и вузах, библиотеках и музеях Москвы.
23 сентября в Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся большой юбилейный вечер поэта. Сначала его планировали провести в Кремлёвском дворце, но кто-то отговорил Гамзатова, мотивируя тем, что такой большой зал трудно будет заполнить, но они ошибались. Желающих попасть на вечер оказалось так много, что зал Кремлёвского дворца подошёл бы для торжества лучше.
Известные персоны, звёзды эстрады, знаменитые артисты, писатели, композиторы поздравляли поэта и признавались в любви к его поэзии. Концерт шёл несколько часов. Было заметно, как утомлён Расул Гамзатов, отвыкший от долгих торжеств, но он держался. Зато от сомнений, от опасений, что его, наверное, уже забыли, что поэзия теперь никому не нужна, не осталось и следа. Размах торжеств и неподдельная любовь подданных его поэтической державы растрогали Гамзатова, и он признался, что счастлив.
В октябре состоялся вечер, посвящённый юбилею поэта, и в Московском доме национальностей. Валентин Осипов сравнил два портрета Расула Гамзатова, каким он его знал прежде и каким увидел теперь, после многих лет:
«Стоило в первый раз взглянуть, и сразу же отложилось в памяти: большая голова с ворсом жёстко-непокорных волос, коротко стриженных и — странно — уже с искорками седины, и с огромным, круто изогнутым носом. Где я уже видел такую голову? Тут же припомнились тысячелетия назад сотворённые скульптуры римских патрициев.
Прошли десятилетия. Московский Дом национальностей. Творческий вечер. Он давно не встречался со своими столичными почитателями.
Его ведут на сцену, к столику с микрофоном, под руки, он с трудом преодолевает несколько ступенек. И я увидел измождённого болезнью страдальца: трясущиеся руки, подрагивающая голова, тусклые глаза, упрятанные под тяжкими веками, а когда приоткрывались, в них таилось безучастие. И — непривычно! — молчал. И не смотрел на тех, кто объяснялся ему в любви и уважении, мне, правда, досталось — он протянул руку, я кинулся от микрофона пожимать её — она оказалась вялой.
Подумалось: зачем привезли?
И вдруг он принялся говорить. И ожил. Тут я понял, зачем он приехал — в эти последние месяцы своей жизни явно хотел не только отчитаться, но и зарядиться вниманием. Не хотел жить под приговором врачей на домашний арест. Кое-что я успел — увы, немногое без диктофона — записать.
— Уж сколько лет всякие телевидения сбрасывают нас с вершин высокой духовности в болото безликости. Поэтому сейчас я за культ личности!
— Сколько же врагов хотят столкнуть народы. Ссорят, ссорят. Мой Кавказ в крови. Я же, патриот, остаюсь интернационалистом. Моя страна — в сердце, а пять континентов — это пять пальцев моей руки...
— Политики никак не поймут, что век недолог. И поэтому не надо спешить, лучше хорошо подумать, как быстрее делать добро, а не зло.
— Чего я жду от жизни? Жду разлуки. С семьёй. С друзьями. Но если отравлять воздух разговорами про разлуки, то отвернётся семья, отвернутся друзья.
Он устал, но взрывные аплодисменты взбадривали его. Закончил и — горе-то какое! — снова поник».
В том же году Расулу Гамзатову была вручена государственная награда Грузии орден Золотого руна.
«Я помню, как отмечали восьмидесятилетие отца, — говорила дочь поэта Патимат в беседе с Таисией Бахаревой. — Празднования проходили в его родном селении Цада, в Махачкале и Москве. Сначала были концерты, а затем вечерние посиделки с друзьями. Тогда мне показалось, что он специально проехался по главным местам, с которыми были связаны его жизнь и творчество, чтобы увидеться с почитателями и друзьями, будто со всеми прощаясь».
Ещё не смолкли торжества, а Расул Гамзатов вновь оказался в больнице. Недугов у него было немало. К болезни Паркинсона он ещё как-то привык, но всё труднее билось его большое сердце. Он как будто предчувствовал, что уже не поправится.
«Не знаю, выберусь ли я на этот раз», — шептал он друзьям.
Полтора десятка лет назад Гамзатов написал:
Был сам себе я враг усердный,
И вот, вблизи небытия,
На тихой станции предсмертной,
В больнице пребываю я...
И навещать не забывают
Меня друзья, и в свой черёд
Они, прощаясь, заклинают:
«Пусть с нами твой недуг уйдёт!»
Гляжу на звёздный рой несметный,
И может, впрямь надежда есть
На этой станции предсмертной
В обратный поезд пересесть
[201].
Тогда Расулу Гамзатову это удалось. На этот раз обратного поезда он не дождался.
Тогда же, в больнице, Расул Гамзатов написал своё завещание. Оно состояло из нескольких набросков, которые не были сведены воедино. Салихат Гамзатова их обобщила и опубликовала сокращённый вариант, в котором говорится:
«Моё завещание — в книгах, которые я написал. Оставляю потомкам Дагестан, который и я унаследовал от предков, — мой край любви, надежды, радости, землю красивых девушек, гордых мужчин и женщин. Дагестан — это и моя мулатка, и моя Кумари, и моё колесо жизни, и гора моей тревоги — Ахульго. Без этого нет моей жизни.
Я ничего не забираю туда из этого хорошего, доброго, красивого мира. Потому и прошу — берегите Дагестан. Храните и возвеличивайте его славное имя, Дагестан — ваша жизнь, ваше достоинство и ваша любовь. Нет, не глупы его адаты — дорожите ими. Его приметы и символы не дикие — несите их гордо и сохраняйте во славе. Малочисленны его народы — любите их особенной любовью.
Оставляю потомкам, детям пронесённую мною через годы любовь ко всему сущему и особенно — трепетное отношение к женщине. Моя любовь к женщине оставалась неизменной всегда, и все мои песни были о ней. И вам обновлять мою вечную песню о женщине. Пусть засияет ярким светом мерцающая в ней звезда. Пусть повсюду разносится звон колокольчиков, исходящий из разбуженных ею сердец.
Особенно берегите матерей, заботьтесь о сёстрах, безоглядно влюбляйтесь в красивых девушек. Кто не познал такой любви, тот прожил жизнь напрасно.
Я не беру с собой туда ничего из этого мира. Всё, что есть значительного, достойного, красивого, остаётся здесь, остаётся вам, люди!»
«ОН ВСЕМ НАМ ПОМОГАЛ ЖИТЬ»
Расул Гамзатов скончался 3 ноября 2003 года в Центральной клинической больнице Москвы.
У мусульман считается благоприятным знаком, если человек уходит в мир иной в Рамазан — месяц поста и очищения. Завершившим земное бытие в священный месяц облегчается существование в ином мире.
Дочь Патимат рассказывала о последнем разговоре с отцом в интервью Таисии Бахаревой: «За день до его смерти мы пришли к папе в больницу в Москве. У него часто было много посетителей, и в этот момент тоже пришли папины друзья — сотрудники нашего постпредства, принесли его книги, просили, чтобы он их подписал. У папы сильно дрожала рука, он даже не смог писать. Тогда они сказали: “Утром Расул Гамзатович будет себя хорошо чувствовать, тогда и подпишет...” А завтра... Папа до последних своих дней оставался в строю. Но я думаю, что он предчувствовал свой уход. В последний год жизни всё время говорил, что ему нужен хотя бы один лишний год. Признавался: “У меня столько начато, столько бумаг нужно разобрать, пусть мне отпустится ещё время”».
Мы все умрём, людей бессмертных нет,
И это всё известно и не ново.
Но мы живём, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово
[202].
Скорбная весть опечалила миллионы сердец. «Он всем нам помогал жить, — писал Сергей Гиндин. — Совсем недавно, после долгого перерыва, он появился на наших экранах в день своего восьмидесятилетия. Говорить ему было трудно, но он снова шутил, шутил над собой. Душа и мудрая человечность оставались с ним до конца».
В погрузившийся в траур дом Гамзатовых шли люди, выражали соболезнование и не уходили. Тысячи людей стояли у дома поэта, будто надеясь, что он вот-вот выйдет или появится на террасе. И у многих в руках были томики стихов Гамзатова.
Приносили сотни телеграмм, в которых были глубокая скорбь, боль утраты, восхищение талантом и гордость за то, что почитателям таланта Расула Гамзатова выпало счастье быть его современниками.
Телеграмма Фазиля Искандера начиналась словами: «Он был в России популярнее многих русских известных поэтов» и заканчивалась так: «Всё, что он хотел сказать, он сказал. Мир памяти его». Владимир Огнёв написал: «Гамзатов — явление великого человеческого духа, художник века». Елена Николаевская вспоминала, как передала в больницу журнал «Дружба народов» с новыми переводами Гамзатова и как он был им рад.
Он близок, мой хадж, к завершенью,
И, движимый силой любви,
Прошу у Аллаха прощенья
За все прегрешенья свои...
В официальном некрологе говорилось: «Творчество Расула Гамзатова вобрало в себя талант, мудрость и мироощущение народов Дагестана и всего Кавказа. Его произведения, впитавшие всё ценное из жизненного опыта и духовного наследия горцев, обогатили российскую и мировую литературу. Стихи и проза поэта пронизаны мотивами гражданственности и человечности, они отмечены не только жанровым многообразием, оригинальностью, но и глубиной мысли и чувств...»
Церемония прощания с Расулом Гамзатовым проходила в Русском театре. Венки, цветы, почётный караул и нескончаемые соболезнования. Огромный портрет с чёрной лентой на стене театра. Перекрытое движение.
После траурного митинга многотысячная процессия двинулась к возвышающейся над городом горе Тарки-Тау. Накрытое буркой тело Расула Гамзатова, по обычаю, несли на деревянных носилках, сменяя друг друга.
Его похоронили рядом с могилой его супруги Патимат.
«Всё в мире плохо и порядка нет!» —
Сказал поэт и белый свет покинул.
«Прекрасен мир», — сказал другой поэт
И белый свет в расцвете лет покинул.
Расстался третий с временем лихим,
Прослыв великим, смерти не подвластным.
Всё то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.
Вечером того дня, когда в Русском театре прощались с Гамзатовым, там должна была состояться премьера поэтического спектакля «Незаконченный концерт». Это было сценическое воплощение поэмы Расула Гамзатова о войне, погибших братьях, о судьбе третьего брата, оказавшегося в сталинских лагерях. Жажда человеческого счастья и трагедия целого века сошлись в этом необычном спектакле. Гамзатову не верилось, что поэму можно поставить на сцене, но главный режиссёр театра Скандарбек Тулпаров убедил его в обратном. Увидев несколько фрагментов будущего спектакля, Гамзатов пообещал непременно быть на премьере.
Когда случилось непоправимое, режиссёру рекомендовали отменить премьеру, но он отказался: «Расул дал слово приехать на премьеру, и он, как мужчина, сдержал своё слово». Зал на премьере был полон. Спектакль прошёл с невероятным успехом, зрители не хотели уходить, продолжая аплодировать артистам, но все понимали, что они аплодируют Расулу Гамзатову.
ПАМЯТЬ
«Надгробие поставьте небольшое, я не любил величия, — говорится в завещании Гамзатова. — И напишите одно слово — “Расул”, если покажется мало, можно написать “Расул Гамзатов”». На чёрной мраморной стеле на могиле поэта так и написано:
«Расул Гамзатов».
Годы жизни не указаны — Гамзатов был и остался со своим народом.
Его «Журавли», ставшие высоким образом народной трагедии, облетели всю планету, стали частью мировой культуры. Памятники «Белым журавлям» взмывают в небо в разных уголках планеты. Возведено уже более 150 монументов. «Дни белых журавлей» обрели в Дагестане статус национального праздника, на который съезжаются гости со всей страны. Праздник проводится под эгидой ЮНЕСКО.
«Поэт в России — больше, чем поэт», — написал Евгений Евтушенко. Эти строки с полным правом можно отнести и к Расулу Гамзатову.
В сентябре 2010 года в Махачкале был открыт памятник Расулу Гамзатову. В конкурсе на создание памятника участвовали скульпторы со всей страны. Лучшим был признан проект Магомеда-Али Алиева. Поэт изображён сидящим с книгой в руке, в накинутой на плечо бурке.
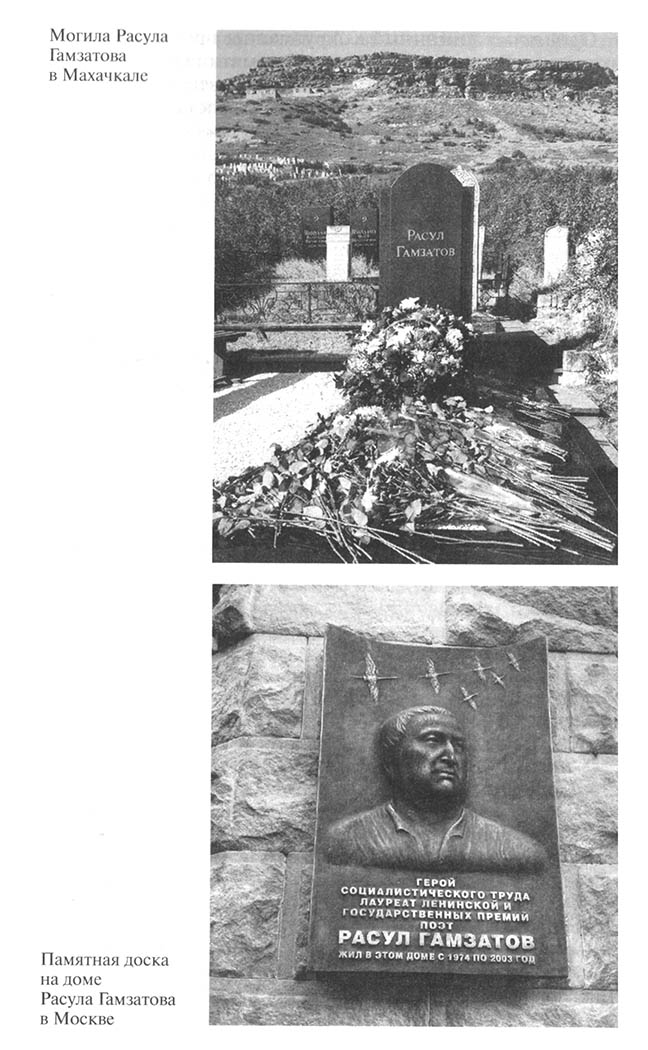
Органично вписанный в окружающее пространство архитектором Русланом Умалатовым, памятник стоит на площади у здания Русского драматического театра им. М. Горького. Перед ним проходит главный проспект Махачкалы, бывшая улица Ленина, ставшая теперь проспектом Расула Гамзатова. Проспект символично начинается у памятника Гамзату Цадасе, отцу поэта, и в конце снова встречается с Гамзатом Цадасой — с улицей его имени. Почти напротив памятника Гамзатову, на другой стороне проспекта, стоит здание Национальной библиотеки, которая тоже названа именем Расула Гамзатова. Архитектор библиотеки — Абдула Ахмедов, построивший и новый дом Расула Гамзатова.
Через год, в Москве, на доме, где многие годы жил и творил Расул Гамзатов, была открыта мемориальная доска. Её авторы скульптор Паата Мерабишвили и архитектор Евгений Хайлов показали поэта как свободного человека эпохи Возрождения. Он будто провожает глазами летящий над ним журавлиный клин. Среди собравшихся были друзья поэта — Евгений Примаков, Рамазан Абдулатипов, Александр Дзасохов и много других известных людей. Когда торжественно открывали доску, накрапывал дождь, но людей у дома Гамзатова становилось всё больше. Церемонию завершала знаменитая песня. И слова её звучали пророчески:
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я полечу в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Завидев в небе журавлиный клин, люди вспоминают Расула Гамзатова.
5 июля 2013 года, к девяностолетию со дня рождения поэта, памятник Расулу Гамзатову был открыт и в Москве.
Инициатива его сооружения принадлежала Гамзату Гамзатову — президенту Международного фонда Расула Гамзатова. Он же, в основном, обеспечил и финансовую часть дорогостоящего проекта, в который внесли свою лепту и Фонд Гамзатова, и зять поэта Умахан Амирханов. Путь от идеи до её воплощения был долгим и тернистым. Письма, встречи, обсуждения, отказы, поддержка крупных государственных деятелей — почитателей Расула Гамзатова... Но дело было далеко от завершения, пока Гамзат Гамзатов, в ту пору председатель Общественной палаты Республики Дагестан, не рассказал об этом на встрече президента Владимира Путина с общественными деятелями страны. И вскоре всё изменилось, место для памятника нашлось, скульпторы взялись за работу.
Памятник был установлен в центре Москвы, на Яузском бульваре. Скульпторы Игорь Новиков, Шамиль Канайгаджиев и архитектор Алексей Тихонов создали замечательное произведение. Поэт изображён сидящим в резном дагестанском кресле, с улыбкой протягивающим руку своим читателям. На постаменте — рельеф юного горца, покидающего аул со своим скакуном. В композицию включены и журавли — символ поэзии Расула Гамзатова, с первыми строками ставшей уже народной песни.
На церемонии открытия памятника выступил президент России Владимир Путин:
«Дорогие друзья!
Сегодня на одном из самых красивых бульваров столицы мы открыли памятник Расулу Гамзатову. Это дань нашего безграничного уважения к поэту, человеку широкой души и необыкновенной мудрости, сыну Дагестана и великому гражданину, патриоту России. Будучи настоящим национальным, народным поэтом, он был поэтом всей нашей огромной державы, понятным и близким всем — всем, кто читал его книги.
На этом памятнике — слова из “Журавлей”. И у каждого из нас, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, замирает сердце, когда мы слышим эту песню, когда читаем его стихи — стихи о любви, о дружбе, о достоинстве и чести, о верности и о долге, о храбрости и о мужестве. Это те ценности, которые он пронёс через всё своё творчество, через всю свою жизнь...»
В конце своего яркого выступления президент России сказал:
«...И хотел бы завершить своё выступление стихами Расула Гамзатова, которые сегодня звучат как завещание всем нам, всем народам России:
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Я счастлив, что лично был знаком с Расулом Гамзатовым и имел возможность прикоснуться к чистому источнику его мыслей и нравственных ценностей.
Поздравляю вас с открытием памятника великому сыну Дагестана и России!»
Расул Гамзатов в студенческие годы приходил к памятнику Пушкину, теперь люди приходят и к памятнику Гамзатову.
В том же году бюст Расула Гамзатова работы скульптора Гимбата Гимбатова открыли во дворике филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Скульптурный портрет Гамзатова, созданный Львом Кербелем в 1970-е годы, хранится в доме поэта.
12 октября в Государственном Кремлёвском дворце состоялось большое театрализованное представление, посвящённое девяностолетию со дня рождения Расула Гамзатова. Было оно показано и в Махачкале.
В том юбилейном году мероприятия в память о поэте проходили по всей стране. Одним из самых ярких событий стал концерт «Новые песни на стихи Расула Гамзатова».
Песни на музыку Георгия Рогаченко прозвучали в исполнении Александра Постоленко — звезды мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Концерт стал яркой презентацией вышедшего тогда же музыкального диска. Этот большой проект состоялся благодаря Магомеду Юсупову — давнему почитателю творчества Расула Гамзатова.
В августе 2014 года Первый канал Российского телевидения представил музыкальное шоу «Достояние республики», посвящённое Расулу Гамзатову.
Гости передачи говорили о выдающемся поэте, популярные артисты исполняли песни на его слова. Принимавший участие в программе, в ту пору глава Дагестана, Рамазан Абдулатипов сказал:
«Общение с Расулом Гамзатовым — это величайший подарок судьбы, мы все счастливые люди, потому что родились в эпоху Расула Гамзатова. Мы освещены его творчеством, красотой его отношения к жизни, его огромной любви к жизни, к своему народу, к своей семье, к своей родине, поэтому Расул Гамзатов — это на самом деле достояние республики, это достояние России. И когда мы говорим о Расуле Гамзатове, что это великий поэт, великий гражданин, великий человек, мы должны понимать, что очень тяжело стать великим поэтом в стране, где был Пушкин, где был Лермонтов, где был Тютчев».
В 2014 году бюст Расула Гамзатова был открыт и в турецком городе Ялове — побратиме Махачкалы, где живёт много потомков выходцев из Дагестана.
Памятники гамзатовским «Журавлям» возведены во многих городах и странах.
Его именем названы проспекты и улицы, учебные заведения и библиотеки, гидроэлектростанция и авиалайнер, корабли и пограничная застава. Его строками украшают бурки и другие изделия дагестанских мастеров, даже коньяки и вина. Книги с автографами поэта выставляются на аукционах.
В честь Расула Гамзатова учреждены премии, медали и стипендии. Проводятся конкурсы, фестивали и литературные чтения.
Хасавюртовская библиотека им. Расула Гамзатова во главе с директором Эльмиром Якубовым выступила инициатором множества замечательных проектов, связанных с творчеством поэта. Особенно масштабными стали «Международная программа чтения “Расул Гамзатов — певец добра и человечности” и «Расул Гамзатов. День за днём. Поэтический календарь», которые продолжаются и теперь.
В 2016 году в Дагестане был принят новый государственный гимн на слова Расула Гамзатова и музыку Мурада Кажлаева.
Международный общественный фонд Расула Гамзатова уже более двадцати лет популяризирует творчество выдающегося поэта. Фонд поддерживает молодых писателей, вручает свои награды и присуждает Большую литературную премию имени Расула Гамзатова.
Президент фонда, известный энергетик и государственный деятель Гамзат Гамзатов, долгие годы бывший рядом с Расулом Гамзатовым, не уставал призывать: «Читайте больше Расула Гамзатова, и многое вам станет понятным и ясным! А сам Расул Гамзатов навсегда останется рядом с вами как неистовый проповедник высокой чести и беззаветной любви к человеку!»
Гамзат Гамзатов многое сделал для культуры и истории Дагестана. Основанный им издательский дом «Эпоха» выпускает книги и журналы, но самыми главными и многочисленными изданиями остаются произведения Расула Гамзатова.
Вице-президент фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова организует множество мероприятий, исследует материалы о жизни и творчестве поэта, принимает гостей, которые посещают фонд, чтобы больше узнать о любимом поэте. Свои отзывы они оставляют в гостевой книге:
«Мы гордимся тем, что являемся земляками Расула Гамзатова, и сожалеем о том, что нам не удалось познакомиться с ним лично. Всё, что мы хотим сказать ему — это “Спасибо!” за то, что он сделал для нашего народа, за то культурное наследие, что он нам оставил. Мы надеемся, что память о нём никогда не угаснет.
Лицей № 5. Ученицы 11 “1” класса
Алина Магомедова, Ася Абдуллаева».
«Произведения Расула Гамзатова — это сокровище дагестанского народа, который щедро делится своим интеллектуальным потенциалом со всем миром. Читать Гамзатова нужно всем для обогащения души и интеллекта.
Армен Гаспарян.
Учебный центр Университета Бирмингема,
Великобритания».
Новым руководителем Союза писателей Дагестана был избран поэт Магомед Ахмедов. Кабинет Расула Гамзатова обрёл статус Литературного музея.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Плеяда больших поэтов, в которую по праву вошёл Расул Гамзатов, освещает путь человечеству как сигнальные костры на горных вершинах.
Ощущение высоты — одно из определяющих свойств поэзии Гамзатова. Может показаться, он достиг всего, о чём может загадывать поэт, и даже большего. Но для настоящего поэта всё это — слишком мало. Творчество Расула Гамзатова безбрежно и необъятно, оно хранит ещё много тайн.
В поисках ещё не открывшегося Гамзатова можно подниматься всё выше и выше. Кажется — вот его последний бастион, всё здесь говорит о присутствии поэта... Но и эта вершина уже оставлена. И следы ведут выше, туда, куда и пути будто бы нет.
С Расулом Гамзатовым литература Дагестана прошла огромный путь и заняла достойное место в мировой культуре.
Вклад поэта в копилку духовных ценностей человечества весом и бесспорен.
Он был добрым и светлым человеком. Расул Гамзатов не любил, когда его называли народным поэтом, но поэтом своего народа он останется навсегда.
«Я просто писал стихи о любви», — говорил поэт.
Писал, как никто другой.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РАСУЛА ГАМЗАТОВА
1923, 8 сентября — в Дагестане в аварском ауле Цада в семье поэта Гамзата Цадасы и его жены Хандулай родился сын Расул.
1930 — начало учёбы в Аранинской школе.
1937— окончание школы. Начало обучения в Аварском педагогическом училище в городе Буйнакске.
1939 — окончание педучилища.
Ноябрь — начало преподавания в Аранинской школе (по июнь 1940 года).
1941, январь — работа в Аварском государственном театре: заведующий литературной частью и помощник режиссёра.
Июнь — корреспондент, затем заведующий сельхозотделом аварской газеты «Большевик гор» (по сентябрь 1942 года).
1942, октябрь — уполномоченный Главлита ДАССР и редактор аварских передач Дагестанского радиокомитета (по сентябрь 1945 года).
1943 — выход первой книги на аварском языке «Пламенная любовь и жгучая ненависть».
1944 — вступление в ряды ВКП(б).
1945, сентябрь — начало учёбы в Литературном институте.
1948 — выход в Махачкале первой книги на русском языке «Земля моя».
1949 — публикация в московском издательстве «Молодая гвардия» книги «Песни гор».
1950 — издание в Москве книги «Год моего рождения».
Июль — окончание Литературного института.
1951, 11 июня — скончался Гамзат Цадаса — отец Расула Гамзатова.
27 октября — избрание председателем правления Союза советских писателей Дагестанской АССР.
Декабрь — свадьба Расула Гамзатова и Патимат Юсуповой.
1952 — награждение Сталинской премией за сборник стихов и поэм «Год моего рождения».
1956, 10 марта — рождение дочери Заремы.
1958 — публикация поэмы «Горянка».
23 октября — присвоение звания Народный поэт Дагестанской АССР.
1959 — выход книги «В горах моё сердце».
18 марта — рождение дочери Патимат.
1960, 4 мая — награждение орденом Ленина.
1962 — избрание депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР (по 1989 год), членом Президиума Верховного Совета СССР (по 1966 год).
1963, 22 апреля — награждение Ленинской премией за книгу «Высокие звёзды».
1965 — смерть матери, Хандулай Гамзатовой. Награждение орденом Трудового Красного Знамени.
28 июля — рождение дочери Салихат.
1966 — выход сборника стихов «Мулатка».
1967 — публикация книги «Мой Дагестан» в журнале «Новый мир».
1968, 20 марта — премьера балета «Горянка» в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова.
Публикация в журнале «Новый мир» стихотворения Расула Гамзатова «Журавли» в переводе Наума Гребнева.
1969 — выход книги «Чётки лет».
8 июля — Марк Бернес записывает песню Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли».
1971 — повторное избрание членом Президиума Верховного Совета СССР (по 1989 год).
1973, 7 сентября — награждение орденом Ленина (всего поэт четырежды лауреат этого ордена и трижды лауреат ордена Трудового Красного Знамени).
1974, 27 сентября — присвоение звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
1979 — выход книги «Последняя цена».
1980, 17 декабря — награждение Государственной премией РСФСР им. М. Горького за поэму «Берегите матерей».
1983 — выход книги «Остров женщин». Награждение международной премией «Лучший поэт XX века».
1987 — выход книги «Колесо жизни».
1988 — публикация поэмы «Люди и тени», написанной в начале 1960-х годов.
1993, 6 сентября — награждение орденом Дружбы народов.
1999, апрель — получение ордена «За заслуги перед Отечеством».
2000, июнь — кончина супруги Патимат Саидовны Гамзатовой.
2003, 8 сентября — награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
3 ноября — Расул Гамзатов скончался в Москве. Похоронен в Махачкале у подножия горы Тарки-Тау рядом с могилой супруги Патимат.
ЛИТЕРАТУРА
Книги и статьи
Абдулхаликов М. Мой театр. М.: Эхо Кавказа, 1999.
Абуков К. Творчество Расула Гамзатова в контексте нравственных исканий XX века // Расул Гамзатов и современный литературный процесс: Сборник материалов к 70-летию поэта / Сост. А. Абдурахманов. Махачкала: Ин-т языков, литературы и искусства им. Г. Цадасы, 1995.
Антопольский Л. Б. У очага поэзии: Очерк творчества Расула Гамзатова. М.: Советский писатель, 1972.
Аппарат ЦК КПСС и культура: 1953—1957: Документы / Гл. ред. К. Аймермахер. М.: РОССПЭН, 2001 (Культура и власть от Сталина до Горбачева).
Байдуков Г. Ф. Рассказы разных лет. М.: Молодая гвардия, 1983.
Белинский В. Г. Статьи о русской литературе / Сост. А. С. Курилов. М.: Владос, 2008.
Борев Ю. Б. Власти-мордасти. М.: Пропаганда, 2003.
Гаджиев Г. А. Конституция дагестанца: Воспоминания о Расуле Гамзатове. Махачкала: Эпоха, 2013.
Гамзатов Р. Альбом. М.: Эхо Кавказа, 2003.
Гамзатов Р. Год моего рождения. М.: Молодая гвардия, 1950.
Гамзатов Р. Завещание: Избранные стихотворения. Махачкала; М.: Дагестанский писатель, 2009.
Гамзатов Р. Звёзды детства: Стихи для детей. М.: Эхо Кавказа, 2003.
Гамзатов Р. Земля моя. Махачкала: Даггосиздат, 1948.
Гамзатов Р. Избранное: Стихотворения и поэмы: 1943—1963: В 2 т. М.: Художественная литература, 1964.
Гамзатов Р. Книга любви: Стихи. М.: Эхо Кавказа, 2003.
Гамзатов Р. Мой Дагестан. М.: Молодая гвардия, 1972.
Гамзатов Р. Мой Дагестан: Конституция горца / Сост. Г. Расудов. Махачкала: Дагкнигоиздат, 2000.
Гамзатов Р. Песни гор. М.: Молодая гвардия, 1949.
Гамзатов Р. Поэмы. М.: Молодая гвардия, 1960.
Гамзатов Р. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Советский писатель, 2003.
Гамзатов Р. Сонеты. М.: Художественная литература, 1973.
Гейзер М. Маршак. М.: Молодая гвардия, 2006 («ЖЗЛ»).
Дагестанские святыни: Сборник / Отв. ред. А. Р. Шихсаидов. Махачкала: Эпоха, 2007.
Зов журавлей Расула Гамзатова: Сборник статей / Сост. М. Ахмедова. Махачкала: Дагкнигоиздат, 2013.
Игин И. Я видел их... [Альбом]. М.: Изобразительное искусство, 1975.
Магомедов Р. М., Магомедов А. Хронология истории Дагестана. Махачкала: Эпоха, 2012.
Маршак С. Набирающий высоту [Вступ. статья] //
Гамзатов Р. Избранное: Стихотворения и поэмы 1943—1963: В 2 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 1.
Медведев Ф. В. Мои великие старики. СПб.: БХВ-Петербург, 2012.
Микаилов Ш. И. Дагестанская литература // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Советская энциклопедия, 1962—1978. Т. 2.
Мурад Кажлаев: Жизнь и музыка: [Альбом] / Концепция М. Кажлаева; гл. ред. Ш. Казиев. М.; Махачкала: Эхо Кавказа; Эпоха, 2005.
Огнёв В. Ф. Путешествие в поэзию. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1961.
Огнёв В. Ф. Расул Гамзатов. М.: Художественная литература, 1964.
Поэт аула и планеты: Статьи, высказывания о Расуле Гамзатове / Сост. М. Зайнулабидов. Махачкала: Юпитер, 2003.
Разгон Л. Э. Плен в своём отечестве. М.: Книжный сад, 1994.
Райт-Ковалева Р. Я. Роберт Бёрнс. М.: Молодая гвардия, 1961 («ЖЗЛ»).
Сараскина Л. И. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008 («ЖЗЛ»),
Слово о Расуле Гамзатове: Сборник / Сост. С. М. Хайбулаев. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1973.
Султанов К. Поэт-полемист //
Султанов К. Д. Этюды о литературах Дагестана. М.: Советский писатель, 1978.
Тендряков В. Охота: Повести, рассказы. М.: Правда, 1991.
Усахов М.-Р. У. Размышления о художественных методах и направлениях в аварской литературе. Махачкала: ДНЦ РАН, 2010.
Хайбуллаев С. М. Наследие и открытия. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1983.
Хубиев Н. А. Звёзды Кавказа: Литературно-художественные статьи и комментарии. Черкесск: Карачаево-Черкесское республиканское книжное изд-во, 2009.
Цадаса Г. Пушкину: Избранное. М.: Художественная литература, 1977.
Цадаса Г. Стихи. Басни. Сказки. М.: Художественная литература, 1966.
Цадаса Г. Уроки жизни. М.: Детская литература, 1976.
Юсупова Ч. С. Расул Гамзатов в расколотом мире: 1985—2000. Махачкала: Ин-т языков, литературы и искусства им. Г. Цадасы, 2007.
Периодика
Газеты
Вечерняя Москва
Дагестанская правда
Дружба (город Хасавюрт)
Молодёжь Дагестана
Московские новости
Новая газета
Новое дело
Правда
Российская газета
Учительская газета
Щит и меч
Журналы
Автомобильные дороги
Вопросы литературы
Дагестан
Дружба народов
Роман-газета
Советский Дагестан
Документы
Центральный государственный архив Республики Дагестан
Примечания
1
Перевод Ю. Мориц.
(обратно)
2
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
3
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
4
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
5
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
6
Перевод С. Липкина.
(обратно)
7
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
8
Перевод Ю. Мориц.
(обратно)
9
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
10
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
11
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
12
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
13
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
14
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
15
Перевод Е. Николаевской и И. Снеговой.
(обратно)
16
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
17
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
18
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
19
Перевод П. Шубина.
(обратно)
20
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
21
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
22
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
23
Перевод В. Потаповой.
(обратно)
24
Перевод С. Сущевского.
(обратно)
25
Перевод Л. Пеньковского.
(обратно)
26
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
27
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
28
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
29
Перевод С. Линкина.
(обратно)
30
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
31
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
32
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
33
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
34
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
35
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
36
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
37
Возможная причина состояла в том, что в конце 1945-го — начале 1946 года Ахматова несколько раз встречалась со вторым секретарем Британского посольства в СССР, английским дипломатом и разведчиком Исайей Берлиным. Он был сыном богатейшего торговца лесом из Санкт-Петербурга, бежавшего после 1917 года в Лондон. Философ и историк, человек с блестящим британским аристократическим образованием обладал великолепным для иностранца знанием России.
(обратно)
38
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
39
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
40
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
41
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
42
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
43
Перевод С. Липкина.
(обратно)
44
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
45
Перевод Л. Пеньковского.
(обратно)
46
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
47
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
48
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
49
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
50
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
51
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
52
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
53
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
54
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
55
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
56
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
57
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
58
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
59
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
60
Б. Пастернак «Гамлет».
(обратно)
61
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
62
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
63
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
64
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
65
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
66
Перевод Ю. Мориц.
(обратно)
67
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
68
Перевод Е. Николаевской, И. Снеговой.
(обратно)
69
ПереводЯ. Козловского.
(обратно)
70
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
71
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
72
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
73
Перевод Л. Дымовой.
(обратно)
74
Перевод Л. Дымовой.
(обратно)
75
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
76
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
77
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
78
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
79
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
80
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
81
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
82
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
83
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
84
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
85
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
86
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
87
ПереводЯ. Козловского.
(обратно)
88
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
89
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
90
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
91
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
92
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
93
Перевод Р. Рождественского.
(обратно)
94
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
95
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
96
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
97
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
98
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
99
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
100
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
101
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
102
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
103
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
104
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
105
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
106
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
107
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
108
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
109
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)
110
Перевод Я. Козловского
(обратно)
111
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
112
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
113
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
114
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
115
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
116
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
117
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
118
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
119
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
120
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
121
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
122
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
123
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
124
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
125
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
126
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
127
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
128
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
129
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
130
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
131
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
132
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
133
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
134
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
135
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
136
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
137
Перевод Е. Николаевской.
(обратно)
138
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
139
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
140
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
141
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
142
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
143
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
144
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
145
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
146
Перевод Ю. Мориц.
(обратно)
147
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
148
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
149
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
150
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
151
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
152
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
153
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
154
Перевод Е. Николаевской.
(обратно)
155
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
156
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
157
Перевод С. Сущевского.
(обратно)
158
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
159
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
160
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
161
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
162
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
163
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
164
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
165
Перевод Е. Николаевской.
(обратно)
166
Перевод Ю. Нейман.
(обратно)
167
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
168
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
169
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
170
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
171
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
172
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
173
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
174
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
175
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
176
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
177
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
178
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
179
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
180
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
181
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
182
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
183
Перевод В. Солоухина.
(обратно)
184
Перевод Я. Хелемского.
(обратно)
185
Перевод В. Капниста.
(обратно)
186
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
187
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
188
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
189
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
190
Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной.
(обратно)
191
Перевод Е. Николаевской.
(обратно)
192
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
193
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
194
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
195
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
196
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
197
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
198
Перевод Ш. Казиева.
(обратно)
199
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
200
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
201
Перевод Я. Козловского.
(обратно)
202
Перевод Н. Гребнева.
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
СТРАНА ПОЭТОВ
РОЖДЕНИЕ ПОЭТА
Когда я родился
ОТЕЦ
«ЕСЛИ Б МОЯ МАМА ПЕСЕН МНЕ НЕ ПЕЛА...»
ЗВЁЗДЫ ДЕТСТВА
«ВЫУЧИ ЭТИ БУКВЫ!»
ПРИЕЗД РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
СЪЕЗД В МАХАЧКАЛЕ
СЪЕЗД В МОСКВЕ
НЕСКОЛЬКО ПЕРВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ
ГЕОРГИЙ БАЙДУКОВ В ДАГЕСТАНЕ
ЛИКБЕЗ
РЕПРЕССИИ
НОВЫЙ АЛФАВИТ
ТЕАТР
Моему другу-поэту, о котором
его мать, старая аварка, сказала
«СУНДУК БЕДСТВИЙ»
«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
РЕШАЮЩИЙ ГОД
СТАЛИН И РЕЛИГИЯ
Шамиль
ПЕРВАЯ КНИГА
СОВЕТ КАЛИЕВА
БРАТЬЯ
ПОБЕДА
В МОСКВУ!
ЛИТИНСТИТУТ
ПАЛЬТО
«ВАРВАР» ГАМЗАТОВ
БРАТСТВО ПОЭТОВ
«Я РВАЛСЯ К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ»
«В ДУХЕ НАПЛЕВИЗМА»
ПЕРВАЯ КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
«В КОСМОПОЛИТЫ Я НЕ УГОДИЛ...»
КНИГА В «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
ОКОНЧАНИЕ ИНСТИТУТА
НОВАЯ ССЫЛКА ПУШКИНА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОЭТ И ОВЦЫ
ПРЕМИЯ НА ПРОЩАНЬЕ
ПАТИМАТ
ОПЕЧАТКИ ЖИЗНИ
ИЗБРАНИЕ
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
БЕЗ ВОЖДЯ
ВТОРОЙ СЪЕЗД
ЛЕКИ
ДОЧЬ
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
ТРАВЛЯ
КАВКАЗСКИЙ БЛОК
«ГОРЯНКА»
ГОД «ЖИВАГО»
«В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ»
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ»
Надпись на книге скучных стихов
Поэту, склонному к заимствованию
ДЕКАДА И ХРУЩЁВ
«ПОЕХАЛИ!»
Автору стихотворения
«Я полечу к звёздам»
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«НЕ КРАЙ ЛИ ДАЛЁКИЙ ТЕБЕ ПОЛЮБИЛСЯ?»
В ЦАДА, К МАТЕРИ!
«ЛЮДИ И ТЕНИ»
И ГАМЗАТОВ...
ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕВОДЧИКИ
Переводчикам
Автограф на книге,
подаренной Якову Козловскому
Переводчику Лермонтова на аварский язык
МАРШАК, СОЛЖЕНИЦЫН, БРОДСКИЙ
ПАТИМАТ И ЕЁ МУЗЕЙ
«СИЖУ В ПРЕЗИДИУМЕ, А СЧАСТЬЯ НЕТ»
АВТОГРАФЫ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ХИРОСИМА ВИДНА ОТОВСЮДУ
МАМА
«ХАДЖИ-МУРАТ». ДУБЛЬ II
Надпись на рукописи
собственного сценария «Хаджи-Мурат»
«МНЕ ГНЕВ ЕГО НУЖЕН, МНЕ СМЕХ ЕГО НУЖЕН...»
«МОЙ ДАГЕСТАН»
ПОГИБШАЯ РУКОПИСЬ
БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА
«ЖУРАВЛИ»
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ...»
«ЧЁТКИ ЛЕТ»
Теплоход, носящий имя моего отца
«ТРЕТИЙ ЧАС »
БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ
ЦДЛ
РЕКА ПОЭЗИИ
ПУШКИН В НАГРУЗКУ
БУДНИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
Юбилейное
Резолюция на заявлении в Литфонд
Что делать?
РАСУЛ БЕЗ ЮМОРА — НЕ РАСУЛ
Надпись на карикатуре моей,
сделанной Кукрыниксами
АВАРСКИЙ СОНЕТ
ФИЛЬМ «ГОРЯНКА»
«ДРУГОЙ ХОЧУ Я МУЗЫКИ И СЛОВА»
ГЛАВНЫЙ ТАМАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
«ВАМ БУДЕТ ТРУДНО РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ...»
«ПРИЛЕТИМ В СОФИЮ И — КОНЕЦ ТВОЕЙ СЛАВЕ»
ОСТРОВ ЖЕНЩИН
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
МАЛЫМ НАРОДАМ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ПОЭТЫ
Автограф на книге, подаренной
мною Ираклию Андроникову
«Я АВАРЕЦ, ТАКОВЫМ РОДИЛСЯ»
ВАНГА
ДРУГОЙ ГАМЗАТОВ
ДОМ
«Я НЕГР СВОИХ СТИХОВ»
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
КНИГА КУМАРИ
КТО ТАКОЙ ПАРКИНСОН?
НЕДОСКАЗАННОЕ «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ХОЧБАРЕ»
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
СКОЛЬКО НИ ГОВОРИ «ХАЛВА»...
НА РУИНАХ КОЛОССА
«МНЕ ВСЕ НАРОДЫ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ»
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
«ПОЭТАМ НИКОГДА НЕ БЫЛО ЛЕГКО »
СЛАВА С ПРИВКУСОМ ГОРЕЧИ
«КОНСТИТУЦИЯ ГОРЦА»
«ЭТО НЕ МОЙ ДАГЕСТАН»
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ ИЗ ПЕСЕН»
ВТОРЖЕНИЕ
«ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»
«ОНА ОБО МНЕ ЗАБОТИЛАСЬ...»
«СЕЙЧАС СВЕТАЕТ, Я ЛЕЖУ В БОЛЬНИЦЕ...»
«В МОЕЙ ДУШЕ ЕЩЁ НЕМАЛО СВЕТА»
Такса
ПОТЕРЯННОЕ, УТРАЧЕННОЕ, НЕИЗДАННОЕ
«ЖИВОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ»
«ИЗ ТОГО МИРА МНЕ ИДУТ ТЕЛЕГРАММЫ»
Молитва
«МЕНЯ ЗАБУДУТ...»
В СОЧИ, К ПРЕЗИДЕНТУ
ЮБИЛЕЙ
«ОН ВСЕМ НАМ ПОМОГАЛ ЖИТЬ»
ПАМЯТЬ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РАСУЛА ГАМЗАТОВА
ЛИТЕРАТУРА
*** Примечания ***

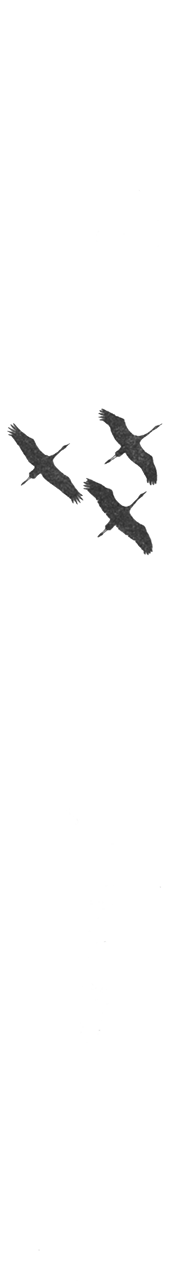





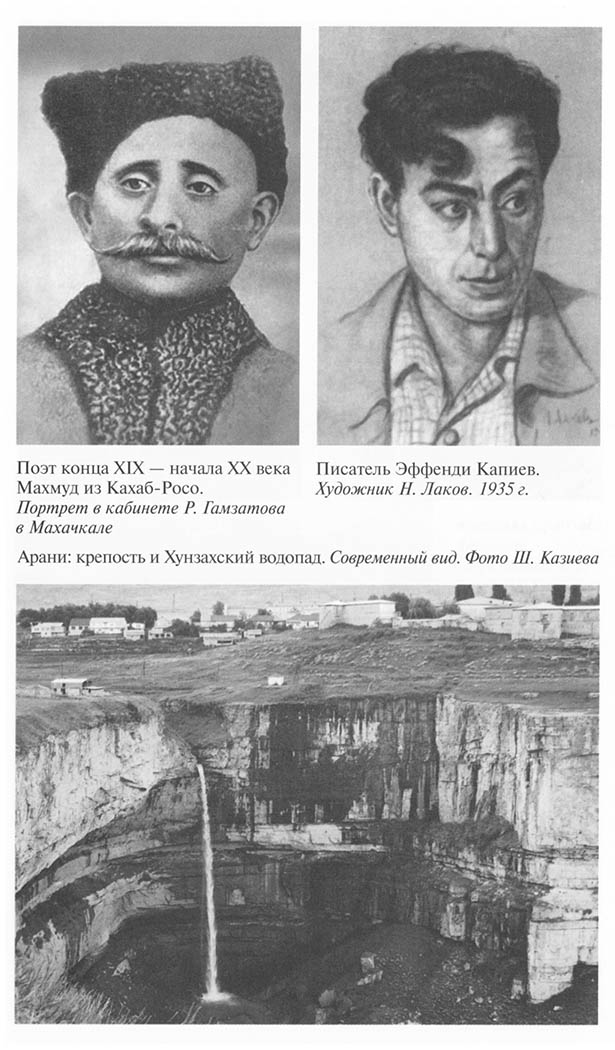


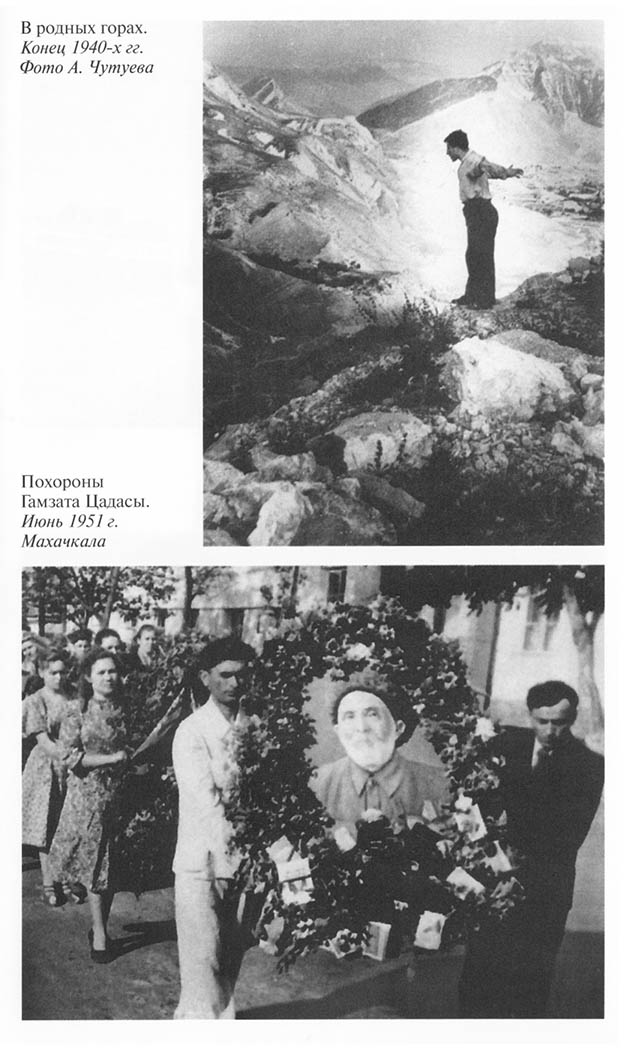






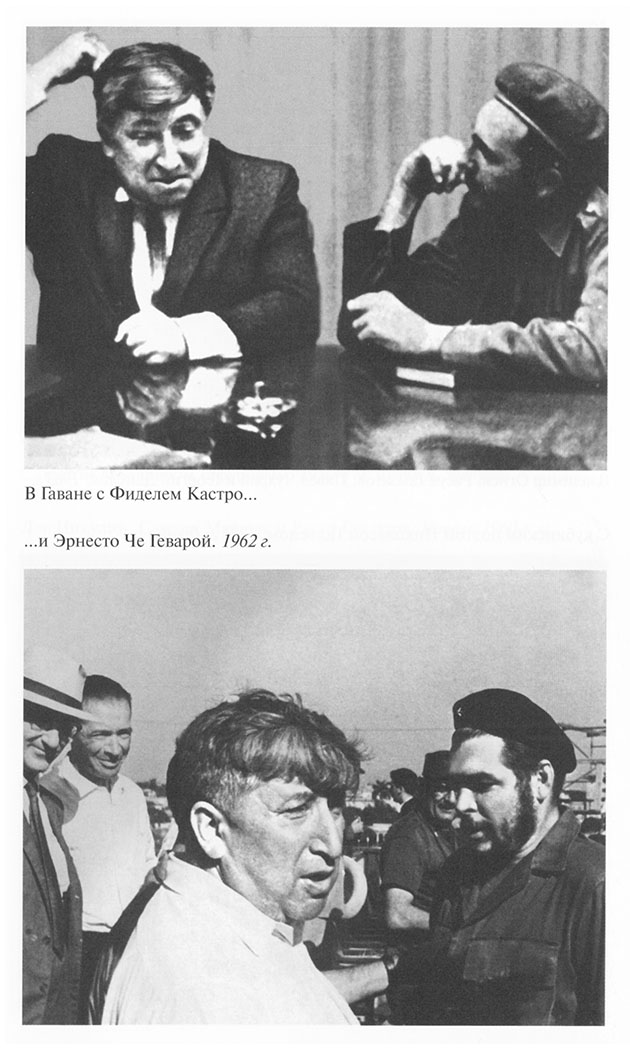
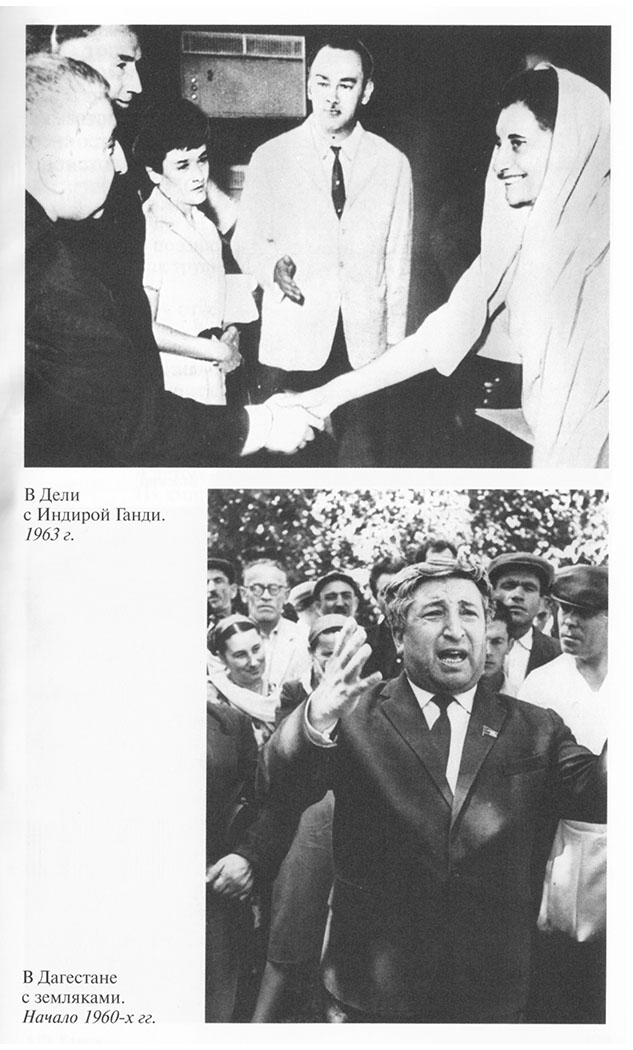
 Тень Сталина всё ещё витала над страной, но становилось очевидным, что страна переходит «на другие рельсы».
В это межвременье продолжали выходить новые книги Гамзатова, а Наталья Капиева издала книгу «Творческий путь Гамзата Цадаса».
В поэме «Разговор с отцом» обращался к нему и Расул Гамзатов, которого продолжали мучить сомнения, неуверенность в правильности выбранного пути, непонимание происходящего вокруг:
Тень Сталина всё ещё витала над страной, но становилось очевидным, что страна переходит «на другие рельсы».
В это межвременье продолжали выходить новые книги Гамзатова, а Наталья Капиева издала книгу «Творческий путь Гамзата Цадаса».
В поэме «Разговор с отцом» обращался к нему и Расул Гамзатов, которого продолжали мучить сомнения, неуверенность в правильности выбранного пути, непонимание происходящего вокруг:
 Марк Бернес снова торопил Френкеля, требовал. Он из последних сил боролся с тяжёлой болезнью, надеясь успеть записать песню. И ему это удалось.
Из воспоминаний Зиновия Столяра: «Премьера песни “Журавли” состоялась в канун Дня Победы, 7 мая 1969 года в редакции газеты “Комсомольская правда”. Сюда на свою традиционную встречу “Землянка” собрались крупные военачальники и командиры Советской армии, участники разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. “Журавлей” слушали в полной тишине, затаив дыхание. Когда песня отзвучала, аплодисментов не последовало. И тогда на эстраду поднялся Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, подошёл к нам и, обняв Бернеса, обратился к нему со словами: “Дорогой друг, как несправедлива судьба, что лишила нас, солдат, права плакать. Вы такое право нам вернули, спасибо вам за это”. И прослезился...»
А 8 июля 1969 года, когда Бернеса привезли в студию, чтобы записать песню на пластинку, у него уже не было сил самостоятельно передвигаться. Но их хватило, чтобы исполнить последнюю мечту — записать песню «Журавли». С первого раза, с первого дубля. Второго могло не быть.
Окончательный вариант песни стал таким:
Марк Бернес снова торопил Френкеля, требовал. Он из последних сил боролся с тяжёлой болезнью, надеясь успеть записать песню. И ему это удалось.
Из воспоминаний Зиновия Столяра: «Премьера песни “Журавли” состоялась в канун Дня Победы, 7 мая 1969 года в редакции газеты “Комсомольская правда”. Сюда на свою традиционную встречу “Землянка” собрались крупные военачальники и командиры Советской армии, участники разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. “Журавлей” слушали в полной тишине, затаив дыхание. Когда песня отзвучала, аплодисментов не последовало. И тогда на эстраду поднялся Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, подошёл к нам и, обняв Бернеса, обратился к нему со словами: “Дорогой друг, как несправедлива судьба, что лишила нас, солдат, права плакать. Вы такое право нам вернули, спасибо вам за это”. И прослезился...»
А 8 июля 1969 года, когда Бернеса привезли в студию, чтобы записать песню на пластинку, у него уже не было сил самостоятельно передвигаться. Но их хватило, чтобы исполнить последнюю мечту — записать песню «Журавли». С первого раза, с первого дубля. Второго могло не быть.
Окончательный вариант песни стал таким:


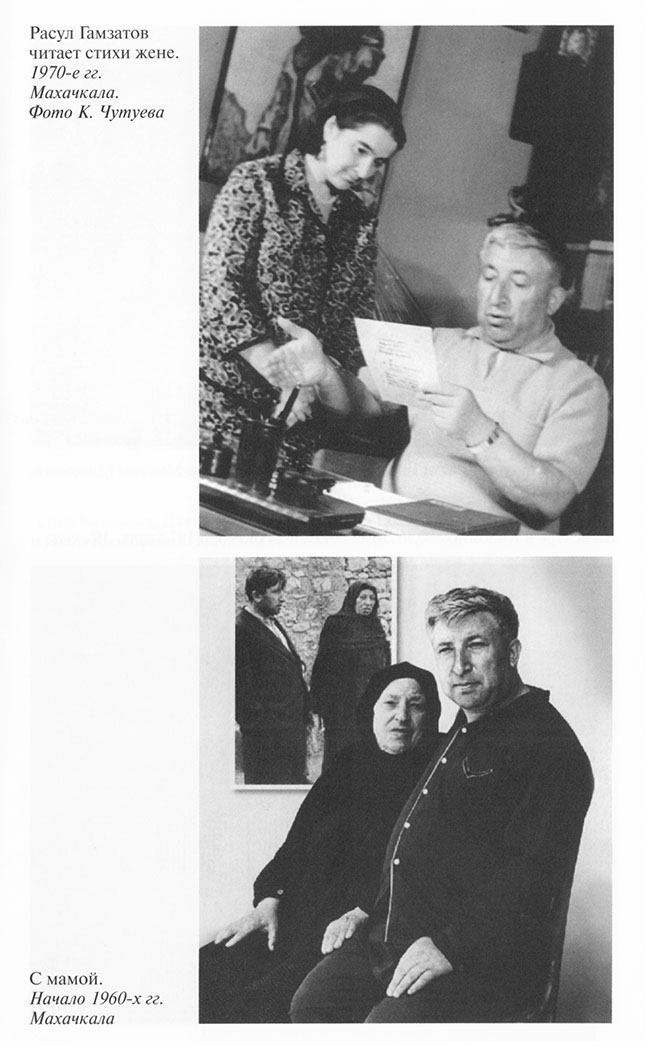







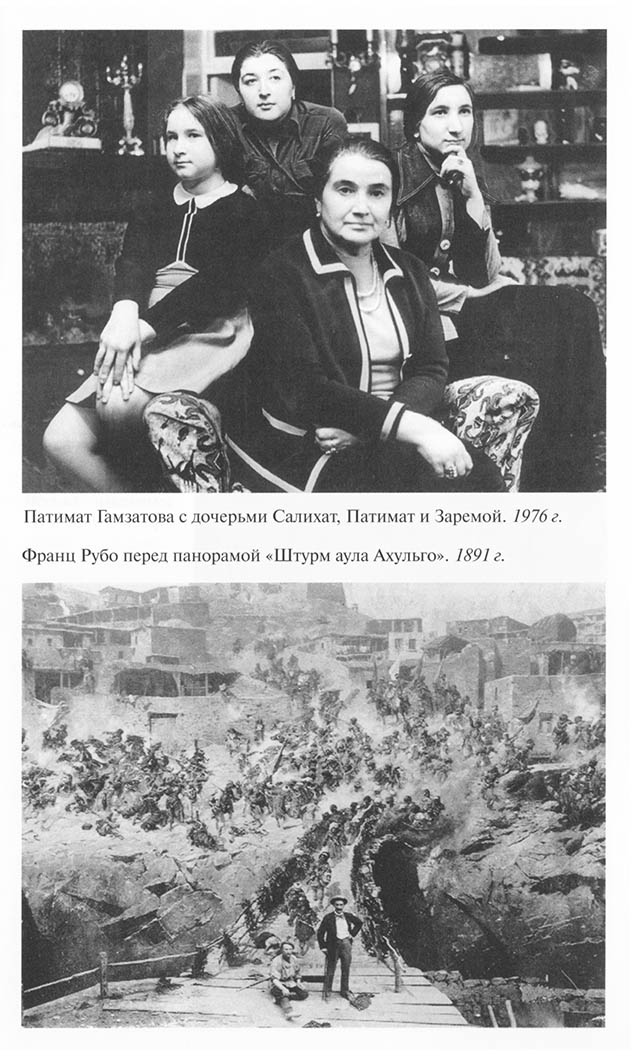

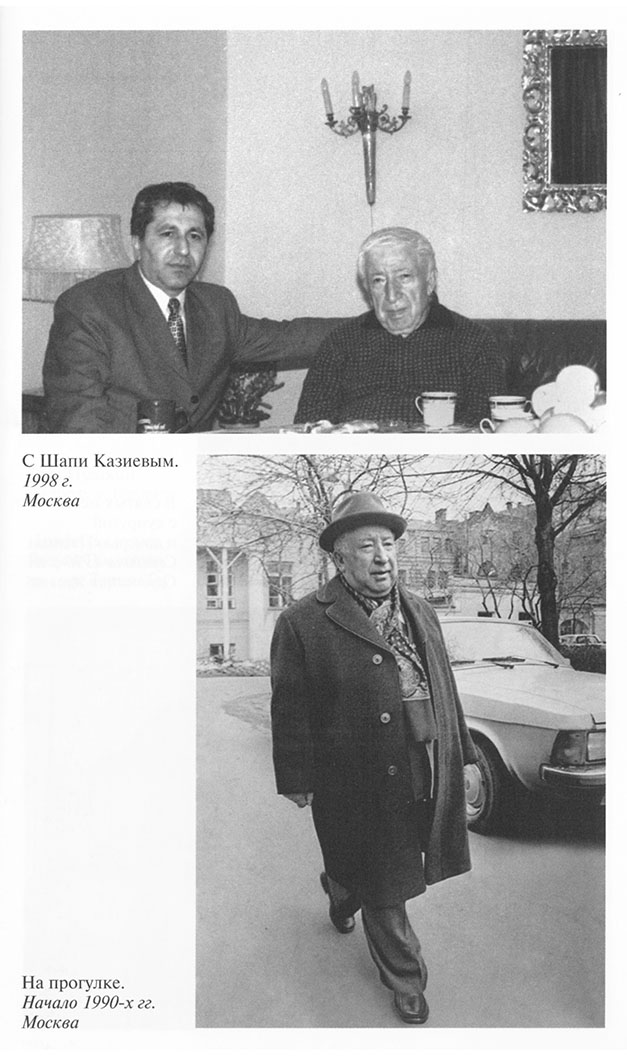


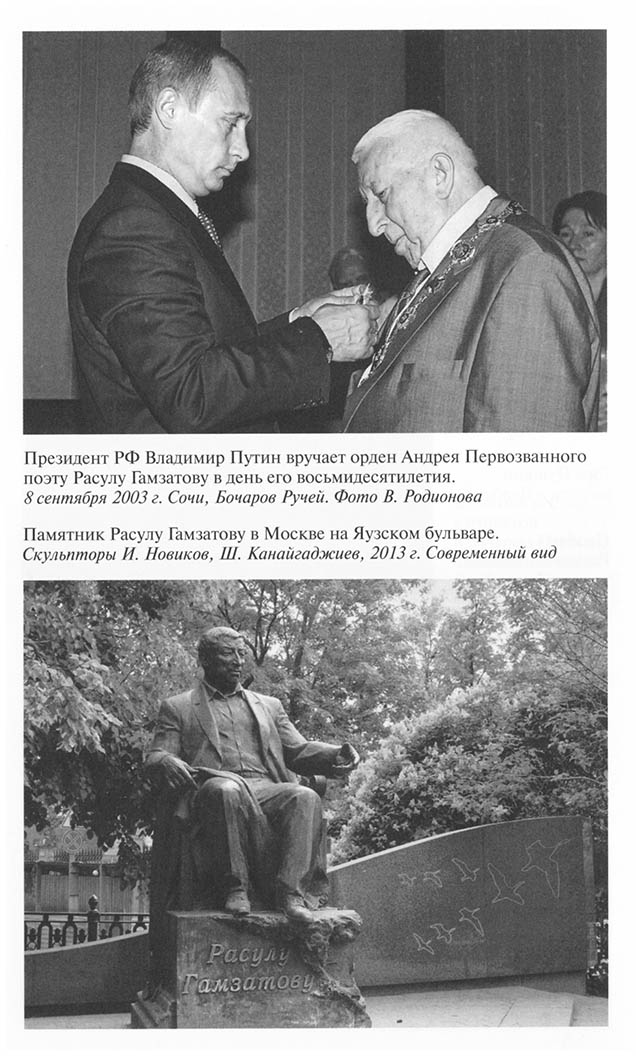 Не помогало даже специальное высшее образование. Литературный институт оставался alma mater молодых дарований, сотни выпускников получили его дипломы, но это не гарантировало серьёзных творческих успехов. Расул Гамзатов любил Литинститут, открывший ему литературный мир, но иногда и шутил по его поводу: «У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики. Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда, многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи».
Не помогало даже специальное высшее образование. Литературный институт оставался alma mater молодых дарований, сотни выпускников получили его дипломы, но это не гарантировало серьёзных творческих успехов. Расул Гамзатов любил Литинститут, открывший ему литературный мир, но иногда и шутил по его поводу: «У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики. Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда, многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи».

 Периодически Гамзатов говорил всему этому «нет!», особенно когда чувствовал, что страдает не только он, но и его поэзия. Но даже отречение от вина порой превращалось в свою противоположность, как в стихотворении «Прощай, вино!»:
Периодически Гамзатов говорил всему этому «нет!», особенно когда чувствовал, что страдает не только он, но и его поэзия. Но даже отречение от вина порой превращалось в свою противоположность, как в стихотворении «Прощай, вино!»:
 С этой вершины мы дали поздравительную телеграмму поэту, пожелав ему столько десятков лет жизни, сколько слов в песне “Журавли” и столько счастья, сколько строк в поэме “В горах моё сердце”».
Гадис Гаджиев приводит диалог, который случился у него в Москве:
«В 1972—1973 годах, будучи аспирантом ДГУ, я находился в Москве, в научной командировке. Направляясь в библиотеку, разговорился с одним сибиряком.
— Издалека приехали, молодой человек? — спрашивает он.
— Из Дагестана.
— Значит, земляк Расула Гамзатова?
— Да. Правда, читаю его, как и вы, на русском языке. В оригинале не могу, так как я лакец, а он — аварец, языки разные.
— Никакой он не аварец...
— А позвольте у вас поинтересоваться, кто же он тогда по национальности? — вопрошаю я недоумённо.
— Он гений, а у гениев национальности не бывает».
С этой вершины мы дали поздравительную телеграмму поэту, пожелав ему столько десятков лет жизни, сколько слов в песне “Журавли” и столько счастья, сколько строк в поэме “В горах моё сердце”».
Гадис Гаджиев приводит диалог, который случился у него в Москве:
«В 1972—1973 годах, будучи аспирантом ДГУ, я находился в Москве, в научной командировке. Направляясь в библиотеку, разговорился с одним сибиряком.
— Издалека приехали, молодой человек? — спрашивает он.
— Из Дагестана.
— Значит, земляк Расула Гамзатова?
— Да. Правда, читаю его, как и вы, на русском языке. В оригинале не могу, так как я лакец, а он — аварец, языки разные.
— Никакой он не аварец...
— А позвольте у вас поинтересоваться, кто же он тогда по национальности? — вопрошаю я недоумённо.
— Он гений, а у гениев национальности не бывает».
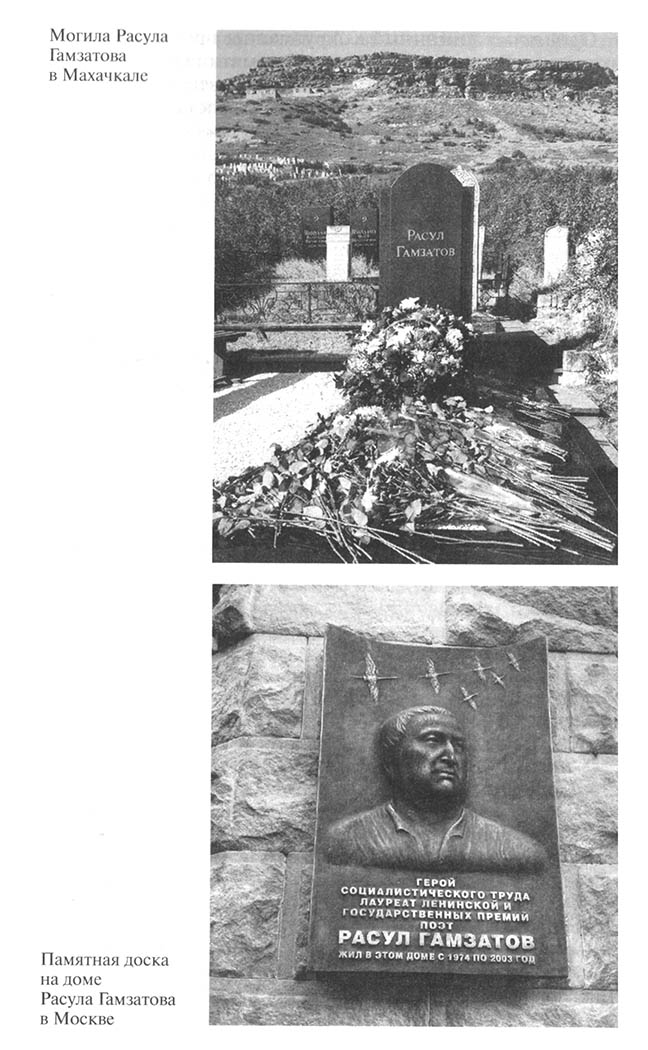 Органично вписанный в окружающее пространство архитектором Русланом Умалатовым, памятник стоит на площади у здания Русского драматического театра им. М. Горького. Перед ним проходит главный проспект Махачкалы, бывшая улица Ленина, ставшая теперь проспектом Расула Гамзатова. Проспект символично начинается у памятника Гамзату Цадасе, отцу поэта, и в конце снова встречается с Гамзатом Цадасой — с улицей его имени. Почти напротив памятника Гамзатову, на другой стороне проспекта, стоит здание Национальной библиотеки, которая тоже названа именем Расула Гамзатова. Архитектор библиотеки — Абдула Ахмедов, построивший и новый дом Расула Гамзатова.
Через год, в Москве, на доме, где многие годы жил и творил Расул Гамзатов, была открыта мемориальная доска. Её авторы скульптор Паата Мерабишвили и архитектор Евгений Хайлов показали поэта как свободного человека эпохи Возрождения. Он будто провожает глазами летящий над ним журавлиный клин. Среди собравшихся были друзья поэта — Евгений Примаков, Рамазан Абдулатипов, Александр Дзасохов и много других известных людей. Когда торжественно открывали доску, накрапывал дождь, но людей у дома Гамзатова становилось всё больше. Церемонию завершала знаменитая песня. И слова её звучали пророчески:
Органично вписанный в окружающее пространство архитектором Русланом Умалатовым, памятник стоит на площади у здания Русского драматического театра им. М. Горького. Перед ним проходит главный проспект Махачкалы, бывшая улица Ленина, ставшая теперь проспектом Расула Гамзатова. Проспект символично начинается у памятника Гамзату Цадасе, отцу поэта, и в конце снова встречается с Гамзатом Цадасой — с улицей его имени. Почти напротив памятника Гамзатову, на другой стороне проспекта, стоит здание Национальной библиотеки, которая тоже названа именем Расула Гамзатова. Архитектор библиотеки — Абдула Ахмедов, построивший и новый дом Расула Гамзатова.
Через год, в Москве, на доме, где многие годы жил и творил Расул Гамзатов, была открыта мемориальная доска. Её авторы скульптор Паата Мерабишвили и архитектор Евгений Хайлов показали поэта как свободного человека эпохи Возрождения. Он будто провожает глазами летящий над ним журавлиный клин. Среди собравшихся были друзья поэта — Евгений Примаков, Рамазан Абдулатипов, Александр Дзасохов и много других известных людей. Когда торжественно открывали доску, накрапывал дождь, но людей у дома Гамзатова становилось всё больше. Церемонию завершала знаменитая песня. И слова её звучали пророчески: