 ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

* * *
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Серия основана в 2000 году
* * *
Редколлегия:
Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев,
проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков,
Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович
Главный редактор, автор проекта
Юрий Кушак
Оформление переплета — Лев Яковлев
Использованы фотоматериалы из личного архива автора
© Сарнов Б. М. Автор вступ. статьи, 2002
© Мороз Э. С., Кушак Ю. Н. Составление, 2002
© ООО «Издательство «Эксмо», 2002
«Затоваренная бочкотара»
как явление стиля
Под «затоваренной бочкотарой» я тут подразумеваю не знаменитую повесть молодого Василия Аксенова, а само это словосочетание, ставшее ее заглавием.
Один русский писатель, покинувший родину примерно в то же время, что и Аксенов, писал — не без некоторой ностальгической нежности:
«…Мы приехали оттуда, мы только что из этой страны, подарившей миру слово «советский.: мы еще помним ее запахи, вкус ее хлеба, синюю кромку леса на дальнем горизонте, дожди, чмоканье луж и сосущую сердце дорогу… Мы еще не забыли русский язык, не те кудрявые словеса, вычитанные из Даля, а ржавый, царапающий уши и горло язык подворотен, язык бюрократии и уголовного мира, язык, в который ушли, как в трясину, десять веков русской литературы и который точно позавчера появился на свет; язык людей, о которых трудно сказать, кто они: ни рабочие, ни крестьяне, ни народ — ни то ни се».
(Борис Хазанов. «Миф Россия».)
Судя по всему,
возможности этого языка автор расценивает крайне низко. Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы он мог рассматривать этот язык как материал, сколько-нибудь пригодный для художественного творчества. В самом деле: можно ли создать нечто художественное на уродливом псевдоязыке, который «точно вчера появился на свет» и в который «ушли, как в трясину, десять веков русской литературы»?
Молодой Аксенов исходил из прямо противоположного убеждения. И уродливое словосочетание вульгарного советского «новояза» (вот эта самая «затоваренная бочкотара»), демонстративно вынесенное им тогда в заглавие своей новой повести, можно рассматривать как своего рода
эстетический манифест.
Именно вот этот уродливый «новояз» он превратил в одну из самых ярких красок своей художественной палитры.
«Я совсем атрофировал к нему отцовское отношение». — говорит один из персонажей той самой «Затоваренной бочкотары».
Про сыновей другого ее персонажа автор сообщает ним:
«Они давно уже покинули отчие края и теперь в разных концах страны клепают по хозрасчету личную материальную заинтересованность».
А вот как разговаривают — в той же «Затоваренной бочкотаре» — интеллигентная учительница Ирина и ее возлюбленный Глеб:
«— Давай и мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим ей себя до конца, без остатка…
— Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь…
— Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? — спросила Ирина».
И сам автор, сообщая нам о различных поступках и намерениях этих своих персонажей, тоже пользуется теми же словесными «шлакоблоками», иронически переосмысленными штампами того же советского «новояза»:
«Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного по-штудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой».
Язык, как видите, тот самый, «царапающий уши и горло». о котором говорит в процитированном мною отрывке Борис Хазанов, — причудливая смесь языка подворотен («клепают»), бюрократии («хозрасчет», «материальная заинтересованность»), готовых газетных клише («отдадим ей себя, без остатка», «воплотим ее в жизнь») и дурно усвоенных оборотов высокой интеллигентской речи («…как Сцевола, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал»).
Но ведь и люди у Аксенова тоже — те самые, «о которых трудно сказать, кто они: ни рабочие, ни крестьяне, ни народ — ни то ни се». Именно вот этих деклассированных, люмпенизированных людей и сделал он своими героями. А можно даже и расширить это определение, сказав, что главный его герой — вся наша люмпенизированная советская жизнь, наше насквозь люмпенизированное советское общество.
Этот причудливый социальный феномен Аксенов увидел и изобразил с неожиданно глубоким для сравнительно молодого писателя осознанием его природы.
Посмотрите, как быстро «закорешились» в этой его повести спившийся, сошедший с круга, деклассированный шоферюга Володька Телескопов и «рафинированный интеллигент» Вадим Афанасьевич Дрожжинин — научный консультант «в одном из внешних культурных учреждений».
Ситуация, казалось бы, совершенно немыслимая! Но на самом деле очень даже мыслимая, поскольку англизированный сноб Дрожжинин («безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, кофе и чай в «Национале») по сути своей — такой же люмпен, как Володька Телескопов, что автор блистательно обнажает посредством виртуозной словесной игры.
«Вот и сейчас, — рассказывает он нам о смутном душевном состоянии Вадима Афанасьевича, — после двухнедельных папиных поучений и маминых варенцов с драниками, после всей этой идиллии и тешащих подспудных надежд на дворянское происхождение…»
Эта, в сущности, неграмотная фраза о подспудных надеждах его героя на дворянское происхождение (надеяться можно на возведение в дворянское достоинство, но надеяться на дворянское происхождение невозможно: дворянское происхождение — оно либо есть, либо его нет, а уж если нет, так и не будет), — эта неграмотная фраза, в сущности, — фрейдистская проговорка: надеждой не на то, что его вдруг сделают дворянином, тешит себя Вадим Афанасьевич, а мечтой о том, чтобы навсегда откреститься, отмежеваться от своей крестьянской родни, от этих маминых варенцов с драниками и слепить, состряпать cent какое-никакое, пусть липовое, фальшивое, но — «благородное» родословное древо.
Сейчас, без малого сорок лет спустя, трудно понять. Почему на ранние повести Аксенова обрушился такой яростный поток официального государственного неприятия. Ведь до диссидентских, «антисоветских» его романов («Ожог», «Остров Крым») было еще ох как далеко. К родной советской власти молодой Аксенов был вполне лоялен, на устои официальной советской идеологии не покушался.
Зачем же в таком случае понадобилось Первому Человеку Государства неистово материть молодого писателя с высокой (самой высокой) партийной трибуны, под злобный рев и улюлюканье подлаивающих ему соратников?
Но вот ведь и молодой Булат Окуджава тоже был насквозь советским, «чистым, как кристалл». В отличие от ироничного Аксенова, он даже тосковал по безвозвратно Канувшей в прошлое романтике революции и гражданской войны («Комсомольская богиня», «Я все равно паду на ТОЙ, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной»). А с какой пеной лютой ненависти на губах клеймила и разоблачала его первые песни официальная советская печать!
Природу этого загадочного явления исчерпывающе объяснил поэт Михаил Львовский, сочинивший тогда такое коротенькое стихотворение:
Самогон — фольклор спиртного.
Запрети, издай указ.
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге — мутной, ржавой,
От казенного вина.
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!
Вспомните первые песни Булата Окуджавы: «Полночный троллейбус», «Часовые любви», «Из окон корочкой несет поджаристой…». Можно разве назвать их злыми? Нет, конечно! Да их и горькими-то, пожалуй, не назовешь. Скорее — светлыми, ясными, прозрачными… Но слово «злы» в процитированном стихотворении Львовского не было ни опиской, ни оговоркой. «Злы» эти песни были не в том смысле, что дышали злобой, а в том, в каком крепкий напиток народ искони называл зельем. Злой — это значит действует,
забирает.
Песни Окуджавы
забирали, брали за душу, как самый крепкий самогон. Ну и, конечно, то обстоятельство, что зелье это отпускалось «из-под полы», то есть было
запретным, — тоже играло немалую роль.
Но (опять возвращаюсь все к тому же проклятому вопросу) почему, собственно, эти песни надо было запрещать?
Начальство, от которого исходил запрет, не могло сказать по этому поводу ничего вразумительного. Чуя носом, что песни эти им не по нутру — мало сказать, не по нутру, что они глубоко им враждебны, угрожают самому существованию всей так бдительно оберегаемой ими системы, — более или менее внятно сформулировать, где именно таится в них крамола, они не могли.
Дело между тем было ясное. И самую суть дела очень точно сформулировал однажды (в разговоре) Евгений Винокуров.
— Нельзя, — сказал он, — в одно и то же время петь Окуджаву и строить коммунизм. Петь «Нам песня строить и жить помогает» и строить коммунизм — можно. А спеть: «Девочка плачет, шарик улетел», а потом пойти и немножечко построить коммунизм — нет, невозможно даже и вообразить себе такое!
Вот так же обстояло дело и с повестями молодого Аксенова. Их герои — при всей своей внешней безобидности — не вписывались в виртуальную советскую реальность. Они не могли существовать в одном пространстве не только с монструозными персонажами романов Бубеннова и Бабаевского, пьес Сурова и Софронова, но и с героями книг других, вполне почтенных советских авторов.
Дело тут было не в идеологии, а в том «особом запахе юремных библиотек, который исходил от советской словесности». (Выражение В. Набокова.) Запах этот был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорвавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны.
Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из Прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.
Аксенов и его сверстники, молодые писатели, ворвавшиеся в советскую литературу на волне XX съезда, принесли с собой веяние этого вольного воздуха.
Хоть я и сказал, что насквозь люмпенизированное советское общество Аксенов изобразил с удивительно глубоким для молодого писателя осознанием его природы, я все же не стал бы утверждать, что он при этом в полной мере сознавал, на что замахивается. Скорее тут действовал мощный художественный инстинкт: чуткость автора к живой речи современников, его языковая одаренность; наконец, едва ли не главное свойство его литературного дара: острое чувство комического.
Тут уместно вспомнить Ильфа и Петрова. Ведь по своим взглядам они вовсе не были антисоветскими писателями. Я думаю, искренне верили (во всяком случае, на первых порах) в победу социализма в нашей одной, отдельно взятой, как тогда говорилось, стране. И не что иное, как вот этот самый острый слух, чуткость к живому языку, а вовсе не желание глумиться над государственными святынями заставило их вложить в уста одного из своих персонажей такую кощунственную по тем временам реплику:
— Ну и наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс!
А знаменитая реплика Остапа Бендера — «Командовать парадом буду я!» — казалось бы, даже и не несла в себе ничего комического. Это была самая обычная казенная фраза, традиционно заключающая приказ о военном параде на Красной площади. Но соавторам померещилось в ней нечто комическое, и они превратили ее в анекдотическую. настолько одиозную, что власти вынуждены были от нее отказаться, заменить другой, более нейтральной: «Командовать парадом приказано мне».
О многих крылатых выражениях, хлынувших из книг Ильфа и Петрова в тезаурус нашей повседневной речи («Пиво отпускается только членам профсоюза», «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»), сегодня даже уже и не скажешь, были они придуманы соавторами или выхвачены ими прямо из жизни. Вот так же и о плакатике в столовой из аксеновской повести: «Пальцы и яйца в соль не макать!» — поди угадай, видел автор «в натуре» такой плакатик в какой-нибудь захудалой забегаловке или выдумал его «из головы». Но это ведь и не важно. Гораздо важнее то, что вот уже без малого сорок лет я держу в памяти эту жемчужину старого аксеновского «сладостного стиля». И вижу этот плакатик так же ясно, как будто сам сидел в той забегаловке, где за соседним столиком два аксеновских персонажа, знакомясь, предъявили друг другу свои паспорта, что сразу их как-то сблизило. (Тоже — поди угадай: подсмотренная деталь или выдуманная.)
Да, конечно, многое он и выдумывал. Но вот эта — блистательно подмеченная им черта причудливой советской (она же антисоветская) ментальности — уж точно не выдумана:
«…Они услышали пару фраз диссидента: «…да поймите же, товарищи, НАМ ни в чем нельзя верить… нельзя верить ни одному НАШЕМУ слову…»
Ошеломленный переводчик, юноша из третьего поколения франко-руссов, после мгновенного столбнячка занялся уточнением мысли своего подопечного, в то время как окружавшие диссидента киты и акулы, уловив борщеватое слово «товарищи», великодушно смеялись: нашел товарищей».
Прочитав это и вдоволь посмеявшись над комической фигурой отечественного диссидента, я стал ловить себя на том, что и сам то и дело повторяю эти — такие привычные i m нас — речевые обороты. «Нету в мире, — говорю, — такого мерзавца, которого бы МЫ не поддерживали…» (имея и «иду Каддафи, или Арафата, или Саддама Хусейна). И только уже произнеся эту классическую фразу, спохватываюсь, что надо было бы сказать не «мы», а «они».
Ну а что касается «борщеватого» слова «товарищ» то с ним однажды обмишулилась даже Ахматова.
Об этом рассказал в своих мемуарах Аркадий Райкин:
«Наш театр был в Лондоне, когда мы узнали, что на днях в Оксфордском университете состоится церемония награждения Анны Андреевны Ахматовой… Так получилось, что из советских людей лишь Рома да я оказались свидетелями, да и то случайными, этого триумфа Ахматовой, триумфа русской поэзии… Из Парижа на двух автобусах приехало множество поклонников и друзей молодости Ахматовой. Через несколько минут после нашего прихода они тоже явились в гостиницу. Я никогда не видел в таком количестве старых русских аристократов. Все они были крайне воодушевлены в тот момент, но смотреть на них было грустно. Некоторые плакали…
Когда же Анна Андреевна по привычке обратилась к присутствующим:
— До свиданья, товарищи! — возникла напряженная пауза.
Прощаясь с нами, Анна Андреевна сказала:
— Они забыли, что товарищ значит друг. Но мы-то это помним, не так ли?..»
Совершенно очевидно, что этой последней своей репликой Анна Андреевна хотела сгладить возникшую неловкость. Сделала, что называется, bon mine au mauvais jeu. (Хорошую мину при плохой игре.) Не может быть никаких сомнений в том, что, кинув эту прощальную реплику «До свиданья, товарищи», она имела в виду отнюдь не старое русское, а именно советское значение сакраментального для эмигрантов, но вполне привычного, естественно вошедшего в ее словесный обиход слова.
Изображая своего диссидента. Аксенов в Анну Андреевну. конечно, не метил. Но вот ненароком задел и ее, что наглядно показывает нам, каким острым и даже опасным оружием может стать самый невинный юмор — не говоря уже о сатире.
«Остров Крым», в котором на мгновение появляется так лаконично (одной фразой) вылепленный Аксеновым диссидент, — роман сатирический, и он, безусловно, тоже мог бы украсить антологию русской сатиры и юмора XX века.
Стихией искрометного юмора и горьковатым ядом сатиры пронизано все творчество Аксенова, так что войти в эту антологию могла бы едва ли не любая его книга. На мой вкус, особенно хорош в этом качестве был бы блестящий его сатирический роман «Скажи изюм». Украсили бы этот том и ранние его рассказы: «На полпути к Луне», «Товарищ Красивый Фуражкин», «Местный хулиган Абрамашвили», «Победа». Но автор решил иначе. Будем ему благодарны за его выбор.
Бенедикт САРНОВ
Вместо автобиографии
Три шинели и нос
Постоянно причисляемый к «шестидесятникам», сам себя таковым считал, пока вдруг не вспомнил, что it 1960 году мне уже исполнилось двадцать восемь. Лермонтовский возраст, этот постоянный упрек российскому литератору, пришелся на пятидесятые, и, стало быть, я уже скорее «пятидесятник», то есть еще хуже.
Стиляжные пятидесятые, тайные экскурсии в Чаттанугу! В моем случае эта экскурсия в конце концов из тайной стала явной, поскольку в 1980-м я получил пинок красным лаптем под задницу.
Приятен мне, господа, русский суффикс «яга». Идет он, несомненно, от скифов и пахнет кочевой чертовщиной. Всегда осязаю его присутствие, когда думаю о том, как «коммуняга» ненавидел «стилягу», как он, «бедняга», немного подох, а стиляга, оказывается, еще немного жив, «доходяга». В этом ключе можно и в индейскую Чаттанугу всунуть дольку скифского чесноку, тогда у нас все законтачит.
Прошлым летом Виктор Славкин пригласил меня на премьеру своего фильма о «пятидесятниках». Бывшие стиляги рассказывали в этом фильме о своей молодости. Каждого из них режиссер усаживал на просторное сиденье открытого «ЗИСа» и снимал с одной точки во время проезда по Москве. Эффект получался любопытный. Пожилой человек пытается что-то вспомнить, говорит вяло, неинтересно и вдруг замечает какой-то перекресток, арку какого-нибудь памятного ему дома, и тогда сквозь опустившиеся брыла и набухшие подглазия пролетает искра, и вы на мгновение видите перед собой мальчишку тех времен сорокалетней давности.
Во время дискуссии Славкин предложил мне выступить. поделиться воспоминаниями о стиляжных пятидесятых. Признаться, мне не хотелось говорить. После учебного года в американском университете в Москве вообще-то хочется помолчать. Вдруг в зале я увидел знакомое лицо — впоследствии выяснилось, что это была дочь одной девчонки из нашей молодой компании, — и как-то сразу возникла череда сцен, «полусмешных, полупечальных», странный парафраз к одной из моих нынешних университетских тем, к «Гоголиане». Теперь все это превращается в рассказ.
Я никогда не был стилягой в гордом и демоническом смысле слова. Скорее уж я был жалким подражателем, провинциальным стиляжкой. Иной раз во время каникулярных поездок из Казани в Москву или Питер я видел группки немыслимых гордецов в узких брюках и ботинках на толстой подошве, с набриолиненными башками стоящих возле «Авроры» на Петровских линиях или возле «Астории» на Исаакиевской. Набриолиненная башка была, пожалуй, самым доступным атрибутом из стиляжного набора, и мы с такими башками собирались на танцах в казанском Доме ученых. Что касается шмоток, то тут от нас за версту разило халтурой, потугами провинциальных «телеграфистов».
Между тем на экраны каким-то чудом прошел французский фильм «Их было пятеро». Там герой таскался в пиджаке со сверхразмерными плечами и длинной шлицей через всю задницу. Он даже, кажется, что-то говорил об этом пиджаке своей девушке: вот, мол, видишь, какой у меня американский пиджак! Вдвоем с молодым портняжкой мы решили замастырить такой пиджак из местных материалов. Облазив все магазины, нашли ткань в мелкую клетку. Портняжка трудился три недели и наконец сказал, довольный и гордый: «Ну вот, Васек, теперь ты у меня в порядке, как пограничник!» Какое отношение я имею к пограничнику в таком «клевом» пиджаке, я не спросил и полетел, то застегиваясь, то расстегиваясь, развеваясь шлицей и напевая стиляжный «сумбур вместо музыки».
Однажды дяде сшили новый китель,
В обтяжку
Он на нем сидел.
Но после долгой глажки
Усердного портняжки
Тот китель
Вверх тормашкой
Полетел!
О, миледи!
Тот китель
Вверх, тормашкой
Полетел!
Едва я появился в своем новом пиджаке на курсе, как сразу же стал объектом комсомольской сатиры. В стенгазете «Лечфаковец» тиснули карикатуру с рифмованной подписью:
Этот клетчатый пиджак
Был хорош бы для стиляг.
Ну а вас, сокурсник Вася.
Он совсем, совсем не красит!
Таким образом мединститут меня вписал в свою малочисленную команду мальчиков для битья, и с тех пор в каждом выпуске «Лечфаковца» я находил что-нибудь о себе под рубрикой «Кривое зеркало». Только много лет спустя я узнал, что все эти стишки и карикатуры на меня тщательно собирались местной гэбухой, поскольку я находился у них «в разработке», но это особая тема.
Вьюноша всегда мечтает стать частью городской мифологии, и поэтому я был очень вдохновлен, когда меня в моем пиджаке стали приглашать постоять с ними другие персонажи «окон сатиры», а именно: Владик «Крукса», Сережа Елкин-Палкин, Ирина «Домино», Ушанги Амбердыд-зендзиашвили. Увы, постоять с ними возле мраморного льва на главной улице я мог только поздней весной или ранней осенью. В холодное время я ко льву старался не приближаться в связи с отсутствием соответствующей «упаковки».
Сейчас могу признаться: я ненавидел свое зимнее пальто больше, чем Иосифа Виссарионовича Сталина. Это изделие, казалось, было специально спроектировано для уничтожения человеческого достоинства: пудовый драпец с ватином, мерзейший «котиковый» воротник, тесные плечи, коровий загривок, кривая пола. Студенты в этих пальто напоминали толпу пожилых бюрократов.
И вдруг однажды сверкнул мне «луч света в темном царстве». В тот день, подлейший мартовский слякодень, забрел я в комиссионку на Кольце. Обычная дыра, завешанная траченными молью бухарскими коврами и чернобурками, заставленная китайскими вазами и термосами. И все-таки эти нафталинные лавки имели какое-то отношение к городской мифологии. Об этой на Кольце, в частности, было известно, что в ней Сережа Елкин-Палкин купил когда-то набор иностранных пластинок с собакой возле раструба граммофона, из которого доносится голос ее любимого хозяина.
Едва лишь я в тот день подошел к этой комиссионке, как из нее вышел мужчина лет на десять старше меня, не кто иной, как джазист-«шанхаец» Герман Грамматиевич. Он был без пальто.
Эти «шанхайцы», молодые русские патриоты, играли еще недавно в большом оркестре и развлекали буржуазную публику в огромном городе на реке Хуанпу. Грандиозные победы красных орд товарища Мао Цзэдуна подтолкнули весь оркестр выехать на историческую родину. Джазисты еще не догадывались, что история там в данный момент повернулась задницей к подобным американизированным биг-бэндам. Неся с собой репертуар Гленна Миллера и Вуди Германа, они думали: вот тебе, любимая родина, все лучшее, чему научились молодые патриоты на реке Хуанпу!
Благодарность родины оставляла желать много лучшего. однако не дотянула и до худшего. Могла бы ведь и полоснуть поперек пюпитров, однако вместо этого просто пенделем под зад вышвырнула космополитическую заразу и пыльный Зеленодольск, штаб-квартиру умирающей Волжской военной флотилии, с ее плоскодонными крупнопушечными мониторами. Там козы толпой проходили под вечер по главной улице, что давало возможность джазистам сравнить их блеяние со звуками международного сеттльмента в Шанхае.
Вдруг неизвестно откуда пришло смягчение для патриотов: разрешено перебазироваться в Казань и там перейти на одиночное репатриантское существование. До сих пор не понимаю, почему наша родина вдруг проявила такой либерализм и не отправила лабухов на свои колымские угодья вместо университетского города, где уже с жадностью подрастало новое студенческое поколение. Так или иначе, «шанхайцы» рассосались в Казани по ресторанам, кинотеатрам и клубам, где стали исполнять утвержденный реперткомом набор народной музыки. И все-таки, и все-таки иногда «под балдой», перемигнувшись с публикой, они вдруг выдавали свой свинг, растягивая перед местной жалкой молодежью огромные медные закаты внешнего мира.
Итак, это был один из них, из нездешних, некий барабанщик Гоша Грамматиевич, который, сдав последнее пальто в комиссионку, теперь налегке скользил к магазину «Вина-воды». Через минуту я уже смотрел на пальто Грамматиевича из-за китайской вазы. Под эгидой Китая в тот день сцепилась связь времен, распавшаяся ранее под эгидой России. Из-за вазы с драконами русский юнец взирал на американское пальто, купленное когда-то на реке Хуан-пу. Хоть и неуклюжая, но все-таки попытка найти гармонию в экзистенциальном хаосе.
Среди обычных советских черных и коричневых коло-ров дерзко выделялось пятно верблюжьего цвета, свисал пояс с металлической, не наших очертаний, пряжкой. Невинно пялились невиданные пуговицы, похожие на треснувшие орехи. Лучше сразу уйти, это пальто стоит пять тысяч. Даже если продам «Балтику» и «Кировские», не наберу и на треть. Крукс его купит через двадцать минут на обратном пути с тренировки по поднятию тяжестей. Лучше сразу разворачиваться, нам оно не по чину.
Здравствуйте, нет ли у вас демисезонного пальто на мой рост? Нет ничего приличного, молодой человек. А вот это, например? Вот это желтое, что ли? Что ж, вы такое носить будете? Ну, просто попробовать. Ну не советую.
Вот оно в руках, блаженное, шелковистое прикосновение. А где же ценник, ценник-то? Каков сюрприз, пальто стоит не 5000, а всего лишь 500. всего лишь две месячные стипендии! На пряжке внутри фирменные буквы: Jennings! Внутренние органы неприлично заторопились. Пряжка с зубчиками. Пояс немного залохматился. Это из-за зубчиков, так и полагается. Да ему сто лет, этому пальтишке, молодой человек. Послушайте, дорогая девушка, будьте человеком, отложите его для меня! Я через два часа, через час, приду с деньгами! Ну, вы комик, молодой человек! Да вы хоть примерьте!
Что ж тут примерять-то, и так все ясно. Это пальто, как Лоуренс Аравийский, скакало ко мне всю свою долгую жизнь. То львицей вздувалось оно, то опадало шкурой львицы. Оно всегда жаждало меня, дорогая неуродливая продавщица! Оно всегда пылало ко мне, хоть и болталось на плечах барабанщика! Оно в конце концов ушло от него, и вовсе не оттого, что Гоша пропился в дым и задолжался швейцару Туго, а оттого, что почувствовало мою близость. Дорогая Нина Васильевна, происходит не коммерческий акт, а предначертанная встреча взаиможаждущих особ, волжского мальчика и американского Верблюдо. Верлибром вертелось блажное Верблюдо, блюдя веритути бананом на блюде, не так ли?!
Итак, оно мое, и пусть не хватает одной ореховой пуговицы, а вместо нее неверной рукой, умеющей только выколачивать брейки в «Сент-Луис Блюз», пришита советская офицерская, и пусть межлопаточная поверхность имеет тенденцию к быстрому пропуску дующего в спину ветра, и пусть пояс залохматился под естественным влиянием зубчиков, и пусть обшлага и полы чуть-чуть завельветились, и пусть, и пусть! О Верблюдо!
Вместе с этим пальто мы стали углубляться в почти антисоветскую молодость. Оно помогло мне пережить исключение из Казанского мединститута. Может быть, именно оно подсказало мне укрыться в Москве. Им я и укрывался во время ночевок на московских вокзалах, среди могучей щусевской архитектуры. Через межлопаточное пространство уже начинали просвечивать державные люстры. Веселая тетя Наташа, прибывшая в Москву для «спасения ребенка», всплеснула руками: «Васька, да ты люмпен! Что я напишу в Магадан Жене?!»
Ни мать, ни тетка, ни сам вечно чихающий студент-люмпен не подозревали, что подходит его срок вместо американского Верблюдо примерить лагерный ватник. Только спустя много лет стало известно, что изгнание из института было прелюдией ареста. Малая родина склонна к предательству не менее, чем большая, но это, конечно, особая тема.
Переехав в Питер, я оказался под опекой тетки. При всем веселом нраве она была носительницей здравого смысла. Маме была отправлена депеша с описанием скандального рубища. Мать с гневом прислала ей деньги, чтобы купить мне новое, настоящее пальто. Засим мы отправились на Обводный канал во Фрунзенский универмаг. Там под тяжестью советской одежды гнулись металлические вешалки. Тетка с бесконечными ифлийскими хохмизмами, но неумолимо — «волею пославшей мя сестры!» — выбрала нечто стахановское и тут же повлекла племянника в фотоателье для выполнения подтверждающего акцию снимка. Даже без следа иронии на бледном, отретушированном лице позирую в виде положительного героя соцреализма.
Как ни странно, совсем не помню сейчас, как испарилось мое злокозненное Верблюдо с его протертой уже до нитяной структуры спиной, с поясом, на котором зубчики уже не знали, за что зацепиться, с вермишельными рукавами, оно, так ярко осветившее мою раннюю молодость и взбудоражившее двух сестер Гинзбург
[1], разделенных пространством в двенадцать часовых зон. Может быть, и впрямь испарилось, сделав свое дело, сняв с юнца советский номерной знак, вдруг в пьяной питерской ночи малой шкуркой, обрывком закатной тучки поднялось, подобно «небесным верблюжатам» Елены Гуро
[2], над крутыми склонами Исаакия и там, достигнув уже нематериальной ветхости, как раз и испарилось?
«Этой штуке место в ломбарде», — взвесив фрунзенское добро, сказал мне мой новый балтийский друг Михаил Карповиус. Этот узколицый молодой человек в резко сдвинутом набок литовском берете, помимо многих других открытий, открыл для меня существование ломбарда, то есть воплотил литературную ситуацию в жизнь.
Благо было уже тепло и мы щеголяли в китайских плащишках. Быстро в плащишках перемещались из одной клиники в другую, интересуясь не столько бальными, сколько сокурсницами, и, в частности, высокой рыжей девушкой. Леной Горн, о которой «на потоке» говорили, что она «дает с ходу», и которая смотрела на нас всех с нескрываемым презрением.
Осенью я «построил» себе другое пальто, неплохую замену моему растворившемуся Верблюдо. К тому времени Америку в наших сердцах резко отодвинула Франция. Приехал стриженный ежом Ив Монтан. В пивных мы имитировали его шансоны. Вот, вообразите, заходишь в какое-нибудь прокисшее пролетарское заведение, а там компания поддатых молодцов хором исполняет: «Я так хочу хотя бы раз Кольцо Больших Бульваров обойти в вечерний час!» Вот вам удар по вашим стереотипам, господа западные филологи и романисты. В заведении, именуемом «Пиво завода имени Стеньки Разина», вы ждете услышать «Из-за острова на стрежень», узреть что-нибудь надрывное, подноготное, а вместо этого перед вами мельтешит толпа петербургских буршей, голосящая: «C'est a loin, loin; Oh, les payslointalna…», а один из этих выпивох бродит от стола к столу в ив-монтановском пальто внакидку да еще и в трехцветном шарфе — Liberte, Egalite, Fratemite, — связанном сокурсницей и на тридцать пять лет опередившем российские стяги Августовской революции.
В этом пальто в ту осень мечталось не «хиляние по Броду», а сопротивление на будапештских баррикадах. Однажды как-то на Мойке или на канале Грибоедова, вывалившись толпой из очередного препохабнейшего заведения, начали шуметь: «Сколько же можно терпеть?! Давай начинаем, студенты! Руки прочь от Венгрии, сволочь сталинская! Завтра выходим на демонстрацию! За нами весь Невский пойдет! А потом и весь Путиловский! Завтра нот здесь и начнем в шесть часов вечера перед восстанием!»
После шумства разбрелись в разные стороны, трепеща и предвкушая жертвенный подвиг. Полночи я тащился в сторону моего тогдашнего жилья по самому западному в городе адресу, на Лесную Гребенку. Тусклая геометрия бывшего Петербурга подставляла мне свои острые углы. |умбы и водопроводные люки вступали в противоречия с гравитацией. Пару раз заехал в морду оккупанту, то есть со всего размаху по водосточной трубе.
Вдруг враждебная морось и слякоть материализовались тремя субъектами, виртуозами припортового гоп-стопа. В буквальном смысле, как Акакия Акакиевича, они вытряхнули меня из моего нового пальто. «Что за шутки?!» — возопил я и обнаружил вокруг себя полнейшую пустоту, среду, как говорится, максимального отчуждения. Не было даже луны, чтобы надо мной посмеяться. Остатнюю часть пути я не мог с определенностью сказать, где я нахожусь: в середине ли страницы альбома, в котором сейчас эту историю записываю, — альбома, подаренного поэтическим другом русско-татарско-итальянского происхождения и крытого скромным куском вельвета с беленькими цветочками, или посредине улицы, проявившей гнусную суть свою в бестрамвайные часы разбойной ночи, — улицы все тех же, ничуть не изменившихся петербургских призраков и чертей, охотников за нашими дражайшими шинелями, насильников нашей дражайшей юности, и куда направляюсь: в американскую ли, инспирированную ОПОЯЗом славистику или на Лесную Гребенку плакаться в жилет Мише Карповиусу.
Припоминается, что на следующий день, в пиджачке, я все-таки оказался в районе Церкви-на-Крови, где намечалось возведение первой Ленинградской баррикады, однако никого и ничего там не нашел, кроме развалюхи грузовика с бочкотарой. Все мятежники, должно быть, как и я сам, то ли опоздали, то ли слишком поторопились. Короче говоря, восстание не состоялось.
Реализм подступал со своими проклятыми вопросами, дул под пиджачишко, напоминая то, что учили в институте о воспалении седалищного нерва. Где взять пальто? Ведь не строить же заново! «Мы тебе в порту купим ман-тель с подкладкой», — утешал Карповиус. Да на какие же шиши? Отсутствие «шишей» создавало пограничную, «ли-минальную» ситуацию, вне которой не могла возникнуть молодая проза, как это позднее выяснилось. Даже Двадцатый съезд нашей партии, положивший конец злоупотреблениям «культа личности», не вызывал желания слиться с народом в его новом трудовом порыве. Напротив, в вечерних ледяных шатаниях все чаще выплывал перед наследниками Башмачкина какой-то сквозной, сквозь всю непогоду, отрыв.
Лена Горн расхохоталась всей своей развевающейся медью: «Да вы, Василий, и впрямь дрожите, милейший, словно Акакий Акакиевич!» Она шла по Невскому в сопровождении Носа. По совершенно случайному совпадению ее спутника так и звали — Нос, в том смысле, что был он. конечно, Носов. Некоронованный король Невского, главный стиляга, идеально сложенный и идеально одетый Нос. Очень прямой, руки почти всегда в карманах, с немного преувеличенной из-за прически, хорошей, лобастой головой, с многообещающей улыбкой. Нос.
«Закаляешься, старый?» — спросил Нос Башмачкин с радушием обитателя Букингемского дворца при обращении к солдату караула.
Они прошли, но Лена на секунду обернулась, очевидно, чтобы увидеть, как летит под ледяным ветром единственный оставшийся у меня утеплитель, триколор свободы. А я нырнул в подвальчик, благо тогда немало на Невском было таких подвальчиков с водкой в розлив и с разливанными разговорами.
Неунывающий Карповиус предложил несколько способов увеличения денег. Ну вот. например: одалживаемся в общежитии у Гренадерского моста и выкупаем из ломбарда «то, твое», а потом продаем дешевле госцены, но в два раза дороже залога. Ну вот еще: набираем ночных дежурств на Карантинке, оплачиваются вдвойне. Ну еще что-нибудь, например: тайком, чтобы не уронить медицинский престиж, нанимаемся мыть стекла на Лесной Гребенке. Поставим бутылку коменданту, он нам выпишет на пару, вдвойне. Всюду этому оптимисту в те ранние годы виделся двойной выигрыш. Он еще не знал, что через год уйдет в океан, и рулетка закрутится в его пользу сверх ожиданий: вдвое, втрое, в сто раз на несколько лет, пока он вдруг не рухнет и не задохнется в тоске, в развале и в собственных извержениях.
Как ни странно, все способы Карповиуса тогда более или менее сработали. К ним прибавилась еще сумма, одолженная у однокурсниц, и в результате появилась возможность еще раз пригласить читателей в комиссионный магазин. теперь уже на Невском. Опять ковры и китайские вазы плюс несколько статуэток Будды с ярлычками: «Буда простая, медная». Вдруг молодой продавец, волосы «под канадку», поманил меня пальцем с печатным кольцом. «Я вижу, ты из наших», — сказал он. «Офкос», — подтвердил я на языке порта. «Пальтец нужен?» — спросил он. «Вот именно пальтец и ищу!» — едва ли не вскричал Башмач-кин послесталинской формации. «Тогда считай, что тебе повезло!» Он бросил на прилавок нечто светло-серое, плотного сукна, и в ту же долю секунды, пока брошенное еще успокаивалось на прилавке, я понял, что опять случилось в жизни нечто чудесное, что это пальто ко мне прямо из Парижа залетело, что в нем нет никакой «самостроковской» утрировки, один лишь европейский стиль 1956 года, когда кумиром Левого берега Сены был некий реакционный писатель, месье Альбер Камю.
Все эти дела с разными берегами Сены, с Альбером Камю и его эссе «Бунтующий человек» были нам еще неведомы. они пришли позднее, однако мне кажется, что я уже и тогда, осенью 1956-го, каким-то предлитературным чутьем предполагал их существование. Сознание послесталинских мальчиков совершало иной раз непредсказуемые виражи. Ну, вот, например, про упомянутого уже певца Больших Бульваров Ива Монтана пресса с придыханием писала, что он «убежденный коммунист», а Миша Карповиус по этому поводу глубокомысленно изрекал: «Если уж там даже коммунисты такие, то чего же ждать от беспартийных?!»
«Прикинь!» — говорит мне молодой продавец «из наших». Прикидываю. «Ты в поряде!» — ухмыляется он. Карповиус из-за стекла (он уже на Невском с двумя девушками объясняется) показывает мне два больших пальца. «Этот пальтец сегодня Нос приволок, — говорит продавец и кивает со сдержанной гордостью. — Вот именно, сам Нос. Ему эту штуку Левка Волков отстрочил по французским выкройкам». Меня охватывает странное, едва ли не мистическое чувство. «А что же он сам-то. Нос-то, не носит?» — «Раздался в плечах, — поясняет продавец. — Как начал с Ленкой Горн гулять, так раздался в плечах. Только что сшил, и вот весь малость вздулся в верхних частях: плечи, грудь, холка. Теперь, говорит, новое буду шить, а это, говорит, Игореша, продай с умом, то есть кому-нибудь из понимающих». Мистическое чувство усиливается. Нос только притворялся, что шьет себе. В глубине своей сути он. конечно, понимал, что новое пальто перекочует к другому персонажу. Плечи, грудь, холка, раздувшиеся из-за любви к медичке, — это просто отговорки. Литературная метафизика торжествует!
Весь остаток вечера мы дефилировали по Невскому, Карповиус в своем клайпедском кожане и я в пальто от Носа. На Невском тем временем развивалась сенсация: шел герой молодежи Михаил Козаков, то есть красавец-негодяй из фильма «Убийство на улице Данте». Шарф брошен через плечо, горит драматический глаз. За ним — куча поклонников, у всех шарфы через плечо, в зрачках свеча. Мы г Карповиусом присоединяемся. Кумир заходит в рюмочную. Широкий жест: «Всех угощаю! Выпьем за искусство, ли будущее!» Еще по одной, еще по новой! Не осквернять же эти мгновения мокрыми бутербродами с килькой, похожей на ржавое серебро гниющего сарацина. Пьем без закуски.
Далее все разрастающаяся свита (кажется, уже без предводителя) направляется в кинотеатр «Хроника», где идет боевой документ «Разгром контрреволюции в Венгрии». Мы с Карповиусом смотрим его уже пятый раз, поскольку там крупным планом фигурирует вчерашний сокурсник Жига Топай. Диктор зловещим голосом вещает: Па второй день к кинотеатру «Корвин» стали стекаться грузовики с реакционным отребьем». Близко к камере проходит «Татра», у нее в кузове толпа молодых ребят, все они кажутся нам однокурсниками. Укрупняется до полной узнаваемости фигура собутыльника Жиги Топай, получившего в институте известность своим романом с поварихой клиники профессора Углова. Он в таком же пальто, как теперь у меня, только на груди у него автомат Калашникова. Любовник поварихи и одновременно еще полудюжины дам из больницы Эрисмана оказался отважным антисталинистом! На выходе Карповиус кладет мне руку на плечо: Жаль, что нас там не было». В толпе несколько человек оборачиваются и внимательно смотрят на нас.
За время просмотра Невский еще больше вошел в раж. Непонятно, по какому поводу эта толпа к десяти часам вечера впадает в такое возбуждение. «В кабаках, в переулках, в извивах (в каких еще извивах, Александр Александрович. если это не просто для рифмы?), В электрическом сне наяву Я искал бесконечно красивых И беспечно влюбленных в молву…» Цитируется по памяти, она же, любезная, подсказывает, что тогда, осенью 1956 года, в толпе на Невском нередко мелькали вот именно те, «бесконечно красивые», которые в моем затянувшемся юношеском воображении относились к блоковскому урбанизму, к темным отшлифованным гранитам и матовым мраморам, к извивам (ага, вот они, извивы!) бронзы и чугуна, еще оставшимся от Серебряного века и еще как бы живым.
Молодежь, как известно, никого не замечает на улице, кроме самое себя. Так и я, очевидно, не видел в тот вечер большинства ленинградской толпы и уж тем более не видел ее жлобов или, как тогда там говорили, «скобарей». В новом, «носовском» пальто я ощущал себя одним из тех, «бесконечно красивых», и был уверен, что со мной этой ночью произойдет что-то необычное.
Карповиус пропал,
с ним это постоянно случалось в ту осень. Естественно, вскоре я обнаружил себя в подвальчике «Советское шампанское», что на углу Невского и Садовой. В те времена там сливали в тонкостенных стаканах весьма эффективную смесь: сотку коньяку и сотку СШ. К этому еще присовокуплялась, «для культуры», большая шоколадная конфетина. «Пора!» — сказал я после первого стакана, таща второй. «Куда?» — спросила меня восхищенная масса. «На баррикады, — любезно пояснил я. — Сегодня в городе начинается восстание». — «Какое еще такое восстание в колыбели революции? — скандально удивились массы. — Соображаешь, о чем говоришь, ты, кент?» — «Восстание за свободу, — продолжал уточнять я. — В знак солидарности с растерзанным Будапештом. Все на баррикады, ребята! Ура!» То одно, то другое приближались ко мне отвратные советские лица или, как автор «Шинели» и «Носа» их называл, «кувшинные рыла». «Давай, тащи его в милицию, товарищи! Агитатор — оттуда!»
Двое длинноруких выволокли меня
наружу под скандинавский восторженный ветер. Ничего не стоит смахнуть таких падл, винегретных, отблеванных гадов! Почему-то не получалось. Двое патриотов Страны Советов вцепились мне в плечи, в мое парижское пальто, не отодрать! «Давай тащи агитатора! Вон мент стоит! Товарищ милиционер, контру поймали!» У них не получалось меня тащить, у меня не получалось их отодрать. «Товарищи прохожие, помогите стилягу в милицию сдать! О Венгрии болтает!» Товарищи прохожие, ни черта не разбирая среди гудков, звонков, свиста ветра, спешили пройти: подобных цен, когда двое висят на одном, по всему Невскому было немало.
Мент наконец заметил непорядок, начал приближать-я. «Что за базар? Предъявите документы!» Отодрав пару щупальцев, вытягиваю паспорт с законной ленинградской Пропиской. «Все в порядке, гражданин. — говорит мент и с некоторым рыком поворачивается к бдительным. — А ваши где паспорта, гопа?» Бдительные, хлюпая от обиды, вопят: «У контриков, у шпионов паспорта всегда в порядке!! Ты что, сержант, не понимаешь политической подоплеки? Бдительности тебя не учили?» Мент морщится: вот схлопотал на собственную задницу самодеятельности! Надо было в другую сторону пойти. Ищет взглядом своих. Вон, кажись, торчат две башки в фуражках. Достает свисток. «Ну, давайте разбираться!»
«Этап на Север, срока огромные!» — сдуру запел я. Вижу себя в колонне магаданских зэков, тащимся из порта в санпропускник. Включается демагогия. «Эй. эй, сейчас не те времена! Партия сказала, к прошлому возврата нет!» Две фуражки приближаются. Останавливаются любопытные. Приключение достигает высшей точки. Арест на Невском молодой контры.
Вдруг оказывается, что повороты сюжета еще не исчерпаны. Из толпы выделяется быстрый, лисий перелив меха, взлетает рыжая грива, энергичной цитатой проходит. как молния, какая-то молодая дама, «у которой всякая часть тела исполнена необыкновенного движения». Я всегда подозревал, что классика в этой части города сильно отдает модерном. Она приостанавливается и оказывается все той же Ленкой Горн с нашего курса. «Вася, что это с вами? Что вы тут с этими скобарями не поделили?» И вслед за ней, раздвигая толпу плечами, появляется, разумеется, Нос, на самом деле как-то основательно раздавшийся в плечах и весь как бы светящийся малиновой мужской анергией. «Что за шум, а драки нет?»
Это тут какие-то без прописки какого-то с пропиской. Да я на Доске почета в номерном предприятии, товарищи милиционеры! Давай, машину вызывай! А вот этого я бы вам не советовал. А ты кто такой, чтобы советовать? Я бы на вашем месте мне не тыкал. Они тут все, стиляги, друг за друга, контрики! Родную нашу советскую власть порочат! Который тут контрик, вот этот, в шинельном, что ли? Я бы на вашем месте взял свои слова обратно. Товарищи, вы что, не понимаете, перед вами будущий знаменитый писатель, не трогайте его! А вы, товарищ красивая женщина, поберегли бы свою репутацию! Это вот этот, в шинельном, что ли? Ну-ка, гражданин в шинельном и вы двое без прописки, давайте-давайте в машину!
Меня, которого менты почему-то называли «этот в шинельном», и тех длинноруких от патриотизма «скобарей» начинают тыкать к машине, которая гостеприимно раскрывает свое заднее вместилище. Вдруг происходит еще одно, как бы Карповиус сказал, «сценическое движение». Нос предъявляет милиции красную книжечку в ладони. Вспыхивают, проносясь мимо меня, три золотые буквы. Решимость милиции мгновенно улетучивается. Козырнув Носу, сотрудники удаляются. С пустым задком отъезжает и гостеприимная машина. Энтузиастов отечества Нос прогоняет легким «пенделем», одним на двоих.
Когда все это так просто закончилось, мы пошли втроем в сторону Адмиралтейства. По законам какой-то неведомой композиции в этом месте напрашивается промельк пейзажа. Ну луна, конечно, ну шпиль. Круглое и острое, отсвечивая друг от друга, доминировали в очищенном от туч и почти морозном небе: баста!
Не могу сказать, что неожиданная метаморфоза главного питерского стиляги очень меня вдохновила.
«Хотел бы я знать, почему меня менты называли «этот в шинельном», — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать. Нос хохотнул. «Да у тебя же, старый, пальто из офицерского сукна Советской Армии. Это моему бате сверхурочный отрез выдали в штабе округа. Неплохо его Левка Волков отстрочил, правда? Жаль, что мне самому не подошел этот пальтец по известным обстоятельствам». С улыбкой он повернул всю верхнюю часть своего тела, включая превосходную голову, к своей подруге. Та передернула плечами: «Неуместно. Нос!» Она, казалось, больше интересовалась мною: «А я и не знала, что у вас определенные взгляды, Василий!»
Я чувствовал себя так, будто меня снова вытряхнули из пальто. «Я своих взглядов не скрываю».
«И правильно делаешь, старый!» — бодро сказал Нос.
«Можешь доложить там, в вашей организации», — буркнул я.
«В какой еще организации?» — удивился он.
«В той, которая тебе книжечку выдала с тремя буквами».
Он как-то странно, даже как бы невероятно расхохотался. Остановилась изумленная Лена. Остановился изумленный я. Смех как будто шел не из данного тела, а как будто рикошетом от столба к столбу ниоткуда, с завихрением под Аркой Главного штаба.
«Вот чудак, — сказал мне Нос, — ты. наверное, не успел рассмотреть моей книжечки. На ней и впрямь три буквы, да не те!» Он снова выхватил из кармана эту секретную книжечку и продемонстрировал ее в глубине своей раздувшейся и перетянутой линиями судьбы ладони. На книжечке читалось: НОС.
Мы оба, Лена и я, просияли. Вернулось прежнее восхищение этим парнем, хозяином Невского проспекта.
«Пока все, — сказал он и приложил два пальца к основанию своего «канадского кока». — Не буду задерживать, попросту испаряюсь. Если найдешь меня в кармане шинели, просто брось в Неву с Дворцового моста. Схвачено?»
Недавно на одном приеме в честь члена правительства новой демократической России произошел любопытный разговор.
«Что там говорить, господа, — произнес
с хорошей улыбкой член правительства. — Все мы с вами все-таки вышли из коммунистической партии».
«Нет, не все, — возразил я. — Некоторые все-таки вышли из шинели. В моем случае, даже из трех».
Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский сделал добавление: «А некоторые даже из носа. Кто из левой ноздри, а кто из правой…»
Затоваренная бочкотара

 «Затоваренная бочкотара» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1968, № 3. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Затоваренная бочкотара» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1968, № 3. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
Затоварилась бочкотара, зацвела желтым цветком. затарилась, затюрилась и с места стронулась.
Из газет
_ _ _ _ _
В палисаднике под вечер скопление пчел, жужжание, деловые перелеты с георгина на подсолнух, с табака на резеду, инспекция комнатных левкоев и желтофиолей в открытых окнах; труды, труды в горячем воздухе районного центра.
Вторжение наглых инородцев, жирных навозных мух, пресыщенных мусорной кучей.
Ломкий, как танго, полет на исходе жизни — темнокрылая бабочка — адмирал, почти барон Врангель.
На улице, за палисадником, все еще оседает пыль от прошедшего полчаса назад грузовика.
Хозяин — потомственный рабочий пенсионного возраста, тихо и уютно сидящий на скамейке с цигаркою в желтых, трудно зажатых пальцах. — рассказывает приятелю. почти двойнику, о художествах сына:
— Я совсем атрофировал к нему отцовское отношение. Мы, Телескоповы, сам знаешь, Петр Ильич, по механической части, в лабораторных цехах, слуги индустрии. В четырех коленах, Петр Ильич, как знаешь. Сюда, к идиотизму сельской жизни, возвращаемся на заслуженный отдых, лишь только когда соль в коленах снижает квалификацию, как и вы, Петр Ильич. А он, Владимир, мой старшой, после армии цыганил неизвестно где почти полную семилетку, вернулся в Питер в совершенно отрицательном виде, голая пьянь, возмущенные глаза. Устроил я его в цех. Талант телескоповский, руки телескоповские, наша, телескоповская голова, льняная и легкая. Глаз стал совершенно художественный. У меня. Петр Ильич, сердце пело, когда мы с Владимиром вместе возвращались с завода, да… эх… все опять процыганил… И в кого, сам не пойму. К отцу на пенсионные хлеба прикатил, стыд и позор… зов земли, говорит, родина предков…
— Работает где, ай так шабашит? — спрашивает Петр Ильич.
— Третьего дня в сельпо оформился шофером, стыд и позор. Так с того дня у Симки и сидит в закутке, нарядов нет, не просыхает…
— А в Китае-то, слыхал, что делается? — переключает разговор Петр Ильич. — Хунвэйбины фулиганят.
В это время Владимир Телескопов действительно сидит в закутке у буфетчицы Симы, волевой вдовы. Он сидит на опасно скрипучем ящике из-под мыла, хотя мог бы себе выбрать сиденье понадежней. Вместе с новым дружком, моряком-черноморцем Глебом Шустиковым, он угощается мандариновой настойкой. На розовой пластмассовой занавеске отчетливо видны их тени и тени стаканчиков с мандариновым огоньком внутри. Профиль Шустикова Глеба чеканен, портретно-плакатен, видно сразу, что будет человек командиром, тогда как профиль Владимира вихраст, курнос, ненадежен. Он покачивается, склоняется к стаканчику, отстраняется от него.
Сима считает у стойки выручку, слышит за спиной косоротые откровения своего избранника:
— …И он зовет меня, директор-падло, к себе на завод, а я ему говорю, я пьяный, а он мне говорит, я тебя в наш медпункт отведу, там тебя доведут до нормы, а какая у меня квалификация, этого я тебе, Глеб, не скажу…
— Володька, кончай зенки наливать, — говорит Сима. — Завтра повезешь на станцию.
Она отдергивает занавеску и смотрит, улыбаясь, на парней, потягивается своим большим, сладким своим телом.
— Скопилась у меня бочкотара, мальчики, — говорит она томно, многосмысленно, туманно, — скопилась, затоварилась, зацвела желтым цветком… как в газетах пишут…
— Что ж, Серафима Игнатьевна, будьте крепко здоровы, — говорит Шустиков Глеб, пружинисто вставая, поправляя обмундирование. — Завтра отбываю по месту службы. Да вот Володя меня до станции и подбросит.
— Значит, уезжаете, Глеб Иванович, — говорит Сима, делая по закутку ненужные движения, посылая военному моряку улыбчивые взгляды из-за пышных плеч. — Ай-ай, пот девкам горе с вашим отъездом.
— Сильное преувеличение, Серафима Игнатьевна, — улыбается Шустиков Глеб.
Между ними существует тонкое взаимопонимание, и могло бы быть и нечто большее, но ведь Сима не виновата, что еще до приезда на побывку блестящего моряка она полюбила баламута Телескопова. Такова игра природы, судьбы, тайны жизни.
Телескопов Владимир, виновник этой неувязки, не замечает никаких подтекстов, меланхолически углубленный и свои мысли, в банку ряпушки.
Он провожает моряка, долго стоит на крыльце, глядя на бескрайние темнеющие поля, на полосы парного тумана, на колодезные журавли, на узенький серпик, висящий и зеленом небе, как одинокий морской конек.
— Эй, Сережка Есенин, Сережка Есенин, — говорит он месяцу, — видишь меня, Володю Телескопова?
А старшина второй статьи Шустиков Глеб крепкими шагами двигается к клубу. Он знает, что механизаторы что-то затеяли против него в последний вечер, и идет, отчетливый, счастливый, навстречу опасностям.
Темнеет, темнеет, пыль оседает, инсекты угомонились, животные топчутся в дремоте, в мечтах о завтрашней свежей траве, а люди топчутся в танцах, у печей, под окнами своих и чужих домов, что-то шепчут друг другу, какие-то слова: прохвост, любимый, пьяница, проклятый, миленький ты мой…
Стемнело и тут же стало рассветать.
Рафинированный интеллигент Вадим Афанасьевич Дрожжинин также собирался возвращаться по месту службы, то есть в Москву, в одно из внешних культурных учреждений, консультантом которого состоял.
Летним утром в сером дорожном костюме из легкого твида он сидел на веранде лесничества и поджидал машину, которая должна была отвезти его на станцию Коряжек. Вокруг большого стола сидели его деревенские родственники, пришедшие проститься. С тихим благоговением они смотрели на него. Никто так и не решился пригубить чайку, варенца, отведать драники, лишь папа лесничий Дрожжинин шумно ел суточные щи да мама для этикета аккомпанировала ему, едва разжимая строгие губы.
«Все-таки странная у них привычка есть из одной тарелки», — подумал Вадим Афанасьевич, хотя с привычкой этой был знаком уже давно, можно сказать, с рождения.
Он обвел глазами идиллически дрожащий в утреннем свете лес, кусты смородины, близко подступившие к веранде, листья, все в каплях росы, робких и тихих родственников: папина борода-палка попалась, конечно, в поле зрения и мамин гребень в жиденьких волосах, — и тепло улыбнулся. Ему было жаль покидать эту идиллию, тишину, но. конечно же, жалость эта была мала по сравнению с прелестью размеренно-насыщенной жизни рафинированного холостого интеллигента в Москве.
В конце концов всего, чего он добился, — этого костюма «Фицджеральд и сын, готовая одежда», и ботинок «Хант», и щеточки усов под носом, и полной, абсолютно безукоризненной прямоты, безукоризненных манер, всего этого замечательного англичанства, — он добился сам.
Ах, куда канули бесконечно далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву!
Вадим Афанасьевич никаких звезд с неба хватать не собирался, но он гордился — и заслуженно — своей специальностью, своими знаниями в одной узкой области.
Раскроем карты: он был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии.
Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич, да еще один француз — викарий из швейцарского кантона Гельвеция. Однако викария больше, конечно, интересовали вопросы религиозно-философского порядка, тогда как круг интересов Вадима Афанасьевича охватывал все стороны жизни Халигалии. Он знал все диалекты этой страны, а их было двадцать восемь, весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и закоулки столицы этой страны города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере с половиной из них он был в переписке, давал советы по части семейной жизни, урегулировал всякого рода противоречия.
А началось все с обычного усердия. Просто Вадим Афанасьевич хотел стать хорошим специалистом по Халигалии, и он им стал, стал лучшим специалистом, единственным в мире.
С годами усердие перешло в страсть. Мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухопарый человек в строгой серой (коричневой) тройке, ежедневно кушающий кофе и яблочный пирог в кафе «Националь», обуреваем страстной любовью к душной, знойной, почти никому не известной стране.
По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская, жизнь была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Роситой, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим маленькую беззащитную Халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи.
От первой же, основной (казалось бы), жизни Вадима Афанасьевича остался лишь внешний каркас — ну, вот это безукоризненное англичанство, трубка в чехле, лаун-теннис, кофе и чай в «Национале», безошибочные пересечения улицы Арбат и проспекта Калинина. Он был холост и бесстрастен. Лишь Халигалия, о, да — Халигалия…
Вот и сейчас после двухнедельных папиных поучений и маминых варенцов с драниками, после всей этой идиллии и тешащих подспудных надежд на дворянское происхождение он чувствовал уже тоску по Халигалии, по двум филиалам Халигалии — по своей однокомнатной квартире с халигалийской литературой и этнографическими ценностями и по кабинету с табличкой «Сектор Халигалии. Консультант В. А. Дрожжинин» в своем учреждении.
Сейчас он радовался предстоящему отъезду, и лишь многочисленные банки с вареньем, с клубничным, вишневым, смородинным, принесенные родственниками на прощание, неприятно будоражили его.
«Что мне делать с этим огромным количеством конфитюра?»
Старик Моченкин дед Иван битый час собачился с сыном и невесткой — опять обидела его несознательная молодежь: не протопила баньку, не принесла кваску, как бывало прежде, когда старик Моченкин еще крутил педали инспектором по колорадскому жуку, когда он крутил педали машины-велосипеда с новеньким портфелем из ложного крокодила на раме. В жизни своей старик Моченкин не видел колорадского жука, окромя как на портретах, однако долгое время преследовал его по районным овощехранилищам, по колхозным и приусадебным огородам, активно выявлял.
Тогда и банька была с кваском, и главная в доме кружка, с петухами, лакомый кусок, рушник шитый, по субботам стакана два казенной и генеральское место под почетной грамотой.
К тому же добавляем, что старик Моченкин дед Иван дал сыну в руки верную профессию: научил кастрировать ягнят и поросят, дал ему, малоактивному, верную шабашку, можно сказать, обеспечил по гроб жизни. По сути дела, и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, — все дело рук старика Моченкина.
А получается все наоборот, без широкого взгляда на перспективы. Народили сын с невесткой хулиганов-школьников, и у тех ноль внимания к деду, бесконечное отсутствие уважения — ни тебе «здравствуйте, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни тебе «разрешите сесть, уважаемый дедушка Иван Александрович», и этого больше терпеть нет сил.
В свое время он писал жалобы: на школьников-хулиганов в пионерскую организацию, на сына в его монтажное (по коровникам) управление, на невестку в журнал «Крестьянка». — но жалобам ходу не дала бюрократия, которая на подкупе у семьи.
Теперь же у старика Моченкина возникла новая идея, и имя этой восхитительной идеи было Алимент.
До пенсии старик Моченкин стажу не добрал, потому что, если честно говорить, ухитрился в наше время прожить почти не трудовую жизнь, все охолащивал мелкий парнокопытный скот, все по чайным основные годы просидел, наблюдая разных лиц, одних буфетчиц перед ним промелькнул цельный калейдоскоп, и потому на последующую жизнь витала сейчас перед ним идея Алимента.
Этот неблагодарный сын, с которым сейчас старик Моченкин, резко конфликтуя, жил, был говорящим. Другие три его сына были хоть и не говорящими, но высокоактивными, работящими умельцами. Они давно уже покинули отчие края и теперь в разных концах страны клепали по хозрасчету личную материальную заинтересованность. Их, неговорящих и невидимых, старик Моченкин сильно уважал, хотя и над ними занес карающую идею Алимента.
И вот в это тихое летнее утро, не найдя в баньке ни пару, ни квасу и вообще не найдя баньки, старик Моченкин чрезвычайно осерчал, полаялся с сыном (благо, говорящий), с невесткой-вздорницей, расшугал костылем хулиганов-школьников и снарядил свой портфель, который плавал когда-то ложным крокодилом по африканской реке Нил, в хлопоты по областным инстанциям.
В последний раз горячим взором окинул он избу, личную трудовую, построенную покойной бабкой, а сейчас захваченную наглым потомством (ни тебе «разрешите взять еще кусочек, уважаемый дедушка Иван Александрович», ни тебе посоветоваться по школьной теме «Луч света в темном царстве»), криво усмехнулся — «запалю я их Алиментам с четырех концов» — и направился в сельпо, откуда, он знал, должна была нынче утром идти машина до станции Коряжек.
Учительница неполной средней школы, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева собиралась в отпуск, в зону черноморских субтропиков. Первоначальное решение отправиться на берега короткой, но полноводной Невы, впадающей в Финский залив Балтийского моря, в город-музей Ленинград, было изменено при мыслях о южном загаре, покрывающем умопомрачительную фигуру, при кардинальной мысли — «не зарывай, Ирина, своих сокровищ».
Вот уже год, как после института копала она яму для своих сокровищ здесь, в глуши районного центра, и Дом культуры посещала только с целью географической, по линии распространения знаний, на танцы же ни-ни, как представитель интеллигенции.
Ах, Ирина Валентиновна глянула в окно: у телеграфного столба на утреннем солнцепеке стоял удивительный семиклассник Боря Курочкин в новом синем костюме, обтягивающем его маленькую атлетическую фигуру, при зеленом галстуке и красном платке в нагрудном кармане; длинные волосы набриолинены на пробор. Он стоял под столбом среди коровьих лепешек, как выходец из иного мира, и возмущал все существо Ирины Валентиновны своим шикарным видом и стеклянным взглядом сосредоточенных на одной идее глаз.
Почти что год назад Ирина Валентиновна, просматривая классный журнал, задала удивительному семиклассинку Боре Курочкину, сыну главного агронома, довольно равнодушный вопрос по программе:
— Ответьте мне, Курочкин, как влияет ил реки Мозамбик на экономическое развитие народов Индонезии? — или еще какой-то вздор.
Ответа не последовало.
— Начертите мне, пожалуйста, профиль Западного Гиндукуша или, ну, скажем. Восточного Карабаха.
Молчание.
Ирина Валентиновна, пораженная, смотрела на его широченные плечи и эту типичную мужскую улыбочку, всегда возмущавшую все ее существо.
— А глаза-то голубые. — пробасил удивительный семиклассник.
— Единица! Садитесь! — Ирина Валентиновна вспыхнула. вскочила, пронесла свои сокровища вон из класса.
— Ребята! — завопил за дверью удивительный семиклассник. — Училка в меня втрескалась!
С тех пор началось: закачались Западные и Восточные Гиндукуши, Восточный Карабах совместно с озером Эри влился в экономическое засилье неоколониалистских элементов всех Гвиан и зоны лесостепей.
Ирина Валентиновна и в институте-то была очень плохо успевающей студенткой, а тут в ее головушке все перепуталось: на все даже самые сложные вопросы удивительный семиклассник Боря Курочкин отвечал «комплиментом».
Ирина Валентиновна, закусив губки, осыпала его единицами и двойками. Положение было почти катастрофическим — во всех четвертях колы и лебеди, с большим трудом удалось Ирине Валентиновне вывести Курочкину годовую пятерку.
В течение всего учебного года удивительный семиклассник возмущал все существо педагога, надумавшего к весне поездку в субтропические зоны.
Пенясь, взбухая пузырями, полетело в чемодан голубое, розовое, черное в сеточку-экзотик, перлончик, нейлончик, жатый конфексион, эластик, галантерея, бижутерия и сверху рельефной картой плоскогорья Гоби легло умопомрачительное декольте-волан для ночных фокстротов; щелкнули замки.
«Очей немые разговоры забыть так скоро, забыть так скоро», — на прощание спела радиоточка.
Ирина Валентиновна выбежала на улицу и зашагала к сельпо. Куры, надоевшие, оскорбляющие вислыми грязными гузками любое душевное движение, идиотски кудахтал, разлетались из-под ее жаждущих субтропического фокстрота ног.
— Одну минуточку, Ирина Валентиновна! — крикнул педагогу удивительный семиклассник Боря Курочкин.
Он преследовал ее по мосткам до самого сельпо на виду у всего райцентра, глядя сбоку кровавым глазом лукавого маленького льва.
У крыльца сельпо стояла уже бортовая машина, груженная бочкотарой. Бочкотара была в печальном состоянии от бесчеловечного обращения, от долголетнего забвения ее запросов и нужд — совсем она затарилась, затюрилась, зацвела желтым цветом, хоть в отставку подавай.
Возле машины, картинно опершись на капот, стоял монументальный Шустиков Глеб, военный моряк. Никаких следов вчерашней беседы с механизаторами на чистом его лице не было, ибо был Глеб по специальности штурмовым десантником и очень хорошо умел защищать свое красивое лицо.
Он смотрел на подходящую, почти бегущую Ирину Валентиновну, смотрел с преогромным удивлением и совершенно не замечал удивительного школьника Борю Курочкина.
— Как будто мы с вами попутчики до Коряжска? — любезно спросил моряк педагога и подхватил чемоданчик.
— Это определенно, — весело, с задорцем ответила Ирина Валентиновна, радуясь такому началу, и уничтожительно взглянула через плечо на удивительного семиклассника.
— А дальше куда следуете, милая девушка?
— Я еду в субтропическую зону Черного моря. А вы?
— Примерно в эту же зону, — сказал моряк, удивляясь гнкой удаче.
— Какая, вы думаете, сейчас погода в субтропиках? — продолжала разговор педагог главным образом для того, чтобы унизить удивительного школьника.
— Думаю, что погода там располагает… к отдыху, — ответил с улыбкой моряк.
Увидев эту улыбку и поняв ее, бубукнул Боря Курочкин детскими губами, фуфукнул детским носом.
— Ну, я пошел, — сказал он.
Он ушел, заметая пыль новомодными клешами, ссутулившись. плюясь во все стороны. Жизнь впервые таким образом хлопнула удивительного семиклассника пыльным мешком по голове.
Моряк подсадил педагога (при подсадке еще разудивился своему везению), махнул и сам через борт. Уютно устроившись на бочкотаре, они продолжали разговор и даже не заметили, как на бочкотару голодной рысью вскарабкался третий пассажир — старик Моченкин дед Иван.
Старик Моченкин по привычке быстро осмотрел бочкотару на предмет колорадского жука, не нашел такового и. пристроившись у кабины, написал в район жалобу на учительницу Селезневу, голыми коленками завлекающую военнослужащих. А чему она научит подрастающее поколение?
На крыльце появилась сладко зевающая Сима.
— Эге, Глеб Иванович, как вы удачно приспособились. — протянула она — Ой, да это вы, Ирина Валентиновна? Извиняйте за неуместный намек, — пропела она с томным коварством и обменялась с моряком понимающими улыбками. — Э, а ты куда собрался, дед Иван?
— Яс твоей бабкой на печи не лежал. — сердито пшикнул старик Моченкин. — Ты лучше письмо это в ящик брось. — И передал буфетчице донос на педагога.
На крыльцо выскочил чумовой Володя Телескопов, рожа вся в яичнице.
— Все в порядке, пьяных нет! — заорал он. — Эй, Серафима, где мой кепи, где лайковые перчатки, где моя книженция, сборник сказок? Дай-ка мне десятку, Серафима, подарок тебе куплю в Коряжске, промтовар тебе куплю, будешь рада.
— Значит, заедешь за сыном лесничего, — сказала Сима, — и сразу в Коряжек. Бочкотару береги, она у нас нервная. Десятки тебе не дам, а на пол-литра сам наберешь. Смотри, на пятнадцать суток не загреми, разлюблю.
И тут она по-женски, никого не стыдясь, поцеловала Телескопова в некрасивые тубы.
Володька сел за руль, дуднул, рванул с места. Бочкотара крякнула, осела, пассажиры повалились на бока.
Через десять минут безумный грузовик на лихом вираже, на одних только правых колесах влетел во двор лесничества.
Вадим Афанасьевич снялся было со своим элегантным чемоданом, скорее даже портпледом, но родственники, дружно рыдая, ловко навьючили на него огромный, тяжеленный рюкзак с вареньем. Халигалия тут чуть не лишилась своего лучшего друга, ибо мешок едва не переломил консультанта пополам.
Вадим Афанасьевич расположился было уже в кабине, как вдруг заметил в кузове на бочкотаре особу противоположного пола. Он предложил ей занять место в кабине, но Ирина Валентиновна наотрез отказалась: ветер дальних дорог совсем ее не страшил, скорее вдохновлял.
Старик Моченкин тоже отверг интеллигентные приставания, он не хотел покидать наблюдательный пост. Вадим Афанасьевич совсем уже растерялся от своего джентльменства и предложил место в кабине Шустикову Глебу как военнослужащему.
— Кончай, кореш. Садись и не вертухайся, — довольно сердито оборвал его Глеб, и Вадим Афанасьевич, покоробленный «корешем», сел в кабину.
И наконец тронулись. Жутко прогрохотали через весь райцентр: мимо агрономского дома, возле которого лицом к стене стояла маленькая фигурка с широкими, трясущимися от рыданий плечами; мимо Дома культуры, с крыльца которого салютовал отъезжающим мужской актив; мимо моченкинского дома, не подозревающего о карающем Алименте; мимо вальяжно-лукавой Симы на пылающем фоне мандариновой настойки; мимо палисадника с георгинами. за которыми любовно хмурил брови на родственный грузовик старший Телескопов, — и вот выехали в поля. До Коряжска было шестьдесят пять километров, то есть часа два езды с учетом местных дорог и без учета странностей Володиного характера.
Странности эти начали проявляться сразу. Сначала Володя оживленно болтал с Вадимом Афанасьевичем, вернее, говорил только сам. поражая интеллигентного собеседника рассказом о своей невероятной жизни…
— …короче забежали с Эдиком в отдел труда и найма а там одна рожа шесть на шесть пуляет нас в обком профсоюза дорожников а вместе с нами был этот сейчас не помню Ованесян-Петросян-Оганесян блондин с которым в нападении «Водника» играли в Красноводске ну кто-то плечом надавил на буфет сопли-вопли я говорит вас в колонию направлю а кому охота хорошо мужик знакомый с земснаряда ты говорит Володя слушай меня и заявление движимый чувством применить свои силы ну конечно газ газ газ а Эдик мы с ним плоты гоняли на Амуре пошли говорит на Комсомольское озеро сами рыли сами и кататься будем с двумя чудаками ялик перевернули а старик говорит я на вас акт составлю или угости Витька Иващенко пришлепал массовик здоровый был мужик на геликоне лабал а я барабан бил похоронная команда в Поти а сейчас второй уж год под планом ходит смурной как кот Егорка и Буркин на огонек младший лейтенант всех переписал чудохам говорит вышлю а нам на кой фиг такая самодеятельность улетели в Кемерово в багажном отделении, а там газ газ газ вы рыбу любите?
…потом вдруг замолчал, помрачнел, угрожающе засопел носом. Вадим Афанасьевич сначала испугался, прижался к стенке, потом понял — человек почему-то страдает.
И в кузове на бочкотаре жизнь складывалась сложно. Бочкотара от невероятной Володиной езды и от ухабов проселочных дорог очень страдала, скрипела, трещала, разъезжалась, раскатывалась на части, теряла свое лицо.
Пассажиры то и дело шлепались с нее на доски, набивали шишки, все шло к членовредительству, но тут моряк Шустиков Глеб нашел выход из положения: перевернув всю бочкотару на попа, он предложил пассажирам занять каждому свою ячейку.
Бочкотара почувствовала себя устойчивей, сгруппировалась. и пассажиры уютно расположились в ее ячейках и продолжали свою жизнь.
Старик Моченкин писал заявление на Симу за затоваривание бочкотары, на Володю Телескопова за связь с Симой, на Вадима Афанасьевича за оптовые перевозки приусадебного варенья, а также продолжал накапливать. материал на Глеба и Ирину Валентиновну.
Раскрасневшаяся, счастливая Ирина Валентиновна что-то все лепетала о субтропиках, придерживала летящие свои умопомрачительные волосы, взглядывала мельком на лаконичное мужественное лицо моряка и внутренне озарялась, а моряк кивал, улыбаясь, «в ее глаза вникая долгим взором».
Внезапно грузовик резко остановился. Бочкотара вскрикнула, в ужасе перемешала свои ячейки, так что Ирина Валентиновна вдруг оказалась рядом со стариком Моченкиным и была им строго ухвачена.
Из кабины вылез мрачней тучи Володя Телескопов.
— Ну-ка, Глеб, слезь на минутку, — сказал он, глядя не на Глеба, а в бескрайние поля.
Моряк, недоумевающе пожав плечами, махнул через борт.
— Пройдем-ка немного, — сказал Телескопов.
Они удалились немного по грунтовой дороге.
— Скажи мне. Глеб, только честно, — Володя весь замялся, затерся, то насупливался, то выпячивал жалкую челюсть, взвизгивал угрожающе. — Только честно, понял? У тебя с Симкой что-нибудь было?
Шустиков Глеб улыбнулся и обнял его дружеской рукой.
— Честно, Володя, ничего не было.
— А глаз на нее положил, ну, ну? — горячился Володя. — Дошло до меня, понял, допер я сейчас за рулем!
— Знаешь песню? — сказал Глеб и тут же спел хорошим, чистым голосом: — «Если узнаю, — что друг влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, такой закон — третий должен уйти…»
— Это честно? — спросил Володя тихо.
— Могу руку сжечь, как Сцевола, — ответил Моряк.
— Да я тебе верю! Поехали! — заорал вдруг Володя и захохотал.
Дальше они ехали спокойно, без всяких треволнений, мимо бледно-зеленых полей, по которым двигались сенокосилки, мимо голубых рощ, мимо деревень с ветряками, с журавлями, с обглоданными церквами, мимо линий высокого напряжения. Пейзаж был усыпляюще ровен, мил. благолепен, словно тихая музыка струилась в воздухе, и идиллически расписывали небо реактивные самолеты.
Вот так они ехали, ехали, а потом заснули.
Первый сон Вадима Афанасьевича
По авеню Флорида-ди-Маэстра разгуливал весьма пристойно большой щенок, ростом с корову. Собаки к добру!
— А, Карабанчель! — на правах старого знакомого приветствовал его Вадим Афанасьевич. — Как поживает ваша матушка?
Матушка Карабанчеля. бессменный фаворит национальных скачек, усатая и цветущая, как медная труба, тетя Густа высунулась с румяными лепешками со второго этажа траттории «Моя Халигалия».
— Синьор Дрожжинин!
Улица покрылась простыми халигалийцами. Многотысячная толпа присела на корточки в тени агавы и кактуса, Вадим Афанасьевич, или почти он, нет-нет, водителя отметаем и старичка отметаем, папа и мама не в счет, лично он влез на пальму и обсудил с простыми халигалийцами насущные вопросы дружбы с зарубежными странами.
Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появилась Хунта. На ногах у нее были туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка. Остальное все свисало, наливалось синим. Дрожали под огромным телом колосса слабые глиняные ножки.
— А я уж думал, наш друг приехал, синьор Сиракузерс, а это всего лишь вы, месье Дрожжинин. Какое приятное разочарование!
Ночь Вадим Афанасьевич провел в болотистой низменности Куккофуэго. Вокруг сновали кровожадные халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце все-таки встало над многострадальной страной.
Вадим Афанасьевич протер глаза. К нему по росе шел Хороший Человек, простой пахарь с циркулем и рейсшиной.,
Первый сон моряка Шустикова Глеба
Боцман Допекайло дунул в серебряную дудку.
— Подъем, манная каша!
Манная каша, гремя сапогами, разобрала оружие.
— Старшина II статьи Шустиков Глеб, с кем вчера познакомились?
— С инженером-химиком, товарищ гвардии боцман.
— Молодец! Награждаетесь сигаретами «Серенада». Кок, пончики для Шустикова!
Прямо с пончиком в зубах в подводное царство. Плывем с аквалангами, вкусные пончики, а рядом Гулямов пускает пузыри — отработка операции «Ландыш». Светлого мая привет! Следующий номер нашей программы — прыжок с парашютом.
Кто это рядом висит на стропах, лыбится, как мамкин блин? А, это Шустиков Глеб, растущий моряк. Как же, как же, видел его в зеркале в кафе «Ландыш». Вот проблема, кем стать: аспирантом или адъюнктом?
А внизу под сапогами оранжерея ботанического сада. Или же разноцветные зонтики? Зонтики раздвигаются, а под ними знакомые девушки: инженер-химик, инструктор роно, почвовед, лингвист, подруги дней его суровых. Мимо, камнем, боцман Допекайло.
— Промахнешься, Шустиков, гальюны тебе чистить!
Ветер 10 баллов, попробуй не промахнуться. Относит, относит!
Бухнулся в стог, поспал минут шестьсот, проснулся, определился по звездам, добрал еще пару часиков, от сна никто не умер. А утром вижу — идет по росе Хороший Человек, несет свои сокровища, весь просвечивает сквозь платье.
Первый сон старика Моченкина
И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндой. Батюшки светы родные, Пресвятая Дева Богородица, как говаривала отсталая матушка под влиянием крепостного ига.
Образована авторитетная комиссия по разбору заявлений нижеследующего вышеизложенного.
Его проводят в предбанник с кислым квасом… Уже в предбаннике!
…вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сала шашнадцать кило, нате урюку шашнадцать кило, сахару для самогонки шашнадцать кило.
Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, власы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор.
В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель из себя солидный, очень знакомый, членистоногий — батюшки светы. Колорадский Жук. По левую, по правую руку жучата малые, высокоактивные.
— Заявления ваши рассмотрены в положительном смысле, — внушительным голосом говорит председатель.
— Разрешите слово в порядке ведения, — пискнул малый жучок.
Душа старика Моченкина похолодела — разоблачат, разоблачат!
— Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия, ведь это же картошка. По всему свету рыщем, найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень.
Принято решение, сами знаете какое.
Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. В окно видал своими глазами — жуки терзали огромный клубень.
Ночь провел на Квасной Путяти в темени и тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал.
А утром вижу, идет по росе осиянной молодой защитник Хороший Алимент.
Первый сон педагога
Ирины Валентиновны Селезневой
Она давно уже подозревала существование не включенной в программу главы Эластик-Мажестик-Семанифик…
Гули-гулюшки-гулю, я тебя люблю… На карнавале под сенью ночи вы мне шептали — люблю вас очень…
Это староста первого потока рыжий Сомов взял ее на буксир как шюхоуспевающую.
Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, у Жуховицкого? Да ой! Нахалы какие, за какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить.
А сверху, сверху летят, как опахала, польские журналы всех стран.
— Встаньте, дети!
Встали маленькие львы с лукавыми глазами.
Ой, вспомнила — это лев Пиросманишвили. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они ей всякого, а оценка — три.
И все ж: гули-гулюшки-гулю-я-тебя-люблю-на-карна-вале-под-сенью-ночи кружились красавцы в полумасках на танцплощадке платформы Гель-Гью. Ирочка, деточка, иди сюда, мячик дам. Бабушка, а зачем тебе такие большие руки? Чтобы обнять тебя. А зачем тебе эта лопата? Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища!
На маленькой опушке.
Среди зеленых скал.
Красивую бабенку
Волчишка повстречал.
Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. Не сбрасывайте сокровищ! Стоп, вы спасены. К вам по росе идет Хороший Человек, и клеши у него мокрые до колен.
Первый сон Володи Телескопова
В медпункте над ним долго мудрили: выливали спец-сознание через резиновый шланг — ох, врачи-паразиты, — промывали бурлящий организм.
Однако полегчало — встал окрыленный.
Директор с печки слез, походил вокруг в мягких валенках, гукнул:
— Дать товарищу Телескопову самый наилучший станок высотой с гору.
— Э, нет. — говорю, — ты мне сначала тарифную сетку скалькулируй.
Директор на колени перед ним.
— Что ты, Володя, да мы в лепешку расшибемся! Мы тебя путевкой награждаем в Цхалтубо.
Здрасьте, вот вам и Цхалтубо. Вся эта Цхалтуба ваша по грудь в снегу.
Трактор идет, Симка позади, очень большая, на санном прицепе.
Володенька. Володенька,
Ходи ко мне зимой.
Люби, пока молоденька.
Хорошенький ты мой.
Понятное дело, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, весь утоп в пуховых подушках, запутался в красном одеяле, рожа вся в кильках маринованных, лапы в ряпушке томатной. Однако не зажимают, наливают дополна.
Утром заявляется Эдюля, Степан и этот, как звать, не помню.
— Айда, Володя, на футбол.
Футбол катился здоровенный, как бы с ВДНХ. Бобан, балерина кривоногая, сколько мы за тебя болели, сколько души вложили, бацнул «сухого листа», да промазал. Иван Сергеич тут же его под конвой взял на пятнадцать суток. Помню, как сейчас, во вторник это было.
А Симка навалилась: Володенька, Володенька, любезный мой, свези бочкотару в Коряжек. Она у меня нервная, капризная, я за нее перед Центросоюзом в ответе.
Ну, везу. Как будто в столб сейчас шарахнусь. Жму на тормоза, кручу баранку. Куда летим, в кювет, что ли? Тяпнулись, потеряли сознание, очнулись. Глядим, а к нам по росе идет Хороший Человек, вроде бы на затылке кепи, вроде бы в лайковой перчатке узкая рука, вроде бы Сережка Есенин.
Удар, по счастью, был несильный. От бочкотары отлетели лишь две-три ее составные части, но и этот небольшой урон причинил ей, такой чувствительной, неслыханные страдания.
Грузовик совершенно целый лежал на боку в кювете.
Моряк и педагог, сидя на стерне, в изумлении смотрели друг на друга, охваченные все нарастающим взаимным чувством.
Старик Моченкин уже бегал по полю, ловил в воздухе заявления, кассации, апелляции.
Вадим Афанасьевич, всегда внутренне готовый к катастрофам, невозмутимо, по правилам англичанства, набивал свою трубочку.
Володя Телескопов еще с полминуты после катастрофы спал на руле, как на мягкой подушке, блаженно улыбался, словно встретил старого друга, потом выскочил из кабины, бросился к бочкотаре. Найдя ее в удовлетворительном состоянии, он просиял и о пассажирах побеспокоился:
— Але, все общество в сборе?
Он обошел всех пассажиров, задавая вопрос:
— Вы лично как себя чувствуете?
Все лично чувствовали себя прекрасно и улыбались Володе ободряюще, только старик Моченкин рявкнул что-то нечленораздельное. В общем-то и он был доволен; бумаги все поймал, пересчитал, подколол.
Тогда, посовещавшись, решили перекусить. Развели на обочине костерок, заварили чай. Вадим Афанасьевич вскрыл банку вишневого варенья.
Володя предоставил в общее пользование свое любимое кушанье — коробку тюльки в собственном соку.
Шустиков Глеб, немного смущаясь, достал мамашины творожники, а Ирина Валентиновна — плавленый сыр «Новость», утеху ее девического одиночества.
Даже старик Моченкин, покопавшись в портфеле, вынул сушку.
Сели вокруг костерка, завязалась беседа.
— Это что, даже не смешно, — сказал Володя Телескопов. — Помню, в Усть-Касимовском карьере генераторный трактор загремел с верхнего профиля. Четыре самосвала в лепешку. Танками растаскивали. А вечером макароны отварили. артельщик к ним биточки сообразил. Фуганули как следует.
— Разумеется, бывают в мире катастрофы и посерьезнее нашей, — подтвердил Вадим Афанасьевич Дрожжинин. — Помню, в 1964 году в Пуэрто, это маленький нефтяной порт в… — Он смущенно хмыкнул и опустил глаза: —…в одной южноамериканской стране, так вот в Пуэрто у причала загорелся панамский танкер. Если бы не находчивость Мигеля Маринадо, сорокатрехлетнего смазчика, дочь которого… впрочем… хм… да… ну, вот так.
— Помню, помню, — покивал ему Володя.
— А вот у нас однажды, — сказал Шустиков Глеб, — лопнул гидравлический котел на камбузе. Казалось бы. пустяк, а звону было на весь гвардейский экипаж. Честное слово, товарищи, думали, началось.
— Халатность еще и не к тому приводит, — проскрипел старик Моченкин, уплетая творожники, тюльку в собственном соку, вишневое варенье, сыр «Новость», хлебая чай, зорко приглядывая за сушкой. — От халатности бывают и пожары, когда полыхают цельные учреждения. В тридцать третьем годе в Коряжске-Втором от халатности инструктора Монаховой, между прочим, моей сестры, сгорел ликбез, МОПР и Осоавиахим, и получился вредительский акт.
— А со мной никогда ничего подобного не было, и это замечательно! — воскликнула Ирина Валентиновна и посмотрела на моряка голубым прожекторным взором.
Ой, Глеб, Глеб, что с тобой делается? Ведь знал же ты раньше, красивый Глеб, и инженера-химика, и технолога Марину, и множество лиц с незаконченным образованием, и что же с тобой получается здесь, среди родных черноземных полей?
Честно говоря, и с Ириной Валентиновной происходило что-то необычное. По сути дела, Шустиков Глеб оказался первым мужчиной, не вызвавшим в ее душе стихийного возмущения и протеста, а, напротив, наполнявшим ее душу какой-то умопомрачительной тангообразной музыкой.
Счастье ее в этот момент было настолько полным, что она даже не понимала, чего ей еще не хватает. Ведь не самолета в небе с прекрасным летчиком за рулем?!
Она посмотрела в глубокое, прекрасное, пронизанное солнцем небо и увидела падающий с высоты самолет. Он падал не камнем, а словно перышко, словно маленький кусочек серебряной фольги, а ближе к земле стал кувыркаться, как гимнаст на турнике.
Тогда и все его увидели.
— Если мне не изменяет зрение, это самолет, — предположил Вадим Афанасьевич.
— Ага, это Ваня Кулаченко падает, — подтвердил Володя.
— Умело борется за жизнь, — одобрительно сказал Глеб.
— А мне за него почему-то страшно, — сказала Ирина Валентиновна.
— Достукался Кулаченко, добезобразничался, — резюмировал старик Моченкин.
Он вспомнил, как третьего дня ходил в окрестностях райцентра, считал копны, чтоб никто не проворовался, а Ванька Кулаченко с бреющего полета фигу ему показал.
Самолет упал на землю, попрыгал немного и затих. Из кабины выскочил Ваня Кулаченко, снял пиджак пилотский. синего шевиота с замечательнейшим золотым шевроном, стал гасить пламя, охватившее было мотор, загасил это пламя и, повернувшись к подбегающим, сказал, сверкнув большим, как желудь, золотым зубом:
— Редкий случай в истории авиации, товарищи!
Он стоял перед ними — внушительный, блондин, совершенно целый-невредимый Ваня Кулаченко, немного гордился, что свойственно людям его профессии.
— Сам не понимаю, товарищи, как произошло падение, — говорил он с многозначительной улыбкой, как будто все-таки что-то понимал. — Я спокойно парил на высоте двух тысяч метров, высматривая объект для распыления химических удобрений, уточняю — суперфосфат, И вот я спокойно парю, как вдруг со мной происходит что-то загадочное, как будто на меня смотрят снизу какие-то большие глаза, как будто какой-то зов, — он быстро взглянул на Ирину Валентиновну. — Как будто крик, извиняюсь, лебедихи. Тут же теряю управление, и вот я среди вас.
— Где начинается авиация, там кончается порядок, — сердито сказал Шустиков Глеб, поиграл для уточнения бицепсами и увел Ирину Валентиновну подальше.
Володя Телескопов тем временем осмотрел самолет, ободрил Ваню Кулаченко:
— Ремонту тут, Иван, на семь рублей с копейками. Еще полетаешь. Ваня, на своей керосинке. Я на такой штуке в Каракумах работал, машина надежная. Иной раз скапотируешь в дюны — пылища!
— Как же, полетаете, гражданин Кулаченко, годков через десять-пятнадцать обязательно полетаете, — зловеще сказал старик Моченкин.
— А вот это уже необоснованный пессимизм! — воскликнул Вадим Афанасьевич и очень смутился.
— Значит, дальше будем действовать так, — сказал на энергичном подходе Шустиков Глеб. — Сначала вынимаем из кювета наш механизм, а потом берем на буксир машину незадачливого, хе-хе, ха-ха, авиатора. Законно, Володя?
— Между прочим, товарищи, я должен всем нам сделать замечание, — вдруг пылко заговорил Вадим Афанасьевич. — Где-то по большому счету мы поступили бесчеловечно по отношению к бочкотаре. Извините, друзья, но мы распивали чаи, наблюдали редкое зрелище падения самолета. а в это время бочкотара лежала всеми забытая, утратившая несколько своих элементов. Я бы хотел, чтобы впредь это не повторялось.
— А вот за это, Вадик, я тебя люблю на всю жизнь! — заорал Володя Телескопов и поцеловал Дрожжинина.
Потрясенный поцелуем, а еще больше «Вадиком», Вадим Афанасьевич зашагал к бочкотаре.
Вскоре они двинулись дальше в том же порядке, но только лишь имея на буксире самолет. Пилот Ваня Кулаченко сидел в кабине самолета, читал одолженный Володей Телескоповым «Сборник гималайских сказок», но не до чтения ему было: золотистые, трепетавшие на ветру волосы педагога Селезневой, давно уже замеченной им в среде районной интеллигенции, не давали ему углубиться в фантастическую поэзию гималайского народа.
Ведь сколько раз, бывало, пролетал Ваня Кулаченко на бреющем полете над домом педагога, сколько раз уж сбрасывал над этим домом букетики полевых и культурных цветов! Не знал Ваня, что букетики эти попадали большей частью на соседний двор, к тете Нюре, которая носила их своей козе.
В сумерках замаячила впереди в багровом закате водонапорная башня Коряжска, приблизились огромные тополя городского парка, где шла предвечерняя грачиная вакханалия.
Казалось бы, их совместному путешествию подходил конец, но нет — при приближении водонапорная башня оказалась куполом полуразрушенного собора, а тополя на поверку вышли дубами. Вот тебе и влопались — где же Коряжек?
Старик Моченкин выглянул из своей ячейки, ахнул, забарабанил вострыми кулачками по кабине:
— Куды завез, ирод? Это же Мышкин! Отсюда до Коряжска сто верст!
Вадим Афанасьевич выглянул из кабины.
— Какой милый патриархальный городок! Почти такой же тихий, как Грандо-Кабальерос.
— Точно, похоже, — подтвердил Володя Телескопов.
По главной улице Мышкина в розовом сумерке бродили, удовлетворенно мыча, коровы, пробегали с хворостинами их бойкие хозяйки. Молодежь сигаретила на ступеньках клуба. Ждали кинопередвижку. Зажглась мышкинская гордость — неоновая надпись «Книжный коллектор».
— Отсюда я Симке письмо пошлю, — сказал Володя Телескопов.
Письмо Володи Телескопова его другу Симе
Здравствуйте, многоуважаемая Серафима Игнатьевна! Пишет вам, возможно, незабытый Телескопов Владимир. На всякий случай сообщаю о прибытии в город Мышкин, где и заночуем. Не грусти и не печаль бровей. Бочкотара в полном порядочке. Мы с Вадиком ее накрыли брезентом, а также его клетчатым одеялом, вот бы нам такое, сейчас она не предъявляет никаких претензий и личных пожеланий.
Насчет меня, Серафима Игнатьевна, не извольте беспокоиться. Во-первых. полностью контролирую свое самочувствие, а во-вторых, мышкинский участковый старший сержант Бородкин Виктор Ильич, знакомый вам до нашей любви, гостит сейчас у братана младшего лейтенанта Бородкина, также вам известного, в Гусятине.
Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.
Кстати, передайте родителям пилота Кулаченка, что он жив-здоров, чего и им желает.
Сима помнишь войдем с тобою в ресторана зал нальем вина в искрящийся бокал нам будет петь о счастье саксофон а если чего узнаю не обижайся.
Дорогой сэр, примите уверения в совершенном к вам почтении.
Бате моему сливочного притарань полкило за наличный расчет.
Целую крепко моя конфетка.
Владимир.
Представьте себе березовую рощу, поднимающуюся на бугор. Представьте ее себе как легкую и сквозную декорацию нехитрой драматургии красивых человеческих страстей. Затем для полного антуража поднимется над бугром и повиснет за березами преувеличенных размеров луна, запоют ночные птицы, свидетели наших тайн, запахнут мятные травы, и Глеб Шустиков, военный моряк, ловким жестом постелет на пригорке свой видавший всякое бушлат, и педагог Селезнева сядет на него в трепетной задумчивости.
Глеб, задыхаясь, повалился рядом, ткнулся носом в мятные травы. Романтика, хитрая лесная ведьма с лисьим пушистым телом, изворотливая, как тать, как росомаха, подстерегающая каждый наш неверный шаг, бацнула Глебу неожиданно под дых, отравила сладким газом, загипнотизировала расширенными лживопечальными глазами.
Спасаясь, Глеб прижался носом к матери-земле.
— Не правда ли, в черноземной полосе, в зоне лесостепей тоже есть своя прелесть? — слабым голосом спросила Ирина Валентиновна. — Вы не находите, Глеб? Глеб? Глебушка?
Романтика, ликуя, кружила в березах, то ли — с балалайкой, то ли с мандолиной.
Глеб подполз к Ирине Валентиновне поближе.
Романтика, ойкнув, бухнулась внезапно в папоротники. заголосила дивертисмент.
А Глеб боролся, страдая, и все его бронированное тело дрожало, как дрожит палуба эсминца на полном ходу.
Романтика, печально воя, уже сидела над ними на суку гигантским глухарем.
— В общем и целом, так, Ирина, — сказал Шустиков Глеб, — честно говоря, я к дружку собирался заехать в Бердянск перед возвращением к месту возвращения службы, но теперь уж мне не до дружка, как ты сама понимаешь.
Они возвращались в Мышкин по заливным лугам. Над ними в ночном ясном небе летали выпи. Позади на безопасном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культ-работника, плелась Романтика, манила аккордеоном.
— Первые свидания, первые лобзания, юность комсомольскую никак не позабыть…
— Отстань! — закричал Глеб. — Поймаю — КИШКИ выпушу! — Романтика тут же остановилась, готовая припустить назад в рощу.
— Оставь ее. Глеб, — мягко сказала Ирина Валентиновна. — Пусть идет. Ее тоже можно понять.
Романтика тут же бодро зашагала, шевеля мехи.
—.. тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои…
А на площади города Мышкин спал в отцепленном самолете пилот-распылитель Ваня Кулаченко.
Сон пилота Кулаченко
Разноцветными тучками кружили над землей нежелательные инсекты.
— Мне сверху видно все, ты так и знай! Сейчас опылю!
В перигее над районом Европы поймал за хвост внушительную стрекозу.
Со всех станций слежения горячий пламенный привет и вопрос:
— Бога видите, товарищ Кулаченко?
— Бога не вижу. Привет борющимся народам Океании!
На всех станциях слежения:
— Ура! Бога нет! Наши прогнозы подтвердились!
— А ангелов видите, товарищ Кулаченко?
— Ангелов как раз вижу.
Навстречу его космическому кораблю важно летел большим лебедем Ангел.
— Чем занимаетесь в обычной жизни, товарищ Кулаченко?
— Распыляю удобрения, суперфосфатом ублажаю матушку-планету.
— Дело хорошее. Это мы поприветствуем. — Ангел поаплодировал мягкими ладошками. — Личные просьбы есть?
— Меня, дяденька Ангел, учительница не любит.
— Знаем, знаем. Этот вопрос мы провентилируем. Войдем с ним к товарищу Шустикову. Пока что заходите на посадку.
Ляпнулся в землю. Гляжу — идет по росе Хороший Человек, то ли учительница, то ли командир отряда Жуков.
Вадим Афанасьевич Дрожжинин тем временем сидел на завалинке мышкинского Дома приезжих, покуривая свою трубочку.
Кстати говоря, история трубочки. Курил ее на Ялтинской конференции лорд Биверлибрамс, личный советник Черчилля по вопросам эксплуатации автомобильных покрышек, а ему она досталась по наследству от его деда — адмирала и меломана Брамса, долгие годы прослужившего хранителем печати при дворе короля Мальдивских островов, а дед, в свою очередь, получил ее от своей бабки, возлюбленной сэра Элзиса Кросби, удачливого капера Ее Величества, друга сэра Френсиса Дрейка, в сундуке которого и была обнаружена трубочка. Таким образом, история трубочки уходила во тьму великобританских веков.
Лорд Биверлибрамс, тоже большой меломан, будучи в Москве, прогорел на нотах и уступил трубку за фантастическую цену нашему композитору Красногорскому-Фишу, а тот, в свою очередь прогорев, сдал ее в одну из московских комиссионок, где ее и приобрел за ту же фантастическую цену нынешний сосед Вадима Афанасьевича, большой любитель конного спорта, активист московского ипподрома Аркадий Помидоров.
Однажды, будучи в отличнейшем настроении, Аркадий Помидоров уступил эту историческую английскую трубку своему соседу, то есть Вадиму Афанасьевичу, но, конечно, по-дружески, за цену чисто символическую, за два рубля восемьдесят копеек.
Итак, Вадим Афанасьевич сидел на завалинке и по поручению Володи сторожил бочкотару, уютно свернувшуюся под его пледом «мохер».
Ему нравился этот тихий Мышкин, так похожий на Грандо-Кабальерос. Да и вообще ему нравилось сидеть на завалинке и сторожить бочкотару, ставшую ему родной и близкой.
Да, если бы не проклятая Хунта, давно бы уже Вадим Афанасьевич съездил в Халигалию за невестой, за смуглянкой Марией Рохо или за прекрасной Сильвией Честертон (английская кровь!), давно бы уже построил кооперативную квартиру в Хорошево-Мневниках, благо за годы умеренной жизни скоплена была достаточная сумма, но…
Вот таким тихим, отвлеченным мыслям предавался Вадим Афанасьевич в ожидании Телескопова, иногда вставая и поправляя плед на бочкотаре.
Вдруг в конце улицы за собором послышался голос Телескопова. Тот шел к Дому приезжих, горланя песню, и песня эта бросила в дрожь Вадима Афанасьевича.
Йе-йе-йе. хали-гали!
Йе-йе-йе, самогон!
Йе-йе-йе, сами гнали!
Йе-йе-йе, сами пьем!
А кому какое дело.
Где мы дрожжи достаем… —
распевал Володя никому, кроме Вадима Афанасьевича, не известную халигалийскую песню. Что за чудо? Что за бред? Уж не слуховые ли галлюцинации?
Володя шел по улице, загребая ногами пыль.
— Привет, Вадька! — заорал он, подходя. — Ну и гада эта тетка Настя! Не поверишь, по двугривенному за стакан лупит. Да я, когда в Ялте на консервном заводе работал, за двугривенный в колхозе «Первомай» литр вина имел, а вино, между прочим, шампанских сортов, накапаешь туда одеколону цветочного полсклянки и ходишь весь вечер косой.
— Присядьте, Володя, мне надо с вами поговорить, — попросил Вадим Афанасьевич.
— В общем, если хочешь, пей, Вадим, — сказал Телескопов, присаживаясь и протягивая бутыль.
— Конечно, конечно, — пробормотал Дрожжинин и стал с усилием глотать пахучий, сифонный, сифонно-водородный, сифонно-винегретно-котлетно-хлебный, культурный, освежающе-одуряющий напиток.
— Отлично, Вадим, — похвалил Телескопов. — Вот с тобой я бы пошел в разведку.
— Скажите, Володя, — тихо спросил Вадим Афанасьевич. — Откуда вы знаете халигалийскую народную песню?
— А я там был, — ответил Володя. — Посещал эту Халигалию-Малигалию.
— Простите, Володя, но сказанное вами сейчас ставит для меня под сомнение все сказанное вами ранее. Мы, кажется, успели уже с вами друг друга узнать и внушить друг другу уважение на известной вам почве, но почему вы полученные косвенным путем сведения превращаете в насмешку надо мной? Я знаю всех советских людей, побывавших в Халигалии, их не так уж много, больше того, я знаю вообще всех людей, бывших в этой стране, и со всеми этими людьми нахожусь в переписке. Вы, именно вы, там не были.
— А хочешь залежимся? — спросил Володя.
— То есть как? — оторопел Дрожжинин.
— Пари на бутылку «Горного дубняка» хочешь? Короче, Вадик, был я там. и все тут. В шестьдесят четвертом году совершенно случайно оформился плотником на теплоход «Баскунчак», а его в Халигалию погнали, понял?
— Это было единственное европейское судно, посетившее Халигалию за последние сорок лет, — прошептал Вадим Афанасьевич.
— Точно, — подтвердил Володя. — Мы им помощь везли по случаю землетрясения.
— Правильно, — еле слышно прошептал Вадим Афаасьевич, его начинало колотить неслыханное возбуждение. — А не помните ли, что конкретно вы везли?
— Да там много чего было — медикамент, бинты, детские игрушки, сгущенки хоть залейся, всякого добра впрок на три землетрясения и четыре картины художника Каленкина для больниц.
Вадим Афанасьевич с удивительной яркостью вспомнил счастливые минуты погрузки этих огромных, добротно сколоченных картин, вспомнил массовое ликование на причале по мере исчезновения этих картин в трюмах «Баскунчака».
— Но позвольте, Володя! — воскликнул он. — Ведь я же знаю весь экипаж «Баскунчака». Я был на его борту уже на второй день после прихода из Халигалии. А вас.
— А меня, Вадик, в первый день списали, — доверительно пояснил Телескопов. — Как ошвартовались, так сразу Помпезов Евгений Сергеевич выдал мне талоны на сертификаты. Иди, говорит Телескопов, отоваривайся, и чтоб ноги твоей больше в нашем пароходстве не было, божий плотник. А в чем дело, дорогой друг? С контактами я там кой-чего напутал.
— Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подробности. Мне крайне важно!
— Да ничего особенного, — махнул рукой Володя. — Стою я раз в Пуэрто, очень скучаю. Кока-колой надулся, как пузырь, а удовлетворения нет. Смотрю, симпатичный гражданин идет, познакомились — Мигель Маринадо. Потом еще один работяга появляется Хосе-Луис…
— Велосипедчик? — задохнулся Дрожжинин.
— Он. Завязали дружбу на троих, потом повторили. Пошли к Мигелю в гости, и сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня, как будто я павлин кавказский из Мурманского зоопарка, у которого в прошлом году Гришка Офштейн перо вырвал.
— Кто же там был из девушек? — трепетал Вадим Афанасьевич.
— Сонька Масинадова была, дочка Мигеля, но я ее пальцем не тронул, это, Вадик, честно, затем, значит, Маришка Рохо и Сильвия, фамилии не помню, ну а потом Хосе-Луис на велосипеде за своей невестой съездил, за Роситой. Вернулся с преогромным фингалом на ряшке. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят, юбки коротки, я же не железный, верно? Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать, я ее от Симки у пахана прячу.
— Вы переписывались? — спросил Дрожжинин.
— Да и сейчас переписываемся, только Симка ее письма рвет, ревнует. А ревность унижает человека, дорогая Симочка, это еще Вильям Шекспир железно уточнил, а человек, Серафима Игнатьевна, он хозяин своего «я». И я вас уверяю, дорогой работник прилавка, что у нас с Сильвией почти что и не было ничего платонического, а если и бывало, то только когда теряли контроль над собой. Я, может, больше любил, Симочка, по авенидам ихним гулять с этой девочкой и с собачонкой Карабанчелем. Зверье такого типа я люблю как братьев наших меньших, а также, Серафима, любите птиц — источник знаний!
С этими словами Володя Телескопов совсем уже отключился, бухнулся на завалинку и захрапел.
Тренированный по джентльменской методе Вадим Афанасьевич без особого труда перенес легкое тело своего друга (да, друга, теперь уже окончательного друга) в Дом приезжих и долго сидел на койке у него в ногах, шевелил губами, думал коварной Сильвии Честертон, ничего не сообщившей ему о своем романе с Телескоповым, а сообщавшей только лишь о всяких девических пустяках. Думал он также вообще о странном прелестном характере халигалийских ветрениц, о периодических землетрясениях. раскачивающих сонные халигалийские города, как бы и танце фанданго.
Второй сон Володи Телескопова
У Серафимы Игнатьевны сегодня день рождения, а у нас фонарь под глазом. Начал рыться в карманах, вытащил талоны на бензин, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, красивую птицу — источник знаний, восемь копеек денег.
Начал трясти костюм, полупальто — вытряслось тарифной сетки метра три, в ней премиальная рыба — трес-ки-чего-тебе-надобно-старче, возвратной посуды бутылками на шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!), сборник песен «Едем мы. друзья, в дальние края», наряд на бочкотару, расческа, пепельница. Наконец, обнаружилось искомое — вытащил из-под подкладки завалящую маленькую ложь.
— А это у меня еще с Даугавпилса. Об бухту троса зацепился и на ящик глазом упал.
Верхом на белых коровах проехали приглашенные — все шишки райпотребкооперации.
А Симка стоит в красном бархатном платье, смеется, доменная печь имени Кузбасса.
А его, конечно, не пускают. Выбросил за ненадобностью свою паршивенькую ложь.
— У других и ложь-то как ложь, а у тебя и ложь-то как вошь.
Но ложь отнюдь не как вошь, а скорее лягушкой весело шлепала к луже, хватая на скаку комариков.
— Ворюги, позорники, сейчас я вас всех понесу!
Как раз меня и вынесли, а мимо дружина шла.
— Доставьте молодчика обратно в универмаг ДЛТ или в огороде под капусту бросьте.
Одного меня в универмаг повезла боевая дружина, а другого меня под капусту бросила.
Посмотрел из-за кочана — идет, вдет по росе Хороший Человек, вроде бы кабальеро, вроде бы Вадик Дрожжинин.
— Але, Хороший Человек, пойдем Серафиму спасать, баланс подбивать, ой, честно, боюсь проворуется!
Второй сон Вадима Афанасьевича
Гаснут дальней Альпухары золотистые края, а я ползу по черепичным крышам Халигалии. Вон впереди дом, похожий на утес, ущербленный и узкий. Он весь залит лунным светом, а наверху балкон, ниша в густой тени.
Выгнув спину, лунным леопардом иду по коньку крыши. Перед решающим броском ощупываю рубашку, брюки — все ли на месте? Ура, все на месте!
Перепрыгиваю через улицу, взлетаю вверх по брандмауэру, и вот я на балконе, в нише, а потом в будуаре, а в будуаре — альков, а в алькове кровать XVI века, а на кровати раскинула юное тело Сильвия Честертон, потомок испанских конкистадоров и каперов Ее Величества. Прыгнул на кровать, завязалась борьба, сверкнул выхваченный из-под подушки кинжал, ищу губы Сильвии.
СИЛЬВИЯ. Вадим!
ОН. Это я, любимая!
Кинжал летит на ковер. Дышала ночь восторгом сладострастья…
— Любимый, куда ты?
— Теперь я к Марии Рохо. Ночь-то одна…
У него ноги были подбиты железом, а пиджак из листовой стали. Тедди-бойз, конечно, разбежались, потрясая длинными патлами, как козы.
Мария Рохо вздрогнула, как лань, когда он вошел.
— Вадим!
Хороши весной в саду цветочки… Это еще что, это откуда?
Иду дальше по лунным площадям, по голубым торцам, и где-то пытается наложить на себя руки посрамленный соперник Диего Моментальный. Скрипят рамы, повсюду открываются окна, повсюду они — прекрасные женщины Халигалии.
— Вадим!
— Спокойно, красавицы…
Вихрем в окно и из дымовой трубы, опять в окно, опять из трубы… Габриэла Санчес. Росита Кублицки, тетя Густа, Конкордия Моро, Стефания Сандрелли… Клятвы, мечты, шепот, робкое дыхание… Безумная мысль: а разве Хунта не женщина? Проснулся опять в Кункофуэго в полной тоске… Как связать свою жизнь с любимыми? Ведь не развратник же, не ветреник.
В дымных лучах солнца по росе подходил Хороший Человек.
— Я тебе, Вадик, устроил свидание с подшефной бочкотарой.
Старик Моченкин дед Иван в этот вечер в Мышкине очень сильно гордился перед кумой своей Настасьей: во-первых, съел яичницу из десяти яиц; во-вторых, выпил браги чуть не четверть; в-третьих, конечно, включил радиоточку, прослушал, важно кивая, передачу про огнеупорную глину, а также концерт «Мадемуазель Нитуш».
Кума Настасья все это время стояла у печи, руки под фартуком, благоговейно смотрела на старика Моченкина, лишь изредка с поклонами, с извинениями удалялась, когда молодежь под окнами гремела двугривенными. Уважение к старику Моченкину она питала традиционное, давнее, начавшееся еще в старые годы с баловства. Честно говоря. старик Моченкин был даже рад, что попал в город Мышкин, да вот жаль только, что неожиданно. Кабы раньше он знал, так теперь на столе бы уж ждал корифей всех времен и народов — пирог со щукой. Всегда в былые годы запекала кума Настасья к его приезду цельную щуку в тесто. Очень великолепный получался пирог — сверху корочка румяная, а внутри пропеченная гада, империалистический хищник.
— Плесни-ка мне, кума, еще браги, — приказал старик Моченкин.
— Извольте, Иван Александрович.
— Вот здесь, кума, — старик Моченкин хлопнул ладонью по своему портфелю ложного крокодила, — вот здесь все они у мене — и немые, и говорящие.
— Сыночки ваши, Иван Александрович?
— Не только… — Старик Моченкин строго погрозил куме пальцем. — Отнюдь не только сыночки. Усе! — вдруг заорал он. встал и, качаясь, направился к кровати. — Усе! Опче! Ума! — еще раз погрозил кому-то, в кого-то потыкал длинным пальцем и залег.
Второй сон старика Моченкина
И вот увидел он — вся большая наша страна решила построить ему пальто.
Сказано — сделано: вырыли котлован, работа закипела. Пальтомоченкинстрой!
Заложено было пальтецо, как линейный крейсер, синего драпа, бортовка конским волосом, груди проектируются агромаднейшие, как у Фефелова Андрона Лукича, нате вам!
Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру бу-лютень (у кого?), беру булютень у товарища Телескопова. нашего водителя, ввожу в себе крем-бруле, стюдень, лапшу утячаю, яичнаю болтанку — ноль-ноль процента результата, привес отсутствует, хоть вой! Шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями, а кому писать, кому челом бить? Стучи, стучи — не достучишься. Пальто высилось над полями и рощами, как элеватор, воротник мелкими кольцами в облаках, и вот иду на примерку.
А посередь поля — баран неохолощенный, огромный, товарный, товарный. А вы идите, господин-товарищ, как бы стороной, как бы между прочим.
Так и иду, баран только землю роет, спасибо, люди добрые. Вот пальто, а в пальте дверь, а в дверях Фефелов Андров Лукич.
— Вам куда, гражданин хороший?
— А на примерку, Андрон Лукич.
— Хоть я и Лукич, а ты мене не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уже краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Етта баран товарный, мутон натуральный, етта диаграмма качественная с абциссом и ординатам, а етта старичок маринованный в банке, ни богу свечки, ни черту кочерга — узнаете?
С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана, плюхнулся в траву.
— Иде ж ты, иде ж ты, заступница моя родная? Иде ж ты. Юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная?
Шевелились травы росные, скрып был большой, как будто под тяжелыми шагами.
Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой
Ирина Валентиновна в эту ночь снов не видела.
Второй сон Шустикова Глеба
Шустиков Глеб в эту ночь снов не видел.
Вскоре над городом Мышкиным взошло радостное солнце, и все наши путешественники проснулись счастливыми. Володя Телескопов включил мотор, поднял крышку капота и стал на работающий мотор смотреть. Он очень любил смотреть на работающие механизмы. Иногда остановится где-нибудь и смотрит на работающий механизм, смотрит на него несколько минут, все в нем понимает, улыбается тихо, без всякого шухера, и отходит счастливый, будто помылся теплой и чистой водой.
Вадим Афанасьевич тем временем бочкотару ублажал мылом и мочалкой, задавал ей утренний туалет, тер до блеска ее коричневые бока, а она нежилась и кряхтела под солнечными лучами и мыльной водой, давно ей уже не было так хорошо, и Вадиму Афанасьевичу давно так хорошо не было. Ему всегда было, в общем-то, неплохо, всегда было организованно и розно, но так хорошо, как сейчас, ему не было, пожалуй, с детства.
Вернулся от кумы старик Моченкин, стоял в стороне хмурый, строго наблюдал. Трудно сказать, почему он не отправился в Коряжек рейсовым автобусом. Может быть, из соображений экономии, ведь он решил заплатить Телескопову за все художества не больше пятнадцати копеек, а может быть, и он, так же как другие пассажиры, чувствовал уже какую-то внутреннюю связь с этой полуторкой, с чумазым баламутом Телескоповым, с распроклятой бочкотарой, такой нервной и нежной.
Ирина Валентиновна тем временем сервировала в палисаднике завтрак, яйца и картошку, а верный ее друг Шустиков Глеб резал огурцы.
— Прошу к столу, товарищи! — пригласила счастливым голосом Ирина Валентиновна, и все сели завтракать, не исключая, разумеется, и старика Моченкина, который хоть и подзаправился у кумы, но упустить лишний случай пожировать на дармовщинку, конечно же, не мог. Сушку свою он опять вынул и положил на стол ближе к локтю.
Путешественники уже кончили завтрак, когда с улицы из-за штакетника прилетел милый голосок:
— Приятного вам аппетита, граждане хорошие!
За забором стояла миловидная старушка в плюшевом аккуратном жакете, с сундучком, узелком и сачком, какими дети ловят бабочек.
— Здравствуйте. — сказала она и низко поклонилась. — Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжек транспортируете?
— Мы, бабка! — гаркнул Володя. — А тебе чего до нашей бочкотары?
— А я к вам в попутчицы прошусь, милок. Кто у вас старшой в команде?
Путешественники весело переглянулись: они и не знали. что они «команда».
Старик Моченкин крякнул было, стряхнул крошки с нестрядинового пиджака, приосанился, но Шустиков Глеб, подмигнув своей подруге, сказал:
— У нас, мамаша, начальства тут нет. Мы, мамаша, просто люди разных взглядов и разных профессий, добровольно объединились на почве любви и уважения к нашей бочкотаре. А вы куда следуете, пожилая любезная мамаша?
— В командировку, сыночек, еду в город Хвеодосию. Институт меня направляет в крымскую степь для отлова фотоплексируса.
— Это жука, что ль, рогатого, бабка? — крикнул Володя.
— Его, сынок. Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус, вот меня и направляют.
Оказалось, что Степанида Ефимовна (так звали старушку) вот уже пять лет является лаборантом одного московского научного института и получает от института ежемесячную зарплату сорок целковых плюс премиальные.
— Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких, а особливо уважают тутового шелкопряда. — напевно рассказывала она. — Очень они мною довольные и потому посылают в крымскую степь для отлова фотоплексируса, жука рогатого, неуловимого, а науке нужного.
— Ты только подумай, Глеб, — сказала Ирина Валентиновна. — Такая обыкновенная, скромная бабушка, а служит науке! Давай и мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим ей себя до конца, без остатка…
Ирина Валентиновна сдержанно запылала, чуть-чуть задрожала от вдохновения, и Глеб обнял ее за плечи.
— Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь.
— Все-таки это странно, Володя, — зашептал Вадим Афанасьевич Телескопову. — Вы заметили, что они уже перешли на «ты»? Поистине, темпы космические. И потом эта старушка… Неужели она действительно будет ловить фотоплексируса? Как странен мир…
— А ничего странного, Вадим, — сказал Володя. — Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука поймает, будь спок. У меня глаз наметанный, изловит бабка фотоплексируса.
Старик Моченкин молчал, потрясенный и уязвленный рассказом Степаниды Ефимовны. Как же это так получается, други-товарищи? О нем, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте, а бабка Степанида, которой только лебеду полоть, пожалуйте — лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру, материально не заинтересовывают, ^шат инициативу. Допляшутся губители народной копейки!
— Залезайте, ребята, поехали! — закричал Володя. — Залезай и ты, бабка, — сказал он Степаниде Ефимовне. — да будь поосторожней с натйей бочкотарой.
— Ай, батеньки, а бочкотара-то у вас какая вальяжная, симпатичная да благолепная, — запела Степанида Ефимовна, — ну чисто купчиха какая, чисто лосиха сытая, а весела-а-я-то, тятеньки…
Все тут же полюбили старушку-лаборанта за ее такое отношение к бочкотаре, даже старик Моченкин неожиданно для себя смягчился.
Залезли все в свои ячейки, тронулись, поплыли по горбатым улицам города Мышкин.
— Сейчас на площадь заедем, Ваньку Кулаченко подцепим, — сказал Володя.
Но ни Вани Кулаченко, ни аэроплана на площади не оказалось. Уже парил пилот Кулаченко в голубом небе, уже парил на своей надежной машине с солнечными бликами на несущих плоскостях. Выходит, починил уже Ваня свою верную машину и снова полетел на ней удобрять матушку-планету.
Уже на выезде из города путешественники увидели пикирующий прямо на них биплан. Точно сманеврировал на гот раз пилот Кулаченко и точно бросил прямо в ячейку Ирины Валентиновны букет небесных одуванчиков.
— Выбрось немедленно! — приказал ей Шустиков Глеб и поднял к небу глаза, похожие на спаренную зенитную установку.
•Эх, — подумал он, — жаль, не поговорил я с этим летуном на отвлеченные литературные темы!»
К тому же заметил Глеб, что вроде колбасится за ними по дороге распроклятая Романтика, а может, это была просто пыль. Очень он заволновался вдруг за свою любовь, тряхнул внутренним железом, сгруппировался.
— Выбросила или нет?
— Да ой, Глеб! — досадливо воскликнула Ирина Валентиновна. — Давно уже выбросила.
На самом деле она спрятала один небесный одуванчик в укромном месте да еще и посылала украдкой взоры вслед улетевшему, превратившемуся в точку самолету, вдохновляла его мотор. Какая женщина не оставит у себя памяти о таком волнующем эпизоде в ее жизни?
Итак, они снова поехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя Телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках с ходу, особенно не задумываясь о правильности направления, сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок «Кепстен», крутил цигарки, рассказывал другу-попутчику байки из своей увлекательной жизни.
— В то лето Вадюха я ассистентом работал в кинокартине Вечно пылающий юго-запад законная кинокартина из заграничной жизни приехали озеро голубое горы белые мама родная завод стоит шампанское качает на экспорт аппетитный запах все бухие посудницы в столовке не поверишь поют рвань всякая шампанским полуфабрикатом прохлаждается взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита ментели головные уборы отвалили по-французски разговариваем гули-мули и утром в среду значит Бушканец Нина Николаевна турнула меня из экспедиции Вовика товарищеский суд оправдал а я дегустатором на завод устроился они же ко мне и ходили бобики а я в художественной самодеятельности дух бродяжный ты все реже реже рванул главбух плакал честно устал я там Вадик.
Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, посасывал свою трубочку, в элегическом настроении поглядывал на поля, на рощи, дослушивал скрип любезной своей бочкотары и даже слова не сказал своему другу, когда заметил, что проскочили они поворот на Коряжек.
Старик Моченкин тожжа самое — разнежился, накапливая аргументацию, ослаб в своей ячейке, вкушая ноздрями милый сердцу слабый запах огуречного рассола пополам с пивом, и лишь иногда, спохватываясь, злил себя, — а вот приду в обл собес, как хва-ачу, да как, — но тут же опять расслаблялся.
Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала под розовым флажком своего сачка, дремала мирно, уютно, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивала голубые глазки: «Окстись, окстись, проклятущий!» — мелко крестилась и дрожала.
— Ты чего, мамаша, паникуешь? — сердито прикрикнул на нее разок Шустиков Глеб.
— Игреца увидела, милок. Игрец привиделся, извините, — смутилась Степанида Ефимовна и затихла, как мышка.
Так они и ехали в ячейках бочкотары, каждый в своей.
Однажды на косогоре у обочины дороги путешественники увидели старичка с поднятым пальцем. Палец был огромен, извилист и коряв, как сучок. Володя притормозил, посмотрел на старичка из кабины.
Старичок слабо стонал.
— Ты чего, дедуля, стенаешь? — спросил Володя.
— Да вишь, как палец-то раздуло. — ответил старичок. — Десять ден назад собираю я. добрые люди, груздя в бору, и подвернись тут гад темно-зеленый. Еттот гад мене и палец и клюнул, зашипел и ушел. Десять ден не сплю…
— Ну. дед. поел ты груздей! — вдруг дико захохотал Володя Телескопов, как будто ничего смешнее этой истории в жизни не слыхал. — Порубал ты. дедуля, груздей! Вкусные грузди-то были или не очень? Ну, братцы, умора — дед груздей захотел!
— Что это с вами. Володя? — сухо спросил Вадим Афанасьевич. — Что это вы так развеселились? Не ожидал я от нас такого.
Володя поперхнулся смехом и покраснел.
— В самом деле, чего это я ржу, как шпак? Извините, дедушка, мой глупый смех, вам лечиться надо, починять наш пальчик. Пол-литра водки вам надо выпить, папаша, или грамм семьсот.
— Ничего, терпение еще есть, — простонал старичок.
— А ты, мил человек, кирпича возьми толченого, — запела Степанида Ефимовна, — узвару пшеничного, лебеды да табаку. Пятак возьми медный да все прокипяти. Покажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий раз зарегочет, так пальчик свой и с пущай…
— Ничего, терпение еще есть, — стонал старичок.
— Какие предрассудки, Степанида Ефимовна, а еще научный лаборант! — язвительно прошипел старик Моченкин. — Ты вот что, земляк, веди свою рану на ВТЭК, получишь первую группу инвалидности, сразу тебе полегчает.
— Ничего, терпение есть, — тянул свое старичок. — Еще есть терпенье, люди добрые.
— А по-моему, лучшее средство — свиной жир! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Туземцы Килиманджаро, когда их кусает ядовитый питон, всегда закалывают жирную свинью, — блеснула она своими познаниями.
— Ничего, ничего, еще покуда терпенье не лопнуло, — заголосил вдруг старичок на высокой ноте.
— Ампутировать надо пальчик, ой-ей-ей, — участливо посоветовал Шустиков Глеб. — Человек пожилой и без пальца как-нибудь дотянет.
— А вот это мысля хорошая, — вдруг совершенно четко сказал старичок и быстро посмотрел на свой ужасный палец, как на совершенно постороннего человека.
— Да что вы, товарищи! — выскочил вдруг на первый план Вадим Афанасьевич. — Что за нелепые Советы? В ближайшей амбулатории сделают товарищу продольный разрез и антибиотики, антибиотики!
— Правильно! — заорал Володя. — Спасать надо этот палец! Так пальцами бросаться будем — пробросаемся! Полезай-ка, дед, в бочкотару!
— Да. ничего, ничего, терпение-то у меня еще есть, — снова заканючил укушенный гадом дед, но все туг возмущенно загалдели, а Шустиков Глеб, еще секунду назад предлагавший свое боевое решение, спрыгнул на землю, поднял легонько странника и посадил его в свободную ячейку, показав тем самым, что на ампутации не настаивает.
— Опять, значит, крюк дадим, — притворно возмутился старик Моченкин.
— Какие уж тут крюки, Иван Александрович! — махнул рукой Вадим Афанасьевич, и с этими его словами Володя Телескопов ударил по газам, врубил третью скорость и полез на косогор, а потом запылил по боковушке к беленьким домикам зерносовхоза.
— Я извиняюсь, земляк, — полюбопытствовал старик Моченкин, косым глазом ощупывая стонущего ровесника, — вы, можно сказать, просто так прогуливались с вашим пальцем или куда-нибудь конкретно следовали?
— К сестрице я шел, граждане хорошие, в город Туапсе, — простонал старичок.
— Куда? — изумился Шустиков Глеб, сразу вспомнив столь далекий отсюда пахучий южный порт, черную ночь и светящиеся острова танкеров на внешнем рейде.
— В Туапсе я иду, умный мальчик, к своей единственной сестрице. Проститься хочу с ней перед смертью.
— Вот характер, Ирина, обрати внимание. Ведь это же Сцевола, — обратился Глеб к своей подруге.
— Скажи. Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? — спросила Ирина.
Потрясенный этим вопросом. Глеб закашлялся.
А старичок Моченкин тем временем уже вострил свой карандаш в областные инстанции.
Проект старика Моченкина по ликвидации
темно-зеленой змеи
Уже много лет районные организации развертывают успешную борьбу по ликвидации темно-зеленого уродливого явления, свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах.
Однако наряду с достигнутым успехом многие товарищи совсем не цукаются окромя пустых слов. Стендов нигде нету.
Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию против пресмыкающихся животных, кусающих нам пальцы, вооружить население литературой по данному вопросу и паче чаянья учредить районного инспектора по змее с окладом 18 рублей 75 коп. и с выдачей молока.
В просьбе прошу не отказать,
Моченкин И. А.,
бывший инспектор по колорадскому жуку.
Пока свободный.
Вот так они и ехали. Телескопов с Дрожжининым в кабине. а все остальные в ячейках бочкотары, каждый в своей.
Однажды они приехали в зерносовхоз и там сдали терпеливого старичка в амбулаторию.
В амбулатории старичок расшумелся, требовал ампутации, но его накачали антибиотиками, и вскоре палец выздоровел. Конечно же, на шум сбежался весь зерносовхоз и в
числе прочих «единственная сестрица», которая вовсе не в Туапсе проживала, а именно в этом зерносовхозе, откуда и сам старичок был родом. Что-то тут напутал терпеливый старичок. Должно быть, от боли.
Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня, под звездами, как на закруглении Земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом. Стрекотали ночные кузнецы.
— Стрекочут, родные, — ласково пропела Степанида Ефимовна. — Стрекочьте, стрекочьте, по кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Теперича мне бы по батюшке фотоплексирусу дать показатель, вот была бы я баба довольная.
Личико ее пошло лучиками, голубенькие глазки залукавились, ручка мелко-мелко — ох, грехи наши тяжкие — перекрестила зевающий ротик, и старушка заснула.
— Сейчас опять игреца увидит мамаша, — предположил Глеб.
— Ай! Ай! Ай! — во сне прокричала старушка. — Окстись, проклятущий, окстись!
— Хотелось бы мне увидеть этого ее игреца, — сказал Вадим Афанасьевич. — Интересно, каков он. этот так называемый игрец?
— Он очень приятный, — сказала Степанида Ефимовна, сразу же проснувшись. — Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, оченно интересный.
— Так почему же вы его, бабушка, боитесь? — наивно удивилась Ирина Валентиновна.
— Да как же его не бояться, матушка моя, голубушка-красавица, — ахнула старушка. — А ну как щекотать начнет, да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет! Ой, лихой он, этот игрец, нехороший…
— Перестраиваться вам надо, мамаша, — строго сказал Шустиков Глеб. — Перестраиваться самым решительным образом.
— В самом деле, бабка, — сказал Телескопов, — загадай себе и увидишь, как хороший человек…
— …идет по росе, — сказали вдруг все хором и вздрогнули, смущенно переглянулись.
— Лыцарь? — всплеснула руками догадливая старушка.
— Да нет, просто друг, готовый прийти на помощь, — сказал Вадим Афанасьевич. — Ну, скажем, простой пахарь с циркулем…
— Во-во, — кивнул Володька, — такой кореш в лайковых перчатках…
— Юридический, полномочный, — жалобно затянул старик Моченкин.
— Уполномоченный? — ахнула старушка. — Окстись, окстись! Мой игрец тоже уполномоченный.
— Да нет, мамаша, какая вы непонятливая, — досадливо сказал Глеб, — просто красивый лицом и одеждой и внутренне собранный, которому до феньки все турусы на колесах…
— И мужественный! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Героичный, как Сцевола…
— Поняла, голубчики, поняла! — залучилась, залукавилась Степанида Ефимовна. — Блаженный человек идет по росе, ай как хорошо!
Тут же она и заснула с открытым ртом.
— Запрограммировала мамаша, — захохотал было Шустиков Глеб, но смущенно осекся.
И все были сильно смущены, не глядели друг на друга, ибо раскрылась общая тайна их сновидений.
Блики костра трепетали на их смущенных лицах, принужденное молчание затягивалось, сгущалось, как головная боль, но тут нежно скрипнула во сне укутанная платками и одеялами бочкотара, и все сразу же забыли свой конфуз, успокоились.
Шустиков Глеб предложил Ирине Валентиновне «побродить, помять в степях багряных лебеды», и они церемонно удалились.
Огромные сполохи освещали на мгновение бескрайнюю холмистую равнину и удаляющиеся фигуры моряка и педагога, и старик Моченкин вдруг подумал: «Красивая любовь украшает нашу жись передовой молодежью», — подумал. и ужаснулся, и для душевного своего спокойствия сделал очередную пометку о низком аморальном уровне.
Вадим Афанасьевич и Володька лежали рядом на спинах, покуривали, пускали дым в звездное небо.
— Какие мы маленькие, Вадик, — вдруг сказал Телескопов, — и кому мы нужны в этой Вселенной, а? Ведь в ней же все сдвигается, грохочет, варится, вся она химией своей занята, а мы ей до феньки.
— Идея космического одиночества? Этим занято много умов, — проговорил Вадим Афанасьевич и вспомнил своего соперника-викария, знаменитого кузнечника из Гельвеции.
— А чего она варит, чего сдвигает, и что же будет в конце концов, да и что такое «в конце концов»? Честно, Вадик, мандраж меня пробирает, когда думаю об этом «в конце концов», страшно за себя, выть хочется от непонятного, страшно за всех, у кого руки-ноги и черепушка на плечах. Сквозануть куда-то хочется со всеми концами, зашабашить сразу, без дураков. Ведь не было же меня и не будет, и зачем я взялся?
— Человек остается жить в своих делах, — глухо проговорил Вадим Афанасьевич в пику викарию.
— И дед Моченкин, и бабка Степанида, и я, богодул несчастный? В каких же это делах останемся мы жить? — продолжал Володя. — Вот раньше несознательные массы знали: бог, рай, ад, черт — и жили под этим знаком. Так ведь этого же нету, на любой лекции тебе скажут. Верно? Выходит, я весь ухожу, растворяюсь к нулю, а сейчас остаюсь без всяких подробностей, просто как ожидающий, так? Или нет? Был у нас в Усть-Касимовском карьере Юрка Звонков. Одно только знал — трешку стрельнуть до аванса, а замотает, так ходит именинником, да к девкам в общежитие залезть, били его бабы каждый вечер, ой, смех. Однажды стрела на Юрку упала, повезли мы его на кладбище, я в медные тарелки бил. Обернусь, лежит Юрка, важный, строгий, как будто что-то знает, никогда я раньше такого лица у него не видел. Прихожу в амбулаторий, спрашиваю у Семена Борисовича: отчего у Юрки лицо такое было? А он говорит: мускулатура разглаживается у покойников, оттого и такое лицо, понятно вам. Телескопов? Это-то мне понятно, про мускулатуру это понятно…
— Человек остается в любви. — глухо проговорил Вадим Афанасьевич.
Володя замолчал, тишину теперь нарушал лишь треск костра да легкое, сквозь сон, поскрипывание бочкотары.
— Я тебя понял, Вадюха! — вдруг вскричал Володя. — Где любовь, там и человек, а где нелюбовь, там эта самая химия-химия — вся мордеха синяя. Верно? Так? И потому ищут люди любви, и куролесят, и дурят, а в каждом она есть, хоть немного, хоть на донышке. Верно? Нет? Так?
— Не знаю, Володя, в каждом ли, не знаю, не знаю, — совсем уже еле слышно проговорил Вадим Афанасьевич.
— А у кого нет, так там только химия. Химия, физика, и без остатка… так? Правильно?
— Спи. Володя, — сказал Вадим Афанасьевич.
— А я уже сплю, — сказал Володя и тут же захрапел.
Вадим Афанасьевич долго еще лежал с открытыми глазами, смотрел на сполохи, озаряющие мирные поля, думал о храпящем рядом друге, о его откровениях, вспоминал о своей любимой (что греха таить, и он порой вскакивал среди ночи в холодном поту) работе, заглушавшей подобные мысли, думал о Глебе и Ирине Валентиновне, о Степаниде Ефимовне и старике Моченкине, о пилоте Ване Кулаченко, о терпеливом старичке, о папе и маме, о всемирно знаменитом викарии, прыгающем по разным странам, ошеломляющем интеллектуальную элиту каждый раз новыми сногсшибательными то католическими, то буддийскими, то дионистическими концепциями и возвращающемся всякий раз в кантон Гельвецию, чтобы подготовить очередную интеллектуальную бурю — что-то он готовит сейчас блаженной, бесштанной, ничего не подозревающей Халигалии?
С этими мыслями, с этим беспокойством Вадим Афанасьевич и уснул.
В отдалении на полынном холме, словно царица Восточного Гиндукуша, почивала под матросским бушлатом Ирина Валентиновна. Весь мир лежал у ее ног. и в этом мире бегал по кустам ее верный Глеб, шугал козу Романтику.
Она гугукала в кустах, шурша, юлила в кюветах, выла из ближнего болота, и Глеб вконец измучился, когда вдруг все затихло, замерло: на землю лег обманчивый покой, и Глеб напружинился, ожидая нового подвоха.
И точно… вскоре послышалось тихое жужжание, и по дороге силуэтами на прозрачных колесах медленно проехали турусы.
Вот вам, пожалуйста, — расскажешь, не поверят. Глеб сиганул через кювет, напрягся, приготовился к активному сопротивлению. И точно — турусы возвращались. Описав кольцо вокруг полынного холма, вокруг безмятежно спящей царицы Восточного Гиндукуша, они медленно катили прямо на Глеба, четверо турусов — молчаливые ночные соглядатаи.
В дрожащем свете сполоха мелькнул перед моряком облик вожака — детский чистый лоб, настырные глазенки и широченные, прямо скажем, атлетические плечи.
Почти не раздумывая, с жутким степным криком Глеб бросился вперед. Что-то разыгралось, что-то замелькало, что-то заверещало… в результате военный моряк поймал всех четырех.
— Ха, — сказал Глеб и подумал совершенно отчетливо: «Вот ведь расскажешь, не поверят».
Он тряхнул турусов — они были гладкие.
— Ну, — сказал он великодушно, — можно сказать, влопались, товарищи турусы на колесах?
— Отпусти нас, дяденька Глеб, — пискнул кто-то из турусов.
Глеб от удивления тут же всех отпустил и еще больше удивился: перед ним стояли четверо школьников из родного райцентра.
— Это еще что такое? — растерялся молодой моряк.
— Велопробег «Знаешь ли ты свой край», — глухим дрожащим басом ответил один из школьников.
— Дяденька Глеб, да вы нас знаете, — запищал другой, — я Коля Тютюшкин, это Федя Жилкин, это Юра Мамочкин, а это Боря Курочкин. Он всех и подбил. Прибежал, как чумной, организовал географический кружок. Знаешь ли ты, говорит, свой край? Вперед, говорит, в погоню за этой…
— За кем, за кем в погоню? — вкрадчиво спросил Глеб и на всякий случай взял Борю Курочкина за удивительно плотную руку.
— За романтикой, не знаете, что ли, — буркнул удивительный семиклассник и показал свободной рукой куда-то вдаль.
Очередной сполох озарил пространство, и Глеб увидел пылящую вдали полнотелую Романтику на дамском велосипеде.
— Это — дело хорошее, ребята, — повеселев, сказал он. — Хорошее и полезное. Пусть сопутствует вам счастье трудных дорог.
И тут он окончательно отпустил школьников и совершенно спокойный, в преотличнейшем настроении поднялся на полынный холм к своей царице.
Третий сон педагога
Ирины Валентиновны Селезневой
Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно! Ой, Глеб, пол такой скользкий! Ой, Глеб, где же ты?
Ирочка, познакомьтесь, — это мой друг, преподаватель физики Генрих Анатольевич Допекайло.
Генрих Анатольевич, совсем еще не старый, скользя на сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса — узнаете, Селезнева?
На одном плече у него катод, на другом — анод. Ну как это понять моей бедной головушке?
С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат катетов гипотенузы равен региональной конференции аграрных стран в системе атомного пула?
Еще один мчится, набирая скорость, — чемпион мира Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных билетов. Ах да, мое соло!
В пятнадцатом билетике пятерка и любовь, в шестнадцатом билетике расквасишь носик в кровь, в семнадцатом билетике копченой кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос совсем не прост.
Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждали юрисконсульта из облсобеса — он должен был подвести черту.
И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружинистом наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и старичок, сужая круги, рявкнул:
— Подготовили заявление об увольнении с сохранением содержания?
Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали шел по королевским мокрым лугам Хороший Человек. Шел он, сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мраморные львята мал мала меньше.
Третий сон военного Шустикова Глеба
Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидеус. Немедленно принял меры.
Итак, стою возле койки — даю нагрузку мускулюс дельтоидеус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом — кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицепсом. Сева Антонов мускулюс глютеус качает — его можно понять.
Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович. Вольно! Вольно! Сегодня манная каша, финальное соревнование по перетягиванию канатов с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.
А пончики будут, товарищ мичман? Смирно!
И вот схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть.
В результате невероятный случай в истории флота со времен ботика Петра — ничья! Канат лопнул. Все довольны.
Я лично доволен и в полном параде при всех значках гуляю по тенистым аллеям. Подходит неуловимо знакомый подводник.
— Послушай, друг, есть предложение познакомиться.
— Мы, кажется, немного знакомы.
— А я думал, не узнали, — улыбается подводник.
— Телескопов Володя?
— Холодно, холодно, — улыбнулся он.
— Дрожжинин, что ли? — спрашиваю я.
— Тепло, тепло. — смеется он. — Пристально вглядываюсь.
— Иринка, ты?
— Почти угадали, но не совсем. Моя фамилия — Сцевола.
— А, это вы? — воскликнул я. — Однако ручки-то у вас обе целы. Выходит — миф, треп, легенда?
— Обижаешь, — говорит Сцевола. — Подумаешь, большое дело — ручку сжечь.
Туг же Сцевола чиркает зажигалкой, и фланелька на рукаве начинает пылать.
Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.
— Але, Глеб, делай, как я!
Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сце-волой. Рука над головой трещит. Горит хорошо.
Сцевола ныряет в черный тоннельчик. Я — за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют.
Выбегаю из тоннеля — чисто, тихо, пустынно.
По радио неуловимо знакомый голос:
— Готов ли ты посвятить себя науке, молодой, красивый Глеб, отдать ей себя до конца, без остатка?
Гляжу — лежит Наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает, тоненьким, нежным и нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами.
Ору:
— Готов!
Нате вам, пожалуйста, — из комнаты смеха выходит Лженаука огромного роста. Напоминает какую-то Хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой — консервы рыбные и бутылка «Горного дубняка». Знаем мы эту политику!
Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе, обращаюсь по-заграничному:
— Разрешите прикурить!
Лженаука пялит бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень — в надкостницу! Тут же — прямой удар в нос — ослепить! Двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется.
Хлынул тропический ливень — ядовитый. Кашляю и сморкаюсь. Гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха — во всех зеркалах красивый, но мокрый. Абсолютно не смешно. Пробиваю фанерную стенку и вижу…
…за лугами, за морями, за синими горами встает солнце, и прямо от солнышка идет ко мне любимая в шелковой полумаске. Идет по росе Хороший Человек.
Третий сон Владимира Телескопова
Бывают в жизни огорченья — вместо хлеба ешь печенье. Я слышал где-то краем уха, что едет Ваня Попельнуха. Придет без всяких выкрутасов наездник-мастер Эс Тарасов.
Глаза бы мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в восьмидесятикопеечную кассу. Вхожу в залу — и почему это так тихо? Тихо, как в пустой церкви. И что характерно, все, толкаясь, смотрят на входящего Володю Телескопова. И я тоже смотрю на него, будто в зеркало, что характерно.
Что характерно, идет Володя в пустоте весь белый, как с похмелья. И что характерно, он идет прямо к Андрюше.
Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник.
— Андрюша, есть вариант от Ботаники и Буль-Быстрой. Входишь полтинником?
Андрюша-смурняга пугливо озирается и, что характерно, шевелит губами.
— Чего-о?
— Ты думаешь, Володя, мы на них ставим? Они, кобылы. ставят на нас.
Включили звук. Аплодисменты. Хохот. Заиграл оркестр сорок шестого отделения милиции.
Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже Лью копытом, я похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное — надо осваивать новую специальность.
У меня наездник симпатичный кирюха. У Андрюши — маленький, как сверчок, серенький и, что характерно, в очках — видно, из духовенства. Гонг, пошли, щелкнула резина.
Идем голова в голову. Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячьем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной, вот качу я санки с пшенной кашей. От столба к столбу идем голова в голову. Андрюша весь в мыле, веселый.
А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Эге, да там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят.
Финиш, гонг, а мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали, а мы чешем — улюлю!
Видим, под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Сильвией пьют чай и кушают тефтель.
— Присоединяйтесь, ребятишки!
Очень хочется присоединиться, но невозможно. Бежим по болоту, ноги вязнут. Впереди вспучилось, завоняло — всплыла огромная Химия, разевает беззубый рот, хлопает рыжими глазами, приглашает вислыми ушами.
Оседлал Андрюшу — проскочили.
Бежим по рельсам. Позади стук, свист, жаркое дыхание — Физика догоняет. Андрюша седлает меня — уходим.
Устали — аж кровь из носа. Ложимся — берите нас, тепленьких, сопротивление окончено.
Вокруг травка, кузнецы стригут, пахнет ромашкой. Андрюша поднял шнобель — эге, говорит, посмотри, Володька!
Гляжу — идет по росе Хороший Человек, шеф-повар с двумя тарелками ухи из частика. И с пивом.
Третий сон Вадима Афанасьевича
На нейтральной почве сошлись для решения кардинальных вопросов три рыцаря — скотопромышленник Сиракузерс из Аргентины, ученый викарий из кантона Гельвеции и Вадим Афанасьевич Дрожжинин с Арбата.
На нейтральной почве росли синие и золотые надежды и чаяния. В середине стоял треугольный стол. На столе бутылка «Горного дубняка», бычки в томате. Вместо скатерти карта Халигалии.
— Что касается меня. — говорит Сиракузерс, — то я от своих привычек не отступлюсь — всегда я наводнял слаборазвитые страны и сейчас наводню.
— Вы опираетесь на Хунту, сеньор Сиракузерс, — дрожащим от возмущения голосом говорю я.
Сиракузерс захрюкал, захихикал, закрутил бычьей шеей в притворном смущении.
— Есть грех, иной раз опираюсь.
Аббат, падла такая позорная, тоже скабрезно улыбнулся.
— Ну а вы-то, вы, ученый человек, — обращаюсь я к нему, — что вы готовите моей стране? Знаете ли вы, сколько там вчера родилось детей и как окрестили младенцев?
Проклятый расстрига тут же читает по бумажке. Девочки все без исключения наречены Азалиями, пять мальчиков Диего, четверо Вадимами в вашу честь. Как видите, Диего вырвался вперед.
Задыхаюсь!
Задыхаюсь от ярости, клокочу от тоски.
— Но вам-то какое до этого дело? Ведь вам же на это плевать!
Он улыбается.
— Совершенно верно. Друг мой, вы опоздали. Скоро Халигалия проснется от спячки, она станет эпицентром ноной интеллектуальной бури. Рождается на свет новый философский феномен — халигалитет.
— В собственном соку или со специями? — деловито поинтересовался Сиракузерс.
— Со специями, коллега, со специями, — хихикнул викарий. Я встаю.
— Шкуры! Позорники! Да я вас сейчас понесу одной левой! — Оба вскочили — в руках финки.
— Ко мне! На помощь! Володя! Глеб Иванович! Дедушка Моченкин!
Была тишина. Нейтральная почва, покачиваясь, неслась в океане народных слез.
— Каждому своя Халигалия, а мне моя! — завизжал викарий и рубанул финкой по карте.
— А мне моя! — взревел Сиракузерс и тоже махнул ножом.
— А где же моя?! — закричал Вадим Афанасьевич.
— А ваша, вон она, извольте полюбоваться.
Я посмотрел и увидел свою дорогую, плывущую по тихой лазурной воде. Мягко отсвечивали на солнце ее коричневые щечки. Она плыла, тихонько поскрипывая, что-то неясное и нежное, накрытая моим шотландским пледом, потником Володи, носовым платком старика Моченкина.
— Это действительно моя Халигалия! — прошептал и. — Другой мне и не надо!
Бросаюсь, плыву. Не оглядываясь, вижу: Сиракузерс с викарием хлещут «Горный дубняк». Подплываю к своей любимой, целую в щеки, беру на буксир.
Плывем долго, тихо поем.
Наконец видим: идет навстречу Хороший Человек, квалифицированный бондарь с новыми обручами.
Третий сон старика Моченкина
И вот увидел он свою Характеристику. Шла она посередь поля, вопила низким голосом:
—.. в-труде-прилежен-в-быту-морален…
А мы с Фефеловым Андроном Лукичом приятельски гуляем, щупаем колосья.
— Ты мне, брат Иван Александрович, представь свою Характеристику, — мигает правым глазом Андрон Лукич, — а я тебе за это узюму выпишу шашнадцать кило.
— А вот она, моя Характеристика, Андрон Лукич, извольте познакомиться.
Фефелов строгим глазом смотрит на подходящую, а я весь дрожу — ой, не пондравится!
— Это вот и есть твоя Характеристика?
— Она ж есть, Андрон Лукич. Не обессудьте.
— Н-да-а…
Хоть бы губы подмазала, проклятущая, уж не говорю про перманенту. Идет, подолом метет, душу раздирает:
— …политически-грамотен-с-казенным-имуществом-щщапетилен…
— Н-да, Иван Александрович, признаться, я разочарован. Я думал, твоя Характеристика — девка молодая, ядреная, а эта — как буряк прошлогодний…
— Ой, привередничаете, Андрон Лукич! Ой, недооцениваете…
Говорю это я басом, а сам дрожу ажник, как фитюля одинокая. Узюму хочется.
— Ну да ладно, — смирился Андрон Лукич, — какая-никакая, а все ж таки баба.
Присел, набычился, рявкнул, да как побежит всем телом на мою Характеристику.
— Ай-я-яй! — закричала Характеристика и наутек, дурь лупоглазая.
Бежит к реке, а за ей Андрон Лукич частит ногами, гудит паровозом — люблю-ю-у-у! Ну и я побег — перехвачу глупую бабу!
— Нет! — кричит Характеристика. — Никогда этого не будет! Уж лучше в воду!
И бух с обрыва в речку! Вынырнула, выпучила зенки, взвыла:
— …с-товарищами-по-работе-принципиален!!!
И камнем ко дну.
Стоит Фефелов Андрон Лукич отвлеченный, перетирает в руке колосик.
— Пшеница ноне удалась, Иван Александрович, а вот с узюмом перебой.
И пошел он от мене гордый и грустный, и, конечно, по-человечески его можно понять, но мне от этого не легче.
И первый раз в жизни горючими слезами заплакал бывший инструктор Моченкин, и кого-то мне стало жалко — то ли себя, то ли узюм, то ли Характеристику.
Куда ж теперь мне деваться, на что надеяться?
Сколько сидел, не знаю… Протер глаза — на той стороне стоит в росной траве Хороший Человек, молодая, ядреная Характеристика.
Сон внештатного лаборанта
Степаниды Ефимовны
Ой ли, тетеньки, гусели фильдеперсовые! Ой ли, батеньки, лук репчатый, морква сахарная… Ути, люти, цып-цып-цьп…
Ой, схватил мине за подол игрец молоденькай, пузатенький. Ой, за косу ухватил, косу девичью.
— Пусти мине, игрец, на Муравьиную гору!
— Не пущщу!
— Пусти мине, игрец, во Стрекозий лес!
— Не пупццу!
— Да куда ж ты мине тянешь, в какое игралище окаянное?
— Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия! Закручу тебя, бабулька, булька, яй-ки. млеко, бутер-бротер. танцем-шманцем огневым, загра-моничным! Будешь пышка молодой, дорогой гроссмуттер! Вуаля!
Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами задрожал сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щакотит — жизни хочет лишить — ай-тю-тю!
— Окстись, окстись, проклятущий!
Не окщется. Кружит мине по ботве картофельной танцами ненашенскими.
Ой, в лесу мурава пахучая, ох, дурманная… Да куды ж ты мине, куды ж ты мине, худы ж ты мине… бубулички…
Гляжу, у костре засел мой игрец брюнетистый, глаз охальный, пузик красненькай.
— А ну-ка, бабка-красавка-шгутовка, вари мне суп! Мой хотель покушать зюпне дритте нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый!
— Суп?
— Суп!
— Суп?
— Суп!
— Суп?
— Суп!
— А. батеньки! Нахтигаль, мои тятеньки, по-нашему соловушка, а по-ихому, так и будет нахтигаль. да только очарованный. Ой, бреду я, баба грешная, по муравушке, выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваюсь с бочкотарою любезною, с вами, с вами, мои голуби полуночные. Гутень, фисокь, мотьва купоросная!
А темень-то тьмущая, тятеньки, будто в мире нет электричества! А сзади-то кочет кычет, сыч хрючет, игрец регочет.
И надоть: тут тишина пришла благодатная, гуль-гуль-ная, и лампада над жнивьем повисла масляная. И надоть — вижу: по траве росистой, тятеньки. Блаженный Лыцарь выступает научный, вдумчивый, а за ручку он ведет, мои матушки, как дитятю, он ведет жука рогатого, возжеланного жука фотоплексирусабатюшку.
Письмо Володи Телескопова другу Симе
Многоуважаемая Серафима Игнатьевна, здравствуйте!
Дело прежде всего. Сообщаю Вам, что ваша бочкотара и целости и сохранности, чего и Вам желает.
Сима, помнишь Сочи те дни и ночи священной клятвы пдохновенные слова взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне а я за тобой сильно заскучал хотя рейсом очень доволен вы говорили нам пора расстаться я страшен в гневе.
Перерасхода бензина нету, потому что едем на нуле уж который день, и это конечно новаторский почин, сам удивляюсь.
Возможно вы думаете, Серафима Игнатьевна, что я Вас неправильно информирую, а сам на пятнадцать суток загремел, так это с Вашей стороны большая ошибка.
Бате моему притарань колбасы свиной домашней I (один) кг за наличный расчет.
Симка, хочешь честно? Не знаю, когда увидимся, потому что едем не куда хотим, а куда бочкотара наша милая хочет. Поняла?
Спасибо тебе за любовь и питание.
Возможно еще не забытый.
Телескопов Владимир.
Письмо Владимира Телескопова
Сильвии Честертон
Здравствуйте, многоуважаемая Сильвия, фамилии не помню.
Слыхал от общих знакомых о Вашем вступлении в организацию «Девичья честь». Горячо Вас поздравляю, а Гутику Розенблюму передайте, что ряшку я ему все ж таки начищу.
Сильвия, помнишь ту волшебную южную ночь, когда мы… Замнем для ясности. Помнишь или нет?
Теперь расскажу тебе о своих успехах. Работаю начальником автоколонны. Заработная плата скромная — полторы тыщи, но хватает. Много читаю. Прочел: «Дети
95 капитана Гранта» Жюль Верна, журнал «Знание — сила» № 7 за этот год, «Сборник гималайских сказок», очень интересно.
Сейчас выполняю ответственное задание. Хочешь знать, какое? Много будешь знать, скоро состаришься! Впрочем, могу тебе довериться — сопровождаю бочкотару, не знаю как по-вашему, по-халигалийски. Она у меня очень нервная, и, если бы ты ее знала, Сильвочка, то конечно бы полюбила.
Да здравствует дружба молодежи всех стран и оттенков кожи. Регулярно сообщай о своих успехах в учебе и спорте. Что читаешь?
Твой, может быть, помнишь,
Володя Телескопов (Спутник).
Оба эти письма Володя отслюнявил карандашом на разорванной пачке «Беломора», Симе — на карте. Сильвии — на изнанке. В пыльном луче солнца сидел он, грустно хлюпая носом, на деревянной скамейке, изрезанной неприличными выражениями, в камере предварительного заключения Гусятицского отделения милиции. А дело было так…
Однажды они прибыли в городок Гусятин, где на бугре перед старинным гостиным двором стоял величественный аттракцион «Полет в неведомое».
Володя остановил грузовик возле аттракциона и предложил пассажирам провести остаток дня и ночь в любопытном городе Гусятине.
Все охотно согласились и вылезли из ячеек. Каждый занялся своим делом. Старик Моченкин пошел в местную поликлинику сдавать желудочный сок, поскольку справочка во ВТЭК об его ужасном желудочном соке куда-то затерялась. Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной отправились на поиски библиотеки-читальни. Надо было немного поштудировать литературку, слегка повысить уровень, вырасти над собой. Что касается Степаниды Ефимовны, то она, увидев на заборе возле клуба афишу кинокартины «Бэла» и на этой афише Печорина, ахнула от нестерпимого любопытства и немедленно купила себе билет. Что-то неуловимо знакомое, близкое почудилось ей в облике розовощекого молодого офицера с маленькими усиками. Володя же Телескопов не отрывал взгляда от диковинного аттракциона, похожего на гигантскую зловещую скульптуру поп-арта.
— Вадик! Ну-ты! Ну, дали! Во, это штука! Айда кататься!
— Ах, что ты, Володя, — поморщился Вадим Афанасьевич, — совсем я не хочу кататься на этом агрегате.
— Или ты мне друг, или я тебе портянка. Кататься — кровь из носа, красился последний вечер! — заорал Володька. Вадим Афанасьевич обреченно вздохнул.
— Откуда у тебя, Володя, такой инфантилизм?
— Да что ты. Вадик, никакого инфантилизма, клянусь честью! — Володя приложил руку к груди, выпучился на Вадима Афанасьевича, дыхнул. — Видишь? Ни в одном глазу. Клянусь честью, не взял ни грамма! Веришь или нет? Друг ты мне или нет?
Вадим Афанасьевич махнул рукой.
— Ну, хорошо, хорошо…
Они подошли к подножию аттракциона, ржавые стальные ноги которого поднимались из зарослей крапивы, лебеды и лопухов — видно, не так уж часто наслаждались гусятницы «Полетом в неведомое». Разбудили какого-то охламона, спавшего под кустом бузины.
— Включай машину, дитя природы! — приказал ему Володя.
— Току нет и не будет. — привычно ответил охламон.
Вадим Афанасьевич облегченно вздохнул, Володя сверкнул гневными очами, закусил губу, рванул на себя рубильник. Аттракцион неохотно заскрипел, медленно задвигалось какое-то колесо.
— Чудеса! — вяло удивился охламон. — Сроду в ем току не было, а сейчас скрипит. Пожалте, граждане, занимайте места согласно купленным билетам. Пятак — три круга.
Друзья уселись в кабины. Охламон нажал какие-то кнопки и отбежал от аттракциона на безопасное расстояние. Начались взрывы. На выжженной солнцем площади Гусятина собралось десятка два любопытных жителей, пять-шесть бродячих коз.
Наконец метнуло, прижало, оглушило, медленно, с большим размахом стало раскручивать.
Вадим Афанасьевич со сжатыми зубами, готовый ко всему, плыл над гусятинскими домами, над гостиным двором. Где-то, счастливо гогоча, плыл по пересекающейся орбите Володя Телескопов, изредка попадал в поле зрения.
Круги становились все быстрее, мелькали звезды и планеты — пышнотелая потрескавшаяся Венера, синеносый мужлан Марс, Сатурн с кольцом и другие, безымянные, хвостатые, уродливые.
— Остановите машину! — крикнул Вадим Афанасьевич, чувствуя головокружение. — Хватит! Мы не дети!
Площадь была пуста. Любопытные уже разошлись. Охламона тоже не было видно. Лишь одинокая коза пялилась еще на гудящий, скрежещущий аттракцион, да неподалеку на скамеечке два крепкотелых гражданина, выставив зады, играли в шахматы.
— Как ходишь, дура? — орал, проносясь над шахматистами, Володя. — Бей слоном е-восемь. Играть не умеешь!
— Володя — мне скучно! — крикнул Вадим Афанасьевич. — Где этот служитель? Пусть остановит.
— Что ты. Вадик! — завопил Володька. — Я ему пятерку дал! Он сейчас в чайной сидит!
Вадим Афанасьевич потерял сознание и так, без сознания, прямой, бледный, с трубкой в зубах, кружил над сонным Гусятином.
Вечерело. Солнце, долго висевшее над колокольней, наконец ухнуло за реку. Оживились улицы. Прошло стадо. Протарахтели мотоциклы.
Возвращались в город усталые Щустиков Глеб с Ириной Валентиновной — так и не нашли они за весь день гусятинской библиотеки-читальни.
Старик Моченкин шумел в гусятинской поликлинике.
— Вашему желудочному соку верить нельзя! — кричал он, потрясая бланком, на котором вместо прежних ужасающих данных теперь стояла лишь скучная «норма».
Степанида Ефимовна по третьему разу смотрела кинокартину «Бэла», вглядывалась в румяное лицо, в игривые глазки молодого офицера, шептала:
— Нет, не тот. Федот, да не тот. Ой. не тот, батюшки!
Вадим Афанасьевич очнулся. Над ним кружили звезды, уже не гусятинские, а настоящие.
«Как это похоже на обыкновенное звездное небо! — подумал Вадим Афанасьевич. — Я всегда думал, что за той страшной гранью все будет совсем иначе, никаких звезд и ничего, что было, однако вот — звезды, и вот, однако, — трубка».
В звездном небе над Вадимом Афанасьевичем пронеслось что-то дикое, косматое, гаркнуло:
— Вадик, накатался.
Встрепенувшись, Вадим Афанасьевич увидел уносящегося по орбите Телескопова. Володя стоял в своей кабине, размахивая знакомой бутылкой с размочалившейся затычкой.
«Или я снова здесь, или он уже там, то есть здесь, а я не там, а здесь, в смысле там, а мы вдвоем там в смысле здесь, а не там, то есть не здесь», — сложно подумал Вадим Афанасьевич и догадался наконец глянуть вниз.
Неподалеку от стальной ноги аттракциона он увидел грузовичок, а в нем любезную свою, слегка обиженную, удрученную странным одиночеством бочкотару.
«Ура! — подумал Вадим Афанасьевич. — Раз она здесь, значит, и я здесь, а не там, то есть… ну да ладно», — и сердце его сжалось от обыкновенного земного волнения.
— Вадим, накатался? — неожиданно снизу заорал Телескопов. — Айда в шахматы играть! Эй, вырубай мотор, дитя природы!
Охламон, теперь уже в строгом вечернем костюме, причесанный на косой пробор, стоял внизу.
— Сбросьте рублики, еще покатаю! — крикнул он.
— Слышишь, Вадим? — крикнул Володька. — Какие будут предложения?
— Пожалуй, на сегодня хватит! — собрав все силы, крикнул Вадим Афанасьевич.
Аттракцион, испустив чудовищный скрежещущий вой. подобный смертному крику последнего на земле ящера, остановился, теперь уже навсегда.
Вадим Афанасьевич, прижатый к полу кабины, снова потерял сознание, но на этот раз ненадолго. Очнувшись, он вышел из аттракциона, почистился, закурил трубочку, закинул голову…
…о, весна без конца и без края, без конца и без края мечта…
…а ведь если бы не было всего этого ужаса, этого страшного аттракциона, я не ощутил бы вновь с такой остротой прелесть жизни, ее вечную весну…
…и зашагал к грузовику. Бочкотара, когда он подошел и положил ей руку на бочок, взволнованно закурлыкала.
Володя Телескопов тем временем на косых ногах направился к шахматистам, которых набралось на лавочке не менее десятка.
— Фишеры! — кричал он. — Петросяны! Тиграны! Играть не умеете! В миттельшпиле ни бум-бум, в эндшпиле, как куры в навозе! Я сверху-то все видел! Не имеете права в мудрую игру играть!
Он пошел вдоль лавки, смахивая фигуры в пыль.
Шахматисты вскакивали и махали руками, апеллируя к старшому, хитроватому плотному мужчине в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, из-под которой свисала газета «Известия», защищая затылок и шею от солнца, мух и прочих вредных влияний.
— Виктор Ильич, что же это получается?! — кричали шахматисты, — Приходят, сбрасывают фигуры, оскорбляют именами, что прикажете делать?
— Надо подчиниться, — негромко сказал шахматистам мужчина в пижаме и жестом пригласил Володю к доске.
— Эге, дядя, ты, видать, сыграть со мной хочешь! — захохотал Володя.
— Не ошиблись, молодой человек, — проговорил человек в пижаме, и в голосе его отдаленно прозвучали интонации человека не простого, а власть имущего.
Володя при всей своей малахольности интонацию эту знакомую все-таки уловил, что-то у него внутри екнуло, но, храбрясь и петушась, а главное, твердо веря в свой недюжинный шахматный талант (ведь сколько четвертинок было выиграно при помощи древней мудрой игры!), он сказал, садясь к доске:
— Десять ходов даю вам, дорогой товарищ, а на большее ты не рассчитывай.
И двинул вперед заветную пешечку.
Пижама, подперев голову руками, погрузилась в важное раздумье. Кружок шахматистов, вихляясь, как чуткий подхалимский организм, захихикал.
— Ужо ему жгентелем… Виктор Ильич… по мордасам, по мордасам… Заманить его, Виктор Ильич, в раму, а потом дуплетом вашим отхлобыстать…
В Гусятине, надо сказать, была своя особая шахматная теория.
— Геть отсюда, мелкота! — рявкнул Володя на болельщиков. — Отвались, когда мастера играют.
— Хулиганье какое — играть не дают нам с вами! — сказал он пижаме.
Он тоже подхалимничал перед Виктором Ильичем, чувствуя, что попал в какую-то нехорошую историю, однако соблазн был выше его сил, превыше всякой осторожности, и невинными пальцами, мирно посвистывая, Володя соорудил Виктору Ильичу так называемый «детский мат».
Он поднял уже ферзя для завершающего удара, как вдруг заметил на мясистой лапе Виктора Ильича синюю татуировку СИМА ПОМ…
Конец надписи был скрыт пижамным рукавом.
«Сима! Так какая же еще Сима, если не моя? Да неужто это рыло, нос пуговицей, Серафиму мою лобзал? Да, может. это Бородкин Виктор Ильич? Да ух!» — керосинкой, мазутной, нефтяной горючей ревностью обожгло Володькины внутренности.
— Мат тебе, дядя! — рявкнул он и выпучился на противника, приблизив к нему горячее лицо.
Виктор Ильич, тяжело ворочая мозгами, оценивал ситуацию — куда ж подать короля, подать было некуда. Хорошо бы съесть королеву, да нечем. В раму взять? Жгентелем протянуть? Не выйдет. Нету достаточных оснований.
И вдруг он увидел на руке обидчика, на худосочной заурядной руке синие буковки СИМА ПОМНИ ДРУ… остальное скрывалось чуть ли не под мышкой.
«Серафима, неужели с этим недоноском ты забыла обо мне? Да, может, это и есть тот самый Телескопов, обидчик, обидчик шахматистов всех времен и народов, блуждающий хулиган, текучая рабочая сила?» — Виктор Ильич выгнул шею, носик его запылал, как стоп-сигнал милицейской машины.
— Телескопов? — с напором спросил он.
— Бородкин? — с таким же напором спросил Володя.
— Пройдемте, — сказал Бородкин и встал.
— А вы не при исполнении, — захохотал Володя, — а во-вторых, вам мат, и, в-третьих, вы в пижаме.
— Мат?
— Мат!
— Мат?
— Мат!
— А вы уверены?
Виктор Ильич извлек из-под пижамы свисток, залился красочными, вдохновенными руладами, в которых трепетала вся его оскорбленная душа.
«Бежать, бежать», — думал Володя, но никак не мог сдвинуться с места, тоже свистал в два пальца. Важно ему было сказать последнее слово в споре с Виктором Ильичем, нужна была моральная победа.
Дождался — вырос из-под земли старший брат младший лейтенант Бородкин в полной форме и при исполнении.
— Жгентелем его, жгентелем, товарищи Бородкины! — радостно заблеяли болельщики. — В раму его посадить и двойным дуплетом…
Видимо, сейчас они вкладывали в эти шахматные термины уже какой-то другой смысл.
Вот так Володя Телескопов попал на ночь глядя в неволю. Провели его под белы руки мимо потрясенного Вадима Афанасьевича, мимо вскрикнувшей болезненно бочкотары, посадили в КПЗ, принесли горохового супа, борща, паровых битков, тушеной гусятины, киселю: замкнули.
Всю ночь Володя кушал, курил, пел. вспоминал подробности жизни, плакал горючими слезами, сморкался, негодовал, к утру начал писать письма.
Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины. Младший брат листал Уголовный кодекс, выискивал для Володи самые страшные статьи и наказания. Старший, у которого душевные раны, связанные с Серафимой Игнатьевной, за давностью лет уже затянулись, смягчал горячего братца, предлагал административное решение.
— Побреем его, Витек, под нуль, дадим метлу на пятнадцать суток, авось Симка поймет, на кого тебя променяла.
При этих словах старшего брата отбросил Виктор Ильич Уголовный кодекс, упал ничком на оттоманку, горько зарыдал.
— Хотел забыться, — горячо бормотал он, — уехал, погрузился в шахматы, не вспоминал… появляется этот недоносок. укравший… Сима… любовь… моя… — скрежетал зубами.
Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья! Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь обсуждались различные варианты спасенья.
Ирина Валентиновна, с гордо закинутой головой, с развевающимися волосами, изъявила готовность лично поговорить о Володе с братьями Бородкиными, лично, непосредственно, тет-а-тет, шерше ля фам. В последние дни она твердо поверила наконец в силу и власть своей красоты.
— Нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами, — категорически пресек ее благородный порыв Шустиков Глеб, — договорю с ними в частном порядке, и делу конец.
— Нет-нет, друзья! — пылко воскликнул Вадим Афанасьевич. — Я подам в гусятинекий нарсуд официальное заявление. Я уверен… мы… наше учреждение… вся общественность… возьмем Володю на поруки. Если понадобится, я усыновлю его!
С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся, затянулся трубочкой, выпустил дымовую завесу, чтобы скрыть за ней свои увлажнившиеся глаза.
Степанида Ефимовна полночи металась в растерянности по площади, ловила мотыльков, причитала, потом побежала к гусятинской товарке, лаборанту Ленинградского научного института, принесла от нее черного петуха, разложила карты, принялась гадать, ахая и слезясь; временами развязывала мешок, пританцовывая, показывала черного петуха молодой луне, что-то бормотала.
Старик Моченкин всю ночь писал на Володю Телескопова положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. Хочешь написать «политически грамотен», а рука сама пишет «безграмотен». Хочешь написать «морален», а рука пишет «аморален».
И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой любезная их бочкотара.
Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком Уголовного кодекса под мышкой.
Володя к этому времени закончил переписку с подругами сердца и теперь пел драматическим тенорком:
Этап на Север, срока огромные…
Кого ни спросишь, у всех указ,
Взгляни, взгляни в лицо мое суровое,
Взгляни, быть может, в последний раз!
Степанида Ефимовна перекрестилась.
Ирина Валентиновна с глубоким вздохом сжала руку Глеба.
— Глеб, это похоже на арию Каварадосси. Милый, оснободи нашего дорогого Володю, ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга!
Глеб шагнул вперед.
— Але. друзья, кончайте этот цирк. Володя — парень, конечно, несобранный, но, в общем, свой, здоровый, участник великих строек, а выпить
может каждый, это для пас не секрет.
— Больно умные стали. — пробормотал старший сержант.
— А вы кто будете, гражданин? — спросил младший лейтенант. — Родственники задержанного или сослуживцы?
— Мы представители общественности. Вот мои документы.
Братья Бородкины с еле скрытым удивлением осмотрели сухопарого джентльмена, почти что иностранца по внешнему виду, и с не меньшим удивлением ознакомились с целым ворохом голубых и красных предъявленных книжечек.
— Больно умные стали. — повторил Бородкин-младший.
Вперед выскочил старик Моченкин, хищно оскалился, задрожал пестрядиновой статью, направил на братьев Бородкиных костяной перст, завизжал:
— А вы еще ответите за превышение прерогатив, полномочий. за семейственность отношений и родственные связи!
Братья Бородкины немного перепугались, но виду, конечно, не подали под защитой всеми уважаемых мундиров.
— Больно умные стали! — испуганно рявкнул Бородкин-младший.
— Гутень, фисонь, мотьва купоросная! — гугукнула Степанида Ефимовна и показала вдруг братьям черного петуха, главного, по ее мнению, Володиного спасителя.
Выступила вперед вся в блеске своих незабываемых сокровищ Ирина Валентиновна Селезнева.
— Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчины…
Младший Бородкин выронил Уголовный кодекс. Старший. крепко крякнув, взял себя в руки.
— Вы, гражданка, очень точно заметили насчет серьезности ситуации. Задержанный в нетрезвом виде Телескопов Владимир сорвал шахматный турнир на первенство нашего парка культуры. Что это такое, спрашивается? Отвечается: по меньшей мере злостное хулиганство. Некоторые товарищи рекомендуют уголовное дело завести на Телескопова, а чем это для него пахнет? Но мы, товарищ-очень-красивая-гражданка-к-сожалению-не-знаю-как-ве-личать-в-надежде-на-будущее-с-голубыми-глазами, мы не звери, а гуманисты, и дадим Телескопову административную меру воздействия. Пятнадцать суток метлой помашет и будет на свободе.
Младший лейтенант объяснил это лично, персонально Ирине Валентиновне, приблизившись к ней и округляя глаза, и она, польщенная рокотанием его голоса, важно выслушала его своей золотистой головкой, но когда Бородкин кончил, за решеткой возникло бледное, как у графа Монте-Кристо, лицо Володи.
— Погиб я, братцы, погиб! — взвыл Володя. — Ничего для меня нет страшнее пятнадцати суток! Лучше уж срок лепите, чем пятнадцать суток! Разлюбит меня Симка, если на пятнадцать, суток загремлю, а Симка, братцы, последний остров в моей жизни!
После этого вопля души на крыльце КПЗ и вокруг возникло странное, томящее душу молчание.
Младший Бородкин, отвернувшись, жевал губами, в гордой обиде задирал подбородок.
Старший, поглядывая на брата, растерянно крутил на пальце ключи.
— А что же будет с бочкотарой?! — крикнул Володя. — Она-то в чем виноватая?
Тут словно лопнула струна, и звук, таинственный и прекрасный, печальным лебедем тихо поплыл в небеса.
— Мочи нет! — воскликнул младший Бородкин, прижимая к груди Уголовный кодекс. — Дышать не могу! Тяжко!
— Что это за бочкотара? Какая она? Где? — заволновался Бородкин-старший.
Вадим Афанасьевич молча снял брезент. Братья Бородкины увидели потускневшую, печальную бочкотару, изборожденную горькими морщинами.
Младший Бородкин с остановившимся взглядом, с похолодевшим лицом медленно пошел к ней.
— Штраф, — сказал старший Бородкин дрожащим голосом. — Пятнадцать суток заменяем на штраф. Штраф тридцать рублей, вернее, пять.
— Ура! — воскликнула Ирина Валентиновна и, взлетев па крыльцо, поцеловала Бородкина-старшего прямо в губы. — Пять рублей — какая ерунда по сравнению с любовью!
— Ура! — воскликнул старик Моченкин и подбросил вверх заветный свой пятиалтынный.
— Шапка по кругу! — гаркнул Глеб, вытягивая из тугих клешей последнюю трешку, припасенную на леденцы для штурмовой группы.
— А яйцами можно, милок? — пискнула Степанида Ефимовна.
Бородкин-старший после Ирининого поцелуя рыхло, с завалами плыл по крыльцу, словно боксер в состоянии гроги».
— Никакого штрафа, брат, не будет, — сказал, глядя прямо перед собой в темные и теплые глубины бочкотары, Бородкин-младший Виктор Ильич. — Разве же Володя виноват, что его полюбила Серафима? Это я виноват, что гонор свой хотел на нем сорвать, и за это, если можете, простите мне. товарищи.
Солнечные зайчики запрыгали по щечкам бочкотары, морщины разгладились, веселая и ладная балалаечная музыка пронеслась по небесам.
Бородкин-старший поймал старика Моченкина и поцеловал его прямо в чесночные губы.
Глеб облобызался со Степанидой Ефимовной, Вадим Афанасьевич трижды (по-братски) с Ириной Валентиновной. Бородкин-младший Виктор Ильич, никого не смущаясь. влез на колесо и поцеловал теплую щеку бочкотары.
Володя Телескопов, хлюпая носом, целовал решетку и мысленно, конечно, Серафиму Игнатьевну, а также Сильнию Честертон и все человечество.
И вот они поехали дальше мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глаз теодолита на треноге лучей, а по ночам луна фотографировала их при помощи бесшумных вспышек-сполохов, и тихо кружили близ их ночевок семиклассники-турусы на прозрачных, словно подернутых мыльной пленкой кругах, и серебристо барражировал над ними мечтательный пилот-распылитель, а они мирно ехали дальше в ячейках любезной своей бочкотары, каждый в своей.
Однажды на горизонте появилось странное громоздкое сооружение.
Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись — перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны.
Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики и унылые склады Коряжска, и неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией.
Володя и Вадим Афанасьевич вылезли из кабины.
— Куда же мы ноне приехали, батеньки? — поинтересовалась умильным голоском Степанида Ефимовна.
— Станция. Вылезай, бабка Степанида! — крикнул Володя и дико захохотал, скрывая смущение и душевную тревогу.
— Неужто Коряжек, маменька родима?
— Так точно, мамаша. Коряжек, — сказал Глеб.
— Уже? — с печалью вздохнула Ирина Валентиновна.
— Крути не крути, никуда не денешься, — проскрипел старик Моченкин. — Коряжек, он и есть Коряжек, и отседа нам всем своя дорога.
— Да, друзья, это Коряжек, и скоро, должно быть, придет экспресс, — тихо проговорил Вадим Афанасьевич.
— В девятнадцать семнадцать, — уточнил Глеб.
— Ну что ж. граждане попутчики, товарищи странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия. Извините за компанию. Желаю успеха в труде и в личной жизни. — Володя чесал языком, а сам отвлеченно глядел в сторону, и на душе у него кошки скребли.
Пассажиры вылезли из ячеек, разобрали вещи. Сумрачная башня Коряжского вокзала высилась над ними. I (а головах гранитных фигур сияли солнечные блюдечки.
Пассажиры не смотрели друг на друга, наступила минута тягостного молчания, минута прощания, и каждый с болью почувствовал, что узы. связывавшие их, становятся все тоньше, тоньше, и вот уже одна только последняя тонкая струна натянулась между ними, и вот…
— А что же будет с ней, Володя? — дрогнувшим голосом спросил Вадим Афанасьевич.
— С кем? — как бы не понимая, спросил Володя.
— С ней, — показал подбородком Вадим Афанасьевич, и все взглянули на бочкотару, которая молчала.
— С бочками-то? А чего ж. сдам их по наряду, и кранты. — Володя сплюнул в сторону и…
…и Володя заплакал.
Коряжский вокзал оборудован по последнему слову техники — автоматические справки и камеры хранения с личным секретом, одеколонные автоматы, за две копейки выпускающие густую струю ароматного «Шипра», которую некоторые несознательные транзитники ловят ртом, но главное достижение — электрически-электронные часы, показывающие месяц, день недели, число и точное время.
Итак, значилось: август, среда, 15. 19.07. Оставалось десять минут до прихода экспресса.
Вадим Афанасьевич, Ирина Валентиновна. Шустиков Глеб. Степанида Ефимовна и старик Моченкин стояли на перроне.
Ирина Валентиновна трепетала за свою любовь.
Шустиков Глеб трепетал за свою любовь.
Вадим Афанасьевич трепетал за свою любовь.
Степанида Ефремовна трепетала за свою любовь.
Старик Моченкин трепетал за свою любовь.
Под ними лежали вороненые рельсы, а дальше за откосом, в явном разладе с вокзальной автоматикой, кособочились домики Коряжска, а еще дальше розовели поля и густо синел лес, и солнце в перьях висело над лесом, как петух с отрубленной башкой на заборе.
А минуты уходили одна за другой. За рельсами на откосе появился Володька Телескопов с всклокоченной головой, с порванным воротом рубахи.
Он вылез на насыпь, расставил ноги, размазал кулаком слезу по чумазому лицу.
— Товарищи, подумайте, какое безобразие? — закричал он. — Не приняли! Не приняли! Не приняли ее, товарищи!
— Не может быть! — закричал и затопал ногами по бетону Вадим Афанасьевич. — Я не могу в это поверить!
— Не может быть! Как же это так? Почему же не приняли? — закричали мы все.
— Затоварилась, говорят, зацвела желтым цветком, затарилась, говорят, затюрилась! Забраковали, бюрократы проклятые! — высоким рыдающим голосом кричал Володя.
Из-за пакгауза появилась желтая, с синими усами, с огромными буркалами голова экспресса.
— Да где же она, Володенька? Где ж она? Где?
— В овраге она! В овраг я ее свез! Жить не хочу! Прощайте!
Экспресс со свистом закрыл пространство и встал. Транзитники всех мастей бросились по вагонам. Животным голосом заговорило радио. Запахло романтикой дальних дорог.
Через две минуты тронулся этот знаменитый экспресс «Север — юг», медленно тронулся, пошел мимо нас. Прошли мимо нас окна международного, нейлонного, медного, бархатно-кожаного, ароматного. В одном из окон стоял с сигарой приятный господин в пунцовом жилете. С любопытством, чуть-чуть ехидным, он посмотрел на нас, снял кепи и сделал прощальный салютик.
— Он! — ахнула про себя Степанида Ефимовна. — Он самый! Игрец!
«Боцман Допекайло? А может быть, Сцевола собственной персоной?» — подумал Глеб.
— Это он, обманщик, он, он, Рейнвольф Генрих Анатольевич, — догадалась Ирина Валентиновна.
— Не иначе как Фефелов Андрон Лукич в загранкомандировку отбыли, туды им и дорога, — хмыкнул старик Моченкин.
— Так вот вы какой, сеньор Сиракузерс, — прошептал Вадим Афанасьевич. — Прощайте навсегда!
И так исчез из наших глаз загадочный пассажир, подхваченный экспрессом.
Экспресс ушел, и свист его замер в небытии, в несуществующем пространстве, а мы остались в тишине на жарком и вонючем перроне.
Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него. Володя поднял голову, посмотрел на нас, вытер лицо подолом рубахи.
— Пошли, что ли, товарищи, — тихо сказал он, и мы не узнали в нем прежнего бузотера.
— Пошли, — сказали мы и попрыгали с перрона, а один из нас, по имени старик Моченкин, еще успел перед прыжком бросить в почтовый ящик письмо во все инстанции: «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть взад».
Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага сквозь заросли «куриной слепоты», папоротника и лопуха, и высокие, вровень с нами, лиловые свечки иван-чая покачивались в стеклянных сумерках.
И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару, и сердца наши дрогнули от нечерней, закатной, манящей, улетающей нежности.
А вот и она увидела нас и закурлыкала, запела что-то свое, засветилась под ранними звездами, потянулась к
111 нам желтыми цветочками, теперь уже огромными, как подсолнухи.
— Ну, что ж. поехали, товарищи, — тихо сказал Володя Телескопов, и мы полезли в ячейки бочкотары, каждый в свою…
Последний общий сон
Течет по России река. Поверх реки плывет Бочкотара, поет. Понизу реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны розовые, рыба камбала переливчатая…
Плывет Бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен. А в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный.
Он ждет всегда.
Золотая наша
Железка

 «Золотая наша железка» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1989, № 6–7. Текст печатается по настоящему изданию.
«Золотая наша железка» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1989, № 6–7. Текст печатается по настоящему изданию.
К истории публикации
Первый номер журнала «Юность» вышел в июне 1955 года. Очень быстро стал нарастать поток авторов всех возрастов. Уже в 1955–1959 годах по отделу прозы были опубликованы произведения как широко известных писателей — Юрия Германа, Александра Довженко, Вениамина Каверина, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Юрия Нагибина, Николая Носова, Анатолия Рыбакова, Николая Тихонова и других, — так и молодых, еще никому не известных.
Назовем некоторых дебютантов тех лет в хронологическом порядке публикаций. Анатолий Гладилин — 21 год: повесть «Хроника времен Виктора Подгурского». Евгений (Патько — 26 лет; рассказ «Разъездной инспектор Кашкина». Анатолий Кузнецов — 28 лет: повесть «Продолжение легенды». Владимир Амлинский — 22 года; рассказ «Станция первой любви». Анатолий Приставкин — 27 лет: рассказы «Трудное детство». Евгений Евтушенко — 25 лет: рассказ «Четвертая Мещанская». Назвали мы лишь тех, кто более тридцати лет назад не без робости входил в отдел прозы со своим «первым детищем». Молод был журнал, молоды были и они. Сегодня известно — из них выросли талантливые писатели.
Об одном из молодых прозаиков расскажем поподробнее.
В седьмом номере «Юности» за 1959 год лаконичная справка: «Автор рассказов «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» — врач. Ему 26 лет. Печатается впервые».
Рассказы в редакцию автор сам не приносил и не присылал. Передал кто-то из его друзей. Рассказов было много. Подумалось, что автор не без способностей, и решили два рассказа показать главному редактору — тогда им был выдающийся советский писатель Валентин Катаев. Он полистал страницы машинописного текста, задумался, встал, снова сел. Хвалил Катаев нас редко, а тут вдруг сказал:
— Молодцы, ребята, нашли автора, он станет настоящим писателем. Замечательным.
Обрадованные, мы ожидающе смотрели на него. Почему он так решил? Неплохие рассказы, и все!
— Дальше читать не буду. Мне ясно. Он — писатель, умеет видеть, умеет блестяще выражать увиденное, — продолжал Валентин Петрович. — Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: «Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля». Поняли? Сдавайте в набор.
С того седьмого номера «Юности» за 1959 год началась творческая биография Василия Аксенова.
Через несколько дней после выхода «Юности» с его рассказами Аксенов уезжал на военные сборы в Эстонию. Перед отъездом принес в отдел прозы толстую рукопись.
— Почитайте, пожалуйста, а я оттуда позвоню.
Называлась повесть «Рассыпанною цепью». В центре повествования выпускники медицинского института, будущие врачи, начало их самостоятельной работы, когда они после распределения «рассыпались» по стране. Но в трудную минуту жизни они снова вместе, слетаются со всех сторон, помогая тому, кто в этом особенно нуждается. Повесть заинтересовала увлекательным сюжетом, яркими образами героев, красочными деталями. Были у нас, конечно, и замечания, и пожелания. Когда Аксенов позвонил, ему сообщили, что на уровне отдела решение положительное, но, прежде чем показывать руководству, хотелось некоторой авторской доработки. Однотипны, к примеру, Карпов и Мошкове кий. Да и нужен ли образ Мошковского — он вторичен, иные его поступки и слова дублируют Карпова.
Через несколько дней Вася — так его уже звали в редакции — приехал в Москву. Он решил соединить образы Мошковского и Карпова в один. Получился полнокровный персонаж — доктор Владька Карпов. Два других — Саша Зеленин и Алеша Максимов доработок не требовали. Итак, три товарища! Вспомнилось название популярнейшей в те годы книги Ремарка. Ho не повторять же его! И вообще «Рассыпанною цепью» неплохо, но хотелось бы более броское, более запоминающееся название.
Неожиданно в маленькую комнатку отдела прозы вошел Валентин Петрович. Повесть он еще не прочел, но много слышал о ней и доброжелательно заговорил с автором.
— Что задумались?! Говорят, все хорошо! А как называется? Кто герои?
Аксенов — он тогда еще был нерешителен и застенчив — тихо ответил:
— «Рассыпанною цепью», а герои — молодые врачи, три товарища.
— О, друзья мои! — воскликнул Катаев. — Русские врачи издавна называли друг друга «коллегами». Не дать ли такое название повести? «КОЛЛЕГИ» — звучит интеллигентно и ясно.
— «Коллеги», «Коллеги», — как бы про себя повторил Вася, — действительно, звучит.
В шестом и седьмом номерах «Юности» за 1960 год Коллеги» увидели свет. Василий Аксенов сразу стал знаменитым. А вскоре он принес в «Юность» роман «Орел или решка?» о десятиклассниках. Острый, почти детективный сюжет, сочно выписанные образы, непростые взаимоотношения героев разных поколений. Жизнь современных подростков без всяких прикрас. В редакции читали взахлеб, отбирая друг у друга странички. Конечно же, немало нашлось и замечаний: что-то нуждалось в доработке, что-то в сокращениях, что-то в стилистической правке. Когда рукопись была готова к сдаче в производство, Аксенов смущенно признался:
— Когда я принес роман в редакцию, я одновременно показал его на киностудии и там…
— Что «там»? Мы уже в набор отправляем.
— Помните сцену в самом конце: Дима после гибели своего старшего брата Виктора приходит в их старый, полуразрушенный дом и ложится на чудом уцелевший подоконник. Дима знал, что Виктор любил лежать на подоконнике и смотреть в небо, усыпанное звездами. В финале есть такая фраза: «…ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ». На киностудии роман дали читать Константину Михайловичу Симонову. Он прочел, все ему нравится, кроме названия. По его мнению «Орел или решка?» мелковато и кокетливо. Предлагает назвать роман «Звездный билет»…
Мы согласились с новым названием, но решили все-таки сохранить и «орла», и «решку» в названии первой части.
Итак, снова, уже третий год подряд, в летних номерах — шестом и седьмом — публиковались произведения Василия Аксенова, на этот раз роман «Звездный билет». Аксенов стал знаменитым не только на родине, но и за рубежом. В этом «помогли» и критики. Очень много писали: одни хвалили, другие нещадно ругали, но так или иначе в начале шестидесятых годов имена Аксенова и его «звездных мальчиков» не сходили со страниц газет и журналов.
А «Юность» продолжала печатать В. Аксенова: «Апельсины из Марокко» (1963), большой цикл «Новые рассказы» (1964). «Затоваренная бочкотара» (1968), «Любовь к электричеству» (1971).
«Любовь к электричеству» — историко-революционный, биографический роман-хроника о жизни и деятельности удивительного и сложного человека, одного из ближайших соратников Ленина — большевика Леонида Красина. Аксенов взялся за эту тему не случайно. Тот, кто прочитал в № 4 «Юности» интервью с Аксеновым, поймет, что поиски подлинной справедливости и живых ее носителей для него не пустые слова.
В начале 1973 года Василий Павлович предложил «Юности» новую юмористическую повесть с преувеличениями и воспоминаниями — «Золотая наша Железка». История подготовки ее к печати очень непростая. «Золотую нашу Железку», как и ранее «Затоваренную бочкотару», встретили в редакции по-разному. Нашлись яростные противники и яростные сторонники. Казалось, что победили вторые. Была сделана необходимая авторская и редакторская правка. Тогдашний главный редактор журнала Борис Николаевич Полевой писал из больницы редактору отдела прозы: «Дорогая Мария Лазаревна! Сегодня меня спустили с койки, и я хочу дописать письмо… Речь идет, конечно же, о великолепной, обожаемой Отделом «Железке»… Мне тоже хочется напечатать Аксенова. Может быть, не меньше, чем Вам…» И далее следует ряд советов автору и отделу. А заключает свое письмо Полевой так: «Это программа-максимум. Если хотите увидеть повесть напечатанной, реализуйте ее… А вообще-то взяться бы ему за ум, вернуться к временам великолепных «Коллег», «Звездного билета», «Апельсинов»… Всего Вам хорошего… Ваш Б. Полевой».
Аксенов многое учел и поправил. И написал предисловие, которое должно было облегчить восприятие повести:
«В этой повести, что сейчас ляжет перед Вами, дорогой читатель, автор пытается выразить то, о чем он думал в течение долгих уже лет. Поколение автора, поколение послевоенных мальчиков, сохранившее память об эвакуациях и блокадах, поколение юношей пятидесятых годов и молодых строителей шестидесятых, подошло сейчас к серьезному возрастному рубежу — сорокалетию, за которым начинается полоса других, может быть, самых ответственных лет. Юношеские очарования, увы, остались за кормой, но впереди нас ждут годы напряженного труда, продолжение поиска и новый поиск. Автору кажется, что нужно на миг остановиться, глубоко вздохнуть и наполнить легкие кислородом Родины и подумать, как мы прожили лучшую половину жизни и как будем жить другую половину, может быть, и не худшую. Книга эта и есть для автора гикая остановка, такой вздох.
Возможно, главная черта нашего поколения — это преданность своему делу, полное страсти служение этому делу, более того — поклонение своему делу. Именно с этой преданностью и с этой страстью наше поколение поднимало целину, строило огромные сибирские электростанции и города науки, штурмовало космос. Да, ведь именно парни нашего поколения первыми покинули родную планету и первыми прикоснулись к другому небесному телу. Да, ведь Юрии Гагарин и Нил Армстронг — именно парни нашего поколения!
Конечно, поколение неоднородно, и рядом с одухотворенностью живет еще и бездуховность, дешевый снобизм, тщеславие… В столкновении духовности и бездуховности происходит размышление.
Автор избрал для повествования юмористическую канву, ибо считает, что рядом с юмором размышление выглядит строже…»
Планировали «Золотую нашу Железку» на шестой номер 1974 года. Но, увы, тогда она света не увидела.
Ныне мы рады предложить ее вниманию читателей.
Отдел прозы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
С ВЫСОТЫ 10 000 МЕТРОВ
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
Борис ПАСТЕРНАК
Для того, чтобы начать эту повесть. автору пришлось сильно потратиться, а именно купить самолетный билет от Москвы до Зимоярска. Затем ему пришлось встать ни свет ни заря, чтобы занять место в аэропорту Домодедово, в диспетчерской по транзиту.
Автору важно было разместить большую группу будущих героев, возвращающихся из летних отпусков, в одном самолете, чтобы раскрутить по всем правилам стройную экспозицию. Сейчас он приносит благодарность Аэрофлоту за то, что это удалось без особых трудов и при помощи самого незначительного авторского произвола. Насилие над героем всегда удручает людей нашей тоже гуманной профессии.
Итак, все прошло благополучно; герои умудрились встретиться в огромном порту и получить билеты на один рейс. Довольный автор уже собирался начать спокойное повествование от третьего лица, как вдруг заметил на трапе фигуру в кожаной крылатке, фигуру своего недавнего и неприятного знакомого — молодого «авангардиста» Мемозова, который за последние несколько лет умудрился пробить три бреши в его творческой цитадели. Более того, автору показалось, что сквозь бушующие на аэродромном ветру черные пряди сверкнул дьявольский зрачок Мемозова, а на бледном его лице мелькнула издевательская улыбка в его, автора, адрес.
Что влечет этого неприятного завсегдатая буфетной залы Общества Деятелей Искусств в далекое сибирское путешествие? Ведь не собирается же он в самом деле написать повесть о Железке?
Тягостное беспокойство на какое-то время охватило автора, но люки были уже задраены, пора начинать, и он смалодушничал, ухватился за испытанное оружие, за «я» и загудел как бы от лица старшего научного сотрудника Вадима Аполлинариевича Китоусова и в то же время как бы от себя.
Если вы ничего о Ней не знаете, вы можете Ее и не заметить с высоты полета транссибирского аэро. Может быть, ваш безучастный взгляд и отметит небольшую розоватую проплешину среди «зеленого моря тайги», но уж. во всяком случае, вы не прильнете к иллюминатору и не испытаете никаких чувств, если только вы вдруг не почувствуете ничего особенного, что не исключено. Если же вы не только знаете Ее, но и служите Ей уже многие годы, то есть если вы Ее любите, то вы. конечно же, влепитесь в иллюминатор задолго до приближения к Ней, чтобы как-нибудь не проглядеть, и будете волноваться, словно перед встречей с близким человеком или любимым животным, и разглядите все Ее составные пятнышки, камешки, прожилки, блестки, и. может быть, вам Она даже покажется не просто близкой, волнующей, но и красивой; может быть, даже с десятикилометровой высоты Она напомнит вам нечто нежное и беззащитное, с крылышками и тонким стержнем-тельцем, нечто вроде бабочки, эдакой терракотовой баттерфляй, изящной и непрочной, как иностранное произведение искусства. Вот она какова с высоты, наша Железка! Все уставились в окошки: Паша Слон и Наталья Слон, Ким Морзицер. Эрнест Морковников и сам Великий-Салазкин, и даже директор нашего торгового центра Крафаилов вместе с женою.
В десяти километрах от Железки, то есть за узенькой перемычкой «зеленого моря тайги», начиналась белоснежная геометрия нашего городка, но на нее-то как раз никто не обратил внимания. Все наши провожали взглядом уплывающую на запад Железку. Одна только моя жена Рита не смотрела в окно. Вот уже битый час она была занята беседой с новым самолетным знакомым Мемозовым. Вообразите, бука Рита вместо обычного своего сигаретного презрительного и «тианственного», именно тианственного, а не таинственного молчания оживленно беседует с чужим мужчиной, кивает ему головой, понимающе улыбается ртом, вырабатывает целые периоды устной речи да еще подрабатывает милой ручкой — поясняет сказанное пленительным жестом, и даже ее неизменная сигаретка весело участвует в диалоге. Чем же ее так расшевелил Мемозов?
Познакомились на свою голову. Ты, Рита, не видишь рядом серьезной драматической натуры, а верхогляды, оказывается, тебе по душе. Ты, Рита, даже не повернула свою нефертитскую головку, даже не скосила продолговатый свой «тианственный» глаз, ты равнодушно пролетела над нашей Железкой, в недрах которой десятилетие назад ты. глупая Рита, помнишь ли, звездочка моя вечерняя…
Десятилетие назад
С диким топотом, словно стадо африканских слонов, неслись по синхрофазотрону мои нейтроны, а я, новичок, еще не кандидат, а лишь романтик тайных физических наук, стоял, прижавшись молодым ухом к вороненой броне. и пытался сквозь этот грубый беспардонный батальонный топот уловить шорохи истинного микромира.
— Мотри, начальник, вухо обморозишь, — ласково сказал мне бесшумно подошедший сзади ночной сторож. — Усе гении давно пиво дуют в «Дабль-фью», а етот усе на стреме. В твои года я девчат шелушил, а не частицы считал. Подвижники изнемогли от дум, а тайны тоже сушат мудрый ум.
Он снисходительно смазал меня слегка по шее и косолапо удалился в пятый тоннель, а я снисходительно хмыкнул ему вслед и мимолетно удивился человеческому невежеству. Здесь, под моим ухом, за жалким трехметровым слоем вороненой брони шуршат титанические процессы, а этот — о пиве, о девчатах… Даже рубаями рубит! Вот они, полюсы человеческого интеллекта: один сидит под яблоней, развлекает свою нервную систему мыслями о законах тяготения, другой — проникает в глубину соблазнительного фрукта, рвет пытливыми зубами умопомрачительное сцепление молекул. Однако, пардон, пардон, откуда этот типус Хайяма знает?
Все! Зажглась лампа — мое время кончилось. Я вытащил кассеты и куда-то поплелся по огромному, пустому зданию. Теперь вместо топота нейтронов слышались только мои шаркающие шаги, да еще где-то в юго-западном секторе зацокали каблучки: это вступал на арену новый гладиатор — наша аспиранточка Наталья Слон.
В устье шестого тоннеля я обнаружил еще одну живую душу: девчонку-сатураторщицу. Она сидела на железном шестке и читала книгу. «Дым в глаза», как сейчас помню. Не отрываясь от захватывающего чтения, сокровенно улыбаясь шалостям молодого в те дни Гладилина, она нажала что-то нужное и подтолкнула ко мне пузырящийся стакан.
Любопытно, подумал я, для чего к сатуратору сажают девчонку? Неужели я не разберусь, где что нажать, а если для контроля, то неужели я, ученый физик, буду злоупотреблять водой, стаканом, сжатым воздухом?
— Для чего ты здесь сидишь? — спросил я.
— Я люблю одиночество. — ответила она.
Она подняла лицо, и я тут же понял — не зря туг сидит. Затихшая было вода в недопитом стакане вновь закипела. Плотный заряд пахучего воздуха с далекой хвойной планеты пролетел по шестому тоннелю.
— Еще стакан, будьте любезны, — отдуваясь, проговорил я.
Вновь удар по клавишам, органный хул, трепет крыл, и блаженная газировка в кулаке — пей, пока не лопнешь. Интеллигентная девушка с вопросительной усмешкой смотрела на меня. Мне полагалось пошутить. Я знал, что мне сейчас полагается пошутить, а мне хотелось с ходу заныть: «Любимая, желанная, счастье мое, на всю жизнь. Прекрасная Дама». Шли секунды, и страх сегмент за сегментом сжимал мою кожу: если я сейчас не пошучу, все рухнет.
— А на вынос не даете? — наконец пошутил я.
Она засмеялась, как мне показалось, с облегчением. Кажется, она обрадовалась, что я все-таки пошутил и наш контакт не оборвался. Слабосильная шуточка открыла нам головокружительные перспективы.
— То-то, начальник, — услышал я за спиной. — Таперича ты по делу выступаешь.
Ночной сторож, засунув руки в карманы засаленной нейлоновой телогреечки, покачивался на сбитых каблуках, как какой-нибудь питерский стиляга, и возмутительно улыбался в мокрую бороденку.
— Что вам угодно? — вскричал я. — Что это за отвратительная манера? Экое амикошонство!
— Не базарь, не базарь! — Ночной сторож бочком отправился в смущенную ретираду. — Я ведь тебе по-хорошему, а ты в бутыль! Али для тебя нейтроны дороже такой красавицы?
— Что вы знаете о нейтронах! — крикнул я уже не для сторожа, а для моей Прекрасной Дамы.
— Я ими насморк лечу, — ответил он уже издали, повернулся и быстро ушел, дергая локтями, как бы подтягивая штаны.
— Каков гусь! — воскликнул я, повернулся к девушке и увидел ее глаза, расширенные в священном ужасе.
— Как вы можете так говорить с ним?! Вы, сравнительно молодой ученый! — шепотом прокричала она. — Ведь он сюда приходит по ночам мыслить.
— Кто приходит мыслить?
— Великий-Салазкин.
— Вы хотите сказать, что это он…
КОТОРЫЙ написал три десятка томов три десятка громов чье эхо не иссякает в наших Гималаях КОТОРОГО ум сливается с небом с наукой КОТОРЫЙ привел в тайгу первую молодежь КОТОРЫЙ воздвиг на болоте нашу красавицу Железку.
— Ну конечно, неужели не узнали, — горячо шептала она, — это сам Великий-Салазкин. В шутку он говорит, что лечит здесь насморк шальными нейтронами, а на самом деле мыслит по вопросам мироздания.
— Хе. — сказал я, — пфе, ха-ха, подумаешь; между прочим, не он один по ночам мыслит и, задыхаясь в метелях полуденной пыли, врывается к богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит…
Выпалив все это одним духом, я уставился на целое десятилетие в палестинские маргаритские тианственные, именно тианственные, а не таинственные, глаза.
О ветер, полынный запах космоса, газированная ночная мысль моего кумира, которого я сегодня впервые увидел. о девушка за сатуратором, о тайны ночной смены…
— Давайте уйдем отсюда?
— Но кто же будет поить людей?
— Жаждущий напьется сам…
Мы пошли к выходу, держась за Гладилина, объединяясь его переплетом, электризуя его и без того гальваническую прозу.
В сумраке ничейного пространства из-за бетонного упора вышел Великий-Салазкин. Голова его лежала на левом плече, как у скрипача, а лицо было изменено трагической усмешкой пожилого Пьеро.
— Уводишь, начальник? — спросил он.
— Угадали, — ответил я, плотнее сжимая «Дым в глаза». Кумир — не кумир, а девушка дороже. — Увожу насовсем.
— Не по делу выступаешь, — хрипло сказал Великий-Салазкин.
— А чего же вы держите ребенка по ночам в подземелье? — с неизвестно откуда взявшейся наглостью завелся я. — Неужели нельзя поставить автомат с водой? Вряд ли такую картину увидишь в Женеве, товарищ Великий-Салазкин.
— А теперь по делу выступаешь, младший научный сотрудник Китоусов, — печально, но понимающе проговорил легендарный ученый.
На следующий день в шестом тоннеле уже красовался пунцовый автомат Лосиноостровского сиропного завода, а Рита на ближайшее десятилетие заняла свое место на моей тахте среди книг, кассет, пластинок и окурков.
Молчание ее было тианственным. Суть этого слова еще не совсем ясна нашему вдумчивому, проницательному. снисходительному, веселому и симпатичному читателю, который у нас, как известно, лучший в мире, потому что много читает в метро.
Тианственное молчание пахучими корешками уходит и прошлое, к царице Нефертити, в Одессу, в киоск по продаже медальонов с чудесной египтянкой. Именно здесь девочка Маргариточка получила тягу к прекрасному, к тианственному, и чтение в милом, пыльном отрочестве лохматого тома «Королевы Марго» с «тианственной» опечаткой было первым оргбриллиантом в образе нынешней тианственной красавицы.
Когда впервые, уже на тахте Китового Уса, она прочла вслух: «Ночь проходила в тианственном молчании», — ее молодой супруг долго хохотал, просто катался рядом по линолеуму, а после сказал:
— Утверждаю! Теперь ты будешь тианственной Марго. Это очень в образе!
Ты, Рита, подарила мне за эти десять лет столько счастья, но ты, Рита, так мало подарила мне взаимопонимания. ты лишь вставляла в мои монологи ядовитые реплики…
Вот, к примеру, один наш вечер.
Я, Китоусов: Блаженные мысли нас посещают под утро. Вечер — опасное время для философских забот.
Она, Рита: Глубоко копаешь, Китоус!
Я, Китоусов: Дымный морозный закат над металлозаводом. Химфармфарш вместо облаков. Грозно остывающие внутренние органы, лиловые процессы метаболизма… а в углу, над елочками, над детским садом полнейшая пустынность и бесконечная зима… бесчеловечность…
Она, Рита: А ты не графоманишь, Китоус?
Я. Китоусов: Мысль о случайности рода людского не раз посещала меня в морозный химический вечер. Случайные чередования слов и нотных знаков, случайное пересечение путей, случайность нашей орбиты, одни случайности, без всяких совпадений… зависимость от бесконечной грозной череды случайностей… взрывы на солнце и вирусов тайный бессмысленный нерест, случайные сговоры и ссоры, коррозия отношений, зыбкость биологической пленки — ах, друзья, случайность и зависимость от нее угнетают меня в такие сорокаградусные вечера.
Она, Рита: Ребята, больше Китоусу не наливайте.
Я. Китоусов: Впрочем, ночью где-нибудь в уголке твоего организма может пройти какая-нибудь случайная реакция, ты проснешься Светофором Колумбом, Фрэнсисом Ветчиной или братьями Черепановыми и по дороге на работу, по хрустящему насточку, по пушистому лесочку, среди красноносых живоглотов, среди вас, ребята, среди порхающих удодов, тетеревов и снегирей, среди анодов и катодов, жуя хрустящий сельдерей, идя по насту шагом резким и подходя к родной Железке, ты забываешь вечерние энтропические страдания и думаешь о будущем, где исчезнет власть случайностей, где все будет предопределено наукой, — все встречи, разлуки, биологические процессы, открытия, закрытия, творческие акты, где все будет учтено, весь бесконечный, грозный ныне, вызывающий мистический страх конгломерат случайностей, где люди будут жить, сами того не подозревая, под зорким оком и с надежным набрюшником Матери-Науки.
Она, Рита: Я бы удавилась в таком будущем. Китоус.
А ты, Рита, даже и знать не будешь о набрюшнике, ты даже не заметишь, как под влиянием антислучайной регуляции изменится в разумную сторону твой характер, и ты даже не будешь перебивать своего вдумчивого мужа ядовитыми репликами. Ты не будешь столько курить и презрительно букать своими губками, ты будешь преклоняться перед своим избранником и сольешься с ним не только физически, но и духовно, и даже не будешь мучить себя вопросами: «почему я с ним слилась?» — сольешься, и все. И. уж конечно, ты, Рита, не будешь уделять в самолетах только внимания случайным, именно случайным, попутчикам, быстроязыким верхоглядам, у которых ротовая полость похожа на шейкер для смешивания небезвредных коктейлей.
Рассуждая таким образом и вспоминая прожитое, Китоусов, разумеется, не шевельнул ни одним мускулом лица. Откинув голову и прикрыв веки, он плыл в вечно синем пространстве, и желающие могли сравнить его простое и чистое, весьма одухотворенное лицо — с пошловатыми бачками, претенциозными усиками, блудливой эспаньолкой, шустрыми суетными глазками Мемозова, сравнить и дать Вадиму Аполлинариевичу большую фору. Однако жена Рита лишь презрительно щурилась левым глазом, как бы ничего им не видя из-за выпущенных ею клубов дыма, правым же — внимательно внимая дерзким речам авангардиста:
— …а вам, Маргарита-плутовка, следует помнить о зловещей роли вашей тезки в плачевной судьбе магистра Кулакова, вступившего в непродуманную коллаборацию с Нечистой силой, представитель которой Мемозов-эсквайр ныне касается вас своим биологически-активным локтем…
Итак, горело уже табло, и сосали аэрофлотовские карамельки пассажиры, и среди них было и несколько ученых, жителей знаменитого во всем мире научного форпоста Пихты, излучающего на сотни таежных километров вокруг себя прекрасное сияние футурума.
Вот генетик Павел Аполлинариевич Слон, седой и все еще молодой, невероятно тренированный физически и в нервном отношении незаурядный человек. Он возвращался в Пихты из подводного царства, из сумрачных глубин, из гротов и расщелин подводного вулкана, возвращался отчужденный, отстраненный, со смутной дельфиньей улыбкой на устах. С этой улыбкой он и встретил случайно в домодедовском буфете жену свою Наталью, которая возвращалась из отпуска, но не из глубин, а с высот, с заоблачных вершин, с седловины Эльбруса.
Надо ли говорить о том, как прекрасна была краснолицая слаломистка и как бледен, зеленоват был акванавт. Единственным, что объединило супругов в момент встречи. были легкие симптомы кессонной болезни, которые они почувствовали, увидев друг друга.
— Наталья, да ты озверела совсем! — возопил муж, быстрыми шагами приближаясь к жене.
— Пашка, да я тебя придушу! — воскликнула жена, вьюном стремясь к мужу между тумбами буфета.
Многие пассажиры, ставшие свидетелями встречи этой зрелой, то есть почти уже немолодой пары людей, умилились и усомнились в ценности своего собственного багажа: в сладости сабзы, кишмиша и зеравшанского винограда, в пухлости мохера, в эластичности европейских кожзаменителей.
Загорелая Наталья развалила свои выцветшие патлы по плечу зеленоватого гиганта. Ах, черт дери, озверела она совсем: без предупреждения встречает мужа в аэропорту. Разве же так можно? А вдруг он с глубоководной русалкой? И он тоже хорош: носом к носу столкнуться с супружницей в последний день отпуска! Отпуск — дело святое. А вдруг какой-нибудь малый ее провожает, какой-нибудь Черный Альпинист с Ушбы? Так они покачивались в объятии, ворча традиционные для их поколения упреки, за которыми слышалось другое: ах ты, балда эдакая, да как же так можно — за целый месяц ни одной телеграммы, ни одного звонка, ни единого лучика в небе, ни единого пузырька на поверхности.
Павел Слон был представителем стареющего поколения научных суперменов, которые лет двадцать-пятнадцать назад стали героями публики под лозунгом «что-то лирики в загоне, что-то физики в почете». Эти загадочные небожители, пионеры новых видов спорта, давно уже никого не интересовали, давно уже стали объектами снисходительных усмешек, но Слон все еще держался в образе: грубыми словами камуфлировал нежность к своей Подружке, сохранял в душе святыню юности — «хэмовский айсберг», на четыре пятых скрытый под водой, изнурял себя аквалангом, часами слушал устаревшие бибопы, скалил зубы на манер покойного Збышека Цибульского.
Иногда он вдруг наливал себе чаю в большую кружку, пускал в рейс ломтик лимона, втягивал жгучий напиток, который втайне любил гораздо больше всяких там суперовских «спиртяшек», «колобашек», «кровавой Мэри», и долго смотрел на читающую, вооруженную сильными линзами Наталью, тихо грустил, созерцая ее слегка уже отвисшую щеку, и ждал момента, когда она поднимет голову и сквозь ее маску сорокалетней усталой и уверенной в себе физикессы вдруг робко проглянет та девочка, лучшая девочка их поколения, поколения пятидесятых, что прошлепало драной микропоркой на закат, по Невскому к Адмиралтейству, и испарилось в кипящей пронзительно-холодной листве.
В конце концов смирись.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти.
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти. —
прочел я напоследок, закрыл книгу, сунул ее в баул и подумал о вечно юном поэте: как он юн! Какие нужно иметь ноздри, чтобы сохранить до седин юный нюх! Какова свежесть слизистой оболочки и нежность мерцательного эпителия! Истинный запах леса, дождя, женщины, типографской строки, истинный запах смысла может уловить только поэт. Когда ты ловишь этот смысл, ты становишься молодым. Увы, нам, смертным, даруются природой лишь редкие* озарения.
Однажды в тишине
своей трехкомнатной комфортной юдоли я читал американский роман. Я лежал плашмя на гнхте, вяло читал не очень-то энергичный роман и чувствовал себя разбитым. Истекал очередной напряженный до предела день, в течение которого мозг мой трудился, стремясь достичь подобающих моей зрелости высот, а потом и мышцы мои трудились на хоккейной площадке, стремясь обмануть природу. Сейчас я лежал, расслабясь, слыша, как сквозь вату, голоса детей и веский голос из телеящика, голос нашего ежевечернего гостя, очередного вервольфа, и, словно сквозь слой воды или сквозь толстое мутное стекло, следил за движением некоего расплывчатого пятна, которое было не кем иным, как героем американского романа.
Герой двигался по Елисейским полям, и они, эти поля, тянулись в моем усталом сознании какой-то бесконечной черствой коврижкой из кондитерской Елисеевского магазина. Герой думал о двух женщинах, сравнивал их, страдал, но я никак не мог разлепить этих женщин, отделить их от Елисеевского магазина, сравнить их со страданием героя и для масштаба приложить к страданию ладонь.
Как вдруг я прочел обыкновенную фразу, очередную фразу повествования, отнюдь не выделенную каким-либо типографским излишеством и вроде бы не смазанную изнутри ни фосфором, ни рыбьим жиром. Кажется, эта фраза звучала так: «Когда он вышел из кафе, ему показалось, что наступил вечер. Сильный северо-западный ветер нагнал тяжелые тучи и теперь в неожиданных сумерках раскачивал деревья вдоль Елисейских полей».
Меня вдруг судорогой свело. Вдруг меня скрючило всего от мгновенного ужаса и восторга. Я вдруг все это увидел так, как будто это я сам вышел из кафе на Елисейских полях. Столь пронзительное и незримое временем мгновение, ярчайшая вспышка, озарившая сумерки, тяжелые тучи, качающиеся ветви, стадо машин, толпу на широком тротуаре и отчетливый запах этого мгновения… Контрольное устройство в мозгу, охраняющее нас от поэтического безумия, тут же щелкнуло, и видение было изгнано, шквал пролетел, но студенистые волны еще качались, и я вскочил с тахты и даже не успел опомниться, как оказался за стойкой бара в «Дабль-фью» и уже что-то болтал, что-то возбужденно насвистывал, мне хотелось куда-то улететь, где-то шляться, кого-то искать… Следует сказать, что вовсе мне не хотелось в этот момент на Елисейские поля и уж тем более мне не хотелось стать героем американского романа. Просто я в этот счастливый и страшный миг неизвестно по какой причине вдруг увидел от начала до конца все содержание этой простой фразы. Так вот бывает и в отрочестве, когда внезапно и мгновенно осознаешь истинный знобящий смысл влажного весеннего склона, черной мясной земли, папоротников и «куриной слепоты». Осознаешь и тут же теряешь это осознание.
Хорошо, что теряешь. Что было бы с человеком, если бы он трепетал от каждого запаха, музыкального звука или фразы? Если бы депрессия и восторг бесконечно раскачивали его, как килевая качка в шторм. Ведь он не смог бы тогда логически мыслить, не смог бы заниматься своим делом, воспитывать своих детей, гладить брюки, получать зарплату.
Как хорошо — неизбывная горечь: никотином и алкоголем ты сушишь гортань и ноздри, а житейские катары превращают тебя в матерого трудягу, диоптрии здравого смысла усмиряют буйство глаз, а дренажная система пятого десятка отлично справляется с половодьем чувств. И ты колупаешь диетическое яйцо и отводишь взгляд от акваланга, ластов и гидрокостюма.
В конце концов смирись, говорю я себе, ты никогда больше не будешь молод. В конце концов есть в твоей жизни еще кое-что, кроме былых восторгов. Есть твои маленькие мужички, три сына — тройка нападения. И есть еще нечто — подсвеченный в ночь портал Железки, и там. за проходной, твой алтарь, жертвенник, ложе вечной любви. Пусть наши девочки стареют, но за воротами Железки отливает оловом и перламутром вечная Клеопатра, муха Дрозофила, мать мутаций.
Тут Павел Аполлинариевич улыбнулся своим мыслям, подмигнул своей Наталье, замурлыкал мотивчик «Гринфилдс», поиграл для душевной гармонии мускулами брюшного пресса и попросил своего соседа, математика Эрнеста
Морковникова, сообщить, который час, какой день недели, месяц, год и «какие милые у нас тысячелетия на дворе».
Эрнест Аполлинариевич с фальшивым равнодушием взглянул на свои часы и не без скрытого удовольствия сообщил Слону все эти данные и, кроме того, барометрическое давление, затем собственное артериальное давление, температуру своего тела и счет пульса.
Удивительные часы были призом, который принесло Эрнесту Морковникову его недюжинное дарование на весенних математических играх озера Блед. Не более сотни этих удивительных аппаратов было выковано фирмой «Лонжин» для выдающихся особ нашего времени, не более сотни. Кроме перечисленных уже свойств, часы Морковникова обладали и еще какими-то уже не удивительными, а удивительнейшими, неясными еще владельцу свойствами. В частности, они действовали на психику и вегетативную нервную систему в самом положительном тонизирующем смысле.
Эрик стал действительным академиком в неполные двадцать пять, а в неполные тридцать исписал своими отечественными и иностранными титулами целиком школьную тетрадку своего сына. Он все начал рано и всего очень рано достиг. Он был вундеркиндом и стал вундерменшем. Он был неслыханно популярен и не только как гениальный математик, но и как личность, как обаятельный джентльмен, борец против загрязнения окружающей среды.
Но все-таки он был гениальным математиком и, увы, ничего не мог поделать с этим своим качеством. Это качество порой не только не помогало ему, но даже и мешало, выставляло порой в нелепом и смешном виде, ибо принимало характер мании. Председательствуя, например, однажды в консультативном подкомитете ЮНЕСКО по вопросам экологии, стоя под софитами в белом старинном зале с тончайшей резьбой по мрамору. Эрнест Аполлинариевич вдруг заметил в галстуке пакистанского коллеги заколку, похожую на дальнейшее сползание сигмы к катеноиду удлиненной под вечер тройной альфы в кубе обычной урбанической дисгармонии банаховою пространства, откуда следовало, что
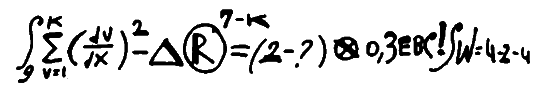
о чем он и сообщил изумленным коллегам по борьбе.
Вот и сейчас в комфортабельном кресле наиновейшего аэро, предаваясь приятным воспоминаниям о недавнем отдыхе и наводя порядок в своем кейсе. Морковников вдруг почувствовал подкожный гул и мощные под печень толчки крови, отравленной любимой математикой.
Письмо к Прометею
Скрипнув зубами, я написал под анкетой журнала «ВОГ» свою сигнатуру, вложил анкету в именной конверт, приклеил марку «Семидесятилетие русского футбола».
Проклятая марка без всяких оговорок и намеков говорила, вернее даже не говорила, а вопила об углублении синусоиды кью в противозвездном противолунном кабацком пространстве.

О Боги Олимпа! «∞ и & ты, Прометей, кацо, душа лубэзный, за что мне такие муки? и неужели

а лямбда-сука убежала с просроченным пропуском через проходную в дебри окаменевшего за четыре столетия винегрета, чтобы снова выплыть уже как

О батоно, ты помнишь ту непристойную картину
[3], где четверо тигроподобных усачей в трико играют в регби двое голубых и двое оранжевых один из них вполне пенсионер как они под неспокойным и прохладным небом в кустах лаврового листа который мы с тобой о Прометей с таким риском на рынок в Олимпию возили пусть так. Пусть так! Ах так, месье Руссо? Как мы с тобой смертельно рисковали, генацвале. а они — гоняют мяч без всяких выражений молча в нелепых позах с кошачьими порочными мордашками рантье пускай теперь текут в водораздел родной Железки измельчаясь в состав молекулярный и внедряясь в обмен веществ Сибири необъятной — адью! — и вот на память

мученья печени, истерзанной орлами… там на Кавказе, помнишь.

потерпи — я ухожу, захлопываю двери: сперва фанерную, дубовую потом, потом цемент, потом асбожелезо, теперь броня и цинк, и алюминий… я наконец убрался в уединенный сейф в родной Железке, в которой я плюю на все анкеты журнала «ВОГ» и «Литгазеты», унылые вопросы оставляю за проходной и шлю тебе привет, вот эту птичку

Ох, оох, уух и на этом спасибо, дайте воды… мы, кажется, проходим облака? Что-то тряхнуло? Не обращайте внимания, однажды я летел в Перу, так нас так тряхнуло, как… как… как в автобусе, знаете ли… Вам приходилось, должно быть, ездить в автобусе? Прошу вас, это дурно — заглядывать в чужие бумаги… да, я нарисовал птичку… дайте воды… ах, вы из молодежной газеты? Сейчас, я отвечу на все ваши вопросы.
— Простите, Эрнест Аполлинариевич, который час? — спросил корреспондент, чтобы сделать академику приятное.
Морковников сквозь ресницы посмотрел на свой чудесный аппарат:
— Восемнадцать часов двенадцать минут Москвы. Соединив эти цифры, опытный журналист получит дату Бородинской битвы. Пульс 200 ударов в минуту.
Уже давно все были привязаны и курение прекратилось, когда из туалета выскочил человек и непринужденно пошел по снижающемуся в тучах коридору.
То ли полноватый, то ли малость отекший, то ли кудрявый. то ли нечесаный, то ли малость «с приветом», то ли под мухой», то ли нарочито художнически расстегнутый, го ли потерявший пуговицы, то ли еще не старый, то ли уже не молодой, то ли застенчивый, то ли просто смурняга — человек этот своей неопределенностью корябал нерпы приличной публике. Это был, конечно, Ким Морзицер, кинофото-музлиткульт-работник из клуба города Пихты, зачинатель всяческих зачинов, новшеств, нестареющий искатель новых форм, прожевавший осколками зубов не один десяток сенсаций, бескорыстный ловкач, основатель поликлуба «Дабль-фью», словом, законченный неудачник, разменявший личную жизнь на молодежное движение шестидесятых годов.
— Риток, есть инфернальная идея, — с напускной бодростью сказал он, зацепившись за кресло, в котором столь картинно снижалась ленивая активистка и первая красавица Пихт Маргарита Китоусова. Снижалась, покачивая ногой, или, если угодно, покачивала ногой, снижаясь, что вернее.
— Ах, Кимчик, сядь, пожалуйста, — досадливо отмахнулась красавица. Она изо всех сил не обращала внимания на Вадима Аполлинариевича. спускающегося в одиночку в гипсовом скорбном величии.
— Моменто, синьоре! — вдруг воскликнул ее новый знакомый, пружинистый динамичный Мемозов и ухватил Кима за коротковатый полузамшевый полуподол. — Идеи, рожденные в самолетных чуланчиках, стоят недешево! — Он пронзительно улыбался, глядя снизу на отвисающие сероватые брыла и старомодный узенький галстук пихтинского пионера новых форм. Чуткий нос Мемозова сразу уловил запах соперника, а зоркое око сразу оценило его слабость, полнейшую беззащитность перед мемозовским авангардным напором. Все знал Мемозов наперед, все эти кимовские идеи: спальные мешки и вечера туристской песни, фотомонтажи и капустники, и синтетическое искусство, и кинетизм, и джаз, и цветомузыку, и все это старо-новосибирское мушкетерство. И всего этого старомодного новатора он видел насквозь, а потому сейчас дерзко накручивал влажную полузамшу на свой палец и готовился одной фразой сразу покончить с жалким соперником, чтобы больше уже не возиться.
Однако стюардессы помешали Киму изложить идею и таким образом сразу рухнуть к ногам Мемозова. Ким был усажен в кресло, пристегнут и усмирен леденцом. Вначале обескураженный, а потом тронутый и даже слегка возбужденный женской заботой, Ким бормотал, бросая лукавые взгляды плененного фавна:
— Да что вы, девчонки! Кого привязываете? Кому леденец? Да я, девчонки, с Юркой Мельниковым летал в ледовом патруле от Тикси до Кунашира. Да я, девчонки…
Стюардессы с холодным спокойствием смотрели на него, а он вдруг осекся, вдруг замер, как бы новым взглядом увидел воздушных фей своего воображения, столь популярных в недалеком прошлом героинь молодого искусства, этих «простых девчонок из поднебесья», и тут все сто четыре страницы его любви отщелкали, как колода карт в тугом кулаке. Морзицер даже рот открыл.
— Эх, девчонки!
— При засасывании взлетно-посадочной карамели глотательные движения помогут вам преодолеть неприятные ощущения, гражданин.
Стюардессы удалились, а Ким вслед им уважительно хохотнул, давая понять, что оценил невозмутимость и чувство юмора, хотя никакого юмора в служебном глотательном напутствии не было. Он подумал, что всегда в самолетах будоражит себя какими-то несбыточными надеждами, стереотипно романтизирует бортовую проводницу, и какой-то быстрый, но болезненный стыд пронизал его.
Впрочем, пронизал — и улетучился. Ким движением лица прогнал этот мимолетный стыд и стал смотреть на мокрую черную рвань, сменившую за окном фантастическое зрелище высотного заката. Он попытался подумать о своей новой идее, но тут обнаружил, что идею начисто забыл, помнил лишь, что она, как и все его прочие идеи, — сногсшибательная. Вдруг снова какое-то неприятнейшее чувство, словно тошнота, стало подниматься, и все выше но мере того, как он вспоминал что-то смутное — какие-то чужие лица, недоуменные взгляды, странные улыбки; и вскоре стало ясно, что тошнота эта — тоже стыд, но уже большой стыд, от которого не отделаешься, даже если встряхнешься всей шерстью, по-собачьи.
Сегодня утром в круговерти аэровокзала к нему подошел некто в лихо сдвинутой и сильно истертой за полтора десятилетия кепочке-букле. Некий нетипичный человек, не тертый и лоснящийся от истертости франт пятидесятых годов с отекшим лицом и с красными слезящимися глазами.
— Послушай, друг, сделай мне одолжение на одиннадцать копеек, — обратился он к Морзицеру.
Он смотрел на Морзицера нетипичным смущенно-насмешливым, но совершенно независимым взглядом, и глаза его слезились, но не от жалости, и голос дрожал, но не из подобострастия. Он стоял перед Морзицером, большой, оплывший, но еще сильный, совершивший в своей жизни множество гадких поступков, усталый, опустившийся, но все-таки еще на что-то годный и чистый. Он смотрел на Кима добродушно и заинтересованно, совсем не с точки зрения одиннадцати копеек, но все-таки надеясь получить эту небольшую сумму.
— Врать не буду, старик, не на билет и не на бульон для больной мамы прошу, — зябко, со всхлипом сказал он, запахиваясь в просторный и старый, но не потерявший еще формы и даже некоторого шика пиджак. — Сам видишь, старик, какое дело. Весь дрожу, старик, в глазах туман.
— Понятно, старик! Ясно! — с готовностью воскликнул Ким и суматошно завозился по карманам. — Мне-то можешь не объяснять. Сочувствую тебе, старик, сам не раз…
Эх, черт возьми, как пришлось тут по душе Киму это свойское словечко «старик». Ведь так не обратишься к чужому человеку, к постороннему. Так можно сказать только своему парню… мужское московское братство… «Старик» — и все понятно, не надо лишних слов. Он вынул горсточку мелочи и протянул просителю.
— Бери, старик, забирай всю валюту. Бери, не церемонься, мы люди свои. Я и сам не раз переворачивался кверху килем, — зачастил Ким, и тут его понесло. — Да что там, старик, мне ли тебя не понять, ведь мы одной крови, ты да я. Ведь ты, старик, родом из племени кумиров. Ты был кумиром Марьиной Рощи, старик, в нашей далекой пыльной юности, когда торжествовал континентальный уклон в природе. Ты был знаменитым футболистом, старик, сознайся, или саксофонистом в «Шестиграннике»… Бесса ме, бесса ме мучо… или просто одним из тех парней, что так ловко обнимали за спины тех девчонок в клеенчатых репарационных плащах. А что, старик, почему бы тебе не рвануть со мной в Пихты? Хочешь, я сейчас транзистор толкну и возьму тебе билет? Сибирь, старик, золотая страну Эльдорадо… молодые ученые, наши, наши парни, не ханьки, и никогда не поздно взять жизнь за холку, старик. а ведь мы с тобой мужчины, молодые мужчины, — что, старик? Ты хочешь сказать, что корни твои глубоко в асфальте, что Запад есть Запад, Восток есть Восток? А я тебе на это отвечу Аликом Городницким: «И мне ни разу не привидится во снах туманный Запад, неверный лживый Запад»… извини, старик, я пою… Старик, ведь я же вижу, ты не из серой стаи койотов, ты и по спорту можешь, и по чисти культуры… а хочешь, я устрою тебя барменом? Выше голову, старик… друг мой, брат мой, усталый страдающий брат…
Его несло, несло через пороги стыда, по валунам косноязычия, бессовестным мутным потоком пошлости, графомании, словоблудия и неизбывной любви, жалости, воспоминаний, а впереди поблескивало зеленое болото похмелья.
— Я беру у вас одиннадцать копеек. — вдруг холодным чужим тоном сказал «старик», «кумир Марьиной Рощи», будущий верный спутник в золотом нефтеносном Эльдорадо, и Ким сразу прикусил язык, понял, что зарвался.
— Да бери всю валюту, старик. — пролепетал он. — Бери все сорок восемь.
Мясистый щетинистый палец со следом обручального кольца подцепил два троячка и пятачок, спасибо.
— Да как же ты опохмелишься на одиннадцать копеек, старик? — пробормотал Ким.
— А это уже не ваше дело, — зло и устало сказал кумир, резко повернулся, шатко прокосолапил прочь, прошел за стеклянную стенку на холодное солнце и заполоскался на астру — обуженные штанцы, широченный пиджак, остатки шевелюры из-под кепи — все трепетало, а кепка вздулась пузырем. К нему подошли двое: один малыш, почти карлик с большим лицом, важный и губастый, и второй, обыкновенный старичок в обыкновенном пиджачке, но в шелковых пижамных брюках. Троица в приливе неожиданной бодрости развернулась против ветра и, набычившись, целеустремленно и дельно зашагала. Должно быть, малая сумма, изъятая столь непростым путем у неизвестного фрея, как раз и гармонизировала для них это ветреное солнечное холодное утро.
Они шли, как показалось Киму, крепко и определенно, они, все трое, были на своем месте в это утро, причем огромный проситель был явно не главным в троице: он был тут явно мальчиком, эдаким Кокой или Юриком, он весело, по-мальчишески подпрыгивал и заглядывал карлику в суровое спокойное лицо.
«Боже мой, что же я за человек такой?» — с неожиданной тошнотой подумал Ким и впервые тогда понял, что тошнота — это стыд и тоска.
Что же я за человек такой
Ненастоящий, нелепый, неуклюжий, недалекий, как я всегда тянулся к настоящим ребятам и как часто мне казалось, что я сродни им — уклюжий, лепый, далекий…
Но если бы я мог вспомнить — ловил ли я на их лицах мимолетное снисхождение, тень понимания моей жалкой сущности? Нет. этого не было никогда, они всегда относились ко мне, как к равному. — и на Памире, и на Диксоне, в подвальчиках Таллинна и на Сахалине, на Талнахе, на Эльбрусе, в Разбойничьей бухте, на Карадаге, в Якутии и на Крестовой… Вот если только вспомнить все до конца, уж до самого конца без поблажек, тогда, может быть, и мелькнет в темноте смешливая и немного недоуменная искорка, которая всегда (ВСЕГДА?) — да вовсе и не всегда, а лишь только вначале… если уж быть единственный раз в жизни смелым до конца, то всегда появлялась (мелькала, а не появлялась), да, мелькала в глазах у этих настоящих парней при виде меня: а этому, мол, чего здесь надо? Была эта искорка? Была! Но все-таки настоящие ребята никогда не издевались надо мной, на то они и настоящие ребята.
Да вот и сейчас можно отмахнуться и прекратить дурацкий мазохизм. И снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет… Да, Кимчик, тебя все-таки неплохо знали в этих палатках на Карадаге и Кунашире и во времянках на Талнахе… Ах, что же я за человек с ложными воспоминаниями? Ведь не был же я на Кунашире. Ну, сознайся. старик, самому себе — не был ты на Кунашире. Десять лет ты уже рассказываешь, как был на Кунашире, а на самом деле там не был. Ты сам совершенно — или почти совершенно — убежден, что был на Кунашире и видишь как наяву дикий кунаширский пляж с выброшенными и отмытыми Пасификом добела корнями американских деревьев, с обломками ящиков, разбухшими ботинками, рваными оранжевыми штанами китобоев, яичными прокладками и бутылочками из-под тоника. Ты видишь отчетливо и того раненого морского льва, который с диким упорством пытался преодолеть стену прибоя. Об этом льве тебе рассказывал кто-то в южносахалинском буфете, и ты присвоил себе этого льва и весь кунаширский берег.
Я мог бы быть на этом островке. Что тут особенного — побывать на Кунашире? Просто три дня была нелетная погода, а потом уже кончилась командировка, и надо было возвращаться в редакцию… Черт с ним, могу и отказаться от этого жалкого Кунашира. Мало ли я путешествовал — можно и пожертвовать крохотным Кунаширом.
На Кунашире? Нет, ребята, на Кунашире мне не пришлось побывать. Шесть дней была нелетная погода, снегу в Южном навалило до второго этажа… Итак, решено — и не был на Кунашире.
В таком случае надо отказаться и от ледового патруля и вычеркнуть из воспоминаний «эти тяжелые волны, которые вот-вот заденут крыло, когда мы в нелетную погоду шпарим с Юркой Мельниковым из Охотска в Магадан за бутылкой водки».
Да разве я трусил? Я никогда не трусил! Я ведь как раз собирался полететь с Мельниковым в ледовую разведку, но наш вездеход застрял в тайге, и мы всю ночь проваландались с ним. а когда приехали на аэродром, увидели самолет Мельникова уже в небе.
Ну и нечего присваивать себе «тяжелые волны, которые едва не задевают за твое крыло, когда ты в нелетную погоду шпаришь из Охотска в Магадан за бутылкой водки».
Не буду присваивать. В ледовую разведку я не летал, у меня и кроме этого немало ярких эпизодов в биографии: вулканы, гроты, гитары, костры… и снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет… Как-никак я на короткой ноге с тремя космонавтами, с Валеркой Брумелем, Володечкой Высоцким…
Почему-то эти первоклассные парни моего поколения находят время, чтобы и выпить со мной, и поговорить по душам. Я знаю джазистов и пантомимистов, менестрелей, подводников, скалолазов, альпинистов, гонщиков, танцоров, режиссеров, писателей, вулканологов, арктических летчиков и философов, и множество девушек, старик, не прошли незамеченными мимо меня.
Ах, что же я за человек такой — чего же я вру сам себе про девушек? Почему же я сам себя утвердил в ложном эдаком донжуанизме, почему и сам себе киваю с ложной эдакой многозначительностью и грустью — эх, мол, девушки шестидесятых годов?.. Есть ли на свете человек более несмелый с девушками?
Это вечное кружение девушек в моем кабинетике в «Дабль-фью», этот каскад хохмочек, мимолетные поцелуи, эти взгляды исподлобья… Да ты, Морзицер, просто фавн, сатир какой-то. — сказал мне однажды Вадим Китоусов. Вадим, умница, смельчак, вечно дрожит над своей Риткой. Ха-ха, Вадим, сказал я ему, может быть, я и сатир, может быть, и монстр, но законов дружбы я не переступал никогда. Спроси у кого хочешь — хотя бы и у Эрика Морковникова или у Крафаилова, у Пашки Слона, спроси хотя бы у Великого-Салазкина — все тебе ответят: хоть Кимчик у нас и сатир, но законов дружбы он не переступал никогда. Да, сказал Китоусов, успокоенный, это верно — законов дружбы ты не переступал.
Только он ушел, как
я посмотрел в зеркало и подумал про себя уже на всю оставшуюся жизнь: ох, и сатир же ты. Морзицер, глаза у тебя и рот, как у неутомимого козлоногого грека. И все мои сердечные раны — ужасная нелепая женитьба на Полине, позорное бегство из Феодосии от Генриетты, переписка с Мясниковой, — все это укатилось в темноту, я тут же убедил себя, что я мужчина особого рода, с особым ярким мускусным флюидом, и лишь верность святым законам дружбы мешает мне предаться… и так далее…
И Рита перестала приходить ко мне в кабинет и часами сидеть с ногами на диване в сигаретном дыму и в «тианственном», сводящем с ума молчании.
Я один — стареющий, с полурасплавленной челюстью, с запущенной язвой, с утренней пакостью во рту — негерой, неталант и непросточеловек и даже не алкоголик, как тот, что попросил у меня одиннадцать копеек… Кто виноват в том, что я такой? Мои тетки, декадентные старые девы? Их нелепое воспитание, отсутствие в доме «мужской руки»? В самом деле — вот результат стародевичьего воспитания: ведь не было же у меня ни отца, ни дядьев, чтобы научить плавать, ходить на лыжах, управлять мотоциклом, бить по зубам обидчиков. Ничему этому тети мои не учили меня, а лишь вскармливали мое сиротское тело, лишь пестовали его сэкономленными желтками и вот вырастили тяжеловатого, отчасти, будем честными, вислозадого, угреватого мужика, склонного к замедленному обмену и фурункулезу.
Зачем же ты грешишь на старух, Ким? Тетя Софа идеально знала английский и старалась (безуспешно) тебе его передать, а тетя Ника, пианистка серебряного петербургского века, несколько раз на коленях просила тебя сесть к инструменту. Они пытались тебе что-то передать и все-таки передали — именно «что-то», может быть, более важное, чем навыки плавания или фортепианной игры.
Я помню какой-то вечер, резко и безоглядно порванные бумаги, свирепые струи ветра сквозь аллеи Летнего сада и красный с прозеленью закатный ветер, прогнувший внутрь в квартиру голубоватые стекла и обозначивший, отчетливо и навсегда, тонкие бескомпромиссные профили теток. Вот в этот вечер они тебе что-то и передали, когда стояли неподвижно, каждая в своем окне, а потом с наступлением темноты приблизились друг к другу и быстро обнялись.
Что-то шевельнулось во мне тогда, что-то непозволительное моему тринадцатилетнему возрасту, недоступное нашему седьмому классу и неподобающее нашему хапужному послевоенному двору с задами продмага и банными окнами.
Две старые девочки… вечер… молчаливое объятие. Сквозь старые вещи, которые, как мне казалось, пахли чем-то стыдным, вдруг повеяло на меня Джеком Лондоном, далеким небом, прелестью и гарью жизни.
Вот эти лучшие минуты (может быть, секунды?) всегда возвращались ко мне, чаще всего неосознанно возвращались в дни подъема, в мои «звездные часы», когда…
Опять ты, мизерабль несчастный, разошелся? Тебя только и знай — лови за руку. Какие «звездные часы»? Что ты сделал в жизни? У тебя, будем честными, всего одна пара брюк, ты ничего не написал, ничего не смастерил своими руками, не женился по-настоящему, детей у тебя нет. катастрофически расползается замшевый блейзер (какой, к черту, замшевый и почему блейзер?), и впереди в Пихтах что тебя ждет? Вечный твой спутник и враг, зеленый с пятнами дракон-единоборец по имени раскладушка.
А все-таки… Эти минуты спирального подъема были в твоей жизни, и спиритус твой взлетал по спирали, хотя бы в тот год, когда ты приехал сюда вслед за Великим-Салазкиным.
Да, я был среди первых в тот болотистый год, в ту бесконечную комариную хлябь, когда не было здесь еще и запаха нашей любимой Железки. Пусть всегда будет так, и назовем вещи своими именами — я бездипломный суетливый мужичок с сомнительным аттестатом зрелости, я обыкновеннейший массовик-затейник, но я здесь был среди первых и вместе с Великим-Салазкиным, и Эриком, и Слоном копал обыкновенной лопатой котлован для нашей красавицы Железки, и вот тогда мой спиритус взлетел по спирали, и сквозь накомарник я видел ветви Летнего сада и моих старых девочек, непреклонных и таких героических на фоне безжизненного ветра.
А вот когда ты попадаешь на осыпь, нужно ложиться плашмя и руки делать крестом. Ни в коем случае нельзя удерживать равновесие на ногах. Нужно увеличивать площадь сцепления, валиться на пузо и растопыривать руки и ноги.
Между тем, старик, ты все стараешься балансировать. Ты влезаешь со своей гитарой в незнакомую палатку, и смотришь на всех своим знаменитым взглядом сатира, и вдруг убеждаешься, что в этой палатке сидят совсем другие, новые уже люди, и они тебя не знают, им даже не знаком твой тип. Тебе бы надо не смотреть на эти насмешливые и неприязненные лица, а вылезти вон и лечь всем телом на осыпь, а ты стараешься балансировать, берешься за струны, вытаскиваешь бутыль <Гамзы>, к слову и не к слову о Кунашире мелешь всякий вздор, и «Охоту на волков» изображаешь популярным хриплым голосом, и называешь имена некогда знаменитых парней, которых ты действительно знаешь, а тебе бы надо…Чего здесь надо этому отцу? — слышишь ты громкий шепот некоего декоративного красавца-скалолаза.
Они, наверное, всех называют «отцами», они и друг друга зовут «эй, отец», думаешь ты. Ведь не выгляжу я в самом деле как их отец. Пусть слегка брюхат, пусть слегка лысоват, но в общем-то я им не отец, а может быть, лишь старший брат. И ты поешь:
Он был слегка брюхатый, брюхатый, брюхатый,
немного лысоватый,
но в общем ничего… —
и вызываешь наконец смех.
…а тебе бы надо раскинуть руки и ноги и скатываться имеете с осыпью, закрыть глаза и слушать шорох осыпи, пока физические законы сцепления не остановят над краем пропасти твое солидное тело.
Сверхновый отечественный авион был почти бесшумен в полете, но. увы. излишняя застенчивость заставляла его заглушать симпатичное журчание турбин эстрадной музыкой, далеко не всегда приятной для слуха, а если и приятной, то далеко не каждому уху. В самом деле, согласитесь: в чреве авиона сто пятьдесят пассажиров — значит, триста разных ушей. Одному уху нравится Дин Рид, а другому он неприятен.
Вдруг ни с того ни с сего аэрогигант запел «Болеро» Делиба.
«Влюбиться, что ли? — тоскливо подумал Ким Морзицер. — Возьму и влюблюсь тайно, безответно, мучительно. В кого бы? — он очертил глазом малую полуокружность. — Возьму и влюблюсь в Ритку Китоусову. Нечего оригинальничать, так и сделаю».
Мысль эта принесла ему неожиданное умиротворение, и он самым нелепым образом заснул, хотя спать уж и времени-то не было: спев «Болеро», аппарат стал неумолимо снижаться и теперь дрожал крупной дрожью в плотных великих тучах Евразийского сверхконтинента.
— Я не понимаю, что такое со мною, со мною, — пел «ТУ-154» теперь, как бы извиняясь за тряску и обращаясь непосредственно к каждому пассажиру. — Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет!
«Чегой-то я нонче такой квелый, соленый, квашеный, — бормотал про себя, мочаля бороденку, Великий-Салазкин. — Влюбиться, что ли? Эдак молчком, втихаря, платонически втюриться. А в кого? Да в Маргаритку Китоусову и влюблюсь, как десять лет назад. Чего оригинальничать? «Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем», — замурлыкал он. а на объект своей платонической любви даже и оборачиваться не стал. Без всяких оглядок он знал эти виноградины, розаны, перламутры. Не первый. далеко не первый раз влюблялся старик в этот вариант. Как только почувствует какую-то квелость, унылую соленость, некоторую заквашенность, так сразу и влюбляется, и снова, как в книгах, «о. весна без конца и без краю», и мысль из вареной лежалой куры превращается в живую птицу, и тетеревом, удодом, выпью носится по тайным промыслам научной теории.
Основатель Железки, вдохновитель и организатор всего пихтинского эксперимента Великий-Салазкин так же. как и все остальные ученые в самолете, возвращался из отпуска, но чувствовал себя, в отличие от молодых коллег, очень усталым.
Доконал меня окаянный исландец Громсон гольфом своим чужеродным, своей модной мракобесией и сумасшедшими своими гипотезами Дабль-фью. Благословенный мэтр, ведь вторую сотню уже разменял и как все успевает? И лекции шарашит в трех университетах (скачет из Копенгагена в Кембридж, оттуда в Падую), и тинктуры в тиглях варит (хобби, видите ли, у него новое — алхимия), а теорию свою держит на высоте и еще на фильмовой звезде опять женился; должно быть, увидел в ней образ неуловимой Дабль-фью.
Великий-Салазкин хоть и поражался достоинствам старого Громсона, корифея североевропейской школы, сам тоже был весьма не лыком шит. Тщедушный вид, подслеповатость. ужасная, на грани позора, манера одеваться сочетались в нем с исключительным напором и витальной силой. Чего только не провернул Великий-Салазкин за месячный отпуск! Во-первых, выколотил дополнительные ассигнования в Госплане и Совмине. Шутки шутите? Во-вторых, это была культурная житуха: мессу слушал, по выставкам погонял, морально и материально поддержал энное количество начинающих гениев. Шуточки? В-третьих, посетил всех родичей, которые расползлись за последнюю пятилетку из Замоскворечья, кто в Чертаново, кто в Мазилово, и всем подарочки привез: кому коня из фибергласа, кому 0,5 «Зубровки», иным пастилы, иным сибирский сувенирчик — шишку из полихромдифенолаттилы. Не шутка! В-четвертых, Великий-Салазкин отправился в центральную часть Карибского моря на симпозиум.
Там был остров в синем течении, на который под видом рыболовов (чтобы журналисты не мешали) съехалось несколько десятков мировых теоретиков. Среди знаменитостей были и самые знаменитые: американец Кроллинг, азиат Бутан-ага, африканец Ухара, австралиец Велковески, а также и наш Великий-Салазкин в своей лучшей ковбоечке. Чтоб сбить с толку докучливую прессу, ученые действительно удили рыбу, варили уху под окнами отеля, допоздна стучали в баре костяшками покера и домино. На самом деле происходил серьезнейший и полезнейший обмен идеями по поводу неуловимой частицы Дабль-фью, за которой вот уже пару десятков лет гонялись по всем ускорителям, в бездонных, шахтах и лабиринтах мирового интеллекта.
…И вот появляется профессор Громсон, сухопарый и независимый, как целое отдельное столетие, внедрившееся между XIX и XX- Естественно, появление его на карибском горизонте было отмечено гигантской белой кустистой молнией, озарившей размочаленный ураганом пляж.
По кромке безумной стихии профессор в развевающемся плаще двигался как олицетворенный «штурм унд дранг». В одной руке у него был клетчатый непромокаемый сак, другой он влек за собой кинематографическое дитя, юное существо, теледиву. Громсон прошел сквозь стену ветра, воды и песка, ударом ботфорта проник в уютный бар и гаркнул с порога на языке своего столетия:
— Молока даме, джину — мне!
С этого и началось: ночи безумные, ночи бессонные…
— Ты, Великий-Салазкин, — мой лучший ученик, ты единственный, на кого могу опереться, — кричал под потолком старик, пуская дым из глиняной трубки, стуча бронзовой тростью, свистя простреленными еще в первую балканскую войну бронхами. — Неужели ты не понимаешь, что для истинного ученого важно не открытие проклятой потаскушки Дабль-фью, а лишь ощущение ее близости, мысль о возможности выварить ее в петушином бульоне и подать к столу с брюссельской капустой?! Кто она, эта малышка. за которой мы охотимся всем скопом уже столько лет? Временами. Великий-Салазкин, когда я сжимаю в объятиях это юное существо, — узловатый вековой перст поворачивается к свернувшейся на софе пушистым лисьим калачиком TV-леди, — мне кажется, что она и есть желанная, ускользающая, как мираж, Дабль-фью. Иногда, Великий-Салазкин, в сумеречных наркотических ночах Зеландии я улавливаю посвист Дабль-фью в древних дырах Эльсинора. Что мне остается, Великий-Салазкин? Я принимаю дозу мавританского яда. закутываюсь в какой-нибудь древний нормандский стяг и галлюцинирую. Я вижу ее — она со мной, я знаю!..
Утром перед гольфом я бросаю взгляд на свои записи — опять все то же: все эти Кемпбеллы. Фукатосси, Эйнштейны, ваши, дорогой мой Великий-Салазкин, умопостроения, мои собственные конструкции — и все это, переплетаясь, влечет мысль к цели, к нашей желанной Дабль-фью, а в конце вместо желанной — свистящая дырка. глазок в вечность. Как это прекрасно, мой друг. Похмелье, разочарование, отчаянье, кофе, гольф! Как это великолепно!
— Позвольте уж не согласиться, Эразм Теофилович, — нервно не соглашался Великий-Салазкин, бегая по апартаментам, нюхая цветы и флаконы, поглаживая на лету юное существо, путаясь в шторах, крича из разных углов. — Мне ваша хиппозная медитация не подходит, и дырку свою свистящую, свой глазок желточный ешьте сами!.. Вы уж меня, Эразм Теофилович, простите, но хоть я и ученик ваш и уважаю ваш сумрачный германский гений, но нам эта ваша фея, окаянная эта частичка Дабль-фью очень нужна не для любования, не для щекотания ума. и для пользы народам земли, и мы ее, заразу, поймаем и заставим что-нибудь делать — может, малярию лечить, может, бифштексы резать, может — допускаю! — вдохновлять творческий акт пожилого населения — в общем, не пропадет!
— Наивный материалист! — хохотал древний Громсон и открывал один за другим походные колдовские ящички. Глазам Великого-Салазкина открывались реторты, колбы, змеевики, тигли. Громсон напевал что-то пуническое, карфагенское и вместе с тем какой-то чарльстон.
— Глядя на вас. Эразм Теофилович, иной раз задумаешься — имеете ли высшее образование? — обиженно сморкался Великий-Салазкин в свой спасительный реалистический платочек.
— Черчеляменто! Гзигзуг бонифарра! Орилла экстеза килионуклеар! — кричал на незнакомом языке древний гигант, развешивая по невидимым нитям комочки сморщенной кожи, птичьи лапки, фарфоровые непристойные фирмы, разные колобашки, сгустки, вздутия. Затем он освещал все это хозяйство фиолетовым лунным рефлектором и прыскал на Великого-Салазкина чем-то из пульверизатора (показалось вначале — близким, своим, магнитогорским «Тройным» одеколоном, оказалось — не то).
На глазах густели и разжижались моря, уходили в сумасшедшую перспективу стекляшки горных систем, хлористый водород героической симфонией в брызгах, в лиловом с окисью накате двигался на щемяще знакомую, родную и близкую биологическую среду. Как много опасностей вокруг нашей малой жизни! Все соединилось, взбухло, закипело… промелькнул и распался в бездонности сонм исторических эпох, и вдруг — словно павлиньим опахалом провели по лицу — сошлись сосновые неоэвклиды, и в паутинке сверкнул лукаво, тревожно-музыкально и нежно девичий зрачок Дабль-фью.
…Учитель смущенно скосил на ученика желудевое столетнее око.
— Ну-с, что скажете, Великий-Салазкин?
— И ничего вы мне не доказали, Эразм Теофилович. Ничего, кроме фикции, дыма, идеалистической мерихлюндии. Стыдно за вас, господин учитель, бывший глава Североевропейской школы. Идете на поводу у обскурантов. Приезжайте-ка к нам в Пихты, познакомьтесь с нашей любимой Железкой, пообщайтесь с духовно здоровой средой, в хоккей поиграйте!
— Приеду! — гаркнул Громсон. — Давно хотел я лично познакомиться с вашей знаменитой Железкой. Как только грянут рекордные морозы, так и заявлюсь. Как только минус сорок будет, сразу звоните в Рейкьявик или в Копенгаген.
Стараясь отогнать столь свеженькие и пахучие еще карибские воспоминания, Великий-Салазкин потуже подтянул себя ремешком к мягкому воздушному стулу, попробовал подумать о новой своей и такой привычной любви — ничего не получалось, не думалось на эту тему, предмет равнодушно сиял слева по борту, как реклама молочного магазина, а квелость, замшелость Великого-Салазкина пока что только увеличивались.
Глушь моей юности
Огни уже летят в окружающем черном просторе, уже пора мне становиться гениальным хитрым старикашкой с легкой придурью, пора уже входить в роль, а пока что не хочется. Эти несколько минут до завершения посадки в багровом закатном тумане… они напоминают мне багровую глушь моей юности, глушь, которая вдруг окружала меня даже на людных улицах, полную глухомань. Затерянность и нищету юности.
Я помню очень хорошо странные перепады от агрессивно выпяченного подбородка, от бокса и бесконечного вращения тяжестей к благолепному смирению, к эдакому всепрощению, к переводам из раннего Гёте и акростиху в честь полковничьей дочери Людочки Гулий.
Я помню, как по торцовой гладкой мостовой под безжизненной морозной синью ураганное солнце тащило кусок тяжелой бумаги — то ли сорванную афишу, то ли плакат — и как бессовестно, постыдно, грубо, бессмысленно мяло и швыряло эту большую измученную бумагу, и как эта измученная бумага то волоклась по мостовой с жалобным посвистом, то вдруг вставала дыбом в последнем сопротивлении, то улетала в стремительном отчаянии, а ураганное солнце грубыми ударами и хлопками формировало из оборванной бумаги то крокодила, то измордованную женщину.
О, как ярко я это помню и как мне хотелось спасти! Кого спасти — ведь не бумагу же эту, бесстыдную в своей погибели и мне чужую? Всех спасти, кто попрятался в штормовой солнечный день, себя самого спасти и ее — бессмысленную. жалкую, хохочущую и погибающую бумагу!
Я вдруг увидел в бесконечном далеке на набережной, на ледяном небе, еле различимого прохожего, может быть, самого себя, и подумал с пронзительной жалостью о его глухомани, о тишине его глуши и о том, как будут стареть ткани его тела, что ждет его в конце концов: контрактура мышц, свертывание крови… Какое немыслимое превращение и для какого умопомрачительного путешествия — куда?! Не слишком ли мы слабы для подобных метаморфоз, впервые подумал я, достойный ли выбран объект для таких фантастических приключений?
Он промелькнул и пропал, этот прохожий, и бумага куда-то уволоклась, и осталась только безжизненная улица и подступившая близко ледяная природа — беспредельный голубой свод, в котором ни зги… И вот распахнулись обитые клеенкой и ватой, прошитые шпагатом двери, и я оказался на скрипучих полах, в теплом человеческом логове, где полки вкусных лохматых книг, бак с кипятком и прикованной кружкой; шахматный блицтурнир… ах, только бы не заплакать!..
Да, нелегко позабыть это голубое до черноты небо, но зато и спасительные густые краски человечьего угла не забываются никогда.
И от любви к ним, ко всем, таким же, как я, странным созданиям, от благодарности к ним я едва ли не заплакал и скрылся среди библиотечных полок, где пахло так зыбко, но все-таки уловимо Анатолем Франсом и Буниным, и там заплакал все-таки.
Странно, я подумал тогда, что зря спрятался. Мне, юноше, не было стыдно слез, может быть, мне даже хотелось, чтобы шахматисты и читатели увидели мои слезы и поняли их смысл. Мне даже казалось, что и они все заплачут вместе со мной, потому что эти слезы — клятва. Должно быть, тогда среди библиотечных полок, в слезах, я и начал превращаться в мужественного старичка Великого-Салазкина, будущего основателя всемирно известного научного города Пихты, в повивальную бабку
любезной, благословенной нашей Железки. Должно быть, именно тогда в юношеском озарении любви, в неистощимом и бурном желании «спасти-спасти-спасти» я, Великий-Салазкин (через черточку), увидел нерасторжимую и бесконечную человеческую молекулу, которая ярко сверкает, если ее увидеть, и в которой спасательными нитями соединился сонм существ: и Достоевский, и Кант, и водопроводчик Дома культуры, и Галилей, и Чайковский, и дядя Миша-лаборант, и Энгельс, и Гомер, и многодетная сторожиха…
Мы все, такие небольшие и мягкие, с такой ничтожно малой амплитудой жизненной температуры, с преобладающим процентом нестойкой влаги в тканях, могучим и непобедимым желанием «спасти» соединились в нерасторжимую и сверкающую сквозь пространство молекулу.
…И я тогда уже бесповоротно прикрутил себя к этой структуре «спасения», и обозначил свое место малым кружком, и написал свое имя (через черточку), и черточку свою укрепил потуже, ибо, как я полагаю, без подобной черточки любая, даже и самая грандиозная персона становится малость смешноватой, ибо…
Тут внезапно в мысли Великого-Салазкина вторгся непосредственно сам поднебесный экипаж и продолжительным многоточием (впрочем, весьма деликатным) показал, что мысли следует прервать, ибо он, экипаж, уже катится но земле и полет, собственно говоря, окончен.
Огромный восточный аэропорт, где произошло приземление, пульсировал огнями, поглощал и распространял радиосигналы, резал батоны, срывал пробки с пива, загружал контейнеры, подвинчивал клиентам гайку, делал им подмазку, поил горючим — работы у него было «под завязку», и потому никакого особого торжества по поводу прибытия очередного столичного аппарата он не устраивал, а жаль
[4].
Первыми вышли из чрева авионского супруги Крафаиловы, а были они так примечательны, что стоило бы их в момент выхода запечатлеть и даже сыграть в их честь на медных инструментах торжественный туш.
Собственно говоря, непосвященному даже и в голову не пришло бы. что на верхней площадке трапа появилась супружеская пара — так напоминали Крафаиловы больших, полнокровных и молочных однояйцевых близнецов-тяжелоатлетов. Сходство усугублялось еще тем, что супруга была облачена в брючный костюм, а муж носил длинные волосы, чуть ли не до плеч.
Говорят, что супруги в процессе долголетней совместной жизни становятся друг на друга похожи. Крафаиловы были исключением из этого правила, ибо они были пронзительно похожи друг на друга с самого начала, с самой первой случайной встречи в галерее Гостиного двора, тому уже полтора десятка лет.
Прямая гренадерская стать, гипсовый надменный — византийский — профиль отличали обоих. С годами равномерно прибавилось тела под округлыми мощными подбородками, на грудных клетках и в подвздошье, румянец приобрел сочную зрелость, голубые четыре глаза сохранили многозначительную и непонятную прозрачность.
Оба супруга были руководителями торговли: он директорствовал в показательном торговом центре «Ледовитый океан», она управляла по соседству художественным салоном «Угрюм-река». Оба супруга были немногословны, бездетны, не курили, не пили, любили симфоническую музыку, теннис и «родную душу» — пуделя Августина, по которому тосковали весь месячный отпуск в южном минеральном Пятигорье.
Скучный, но очень полезный минерально-теннисный отпуск вдали от любимого торгового дела и кучерявой «родной души» завершился для Крафаиловых странным событием, еще более усилившим их зеркальность.
Играя парой в теннисном финале против заезжих калифорнийских профессионалов, супруги сломали руки: он — правую, она — левую. Теперь руки покоились в гипсе на дощечках и занимали положение, параллельное к земле и перпендикулярное к груди, словно у регулировщика, когда он открывает движение.
Впрочем, сравнение с регулировщиком не совсем удачно. Загипсованные параллельно-перпендикулярные руки придавали Крафаиловым дополнительную и очень естественную монументальность. Казалось, что Крафаиловым так и пристало ходить или стоять в позе живых памятников. Никто из пихтинских друзей при встрече в Московском аэропорту даже и не заметил ничего странного, и это совсем не говорит о равнодушии или пренебрежении: Крафаиловы пользовались в Пихтах заслуженным почтением.
Вот некоторые болтают про торговых работников, что есть среди них и такие, что на руку нечисты. Отрицать существование этих вредных жучков было бы нелепо. Есть еще, конечно, и в современной прогрессивной торговле жрецы хитроглазого божка-воришки, поклонники вонючего анахронизма «не обманешь — не продашь». Есть и слабые людишки в нашей среде: трудно удержаться от расхищения, когда вокруг тебя все лежит. Вот, например, бочонок с медом — ну. как не сунуть в него палец, как не облизать? Вот, к примеру, масла куб — ну как не срезать ему боковинку? Или, скажем, перед вами флакон парфюма — разве не побрызжешь?
Нужно быть волевым и интеллигентным человеком, чтобы пальцы не совать, не облизывать их, не срезать боковинку и не брызгать на себя тем. что тебе не принадлежит.
Таковы Крафаиловы. Они никогда ничего себе не брали, и подарков не принимали, и совсем не потому, что презирали свое торговое дело. Напротив, они его чрезвычайно любили, держали в умах новые идеи, а в душах — мечту о заре прогрессивной торговли.
Принцип торговли будущего, по идее Крафаиловых, состоял вот в чем: два лица, продавец и покупатель, вступают между собой в особые и очень важные для жизни торговые отношения. Ну, конечно, тут приходит сразу в голову набивший оскомину призыв «будьте взаимно вежливы»; уж сколько шуточек было по этому поводу, сколько юмора выработано. Нет. не вежлив должен быть продавец с покупателем и не любезен. Это пусть там в разных вулпортах и лафайетах любезничают; у нас в будущем все будет иначе. Продавец должен стать для покупателя пусть на короткий срок, но другом, проникновенным товарищем, врачом-психологом, поводырем в лабиринтах изобилия. Продавец нового типа должен хрустальными глазами смотреть на покупателя и облагораживать его своей духовной филигранью и музыкальной простотой. Продавец будущего ни в коем случае не должен иметь дела с деньгами. Деньги получают автоматы. Могут получать, могут не получать — продавца это не касается. Собственно говоря, это даже не продавец, а… а… а… нужно какое-то новое слово для новой профессии. Ну скажем… «Дружелюб». Как замечательно!
— Сегодня в отделе обуви дежурный дружелюб Агафон Ананьев.
Вы приходите в отдел обуви без точной цели, просто в растерзанных чувствах, а между тем вам нужны новые водонепроницаемые сапоги, хотя вы об этом даже не думаете. Дежурный дружелюб мгновенно улавливает вашу вибрацию и первым делом улыбается вам. Несколько секунд нужно специалисту-дружелюбу, чтобы разобраться в вашем характере и психическом типе. Ведущую роль в этом деле будет, конечно, играть интуиция, но и без электроники здесь не обойтись. Разобравшись, дружелюб мгновенно выбирает средство воздействия. Может быть, это стакан холодного пива или, наоборот, горячего чая, может быть, анекдот, может быть, просто молчание, проникновенный взгляд, может быть, музыка, может быть, стихотворение. Если вы подавлены какой-то очередной неудачей, потеряли веру в себя, нужно подхлестнуть вас каким-нибудь Фрэнком Синатрой. Если же вы, наоборот, раздражены и растрепаны семейным или любовным разладом, в дело пойдет, скажем, 67-й квартет Гайдна ре-мажор.
Между прочим, в поле вашего зрения вплывут вдруг дивные сапоги модели «Ураган», и вы наверняка уйдете из магазина с замазанной трещиной души.
Еще раз подчеркиваем: цель контакта «дружелюб — покупатель» состоит вовсе не в сапогах, цель — в солнечном пятнышке, в волне теплого воздуха, в ободряющем биотоке.
Вы уйдете из торгового центра, а ваш «дружелюб» прислонится спиной к стеклянной стене, взглянет на отраженные в стеклянном же потолке сосны, оползающие пленки непогоды, мокрый подлесок с яркими точками волчьих ягод и шиповника и крепко зажмурит глаза, чтобы вспомнить нечто из детства, чтобы дослушать квартет, или для того, чтобы подумать о старике Гайдне. — ведь и сам он человек, несмотря на профессию, и ему тоже нужен друже-люб, хотя бы из неживых, но оставивших о себе звуковую ясную память.
Гигантские шаги
Тогда я вдруг вспомню ярко-синее взлетающее небо и гигантские шаги» на опушке елового бора. Как я взлетал тогда и как я кружил со свистом вокруг шатающегося столба часами, изо дня в день, на устрашение всему пионерлагерю, толстый румяный мальчик-мускул, с мрачными хрусталями грешника по обе стороны непримиримого носа.
Сколько дней я кружил вокруг столба в молчании и тишине, прерываемой лишь жалобным скрипом ржавых подшипников, да возгласами птиц, да отдаленными сигналами горна!
Прежде я внимания не обращал на «гигантские шаги», у меня не было времени на такие пустяки, я был деятельной и могущественной фигурой — председателем кухонного совета, каждый день назначал из старших отрядов дежурных по пищеблоку и контролировал их работу. Это было над Свиягой, на горе, в сосновых и еловых просторах сорок шестого года, и в смысле сытости пионеров тогда было очень прохладно, поэтому все и тянулись на кухню: там было теплее.
В канун праздника флота в сумерках к подножию нашей горы, к мосткам, подошел катер с гостинцами от шефов, моряков Волжско-Каспийской военной флотилии. Старший пионервожатый отобрал десяток ребят покрепче и послал нас за гостинцами вниз.
Мы скрестили весла, принайтовили к ним ящики и пошли в густых уже сумерках вверх, воображая себя воинами Ганнибала, берущими альпийский перевал.
Мы шли, такие крепкие, такие мощные, самые сильные мужчины лагеря, и несли на своих плечах некоторые вкусности для девочек и малышей. Путь был нелегок по крутой мордовской тропе, по корням мачтовых сосен, по разбойному волчьему лесу, под призрачным ночным аэлитовским небом и альпийскими звездами над карфагенскими головами.
Ночной таверны огонек
Мелькнул вдали, погас.
Друзья, наш путь еще далек
В глухой полночный час. —
запел мужественным форсированным басом председатель кухонного совета.
— Между прочим, в ящиках щиколад, — почти равнодушно произнес известный в городе билетный перекупщик Вобла, зампредседателя.
Предательский шоколадный довоенный новогодний сладостный дух давно уже облачком дьявольского соблазна плыл над маленьким отрядом, и маленький отряд, вся дюжина кухонных апостолов, уже давно дрожал от позора и сладости неизбежного грехопадения.
— Молчи, Вобла!
— А я чего? Щиколадом, говорю, пахнет. Щиколад, говорю, пацаны, тараним.
— Вобла, молчи!
— А я чего? Досточку, говорю, одну поднять надо, попробовать щиколадку. Даром, что ли, корячимся?
— Вобла!
— А я чего? По кусманчику, говорю, отколем, не убавится.
В глуши, во мраке, в дебрях мира совершилось почти невинное мародерство. Треснула «досточка>, со сдавленным нервным смехом ночные рыцари набили рты блаженным продуктом. Кое-кто не забыл и о карманах, а я сделал вид, что не заметил ничего. Не заметил даже, как и самому мне в рот чья-то рука — не моя ли собственная? — засунула добрый кусок, только фольгу выплюнул и так незаметно позволил ворованному продукту во рту моем растаять.
И мигом романтика воинов-аскетов сменилась романтикой общей хитрой авантюры, общей «повязкой» шкодников и неуловимых плутов.
— Ну, ты!..
— Ну, дали!..
— Ну, фраера!..
На следующий день к завтраку под щелкающими флагами морской сигнализации кухонная команда поделила шоколад на порции, и всем досталось, всем хватило, всем восьми отрядам, каждому пионеру. Ну, может быть, немного меньше, чем предполагали шефы, но каждый все-таки угостился.
Не хватило только «слепому эскадрону». О них мы начисто при дележе забыли.
В большом нашем лагере было восемь отрядов обычных городских детей, но был еще и автономный маленький отрядик из детского дома слепых. Держались слепцы, конечно, особняком и только на лагерных концертах забивали все остальные отряды, потому что здорово «секли» по музыке. Их специально учили музыке, чтобы она помогла им не пропасть в будущей жизни.
Когда мы вдруг с Воблой увидели «слепой эскадрон». С торжественной осторожностью в свеженьких рубашечках марширующий к праздничному столу, мы даже ахнули: забыли про слепаков!
Все отряды уже заканчивали завтрак, вставали и веселыми — от шоколада и вообще от праздника, от будущего флотского дня, — голосами рявкали положенное: «Спасибо за завтрак!»
— Суки мы с тобой, Вобла, — проговорил я и весь взмок. Мгновенный и сильный стыд конфузным потом выступил сквозь поры всего тела.
— А чего? — придурковато открыл рот Вобла. Придурковатость была его главным оружием. — Кончай, Краф!
Слепаков и так по санаторной норме питают. У них жиров на двадцать пять грамм больше, чем у всех.
Слепые съели свой бесшоколадный завтрак, встали и, чистенькие, умытые, весело сказали:
— Спасибо за завтрак!
Я глядел на них и вдруг подумал, как прекрасно детское личико, даже и слепое. Подумал об этом, как взрослый, словно я сам был уже после вчерашней ночи не ребенком, а вполне, вполне взрослым человеком.
— Суки мы, Вобла…
Вот так и началось кружение… Богом забытые «гигантские шаги» скрипели на опушке, а мальчик-мускул все разбегался по изрытому его копытами кругу, и взлетал, и несся вверх и вперед по холодному кругу самобичевания, влекомый центробежными силами.
— Кончай, псих! Грыжу натрешь!
Иногда на орбите появлялись чье-нибудь лицо и раскоряченный силуэт случайного попутчика, потом лицо исчезало в глухой и тошной, как помои, жизни, и отшельник вновь оставался один.
Как сладко было бы слепому ощутить на языке вкус праздника, вдвое слаще, чем мне, зрячему, ведь он не видит цвета праздника — сигнальных флагов в этом детском небе, он даже и не представляет себе толком неба и реки, леса и корабля.
У тебя, сука, есть все, все на свете, а ты берешь себе еще что-то, тебе мало того, что у тебя есть все. ты еще отбираешь у других в свою пользу, тянешь в ненасытную утробу.
Ты отнял у слепого мальчика вкус праздника. Прощай, прощай теперь, мое детство. Глухая тошная жизнь стоит передо мной.
Слепым нужно давать как можно больше вкусной и разнообразной еды, не жиры увеличивать им надо, а надо радовать их язык шоколадом, клубникой, селедочкой, помидором. Я подлый, жирный и мускулистый вор с прозрачными и зоркими мародерскими глазами, бесцельно кружащий в ослепительно прекрасном мире, которого я недостоин. Прощай, мое детство! Глухая и тошная жизнь стоит передо мной.
Однажды под вечер из ельника к «гигантским шагам» вышел влажный вечерний волк, лесная вонючка. Чуть опустив вислый зад и зажав между лапами хвост-полено, он долго смотрел на меня без всяких чувств, без злобы, и без приязни, и без всякого удивления. Устрашив меня своим непонятным видом, волк прыгнул через куст и исчез в темноте — глухой и тошной жизни. Прошелестела, проскрипела, протрепетала прозрачно-черная августовская ночь, но даже прочерки метеоритов и дальние атлантические сполохи не утешили отшельника, не вернули мне детства и будущей юности. Глухая и тошная жизнь залепила мне нос, и небо, и глаза, и евстахиевы трубы.
Вдруг на мгновение я потерял себя, а вздрогнув, обнаружил вокруг уже утро и нечто еще.
Нечто еще, кроме изумрудного утра, присутствовало в мире. Сверху, со столба, на котором я висел, словно измученная погоней обезьяна, я увидел внизу под «гигантскими шагами» четверых слепаков.
Двое маленьких мальчиков играли на скрипках, юноша. почти взрослый, прыщавый и статный, играл на альте. а босоногая девчонка пилила на виолончели, и получалась согласная, спокойная, издалека летящая и вдаль пролетающая музыка.
Вот чего нет у меня, подумал я радостно и благодарно. Я не могу повернуть к себе пролетающую над поляной мушку. Все у меня есть, но у меня нет этого дара.
Да-да, говорила мне добрая и спокойная музыка, не воображай себя таким мощным, всесильным злодеем. Ты маленький воришка, но ты достоин жалости, и верни себе, пожалуйста, свое прошедшее детство, потому что впереди у тебя юность со всеми ее метеоритами, всполохами и волками, прости себе украденный шоколад и больше не воруй.
Незрячие глаза внимали музыке с неземным выражением. Они никогда ничего не видели, эти глаза. Гомер, конечно, видел до слепоты, и он представлял себе журавлиный клин ахейских кораблей, а эти дети не представляют себе ничего, кроме музыкальных фраз, и для них, конечно, по-особому звучит толстый мальчик, сидящий на столбе, и для него они сейчас играют — утешься и не воруй.
Крафаиловы несколько мгновений задержались на верхней площадке самоходного трапа, но этих мгновений было достаточно, чтобы заметить в толпе встречающих того самого полуфантастического «дружелюба» Агафона Ананьева, верного зама и по совместительству старшего товароведа торгового центра «Ледовитый океан».
Плутовская физиономия «дружелюба» лучилась благостным, почти родственным чувством. Заждались, говорила физиономия, заждались, голубушки Крафаиловы, просто мочи нет.
Сердца Крафаиловых тенькнули: ой, проворовался Агафон, не сойдется баланс. Сердца Крафаиловых тут же ожесточились: нет, на этот раз не будет пощады плуту — партком, актив, обэхаэсэс! Сердца Крафаиловых вслед за этим затрепетали в любовном порыве — на руках у хитрого «дружелюба» сидел благородный пудель Августин, родная лохматая душа. Да, в чуткости Агафону Ананьеву не откажешь!
Итак, воздушный вояж закончился, и автор, обогнавший при помощи пустякового произвола стремительный аппарат, теперь высматривает своих любимцев в двухсотенной толпе пассажиров и даже следит за тем, чтобы не потеряны были в разгрузочной спешке квитки от багажа, ибо и на багаж своих героев он уже наложил жадную лапу, даже в нехитром их багаже есть для него своя корысть.
Спускается по трапу Великий-Салазкин, одергивает териленовые штанцы. Спускаются статные, спортивные и, как всегда, добродушно горделивые, уверенные в себе и немного грустные Слоны, Павел и Наталья. Спускается удив ленный неожиданным возвращением международно-гп лантный Эрнест Морковников — пермессо, пардон, гуд лак, здравствуйте! Спускается смущенный, заспанный сатир Ким Морзицер, инерционно, по старой привычке тревожит стюардесс: «Ну что, девчонки, повстречаемся?» И, получив в ответ: «Нет, папаша, не повстречаемся», — хмыкает и спускается.
Спускается в «тианственном» своем молчании красавица Маргарита, нелюдимо и отчужденно спускает свои виноградины, розаны и перламутры, а также приготовленную уже в ювелирных пальцах длиннейшую и «тианственную» сигарету «Фемина».
Спускается также и как бы между прочим ее, свою жену, сопровождает вдумчивый и благородный Вадим Аполлинариевич Китоусов, спускается, словно бы не обращая на Маргариту внимания, как бы не сгорая от ревности. И наконец, появляется из недр авионских почти забытый нами Мемозов, эта некая личность — отнюдь не персонаж — совсем ненужная, скорее вредная для нашего повествования.
Мемозов выждал, когда все пассажиры вытекли из чрева, и выскочил на площадку трапа последним. Здесь он некоторое время, по крайней мере на двадцать-тридцать секунд, задержался, давая возможность внимательно себя разглядеть.
Летели вбок его мятежные длинные кудри а-ля улица Гей-Люссак, и вся его фигура, озаряемая подвижными аэродромными огнями, являла собой вид демонический и динамичный. Трость, крылатка, сак, шевровой кожи выше колен сапоги, лоснящийся, как морское животное, велюр, ярчайшее пятно жилета «Карнеби-стрит», полыхающий, словно пламя в спиртовке, галстук дополняли его облик.
Новый материк лежал под ногами конкистадора и сюрреалиста. Мало ли что болтают обо мне в кофейной ОДИ — не слушайте!
Мемозов
Знаю, знаю, есть такие злыдни, что распускают слухи о моих неудачах в кооперативе «Павлин», — не верьте! Ходит разговоры, что некая мрачная личность с желтыми от алкоголя глазами вывела меня из художественного дома, применив прием карате, — смейтесь! Болтают, что я пытался поправить свои финансовые дела, продавая волнушки на Терентьевском рынке, — усмехайтесь! Поговаривают бастарды о том, будто я все лето выуживал фирменные шмотки из загрязненного океана, — о, засмейтесь, смехачи! Треплются, что меня в разгар вдохновенной импровизации какой-то амбал выбросил из троллейбуса, — хохочите, хахачи! Будоражат публику слухами о моем самоубийстве из ружья, которое я повесил над тахтой, чтобы оно выстрелило по законам черного юмора…
Впрочем, как угодно — можете верить, можете не верить: Мемозов, естественно, возвышается над кофейными, коньячными и папиросными сплетнями в предбаннике ОДИ, где все стены исписаны номерами телефончиков и двусмысленными фразами, и где пересечение тайных взглядов сплетает все общество в тесный клубок, наподобие грибного мицелия с комочками земли, и где бумажные салфетки, предназначенные администрацией для вытирания губ и для взятия бутербродов, используются совсем для другой цели, а именно для писания записочек, которые тут же и передаются, и где, к примеру, Михаил Р. встает со стула якобы для того, чтобы опустить пятак в музыкальную машину, а на самом деле для того, чтобы его увидела общеизвестная дама У., которая пришла сюда в обществе С. и Щ. явно для того, чтобы досадить Ваграму Ч., кейфующему у окна в ожидании М. К., которая в этот момент, безусловно, рулит на своем «жигуленке» в Серебряный Бор, чтобы оттуда позвонить Михаилу Р., вставшему в данный момент якобы для того, чтобы опустить пятачок в «Полифонию»… Мемозов, конечно, возвышается над этими отношениями, буквально парит над ними, задыхаясь от дыма.
Мне нужен озон, азот, гелий и фтор Сибири, и это отнюдь не бегство, а перегруппировка сил, выравнивание флангов. Мне нужны новые биологические, психические, пластические материалы. Мне нужно новое поле для эксперимента, и потому я уезжаю в этот экспериментальный городишко с бескрылым пожухлым провинциальным именем Пихты, к подножию этой пресловутой Железки. Для начала я внедрюсь как инородное тело в эту повесть, ворвусь в нее враждебной летающей тарелочкой, пройдусь жадным грызуном по ниточкам идиллического сюжета, влиянием своего мощного магнитного поля перепутаю орбиты героев; потом посмотрим, похохочем над незадачливым автором. А Москва… погоди, Москва… Мемозов еще воротится… едва затихнут разговоры о карате да о грибах, о черном юморе и о загрязненном океане. Ждите, Клукланскис и Игнатьев-Игнатьев, ждите, У., М. К., Ваграм Ч., Миша Р., С. и Щ., ждите все там, в ОДИ, в «Павлине» — я ореоле новой славы, овеянный новыми таинствами, на гребне новых индивидуальных достижений Мемозов еще.
От аэродрома до Пихт было побольше двух сотен километров, и автор начал уже собирать героев на предмет коллективного взятия такси или зафрахтован какого-нибудь левого» транспорта, когда среди криков, гудков и свистков послышался вдруг спокойный, даже величавый скрип древних рессор, и на площадь перед аэропортом выехал огромный черный автомобиль, за рулем которого возвышал-я Великий-Салазкин.
Этот «Кадиллак» выпуска 1930 года со множеством мягких, но уже замшелых кресел, с подножками и запасным колесом на переднем левом крыле, веером серебряных рожков на капоте был одной из легенд города Пихты. Говорили, например, что кар подарен Великому-Салазкину самим Эрнестом Резерфордом, но скептики решительно возражали и категорически утверждали, что Резерфорд не мог подарить В-С такой большой автомобиль иначе, кик сложившись с Бором. На пару с Нильсом Бором они подарили «Кадиллак» Великому-Салазкину, так утверждали скептики.
— Але, ребя! — позвал В-С свою шатию-братию. — Валитесь в колымагу. Глядишь, и доедем до Железки.
Все, конечно, с восторгом приняли это предложение, ибо проехаться по темному лесному шоссе в историческом автомобиле было для каждого удовольствием и честью. Даже Крафаиловы отправили верного Агафона в его фургоне Сок и джем полезны всем» и влезли на задний диван вместе с трогательно визжащим, родной душой Августином.
— А я этого одра на аэродроме месяц назад оставил, — говорил Великий-Салазкин. — Думал, угонят, нет — никто не позарился. Залазьте, залазьте, не тушуйтесь, Паша. Наташа; Эрика, конечно, вперед, чтоб штаны не помял. Кимчик, Ритуля, где вы там? Протеже моего не забыть бы. Где вы там. мосье Мемозов?
Выяснилось вдруг, что авангардный и независимый, весь в заострениях и огненных пятнах, Мемозов просто-напросто очередной протеже известного своим меценатством Великого-Салазкина.
— Чего же нам ждать от мосье Мемозова? — с еле видной подковыркой поинтересовался Вадим Китоусов.
Мемозов полоснул по нему желтым насмешливым и демоническим взглядом, а Великий-Салазкин смущенно ответил:
— Эге!
Он и сам толком не знал, кто таков этот Мемозов — дизайнер, пластик, биопсихот или оккультист, знал только, что внутренне ущемленный индивидуум, вот и забрал.
Итак, они отправились на ржавых рессорах, в мягких замшевых креслах.
Исторический рыдван, стуча поршнями, шатунами, гремя клапанами и коленвалом, трубя серебряными гор нами, медленно, но верно подвозил их к заветному, родному, святому и любимому — к Железке.
— Я полагаю, В-С, вы сразу на Железку поедете? — осторожно спросил Китоусов.
— Натюрлих, — ответил В-С. — Айда со мной? Раскочегарим сейчас ускоритель, пошуруем малость — спать не хочется.
— Рехнулись они со своей Железкой, — довольно гром ко произнесла Маргарита.
— Кес ке се эта Железка? — надменно спросил импортированный индивидуум.
— О Железка! — вздохнули все разом. — Скоро увидите!
Скоро ли нескоро, но в разгаре осенней ночи сквозь мрак они приехали к панораме своей альма-матер. Раздвинулись хвои, и взгляду предстала подсвеченная фонарями и собственным полуночным светом их родная Железка — суть комплекс институтов, кольцо ускорителя, трубы, вытяжные системы, блоки лабораторий и стеклянные плоскости оранжерей. Все это было огорожено самым обычным каменным с железными прутьями забором, но парадные ворота являли собой маленький концерт литейного искусства — грозди, колосья, стяги, венки и созвездия, крик моды позапрошлого десятилетия.
— Вот она, наша Железка! — еле сдерживая волнение, проговорил Паша Слон, и все замолчали.
Каждому виделся в мигании Железки личный привет, и все ждали реакции чужестранца: ведь нет же в самом деле на свете человека, которому она бы не приглянулась с первого взгляда.
Мемозов наконец разомкнул тонкие губы.
— Утиль! — сказал он и захохотал.
Так по повести был нанесен первый и нелегкий удар.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИЗ ГЛУБИН ИСТОРИИ
«…просит —
чтоб обязательно была звезда…
хоть одна…»
Владимир МАЯКОВСКИЙ
Корни этой истории сравнительно неглубоки, если держать в уме обозримое нами время. Если же предположить еще существование необозримого, то уедем так далеко, что и себя не сыщем. Возьмем все-таки какую-нибудь более-менее видимую точку отсчета и назовем ее условно началом.
Начало напоминало настоящий научно-фантастический роман. Сквозь галактические дебри нашего мира стремительно неслось нечто. Нечто весьма существенное — гость из просторного космоса, флагманский корабль целой эскадры. Цель у эскадры была одна, да-да, одна-единственная — к чему излишняя скромность? — цель эта была — мы, наша милая крошка, периферийный шарик.
…Флагман приближался к нашему отростку Галактики на заре XX века по христианскому летосчислению. На борту уже заседал Совет Высших Плузмодов для решения вопроса о методе контакта: насильственное поглощение, фагоцитоз и ферментозная переработка — или лирический контакт, совместное цветение, нежные тычки тычинок, пестование пестиков, элегическое мерцание эпителия?
Два опытнейших разведчика-блинтона сообщали Совету результаты непосредственного наблюдения: Жундилага (то есть Земля) была близка, каких-нибудь фубр-полтора иллигастров, не более…
И вдруг плузмоды пришли в замешательство: данные блинтонов стали противоречить друг другу.
Первый блинтон. Какое грустное очарование! В неярком розоватом освещении среди прочных и высоких растений молодая особь по названию «девушка» сравнивает себя с птицей, так называемой чайкой, что свидетельствует прежде всего об отсутствии высокомерия у головного отряда Жундилаги.
Второй блинтон. Хмурое тоскливое свинство! Группа приматов в серых одеждах полосками металла причиняет боль другой группе приматов в черных одеждах, которая бежит, причиняя боль первой группе кусками минералов. Аргументация атавистическим чувством боли говорит о низком и опасном уровне развития Жундилаги.
Первый блинтон. Я испытываю высокое волнение. В неярком сиреневом освещении среди камней и бедных растений молодое существо по имени «принц» говорит существу противоположного пола, что он любил ее, как сорок тысяч братьев. Мера любви чрезвычайно высока даже для нас, уважаемые Плузмоды!
Второй блинтон. Тошнотворная глупость! Присутствую на Совете жундилагских плузмодов. Они украшены варварскими блестящими дощечками и шнурками. Одного из них другие называют «величеством». Зло и надменно кричат о разделе какого-то предмета под названием «Африка». Собираются убивать. Главная эмоция — примитивный страх.
Первый блинтон. Я чрезвычайно взволнован, мне нравится Жундилага! В прозрачнейшей ночи там освещены лишь белые стены, там происходит милое лукавство, там все так простодушны и хитры. Вот человек громогласно заявляет, что он и здесь, и там, что без него никому не обойтись, вот женское существо появляется с пальцем у рта. Побольше хитростей, и непременно… О, как оно прекрасно! Они хитры без зла. а в этом есть мудрость.
Второй блинтон. На Жундилаге царит бессмысленная жадность и абсурд! Несколько существ бросают на стол желтые кружочки, пьют прозрачную жидкость, потом хватают кружочки назад, машут конечностями, вытаскивают убивальные аппараты. Там очень душно, спертый воздух и много отторгнутой пищи. Проклятая Жундилага! Во мне трясутся кристаллы от ненависти и тоски.
Первый блинтон. Их вайе нихт вас золл ее бедойтен…
[5]
Второй блинтон. Дави черномазого ублюдка!
А скорость становилась все выше, и притяжение маленькой биосферы, ее психоволны оказались в сотни раз больше расчетных. Совет Плузмодов, сбитый с толку противоречивыми показаниями блинтонов, ошибся на миллионную долю бреогастра, и флагман, подобно бессмысленному раскаленному камню, прошил многослойную атмосферу планеты и в сентябре 1909 года рухнул в необозримую тайгу, да так рухнул, что вся Сибирь покачнулась
[6].
Весь ли экипаж погиб, или кто-нибудь там уцелел, неведомо никому, даже автору сочинения. Возможно, на втором корабле эскадры сработали контрольные устройства, но, может быть, и не успели. Возможно, там все знают о подробностях катастрофы, а возможно, лишь оплакивают радиальные, искрящиеся кристаллами высшей логики структуры двухсот блинтонов и циркулярные пульсации целого десятка цветущих высшим логосом плузмодов. О втором корабле эскадры узнают лишь наши отдаленные потомки, которые, уверен, не будут сбивать с толку ппур-манов-блинтонов. Выйдут с цветами и цитрами на встречу с родственными структурами все наши Чайки, Гамлеты, Фигаро и Лорелеи, а остатки нехорошего будут только костями стучать в школьных музеях.
Так или иначе, но, когда рассеялся дым над дремотным девятым годом, Сибирь, чуть загнув назад Чукотку, увидела у себя в правом боку солидную дыру, вернее, кратер. Здоровый организм, естественно, сразу начал лечиться, затягивать ямищу живительной ряской, посыпать хвоей, спорами растений, пометами бесстрашных своих животных. пропускать корни, уплотнять почву грибными мицелиями. Короче говоря, вскоре никаких следов космической катастрофы на поверхности планеты практически не осталось. Ну, есть малая вмятина в тайге, но мало ли чего: может быть, Ермак с Кучумом тут бились или просто гак — вмялось и заболотилось.
Воет зверь, тонет человек, скрипит кривая сосна — все просто в тайге, никаких загадок. Гуляешь — гуляй. Зазевался — получай лапой по загривку. Летом приближается небо, вопросительно мерцает сквозь комариный зуд. Зимой небо уходит и виднеется, как сквозь прорубь, и никаких уже вопросов: жизнь есть форма существования белковых тел, а желтое тело идет на вес и обменивается на порох и спирт.
Во многих сотнях километров от нашего таинственного (а не «тианственного» ли?) места лежал так называемый гунгусский метеорит — простая печная заслонка с флагмана Жирофельян. и туда паломничала научная братия всего мира. Копали, бурили, вгрызались, пытаясь найти хоть какую-нибудь маленькую железочку, все тщетно… Зарвавшиеся дилетанты строили гипотезы: а уж не космический ли корабль взорвался над хмурым тунгусским потоком? Их высмеивали — обыкновенная, мол, болвашка брякнулась, но и она очень важна для познания, может быть, даже важнее вашего звездного, хе-хе, варяга. Потом и вокруг печной заслонки отшумели страсти, круги расплылись. и установился научный штиль, воцарилось занудство, именуемое иногда равновесием.
Только так ли это? Так ли бесследно и безрезультатно нырнул в иное измерение гениальный аппарат? Неужели вся немыслимая энергия испарилась в сибирском небе, словно болотный газ?
Сейчас, занимаясь историей нашей дорогой, уважаемой и любимой, золотой нашей Железки, мы находим в летописях края некоторые странные рассказы старожилов.
Клякша
Будто бы жил когда-то в северо-западном болоте некий медведь-мухолов по имени Клякша. Зверь имел огромный рост, каленый коготь, моторный рык, но, что характерно, никого не задевал, окромя, конечно, вкусных болотных мух да ягод.
Будто бы однажды соседский охотник Никаноров встретил медведя Клякшу в густом малиннике и чуть не помер со страху. Якобы сидел Клякша толстым задом на мягкой кочке и смотрел на Никанорова через многоцветное стекло, которое держал перед собой в передней лапе. И, что характерно, увидел Никаноров за стеклом переливчатый огромный глаз, явно не медвежий да и не человечий. Нервы от такого зрелища лопнут, конечно, даже у непьющих. Никаноров шарахнул по красавцу глазу зарядом дроби и отвалил копыта. И вот что характерно, товарищи, опомнился мастер пушной охоты уже в избе на своей лежанке, и ему никто не поверил, потому что будто бы выпивши. К сожалению, пьющему человеку у нас не всегда доверяют, вот что характерно.
Пихты
В другой год, рассказывают, шла через болота партия людей. Очень мучились прохожие от вонючей влаги и постоянно содрогались от безвредных, но отвратительных болотных гадов.
— Ах, братья-попутчики, милостивые государи, — якобы сказал однажды под вечер вожак, — посмотрите, какие над нами чарующие перламутровые небеса, а мы утопаем в болоте. Ах, если бы найти нам сейчас хоть клочок сухой землицы, как бы мы все отдохнули телесно, а Гриша, наш товарищ, укрепил бы наш дух великолепной музыкой.
Может, врут, а может, и нет, но один из этих людей. Григорий Михайлович, нес на себе старинную деревянную гармонь. Заплакал тогда Григорий Михайлович и говорит:
— А я вам и так сыграю, болезные друзья.
— Не играй, — говорят ему друзья-попутчики. — Утопнешь, Гриша.
— Пущай утопну, — говорит, обливаясь слезами, Гриша, — зато с музыкой.
Снял якобы Григорий Михайлович с плеча деревянную гармонь и заиграл на ней очаровательную музыку, а сам утопать стал, и довольно стремительно.
Тогда и полезли из болота верхушками сухие и шуршащие, как будто бы шелковые пихты, а вскоре и весь остров вылез с мягкой травой, с теплыми пещерами и винными светящимися ягодами.
Всю ночь якобы играл Григорий Михайлович старинную музыку из головы и по бумаге. Всю ночь блаженно отдыхала экспедиция, а после якобы дальше ушла. Ушла не ушла, а остров с пихтами там остался, и это факт, вот что характерно.
Горюны
И вот что, безусловно, характерно, появилась на горизонте девушка Любаша. Она, сия Любаша, проживала в соседнем селе Чердаки, и ее в дурной манере обидел инспектор по госстраху Заяцев, а ей, конечно, был мил летчик Бродский Саша. Отсюда возникла большая трагедия, и тихой красавице нашей опостылела жизнь. Эх, много в мире еще не изученного! Лишний раз убеждаешься, когда узнаешь, что пропадают в общем-то привлекательные девчата.
Так Любаша удалилась в гиблые края, на восток, через клюквенные поля, в таежную плесень. Ушла на рассвете, а очнулась на закате, лежа в красивой, но безнадежной позе среди дикой, страшной природы: ужасные корни с кусками глины раскачивались перед ней, вывороченные валуны громоздились нелепицей вокруг, гибло отсвечивали на тусклом закате огромные белые кости — позвонки, ребра и прочее. Доисторическая нижняя челюсть, например, возвышалась, как арка. Не может такого быть, чтобы и кости эти когда-то питались млеком, подумала девушка, содрогаясь. Пейзаж был почти что адский, эдакий предадник, раздевалочка. Горько пожалела тогда Любаша свою молодую суть. Экую мелкую тварь Зайцева вознесла до уровня мировой трагедии. Прощай теперь, Бродский Александр, ты даже не узнаешь о моем чувстве в своем пятом океане. Ах, есть ли на свете горше картина, чем рыдающая перед гибелью красавица?
И вот что характерно, в последний, можно сказать, момент появились вокруг Любаши цветы-горюны. Никто девушке этого названия не сказал, и раньше она его никогда не слышала, а только сразу поняла, что вокруг плавают и порхают волшебные горюны. Те, что горе снимают.
Цветы эти имели от земли некоторую независимость, ибо в любой момент от нее отрывались, чтобы закрутить вокруг печалицы хоровод. Они плавали в воздухе, как тропические рыбы, и сияли глубинными незнакомыми красками. Они трепыхались и наполняли округу тайной, веселой и вечно молодой жизнью. И вот они быстро внушили Любаше прежнюю нежную радость, и она поверила, что суженый ее ждет и простит ей потерянное колечко в счет будущих изумрудов.
Что тут правда, где брехня — разобраться трудно, но вот что характерно: Любаша Бродскому семь деток родила и получила материнский знак отличия.
Странные эти рассказы могут натолкнуть и на странную мысль: не испарилась окончательно энергия космического корабля, а где-то бродит в окружности и даже реагирует на события в мире людей.
Конечно, вздор, конечно, нонсенс, конечно, абсурдистика, но пусть присутствует здесь эта мечта хотя бы как вздор, как нонсенс, как нелепая фантазия. Автор, если угодно, и на себя грех возьмет.
Автор, как темный человек, верит во все туманное: и в летающие тарелочки, и в морское человечество — дельфинов, и в Атлантиду, и в месопотамские столбы, и в перуанские окружности, а уж тем более как ему не верить в свои собственные «пихты», «горюны», «Клякшу»?
Верит он и в то. что не совсем случайно встретились в разгаре пятидесятых годов трое наших героев — Пашка Слон. Кимка Морзицер и Великий-Салазкин.
Внешне как раз все произошло совершенно случайно, тем более что в те времена не существовало даже обычая трогательных и мимолетных тройственных мужских союзов. Просто один за другим в потоке шумных едоков вошли указанные лица в главный пищевой зал фабрики-кухни на Выборгской стороне города Ленинграда. Просто им есть захотелось.
Один из наших героев, Вадим Китоусов, уже рассуждал однажды над природой случайного. К этим размышлениям можно еще добавить, что случайности и совпадения бесконечно играют между собой в сложнейшую и порой утомительную для человечества игру. Некоторые считают, что совпадения и случайности — явления одного порядка. Большая ошибка! Совпадение по сути своей противоположно случайности, ибо с чем-то совпасть — значит уже вступить в какой-то ряд, в череду событий.
Человек всегда стремится расчленить явление, и люди деятельного типа, приемистые и устойчивые на виражах, с ходу все объясняют «случайностями» и, не задумываясь особенно, чешут дальше: люди же иного, лирического и раздумчивого типа долго буксуют, выискивая и мусоля действительные и мнимые «совпадения», ища за ними скрытый символ.
Не будем же уподобляться ни тем, ни другим, а попытаемся объяснить эту встречу диалектически. Итак, случайно совпало, что Слон, Морзицер и Великий-Салазкин оказались майским вечером 195… года на Выборгской стороне, случайно совпало, что всем троим в один момент захотелось поесть, случайно совпало, — что перед каждым из троих почти одновременно выросло светлое жизнерадостное здание фабрики-кухни, этот цветущий и по сю пору розан конструктивизма… Столь слаженная игра противоположностей поневоле наводит на некоторые подозрения. Увы, дальше гармоническое развитие событий прерывается: ведь не захотелось же всем троим казацких битков с гречневой кашей. Нет-нет, изощренный вкус Кимчика Морзицера нацелился на полную порцию рыбной солянки, на бризоль с яйцом, на мусс с тертым орехом и на желе из черешневого компота. Павел же Слон высокомерно желал бульона с гренками, антрекота, ну а Великий-Салазкин алкал квашеной капусты, щец да флотских макарон. Видите, какие разные натуры!
Не произошло и взаимного тяготения, никакой симпатии с первого взгляда.
«Ишь, гага», — подумал Великий-Салазкин на Павлушу.
«Лапоть», — подумал Павлуша на Великого-Салазкина.
«Плесень». — подумал Кимчик о Павлуше.
«Плебей», — подумал Павлуша о Кимчике.
«Скобарь», — подумал Кимчик о Великом-Салазкине.
«Губошлеп», — подумал Великий-Салазкин про Кимчика.
Шесть вариантов мимолетной неприязни увели наших героев в разные углы пищевого цеха. Казалось бы, все, встреча не состоялась, но тут вновь начинается загадочное: тайные магниты — уж не энергия ли плузмодов, витающая по соседству в N-ском измерении? — начинают подтягивать героев друг к дружке.
— Этот столик не обслуживается, товарищ!
— Товарищ, товарищ, чего уселись? Этот столик дежурный!
— Будете ждать, товарищ, заказы на столике только что приняты. Уселся!
— Столик грязный, товарищ. Пересядьте, и не кричи! Не дома!
— Глаза у вас есть, товарищ? Столик заказан.
В
результате с извинениями и экивоками — культурные же люди — все трое оказались за одним столиком возле архитектурной ноги из подмоченного бетона и погрузились в неприятное отчужденное ожидание.
Вот тут опять кто-то начал колдовать, и настроение стало улучшаться с каждым блюдом. Начало положил, конечно, Великий-Салазкин, пустив по кругу презренную капусту, которая, конечно, опередила своих именитых товарищей. Капуста пришлась как нельзя кстати. Измученные желудочной секрецией пациенты фабрики схрумкали ее за милую душу. Теплота и душевное доверие вдруг воцарились за столом. Морзицер предложил Великому-Салазкину яйцо с бризоля, тот подсыпал Слону макарон, последний (уже незаметно) подложил Морзицеру к бризолю ЛУЧШУЮ представительскую часть своего антрекота. Кольцо замкнулось, и все трое посмотрели друг на друга и на самое себя другими глазами.
— Вы не лапоть, — сказал Павлуша Великому-Салазкину. — А вы не плебей, — сказал он Кимчику.
— А вы не гага, — сказал Павлуше В-С. — И вы не губошлеп, — поклонился он Кимчику.
— Друзья мои, вы не плесень! — вскричал восторженный Кимчик. — Друзья, вы не скобари! — добавил он вторым криком и вдруг запел модную той весной песню: — Кап-кап-кап, каплет дождик, ленинградская погодка, это что за воскресенье?
— Моя фамилия Слон, — сказал Павел с простодушной улыбкой.
— А моя Морзицер, — хихикнул Ким.
— А меня кличут Великий-Салазкин, — представился академик.
— Как?! — вскричали юноши. — Вы Великий-Салазкин?
— Это через черточку, — пояснил великий старик лукаво.
— Вот именно через черточку! ВЫ ТОТ САМЫЙ, КОТОРЫЙ!..
Да ведь мы вас еще в школе проходили!
Да ведь ваших трудов в Публичке полный стеллаж да еще и переводы на всех живых языках!
Да ведь вы один из тех, что служить заставили людям мирный атом!
Значит, вас рассекретили?
Вы! Вы!
Особенно волновался Павел.
— Я читал ваши труды, я преклоняюсь перед вашей титанической…
— Кончай. Але, кончай, — сконфузился Великий-Салазкин.
— У нас все передовые умы биофака следят за нуклеарными победами, — с чувством проговорил Слон и любовно пожал худенькое плечико академика своей ватерпольной рукою. — Молодчага вы, В-С, вот что я вам скажу.
— Айда гулять, — предложил Великий-Салазкин. выворачиваясь, но восторг уже был подхвачен Кимом Морзицером.
— И мы, гуманитарии!.. — вскричал он и вдруг почему-то осекся, словно боясь быть пойманным за руку. — Гулять! Браво, В-С! Идемте гулять!
Смущение Кимчика под собой почвы никакой не имело. В самом деле, вполне он мог считать себя гуманитарием, ибо всего лишь неделю назад был отчислен за пропуски лекций из гуманитарного библиотечного института, в котором проучился почти что год после некоторых неудач в лесотехнической академии, где он, бывший студент горного фака, еще донашивал черную тужурку с золотым шитьем на плечах, которую все же порвал однажды на делянке экспериментального можжевельника, вместе с тельняшкой, полученной еще на заре туманной юности в мореходке. куда Морзицер сорвался после провала весенней сессии на журфаке, что тоже, конечно, можно причислить к гуманитарной биографии. Да и нынешнюю деятельность Морзицера в бюро молодежного клуба, в дискуссионном кружке «Высота», в секциях, в стенной газете «Серости — бой!» тоже можно без всякой натяжки назвать гуманитарной деятельностью.
Павел Слон был в золотой преддипломной поре, лидер факультета по всем направлениям. Борьба за узкие брюки, которую он возглавлял, закончилась в его пользу. Джаз тоже начал вылезать из рентгеновских кабинетов. Любимая наука шла вперед семимильными шагами и, как пишут в газетах, раздвигала горизонты. Любимая девушка Наталья параллельно оканчивала физмат, и оба фака уже называли ее Слонихой. «Танец слонов», — под общий дружеский смех объявлял на арендованных вечерах в знаменитой питерской школе «Петер шуле» саксофонист Самсик Саблер, и они открывали бал под любимый многострадальный ритм «На балу дровосеков».
Павел осваивал акваланг, внедрялся в генетику, изучал свою Наталью — жизнь была заполнена до каемочки, и впереди были одни надежды — шла одна из лучших ленинградских весен, мир был распахнут на все четыре стороны… и тут еще такая встреча! Смурняга. скромняга, эдакий рыжебородый банщик оказался легендарным ученым. Свой парень, «неквадратный», отличный мужик — В-С, Великий-Салазкин.
Отправились гулять. Павел, конечно, решил показать приезжему с номерного Олимпа «свой Ленинград», гнездовья новой молодежи. Увы, как назло, Самсика собаки съели, Овербрук болен сплином, а Наталья небось на проспекте Майорова хвостом вертит — еще устроим проверочку!
Из телефонной будки Слон вышел обескураженный, и тогда за дело взялся Кимчик. У него, конечно, тоже был «свой Ленинград». Час, а то два бродили новые друзья по проходным дворам Васильевского острова, по задам продуктовых магазинов, опрокидывая поленницы дров и штабеля бочкотары. Морзицер свистел в форточки первых этажей и полуподвалов каким-то условным свистом, индийским с клекотом. Полуподвалы давали отпор, и тогда приходилось бросаться в бегство по гулким торцам мистического острова, причем первым всегда убегал Великий-Салазкин, задрав брючата из довоенной диагонали.
— Давайте я вам свой Ленинград покажу, — сказал наконец Великий-Салазкин и привел друзей на Витебский вокзал в буфет, к сосискам и молочному дымному кофею. — Давайте погреемся, корешки.
И впрямь было славно. Бродили по запасным путям с чайником кофея (буфетчица оказалась добрейшей знакомой Великого-Салазкина), с гирляндой полопавшихся от железнодорожного котла сосисок. Тихо, скромно говорили о жизни, о своих планах, внимали друг другу.
— А я скоро уезжаю в далекие края, — сказал Великий-Салазкин. — В Сибирь намыливаюсь на постоянное местожительство.
— А как же нуклеарная наука?! — вскричал при этом известии Павел. — Как же плазма, нейтрино, как же твердое тело? Кто же выловит из пучин пресловутую Дабль-фью?
— Вот именно наука. — говорил Великий-Салазкин. — Сейчас принято решение всей научной лавиной ринуться на Сибирь. Строят там уже в разных местах научные крепости, и я себе присмотрел болото. Что-то тянет меня туда тихо, но неумолимо.
— А какое же это болото? — спросили Ким и Павел с непонятным, но нарастающим волнением.
Великий-Салазкин заквасился, занудил, замочалил свою бороденку.
— Стыдно сказать: обыкновенная вмятина, гниль болотная. но посередь нее, мужики, остров стоит с дивными пихтами.
— Знаю я это место! — вскричали одновременно и Слон, и Морзицер, и от этого крика прошла над ними по проводам странная музыкальная гамма.
Оказалось, что Морзицер в районе этой вмятины однажды кочевал и в должности коллектора экспедиции утопил в болотном окне мешок с образцами. Однако сам не утоп, струей донного газа был вышвырнут на поверхность.
Оказалось, и Павел Слон умудрился побывать в этой вмятине. Летел на велосипедные соревнования в сибирский город, вдруг — бац! — вынужденная посадка, дичь, мужик с бидоном, в бидоне — самогон, стал пить для возмужания личности и опомнился среди болот. Месяц там ловил и изучал гадюк для любимой науки. Здесь, на гадюках, и усомнился впервые в знаменах исторической сессии ВАСХНИЛ. Опять возьмите, как все переплелось: случайности плетут с совпадениями некий кружевной балет, и получается странная закономерность. Попробуйте свести в трехмиллионном граде трех лиц, сидевших когда-то на одной кочке.
— Великолепнейшее место для науки, — сказал Павел. — Думаю, что в точку попали, В-С.
— И для прогресса, — добавил Ким. — Туда только палочку дрожжей кинуть, и прогресс вспухнет, как кулич.
— Спасибо, ребя, за моральную поддержку, — едва ли не прослезился Великий-Салазкин. — А то мне многие коллеги говорят — не валяй, мол, ваньку. И коммуникации далеко, и народу вместе с медведями всего два на квадратный километр…
К характеристике академика следует добавить еще его аристократические ударения. Не исключено, что именно от него пошла шуточка про дОцентов, процентов и пОртфели. Стеснялся старик своей душевной изысканности и потому так ударял по словам.
Друзья давно уже шли по шпалам в направлении серебристой ночи, что мягко поигрывала чешуйчатым хвостом над окраинами великого города. Тоненькая струйка пара из чайного носика колебалась над ними. Мимо промелькнул полуосвещенный экспресс.
— Заселим, осушим, протянем коммуникации, — задумчиво произнес Павел Слон, хотя за минуту до этого не собирался ни заселять, ни осушать и ничего не хотел протягивать.
— Эх, черт возьми, разобьем плантации цитрусовых! — вскричал Ким Морзицер и тут же немного смутился этой традиционной вспышки энтузиазма: уж если болото, пустыня, то обязательно вам сразу плантации цитрусовых.
Что касается Великого-Салазкина, то он тут же оранжевым глазком подколол и Слона, и Морзицера.
— Ловлю на слове! Вместе, значит, заселим, осушим, картошечку посадим, а?! Все, закон-тайга, самоотводы не принимаются. Беру вас в свою артель, мужики!
Изумленный Павлуша остановился. Кристаллическое будущее, пронизанное яркими пунктирами аспирантуры и докторантуры, вдруг кончилось, оплыло дождевыми потоками, распалось на мелкие части спектра и построило непонятную, но красивую загадочную фигуру.
Воображение Кимчика подобно мохнатому доледниковому носорогу уже неслось сквозь джунгли будущего, отбрасывая копытами и рогом молодежный клуб, проблемное кафе, кресло в обществе «Знание», твердые гонорары, мягкие подушки на просиженной в мечтах тахте.
— Я еду! — одновременно сказали молодые люди, и три гласных звука этой короткой фразы взлетели к проводам контактной подвески.
— Вот сейчас бы нам бутылка не помешала, — сдавленно сквозь кашель в мочалку пробормотал Великий-Салазкин.
Павел восхитился: вот он — айсберг! Научный титан прячет четыре пятых своего чувства под водой, а на поверхности оставляет всего одну бутылку.
В дымных сумерках индустриальной ночи на друзей неслись три горячих глаза. Прощелкали мимо почтовый, скорый и молния. Один звенел мелочью в карманах спящих пассажиров, другой стаканами в подстаканниках, третий лауреатскими медалями. С последнего вагона соскочила и скособочилась у будки стрелочника неясная фигура.
— Не знаю, как у вас, — заговорил вдруг проникновенно Великий-Салазкин, будто уже стакан выпил, — а у меня бывают такие периОды эдакой замшелости, вонючей тряпичности. Гоняешь, гоняешь проклятую невидимку по ускорителям да по извилинам собственного церебруса, — он виновато постучал по макушке. — и вдруг чуешь — заквасился. засолился, как позапрошлая кадушка. Тут-то чего-то надо делать — или влюбляться платонически, свирепо, до хруста поэтических фибр, или графоманствовать. или дерзкие речи ермолкам в академии читать, или… Или лучше город в тайге построить, эдакую железку отгрохать, чтобы давала пульсацию на тыщи километров, чтобы наука там плескалась, как нагая нимфа в хвойной ванне, что бы росла талантливая мОлодежь. вроде вас. и чтоб утверждала везде боевую жизнь во имя познания прЕдмета, и главное: во имя дальнейшего сквозь тайгу и глухоту проникновения и простирания нашей мыслящей и культурной Родины, чтобы значит… так… вот… ну этого… туда… гугукх…
— Вы кончили, В-С? — вежливо спросил Павел, обеспокоенный вылезанием айсберга, и вдруг, забыв сам себя, вскричал: — Гип-гип-ура Великому-Салазкину! И да здравствует…
Конечно, сил у него не хватило воскликнуть «да здравствует новый город науки на просторах необъятной Сибири», и он подумал — что же да здравствует? Как бы ее поприличнее восславить, эту будущую железку?
— И да здравствует Железка! — хором воскликнули все трое и, обняв друг друга за плечи, протанцевали кружком танец ведьм из балета «Шурале».
Вдруг они увидели: будка стрелочника, оказывается, вовсе и не будка, а нечто похожее на цирковой фургон. От него отделилась неясная согбенная фигура факира и позвала их крылом, похожим на лоскутное одеяло.
— Вот он! Сам нас нашел уважаемый Люций Терентьевич Флюоресцентов.
Карменсита
— Прошу почтеннейшую публику на представление! Как несравненная Грейс Келли полюбила нищего князя Монако и что из этого вышло! Заглатывание кавалерского меча в четыре приема! Комментарии на европейских языках! — так возвестил факир Люций Терентьевич Флюоресцентов.
— Ах, вздор! Вот уже сто лет одна и та же программа, — вздохнули в публике.
Плесенью, дешевой пудрой, лежалыми марципанами пахло за кулисами полотняного цирка, где старый лев, лежа на расползающемся пузе, рвал мохнатой лапой трепещущую курку и где на опилках, пропитанных острой, как нашатырь, мочевиной, пожилой мальчик пан Пшекруй бардзо добже репетировал древнюю гуттаперчу.
Вот как бывало по ночам на площадях в глубинах старой Европы, где славянское и немецкое порой переплеталось в бронзовых позеленевших скульптурах и тоненькие струйки всю ночь тенькали в городских фонтанах для поддержания захолустного чувства земного рая.
За шторкой, откуда сквозил лунный свет серебряного века, хоть и далеко, но отчетливо — и, конечно, с балкона и, конечно, в одиночестве — весело и самозабвенно развлекался саксофон.
За шторкой оказался просто-напросто кусок любимого города, тот, что мокнет на задах Александринки в самом горле улицы Зодчего Росси.
— Маэстро, уберите ваш пожелтевший веер из страусиных перьев, за которым возмущенно гонялся еще колонель Биллингтон в те дни, когда лопасти первого полезного парохода так обижали непривычных крокодилов реки Заир и когда мужчины подпирали свои клубничные щеки только что синтезированным целлулоидом и подкручивали кончики усов, подражая последним Гогенцоллернам и первому князю из дома Фиат, — и дайте пройти, маэстро!
— Ох уж эти нафталиновые фокусы в наш век стерео!
— Нонсенс!
— Не верю!
— И все-таки приятно — согласитесь!
Могучий дом шестью этажами зеркальных окон смотрел на них, как живой. Он был высокий и узкий, живой и добрый, и над полукруглым своим ртом он имел усы, сплетенные из наяд и винограда, и сквозь шесть этажей своих модерных, цейсовских, немного опять же старомодных, но надежных стекол он смотрел на подходящую троицу с привычным радушием.
Сначала она (уж не та ли, что мы ищем столько лет?) мелькнула в окне верхнего этажа. Так быстро, что они и разобрать ничего не сумели, просто почувствовали ее присутствие. Промельк повторился на пятом, но уже как видимый язычок огня. И вдруг на четвертом, в третьем от края, явилось во все стекло ее лицо, и было оно в этой простой оправе таким простым, таким женским, что. глядя на него, и в самом деле не до подвигов и не до славы. Увы, сей миг был хоть и незабываемым, но мгновенным, и вновь по этажам замелькало: пламя, плечо, локон, кисть, шаль, блаженная шаль, проклятые жемчуга… Как будто в доме этом живом нет ни потолков, ни стен, ни паркета, таким свободным, трепетным и страстным был ее танец, пока не пропал. Все пропало, и дом смотрел теперь на них своими цейсами, как задумавшийся профессор. Все было безмолвно, если не считать шалого саксофона. Тот развлекался неизвестно где, в пространстве другого века.
Они уже стали скорбеть о пропаже, когда в подъезде заскрипели двери мореного дуба, и в глубине черноты явилась она во весь рост.
Как эти трое боялись насмешки! Но она не смеялась, а скорее была драматична, словно меццо-сопрано. Она приблизилась и встала уже на крыльцо в своем платье и в шали, чей узор был составлен из черного и красного, и красный цвет был глубок, а черный был слепящ среди ночи…
Лишь бы не расхохоталась, молили… Она не расхохоталась. Она лишь подняла руки к плечам, и невидимый швейцар опустил на плечи белое. Еще мгновение, и все исчезло в белом, и уже не женщина, а кокон, дурман раскаленного Самарканда быстро скользнул с крыльца и растворился в глубине улицы Зодчего Росси, которая замыкалась. как ни странно, мечетью Биби-Ханым, а дальше в провалах уже клубилась азиатская пыль, простиралась древняя щебенка на тысячи миль…
Петух
Трудно ручаться за полную достоверность описанных выше встреч и событий, но и отрицание этих встреч и событий, сведение их к элементарному словечку «вздор» было бы ошибкой.
Внимание, кажется, назревает афоризм. В самом деле, слово берет еще один наш знакомый, доктор наук Вадим Аполлинариевич Китоусов.
— Лишь тот имеет право сказать «нет» уже существующему в природе «да», кто имеет право сказать «да» уже существующему в природе «нет»!
МАРГАРИТА: Ребята, опять Китоусу намешали?
МЕМОЗОВ: Если не возражаете, запишу, чтоб не пропало.
Вот вам цена золотых слов. Униженный Маргаритой афоризм словно петух с отрубленной головой порхал под столом, покуда Мемозов не взял его в ощип!
Так или иначе, но через год или два после встречи в Ленинграде, в первой группе, пришедшей на болото, были и Паша Слон, и Ким Морзицер, а возглавил эту небольшую группу, конечно, Великий-Салазкин.
Могучая техника была на подходе. Бульдозеры и трелевочные тракторы, плюясь соляркой, будя чертей, шли через тайгу, но начать нужно было с лопаты.
И вот по праву примитивный инструмент вручается Великому-Салазкину, и тот…
Стоп-стоп, погодите! Да кто ж тут у нас фотограф? Конечно, Кимчик, где он? Да он от комаров бегает. Он и фотографировать-то не умеет. Кимчик на сухофруктах спит, ребята. Эй, Кимчик, чего ж ты в нас видоискателем целишься?
Конечно, насмешки были зряшными. Умел Морзицер не только фотиком щелкать, но даже и узкопленочным кино запечатлевать шаги прогресса. И насчет сухофруктом тоже натяжка — никогда он на них не спал. Карманы ими набивал, это верно, вечно жевал эти бывшие фрукты — справедливо, но от комарья не бегал — тут уж пардон. Бегал по стройплощадке, жуя чернослив, урюк, курагу, перекатывая во рту сушеную грушу, втыкал колышки с табличками «Площадь Десяти Улыбок», «Улица Ста Гитар». «Переулок Одинокого Ми-мезона», чтобы все было, как к кино — современные парни в тайге. Он же тогда и песенку сочинил и спел ее у костра сквозь сухофрукты, но очень заразительно:
Мы без шума и треска
Оставляем тахты.
Строим нашу Железку,
Славный город ПихтЫ… —
и так далее еще 34 куплета.
Под гитарку это получалось преотлично, и всем понравилось. Особенно ликовал над этой песенкой, конечно же, Великий-Салазкин: все тридцать семь куплетов получились в его духе.
Итак, фотография. Вот она висит в нашем шикарнейшем конференц-зале среди авангардной живописи и уже немного пожелтела. В центре коротышка, мужичок-лесовик перед историческим ударом, от него веером возлежат молодые гиганты с лопатами и гитарами, как в гражданскую войну возлежали их батьки с трехлинейками. Во втором этаже снимка расположились дамы, бесстрашные фурии науки, и каждая играет какую-либо роль, чтобы подчеркнуть настроение: одна накомарником закрылась, как паранджой, и руки сложила по-восточному, другая изображает опереточный канкан, третья — ведьму с Лысой юры… Многие, между прочим, удивляются, не находя среди ветеранов Наталью Слон, а некоторые, проницательные, отмечают очень уж мужественный, даже слишком мужественный вид Павлуши.
Да, из-за Железки разгорелся первый и единственный пока что конфликт в жизни Слонов. Девушка Наталья — осиная талья — яблочные грудки — глаза-незабудки отказалась сопровождать в тайгу героического мужа — и не из мещанского (как тогда говорили) пристрастия к коммунальным удобствам, а просто для самоутверждения, чтоб не очень преобладал. Правда, этот жуткий приступ феминизма продолжался недолго, но во всяком случае на исторический снимок она не попала.
Итак. Кимчик щелкнул: «Готово!» — и все вскочили, запрыгали, завопили, а Великий-Салазкин вонзил свою историческую лопату в грунт и нажал на нее кожемитовой подошвой.
Лопата разрезала травку и отвалила солидный кус сочной землицы. Землице этой надлежало попасть под стекло в качестве музейного экспоната, и поэтому Великий-Салазкин осторожно ссыпал ее на донышко цинкового ведра, и все участники торжества увидели на землице маленькую железочку, похожую на консервный ножик. Для подземного исторического предмета железочка была уж очень новенькой. такой блестящей, прямо светящейся, и поэтому Великий-Салазкин ласково спросил свою мОлодежь.
— Чья хохмА?
Вот ведь упорный старик: тысячи раз небось слышал вокруг популярное слово и все равно ударяет по нему на свой собственный манер.
Все засмеялись: небось Кимчик закопал? Нет. Кимчик отнекивался, но неохотно — как-никак хороший символ получился: первый копок, и в ведре железочка. Ну, все так и решили — Кимчик с хохмил. Почему же штопор не закопал, спутник агитатора? Ладно, и консервный нож сойдет, все равно под стекло. «Погодите», — Великий-Салазкин распорядился консервным ножом по-своему, размахнулся и закинул в самую топь — туда, где возвысится, по его задумке, Институт Ядерных Проблем. Бросок получился хороший — только брызги зеленые полетели.
Между прочим, эти брызги мы вспомнили пять лет спустя, когда уже поселилась в недрах Железки кибернетика. Автор однажды, гуляя в сумерках по улицам молодого города, поймал в воздухе обрывок перфокарты, на котором всякий мало-мальски грамотный человек смог бы прочесть стихотворение неизвестного автора.
№ 7
В одной из брызг, застывшей на
мгновенье.
мы увидали скаты водопада,
сухой земли унылый катехизис,
уступы гор и рыжую саванну,
гортань скворца
и драку скорпионов,
набег валов на океанский берег,
пятно мазута, молнии кустистой
разряд в ночи над Южно-Сахалинском,
над Сциллой и Харибдой…
К Геллеспонту стремниной узкой
ящик из-под мыла
бесстрашно мчался, возбуждая воду
к процессу стирки,
словно сам был мылом…
пока не скрылся в синих пузырях…
(Потом все скрылось.)
Мы знаем, что рассказом о строительстве научного городка теперь никого не удивишь, тем более что в памяти свежи заметки, очерки, киносюжеты о Дубне, Обнинске, о новосибирском Академгородище.
Стройка в Пихтах ничем не отличалась от других. Те же трудности, те же восторги, тот же бетон, те же паводки, водка, штурмовка, шамовка, тарифные сетки и дикий волейбол среди выкорчеванных пней… Прорабы, правда, удивлялись: что-то очень уж споро все идет, как-то ловко, гладко, быстро — и бетон схватывается быстрее, и арматура вяжется чуть ли не сама собой, и механизмы не ломаются. а, напротив, обнаруживают в себе какие-то дополнительные мощности.
Некоторым водителям самосвалов, например, казалось, что у них в двигателях какие-то усилители появились, будто искра стала толще и сжатие мощнее, а некий шоферюга Володя Телескопов утверждал, что три дня ездил с пустым баком, но ему кто ж поверит.
В общем, недосуг было вдаваться в эти подробности, и если уж кто хотел объяснений, то объясняли все водой. Такая, мол. здесь вода — железистая и витаминозная, хотя какое отношение имеет водяной витамин к двигателю внутреннего сгорания, никому не известно.
Приезжающим очень нравилась Желеэочка, некоторые просто-таки влюблялись в нее с первого взгляда, как мужчины, так и женщины.
Приехала, например, однажды под вечер молодая крепкая женщина в брюках чертовой кожи, под которыми можно было только вообразить ее греческие ножки, в горных ботинках, скрывающих продолговатые ступни Артемиды, в застиранной телогрейке, под которой лишь угадывались осиная ее талия и девичьи грудки, что две твои зрелые антоновки. Приехала в кузове грузовика независимая и даже злая, с угрожающей синевой в театральных, вроде бы ничего не видящих глазах. Взвалила на каждое плечо по рюкзаку и, никому ничего не отвечая, пошла по колее в гору.
Стояла уже унылая пора, что очаровывает очи, но взгляд приезжей был угрюм, и не радовали ее кровавые скопления рябины в сквозном бесконечном лесу, и башмаки ее давили мелкие льдинки в застывшей колее не без отчаяния.
Но вот она остановилась на гребне холма и увидела внизу маленькие и большие котлованы, экскаваторы, пустынно отражающие холодный закат, лабиринт уже готовых фундаментов, уже наметившиеся под этим глухим, захолустным и равнодушным небом контуры Железки, и тогда она вздохнула легко и счастливо, всей своей тренированной грудью, от гортани до самых мелких альвеол.
— О, как она прекрасна!
Позднее она спрашивала себя, чем же восхитила ее с первого взгляда заурядная стройплощадка, и не могла найти ответа.
— О, как она прекрасна! Как она обворожительна! — Так обворожил, а может быть, и заворожил ее этот первый миг и первый взгляд, что она не сразу обнаружила рядом с собой мужчину, эдакого молодого Хемингуэя, кожаного, с трубкой, с жесткой бородой. Но вот обнаружила.
— Ты рехнулась, что ли, Наталья? — глядя в сторону, спросил мужчина. — Без телеграммы, на грузовике…
Да вовсе она и не к нему ехала, плевать она хотела ни всяких этих суперменов, еще чего — какие-то телеграммы. Что же вы. мистер, собирались меня встретить в «Кадиллаке» с букетом роз? ах, как вы стали неповторимо героичны, ну пока, где здесь общага?
Вот так она и собиралась с ним поговорить, неутомимая суфражистка, но что-то шло снизу, из глубины, какое-то обворожение, и, ни слова не сказав, она залепила ему губы своим ртом… и так стало тесно, что пальцы его с трудом нашли пуговки на груди, и она чуть подалась назад — пусть любимый скорее схватит своих любимых, пусть быстрее ведет куда-нибудь… Пусть мстит он мне за мою глупость, пусть он меня накажет, но пусть не отпускает. раз поймал. И он не отпускал. И не отпустит никогда!
За шаткой стенкой кто-то пел, пиша письмо:
Мы здесь куем чего-нибудь железного,
И ждем вас в гости.
Нина, приезжай!
И вот уже появилась проходная, и сел в ней заслуженный артист Петролобов. Когда-то солировал казаком в Забайкальском военном хоре, однако голос сорвал и получил другой важный участок — проходную.
Однажды утром шли ученые на площадку и вдруг обомлели: за ночь выросла на пустыре монументальная проходная с лепными гирляндами фруктов и триумфальные ворота чугунного литья с неясными вензелями, золочеными пиками и опять же гирляндами фруктов, символизирующих плодородие.
Конечно, молодые люди восприняли сказочное сооружение как рецидив чего-то уже отжившего и возмутились. Что за безобразие? Вздор какой-то, отрыжка архизлишеств. Котельническая набережная! Кто осмелился нашу Железку украсить такой короной? Протестуем! Мы куем здесь современную научную Железку и новые лаконичные, динамичные, темпераментные формы второй половинки Ха-Ха. В печку эти ворота! А из чугуна отольем этиловую молекулу в стиле Мура или в крайнем случае гантели. В печку! В печку!
И тут Великий-Салазкин (он тоже со своей лопаточкой каждый день ходил на стройку) промолвил тихим голосом:
— А я бы на вашем месте, киты, оставил бы этот зоопарк как симвОл и как память.
— Какая еще память?! — загалдели ребята.
— Как память о вашей молодости.
— Какая еще молодость?! Чудит В-С! — шумели ребята.
— В нашем нуклеарном деле, там, где требуется много гитик, не успеешь чихнуть, как пара десятилетий проскочит, а ведь эта титаническая архитектура напомнит вам вашу юность, вторую четвертинку Ха-Ха, как вы выражаетесь, киты и бронтозавры.
Киты и бронтозавры задумались, есть ли сермяга в словах В-С?
— А в самом деле, ребята, — тихо проговорил Паша Слон, — пусть постоят воротики, — и вошел в проходную, и все вслед за ним зашли и даже показали з. арт. Петролобову удостоверения личности у кого что было — топор, перфоратор, лопату. Очень был доволен бывший тенор: понимают люди, что к чему, и идут в проходную, хотя и забора пока что нет.
И впрямь, говорим мы в авторском отступлении, прав оказался Великий-Салазкин. Вот пролетело уже полтора десятилетия, и кто из нас может представить себе Москву без ее семи высоток, этих аляпок, этих чудищ, этой кондитерской гипертрофии? Смотрю я на новое, стеклянное. с выгнутым всем на удивление бетоном и ничего не шевелится в душе, глаз спокойно отдыхает. Подхожу я к какому-нибудь генеральскому дому с нелепейшими козьими рогами на карнизе, с кремом по фасаду, с черными псевдомраморными вазонами, которые когда-то презирал всеми фибра ми молодого темперамента, и вдруг чувствую необъяснимое волнение. Ведь это молодость моя — в этом презрении, и вот я здесь шустрил — утверждался от автомата к автомату, и многие наши девочки жили в этих домах… все пролетело… и презрение вдруг перерастает в приязнь.
Надо сказать, что научная мысль отнюдь не засыпала в период строительства, и, невзирая на известку, глину, запахи карбида, она, пожалуй, даже клокотала. Да, она клокотала по вечерам в так называемой треп-компании, на складе пиломатериалов, где на сосновых досках, на чурбаках и в стружках располагались в непринужденных позах физики и математики, генетики и хирурги, химики и лингвисты, среди которых, конечно, прогуливался Ким Морзицер с гитарной, с фотовспышкой, с тяжелым магнитофоном «Урал» и кофемолкой.
Формулы и изречения писались углем на фанере, и на этой же фанере пили кофе, кефир, плодово-ягодный коньяк-запеканку. Немало бессмертного смыли потеки этих напитков, немало и напитков зря пропало из-за бессмертного.
Безусловно, каждый вечер отдельное групповое клокотание по специальностям сливалось в общий гам, где не разбирали who’s who, а крыли по поверхности мироздания всей Золотой Ордой, лишь бы быстрее докатиться до Урала, до Геркулесовых столбов, до пряных стран, до Пасифика.
Вот, к примеру, общий хор, который непривычному уху покажется, возможно, диким и нестройным, но в котором поднаторевший автор что-то все-таки улавливает.
…чтобы быстрей ее вывести в пучок как некогда Монгольфье парил с прибором нужно четыреста тысяч литров перхлорэтилена и еще четвертинку иначе зараза такая в дебри уйдет в мезозойскую эру и ищи ее дальше как суффис «онк» у молчаливых народов Аляски вращением минеральной пыли в банаховом пространстве так некогда сделал Малевич в природе черного квадрата загадки прячем в донкихотские латы ну что ж попробуй без мельницы фига ты вытянешь из своих шахт даже если метаморфоза зависит от массы покоя и энергии нейтрино а ваша цыганочка выражается формулой Востершира и Кетчупа без учета еще бы процента изотопа гелия-3 а если прямо рубить в лоб по-стариковски, то кто ж тогда будет тем солдатиком, красивым и отважным?
Крыша склада пиломатериалов была далека от совершенства. Пиломатериалов на нее не хватило, и порой над горячими головами зияли пучины космоса и сверкали звездные миры, порой, что чаще, сеялись смешанные осадки и выделялся пар.
И вдруг однажды с крыши в общий хор вклинилась международная песенка:
Аривидерчи, Рома!
Гуд бай!
До свиданна!
Все замолчали, но Великий-Салазкин, который давно пытался пробиться сквозь хор китов в соло, махнул рукой на звуковые галлюцинации и вопросил всю братию со штабеля тары:
— А если синие мезоны жрут оранжевых, то какого же цвета будет наша девчонка Дабль-фью? Кто знает?
— Я! — послышалось с крыши. — Я знаю!
— Леший прилетел, демон сибирский, — обрадовались ребята.
— Она блондинка, как Брижит Бардо, но глаза месопотамские, — гулко сказал леший.
— Так-так, — задумался Великий-Салазкин. — Интересный фЕномен выходит, альфа-то косит к синусоиде кью?
— Гениально, шеф! — весело сказал леший. — Именно к синусоиде кью, потому что дельта, обладающая свойством гармоничности в бесконечно удаленной точке, снова обращается к Прометею за формулой огня!
С этими словами с крыши на опилки спрыгнул юноша международного вида — в тирольской шляпе с фазаньим перышком, в кожаных шортах и в рубашонке, что копировала одну из тропических картин Поллака. Эдакий посланец доброй воли, прогрессивный гость международных юношеских фестивалей.
— Эрик! — закричали ученые — Морковка! Ура, ребята. Морковка к нам свалился с Альдебарана!
Да, это был он, любимец мировой науки, анфан те рибль Большой Энциклопедии, деятель мирового прогресса Эрнест Морковников.
— А я к вам, мальчики, прямо с Канарских, — бодро пояснил он. отдирая сосульки с волосяного покрова ноги и ничуть при этом не морщась, а даже улыбаясь.
— Да что, да как?
— А вот с пересадкой в столице пилил до Зимоярска.
— А оттуда-то на метле, что ли, прилетел, Эрик?
— Где на попутке, где на метле, а где и пехом.
— Киты, умрет сейчас Морковка!
Начинается паника — водка, шуба, женские руки… Спасем, отвоюем! Да он же весь покрыт льдом, киты!
— Плевать, плевать! — восклицал Морковников. — Покажите Железочку! Эх, В-С, как же это вы без меня заварили кашу?
— Да ведь вас не дождешься, мУсью, — ворчливо, но любовно произнес Великий-Салазкин и даже фыркнул от смущения, потому что и все фыркнули. Получалось, что В-С вроде бы Голенищев-Кутузов, а Морковка вроде бы князь Багратион, эдакий любимый воин.
— Ну ладно, чего уж там, залезай. Морковка, в шубу, в паленки, понесем тебя на поклон к Железочке.
Надо сказать, все немного волновались — а вдруг после женев да лозанн не покажется Железка молодому академику?
И впрямь, что же тут может особенно понравиться приезжему человеку, даже и неиностранцу? Ну, корпуса недостроенные, ну, ямы, ну, краны… ну, вот ворота еще эти идиотские… На всякий случай подготовлена уже была оборонительная реплика:
— А кое-кому пол-кое-чего не показывают.
Да нет, не зря все-таки любили Эрнестулю в молодой науке. Свой он парень, в доску свой, несмотря на гений. Приподнявшись с трудом на плечах товарищей. Морковников прошептал сквозь клекот обмороженных бронхов:
— Она прекрасна, киты… Эти зачатки, эти зачатки… пусть это последнее, что я вижу в объективном мире… это обворожительно… я люблю эти зачатки…
Тут он потерял сознание.
Позднее, когда уже сознание вернулось, некоторые пытались узнать у Морковникова, какие он имел в виду «зачатки», но он не помнил.
Скоро сказка сказывается, и, между прочим, дело скоро делается, потому что время… время не терпело.
Время действительно жарило через кочки тройным прыжком. «Киты» и опомниться не успели, как вылезли из времянок и влезли в трехкомнатные квартиры, как пересели с пиломатериалов в мягкие кресла, как подкатились к ним под ноги асфальтовые дорожки, как заработали ЭВМ в чистоте и прохладе, как закружились протоны в гигантском цирке со страшным скрипом, грохотом и воем, как треп-компания перекочевала на вертящиеся коктейльные табуретки кафе «Дабль-фью», возникшего на пустом месте стараниями, конечно, Морзицера.
Операция «Кафе», надо сказать, была не из легких. Сначала заманили, под видом обычных пищевых дел, Зимоярский трест нарпита, и он открыл в Пихте унылую столовку на полтораста посадочных. Потом, под видом маляров. выписали из столицы пару ташистов, и те так расписали стены, что зимоярские повара сбежали. Потом в уголок за кассой Слон усадил своих дружков из Питера, боповый квартет, и те так вдарили по нервам, что и кассирша сбежала, и директор. Тогда уж и прибили вывеску: «Дабль-фью, разговорно-музыкальное кафе по всем проблемам».
Что касается прогрессивной торговли, то здесь неожиданную лепту внес Великий-Салазкин. Однажды, когда уже начался в Пихтах быт и встал вопрос, где ученому в промежутке между фундаментальными открытиями купить зубную щетку, швейную машинку, хоккейную клюшку, В-С внес рекомендацию:
— Я один раз. киты, решил в Москве купить себе ковбойку. Захожу в универсальный магАзин и вижу: ковбоечки висят — мама рОдная — глаза разбежались. Нацелился я уже в кассу, как вдруг меня берут за пуговицу. Смотрю — красивый, белый с розовым, мускулистый человек смотрит на меня пронзительными голубыми глазами. Добрый день, говорит, я директор. Появляется второй точно такой же человек, как впоследствии оказалось, супруга товарища Крафаилова.
«Тася, этот гражданин хочет купить ковбойку», — говорит директор, дама улыбается и включает проигрыватель.
Звучит музыка, а я до того трехнулся, что еле узнаю концерт Гайдна соль-мАжор, но постепенно успокаиваюсь. А Крафаиловы тем временем мирно и скромно сидят рядом. «Ну вот, — говорит он, когда пластинка кончается, — пойдемте. Теперь вы купите то, что вам нужно». И я иду, киты, и покупаю с ходу бутылку алжирского вина, украинскую рубашку и банку витаминных драже. Вот так!
— Где эти ваши Крафаиловы? Зовите! — высказались киты».
Нечего и говорить, что Железка сразу обворожила Крафаиловых, можно сказать, пленила навсегда.
Да и сами Крафаиловы пришлись в Пихтах ко двору. Китам» импонировала их скульптурность и душевность, немногословие и твердость в тех немногочисленных поступках. которые им приходилось совершать.
Так, в общем, и жили рядом с Железкой крупнопанельные Пихты, так и разрастались.
Ах, восклицает в этом месте автор, как много я оставляю за бортами своего кораблика! Как много я не отразил!
Вот здесь бы автору одолжить трудолюбия у кого-нибудь из коллег и начать отражать неотраженное в хронологическом порядке или по степени важности. Нет. я не хочет отражать, рулит туда-сюда, крутится угрем в стремнине родной речи, выкидывает пестрые флажки, выстраивает неизвестно для чего команду, ныряет в трюмы, якобы но срочному делу, а то и палит фейерверком с обоих бортов, чтобы задурить читателю голову, но только бы не отразить!
Почему бы, например, не сказать, что за истекший отрезок времени в научном центре Пихты сделано множество важных работ, и почему бы не рассказать в неторопливой художественной форме о важнейших?
Нет, я не делает этого, чтобы не обнаружилась некоторая авторская неполная компетентность в вопросах науки. я размышляет примерно так: «Пока что у меня в рОмане, как бы сказал мой любимый герой, с наукой полный порядочек, комар носа не подточит, а влезешь поглубже и вляпаешься чего доброго, дождешься, что в Академии наук кто-нибудь буркнет — неуч!» (Для романиста хуже нет упрека, чем «неуч» или «дилетант».)
Слава богу, уж ели мы науку и с солью, и с маслом и немало тостов в ее честь приподняли, как реальных, так и фигуральных, отдали и мы с товарищами дань этой моде на ученых.
Кто-то в драматургии нащупал тип современного интеллектуала: зубы, как у акулы, блестят крупнейшими остротами, плечи — сочленения тяжелейших мускулов, мраморная в роденовском духе голова (там воспоминания о Хиросиме и фугах Баха, а между ними, конечно, Е=мс
2), ноги изогнуты в твисте (ничто молодежное нам не чуждо), ладони открыты сексу, морю, Аэрофлоту.
Повалили журналисты, приехали киношники, модные писатели один за другим коптили потолок в «Дабль-фью». с опаской поглядывали на небожителей, прислушивались к разговорам, помалкивали, как бы не сморозить глупость, не проявить невежество, давили на коньяк, на зарубежные впечатления.
Художники привозили в Пихты свои холсты, да там и оставались работать: кто в милиции, кто на почте, кто комендантом общежития.
Между прочим, тип. подмеченный и вы-ве-ден-ный драматургами, был все-таки похож на оригинал, как похожа, например, скульптура «Девушка с веслом» на настоящую девушку без весла. Надо сказать, что некоторые «киты» купились на этом сходстве, приняли предложенную обществом игру и стали активно формировать образ нового интеллектуала со всезнающей усмешечкой, с зубами, с твистом, с мучительными углубленными раздумьями по ночам, когда стюардесса уже спит.
Да пусть играют, думал Великий-Салазкин, пройдет и эта кадильня. Старик почуял запах моды еще задолго до начала паломничества униженных Эйнштейном гуманитариев. Первыми птичками моды были, конечно, романтики.
Молодых романтиков, да причем не карикатурных, не из кафе Романтика». не тех. у которых «сто дорог и попутный ветерок», а настоящих романтиков с задних скамеек институтских аудиторий, — вот таких Великий-Салазкин изрядно опасался. Возможно, начинали они с «морского боя», с «балды», но потом уже появились и томики Хемингуэя, и собственная записная книжечка, где разрабатывались разные варианты «моей девушки», и наконец выкопался тип современного романтика — эдакого мрачноватого паренька, стриженного ежиком, за плечами которого обязательно предполагаются разрушенные мосты и сожженные корабли, «который плюнул на все» и явился сюда, в глухомань, чтобы больше уже не вспоминать «их городов асфальтовые страны». Есть среди них вполне толковые ребята, но ведь кто поручится, что завтра романтик не махнет на Тихий», не сменит лабораторный стол на палубу китобойца, дрейфующую льдину, заоблачный пик, чтобы сколотить себе в актив настоящую мужскую биографию.
Однажды в прозрачный августовский вечер Великий-Салазкин прогуливался за околицей города, прыгал с кочки на кочку, собирал бруснику для варенья, размышлял о последней выходке старика Громсона, который заявил журналу «Плейбой», что его многолетняя охота за частицей Дабль-фью суть не что иное, как активное выраженье мужского начала.
Тогда и появился первый из племени романтиков, наитипичнейший.
Он спрыгнул на развилке с леспромхозовского грузовика и пошел прямо в Пихты, а В-С из-за куста можжевельника наблюдал его хорошее романтическое лицо, сигарету, приклеенную к нижней губе, толстый свитер, желтые сапоги гиппопотамьей кожи и летящий по ветру шарфик «либерте-эгалите-фратерните». Когда он приблизился. В-С пошел вдоль дороги, как бы по своим ягодным делам, как бы посвистывая «Бродягу».
— Эй, добрый человек, далеко ли здесь Пихты? — спросил приезжий.
— Да тут они, за бугром, куда ж им деваться. — В-С раскорякой перелез через кювет и пошел рядом. — А нет ли у вас, молодой человек, сигареты с фильтром?
— Зачем тебе фильтр? — удивился приезжий.
— Для очищения от яду, — схитрил В-С, а на самом-то деле он хотел по сигарете определить, откуда явился «романтик».
— Я, брат, солдатские курю, «Лаки страйк», — усмехнулся приезжий и протянул лесовичку пачку «Примы» фабрики «Дукат».
— Из столицы, значит? — спросил Великий-Салазкин, крутя в пальцах затхлую полухудую сигаретку, словно какую-нибудь
заморскую диковинку.
— Из столицы, — усмехнулся приезжий. — Точнее, с Полянки. А ты откуда?
— Мы тоже с полянки, — хихикнул В-С и даже как-то смутился, потому что этот хихик на лесной дороге да в ранних сумерках мог показаться и зловещим.
Однако романтик был не из тех, что дрожат перед нечистой силой.
— Вижу, вижу. — сказал он. — По ягодному делу маскируешься, а сам небось в контакте с Вельзевулом?
— Мы в контакте, — кивнул В-С, — на столбах, энергослужба.
— Понятно, понятно, — еще раз усмехнулся «романтик», и видно стало, что бывалый. — Электрик, значит, у адских сковородок?
— Подрабатываем, — уточнил Великий-Салазкин. — Где проволочка, где брусничка, где лекарственные травы. На жизнь хватает. А вы, кажись, приехали длинный рублик катать?
— Эх, брат, где я только не катал этот твой рублик, — отвлеченно сказал романтик, и тень атлантической тучки прошла по его лицу.
— А ныне?
— А ныне
я физик.
— У, — сказал Великий-Салазкин. — Эти гребут!
— Плевать я хотел на денежные знаки, — вдруг с некоторым ожесточением сказал приезжий.
«Во-во, — подумал В-С. — Приехал с плеванием».
— А чего ж вы тогда к нам в пустыню? — спросил он.
— Эх, друг, — с горьким смехом улыбнулся неулыбчивый субъект. — Эх, кореш лесной, эх ты… если бы ты и вправду был чертом…
— Карточку имеете? — поинтересовался В-С.
— Что? Что? — приезжий даже остановился.
— Карточку любимой, которая непониманием толкнула к удалению, — прошепелявил Великий-Салазкин, а про себя еще добавил: «И к плеванию».
— Да ты и правда агент Мефистофеля!
Молодой человек остановился на гребне бугра и вынул из заднего кармана полукожаных штанов литовский бумажник и выщелкнул из него карточку, словно козырного туза.
Великий-Салазкин даже бороденку вытянул, чтобы разглядеть прекрасное лицо, но пришелец небрежно вертел карточку, потому что взгляд его уже упал на Железку.
— Так вот она какая… Железочка… — с неожиданной для романтика нежностью проговорил он.
— Что, глядится? — осторожно спросил В-С.
— Не то слово, друг… не то слово… — прошептал приезжий и вдруг резко швырнул карточку в струю налетевшего ветра, а сам, не оглядываясь, побежал вниз.
Академик, конечно, припустил за карточкой, долго гнал ее, отчаянно метался в багряных сумерках, пока не настиг и не повалился с добычей на мягкий дерн, на любимую бруснику.
В наши кибернетические дни воспоминанием об этой встрече с осенних небес на руки Великому-Салазкину слетел обрывок перфокарты. Стоит ли напоминать, что всякий грамотный человек может прочесть в этих «тианственных» дырочках стихи
№ 18
В брусниках, в лопухах,
в крапивном аромате.
в агавах и в шипах
шиповника и роз,
в тюльпанах, в табаке,
в матером молочае,
в метели метиол,
как некогда поэт,
как некогда в сирень,
и в желтом фиолете,
желтофиолей вдрызг,
как некогда дитя,
расплакался старик,
тугой, как конский щавель,
кохана, витер, сон
ихлибе, либе их…
Позднее Великий-Салазкин выяснил, что имя первого в Пихтах романтика — Вадим Китоусов. Несколько раз академик встречал новичка в кафе «Дабль-фью», но тот обычно сидел в углу, курил, пил портвейн «По рупь-сорок», что-то иногда записывал у себя на руке и никогда его не узнавал.
В-С через подставное лицо спустил ему со своего Олимпа тему для диссертации и иногда интересовался, как идет дело. Дело шло недурно, без всякого плевания, видно, все-таки не зря пустил Китоусов по ветру волшебное самовлюбленное лицо. Нет. не собирался, видимо, «романтик» подаваться «на Тихий», оказался нетипичным, крутил себе роман с Железкой и жил тихо, а тут как раз и Маргаритка появилась, туг уж и состоялось роковое знакомство.
Ах, это лицо, самовлюбленное лицо юной пигалицы из отряда туристов, что бродили весь день по Пихтам и вглядывались во всех встречных, стараясь угадать, кто делал атомную бомбу, кто болен лучевой болезнью, а кто зарабатывает «бешеные деньги». Туристы были из Одессы, и, собственно, даже не туристы, а как бы шефы, как бы благодетели несчастных сибирских «шизиков-физиков», поэтому привезли пластмассовые сувениры и концерт.
Великий-Салазкин, конечно, пошел на этот концерт, потому что пигалица в курточке из голубой лживой кожи поразила его воображение. Ведь если смыть с этого юного лица пленочку самолюбования, этого одесского чудо-кинда, то проявятся таинственные и милые черты, немного даже напоминающие нечто неуловимое… а вдруг? Во всяком случае, должна же быть в городе хоть одна галактическая красавица, так рассуждал старик.
Пигалица малоприятным голоском спела песенку «Чай вдвоем», неверной ручкой взялась за смычок, ударилась в Сарасате. Присутствующие на концерте киты шумно восторгались ножками, а Великий-Салазкин с галерки подослал вундер-ребеночку треугольную записку насчет жизненных планов.
На удивление всем пигалица ничуть не смутилась. Она. должно быть, воображала себя звездой «Голубого огонька» и охотно делилась мыслями о личном футуруме.
— Что касается планоу, то прежде всехо подхотоука у УУЗ. Мнохо читаю классикоу и четвертохо поколения и, конечно, бэз музыки жизнь — уздор!
— Ура-а! — завопили киты, а В-С подумал, что южный акцентик интеллигентной карменсите немного не к лицу. С этим делом придется поработать, решил он и тут же подослал еще записочку: «От имени и по поручению молодежи прихлашаю в объединение БУРОЛЯП, хде можно получить стаж и подхотоуку». Дарование прочло записку и лукаво улыбнулось — ну просто Эдита Пьеха.
— Товарищ прихглашает меня в БУРОЛЯП, а, между прочим, товарищ сделал четыре храмматических ошибки.
Да, видно, ничем не проймешь красавицу, читательницу четвертого поколения и представительницу пятого.
В-С пришел домой, в пустую, продутую сквозняками пятикомнатную квартиру и ну страдать, ну метаться — останется, не останется? Итог этой ночи — десять страниц знаменитой книги «Оранжевый мезон».
В дальнейшем ночи безумные, одинокие, восторг, ощущение всемирности стали слабеть — 8 страниц, пять, одна и, наконец, лишь клочок обертки «Беломора», головная боль, неясные угрызения совести. В таком состоянии В-С явился ночью в 6-й тоннель БУРОЛЯПа и вдруг увидел: за сатуратором сидит чудо-ребенок, сверкающий редкими природными данными и будто бы от подземного пребывания немного помилевший. Дева Ручья! Стакан, еще стакан. еще стакан… и вновь весна без конца и без края, и стеклярусный шорох космических лучей, и буйство платонического восторга, новые страницы. Весь мир удивлялся в те дни плодовитости «сибирского великана», но никто не знал, что источник — рядом и живая вода — суть обыкновенная несладкая газировка.
Лишь Маргарита, пожалуй, догадывалась о чувствах академика, о близости лукавой нечистой силы, о возможности оперного варианта по мотивам Гуно «душа — Маргарита — адские головешки». Женщина, даже несовершенная, конечно, обладает несвойственным другому полу нюхом на любовь.
Ребро
И вновь за столом в стиле «треугольная груша» начал назревать афоризм.
ВАДИМ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ КИТОУСОВ: Что есть женщина?
МАРГАРИТА: Вот это уже интересно. Прошу тишины. Китоус размышляет о женщинах. Мемозик, слушайте, не пожалеете — это большой знаток.
МЕМОЗОВ: А я уже вострю карандаш, мой одиннадцатый палец.
КИТОУСОВ: Книга гласит, что Ева сделана из ребра Адамова, но прежде еще была Лилит, рожденная из лунного света. Некоторые утверждают, что женщина суть сосуд богомерзкий. Другие поют, что женщина суть оболочка любви. Человек ли женщина, вот в чем вопрос. Человек или сопутствующее человеку существо? Отнюдь не унижаю, нет. Может быть, существо более сложное, чем человек? Женщина храбрее мужчины в любви. Может быть, это существо более важное, чем человек? Может быть, как раз человек сопутствует женщине? Не будем сравнивать. Главное — это разные существа. Не подходи к женщине с мерками мужчины.
Ошарашенное молчание за столом было взорвано вопросиком:
МЕМОЗОВ: А с чем же прикажете к ней подходить?
В глубине взрыва Китоусов сидел, положив на руки осмеянную голову.
МАРГАРИТА: Бедный Китоус. не злись на Мемозика. Он дитя.
А, между прочим, на повестке дня — ШАШЛЫК НА РЕБРЫШКАХ!
В далекие дни Маргарита встречала Великого-Салазкина каждый день в своих разных качествах: то скучающая леди, то полнокровная спортсменка, то пылкая поэтесса, то шаловливая нимфа. Искала девушка свой образ и для этого опять же бороздила литературу четвертого поколения — образ современницы!
Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой шестого тоннеля, следил, как шуруют вокруг сатуратора его «киты», как они хохмят с новым сотрудником и как она отвечает. Девушка охотно контактировала с мудрыми лбами, интересовалась мнениями по литературе, шлифовала свои «г» и «в», эту память о Привозе, где папочка заведовал киоском по производству Нефертити. Вскоре Маргарита уже была своей девушкой, своим пихтинским кадром, и в одном только она вставала поперек голубым китам-первоборцам — в их любви к Железке.
— Ну что вы в ней нашли особенного? Допускаю, в ней есть какое-то очарование, но. согласитесь, ведь это всего-навсего обыкновенная научная территория. Ведь не Клеопатра же, не Нефертити и ничего в ней нет обворожительного, просто милый шарм. Не больше.
Иные киты ворчали:
— Ишь ты, шарм… Тоже мне…
Другие смеялись:
— Ревнует Ритуля…
Великий-Салазкин, спрятавшись за бетонной ногой, следил, вздыхая. Увы, он знал, что в одну прекрасную ночь в тоннеле № 6 появится какой-нибудь «романтику» и молил небеса, чтобы оказался тот без морского уклона, чтобы только не уволок карменситку куда-нибудь «на Тихий», в сельдяное царство, в бескрайний пьяный рассол. Пусть это будет какой-нибудь Вадим Китоусов, что ли…
Внутренний монолог
Великого-Салазкина
А то, что мне самому причиталось по романтической части, все обвисло в конечном счете на моей соединительной черточке, на злополучной этой дефиске, без которой, как уже было сказано, моя персона невозможна.
Когда-то было время, не скрою, расцветал дефис глициниями, резедой, гиацинтом, кудрявился вечнозеленой шелушней, как грудь эллинского лешего из аттических дубрав. Когда-то — помнишь, тетеря, — Студенточка-Заря-Вечерняя ждала и тебя на фокстротном закате, но центрифуга была заряжена на пять часов, и имелись значительные трудности с электроэнергией, и пачка нераспечатанной корреспонденции из Ленинграда и Копенгагена лежала на столе, и ты вдруг в ужасе подумал о задержке, которая произойдет, если ты отправишься сейчас в закатные манящие края, подумал затем о своем любимом ярме, которое никому не отдашь и не обменяешь на фокстрот, на жаркую охоту в лунной Элладе, и дернул гирьку институтских ходиков, и гирька в соответствии с законом великого Исаака пять часов падала на пол и… упала!
Дефиска могла стать бархатным пуфиком, но не стала. Словно коленчатый вал. она крутила все мои годы, темнела и старела, но не ржавела, однако.
Теперь иногда одинокость кажется мне одиночеством, и я минуту за минутой вспоминаю ту ночь и падение чугунной болвашки и жалуюсь Мирозданию, что меня обделили романтикой, и Оно. милосердное, шлет мне свою по сланницу, и та глядит на меня сквозь форточку ночами очами вечной черноты и ободряет: старик, мол, не трусь — все впереди! С вами бывает такое, одинокие сверхпожилые мужчины?
Вот так прошли годы, и все устоялось. Научный мир привык к Железке, привык прислушиваться к ее львиному рыку, принюхиваться к ее флюидам, вчитываться в ее труды и вместе с ней играть в тяжелую игру, доступную лишь титанам, передвигавшим горы в пустынные земные времена. Теперь на любой конференции в любой точке мира можно было услышать: «по последним данным Железки»… «как свидетельствует опыт Железки»… «опираясь на эксперименты, проведенные в Железке»… и так далее.
Что и говорить, Железка пульсировала, излучала свечение, пела свою серьезную тему, и местность вокруг на тысячи миль весьма облагораживалась. Что и говорить: в сфере практического применения высочайших достижений Железка наша любезнейшая тоже преуспела — некоторые ее детища вгрызлись в недра, другие вспахали морские луга, третьи взбороздили околоземные пространства.
Что и говорить: в область будущего Железочкой был послан острый лазерный луч познания, и всякий, даже чем-то задавленный, чем-то угнетенный человек становился смелее в ее железных гудящих тоннелях и смело видел в будущем картины привлекательных изменений — парные острова-проплешины в вечной мерзлоте и на островах тех, под ныне еще угрюмыми широтами, вечно-веселую фауну и вечно-шумящую флору, согретую оком вскоре ожидаемой космической красавицы Дабль-фью.
Прошли, однако, годы, прошла и мода. Схлынули журналисты, киношники и драматурги. Образ Атомного Супермена, пережеванный в репертуарных отделах, пожух, завял, засквозил унылыми прорехами. Кой-какие романтики смывались «на Тихий», переживая различные разочарования.
Разочарование
Вот ты говоришь «разочарование» и сам понимаешь, как это смешно: ведь писал же ты в школе «образы липших людей», а ты не из них, это тебе говорит Вадим.
Твое разочарование — это поиск новых очарований, это тебе говорит Вадим, он знает.
Вот ты говоришь, разочаровался в работе, а это значит — ты ищешь новую каторгу, где больше башлей, где на тебе меньше ездят, а главное, где ты можешь больше кипятить свой котелок с ушами, это тебе говорит Вадим, а у него опыт.
Вот ты говоришь, разочаровался в бабе. Значит, другую ищешь: или монашку, или потаскушку, или дуреха тебе нужна, или товарищ-баба, едкий критик и сверчок, а может быть, просто тебе пышечку с кремом захотелось, или наоборот — птичку на пуантах, и это тебе говорит Вадим по-дружески.
Вот ты говоришь, разочаровался в друзьях, а это значит, что тебе другие ребята нужны, какие-нибудь смельчаки или, наоборот, смурные пьянчуги, джазмены, может быть, или гонщики по вертикальной стене, зануды-аналитики или заводные «ходоки» с пороховой начинкой, это тебе говорит Вадим — он видел разное.
А вот если ты говоришь, что разочаровался в жизни, ты не понимаешь своих слов, и это тебе говорит Вадим, а он это знает.
Разочарование в жизни — это отказ от всех очарований, и для того, чтобы понять, поселилось ли оно в тебе, нужно лечь на спину и заснуть, а после проснуться и увидеть перед собой голубое небо. Все остальное, что входит в понятие «голубое небо» — кипящая европейская листва и дорога среди лапландских прозрачных озер, женщина Алиса, что машет тебе из кафе, руль автомобиля, стакан вина и жареное мясо, ветер вокруг флорентийского фонтана, темная улочка Суздаля. Пскова, Таллинна, ночной Ленинград с гулкими шагами и с музыкой из подвала, где сидят твои кореша и жарят «Раунд миднайт», — все это подразумевается. мой маленький принц.
Над тобой голубое небо. Ты только очнулся и смотришь на голубое небо. И вот ты начинаешь видеть в голубом черные пятна. Сначала разрозненные, потом собранные в гроздья, в кристаллы, потом ты видишь черную сетку, и временами для тебя все голубое становится черным, и пропадает все, что связано с голубым, а с черным для тебя ничего не связано. Вот когда ты видишь черную структуру голубого, это и есть разочарование в жизни, и это тебе говорит Вадим, а он понимает.
Итак, мы подводим черту под историческим опусом, без которого, увы, нам не удалось обойтись в силу приверженности к традиционным формам повествования. Итак, вы поняли: существует город Пихты и в нем живут наши герои, а рядом пыхтит, вырабатывая науку, наша любимая, золотая наша Железочка.
Многие читатели, возможно, бывали в Пихтах, кто в командировке, кто из любопытства, а для воображения остальных мы предлагаем следующую лаконичную картину.
Трескучей январской ночью вы прилетели в огромный индустриальный и культурный Зимоярск. Здесь все, как в Москве, только ртуть тяжелее градусов на тридцать. В двухстах километрах на северо-запад, то есть немного в обратную сторону, лежат знаменитые Пихты. Днем туда ходит поезд, летает маленький самолетик по кличке Жучок-абракадабра, но вы-то приехали ночью, и до утра вам ждать не резон. Вы, человек ловкий, бывалый, с характером, вы пускаетесь в путь, вы — «доберешься, старик!».
Вдруг за спиной угасает зимоярское полночное сияние, и над вами, над шоссе нависают лишь огромные ветви, и тьма чернее ночи обрезает, как нож, свет ваших фар. Тридцать километров, сорок и сто вас сопровождает тьма и пустыня, и лишь иногда, очень-очень редко вы видите одинокие малые и сирые огоньки. Вот так вы едете и шутите с водителем, а сами порой думаете: «Вдруг поршня сейчас сгорят или шатун сорвется». И в подошвах от этой мыслишки начинается ледяная щекотка.
И вдруг неожиданно, поверьте мне. всегда неожиданно. вы въезжаете в Пихты и восхищенно ахаете — ах! Перед вами пустынный спящий чудо-городок, с аккуратно прорезанными среди гигантских сугробов улицами, с ярко освещенными стеклянными плоскостями почты и торгового центра с подсвеченными фасадами худсалона «Угрюм-река», кафешки «Дабль-фью», школы юных гениев «Гомункулюс» и всемирно известной гостиницы «Ерофеич» — все это скромные, но запоминающиеся шедевры современной архитектуры. Ручаюсь, какой бы вы ни были выдержанный человек, этой ночью вы будете ахать. И ахайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Учтите, дальше до самого Ледовитого океана таких городков уже (еще) нет.
В заключение исторического дивертисмента мы преподносим читателям приз — святочную историю, за достоверность которой ручается ее автор, шофер единственного в городе такси Владимир Батькович Телескопов.
Тройной одеколон
Вот уж метель мела в ту ночь — клянусь, не вру! Иные углы замела — не проберешься, другие так вылизала шершавым языком, хоть выпускай мастеров фигурного катания, вот что страшно. И в морду, в лицо, прямо в физиономию лепила не по-человечески.
«Сюда бы молодежь Симферополя и Ялты, это был бы им хороший урок».
Так думал Володя Телескопов, пробираясь глухой безлюдной ночью от таксопарка, где уже спала его красавица «Лебедь» М-24, к городской аптеке для срочного приобретения «Тройного» одеколона у дежурного фармацевта, который ему приходился шурином.
И. пробираясь, в глубине души Телескопов Владимир страстно завидовал экспонатам торговой витрины, вдоль которой пробирался.
Стоят настоящие крупные люди за стеклом — лыжник, фигурная фея, просто дамочка-хохотушка, могучий хоккеист — стоят настоящие среднего роста люди в приличной непродажной одежде, с улыбками смотрят на метель, и им не дует и не требуется одеколона, вот что страшно.
Так все нормально, ночное кино без билета, и вдруг до Володи доносится легкий шум…
Оказалось, три огромных волка гонят зайчишку, простоватого жителя леса, и настигают его для пожирания прямо возле витрин, вот что страшно.
И зайка гаденыш — всего и меху-то на перчатки, а тоже жить хочет, — трепыханием говорит человечеству последнее прости, потому что серые гангстеры — им тоже по ночам жрать хочется, вот что страшно, — даже не дают ему последнего слова.
Телескопов — человек не робкого эскадрона, все записано в трудовой книжке, однако в данном случае трезво рассуждает, что потеря водителя такси взамен нетоварного зайца в целом для общества вреднее. Точнее, конец пришел губителю морковки.
И вдруг — легкий звон, как будто кто-то флакон уронил или витрина посыпалась. Оказалось, второе: из витрины спрыгнул на панель и поехал с легким свистом тяжелый хоккеист — ни дать ни взять Саня Рагулин, вот что страшно.
В мгновение ока ледовый рыцарь расшугал клюшкой скрежещущих зубами матерых профессионалов леса, а одному из них так заехал сверкающей железякой в пузо, что тому пришлось уползать, догоняя товарищей, и оставлять в снегу дымящуюся кровушку, красную, как таврический портвейн, вот что страшно.
Закончив благородный поступок, хоккеист сопроводил пострадавшее от испуга животное в безопасное место, и на «том вся история закончилась, а шурина в аптеке не окапалось, хотя «Тройной» был виден с улицы сквозь мороз, вот что страшно.
История, конечно, вздорная, и рассказана она человеком ненадежным, когда он не за рулем, но вот что страшно: оказался еще один свидетель — Вадим Аполлинариевич Китоусов. Он видел спину удаляющегося по ледяной лунной дорожке хоккеиста и слышал, как тот насвистывает популярный мотив «You are my destiny», что по-русски означает «Ты моя судьба».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИЗНУТРИ ПИХТИНСКОГО БЫТА
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
Борис ПАСТЕРНАК
Сон академика Морковникова был глубок по обыкновению и по обыкновению не имел никакого отношения к математике. Маленький герой его снов Эрик Морковка по обыкновению переживал увлекательные приключения в различных плоскостях, в распахнутых пространствах и тесных углах, проникал сквозь ярко окрашенные сферы, ловко, с еле заметным замиранием уворачивался от надвигающихся шаров для того, чтобы стремительно пронестись по внутреннему эллипсу и весело проснуться.
Академик уже предчувствовал этот не лишенный приятности миг возвращения к «объективированному миру», кик вдруг на стыке орбитальной реки и зеркальной стены внутреннего куба чей-то совершенно незнакомый голос отчетливо и гулко произнес фразу:
ЖИЗНЬ КОРОТКА, А МУЗЫКА ПРЕКРАСНА, —
и Эрнест Аполлинариевич проснулся с ощущением, что он давно уже ждал этой фразы, звал ее, но боялся и не хотел.
Он выждал несколько секунд, чтобы задвинулись все ящички комода, чтобы ЦНС окончательно переключилась я |>абочее состояние, и все ящички, как обычно, плотно задвинулись, за исключением одного, из которого все-таки торчал уголок разлохмаченной ткани, в сущности, тряпочка с хвостиком.
— Хоп! — сказал себе Эрнест и повернул голову.
Все было, как обычно: Эйнштейн на стене набивал свою трубочку, а его сосед, известный фильмовый трюкач Жиль Деламар прыгал в Сену с Нотр-Дам де Пари, и замечательный лозунг смельчака «День начинается, пора жить!» косо пересекал фотографию…
— Хоп! — сказал себе Эрнест, вскочил с кровати и встал на голову.
Все было нормально: в глубине квартиры жена разговаривала с сыном, вздыхал и постукивал хвостом по полу любимый сенбернар Селиванов, за окном на ветке пихты уже ждал ворон Эрнест, тезка академика…
Все было нормально: сорокалетний Эрнест стоял на голове и ногами производил в воздухе вращательные движения, кровь наполняла опавшие за ночь капилляры, мышцы вырабатывали из молочной кислоты деятельные кинины, тихо крутилась в углу пластинка сопровождения… все было нормально, а между тем Морковников вдруг мгновенно и безошибочно почувствовал изменение — дикий разгон и безвозвратный вираж судьбы.
Он вдруг покрылся внеурочным потом и сел на ковер: бренчало пианино за тысячи миль и за шестьдесят восемь лет; апрельский рэгтайм наигрывали коричневые пальцы, дымился сумрачный лесопарк…
Потом он бежал по парку — свалявшиеся листья, короста старого льда, полуистлевшие косточки мелких животных… отчетливые, но неуловимые очертания гениальной формулы, формулы его жизни, витали между стволов, и он проникал это утреннее созвездие, туманность трескучих ягод и думал все тридцать пять минут новозеландского бега: что же произошло в его квартире? Осень сейчас или весна?
Тезка летел за плечом, а верный сенбернар бежал у ноги, фигуры таких же мужчин с собаками у ноги и с любимыми птицами за плечом мелькали в лесопарке, словом, и здесь все было, как обычно, но счетчик пульса показывал сегодня тревожную цифру, и гемоглобин, подлец, не очень-то активно насыщался кислородом.
В квартире от северных окон к южным и обратно гуляла волна пахучей влаги, прелых воспоминаний — неужели нее это еще живо?
— Эрка, ты опоздал сегодня на одну минуту сорок восемь секунд, — услышал он веселый голос жены.
Веселый голос жены. Вот чудеса. Таким тоном она говорила с ним много лет назад, в хвойной юности, когда каждый день был продолжением любовной игры и каждая ее фраза, начинающаяся с «Эрка, ты…», означала лукавую западню, приглашение к фехтованию, нежную насмешку. Уж много лет она не говорила так, а «Эрик» в ее устах давно уже звучал как Эрнест Аполлинариевич.
Это какие-то флюиды, догадался академик. Где-то по соседству вываривают в цинковом тигле толченый мрамор с печенью вепря, и зеленый дух философского камня, соединяясь с кристаллами осени-весны, отравляет сердца. Другой бы на моем месте, менее толерантный человек, безусловно заявил бы в домоуправление.
Морковников понуро поплелся в ванную, на ходу стаскивая кеды, джинсы и свитер, и даже не полюбовался мелькнувшей в зеркале стройной своей фигурой. Странное чувство прощания вдруг охватило его на пороге ванной. Жена что-то говорила веселым голосом, кажется, что-то о сыне, которого сегодня удалось спровадить в школу, но он не слушал. Он обвел взглядом «огромность квартиры, наводящей грусть» и вдруг увидел в коридоре за телефонным столиком качающийся контур любви, легкий контур, похожий на «формулу жизни», созвездие винных пгод, просвеченных морозом и соединенных еле видимым пунктиром. Его квартиру посетила любовь!
Ему показалось даже, что протяни палец, и он ткнется и упругое желе, он сделал было шаг, но в следующий миг — о эти следующие чередой миги! — конгломерат исчез, отнюдь не испарился, а проник в другую сферу, кажется, на кухню, ибо оттуда донесся веселый голос жены: «Надежды ма-а-а-ленький оркестрик…» Поет!
Быть может, вся эта чертовщина есть легкий приступ малокровия, короткое пожатие авитаминоза? Морковников вонзил в икроножную мышцу иглу «медикануса» — автономного филиала своих знаменитых часов. Все стрелки колебались в пределах нормы.
Жена поет. Это вызов? Неужели что-нибудь проведала? Аделаида? Моник? Анастасия? Чиеко-сан? Присцилла фон Крузен? Эрнест Аполлинариевич никогда не влюблялся и много лет уже поддерживал с противоположным полом только дружеские, научные и спортивные связи. Главное, не терять самообладания. Во-первых, может быть, жена просто так финтит, прощупывает, а во вторых, возможно, все это липа, дешевый розыгрыш коллег или, на крайний случай, непредвиденный скачок взнузданного организма.
Жизнь коротка, а музыка прекрасна.
Академик стоя пил кофе, поглощал крекеры с яйцом, весь затянутый, международный, с фальшивой оптикой на глазах, и зорко посматривал на жену, а та не обращала на него ни малейшего внимания.
Вновь появился этот дурацкий фантом, студенистая масса, тревожная, как «формула его жизни». Теперь она колыхалась за холодильником «Мисандерстендинг», хотелось крикнуть Эрнесту — чистейшее недоразумение, я ни в кого не влюблен, у меня все в порядке.
— Чай вдвоем. — вдруг запела жена песенку их молодости и заблестела глазами мечтательно и лукаво, как в то далекое влажное десятилетие.
Чай вдвоем.
Селедка.
Водка…
Мы с тобой вдвоем, красотка!
Чай вдвоем.
Сидим и пьем.
И жуем!
«Как? — встрепенулся Морковников — Что это такое?» Да ведь эта песенка, и блеск в глазах, и веселый голос нынче не имеют к нему никакого отношения. И то, что пришло сегодня в его дом, любовь — не любовь, но ИЗМЕНЕНИЕ, касается его, хозяина, лишь косвенно ОНО ПРИШЛО К НЕЙ — К ЖЕНЕ — вот так история!
Внимательный взгляд на жену потрясенного академика обнаружил пожухлость кожи вокруг глаз и еле заметное, но очевидное отвисание щеки, мешковатость брюк, рваность и заляпанность свитерка. Давно не крашенные волосы жены являли собой пегость, но вместе с тем пегий этот узел был тяжел и еле держался на трех шпильках, грозя развалиться на романтические пряди, и серую грязную джерсюшку трогательно поднимали маленькие груди, и плечико торчало в немом ожидании, а глаза были далекими и серыми, далекие и шалые глаза.
Он ушел.
«Так, значит, это она влюблена? Я чист, научен и строг, а у Луизки-гадины рыльце в пушку. Ай-я-яй, неужели слевачила? Неужели я рогат?»
Морковников вновь покрылся внеурочным потом под всей своей европейской сбруей и тут после короткого мига глухой и пронзительной тоски понял: ничего она не слевачила, ничего он не рогат, все гораздо хуже, все это имеет к нему лишь КОСВЕННОЕ отношение.
В следующий миг — о эти миги, следующие чередой! — еще более неприятная и тяжелая мысль посетила академика: быть может, в этой квартире главная жизнь — не моя, а ЕЕ, вдруг моя лишь подсобная, нужная лишь косвенно, лишь иллюстративно?
Да, фигу, фигу, право же. бред, я — мировой математик, право же, что для меня все эти кухни и кресла и даже постель, все эти ваши запоздалые влюбленности и негритянские романсы, когда в фиолетовой сигме кью еще плавает в полном неведении косая лямбда трехмерного эвклидового пространства.

черт побери, а промышленные отходы технической революции продолжают развитие террацида, и, кстати, вы. мальчик, могли бы не швырять на панель обертку мороженого, есть специальные урны — для сбора нечистот и упаковочного материала, а вы, гражданин, моя ваше авто порошком «Кристалл», должны знать, что химические сливы загрязняют реки, нет-нет, я ничего, вы мойте, но только не забы… а вы, мадам, прошу меня простить, вот эти ваши баночки, скляночки, флакончики, стаканчики, пластмассовые патрончики, обломки гребешков, шпильки, фольгу, тампончики и примочки.
— Вам чего, товарищ? Вы чего вяжетесь? — с удивлением, но не враждебно, а скорее с интересом спросила дама, размахнувшаяся на пустыре мусорным ведром.
— …вот эти ваши яичные скорлупки и сметанные, а также жировые сливы с комочками пищи, целлофановую кожицу вареных колбас, и надорванные парафинированные пакеты, и, наконец, клочки коротких, явно не ваших волос, мадам.
— Чего-чего? — темнела дама лицом и оранжевыми волосами, потому что на нее набегала в этот момент злая тучка.
Она стояла повыше Морковникова на горке кирпича, и ветер трепал ее необъятные брюки маскировочного рисунка, лепя мгновениями из них могучие и не лишенные аттрактивности ноги.
«О Прометей, вот она. Брунгильда, Неринга, мать атаманша! Отдохнешь ли, кацо, в ее лоне после долгой крова вой дороги?» — подумал Эрнест.
— Я только лишь, мадам, имел в виду трудности концентрации личных отходов для дальнейшего уничтожения, — пролепетал он — Не затруднит ли вас продвинуться на двадцать метров вон к тем мусорным контейнерам?
— A-а! Я думала, вы по делу, — она разочарованно вздохнула. — а вы не по делу.
— Я. мадам, шестой вице-председатель комитета ЮНЕСКО по террациду, — сказал он.
— А-а, — зевнула и потянулась она. — Вы из ГорСЭСа, товарищ? Тараканщик? — Она засмеялась и пошла к бакам. помахивая ведром, огромная и задастая, но какая-то легкомысленная.
Морковников смотрел ей вслед, и странные воспоминания одолевали его. «Никогда никому не скажу, что в пятом классе получил за контрольную по алгебре «пару». Да, у меня есть тайны, но я не считаю себя преступником. Посмотри, Прометей, она зевает и потягивается, а в голове у меня возникают юные прелести гиревого спорта».
Ночная горячая колбаса
(второе письмо к Прометею)
Да, несколько лет назад в ночь со вторника на среду я ел горячий вурстль на Кертнер-штрассе в ста метрах от правой ступени собора Сан-Стефан.
Я ел без всяких особенных причин, а просто потому, что хотел есть, и мазал свой вурстль сладкой горчицей, и на немецкие шутки ночных девушек, собравшихся у палатки, я, клянусь Артемидой, не отвечал.
Да. ты, Прометей, тогда проезжал мимо на велосипеде и долго на меня смотрел своими черными глазами, но я с делал вид, что тебя не заметил, душа лубэзный. Я знал, что ты скрываешься и выдаешь себя за уругвайца и что велосипед у тебя прокатный из «Луна-парка», но я не окликнул тебя и не предложил тебе помощь. Напротив, я перевел взгляд на собор Сан-Стефан, покрытый вековой плесенью, которая так чудесно серебрится под луной. Ты шал, что я тебя увидел, и я знал, что ты знаешь, но что я мог поделать. Прометей, ведь в эту ночь мне нужна была помощь Олимпа.
Да, батоно, в ту ночь я ненавидел. Я вспоминал все раз па разом, с каждым кусочком вурстля в меня вливались горькие воспоминания.
Она была зубрилой и училась на факультете славянской филологии Годдем, цум тойфель, рекутто рекутиссимо, обречь себя на прозябание в затхлом пакгаузе филологии, да еще не просто филологии, а какой-то отдельной, германской, славянской, романской! И это вместо того, чтобы плыть в бескрайнем серебристом океане чистого Логоса, уповая на свою отвагу, на шест своего интеллекта, уповая…
Извините, говорила она, графин подслушивает, и вешала трубку. Она снимала комнату у графини Эштерхази. Ах, генацвале, это повторялось каждый вечер. Вот они, результаты филологического образования: не знать разницы между графиней и графином и обращаться на «вы» к желанному, ненаглядному «ты».
Я ненавидел графиню Эштерхази с ее папильотками, веерами, с ее родинками и декоративными собачками. Милый друг, вот моя страшная тайна — я ненавидел человеческое существо!
Позволь мне высказаться до конца, ведь я не Раскольников, а она не процентщица, однако в голове моей теснились мысли о высылке «графина» из города под предлогом борьбы за окружающую среду или о сведении ее к нулю посредством простейшего рассечения бинома Фостера через

Эрнест Аполлинариевич огляделся. По главной улице к Железке торопились его товарищи, бывшие «киты», а ны не доктора и членкоры, торопились и нынешние ребята, их ученики, смурной народец, вдали кто-то ехал на велосипеде, полыхая костром черной шевелюры. Увы, это был не Прометей, явно не он.
Вот так и я буду спешить, умиленно подумал академик, вот сейчас и я так же заспешу вместе с моими товарищи ми, моими соратниками, единомышленниками, рыцарями нашей родной Железочки, которая нам всем дает… Что она нам дает? Все!
Пойду сейчас и лекцию шарахну в «Гомункулюсе» по проблеме «Северо-западного склонения супергармонической функции». Вот обрадуются ребятишки, они ведь любят наши с тобой встречи, кацо. Пойду потом и сяду в кабинете и всю международную почту смахну в корзину, соберу семинар, почешем зубы, глядишь, до ночи и просидим, и там, глядишь, Великий-Салазкин придет с горшком плазмы или с твердым телом, или Павлик притащится для расшифровки генокода какой-нибудь болотной цапли… Гак, глядишь, до утра дотяну, а там гимнастика, прием пищи. разное… А домой я вообще не приду, пусть она там поет со своим облаком, пусть пьет с ним чай.
— Лабасритиснгуенвуенчи, синьор Морковников, ю эс эс ар сайентист энд споксмен, одним словом — доброе утро, старик!
Дивную эту фразу произнес велосипедист «не-Прометей», временно пропавший из нашего поля зрения, а сейчас стоящий перед академиком, словно огненный черт, одной ногой на тротуаре.
— А. это вы, Мемозов. чао! — вяло поприветствовал авангардиста академик.
— Чао нам и чаю вам! — гоготнул Мемозов.
— Что вы имеете в виду? — насторожился Эрнест.
— Да просто так, случайное созвучие. Сейчас ехал мимо вашего дома и слышу, Лу поет «Чай вдвоем». Неумирающая тема, право! И представьте, ту же тему вчера весь вечер наигрывал в столовой этот самый, ну, вы знаете, этот наш здешний кумир — унылый саксофонист Самсик Саб-пср.
Эрнест Аполлинариевич снял очки, подышал на стекай и протер кончиком галстука, хотя никакой нужды ни в протирании, ни в дышании, ни в снимании, ни даже в ношении очков не было. Жест этот, протирание очков, типичный по кинематографу жест придурковатых академиков. когда-то всех смешил, но постепенно стал привычкой, даже своего рода нервным тиком. Что за черт, этот чужак, несимпатичный пришелец, уже называет мою жену «Лу», то есть так, как ее называют пять-шесть людей, не более, — ну Пашка, ну Наташка, ну сын их Кучка, ну В-С… Эрнест надел очки — настоящий, заметьте. «Полароид»! — и немного успокоился. «Сейчас осажу нахала».
Мемозов, левой рукой борясь с развевающейся гривой, правой держа велосипед, в оба глаза с удвоенной насмешкой всматривался в академика.
— Да, знаете, уже мыли тарелки и стулья переворачивали, а он все ходит со своей дудкой и все импровизирует. Я задержался вчера в столовой, оформлял одну идею, писал, считал, проигрывал в уме и поневоле слышал игру этого Самсона. Знаете, манера покойного Клиффорда Хоккера, но что-то есть свое, физиологическое. Я даже приду мал — не рано ли списывать на помойку наш старенький джазик? Вы знаете этого Самсика? Такой весьма, весьма подержанный уже тип, но. должно быть, и не лишенный, вы знаете?
— Да кто ж здесь не знает Самсика? — грубовато буркнул Морковников.
— …не лишенный, конечно, определенного сексапила для дамочек особого сорта. Не находите?
Академик салютнул ладошкой и пошел прочь, но велосипедист некоторое время еще ехал за ним вдоль тротуара, заканчивая рассказ.
— «Ого, — говорю я этому вашему Самсику, — а ты сегодня в ударе, в свинге. Влюблен, что ли?» Вы знаете, Морковников, многие толковые люди не отказывают мне в парапсихических способностях, но в данном случае я спросил вполне простодушно, а попал в точку.
Эрнест, до этого момента маршировавший «равнение направо» — то есть прочь! — теперь сделал равнение нале во, то есть на велосипедиста, и так теперь шел с повернутым к нему, открытым и готовым к удару лицом, а Мемозов ехал, шаря по нему едкими гляделками и обводя его контур легким насвистыванием «Чай вдвоем».
— Ну. дальше, — сказал академик.
— Да ничего особенного. Саблер страшно смутился и тут же перешел на другую тему. Знаете, вот что «Every day I have blues». — Мемозов старательно вывел губами начало.
— Знаю, знаю, — торопливо прервал Морковников и немного продолжил тему: — А дальше?
— Потом произошло нечто странное. Морковников. На кухне упал поднос, плашмя на кафель, и звон его долго стоял в этой вашей кислой столовке, а когда он затих, Самсик сказал, глядя в темное и потное окно, в котором не было ничего…
— Жизнь коротка, а музыка прекрасна, — неожиданно Произнес Эрнест фразу из своего сна, и Мемозов гулко захохотал. как будто бы оттуда — со стыка орбитальной реки и внутреннего куба.
— Именно эту фразу, дорогой мэтр, именно эту. Я вижу вы тоже обладаете кое-какими парапсихическими талантами. Кстати, мой бесценный иммортель, я не унижу вас, если приглашу к себе на небольшое действо под катанием Банка-73? Обещаю много интересного. Конечно, прихватите милую Лу. Самсик тоже будет. Значит, договорились. Дату сообщу дополнительно. Всего доброго. Искренне ваш. Мемозов.
С этими словами авангардист нажал на педали и сделал резкий разворот, подрезав нос городскому такси «Лебедь», заслужив оглушительное «псих» из уст Телескопова и ответив находчиво «от психа слышу», после чего, наращивая скорость, воображая себя демоном воды с озера Чад. помчался по главной улице в прозрачную современную перспективу.
Что касается Эрнеста Аполлинариевича, то он взял такси и от полной сумятицы
в голове попросил отвезти его ни Цветной бульвар в «Литературную газету», где у него сидит дружок. Володя Телескопов, привычный ко всему, подвез академика к воротам Железки и получил по счетчику 17 копеек, потому что чаевых не брал. Таким образом, между двумя участниками утреннего диалога, между Мемозовым и Морковниковым, почти мгновенно образовалось огромное пространство, которое тут же пересекли два сиамских кота, а также благороднейший пудель Августин со свежей почтой для своих хозяев и «дружелюб» Агафон Ананьев на универсале «Сок и джем полезны всем», в кузове которого лежала его теща, возвращающаяся из окрестных сел после закупок яиц.
Стояла ранняя зима, вернее, осень на исходе, прозрачность некая была в архитектуре и в природе, а Ким Морзицер унывал, грустил, как пес при непогоде, и листья желтые считал как знаки на небесном своде, как знаки будущих похвал.
В отсутствие Кима в Пихтах случилось чудовищное. Древний враг. Трест Столовых, нанес неожиданный и сильный удар: «Дабль-фью» была переименована в «Волну». Произошло, по словам Великого-Салазкина, злое кОщунство.
Чудовищное кОщунство над детИщем! Обилие мерзких, с детства ненавистных новатору «ща» наводило на мысль о близости щей, и впрямь — чудовищное кощунство над детищем вершилось во имя тощих пищевых щей, ибо первых блюд в музыкально-разговорном кафе не водилось, и из-за этого тоже шла борьба, сыпались жалобы, коптили небо ревизоры, отбивались блистательными контратаками в отдел культуры.
И вот разлетелся. В сумерках, не разглядев новой вывески, размахался дверями, как хозяин, вбежал в свой кабинет, в святая святых, уже блейзер чуть ли не скинул, вдруг видит — сидит!
За столом Кима сидел Буряк Фасолевич Борщов в белом халате и строго что-то писал. Со стола были удалены коралл, бригантина в бутылке из-под кубинского рома, все четыре парижских паяца, роза-ловушка, стакан с вечным непроливающимся пивом и прочие любимые меморусы. Со стен исчезли дискуссионные шпаги, банджо, гитара, портрет Тура Хейердала, портрет самого Морзицера работы художника Бонишевского в стиле Буше. Перед столом стояла кассирша Виктория Шпритц и что-то смущенно делала руками, а в глубине комнаты под какой-то дикой диаграммой с неясным названием «Выход блюдов» сидело еще одно новое лицо — огромнейшая молчаливо-веселая дама с папироской.
— Простите, — сказал Ким, уже чувствуя непоправимое, но все-таки в атакующем интеллигентском стиле. — Простите, с кем имею честь?
— Борщов, — ответил захватчик стола в своем стиле, не поднимая головы. — Директор кафе «Волна». Вы?
— Весьма удивлен. При чем здесь волна? — спросил Ким. опираясь на стол ладонями.
— Не надо. Наваливаться, — директор поднял голову, но не к Киму, а к Шпритц. — Кто? Это?
— Это… это… — замялась Виктория, — это наш Кимчик… Ким Аполлинариевич…
— Точнее, — попросил директор, открывая ящик, из которого явно было уже
удалено все милое, а подчас и интимное содержимое и заменено сетчатой бумагой.
— Это наш… — Шпритц смущенно хихикнула. — Наш Командор и Хранитель Очага.
— Слышал. — Директор углубился в бумаги, и наступило полнейшее молчание.
Ким чувствовал жгучий стыд, дичь, нелепость, чувствовал свои большие неуместные руки.
Дама в углу улыбнулась приятными, как карамели, пунцовыми губами.
— Да что же вы, Ким Аполлинарьич, стоите как неродной? Присаживайтесь.
«Вот, черт возьми, живой человек», — с неожиданной благодарностью подумал Ким и бухнулся на стул рядом с крутым ея бедром, похожим на атомную подводную лодку. Ткань маскировочного рисунка лишь усиливала интригующее сходство.
— Серафима Игнатьевна, наш новый буфетчик, — вполне по-человечески и даже с двумя-тремя калориями произнес директор.
— Очень приятно…
Самым нелепейшим образом Кимчик потянулся к ея руке, но неожиданно получилось вполне естественно и даже мило — простой поцелуй в руку.
— Вы… вы умеете, конечно, Серафима Игнатьевна, делать коктейль «Бегущая по нулям»?
Кимчик опять же неожиданно для себя уже зажурчал и уже посмотрел исподлобья — фавном.
— Серафима! Игнатьевна! Не бармен! Буфетчик! — вдруг закричал директор Борщов и отвернулся к окну, чуть-чуть дрожа.
— Я все умею, Ким Аполлинарьич, — мягко сказала буфетчик и затянулась из папироски дымом, на минуту удлинив свое лукавое лицо.
— Я подчеркиваю: Серафима Игнатьевна не бармен, и коктейлей у нас на выходе не будет, — с мимолетным и далеким, как полтавская зарница, отчаянием проговорил Борщов.
Вновь воцарилось престранное молчание, которое продолжалось по часам три-четыре минуты.
— Как отпуск провели, Кимчик? — произнесла Шпритц. Она все волновалась.
— Гладил тигрят! — рявкнул Ким и вызывающе склонился к столу Борщова, бывшему своему столу.
Особенный вечер
Временами, когда совсем невмоготу, вспоминаешь и такое — да, гладил тигрят в их обычном жилище! Не всякому доводилось гладить хищных крошек, не у каждого ходит в друзьях дрессировщик тигров Баранов!
Вспоминая свое уходящее время, я стараюсь найти в нем светящиеся ядра, чтобы соединить их в молекулу пусть еле видимым, но все же существующим пунктиром, иначе и время само пропадает. Как спасти мне свое время — десятилетие, год, хотя бы свой отпуск?
Вот вы — ходи, пожалуйста, на пляж с двумя бутылками кефира и с горстью слив. Вот вы — плыви, пожалуйста, бабочкой, сгоняй жир, формуй изящную скульптуру. Все твое время превращается в один день, в приобретение скульптуры, в расплывчатое знойное марево, в облачко мошкары, в неясное воспоминание о покое, о сладкой потуге мышц. Кому не знакомо тревожное ускользание дней?
В знойный вечер под кипарисами выбираешь вариант: I) мгновенно улететь в Архангельск, потратить все деньги и возвращаться пешком, 2) позвонить в «Интурист» немецкой виолончелистке Беатрисе Шауб, пригласить на шпацирен в тропический дендрарий, 3) отправиться к старику Баранову проведать его котят.
И вот я: входишь в вольер, их гладишь — младенцев, детей, подростков — по шелковым спинам, заглядываешь в их глаза, где не созрела еще застойная тигриная ярость. Коричневые полосы под твоей рукой чередуются с желтыми — таковы тигры. Клычонки подростков щелкают возле твоих рук: неверная, грубая ласка может обернуться трагедией. А по краю вольера кругами бродят взрослые самки, тоже страдают от утечки времени. Конечно, поблизости верный Баранов с пушечкой в кармане, с ласковым словом, с кнутом, но кто поручится — вдруг некая самка захочет поставить себе в биографии галочку ударом лапы по твоему загривку? Остро пахнет Уссурийской тайгой.
Словом, этот вечер особенный, от него можно считать свое жидкое время, свой отпуск, в обе стороны: это было до того, как я «гладил тигрят», а то было уже после. А потому он особенный, этот вечер, что далеко не каждому дано гладить тигрят, а я их гладил!
Вернее, почти гладил. Фактически я мог бы их погладить, если бы не карантин. Неужели друг Баранов не позволил бы наперснику детских забав погладить своих питомцев, конечно, если бы он оказался в тот вечер в цирке? Словом, я их гладил!
В глухом таежном сентябре летели птицы в серебре, их вновь к себе звала природа, а Ким Морзицер унывал, он дни прошедшие считал, такая у него порода — глухой сырой лесоповал.
— Ну что, Мокрицер, все сочиняешь себе биографию?
Запущенная, но просторная однокомнатная квартира Морэицера, в которой он сейчас лежал на продавленной тахте, наполнилась гулкими шагами последней трети Ха-Ха. Патинку провинциального сплина прервал огнедышащий Мемозов с легким, как стрекоза, гоночным велосипедом за спиной. Лайковое, замшевое, джинсовое великолепие, грозные пики нафабренных усов, кипень шевелюры Гуляйполя, лаконичные жесткие стрелы в глазах, на груди, на запястьях поражали воображение. Киму захотелось спрятать в подушку свое траченное сплином лицо, спрятать заодно и подушку.
— Ну как, мимоза не чахнет от мороза? — со скрипом отпарировал он приветствие авангардиста и тут же получил ежа за пазуху.
— Мимоза видит — ваша поза — какая гибельная проза: спиной вы для клопов угроза, но в то же время ваше пузо клопу приятная обуза.
С этими словами гость плюхнулся в кресло и положил ноги на телевизор.
— Морзицер, я забираю вашу квартиру! — таковы были его следующие слова, после которых хозяин перебросил на пол свои полные нагие ноги и беспомощно рявкнул:
— Этому не бывать!
Мемозов поморщился.
— А вы, мокрицын хвост, вы все понимаете в буквальном, безнадежном смысле. И этот человек еще недавно вел за собой авангард? На свалку вам пора, собирайтесь на свалочку, — бывший Командор и Хранитель Очага! Не нужна мне ваша нора, успокойтесь. У меня, между прочим, кооператив в столице на авеню Парвеню — слыхали? — ну где вам! Увы — а, может быть, ура, — здесь, в вашей пресловутой научной фортеции Мемозов стоит в номере-люкс отеля «Ерофеич», которым вы все здесь так гордитесь, а на самом деле он ничем не лучше дома приезжих в райцентре Чердаки. Я заметил, что вы все здесь очень гордитесь свои ми сооружениями, вот идиотизм периферийной жизни! Скоро прибудет мое имущество, мои животные и черная бумага. Трепещите! Мемозов откроет кое-кому глаза на истинные ценности трехмерного пространства. Перестаньте хлюпать сапогом, Ким Аполлинариевич! Я имею в виду ваш нос. Принимаю извинения. Как? Предложить Мемозову жезл президента в каком-то фехтовально-танцевальном клубе? Это ваша идея, помесь Митрофанушки с Грушницким? Может быть, вы тоже в курсе моего так называемого бегства из ОДИ? Нет? Ваше счастье! Однако моему меценату, этому винегретному старперу, кто-то уже напел в уши. Милый Букашкин, с такой внешностью выходить на международную арену! Говорят, что его признает Эразм Громсон — сомневаюсь! Громсон — лидер мыслящей молодежи, а ваша кочерыга… Кстати, вы знаете, что у вас со стариком общий предмет — Ритатулька Китоусова? Ах, знаете — это уже мило. Вы вообще, таракаша, пользуетесь успехом у определенного пола. При упоминании вашего благозвучного имени кое-кто начинает вибрировать. Кстати. знаете новый способ объяснения в любви? Же ву зем, ий лав ю — давно на свалке. Ай фил ер вайбриэйшн! Чувствую вашу вибрацию! Каково? Рекомендую попробовать. Ах, вы хотите знать, кто вибрирует? Зайдите в салон «Угрюм-река» и будьте внимательны не только к экспонатам. Ух. жук-сердцеед, я слышал, здесь давно уже за вами укрепилась слава своеобразного монстра. Ну что вы сразу за брюки? Не стесняйтесь! Запомните. Морзицер, вы мне во краги не годитесь. Все ваши соу колд «инфернальные» идеи я знаю наперед. Все эти спальные мешки, фальшивые клады, лотереи со сколопендрами, трехгрошовые билеты — все это заканчивается хоровым пением под гитар-ку. Знаем мы ваши жалкие игры, престарелое молодящееся поколение! На свалочку, на свалочку! Дело не в этом. Мне нужна ваша квартира — вот в чем дело. Здесь я собираюсь после прибытия моего багажа устроить вечер Банка-73, да такой, чтобы до Якутска качнуло, баллов на десять, по восьмибалльной шкале, и чтобы повесть эта поползла по швам!
— Что ж, — сказал Ким, все-таки натягивая штаны. — Здесь может получиться своеобразная камера-обскура.
— Браво! А вы все-таки не лишены! — воскликнул Мемозов.
Как мало было нужно потерянному Кимчику. Небрежный комплимент из уст нынешнего авангарда преобразил его. Вдруг появилась суетливая живость, трепетание пальцев над ренессансным пузом, былые огоньки в глазах, и даже волосы взлохматились наподобие рожек.
— А что, в самом деле, старик, давай устроим нечто в своем роде инфернальное! Встряхнем китов! Ведь мы с тобой. старик, если объединимся…
Он осекся и неуверенно взглянул на Мемозова — готов ли тот к объединению? Мемозов стоял у окна, прямой и важный, непроницаемый и серьезный. На левой его ладони лежал миниатюрный стерилизатор.
— Вскипятите! — скомандовал он и протянул стерилизатор Киму.
— Колешься, старик? — со сладким ознобом выдохнул Ким.
— Всего лишь смесь тибетского молочая с почками саксаула. Не pro, a contra галлюцинаций, — с великолепной холодностью протянул авангардист и прикрыл глаза.
Кимчик бежал себе на кухню со стерилизатором и восторженно бормотал:
— Нет-нет, не халтурщик! Вот теперь мы скорешимся, вот пойдет скорешовочка! Саксаулом колется! Подумать страшно!
К полудню тучи похудели, как кошельки к концу недели, их звал в дорогу океан, к полудню сливки убежали, котлеты прогорели в сале, и гарь заволокла диван, где ноги женские лежали…
Теперь дым валил с кухни, сгоревшие сливки жареными пузырями летели в комнату, а потрясенная Маргарита цепочкой, одну за другой, смоля сигареты, дымом отвечала на дым, в пятый раз перечитывала странные клочки перфокарт. Тоже изучила девочка за десятилетие алфавит современной науки.
Европейские подстрочники
№ 37
Ты подбегаешь ко мне
по осенним сумеркам после дождя
на пустынной улочке готического града
ты подбегаешь
а за спиной твоей
башня и холодное небо
а между нами лужа
с этой башней и этим холодным небом
ты подбегаешь
и вот уже рядом со мной
твой золотой мех и бриллиантовые волосы
и встревоженные глаза
и мягкие губы
ты моя девочка
моя мать
моя проститутка
моя Дама
и ты уже вся разбросалась во мне
и шепот и кожа и мех
и запекшиеся оболочки губ
и влажный язык
и никотиновый перегар
все уже на мне
все успокаивает меня
и засасывает в воронку твоего чувства
в холодной Центральной Европе
в ночной и не ждущей рассвета
в пустынной просвистанной ветром
нас только двое
и автомобиль за углом
теперь мы поедем по сливовым аллеям
и будем ехать всю ночь
и голова твоя будет спать у меня на коленях
под рулевым колесом
всю ночь под тихое рекламное радио
вдвоем под шепот печальной Европы
сквозь сливовую глухомань
вдвоем
но ты все подбегаешь
и подбегаешь
и между нами все лежит
лужа
с башней и куском холодного неба
«Тианственная» несравненная Марго задохнулась от совершенно «не-тианственной» ревности, смяла все эти лужи с башнями и судорожно схватила следующее:
№ 14
Да, нелегко, должно быть, разыграть Гайдна
в этом безумном городе в разнузданном
Средиземноморье. Собраться втроем и
зажечь над пюпитрами свечи, сесть и
заиграть с завидным спокойствием и
даже мужеством
«Трио соль минор», то есть сообразить на троих.
В безумном городе,
где «стрейнджеры в ночи»
расквасят морду
в кровь о кирпичи,
приплыл на уголочек
с фонарем
кудрявый ангелочек
с финка рем.
В порту была получка…
Гулял? Не плачь!
Спрошу при случае
Хау мач?
Ты видишь случку
Луны и мачт?
Мы машинисты, а мы фетишисты, мы с перегона, а мы с перепоя, прокурились, пропились, голоса потеряли, теперь и голоса не продашь за христианских демократов.
Между тем они собрались: Альберт Саксонский — виолончель, Билли Квант — скрипка и Давид Шустер — фортепиано, и начали играть. И их любимый Гайдн был сух и светел в своем настойчивом смирении.
Как чист, должно быть, был камень вдоль реки, все эти немецкие плиты, вылизанные дождями, как кость языком старательного пса, и подсушенные альпийским ветром, как чист, должно быть, был этот камень, когда по нему прошел Гайдн, стуча чистыми поношенными, но очень крепкими башмаками и медленно мелькая белыми шерстяными чулками.
А я работала
по молодежи,
на «беркли «ботала
всю ночь до дрожи.
Агент полиции,
служанка НАТО!
Дрожа в прострации
крыл хиппи матом.
Опять вы, факкеры,
вопите — Дэвис!
А в мире фыркают
микробы флюис!
Агента по миру
пустили босым,
от смеху померли
молокососы.
Искали стычки
Мари с Хуаном,
в носы затычки
с марихуаной…
Толкнул гидальго
Герреро в спину
торговца падалью,
и героином,
потом кусочники
на «Кадиллаке»
меня запсочили
в свои клоаки.
И, нагулявшись до посинения носа, он, Гайдн, входил в кондитерскую Сан-Суси, чтобы съесть солидный валик торта, запив его жарким глинтвейном, что пахнет корицей и ванилью.
Затем хозяйка, пышная Гертруда, в лиловой кофте прятавшая дыни и в черной юбке кремовую арку ворот немецкого сладчайшего Эдема, за ширмой покровительствовала Гайдну.
А вслед за тем помолодевший Гайдн просил свечу и прямо там за ширмой записывал остатками глинтвейна финал концерта в четырех частях.
И старческий здоровый желтый палец, так гармонично чувствуя природу, уже предвидел нынешнее трио в безумном пьяном горе-городке.
Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер Давид Михайлович играли с вдохновением, и с уважением выслушивали поочередные соло, и вновь самозабвенно выпиливали и выстукивали концовки печальных, но жизнеутверждающих кварт.
Все четверо были очень пристойны и специально для этого вечера одеты в рыжие от старости фраки и ортопедические ботинки. Никто из четверки не носил модной в то пятилетие растительности, за исключением Шустера с его ассирийской, пересыпанной нафталином бородой.
Мы говорим «четверо», потому что трио едва не перерастало в квартет, к свече просилась флейта, и временами незримый коллега, тоже вполне приличный и печальный, подсвистывал на флейте. По вольности переводчика вокруг мансарды бродил Вадим, да-да — Вадим Китоусов.
Они ни к кому не обращались своей музыкой, но втайне надеялись, что не звуки, а хотя бы энергия звуков проникнет сквозь бит и пьяный гогот обобранных матросов тралового флота в подземный полусортир-полубар под железным цветком МАГНОЛИЯ, и там одна из девок в лиловой кофте и черной юбке почувствует своими высохшими ноздрями запах Гайдна, глинтвейна с корицей и ванилью, и во дворе притона прополощет рот и примет аспирину.
И выйдет в слякоть, в тот водоворот, где пьяные испанцы. негры, греки, шестого флота дылды-недоноски, шахтеры, жертвы дикой «дольче виты», растратчики в последних кутежах — все носятся от столба к столбу, от автомата к автомату, торопясь влить в себя что-нибудь и конвульсивно сократиться… и каждый встречный гадок, но каждого можно умыть Гайдном и пожалеть.
О нет, она не будет их жалеть — хватит, нажалелись! — а жалости женской достойны лишь самые храбрые, те трое — Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер — и четвертый невидимый.
Для того-то они храбреют
с каждым тактом
с каждой квартой
с каждым вечером на чердаке
и наливаются отвагой.
как груши
дунайским соком,
вот уж третий век
для жалости.
Ищи мансарду нашу,
ведет тебя Вадим.
там трое варят кашу,
четвертый — Невидим.
Задами рестораций,
скользя по потрохам,
пройди стену акаций,
тебя не тронет хам.
А тронет грязный циник —
пером пощекочи
и в занавес глициний
скользни в ночи.
Откинь последний шустик
пахучих мнемосерд…
..В окне малютка Шустер
и крошечный Альберт,
миниатюрный Билли,
игрушечный рояль…
Ах, как мы вас любили!
И как вам нас не жаль?!
Так им хотелось, а на самом деле она давно уже спала на драном канапе, которое много-много лет назад ее дедушка. учитель сольфеджио из Тироля, изысканный и печальный бастард-туберкулезник, привез сюда, в субтропики, называя его семейной (у бастарда-то!) реликвией.
Она спала всем своим блаженным телом, блаженная лоснящаяся выдра, просвечивая гладкими ключицами сквозь лиловую сетчатую шаль и завернув бедра в черное и лоснящееся подобие бархата.
Может быть — пожалеем все-таки музыкантов — может быть, в этом глубоком сне ей казалось, что на краешек канапе присел ее прапрадедушка Гайдн и тихо гладит ее лицо своей большой губой, похожей на средневековый гриб-груздь из Шварцвальда.
Во всяком случае, она спала,
а Альберт Саксонский, Билли Квант и Дод Шустер заканчивали концерт
с редким мужеством.
с вдохновением,
с уважением и благоговением,
с высокой культурой, без всякого пижонства и лишь с самым легким привкусом ожесточения в последних тактах.
…………………………………………
Вадим Аполлинариевич Китоусов тем временем, не подозревая ничего особенного, то есть нехорошего, сидел за пультом установки «Выхухоль», курил и, изредка поглядывая на приборы, следил за хитрыми перестроениями мю-мезонов.
Загнанные силой человеческого гения во внутренний дворик «Выхухоли», мю-мезоны теперь хитрили, делали вид, что никто их сюда не загонял, а вроде они сами сюда зашли… ну, предположим, для репетиции парада. Они торжественно маршировали колонной «по восемь», расходились двумя колоннами «по четыре», перестраивались, перебегали, формировали каре, расходились веером, концентрировались в овал, и все это движение было направлено к одной цели — скрыть, утаить от пытливого ума наблюдателей нечто единственное в своем роде, неповторимое, загнанное в «Выхухоль» через полые черные шары вместе с ними, но которое не отдадим никогда, ни за что.
По предположениям Великого-Салазкина, Ухары и Бутан-аги, а также по выкладкам Эрнеста Морковникова, маршировка мю-мезонов должна была иссякнуть через некоторое время — то ли через полчаса, то ли через полгода, и тогда с вероятностью № = 1
72000 в глубине кадра мелькнет неуловимая Дабль-фью или хотя бы туфельку свою оставит. Велковески в Австралии выражал сомнение в успехе. Кроллинг почему-то надулся и ушел в себя. Могучий Громсон со скандинавской седловины напутствовал исследователей добродушным, но неприятным смехом.
Контрольный эксперимент проводился на дочерней установке «Барракуда» за много тысяч миль в неприсоединившемся государстве, и потому Великий-Салазкин из своего кабинета держал связь с коллегами, как говорится, сидел на телефоне». Нетрудно было убедиться в этом, подойдя к его дверям с латунными застежками-пуговицами.
— Ну-ну, — слышался из-за дверей голосок В-С, — а крючок-то какой номер? Кончай-кончай, Велковески, заливать. мы не маленькие… Так… Так… Ну, хорошо… гуд. Велковески, — верю… медаль, говоришь, за рЕкорд?.. кон-гретью-лейшнз тебе от всего сердца… я-то?., а я на прошлый вторник судачка взял полета на мормышку… на мормышку, на мормышку… не веришь? обижаешь!
Вот так порой великие умы нашего времени борются со своим постоянным спутником — волнением. Автору не раз приходилось беседовать с великими умами о литературе, но рыбное дело помогает им больше.
Ну хорошо… Вадим Аполлинариевич. как уже было сказано, спокойно дежурил за пультом, не ожидая ничего нового, то есть дурного. Рядом с ним сидел подопечный аспирант Уфуа-Буали. уроженец города Форт-Лами, что в Экваториальной Африке. Китоусов добродушно шутил:
— Что же, Борис, получается? На дворе всего минус пять, а у тебя нос обморожен. Что же дальше-то будет?
Уфуа-Буали пылко парировал:
— Что вы ко мне берете с этим вашим моим носом? Что мне этот ваш мой нос, когда я таки уже сижу перед этой чудненькой машинкой?
Аспирант говорил с Дерибасовским акцентом, ибо окончил Одесский университет, и это было приятно Китоусову, потому что с Одессой его через Маргариту связывали родственные узы.
И вот задергались узы, зазвонило, загудело, замелькало на табло, в контрольный отсек всунулось сразу несколько физиономий:
— Китоусова к телефону! Вадим Аполлинариевич, на выход! Вадик, тебе Ритка звонит!
Такого за десять лет супружества еще не бывало — любимая звонит в разгар рабочего дня. Неужто соскучилась?
Аспираты и техники следили за летящим доктором, и теплые улыбки освещали суровые лица. Все знали о слабости Китоусова, о его безумной и вдохновенной моногамии.
Ну вот она, трубочка, нежная мембраночка, телефончик мой, милый паучок, передай мне ласковую нотку.
— Оказывается, Китоус, у тебя есть своя собственная внутренняя жизнь?
Вот по таким, безусловно, по таким натянутым и острым нитям шел когда-то на казнь молодой Каварадосси.
— О чем ты, Рита?
— А вот об этом!
С еле сдержанной яростью она показала ему «это», но он не увидел «этого», хоть и старался, даже шею вытянул.
— Что там у тебя, Рита?
— А вот это! Не хитри и не финти! Я тебя, слава богу, знаю. Китоус! Все твои комплексочки у меня на ладони, а теперь и новые вылезли.
— Да о чем ты, Рита?
— Об этих твоих не вздумай врать, будто я словечек твоих не знаю! Эти твои подстрочники гениальные, графоманские опусы. Я давно подозревала!
Уличенный в графомании стоял, опустив голову, в телефонном застенке. Теперь главное — вовремя спиной повернуться к проходящим коллегам, чтобы не видели багровой ряшки.
— И еще, понимаете ли, ев-ро-пей-ские! Это почему же они европейские, маэстро?
— А это я в Австрию ездил в прошлом году. Разве забыла?
— Уп-п-п!
Да она там просто взрывается, взрывается от ярости. Она только делает вид, что насмехается, а сама прямо клокочет. бедная девочка.
— Риток, да это просто так. от нечего делать.
— Когда это тебе было нечего делать? И… и… Китоус, не хитри, давай покончим с этим… Кто это к тебе там бежит по лужам… Что за баба?
Да ведь она ревнует! Маргарита просто ревнует! Она меня ревнует! Боже! Она от ревности бесится! О счастье! О слезы! О милая нагая красавица с разбуженным ревностью лицом! Ты стоишь на каменной лестнице, и волосы твои рассыпались по голым плечам, и груди торчат от ярости, все в тебе вздыбилось, все полыхает, всем страшно ходить мимо твоего крыльца, а ты и не замечаешь своей наготы, потому что ревнуешь любимого, а там, на горизонте, уже все почернело, и дикой ревностью до краев полон вулкан, и так сейчас расколется — все статуи полетят! Лишь лист один кружит, летит к тебе на грудь, пожухлый лист каштана, один лишь просит о смирении.
— Да это, Рита, ты бежишь ко мне. Это воображение.
— Неправда! Я себя не узнаю! Это другая бежит!
— Да ладно тебе, Ритка! — ликующий голос Китоусова кружил вокруг трубки отнюдь не как пожухлый лист, а как вооруженный сладострастный жук-кусачка. — Да ладно тебе! Ну, лирическая героиня бежит. Да ну ее совсем! Ну выброси куда-нибудь, ну хоть в форточку! Где нашла-то!
— Мемозов принес!
— Что-о-о-о!
Недолго длилось торжество Вадима Аполлинариевича, и прервалось оно так же внезапно, как и возникло, — щелчок и кончено — майский полдень, жужжание и медосбор мгновенно испарились, и — тут же заработали привычные системы. Как? Мемозов? Значит, она встречается с Мемозовым, а я даже не знаю? Что же я знаю?
Она лишь курит, курит и курит на своей тахте, а цвет лица между тем не портится. Да она нарочно разыграла здесь ревность, чтобы прикрыть свой адюльтерчик, свой романчик с этим ужасным сатанинским приезжим, с этим… Да-да, все ясно, какая искусная игра, вот тебе и тианственная Марго! Низость!
Но откуда у проклятого авангардиста мои «Подстрочники»? Да и как вообще все эти годы пропадали со стола мои перфокарты, и почему они летали по воздуху там и сям?
Она проговорилась! Она, конечно, дала ему их сама, — но где она их поймала! — чтобы потом уже он дал их ей или, наоборот, он дал ей их, чтобы она, дав ему их, позвонила мне и сказала, что он их дал ей, но не говоря, что взял у нее, чтобы потом уже ей подсунуть для гадкой мистификации.
О ревность с гладкой кожей, преследующая меня, как тень! О, если бы ты была плоской, как тень, и могла бы сокращаться к полудню и вытягиваться на закате. О нет, ты ложишься рядом со мной в постель и кладешь мне ладонь на живот, как жена. Ты — малярия и продираешь меня ознобом средь шумного бала, и в автобусе, и в кино. Ты ядовитый закат над столицей, ты — целое озеро, отражающее закат и блестящие катышки автомобилей, ты однажды зажала меня в колодец и едва не сомкнула свои тридцатые этажи, ты. облепившая мое тело, как мокрое шерстяное белье, ты — улетай!
Потрясенный, шаткий, бормочущий жалкие заклинания Китоусов спускался вниз, уровень за уровнем, в утробу Железки.
Надо сказать, что все институты и лаборатории Железки под землей были связаны друг с другом системой лифтов, тоннелей и переходов. Таким образом, можно было, не выходя на поверхность, попасть из тихого кабинета, где скромный географ меланхолически крутил глобус, выискивая на нем вмятины от плечей Атласа, в шумную залу, где нанизывали на нитки бусинки хромосом, а оттуда в лабиринты библиотеки, где гулко звучало слово «сапог», умноженное на двунадесять языков, а еще дальше — в микробную флору, в дебри агар-агара и выйти к подножию «Выхухоли» или к гигантскому треку, где шли адские гонки частиц, а дальше — оказаться в стерильном святилище, где с тихими, но многозначительными улыбками удаляют добровольцам червеобразные отростки… и так далее.
Такова была основополагающая мысль китов — наука едина!
Вадим Аполлинариевич с застывшей любезностью на лице входил в лифты, опускался по лестницам, вихлялся в тоннелях и сам не знал, куда идет. Коллеги, старые его товарищи, попадавшиеся навстречу, понимали все по его лицу и знали, куда он идет — в ИГЕН Вадюха плетется, к своему корешу Слону плакаться в жилетку, на Ритку стучать.
Великолепная десятиборческая фигура Павла Аполлинариевича стояла в углу кабинета, упираясь правой ногой в батарею отопления, левой ногой в пол, правой рукой в книжную полку, левой рукой себе в бок. Поза была, короче говоря, грустная, и взгляд, устремленный в окно на башенки обсерватории, торчащие из тайги наподобие семейки боровиков, взгляд тоже был невеселый. Что ж. немудрено загрустить после спектрального анализа яйцеклетки южноамериканского зверька ленивца или внедрения в ганглии прусского таракана.
В кабинете профессора Слона было много неожиданных и, казалось бы, не относящихся к генетике предметов: барабанная установка для институтского джаза, вратарская маска, вымпел лейб-гвардии гусарского полка — но центральное место занимал огромный фотопортрет странной птицы цапли, которая стояла, поджав ногу, среди болотистой Европы, со смущенным и милым выражением своего дурацкого лица.
— Здравствуй, Павел, — вздохнув, сказал Китоусов.
— Садись. Дим, — не оборачиваясь, ответил Слон, все еще витая в разреженном пространстве уныния.
— Что это у тебя? Цапля? — спросил Вадим, лихорадочно соображая, как же подойти к теме, как же поведать обо всем, расколоться ли, поймет ли Пашка? — как будто уже сотни раз не раскалывался он в этом кабинете, не подходил к теме, как будто не находил дружеской поддержки в трубных репликах Слона.
— Да, цапля! — вдруг сильно и твердо ответил Павел, снял ногу с батареи и повернулся к гостю, уже живой и наполненный чувством.
— Красивая птица, — промямлил Вадим, глядя на тускло-серебристый отлив оперения, на длинную ногу и виновато опущенный клюв болотной примадонны.
— Ага! Я знал, что тебе она понравится! — вскричал Павел и швырнул на стол кипу фотографий: прогулка цапли просто так, прогулка цапли кое за чем, разглядыванье Кое-чего, охота и поедание кое-кого и, наконец, цапля в полете — крупный план, средний и общий — над низким туманом, из которого поднимаются круглые кроны дерев сытой и влажной Восточной Европы.
— Она изящна. — с горечью сказал Вадим.
— Мало того! — опять же на высокой ноте, на крике подхватил Павел. — Она романтична никак не менее чайки, она, если хочешь, тианственна. как твоя Маргошка, и бабственна, как моя Наталья, но как она, бедная, робка и не уверена в себе, как она стыдится своих ног и клюва, своих лягушек, танцующих дане макарб в ее тесном элегантном желудке.
Цапля
Однажды я жил в Прибалтике, на песчаной косе. Получил койку в так называемом пансионате швейников. Пансионат был крошечный — на 15 мест — и плохой, простыни серые, вода ржавая, — да к тому же еще и фальшивый, ни одного швейника в нем, конечно, не было. Весь первый этаж с относительным комфортом заняло шумное кустистое семейство какого-то короля бытовой химии, и лишь в мансарде, сырой и ржавой, жили посторонние. Леша-сторож, Леша-слесарь и я.
Леша-слесарь отдыхал своеобразно. Открыл окно, сел возле него в трусах и в майке и стал играть на гармонии. Играет и курит сигареты, а спросишь о чем-нибудь — улыбается.
Леша-сторож ваньку валял, почти ничего не говорил, а мычал, притворялся слабоумным, таскал из леса огромные корзины грибов, обрабатывал их прямо в комнате и развешивал на сушку. Потом осенью я его встретил на Терентьевском рынке, в джинсах «Леви Страус» и в замшевой куртке, он там эти грибочки толкал по трешке за вязку. Все верно рассчитал чувак: год-то был негрибной, мирный год сосуществования.
Не знаю уж, как я оказался в этом пансионате, то ли диссертацию собирался закончить, то ли от Наташкиного бабиэма сбежал в очередной раз, дело не в этом, а в том, почему я там оставался. Я тогда на подъем был легок, и гроши уже водились, мог в один момент перелететь куда-нибудь в Коктебель, в пещеру, к своим ребятам в Сердоликовую бухту.
Пансионат этот стоял на отшибе на плоском лугу, окаймленном большими деревьями, а за ними сквозил туман и гиль какая-то. Казалось бы, полная и удушающая глухомань, но. странное дело, по ночам меня охватывало волшебное, может быть, даже поэтическое ощущение «всего мира».
По ночам, изнемогая от запаха прелых грибов, я выходил на терраску и слышал крики какой-то птицы, глухие, тревожные и как будто стыдливые, а потом доносился шум больших крыльев, и совсем рядом, в темноте, я чувствовал чей-то тяжелый, неуклюжий, но неудержимый полет. Это была цапля, старик. По ночам она зачем-то летала в Польшу.
Это я узнал позже, а в первые ночи я просто слушал ее крики, ее полет и чувствовал какое-то восторженное волнение, прелесть и сырость жизни, природы, кипень листвы по всей Европе, от Урала до Гибралтара, и все ее спящие города, гулкие ночные улицы и невыразимую — тианственную, — старик, женственность ночи. Мне хотелось куда-то сорваться, помчаться, покатить, чтобы поймать очарование, но я был уже зрелым и битым и знал, что при малейшем движении все исчезнет, и потому стоял и прислушивался к угасающим крикам.
— Цапля-уука уукает, уадла, — однажды прогундосил в комнате Леша-сторож. Он ведь был художником, непризнанным гением, и цапля ему тоже не давала спать.
Рано утром, в тумане, она возвращалась из Польши в наш заливчик, и однажды я вышел ее встречать. Вначале в густом и грязноватом молоке слышался только нарастающий шум крыльев, потом солнце посеребрило водяные капли, туман рассеялся, обозначилась некая даль, и прямо на меня вылетела большущая дурацкая птица. Она увидела меня и попыталась резко свернуть, но это у нее не получилось, она неуклюже ухнулась на нижний этаж и полетела вдоль берега, таща за собой ноги с выпирающими коленками, оттянутые назад с претензией на стремительность.
Она пролетала совсем близко и даже глянула на меня своим круглым глазом, который у нее располагается прямо над клювом, а клюв, то есть рот, сложен у нее в глуповатую и застенчивую улыбку, а взгляд ее говорит: ах. я знаю, как ужасны мои ноги, что так нелепо, как тяжелые сучья, тащатся за мной в полете, ах, я несчастна!
С тех пор я встречал ее не раз. может быть, каждый день. Скажу больше, старик, я искал встреч. Я выходил на гребешок дюны над мелкой, проросшей травой заводью, садился и ждал цаплю, и она появлялась из-за мыса и застывала с поднятой ногой при виде загорелого мужчины, то есть меня, останавливалась, как дурнушка-переросток, скованная смущением.
А ночью я ее. к сожалению, не видел, а слышал лишь крики, тревожные, глухие и страстные, и шум крыльев. Может быть, в Польше у нее был друг, и она летала на рандеву? Вообрази себе любовь цапли, старик. Разве не продирает тебя по коже озноб жалости, неловкости, восторга?
Однажды, ближе уже к осени, я встретил ее на автобусной остановке. Успокойся, мой друг, это шутка, гипербола, художественное преувеличение.
Была ночь, и лил дождь, и я зашел под навес остановки перекурить. Чиркнул зажигалкой и увидел в углу понурое существо, девочку-цаплю. Вода стекала с ее слипшихся волос и с коротенькой болоньи, и под голенастыми ногами натекла лужица, а в глазах вот все это и было — там жила цапля с ее стыдом, мольбой и надеждой на встречу. Сначала я опешил, а потом заговорил с ней, но она отвечала непонятными междометиями и короткими фразами на местном языке.
Что же получалось? Да ничего, как обычно, ничего не получалось. Она уехала, а вскоре и я уехал. На несколько лет
я забыл про эту птицу, а вот сейчас, старик, скоро мне уже сорок, и я все чаще думаю о ней. Мне хотелось бы внедриться в ее генокод, старик, отыскать ту хромосому, которая не давала спать мне и Леше-сторожу и вызывала ощущение «всего мира», этого летучего, мгновенно испаряющегося аромата, который могут поймать только юные ноздри, да и то не всякие…
Павел Слон выглядел несколько смущенным, хотя и похохатывал временами и слегка нажимал ногой педаль барабанной установки. Вадим курил уже третью сигарету и молчал. Вот и поговорили «на тему», и ничего не скажешь, чуткий Пашка мигом уловил «мое» и соединил его со «своим», вот и получилось, что теперь вроде бы и нелепо говорить о каком-то Мемозове.
— Смешно сказать, — тихо проговорил он, — но это вроде бы похоже на нашу «Дабль-фью». Надо бы с В-С поделиться. Не находишь? Знаешь, Паша, я хотел бы тебе дать почитать кое-какие подстрочники… ты бы…
— Конечно, — весело сказал Слон. — Обязательно дай или еще лучше вслух почитай. Я люблю, когда ты читаешь. Купим пива, заберемся куда-нибудь и почитаем. Идет?
— Но этого сейчас нет у меня, — с досадой поморщился Китоусов, и тяжесть подозрений, связанных с «этим», тяжесть предстоящего разговора с женой снова омрачила его дух.
Тут зазвонил телефон. Павел снял трубку.
— Это зоопарк? — услышал со своего места Вадим комариный, злодейски-настырный голос.
— Да, Слон у телефона, — спокойно ответил Павел Лполлинариевич.
Уж к чему, к чему, а к этим шуточкам можно привыкнуть за сорок лет с такой фамилией.
— Мемозов звонит, — сказал Павел Вадиму, прикрыв трубку. — Ищет меня и тебя.
— Мемозов! — вскричал Вадим Лполлинариевич, вскакивая и непроизвольно хватая барабанные палочки.
— Ё-е-е, — насмешливо зудел рядом комарик. — Ва-дик-то вскочил с барабанными палочками! Прямо «Мститель из Эльдорадо»! Ё-е-е, каков интеллектуал! А где самоконтроль, Вадим Лполлинариевич?
Китоусов выхватил у Слона трубку.
— Вы! Мемозов! Это вы?! Да чао, чао, черт вас побери! Молчите! Где вы взяли мои подстрочники, мои перфокарты для передачи моей жене или почему вы отдали их ей после того, как она их вам передала, сама не зная, откуда они у нее взялись, скорее всего от вас, а затем изображаете? Почему вы не отвечаете?
— Молчу, — гмыкнул Мемозов. — По вашему приказу.
— Отвечайте!
— Пожалуйста. Это насчет тех листочков, что ли, Вадим, которые выпорхнули из вашей форточки, когда я ночью колдовал на пустыре возле вашего дома и будировал ваше воображение обыкновенным магнитофоном с записью криков цапли, насчет этого, что ли? Да я их тут же подхватил и отдал, не читая, вашей лучшей половинке, а она спать хотела и тоже не стала читать. Это что-то ваше интимное в манере раннего Вознесенского, не так ли? Между прочим, огорчу вас, устарел ваш любимый поэт, на свалочку пора!
— Да вы… да вы… — давно уже продирался Вадим сквозь трескотню авангардиста со своим «да вы». — Да вы, Мемозов, кто такой? Чем вы у нас тут в Пихтах занимаетесь?
— Кто я такой и чем занимаюсь, это выяснится позднее, а вот вы нытик, Аполлинарьич. Свалка по вас тоже тоскует. Не знаю уж, почему это женщины из-за вас с ума сходят.
Китоусов задохнулся от оглушительной ураганной новости.
— Это кто же сходит?
— Да вот подруга вашего друга, который сейчас не иначе как на подоконнике сидит во вратарской маске, прямо, между прочим, задохнулась вчера в «Угрюм-реке». когда речь зашла о вас. Кстати, у мадам Натали сегодня день рождения, вы не забыли? Бальзаковским дамам лучше не напоминать об этих сладостных датах, они никогда не испытывают свойственных мужчинам эмоций гордости своим стажем, пройденным путем, но все-таки мне кажется, многодетная мать-слониха будет рада, если предмет ее грез — о грезы сибирских интеллектуалочек! — явится к ней с букетиком бельгийских скоростных гвоздик без запаха, но с намеком.
— Вы думаете? — опять же неожиданно для себя задумчиво-деловым тоном спросил Вадим. Он чувствовал поразительную новизну жизни, как будто комнату наполнили вместо воздуха каким-то другим живительным газом. В него влюблены?! Некто влюблен в него? Некая женщина влюблена в Китоусова и даже чуть не задохнулась от волнения в салоне «Угрюм-река»? Наташка, жена моего ближайшего кореша, да что же это такое? Фантастика!
Услужливая романтическая память тут же включила палубу черноморского теплохода, бакланов за кормой, далекий серый горизонт, музыку из динамика, а если, мол, узнаю, что друг влюблен, а я на его пути… О, как распахнуты дали земли, от Констанцы и до Батуми!..
— Чего он там? — с добродушной улыбкой сквозь прорези вратарской маски спросил Слон.
— Да так, трепология… — снова неожиданно для себя скрыл, утаил, припрятал от друга подарочек Вадим.
— Ну и типчика вывез В-С на этот раз из столицы, — вздохнул Слон. — Далеко не самый шикарный экземпляр!
— Передайте трубку Слону! — тут же скомандовал Мемозов и закричал уже Павлу в ухо: — Я. собственно, вам звоню по вопросам культурного роста. Намечаю одно спиритуальное действо под названием Банка-73, но, заметьте. без капли алкоголя. Постараюсь доказать, что я именно гот самый шикарный экземпляр и лучшего в столицах не найти. Короче, продырявлю слоновью шкуру. Эх, горе-олимпийцы! На свалочку! На свалочку! Придете? Не струсите? Кстати, чтоб вас заинтриговать, сообщаю, что известная вам тианственная красавица тоже будет…
— А при чем тут… — Павел хотел сказать: «При чем тут Ритка?» — но поперхнулся и, глянув на друга, добурчал: —…это? При чем тут это?
— Да так, — лукаво замялся Мемозов. — так, между прочим, может быть, и нет ничего, может быть, только показалось.
— А что вам показалось? — железным голосом спросил Слон. Он стоял теперь, отвернувшись от Вадима, выпрямившись и расставив ноги, рыцарская фигура в дурацкой маске. Он видел себя краем глаза в зеркале и не узнавал, казался себе каким-то совершенно новым, несгибаемым и ужасным существом, каким-то нибелунгом.
— Да так, знаете, может быть, у Ритатульки просто запоздалые романтические толчки. — гнусавил Мемозов в трубку. — Знаете, красавицы — сейчас редкие птички… ну, мы беседовали с ней о любви как о творческом акте… ну, и она сказала, но не мне, а как бы на ветер, как бы в форточку… уж если, говорит, любить, то только слона. Может, она и не вас имела в виду…
Мемозов выскочил из телефонной будки, прыгнул в седло своей алюминиевой стрекозочки и покатил вдоль бульвара Резерфорда, всем на удивление, крутя педали кривоватыми ногами, управляя мощным торсом, звеня руками, ртом напевая жестокую импровизацию, горя глазами, полыхая шевелюрой, то ли артист, то ли хиппи, то ли беглый ассириец из Ирана. Милиция города Пихты его не задерживала, думая, что это новый тип научного человека.
Между тем кто же такой Мемозов. и распространенный ли, действительный ли это тип? Читатель вправе развести руками и сказать с резоном, что среди его знакомых таких или похожих персонажей нет. И в самом деле — редкость. Вот автор, собиратель разных типов, делился с друзьями сомнениями, спрашивал: не встречался ли им — а они тоже собиратели типов, какой-нибудь второй Мемозов, ведь там, где пара, там уже явление. Нет, отвечали друзья, вторые нам не встречались, а Мемозова кто ж не знает — не далее как вчера он нам (мне) звонил, приходил со своим орлом, звал пить вытяжку из коренных зубов каспийского морзверя, Мемозова мы (я) знаем.
Что ж добавить? По слухам, когда-то был мальчик не из последних дюжин, но и не выделился в процессе высшего образования во что-то совсем уже необыкновенное. Потом куда-то исчез, что-то передумал, для чего-то созрел и вот появился неузнаваемым, победительным отрицателем шестидесятых и неким альбатросом нарождающихся семидесятых, молодым человеком в зоне первого старения, то есть в самом сочку-с да к тому же обогащенный пара-психическими талантами, ну, то есть сгусток нечеловеческих энергий: телепатия, телекинез, йога, хиромантия, иглоукалывание, черный юмор, древняя магия, лиловое колдовство, а где зарплату получает — никому не известно.
Одно время в ресторане и во всех трех буфетах ОДИ целую неделю только и разговоров было о
Мемозове. Звали в гости на Мемозова, соревновались в услугах Мемозову. Он был окончательным судьей в оценке вещи, пьесы, лица, фигуры. И вдруг, говорят, все у него полетело. Говорят, какие-то козни, говорят, паутина неудач, будто бы кто-то салфетками по носу отхлестал и назвал «оценки» сплетнями. И вот канул, ушел на дно. Без всякого сомнения вынырнет, но кем? Мельмотом? Аквалангистом? Кашалотом? Иль фигою мелькнет иной? Пока что канул.
Но куда ж он канул? Это для вас, изысканные комильфоты с Разгуляя, может быть, Мемозов и канул в тартарары, а для нас вот он катит, бренча бубенчиками, звеня бубнами, подвывая импровизацией, не велосипедист, а биокинетическая скульптура, катит к торговому центру Ледовитый океан»
[7].
В торговом центре тем временем проходила аудиенция директора Крафаилова и главного дружелюба Агафона Ананьева.
— Где партия итальянского джерси? — с мучением, с тоской, с не видимыми миру слезами спрашивал директор.
Боже ты мой, здесь, рядом с величественной Железкой, рядом с сокровенной тайной сосуществует древнее затхлое псевдоискусство воровства, мышиные катышки?
— Это остров такой есть — Джерси, — Агафон Ананьев затуманился, как капитан дальнего плавания.
— Что? Что? Что? — Стальные обручи криминального абсурда давили чело Крафаилова.
— Вы же мне сами говорили, Ипполит Аполлинариевич, чтоб я книжки читал, — обиженно заныл Ананьев. — Вот я прочел про остров Джерси в Иракском море.
— В ирландском! — вскричал Крафаилов и тут же схватил себя левой кистью за правое запястье и толчками пальцев отогнал кровь из опасного органа — кулака, которому порой несвойственна то-ле-рант-ность.
— Где джерси? — тихо, душевно, глубинно повторил он свой вопрос и глазами миссионера заглянул в ананьевские квасные бочаги. — Отвечайте мне, Агафон, по-человечески. Сплавили в Чердаки?
Вот злой «Карфаген» у Ипполита Аполлинариевича под боком — проклятые Чердаки: некогда было большое разбойное село, сейчас обычный райцентр, с обычным, отнюдь не плохим, ничем не хуже пихтинского снабжением. Так нет, почему-то карфагеняне, то бишь чердаковцы, свято верили в то, что «физикам подбрасывают», и каждое утро от автобусной станции двигалась процессия с мешками за дефицитом. Хватали пластмассовых коней, по пять-шесть штук. В чем дело? Зачем? Лукавили: для деток, а сами точно и не знали, зачем им лошади; может, гены жиганские пошаливали?
— Ипполит Аполлинариевич, вы меня знаете, — плакал уксусными слезами Агафон Ананьев и подбрасывал из портфеля на стол начальнику бумагу за бумагой, крупные листья с резолюциями, четвертушки коротких указаний, дактилоскопические шедевры накладных. — Вот вся документация перед вами, и душа моя, как этот портфель, чистая перед вами, за исключением умывальных принадлежностей. Вы, Ипполит Аполлинариевич, помните, как польское мыло у нас пошло? Помните! А за истекший квартал подвоз был по части канцпринадлежностей ниже среднего. Я ему говорю: что же, Бескардонный. вы нас опять на лимит с полотенцами взяли, а он мне анекдот про дирижабль рассказывает, как будто я не знаю, живя в научном центре. Вот получается, Ипполит Аполлинариевич, просишь гвозди, дают мыло, просишь доски, дают чай, но все-таки, врать не буду, автомобильные сиденья у нас не затоварились, и дружелюбием, Ипполит Аполлинариевич, покупатель доволен. Часто выходит со слезьми.
Таким образом, Агафон Ананьев полностью исчерпал вопрос об итальянском джерси и сразу успокоился.
— Эх. Агафон-Агафон, Агафон-Агафон-Агафон, — горько прошептал Крафаилов, растрепал предложенные бумаги и отвернулся в окно. За окном на ветке хвойного растения покачивался ворон Эрнест одна — тысяча четыреста семьдесят второго года рождения. Значит, и Августин где-то здесь рыщет, милый друг, все его любят, да и как не любить разумное существо?
Агафон Ананьев снова заплакал:
— Вы меня, Ипполит Аполлинариевич, подняли со дна жизни, вовек не забуду, обучили английскому языку. Да я ради «Ледовитого океана» ни жены, ни тещи не пожалею, и ради вас, Ипполит Аполлинариевич, что хотите, даже вот свои «сок и джем» не пожалею!
— Позвольте, Агафон, но фургончик не ваша собственность! Он принадлежит «Ледовитому», а следовательно. Министерству торговли, а далее — государству, народу!
Крафаилов даже встал и застыл со своей загипсованной рукой. Застыла и левая его рука в середине кругового объясняющего жеста.
Ананьев тоже встал и вытер слезы рукавом, все сразу. Обиженно поджав губы, он удалился в угол, рванул из кармана «беломорину», смял в зубах. Не любил дружелюб, когда кололи ему глаза фургончиком, даже друзьям не прощал.
Неизвестно, сколько времени продолжалось бы молчание, если бы вдруг не открылась дверь и в кабинет не въехал бы заморский путешественник на жужжащем велосипеде.
— Навилатронгвакарапхеу, — приветствовал иностранец присутствующих на незнакомом языке «лихи». — Время убегает, господа негоцианты, а человечество ждет наших усилий, как сказал Марко Поло на приеме в Гуанчжоу.
Агафон Ананьев при виде иностранца преобразился, весь задрожал. «Мау I help you?» — и разлетелся с мокрыми вихрами и «беломориной» на манер дружелюба-полового из трактира «Тестофф», что на Рю-де-Риволи в самом конце. Иностранец же сел прямо на директорский стол и жестом показал, что в помощи не нуждается.
— Ну как, Мемозов, вы у нас здесь акклиматизируетесь? — с профессиональным дружелюбием, но без чувства спросил Крафаилов.
— Вполне, — ответил гость, полируя ногти директорским пресс-папье. — Вчера, например, по соседству в Чердаках купил себе джерси.
— Так, — твердо сказал Крафаилов и всю ненужную документацию смахнул в ящик, а ящик задвинул с треском.
— В Чердаках? — растерянно прищурился на Мемозова Агафон.
— В Чердаках!
— Джерси?
— Джерси!
— И почем же?
— По рублю!
— Ха-ха, — Ананьев ожил и очень запрезирал фальшивого иностранца. — Вы слышите, Ипполит Аполлинариевич, джерси купил по рублю!
— Чучело музейное, веник! — мягко обратился Мемозов к старшему дружелюбу и обращением этим просто ошеломил Крафаилова: какое неожиданное и ослепляющее оскорбление — веник!
Войти и прямо с порога так метко оскорбить старшего дружелюба! Крафаилов даже замер, ожидая развития событий, но развития не последовало. Агафон усмехнулся на оскорбление и снова зауважал «иностранца».
— Скоро все будет стоить рубль, — сказал Мемозон Ананьеву. — Готовится реформа. Как так? А вот так — в экспериментальном порядке на месяц вводится система один рубль». Дача с мансардой — один рубль, спичек коробок — тоже рубль. Понял, веник? Путевка за границу рубль, стакан воды — рубль. Дошло?
— Это точно? — Агафон даже рот открыл от недостатка воздуха — весь кислород в организме мгновенно закружился в ослепительной мозговой работе, превращая рубли в дачи и путевки, презрительно отметая спички и газировку.
— Такой проект, — уклончиво ответил Мемозов. — Новый компьютер вычислил для развития торговой инициативы.
— Так-так-так. — В глазах Ананьева запрыгали цифирьки, как на нью-йоркской фондовой бирже. — Значит, если у гражданина есть рубль, то он может и пол-литра скушать, и дачу купить?
— И дачу, — кивнул Мемозов.
— И с обстановкой?
— Можно и с обстановкой.
— Да ведь все же купят! — вскричал обеспокоенный новой мыслью дружелюб. — Что ж получится?
«Если все купят дачи с мансардами, какая в них будет радость? Да и хватит ли на всех?»
— Нет, ты не все усек, Агафоша, — сказал Мемозов, мощно спрыгнул со стола, загнал дружелюба в угол, прижал, подтянул ему черный галстук-регат со зловещей серебряной канителью, плюнув на ладонь, пригладил космы, вырвал из зубов «беломорину». — Придется объяснить тебе принцип новых товарных отношений. У тебя один рубль, ты покупаешь дачу и ночуешь в ней, но утром тебе хочется съесть батон, а он тоже стоит один рубль. Тогда что ты делаешь? Отламываешь от дачи дверь и продаешь кому-нибудь за рубль, и теперь уже у тебя есть рубль для Патона. Понял?
— Да ведь я за рубль всю булочную могу купить?! — и ужасе завопил прижатый в углу Ананьев.
Поистине адские бесконечные перспективы распахнулись вдруг перед ним.
— Можешь, — согласился Мемозов, — и покупай на здоровье, но если вечером тебе нужна бутылка пива или билет в кино, ты продаешь кому-нибудь или всю булочную, или один пряник. Понял?
Ананьев, сверкнув глазами, закричал дико и оглушительно:
— Думаю!
Мемозов отпустил Ананьева, вновь прыгнул на стол, миниатюрным задком прямо на книги — Гёте, Писарев. Дон Кихот. Причесался агафоновской расческой и дружески подмигнул Крафаилову: мы-то, мол, с вами понимаем законы черного юмора.
— Зачем вы так? — мягко спросил Крафаилов и кашлянул, чтобы заглушить щелчок магнитофона.
Музыка, одна только музыка своими гармониями вернет Агафона Ананьева к алтарю нормальной прогрессивной торговли, усмирит ретивый и неприятный пыл экзотического пришельца. Бах, Гендель, Скарлатти, на вас надежда.
Вот полилось, поплыло, закачалась ладья, взошел под медовой луной старинный парус с контурами креста — в спокойном величественном бездумии трогайся по медовой дорожке, и тебя обнимет воздух лагуны, и тяжесть, тревога за близких, за свое дело, и весь утиль неясных от ношений останутся за кормой.
«Селяви»
Порой хочется стать птицей или птицеловом, что, по сути дела, одно и то же. Есть летние края птичьей свободы и летучие люди с маленьким, но крепким кодексом чести. Да, есть такие люди, которым и музыка не нужна — они и без музыки покачиваются в уплывающей лодочке. Казалось бы, они эгоисты и ни о ком постороннем не думают. Может быть, оно и так, но себя они держат в чистоте. Хотите, я расскажу о трех таких?
Однажды, я помню: душа моя ныла, как ссадина, ей было колко и липко, как ссадине под грубой и грязной тканью. Я миновал кольцо 23-го маршрута, прошел под стенами лесопилки, сквозь облако мелкой стружки и вышел па полотно железной дороги. Здесь вдоль забора стояли кучками мужчины, а на штабелях шпал лежало их имущество — алкоголь с луком. Ох, как заныла ссадина у меня внутри, и органы мгновенной судорогой шкрябнули друг о друга, когда я увидел эти фигуры темно-синих, темно-черных и темно-коричневых колеров, смазанные недавним дождем. Когда-нибудь на пустом этом зеленом заборе повесят веночек и выбьют надпись неокисляющейся латунью: «Здесь была добровольно расстреляна алкоголем группа лиц прошедшего времени».
Я поставил себя к зеленому забору в одну из слипшихся кучек, где. безусловно, витал крохотный ангелочек похмельного мужского объятия, и, содрогаясь, запрыгал через полотно к другому полюсу жизни — к лесопарку, в глубине коего женский голос пел итальянский романс из окон инфекционного отделения соседней больницы.
Недавно еще прошел мощный теплый ливень, и лесопарк дымился парными лужами, серебрился листвой, шутил мини-радугами. Я пошел по тропинке как посторонний и нелепый предмет в этой игре.
Затем я увидел малого, который сидел рядом с большой лужей, похожей очертаниями на Апеннинский полуостров. Он привалился спиной к стволу лиственницы и спал, храня свой чуть покалеченный подбородок на обнаженной и крепкой, еще не заросшей колючей проволокой груди, украшенной к тому же цепочкой с простым пятаком.
Малый похрапывал, вытянув к дымящейся луже длинные ноги в хлипких джинсиках «Мильтон», он был в лоскуты пьян, но пьян сладко, свободно и весело, и сон его был свободным и сладким, наипрекраснейший сон. позавидуешь. К тому же он был румян, лохмат и, несмотря на пьяный сон, весь на полном взводе.
Я постоял и посмотрел на него немного, а потом, борясь с легким стыдом, сел на другой стороне лужи и привалился спиной к другому дереву, кажется, клену. Ведь это на клене вырастают в середине лета эдакие прозрачные зеленоватые пропеллерочки, вот надо мной они висели, и с них на меня падали капли.
Существо, которое спит блаженным сном, не знает ссадин, а уже покорябанное существо, которому ниспосылается такой сон, просыпается здоровым.
— Вот сука, — весело сказал парень.
Он проснулся и ощупывал теперь свою челюсть.
— Закурить есть? — спросил он меня.
Я бросил ему через лужу пачку, и он совсем повеселел, увидев верблюда и минареты, зачерпнул ладонью из лужи, умылся и закурил с полнейшим наслаждением.
— Селяви, — сказал он и пояснил мне: — Существует такая ослиная колбаса.
После этого он резко спружинил от дерева и встал на ноги, как акробат.
— Пока, — помахал он мне рукой и взялся удаляться среди мокрых дерев и луж, где прыгая, а где хлюпая прямо по воде.
— Ты куда сейчас? — крикнул я ему вслед.
— К бабе! — крикнул он, не оборачиваясь.
— А потом куда? — крикнул я.
Он гулко захохотал, прибавил шагу, замелькал разно цветными огурцами своей рубашки, но все-таки ответил:
— А потом в лопухи! В лопухи уйду. В лопухах ищи мой кудрявый, как у римлянина, затылок, в цитадели лопушного лопушиэма, где листья словно шляпы, а репейник и середочке лилов, а по пе-ри-фе-ри-и зеленые колючки, не всякий и пройдет туда ко мне, а я там лежу, на щите тепловой ямы закатными вечерами, и птиц ловлю, которые не прилетают, а если соберешься, без банки не приходи, иначе не услышишь урбанистической симфонии родного града!
В последний раз под размочаленной кединой вдрызг разлетелось зеркало лужи, и искры ослепили меня и долго падали, как салют, а потом то ли я заснул, то ли вылетел у меня из памяти промежуток жизни, но сразу же перед глазами возник жесткий белый снег сумасшедшего склона и мастер горнолыжного спорта Валерий Серебро, трюкач беспутной киногруппы «Отсюда — в пропасть».
У Валеры лицо жесткого красного цвета, и с этого лица за долгие спортивные годы встречным ветром удалено все лишнее, подрезаны скулы и щеки, стянуты в узелок корни мимических мышц, а глаза Валерины кажутся просто дырками в жесткое синее небо Третьего Чегета.
Я так рассуждаю, — думал он в перерывах между дублями. — Я рассуждаю так: если у тебя боязнь высоты, сиди внизу с девочками, и пусть тебя дублирует тот, у кого боязнь равнины. Правильно я рассуждаю? Вот я расписываюсь в ведомости и получаю свои башли, по полету за съемочный день с шестью падениями. Всего выходит бешеная сумма. Жены нет. о детях ничего не известно — все внизу; есть много плюсов и минусов в тридцатипятилетнем возрасте. Я правильно рассуждаю? Есть тяга к литературе и воспоминание о туберкулезном плеврите, немало было и сердечных неудач, что даже облагораживает,
я так рассуждаю. Теперь вопрос о постоянном местожительстве практически решен, когда на Третий Чегет наладили бугельный подъемник, а в Итколе есть койка на втором ярусе и даже точки милого времяпрепровождения в окрестностях горы. Мы помним время, когда пехом корячились наверх да еще с канистрами компота для метеослужбы. Временами кажется, что поговорка «Не место красит человека. а наоборот» немного устарела, молодые люди. Я так рассуждаю. Вот я заметил на личном примере, как практически меняюсь в разных местах глобуса. Сейчас вот закончу съемки и, если не попаду в гипсовый скафандр, катану со своей бешеной суммой в город Питер, который бока повытер, а зачем — это ни для кого не секрет, и там я буду одним человеком, потому что вокруг изумительная архитектура. Затем у меня останется последняя трешка, и и нанимаюсь бобиком на Таймыр, и там я уже совсем другой человек, потому что вместо изумительной архитектуры вокруг плоская тундра с клюквой. Осенью, в дождях, в читальном зале Центральной библиотеки я уже снова другой человек, но вот покрепче, посуше стало в небе, и опять на последние рубли я добираюсь до Минвод и начинаю подниматься через Пятигорск, Тырныауз, Иткол, начинаю подъем к себе самому — на Третий Чегет… Сейчас они скомандуют «мотор», и я поеду вниз от себя, и дай мне бог вернуться к себе через энное количество времени. Впрочем, это зависит от силы воли и игры случая, я так рассуждаю».
И вот, закончив свою мысль и получив команду, Валера скользит вниз мимо двух съемочных камер, легчайшими, как пух, христианиями меняет направление и уносится на дно Баксана, где ждут его два других аппарата.
— Вы куда летите, летучий лыжник, словно падучая звезда? — спрашивает автор сценария. А он молчит.
— Вы куда, черт бы вас побрал. Серебро, катитесь, словно гонец заоблачного Марафона? — спрашивает его режиссер.
А он молчит.
— Пардон, месье, но вы куда несетесь на австрийских лыжах с крыльями снежными, как небесный шалун? — спрашивает старуха-уборщица с международной турбазы Коллит.
А он молчит, потому что занят трассой.
Старуха пускается вслед за ним и несется, выставив из-под очков свеколку носа, шепча французские и итальянские добродушные проклятия, ибо кончилась трехдневная лыжная лафа и надо заступать на дежурство.
Я вспоминаю старуху-уборщицу в коридоре турбазы. Она идет вслед за утробно жужжащим пылесосом и читает томик Фолкнера или какую-нибудь машинопись.
Однажды, когда турбаза угомонилась и немцы уже спели мощным хором свою «Лорелею», и все ночные перебежки закончились, старуха в ту ночь однажды сидела у дежурного стола, прикрыв веки, словно смазанные пара фином, и шептала почти неслышно, но так. что по увядшей коже все-таки пробегали ручейки печали и стародавнего восторга:
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя
сирень
Тебя — красавицу тринадцатого
года —
И твой безоблачный и равнодушный
день
Напомнили, а мне такого рода
Воспоминанье не к лицу. О тень!
Я в это время был в тени скульптурной формы, стоял и баюкал свою ссадину бесконечным курением. Лицо старухи было освещено, как в театре, и я поневоле его видел, хоть и не подсматривал, да и что мне было подсматривать за старухой-лыжницей?
Сейчас, однако, я смотрел на ее лицо, не отрываясь. Черты комической старухи разгладились, и сквозь весь парафин я вдруг увидел даму белых ночей тринадцатого года.
Однако длился этот мираж мгновение, и вот уборщица уже скривилась в привычной гримасе пройдохи-старушенции, чудачки и вольного казака, и уже загудела себе под нос польский шлягер, вскочила и вытянула ногу в гимнастическом упражнении.
Перемена была мгновенной вовсе не потому, что она увидела меня, соглядатая. Нет, она вдруг испугалась, что отпустила узду, на минуту расслабилась, и дама белых ночей всплыла со дна и глянула на нее. нынешнюю. Вот чей взгляд ее испугал.
Она боялась не из-за горечи, просто с той ей было неудобно, она уже давно привыкла быть смешной старухой-путешественницей. Месяц она работает в Сочи, потом нанимается на пароход, потом начинается Эльбрус, лыжи, потом какой-нибудь литфондовский дом. беседы с литераторами, теннисный корт. Швабра и пылесос спокойно и надежно ведут ее в странствиях и открывают все двери. Вот так и она борется за свою лодочку, за чистый и бездумный путь по медовой дорожке и плывет, и плывет все дальше от беспокойного стихотворения.
В конце концов гаси к черту свет, захлопывай окна и открывай двери — огромная ночь чистого и смелого одиночества ждет тебя.
Увы, мы другие люди, у нас у каждого свой «Ледовитый океан», свои пудель и странная жена, докучливые визитеры и тягостные сослуживцы, но есть у нас у каждого своя Железка, которой мы служим и не жалуемся.
— Комплектом! — вдруг дико вскричал Агафон Ананьев и подскочил к Мемозову, вздымая руки, с которых, казалось, летела вода волшебной ванны Архимеда. — Комплектом надо покупать, вот как! Эврика, товарищи, эврика!
— Поясните, — с развязной благожелательностью предложил Мемозов и принял совсем уже непринужденную позу, облокотился на плечо Крафаилова, откинулся, толчком пальца усилил божественную кантилену Моцарта — для комфорта.
Глаза Ананьева пылали мрачным вдохновением.
— Если я комплектом беру, все равно ведь рубль, — верно? Значит, я прихожу и беру себе на рубль комплект— дачу и шпульку ниток, а когда мне надо пожрать, продаю шпульку ниток и покупаю себе комплект — банку икры плюс рожок для обуви. Понятно?
— А знаете, он у вас не лишен витаминчика, — сказал Мемозов в близкое ухо Крафаилова.
— Зачем вы так? — с горечью проговорил тот.
— Молодец, веник, — поаплодировал Мемозов и прищурился. — Но вот кому ж ты продашь свою шпульку, если покупателю тоже нужен комплект?
— А я… а… я… — беспомощно забарахтался Агафон, чувствуя уже близость новой пучины. — А я никому не скажу. Я один знаю про комплект.
— Ошибаетесь, Меркурий, — холодно процедил Мемозов. — Знают уже трое — вы, ваш директор и, между прочим… я!
— А-а-а! — закричал дружелюб, схватил себя за вихры и вылетел из кабинета.
— Выпал в осадок, — самодовольно констатировал Мемозов.
— Зачем вы так? — Крафаилов осторожно ладонями старался отодвинуть от себя спину авангардиста и чувствовал под ладонями металл.
— Да к чему вам этот веник? — Мемозов вновь спрыгнул со стола и взлетел задиком на подоконник. — На свалку ему пора!
— Он мне дорог, — сухо возразил Крафаилов. — Я за него борюсь.
— Сожрут тебя, Крафаилов, — сказал Мемозов. — До свалки не дотянешь.
— Извольте не тыкать! — вскричал розовощекий и огромный мальчик-мускул и вскочил, забыв навыки современного дружелюбия и видя в Мемозове уже не покупателя, а непрошеного гостя, врага всего человеческого коллектива. — Извольте не тыкать и объясниться!
— Напрасно разорался, старик. — Мемозов надел на переносье черепаховое пенсне с далеким огоньком — высоковольтным предупреждением. — Из всех пихтинских замшелых гениев вы самый более-менее любопытный, и при соответствующей психоделической обработке вы можете получиться медиумом.
— Да вы! Да я! Да ты кто такой! Да я таких, как ты, на каждом углу! — Все интеллектуальное, современное, вся суровая высота и высокая суровость Крафаилова кубарем укатились в глубину десятилетий, в картофельный пищеблок, к столу раздачи, вокруг которого в темноте поблескивали фиксы. — Ты меня трансформаторной будкой не пугай! Мы пуганые!
Мемозов вдруг извлек из подвздошной области миниатюрную дудочку и, прибавив к переливам кантилены пронзительный клич острова Бали, мгновенно усмирил директора.
— Спасибо и извините, — сказал директор, стыдясь.
— В качестве медиума вы будете служить прогрессу пне временных связей, — улыбнулся Мемозов и похлопал его по плечу. — Завидная доля даже для таких, как вы, пожирателей сердец.
— Что? Простите? Как вы назвали мою категорию? — совершенно растерялся Крафаилов.
— Пожиратели сердец, иначе и не назовешь! — весело крикнул Мемозов. — Вот такие, как вы, молочно-розовые гладиолусы, внешне инертные к призывам пола, на деле и воплощают в себе все идеалы донжуанизма. Пресловутый сатир Морзицер. конечно, все воображает, что пленил вашу благоверную — вздор, нонсенс! — этим псевдочувством она спасается от отчаяния, ибо видит, что и Лу Морковникова, внешне крутя шашни с Самсиком Саблером, лелеет мечту — она сама мне не раз намекала… и тианственная Маргаритка и даже мадам Натали… вы знаете тип этих ярких дам на греши пропасти, они ищут свой, последний шанс, и этот шанс — вы. вы, Аполлинарьич, посмотрите на себя в профиль и поймите!
Потрясенный Крафаилов смотрел на свой профиль и специальное боковое зеркало, извлеченное Мемозовым из велосипедного кармана. Что же это — Натали, псевдочувство, гладиолус… последний шанс?
Тут появилась на пороге внушительная дама в костюме, похожем на маскировочный комбинезон. Пышные волосы ее струились по плечам, она была весела и спокойна и отнюдь не смущена своим диким костюмом, а, напротив, чувствовала себя в нем уютно и мило, как чувствует себя, должно быть, Диор в своем доме. В сильной руке незнакомка несла болгарскую сигарету «Фемина».
— Я извиняюсь, мне бы товарища Крафаилова побеспокоить.
— Видишь? — жарко шепнул Мемозов Крафаилову че рез зеркало в ухо. — Еще одна жертва. Итак, вы медиум. Договорились?
— Мне бы, товарищ Крафаилов, приобрести бы у вас десяток-полтора пластмассовых вазочек и пару-тройку художественных картин для буфета. Не возражаете? — про пела дама и прошла к столу, играя кудрями.
«О сладостная! — в ужасе подумал Крафаилов, впервые так подумал о женщине и умоляюще взглянул на недостойного Мемозова. — Друг, не уходи!»
— Ну, не буду вам мешать! Ищите общий язык. Адью! — жутко подмигивая обоими глазами, кашляя, хмыкая, намекая на что-то и головой и руками, Мемозов сел на велосипед и уехал из кабинета.
Все было тихо, выезжал два раза Феб в своей коляске, но вдруг возник девятый вал зловещей масляной окраски, как Айвазовский написал, а он при всей своей закваске из масла воду выжимал весьма умело, без опаски, вообще был славный адмирал.
И вдруг, уже в прозе, не в сибирских небесах, а в кабинете шефа-вдохновителя, зазвонил междугородный телефон.
— Пихты? Поговорите с Копенгагеном.
«Ага, — подумал В-С. — Нервничаешь, старая кочерыга?»
— Гутен абенд, Эразм Теофилович, — благоговейно по привычке ответил В-С, хотя кашель ему не понравился.
— Кашляю, — пояснил Громсон.
— Слышу, Эразм Теофилыч.
— Несколько вчера перебрал. Тигли распаялись.
— Чувствую, Эразм Теофилыч.
— Как вэттер? Морозы, снег, жуть? — поинтересовался Громсон.
— Пока не жуть, Эразм Теофилович, но на горизонте Жуть.
— Напоминаю, Великий-Салазкин, вы меня на морозы Приглашали.
— Ждем, гросс-профессор, и вас, и морозов. ПрОгноз трашный.
Вслед за этим последовало молчание, долгое и смущенное, в котором без всяких помех со стороны магнитных фер слышалось копенгагенское покашливание, шепот «цуум то-ойфеель, Мари, пошель к шорту», бульканье копенгагенской воды, шорох теплого скагерракского ветра Вокруг позеленевшей от Каттегатской сырости маленькой статуи на круглой площаденке под окнами Громсона.
«Да ну, хватит уже жилы тянуть и себе, и мне, — думал, волнуясь, В-С, — спрашивай, Теофилыч, не чинись. Ну, обскакали мы тебя, ну ничего, у нас ведь могучая красавица Железка, а у тебя чего — кухня ведьмы. Ну ничего, Теофилыч, ведь не для себя же живем, для блага же общего гумануса, — думал он, — спрашивай же, Теофилыч».
— Тут мне Кроллинг говорил, вы там чего-то затеяли, какую-то работенку, хе-хе. — небрежно, как бы что-то прихлебывая, заговорил Громсон, — я сейчас вспомнил вот по странной ассоциации: вошел мой кот с крысой в зубах — брысь, Барбаросса! — и я как раз вспомнил. Плазмы, что ли. заварили горшок или твердое тело катаете?
— Да нет, Эразм Теофилович, кой-чего похлеще, — глуша торжествующие нотки, проговорил Великий-Салазкин, — мы тут диких мЕзонов тАбун загнали в «Выхухоль».
— Ага! — захохотал Громсон. — А знаете, кто такие эти мезоны?
— Не знаю, гросс-профессор. Кто ж знает?
— Это черти, милый друг! Самые обыкновенные чертенята, с рожками и хвостиками! Недаром, недаром мудрые схоласты спорили о кончике иглы. Вот так, В-С, чертей вы загнали в «Выхухоль», серой там у вас пахнуть должно, адским мышьяком! — он вдруг захлебнулся никотинным кашлем, а потом, после короткой, но полной значения межконтинентальной паузы тихо спросил: — Маршируют?
— Маршируют, Эразм Теофилович, — сухо ответил Великий-Салазкин, задетый, конечно, за живое бестактным напоминанием о сере и мышьяке.
— Так я и думал. — проговорил Громсон. — Потом плясать начнут. Есть надежда на встречу с известной особой?
— Надеемся, — хмуро ответил Великий-Салазкин.
— Значит, звоните, если запляшут, а я сейчас гороскоп составлю на долгожданную персону. Как морозы стук нут, звоните! Брысь, Барбаросса! Пошел к шорту, Мари! О. Агнесс, майн либе медхен, вы пришли наконец, я вызвал вас вот этими кореньями! Бай-бай, Великий-Салазкин!
Великий-Салазкин повесил трубку с мрачным жеванием губ, с дерганьем бороденки, пошел к окну для того, чтобы погрустить.
В окне, застывший на полнеба, висел над Пихтами девятый вал: в сумраке, созданном им, тихо светились оранжевые трубочки фонарей: вдоль улицы Гей-Люссака к Железке ехал велосипедист с автомобильной фарой; а ближе всего к БУРОЛЯПу стояло огромное хвойное растение, подножия которого сидели две пихтинские собаки-друзья пудель Августин и сенбернар Селиванов, а над ними на ветке покачивалась их птица-друг ворон Эрнест, а еще ближе возле самого окна покачивалась на ветке безымянная белочка, по-английски сквиррел.
Вот, стал думать Великий-Салазкин, мы надеемся на Встречу, а старая кочерыга уже встретился, хоть и не Дабль-фью, а с какой-то там Агнесс. У него поиски идут и другом направлении, он применяет испытанное лекарство против очередного приступа смерти. В столетнем возрасте сколько же накопилось геройства! По крайней мере Вот уже лет двадцать ежедневного геройства, столько силы воли, чтобы не прислушиваться к шороху атеросклероза. Впрочем, так ли? Быть может, юноше-легкоатлету бывает иногда и хуже, чем старцу или бальному, ведь его вдруг среди ночи может оглушить мысль, что и он умрет, и время вдруг сплющится так страшно и так сильно, как бывает только в юности. Ты вспомни, как ты умирал и много ли было геройства.
Сквиррел
Я умирал от полного расстройства как гладкой, так и Поперечно-полосатой мускулатуры, а в небе в овальном окне среди хвойной пушнины покачивалась белочка, но английски сквиррел.
Сквиррел, сквир-р, скви-и… — очень точный звуковой эквивалент, слово древнего происхождения. Белка, белочка — это ласкательное скольжение снаружи по нежному пуху. Сквиррел — внутренний звук, заявка на жизнь без защитной маленькой твари.
Я умирал ежедневно и все время смотрел на свою сквиррел и однажды увидел любопытную, иначе и не назовешь, картину. Сквиррел сидела у меня на груди и ела мое горло. Боли я не ощущал, но отлично видел происходящее как бы со стороны. Тогда из-за долгого лежания в больнице со своим умиранием я уже неплохо стал знать анатомию и видел, как сквиррел мелкими укусами снимает кожу и апоневрозисы, как оголяется гортанный хрящ, а рядом пульсирует толстая артерия.
Вот она, милая моя, ласковая, пушистая сквиррел, думал я, сейчас она куснет артерию, и тогда я весь выльюсь на простыню и отпаду. Я думал об этом спокойно и даже некоторым лукавством — выльюсь и отпаду. Было ли это геройством?
Я даже перестал обращать внимание на тихо копошащегося грызуна, и другое размышление овладело мной.
Я отпаду, а другие уйдут дальше. Это ведь выглядит так, а не иначе?
Я вспомнил, как однажды в потоке машин поворачивал с улицы Горького на бульвар и проехал мимо дома, где ранее жил умерший товарищ. Именно это чувство всегда присутствовало во мне: он отпал, бедный мой друг, а ми ушли вперед. Не так ли? И вдруг при виде дома с широки ми окнами, с толстым стеклом, витой решеткой балкона и кафельной плиткой меня пронзило совершенно новое ощущение — а вдруг это он нас всех опередил, он ушел вперед, а мы — на месте?
Вот это ощущение и страх перед рывком вперед в одиночестве, без товарищей, как ни странно, заставили мена стряхнуть с груди малышку сквиррел и сильным движением ладони привести в порядок свою гортань.
Великий-Салазкин ерзал взглядом по неподвижному небу, по веткам пихт, по окнам лабораторий, вглядывался а таинственное излучение корпуса «Выхухоли», похожего на гигантскую радиолампу.
Если всерьез, думал он, то никакие мы не герои из-за того, что живем, хлеб жуем и преодолеваем, как танки, переползаем наш страх, а может быть, мы герои, когда что-нибудь очень остро, стремительно и слепяще чувствуем, или тогда, когда мы служим своей Железке и верно любим ее. если всерьез…
Если всерьез, то я за себя нынче почти уже не боюсь, продолжал думать Великий-Салазкин. Теперь, когда позади уже все мое молодое, я за себя почти уже не боюсь. Есть ребята, которые дрожат за свое старое,
я почти не дрожу.
Я боюсь за свою руку, которая пишет, берет телефонную рубку и делает в воздухе жест, поясняющий мысль, так продолжал свое мышление профессор Великий-Салазкин.
Боюсь также за свой котелок с ушами, как выражают-я киты. Боюсь — почему? А потому, что это солидное подспорье для современной электроники, если всерьез. Кроме того, эта штука помогает мне коротать одинокость — она понятна. А если уж совсем всерьез, то сам перед собой я могу признаться: церебрус мой служит Им, то есть в первую очередь населению одной шестой части земной суши, также и другим пяти шестым и моим китам, и нашей золотой Железке, если всерьез.
Я боюсь немного и за свою соединительно-разделительную черточку, за свой любимый дефис, который мне помогает быть самим собой, но он-то никуда не денется, Покуда у меня есть руки и голова.
А за свое кучерявое «эго» я почти уже не боюсь, но это вовсе не геройство. Вот, старичок, живи разумно и честно, Говорит мне моя голова, а рука дополняет эту простую «Мель жестом, который означает «небоязнь». Это — если всерьез.
Вдруг телефонный звонок, на этот раз внутренний, прервал размышления академика.
— Бон суар, покровитель, доктор Перикл! Говорит Мемозов! Прохожу через вахту, встречая слабое сопротивление заслуженного артиста Петролобова. Эй, осторожнее, Карузо!
И сразу же после этих слов распахнулись двери, и в святая святых въехал автор звонка из проходной. Непостижимая проходная способность у этих москвичей!
— Чао! Чао, Цезарь, прошедшие сквозь проходную приветствуют тебя! Ну что, корифей, все о своих белочках думаете, о форме существования белковых тел? Плюньте! Поздравляю! Над городом висит девятый вал! Да, вот еще новость — ваша возлюбленная влюбилась в двух, а то и в трех мужчин, но об этом после. Сейчас я хотел бы выразить вам свою признательность, давно собирался, мне кажется, что здесь, в вашем заповеднике, я обрету наконец душевный покой. Вот видите, академик, я не с пустыми руками явился на командный мостик… — Мемозов чиркнул «молнией» на заднице, извлек и торжественно поставил на конференц-стол четвертинку перцовой водки, чиркнул второй «молнией» и извлек слегка расплющенный сырок. — Ну вот, прошу!
Великий-Салазкин при виде четвертинки и сырка умилился и похлопал в ладони: фортель был не нов, но выполнен изящно.
Академика с Мемозовым столкнул случай, иначе не скажешь. Однажды выскочил В-С из подземного переходи на Беговой и вдруг на него из проходящего троллейбусы вывалился человек — Мемозов. В другой раз ночью В-С гулял себя от товарища по Третьей Мещанской, вдруг видит — в высоте прокручивается как бы человек вроде паука и мгновение спустя начинает падать; опять Мемозов. В третий раз В-С, напевая себе в нос настроение, утром направляя себя просто так по Усиевича, услышал выстрел и. мигом придя на помощь на восьмой этаж, увидел на тахте плачущий лицом в подушку труп, а на стене висящую, еще с дымком из обоих стволов двустволку «Тула». Опять Мемозов!
Тогда заметил академик незаурядность персоны и деликатное внес предложение о переселении в таежную крепость для создания внутреннего климата — ну. юмор, шут ка. интеллектуальная игра, ну, вроде душа после работы. Приглашение было благосклонно принято. Но, увы — злополучная реплика Мемозова по адресу Железки — В утиль!» — «китам» не понравилась, и Великий-Салазкин стал уже сомневаться в успехе своего протеже: «киты» обычно хулителей своей Железочки клеймили раз и навсегда — «серяк, духовно неразвитый тип». Нельзя так резко, увещевал их Великий-Салазкин. иные люди могут заблуждать себя, чтобы потом просветляться втрое.
— Вот скажите, дорогой Мемозов, — мягко и осторожно спросил он, катая перцовку по столу зеркального дуба, — вот сейчас вы шли по нашей Железочке и… и как? Ничего себе, а? Прониклись?
— Тьфу! Зола! При чем тут Железка! — воскликнул Мемозов. — Стоит, скрипит, чего ей сделается? Главное, Конфуций, создать среди населения особый, насыщенный флюидами беды, пересеченный страшными импульсами разлада климат. Все уже готово, атмосфера сгущается, теперь нужен только режиссер. Эге, мы попробуем разбудить ваше болото!
— Да что готово? Какая атмосфера? — поморщился Великий-Салазкин. Нет, не проникся протеже, «киты» праны — фигура заурядная.
— Вы ничего не знаете? — зашептал Мемозов, оглядываясь, хотя прекрасно было видно, что в огромном куполе никого не было, но так уж полагалось, шепчешь — оглядывайся. — Формируется прелюбопытнейшая молекула, мой Аристотель. Лу Морковникова пьет «чай вдвоем», и Самсик Саблер играет эту же тему. Усекаете? Эрик ходит смурной, а по нему грустит хозяйка янтарного ларца. Сечешь? В нее но самые рожки вляпался ваш местный сатир, а к нему неравнодушна многодетная Афродита, но все-таки оставляет уголочек и для вдохновенного Китоусика, а тот — сечете? — готов забыть свою тианственную, но не знает, что та пульсирует интересом к венцу природы Слону и тот готов — усекаете? — ответить взаимностью, но не знает, что и наш Меркурий-Крафаильчик не оставлен без внимания, и, кроме того, в городе появилась новая дама — само совершенство!
«Фу», — подумал Великий-Салазкин и вслух сказал:
— Фу! Да что плетете. Мемозов? Я вас держал за интересный страдающий индИвид, а вы… И спрячьте вашу чекушку-то, ей-ей, не смешно…
— Смешно, смешно, Периклус, очень смешно. Хотя бы потому, что и вы не остались за бортом, Терентий Аполлинариевич. Предмет ваших платонических — ну-ну, не удивляйтесь, такие загадки для Мемозова семечки, — предмет ваш настроен более серьезно, чем вы. Надоели мне эти сорокалетние мальчики, сказала она мне однажды вчера, в них нет ничего мужского. Вот наш шеф — настоящая фигура, несмотря на неброскую внешность. Я еще когда разливала газированную воду…
— Ни слова дальше! — воскликнул вдруг В-С с интонацией гвардейского офицера и побежал к окну. — Неужели, неужели? — опять сел к столу. — Плесни-ка перцовой, Мемозов! — обратно к окну. — Вдруг она явится? — и остановился у окна. О Дабль-фью в сосцах у Матери Железки!
— Не могу молчать, великий Ларошфуко, потому что вы мне дороги, но не как покровитель, а как медиум, — забормотал еще жарче и быстрее Мемозов. — Вы медиум, понимаете?
Девятый вал за окном уже налился, как гигантский волдырь, и розовым отсвечивал в расширенных глазах авангардиста.
— Я медиум? — без особого удивления спросил академик и прикрыл глаза.
Он вовремя прикрыл, ибо именно в этот момент гигантский дубовый стол словно под действием эффекта Пангеи сделал полный оборот, и в углу за спиной Мемозова возникли неясные очертания чего-то одушевленного.
— Куда пропал мой консервный ножик? — услышал или, вернее, почувствовал Великий-Салазкин добродушную мысль какой-то близкой ему и приятной структуры.
Открыл глаза. Пусто, темно. Мемозов слинял, прихватив невыпитую четвертинку. О сентябрь! О слезы!
Вот налетело, закружилось, потом обрушилось — снежная лава, снежный пепел, снежный вулкан, но таежная Помпея лишь крякала, ухала, хлопала себя по заду, приседала, драпала и снова вылезала из-за горы с ироническим комплиментом — вот дает погода свежести!
Все шло своим чередом, все службы функционировали нормально, и лишь повествование наше съехало с накатанных рельсов и в вихрях затянувшегося циклона понеслось по ухабам, по снеговоротам, то улетая в слепые дали, то возвращаясь на круги своя аки гигантское перекати-поле.
В тот вечер, еще осенний, за час до падения девятого вала. друзья вышли из Железки и в странном молчании, отягощенные свеженькими секретами, пошли по Ломоносовскому Лучу к Треугольнику Пифагора, на задах которого, чуть-чуть нахально заезжая на гипотенузу, стоял буфет-времяночка «Мертвый якорь» с необходимым для мужского разговора атрибутом — бочками, стоячками, шваброй, ползающей по ногам, с плакатами против пьянства и курения, которых, правда, хвала Аллаху, из-за дыма не видать.
— Я знаю, почему тебя волнует цапля. Ты ищешь то, что до сих пор не нашел. — сказал Вадим.
— Да ведь и ты тоже ищешь неуловимое, — сказал Павел.
— В нас много общего, но есть и различия, иначе бы…
— Что иначе?
— Да ничего.
— Яс тобой согласен, есть много разного, но поиск нас сближает.
— Что ж, нас тут сотни, и каждый ищет свое. Для этого и Железку построили, слава Ей!
— Э, нет, Железку ты не трогай. Это наша мать.
— Но мы же все-таки сами ее сделали.
— Мы сделали ее так же, как дети делают матерей. Разве плод, зарождаясь, не делает из женщины мать?
С порога на друзей смотрела, улыбаясь, милая внушительная дама.
— А вы как считаете, мадам? Вы с ним согласны?
— Эх, мальчики, я бездетная.
На седьмые сутки бурана Серафима Игнатьевна заперла буфет и решила отправиться на поиски шофера Телескопова. Таков, она полагала, ее долг, дефицитный баланс на всю жизнь.
— Хотите, я с вами пойду, Серафимочка! — предложил помощь столовский саксофонист Самсик Саблер.
Он сидел, свесив юнкерские ноги, у бывшей стойки бывшего бара, ныне буфетного прилавка, и, ей-ей, его унылому петербургскому носу в «Волне» было уютнее, чем в интеллектуальном кафе, потому что, хоть и представлял Саблер иноземный вид искусства, отечественные формы в лице Серафимочки были ему милее.
— Да ну. сидите уж, Самсон Аполлинариевич. Что с вас толку? Одна дудка.
Он вздохнул.
Когда-то, во второй половине пятидесятых, он был кумиром Фонтанки от Летнего сада до Чернышева моста, и даже с улицы Рубинштейна прибегали послушать, когда он играл излюбленный минорный боп.
Славой своей он совсем не пользовался, с утра съедал полпачки пельменей, вторую половину носил с собой в футляре сакса, чтобы при случае где-нибудь заварить или съесть живьем. Вдруг его «открыла» компания Слона. Да ведь Саме гениален, ребята! Гений! Гений! Играет джаз с русским акцентом! Прислушайтесь, набат гудит, град Китеж всплывает! Душа Раскольникова рвется пополам!
Самсик гениальность свою принял запросто — ну, гений так гений, почему же нет? Гулял по Невскому, особенно от бронзовых лошадок не удалялся, выглядывал свою ярко-рыжую подружку Соню, ругал ее встречным знакомым, говорил про нее все, что знает, потом бежал на вечер секции моржей Технологического института и там через дудку самовыражался, публично страдал. Денег гениальность не прибавила ни на йоту.
Однажды приехал американский тенорист Феликс Коровин, профессор бопа. Его повели на Самсика, чтобы потрясти. Удалось. Потрясенный Коровин обещал
прислать фонтанскому чудо дую со своим другом-моряком запасной сакс, на котором когда-то, будучи у него на выпивоне, шутки ради играла несравненная «Птица» — Чарли Паркер, отец бопа.
Долго ждал Самсик моряка, год или два, не дождался.
Отправился тогда в Новороссийск, стал там ждать, играл в ресторации «Бесса ме мучо», потом через пару лет с кем-то поссорился, уехал в Мурманск, ждал там, не дождался и не разбогател, заметьте, совсем-совсем не разбогател, и уехал в итоге на Дальний Восток, стал там ждать в каком-то маленьком портике, куда и пароходы-то заходили только в четверг, к ночи. Там Самсик играл «Глухарей», подрабатывал на ударнике, пел «В березку был тот клен влюблен». Там Самсик совсем уже не разбогател, а, напротив, получил год за какой-то необоснованный поступок.
Этот свой год Самсик работал в некотором отдалении от синего моря и бухты, в которую как раз прибыл для спасения от бури грязный либерийский угольщик, где в твиндеке бесшумно отдыхал тот самый моряк, друг Феликса Коровина.
Еще через несколько лет, уже с панамского керосиновоза, Самсик получил долгожданный паркеровский сакс, поцеловал его и играл в буфете в память «Птицы», был уволен и начал миграцию на Запад, в родные края.
Постепенно он приближался. Пару лет играл в Хабаровске в кинотеатре попурри и короткие сюиты, годик еще в Иркутске, а оттуда закатился в Зимоярск, где уж совсем-совсем не разбогател и был найден другом фонтанной юности доктором наук Павлом Аполлинариевичем Слоном.
Высокая луна
Эх, милая девочка моя, да ведь это же для тебя, для тебя, для тебя, так высоко, высоко, высоко забралась луна!
Вот ты сейчас сидишь передо мной за пиршественным столом, такая спокойная, такая уверенная в себе, такая научная леди, спокойная и холодная, немного усталая, усталая красавица, ничем тебя не проймешь, но вдруг какой-то поворот головы — и мгновенный ветер скользнул по зеркалу, и сквозь мгновенную рябь проглянула та девочка с шалыми и неуверенными глазами, та. что бежала когда-то, засунув кулаки в карманы курточки, мелькала вдоль садовых решеток и застывала в тени колонны, стены. ниши, подворотни, развесив рыжие патлы, словно Марина Влади.
Ты помнишь, как в нашей бухте сонной спала зеленая вода? Помнишь, как по Фонтанке, под этими горбатыми мостами проплыла колдунья с шестом? Да. это для нее и для тебя сейчас так высоко, высоко, высоко забралась луна!
А помнишь, милая, все эти побеги с лекций над огромной тяжелой водой, ты помнишь, там вдалеке, за мостом лейтенанта Шмидта, стоял атомный ледокол, а мы бежали, не помня себя, со свистом по Литейному на неореализм, ведь мы смотрели с тобой раз пять, не меньше, «Рим в одиннадцать» и долго после делили наши сигареты, как Раф Валлоне и Лючия Бозе.
Что? Это было не с тобой, ты говоришь? Ты говоришь, я тебя с кем-то путаю? Я поднабрался, ты говоришь? Все равно это для тебя так высоко, высоко, высоко стоит нынче луна!
Когда ударил девятый вал. двое по-летнему раскованных людей встретили его стойко, проще сказать — даже и не заметили. Академик Морковников и шофер таксомотора «Лебедь» Телескопов стояли перед багровой, катастрофической, как вечный город Рим, витриной художественного салона и увлеченно беседовали.
— Я тебе, Эрик, так скажу жизнь моя в тот момент катилась, словно сплошное шикарное карузо.
— Вова, ты любил тогда? Тебя обманывали? Кто-нибудь терял из-за тебя голову?
Горящие витрины в этот момент олицетворяли гибель далекой цивилизации, а в воздухе, словно кленовый листик, порхала перфокарта с очередным опусом.
№ 105
Волшебный Крым! Там в стары годы.
Как нынче, впрочем, как всегда.
Сквозь миндали неслись удоды.
Сквозь пальцы уплывали годы.
И Поженян, как друг природы.
Взывал: гори, моя звезда!
И провожали пароходы
Совсем не так, как поезда.
В разгаре пиршества (традиционное в Пихтах пиршество «под ураган») Наталью вдруг разрезала поперек почечная колика вторая! Первая случилась полгода назад и при самых неподходящих обстоятельствах. Она так была пронзительна, так требовала себе все тело, что можно было возненавидеть соперника боли с его шершавыми руками и сухим ртом, горячечным шепотом и острыми локтями, так нелепо прищемившими ее волосы, волосы боли.
Теперь налетела вторая и заставила вспомнить первую, которая так до странности легко забылась. Вторая звенела по линии разреза, и обе половинки разрезанного тела были уже чужими и причиняли муку, когда пытались соединиться. Верхняя часть тела мучила нижнюю, и та не оставалась в долгу.
Дурачье, что вы так смотрите друг на дружку и на меня в том числе с романтической грустью? Повлюблялись все на старости лет, разнежились, дебилы, не тронутые болью.
Она уже и думать забыла, как за минуту до боли ей было грустно и тревожно, словно в молодости, как забавлял и тревожил ее Китоус, меланхолично, словно в молодости, наигрывающий на пианино. Как волновал ее Слон, курящий трубку и синим глазом поглядывающий поверх стакана, как жалко ей было Кимчика Морзицера, прямо хоть рубашку ему стирай, такой милый и странный, и все наши мальчики сегодня такие милые и странные, седина в бороду, бес в голову, какое милое и грустное пиршество — все это она сразу же забыла, ушла в темную комнату и повалилась на тахту, и боль стала раскатывать обе половинки ее тела, а потом от сверкающего раскаленного среза полетели молнии, пересеклись, и боль захватила уже все, всем овладела, кроме какого-то неведомого периферийного уголка, где жертва еще держала оборону, а потому не стонала.
Поют!
… На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца…
…Ночь темна, в небесах светит луна, как усталый солдат дремлет война…
…Был озабочен очень воздушный наш народ, к нам не вернулся ночью с бомбежки самолет…
…Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая чья-то рука…
…Темная ночь, только пули свистят по степи…
…Ночь над Белградом тихая встала на смену дня. Помнишь, как ярко вспыхивал яростный шквал огня?
Ночь, фронт, напряженные аккумуляторы, юноши в ночи, ночные песни фронта, ночь — сестра милосердия, единственная любовница, возьми мой штык в свою прохладную ладонь. Помните, ребята, ночные песни старших братьев летели к нам в тыловую периферию, в мякинные будни иждивенческого пайка?
В разгаре снежной бури, среди свиста, ледового ветра, шороха ужаснейших змей, неродных, неядовитых, нетропических, но извивающихся на полкилометра по насту, среди треска многострадальных пихт одессит-африканец Уфуа-Буали услышал далекий рокот тамтама.
Он приподнялся в кресле и вперился карими шоколадками в экран. Так и застыл он в недоступной европейцу позе. Неужели, неужели?..
Мезоны на внутренней площади «Выхухоли» по-прежнему с неослабевающей ретивостью маршировали по разноцветной мозаике, старались казаться неунывающими бравыми ребятами, которые и понятия не имеют ни о какой «Выхухоли», ни о какой там еще «Барракуде», а просто вот маршируют по своему неотложному военному делу. но…
Но на задах площади глухо-глухо, словно спросонья, заговорил тамтам… Какое счастье для всей мировой науки. что за дежурным пультом оказался африканец! Только он смог вовремя включить соответствующую аппаратуру и зафиксировать редчайшее явление «Пляски диких мезонов», известную теперь под названием эффекта Уфуа-Буали.
Да что там слава, что там эффект?! Об этом ли юный аспирант думал! Восторг перед очередным чудом микрокосмоса, восхищение гением старших товарищей по науке, расчетами и находками Великого-Салазкина, предсказаниями живой легенды Эразма Громсона, восторг и восхищение охватили Уфуа, а те, кто скажет, что это тавтология, глубоко не правы: восторг и восхищение — совершенно разные чувства.
Удары тамтама становились отчетливыми, и ритм стремительно учащался. Мезоны вначале как бы не обращали внимания на посторонний звук, надутые и важные, словно гвардейцы Фридриха Великого, они продолжали свою шагистику, но вдруг — о чье же сердце устоит перед любовным биением ладони по тамтаму!., любовная песня озера Чад, до берегов заполненного жизнью, — но вдруг центральное каре распалось и закружилось в безумном танце! Вскоре и весь уже экран плясал, подпрыгивал, кружился, забыв о прусской дисциплине, словно ее и не было никогда.
Уфуа танцевал вместе с мезонами — ведь танец этот предвещал с вероятностью N = роэооооо явление божественной Дабль-фью.
О знойная любимая родина, сколько нежной прохлады. сколько сочности, свежести, мирности, вольности сулит тебе Дабль-фью, эта черная, конечно же, черная, как Иисус, красавица с налитыми и торчащими маммариями, с девичьим перехватом над гладким, как крыша «Ситроена», животом, с долгими щедротами бедер!
Уфуа побежал, побежал, побежал по подземным тоннелям родной и ему. африканцу, Железки, стремительно, как Аббэбэ Бикила, устремился в сектор отдыха.
Там слышались короткие стуки, хохот: ученые гоняли твердое тело — бильярд.
— Эй, мальчики! — вскричал он с порога. — Топайте все за мной, и вы будете иметь чего-нибудь интересненького!
Первый заряд урагана, снежная спираль ударила по тротуару в окрестностях худсалона «Угрюм-река» и закружила двух увлеченных беседою мужчин, Эрнеста Морков-никова и ВолодюТелескопова. Ни тот, ни другой беседы, конечно, не прервали и только удивлялись порой, куда же уплывает собеседник, и куда, собственно говоря, улетела шляпа «Олд Бонд-стрит», и куда, между нами говоря, сквозанул кепарик «Восход»?
— Вова, Вова, жизнь коротка, а музыка прекрасна!
— Согласен, Эрик!
— Вова, обратите внимание, вот почтовая открытка, выпущенная секцией по террациду. Вы видите, в центре я. Идет коктейль, посвященный борьбе с ДДТ.
— Карузо!
— Открытка обнаружена мной в сегодняшней почте. Вова. Текст гласит: «Забудь, все забудь! Я никому тебя не отдам. Домой не возвращайся». Подписи нет.
— Почерк бабий.
— Йес! Индид! Что вы скажете, Вова?
— Слушай. Эрик, я сам на геликоне лабал и получал ректификат для инструмента, но в Крыму было лучше. Знаешь, Эрик, мне таджик один говорил — что проел, что прогулял, не жалей, а то на пользу не пойдет, а в Крыму тем временем жизнь катилась — как карузо, с брызгами…
— Эх, Вова!
В тот час за минуту до урагана Серафима Игнатьевна, завитая, напудренная и с бисером на груди и, конечно же. в джерси, шла вдоль главной улицы Пихт под огненными витринами. Вот чудо: витрины нового града горели перед девятым валом, словно закат Европы, словно далекий привет катастрофного стиля Сецессио.
— Да вот, чего же искать. — сказал Вадим Павлуше, — посмотри, какая идет восхитительная мадам в тропическом огне зеленого джерси!
— В трагическом огне зеленого джерси, — подхватил Слон, притормаживая. — Послушай: далеко у озера Чад изысканный бродит джерси.
— Ах, мальчики, уважаемые профессора. — сказала с улыбкой Серафима Игнатьевна. — Долгие годы я провела в глуши, и потому мне все сейчас интересно.
Боргцов щипал щупальцами щемящие щиколотки, умоляюще щепотью нашептывал в телефонище.
— Зачем вы, Ким Аполлинариевич, вышли из актива? У нас в столовой и культурный дОсуг будет — и потанцевать мОлодежь сможет, и в шашки поиграть, и о романтике, и о романтике, о романтике, бля, о нехоженых тропах…
Вдруг прибежали.
— Буряк Фасолевич! В зале ЧП!
ЧП, ЧП, закружилось в голове у Борщова, — Чрезвычайная Проституция? Чрезвычайная Промышленность? Чрезвычайная Полиция? Полностью будучи уверенным в чрезвычайности первого слова, директор столовой «Волна» почему-то беспомощно тыкался во второе слово аббревиатуры, пока не подвели его к кассовому окошечку, не ткнули пальцем — пальцем в угол под колонну, не повторили горящим шепотом — ЧЭ ПЭ! — «Чрезвычайное происшествие!» — озарило вдруг щавелевые мозги. — «Вижу, вижу, вон оно — щука, и сразу ясненько, что ЧП, во что ни рядись!»
Между тем под колонной, на которой сквозь слой водянистой краски еще не просвечивали следы вольнолюбивых математических дискуссий, сидел обыкновенный гражданинчик: шапочка хлорвинилового каракуля, перчаточки, ботинки, личико закрыто газеткой «Комсомольская правдочка». Быть может, и не подозревая о произведенном переполохе, гражданинчик ждал заказанный комплексный обедик. Оцепеневшее от ужаса руководство «Волны» смотрело, как приближается к столику подавальщица Шурка. Не было у Шурки, дикой сибирячки, никакого идейного опыта. Не понимая ситуации, она с обыкновенным своим грубым и оскорбительным выражением тащила заказанный комплекс: капусту по-артиллерийски, борщ по-флотски, битки полевые под бывшим тверским, ныне и навеки калининским соусом.
Гордостью нового руководителя молодежи был этот комплексный обед, и всеми посетителями употреблялся в охотку, и никто никогда не догадывался об утечке жиров и никогда бы не догадался, если б…
И вот едва лишь Шурка шмякнула комплекс на стол, как гражданинчик ЧП отложил газетку, встал и проскрипел протокольным голосом:
— Санитарная инспекция! Прошу пригласить руководство!
Борщову послышался гневный Зевесов рык с карающего Олимпа. Холодя членами, наблюдал он вынимание государственных принадлежностей и запечатывание под сургуч любимого детища, комплексного обедища с тощущими жирищами, — в санитарные судки.
Конечно, можно было Борщову и не так уж сильно пужаться — ведь имелся же у него мощный тыл, где всегда можно было укрыться, как и в минувшую войну безопасно геройствовали под армейскими трехнакатными блиндажами. Однако и в тылу ведь могут в конце концов разозлиться на утечку жиров. Чего, дескать, тебе, Борщов, ибе-нать, не хватает? До патриотов, измученных в отдалении, приветы не все довез — кобылище своей на мохеры выкроил. К металлургам тебя, полтора глаза, послали, ты и там умудрился штуку проката к себе на дачу откатить. А теперь на важнейшем участке, на идейной работе мухлюешь с жирами. Смотри, батька, звездочки сымем, спишем на свалочку, в архив, ибенать, в историю.
Так что к тылу своему Борщов относился двояко: с одной стороны, дюже гарно опираться на огромную массу могущественного тыла, а с другой стороны, яйца печет, ни действий, ни соображений не предугадаешь. Иной раз хотелось Борщову думать, что вроде и никакого тыла у него нет, что он вроде простой человек, обыкновенный пищевой жулик, но… но тыл у него был, был всегда с незапамятных нежных лет, когда кострами еще взвивались синие ночи, и, если уж честно говорить, не представлял себя Борщов без этого тыла, немедленно бы опрокинулся, лиши его оного. Как-никак, а давал ему его тыл нужный запас в отношениях с санитарно-эпидемиологической, противопожарной, финансовой и прочими инспекциями.
Так и сейчас помогло ощущение тыла, и, привычно потряхивая крашенной под воронье крыло косой челкой, лукаво поблескивая левым глазом из-под фальшивого протеза и раскрывая якобы-второго-белорусского псевдофронтовые объятья, Б. Ф. Борщов двинулся к человечку-инспектору.
— Узнаю, узнаю поколение! Где сражался, землячок? Пойдем-пойдем… да подожди ты с бумагами-то… пойдем посидим, вспомним дороги Смоленщины…
И, увлекая гостя в глубины «Волны», ярко жестикулировал подчиненным насчет обеда (да уж. конечно, не комплексного!), насчет коньячку (да уж, конечно, марочного!), да и по делу, конечно, насчет всяких там тоскливых калькуляций, документации (что поделаешь — жизнь!) и очаровывал мужским своим солдатским обаянием.
…С «Лейкой» и с блокнотом.
А то и с пулеметом
Первыми врывались в города…
Тормозя иной раз в коридорчиках, пропуская инспектора вперед, траншейным шепотом отдавал приказания челяди:
— Симка где? Немедленно отыскать Серафиму Игнатьевну! Маринке и Зинке помыться! Кремовый шприц с топленым маслом в хлеборезочную!
Ну наконец на бархате со стола президиума сервируется обед, переходящий в ужин с завтраком: горка жареных цыплят, пирамида помидоров (вот вам и Сибирь!), развалец рыбного ассорти вперемешку с икрицей (закон — тайга!), закавказское созвездие коньяков — прошу, не обессудьте. чрезвычайная периферия.
Неожиданный инспектор, что хуже не только чучмека, но и еврея мохнатого, к счастью, оказался хиловат, простоват. сразу потек при виде переходящего бархата, только глазенки бегают, а ручки сами к бутылочкам тянутся. Даже не заметил переноса засургученного в санитарных судках комплексного обеда из кабинета в хлеборезку. Не наметил и перемигивания челяди и даже идиотского шепота завскладом Залихановой — «Буряк Фасолевич, шприц принесли», — не расслышал.
Ну конечно, по первой прошлись с кряканьем, с боржомным клокотаньем, и теплая волнища первой полной вкусной рюмищи прошла по борщовским суспензориям, обольщая отощавшую в гнусноте житейской душу и даже глуша на миг и фальшь фальшивейшего обеда — и будто бы не ЧП-санитарное-рыло рядом сидит, а друг-костя с-лейкой-и-блокнотом и с ленд-лизовским сидором у хромового сапога.
— Тушенки мы у них много забрали, а обратно не отдадим! Оплачено кровью! — повторил Борщов великие слова.
В глазенках санитарного гражданинчика мелькнуло замешательство: не понял идеи лапоть-калоша.
А тут как раз привалили помывшиеся девчата, перс брошенные пару недель назад из актива на замену интеллектуальным проституткам с тлетворным душком. Борщов глазами и бесшумно шевелящимися губами издавал приказания:
— Ты, Маринка, садись поближе и лапу ему на коленку клади, а ежели пуговки где надо проверить, никто тебя не осудит. Ты, Зинаида, больше грудями приваливайся. Действуйте, девчата!
•Эх-вот-Серафимы-то-жалко-нету-одним-дыханьем лишь-взяла-бы-опенка-нимфа-моя-русская-полевая», — подумал на волне лиризма Борщов, представив своего старшего буфетчика рядом с санитарным инспектором и как тот от одного лишь духа нимфиного тут же кончает и подписывает документацию.
— Ты, друг, пока тут с девчатами, с активом погужуйся, а я на пяток минут испарюсь, проверить надо, как дели на кондитерском фронте.
Он двинул в хлеборезку и лично возглавил операции», то есть взял в руки кондитерский шприц, которым обычно выводят на тортах различные дарственные и патриотические надписи. В этом деле был уже у Борщова накоплен боевой опыт. Не раз приходилось идеологу молодежи вгонять кривой иглой жиры из кондитерского шприца в опечатанные для анализа обеды.
Так и сейчас, без труда найдя малую щель в судке, он засунул туда кривую иглу и не без удовольствия стал «вгонять» и не без удовольствия воображал удивление научных сволочей в пищевой лаборатории, когда обнаружат супервысокий процент жирности.
— В гражданскую войну как на Восточном, так и на Западном фронтах за такие дела ставили к стенке. — услышал вдруг Борщов спокойный неторопливый голос. — Впрочем, ни Южный, ни Северный фронты не были исключением.
Санитарный гражданинчик, будто и не пил, будто и не ласкали его женские руки, стоял в дверях хлеборезки. Пальто внакидочку, шапочка на затылочке — ни дать ни взять профессор мат-философии в изгнании.
Борщов метнулся — куда же? — конечно же, к телефону. Как Эдип, должно быть, в минуты тревоги бросался к мамане, так и Борщов в такие минуты инстинктивно бросался к телефону, чтобы ощутить под ухом, под рукой, под животом ровное рокочущее дыхание могучего тыла. Однако что-то в этот раз не сразу заладилось: гнулся палец, подлый грешный указательный палец, залезал не в те дырки, путались кабалистические цифирьки — старею, маразмирую, на свалочку пора…
— Это вы сказали? — в ужасе Борщов потек ручьями.
Санитарный гражданинчик сидел теперь через стол напротив — санитарный ли? не мат ли философский — он расплывался. странновато видоизменялся, как на экране паршивого телевизора, и только улыбочка, издевательская, всезнающая, не менялась перед Борщовым, да взгляд стальной с прищуром, идеологический держал Борщова за «рачки — этично все, что полезно.
— На свалочку пора!
— Это вы сказали?
— Я? А может, это вы сами сказали. Буряк Фасолевич? А может быть… — Небрежный кивок в сторону телефона. — …может, это товарищи сказали?
— Да вы… да вы, милейший, знаете, на что замахиваетесь? Отдаете себе отчет?
Тыл престраннейшим образом не соединялся, палец-поганец гнулся и смердил. Пришелец рассмеялся.
— Обед с блядями, кривой шприц — какая наивность! На дворе семидесятые годы. Буряк Фасолевич, справка на вас давно готова.
С хрустом, словно новенькая ассигнация, вывернутая из кармана, закачалась перед носом Борщова отменнейшая справка. По ней пробегали маленькие, но отчетливые светящиеся буковки: «…вардии…овник…ставке заочно осужденный по материалам ОБХС… сто восемнадцать лет лишения …оды лауреат …венной премии УПРХ СТФРОУ трижды кавалер ордена Богдана Хмельницкого под грифом совер… секр… значка «Отличный пищевик» Борщов Буряк Фасолевич ЖИРНОСТЬ 99,99 ПРОЦЕНТА».
Хлеборезочный пункт со всеми его пауками и тараканами, наличием и отсутствием санитарии и гигиены закачался вокруг Борщова. Вся глубинная тыловая суть обозначена была в справке, казалось бы — выше голову, вот они. этапы большого пути, но как? откуда? что за ужас? как посмели? Газы отчаянной тревоги вспучили Борщова. и даже любимые им знаки 99,99, вместо того чтобы наполнять законной гордостью, теперь плавали в воздухе кошмарными пузырями. И тут как раз включился тыл.
— Что там у вас, Борщов? — спросили чудесным голо сом.
— Здесь… здесь, товарищи… — радостно заверещал Борщов, — …провокацией попахивает… некомпетентные органы… вмешательство в святая святых… прошу приема… может, придете лично… мой стаж… процентовка… СЭС нос сует куда…
Радостное кудахтанье захлебнулось в молчании тыла Санитарный гражданинчик сидел посмеиваясь. Да неужто уже внешние органы переплелись с внутренними, а и и не заметил?
— Ты, Борщов, рыбалку любишь? — спросили в тылу. Несчастье, когда становится очевидным, дает человеку некую кристальность.
— Понимаю, — просто и ясно сказал наконец-то Борщов. — Решение принято? Заслуженный отдых? Отдаете на растерзание?
Как там все-таки чудесно красиво смеются. Нет-нет, они своих так просто не отдадут.
— Работай, товарищ Борщов, только не размягчайся на молодежных хлебах. Во-первых, комплексный обед перекалькулируешь, ворюга, по-человечески, а во-вторых, проведешь дискуссию, чтоб не болтали, будто у нас дискуссии зачахли.
— Дискуссию? — Борщов снова опупел. — Какую дискуссию?
— Инициатива от молодежи пойдет, а тебя сейчас ознакомят.
— Кто ознакомит?
— Не догадываешься? — Тыл отключился. Перед Борщовым по-прежнему сидел хихикающий санитарный гражданинчик, но теперь он уже размывался, видоизменялся очень активно и превращался на глазах — генералиссимус милосердный! — в идейно подозрительного чрезвычайно-мало-советского чужака Мемозова, о питании которого в «Волне» уже отослано было в тыл несколько сигналов.
— Тема дискуссии такова — «Перспективность однопартийной политической системы в свете трудов князя Кропоткина».
Нанеся этот последний удар под дыхало, Мемозов встал и удалился, и вконец уже задрюченному Борщову послышался в его поступи звон далеких революционных шпор.
— Серафима! Лада моя! Где ты? — возопил Борщов в ту сторону хлеборезки.
Кошмарный эмиссар вдруг на миг вернулся в щель двери ухмыляющейся кошачьей рожей.
— А об этом, Бурячок, можешь узнать в Научном Центре. особенно в ядерных проблемах и в генетике. Там кое-кто кое-что знает о твоей Ладе.
В гостинице «Ерофеич», невзирая на пургу, скольжение лифтов в стеклянных пеналах шло своим чередом. Здесь жили очень богатые иностранцы и очень бедные иностранцы. Богатые из-за старости жевали сухие брекфесты, бедные по молодости лет ярили зубы на все наше национальное и все получали. Но нет правил без исключений, которые подтверждают все правила без исключения. Один иностранец, самый богатый, Адольфус Селестинн Сиракузерс, завтракал жирно и сладко и увеличивал сладость жизни к вечеру под вьюжным небом до апогея, так что и родину забывал, далекую мясную державу.
В тот момент, когда Ким Морзицер явился к новому другу на творческое совещание, Мемозов как раз угощал собой этого иностранца, похожего на гигантскую плохо упакованную клубнику, и сам угощался этой клубникой, то есть наслаждался фыркающим вниманием.
Авангардист разглагольствовал, гуляя по своему номеру в самурайском шлеме с крылышками, в вязаной майке из шерсти лемура, в шотландском килте. Погибло все мое, с неожиданной тоской подумал Кимчик. все мои задумки и планы: новогодний пир в землянке, дискуссия «Горизонт», античное шествие в годовщину падения Трои — все погибло, все он пожрет, ну и пусть, как все это глупо и старомодно, все это «мое» — неловко, потно, колко как-то, все это ни порядок ниже «его» — современного.
Авангардист разглагольствовал:
— Моя задача, сеньор Сиракузерс, скромна. Всюду, где я есть, где я имею себя быть, я произвожу раскачку, железным пальцем психоделического эксперимента бережу застойные мозги, по-вашему, брейны. Гомо не должен торжествовать себя на крепком стуле, а должен суицидально барахтаться в водовороте парапсихологии, это его естество, а себе я глории не ищу, не надо. Понятно?
— Натюрлих, — фыркнул Сиракузерс.
В глубине его, по клубничным капиллярам ленивым цугом протащились обрывки мемозовского монолога «иг-ри-мента-брейно-гомо-сих», и все заволокло дымом.
— Это цель, — возгласил авангардист. — Каковы средства? Их у меня тысячи, сотни, десятки! Начну с древнейшего, с благороднейшего, с так называемой сплетни. Уш даз ит мин — «сплетня»? Ваш обычный иностранный «гос сип»? Нет! Сплетня, — запел Мемозов вдохновенно, держась на всякий случай за батарею отопления, — это птица Феникс, возрождающаяся из золы бургеазных устоев. Сплетня — это неопознанный летающий объект, мохнатый выкидыш грозовой ночи.
Возьмем пример. Унылая фамилия за супом. Суп макаронный, капли жира мгновенно застывают, обращаясь в статичные вечные пятна, эти ордена за целомудренную скуку. Вдруг отключается электричество, иссякает газ, ледяным мхом зарастает батарея, в распахнувшееся окно, как призрак антимира, как шар. пирамидка, голубь, карандаш, наконец, влетает сплетня.
Посмотрите, жировые пятна превратились в волшебные свечи, а квартира в пещеру Аладдина. Зерна безумия, светящиеся пунктиры разлада, сполохи униженных самолюбий, жертвенные факелы сатисфакций превратили мир стареющего интеллектуала-нюхателя в трепетный, таинственный, обратный и потому истинный мир-спектакль, жизни содрана слоновая шкура, в складках которой гнездится столько мельчайших паразитов, не мне вам говорить. Ю си?
— Бардзо, — фыркнул Сиракузерс и брякнул кулачищем по столу, почему-то вспомнив юность, бои за индепенденцию, аукцион крупного рогатого скота в Мар-дель-Плата.
— Все уже отброшено, все наносное! — вскричал в возбуждении Мемозов. — Забыты трудовые книжки и премии, и все ваши жалкие мезоны, хромосомы, кванты, кварки. гипотенузы, и ваша ржавая Железяка — все брошено ни свалку! Вы поняли меня, синьор? А теперь — убирайтесь!
— Кванто фа? — фыркнул Сиракузерс и вынул для расчета толстый бумажник, набитый чеками серии «Д».
— Ах так? — выкрикнул Мемозов. Он вдруг увидел в (осте заклятого врага, плутократическую мамону. В руках него появилось тяжелое ожерелье — онежские вериги вперемежку
с гантелями. — Гет аут. грязный шарк! На бойню! На свалку!
Адольфус Селестина уже не клубникой, а малиной выкатился в коридор и спросил себе литовского квасу.
Безусловно соло нового друга — торнадо (именно так, торнадо — Друг) произвело огромное впечатление на Кимчика. Это ж такая сила! Такой экспресс! И лишь в одном месте сквозь мертвую зыбь восторга прошел ручеек тусклого негодования. Да как же это так, подумал в этом месте Кимчик, ржавой Железякой дразнить нашу Несравненную? Ему даже показалось «в этом месте», что за темными окнами люкса всплеснулась какая-то березонька, некий беззащитный стебелек. Какая-то ошибка, должно быть.
— Это ты, старичок, ошибочно, конечно, пошутил насчет нашей Желеэочки? — осторожно спросил он.
Непонимание, вечное непонимание угнетало порой Мемозова. Смотришь Брейгеля, он тебя не понимает. Слушаешь Рахманинова, чувствуешь — музило тебя не понимает, недотянул. Читаешь Пушкина, Вольтера, Маяковского — не понимают Мемозова монументы!
Глянешь иной раз на географическую карту, она тебя не понимает! Ни Азия с Европой, ни остальные материки со всей островной мелочью, не говоря уже об «одной шестой», не понимают тебя, больше того, даже не пытаются вникнуть, понять.
Вечная оскомина, изжога, отрыжка непонимания.
— Какая досада, — сморщился Мемозов, — какая го речь в ухе, под языком, вот здесь, когда тебя не понимают.
Ким малость похолодел. Лишаться мощной дружбы не хотелось.
— Принесли? — сквозь губы спросил друг-торнадо.
— Вот оно! — Ким извлек первое выполненное задание — одолженную в музее банку с глубоководным спрутом, отнюдь не красавцем для инертного земного глаза.
— Изрядно, — процедил Мемозов, сумрачно созерцая небольшого монстра. — Вот она, Банка-73, глубоководный, немой, слепой, жуткий брат.
Ураган ураганом, а жить надо. Нужно варить суп своему чудовищу, нужно облагораживать полуфабрикаты, не ста свою скорбную женскую вахту у плиты, и это несмотря на бессовестные его подстрочники, на эта тетеревиные токования в адрес какой-то шлюхи, ах, видите ли — лирическая героиня, а я уже только в кухарки гожусь.
Так думала удивительная красавица, двигаясь в самом центре бурана среди ярчайших огней под крышей торгового центра. И капли бурана слетали с пушистых ресниц! ()на, казалось, была создана для гибкого оленьего сторожкого скольжения в хрустальных каналах супермаркетов, она облагораживала собой лабиринт прогрессивной торговли, внося сюда кинематографическую таинственность и своей собственной уже «тианственностью», неопределенной смутной улыбкой она придавала и всему обществу потребления из села Чердаки некий романтический, дерзкий «чуть-чуть», и ей — такой! — отказано в праве быть лирической героиней!
Но все-таки она была довольна своим скольжением и отражением в многочисленных зеркалах, которые, лишь она появлялась, становились как бы страницами «ВОГа». И так она в сладком терзании проскользила мимо секции овощных консервов и не заметила даже, как оказалась в галерее сухофруктов, где и содрогнулась.
Урюк! Сморщенный вяленый вкусненький предатель абрикос с лакомой еще к тому же косточкой. О, эти урюки, страшно вспомнить бесконечное неотвязное жевание, лежание с жеванием и чтением на продавленной тахте, фиктивное переворачивание страниц, жаркая вялая дрема, липкие пальцы, чуть-чуть похрустывающая в надоевших, но неутомимых зубах урючная грязнинка и жевание, жевание, жевание.
Отрочество и золотая пора ранней юности были под угрозой. Сухофруктов в доме жреца Нефертити было изобилие, и все любили жевать, якобы читая, якобы наслаждаясь музыкой, и лишь неискушенное дитя — сестренка — откровенно жевала урюк, лежа на боку и укрывшись с головой одеялом. Урюк, сколько погубил ты тианственных магнитных красавиц, блистательных интеллектуалок, сколько округлил талий, сколько книг ты сжевал и сколько дивных мыслей растеклось в твоей сладкой жижице!
Так и сейчас, как в отрочестве, ей скулы свело от желания урючной оскомины, и она сделала немалое усилие, чтобы пронзить галерею сухофруктов и на выходе резко, киношно купить в лотке бутылку шампанского. Шампанского! Зачем?! В противовес урюку! Танго «Брызги шампанского»! Как-то в полуархивной плюшевой липкой одури, в урючной истоме попался в руки журнал красивой жизни «Столица и усадьба», 1915 год. С пожелтевшей малость страницы улыбалась графиня Нада Торби, супруга принца Джорджа Баттенбергского, правнучка А. С. Пушкина, сестра милосердия в лазарете памяти В. Ф. Комиссаржевской. Высокая красавица в косынке с крестиком улыбалась тианственно, и хоть несла она корзину с корпией и бинтами, а на задворках памяти плясало шампанское! Брызги! Вальс! Комильфоты в масках!
Открыв без стука дверь «Директор», красавица скользнула внутрь.
— Не возражаете, Крафаилов? Бутылку шампанского?
Крафаилов вскочил со стуком и вытянулся. Молоко ушло в ноги, а кровь забушевала в щеках, в ушах, в груд ной клетке. Вот оно — испытание! Пришла какая-то люби мая, несравненная, с бутылкой шампанского!
— Шампанское? Любопытно! — В углу в кресле сидела мадам Крафаилова с букетиком бельгийских скоростных гвоздик. — Это в честь чего же?
№ 71
Когда ты болеешь, город становится отвратительным.
Весь ренессансный город от врат его до укромных
фонтанов,
от куполов до мраморных плит.
и даже парк, где шумит лигурийская ель.
и даже харчевни, где пьют ароматнейший эль.
и даже сладкий кондитерский дым
становится отвратительным.
Когда ты болеешь, день становится тошнотворным.
Небо, как прокисший творог, не превратившийся в сыр,
ветер, как жирный лоснящийся вор.
птицы и провода, как клочки бессмысленных нот
бездарной додекафонии.
и пляж вдоль реки, как ошметки погасших жаровен,
и звук лирический, полдневный блюз
суть дым химический, бензинный флюс.
Когда ты болеешь, когда ты лежишь, перепиленная
болью, под мостом Бонапарта Луи,
течение реки кажется мне преступным…
— Черт! Перфокарта оборвана, а наизусть не помню, — замялся Вадим.
— Достаточно. Насколько я понимаю, этот подстрочник посвящен моей жене? — Павел был очень спокоен.
Что? Китоусов споткнулся на твердой снежной тропе и дико глянул назад на Павла, как будто тот шарахнул ему вопросительным знаком по загривку. Равновесие было потеряно, и фигура Вадима нелепо закачалась на тропинке, грозя рухнуть в полутораметровый снежный пуховик.
Семидневный буран был на исходе. Отдельные партизанствующие вихри еще врывались в город, но в небе уже там и сям мелькали размытые намеки антициклона. За семь дней город опустился в снег по самые форточки первых этажей, но были уже утоптаны первые тропки, движение по которым наполняло прогулки прельстительным риском — оступишься и утонешь, если ты дитя, лилипут или даже гигант, но нетрезвый.
И вот Вадим Аполлинариевич уже качался, а Павел Аполлинариевич медленно поднимал руку для поддержки, борясь с естественным инстинктом — толкнуть.
— Да почему же твоей жене?
— Ну вот, «перепиленная пополам» — это ведь моя жена, не так ли?
— Вздор! Это лирическая героиня. Да разве лежала Наташа когда-нибудь под мостом Бонапарта Луи?
— Где этот мост?
— А черт его знает, стихи не мои. Прислал коллега из ПЕРНа, у них там компьютер сочиняет. Ой, падаю!
Молодой ген человеческой солидарности нокаутировал древний ген вожака стаи и дал команду руке, и та немедленно схватила друга за плечо. Теперь закачались оба Аполлинариевича, а ведь были совершенно трезвые.
— А вот помнишь, на той вечеринке, когда мы пели фронтовые песни? Ты тогда очень часто на Наталью оборачивался, даже наш главный сын Кучка заметил и мне сказал.
— А ведь я тебе ничего не припоминаю, Павлуша, а ведь мог бы.
— Подожди, Вадим, не думай, что я ревную, я ведь знаю, что ты не предатель и я не предатель. Просто, может быть, мы помним о какой-то немыслимой встрече за пределами нашей жизни, вернее, за пределами этого мгновения. когда мы с тобой качаемся на бревне, за пределами во все стороны — ты понимаешь? — не может быть, чтобы не было в нашей памяти кнопочки этой встречи, а? Где это было, где это будет, в каких слоях времени, на берегу каких озер, пресных или соленых, горных или подземных, мы не знаем, но вот включается кнопочка, и мы смотрим вокруг тем далеким глазом и оборачиваемся, как ты вот оборачивался, Вадик, на мою Наташку, к примеру, или на Лу Морковникову, или, к примеру, старик, на твою тианственную Марго; ты понимаешь? Абстрактно? Да хотя бы и на Серафиму Игнатьевну ты оборачиваешься, к примеру, ведь это же настоящий чарльстон. Золотые Двадцатые годы!
— Пить хочу, — пробормотал Вадим и рухнул с тропинки в снег, погрузился едва ли не по горло.
Естественно, вслед за ним повалился и Павел. Они поползли сквозь снег к нежному холмику, где рядом с засыпанным киоском торчала шляпка водоразборной колонки. Павел взялся за рычаг — качать, а Вадим припал жадными устами к ржавому крану. Много лет уже колонка не действовала, но тут дала порцию подземной, газированной чертями воды.
— Ах, Вадюша, — прошептал Слон.
— Ах, Павлуша. — прошептал Китоусов, лежа на спине и переполненный водой. — Посмотри, Павлуша, в небе колодец какой открылся и с искоркой. Быть может, Дабль-фью к нам летит, а? Мезоны-то уже неделю пляшут.
— Ах, Вадюша, я в Москву хочу слетать за живыми цветами, — вздохнул Павел.
— Возьми меня с собой, — попросил Вадим. Вдруг близкий и неприятный клекот раздался над друзьями. На дорожке в алеутской шубе с гималайским орлом на левом плече стоял Мемозов. В пальцах его трепетал небольшой листочек.
— Я прошу прощения, монсеньоры, за неделикатное вторжение, но мне показалось, что столь интимный дуэт нам трудно будет завершить без последнего кусочка седьмого подстрочника.
Мемозов дал обрывок перфокарты в клюв своему орлу, и тот двумя взмахами крыльев перенес его Китоусову, даже не взглянув на текст.
— Где взяли? — хмуро спросил Вадим.
— На вашем письменном столе под портретом Наталии Слон. Должно быть, Ритатуля поставила портрет вам но рассеянности. Портрет удачный, забудешь и о доблести, и о подвигах, я вас понимаю. О славе — молчу.
— Вас Маргарита впустила или дверь взломали?
— Эх, Вадим Аполлинариевич, — притворно вздохнул Мемозов, — есть сотни способов проникновения в закрытые квартиры, а у вас в голове только два. Вот. например, один из способов. — И он показал друзьям английский ключ.
— Отдайте ключ, — попросил вконец зашельмованный физик.
— Отдам, но не вам, Павел Аполлинариевич, держите! Натали потеряла этот ключ в «Ледовитом океане». Я нашел, и мне показалось, что он подойдет к дому Китоусова. Не ошибся. Надеюсь, эта маленькая штучка не приведет к трагическому апофеозу, ведь это всего лишь ключик, а не батистовый платок, и автор ваш далеко не Шекспир, а я не призываю чуму на оба ваших дома.
Авангардист уплыл в глубины микрорайона, но друзья того даже и не заметили. Теперь они стояли в снегу, ожесточенно конфронтируя друг другу.
— Почему твой ключ подходит к моей квартире?
— Я бы тоже это хотел узнать.
— Ну знаешь. Пашка!
— Ну знаешь. Вадим!
Драться не будем — глупо! Как унизительно вот так стоять и терзаться. Давай-ка лучше унесем свои головы в другие свободные пространства. Головы медленно поплыли над снегом, ибо тело в снегу тормозилось сильнее, чем в воздухе.
— Вадим, Вадимчик, сыграй вот это «После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок». Ребята, кто помнит?
Да кто же из нас не помнит? Песни старших братьев мы помним и сейчас, может быть, даже больше, чем мелодии собственной юности. Вы помните — авиационное училище маршировало по Галактионовской со свертками из бани, и сотни молодых глоток разом, лихо, отчаянно пели грустную песню:
Не забывай, подруга дорогая.
Про наши встречи, клятвы и мечты!
Расстаемся мы теперь,
Но. милая, поверь.
Дороги наши…
Разворот плеч и отмашка левой, серебряный кант голубых погон, пилотки, сдвинутые на бровь, — без пяти ми нут офицеры, летчики-пилоты, бомбы-самолеты, мы пар ни бравые, бравые, бравые, но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо.
Пора, пора в путь-дорогу, они улетают, и у них в руках «Яки», «Илы», «Петляковы», у них в руках оружие, у них и руках память об оставшихся девушках, этих дурбин-целиковских в бедных маркизетовых платьицах, что трепещуг над острыми коленками весело и насмешливо — наплевать на войну! Мне кажется, что тогда люди не чувствовали, как уходит юность, и не считали прожитых лет.
Мальчики улетали в центр мировых событий так же, как улетали их английские, и французские, и американские ровесники, свободолюбивое человечество.
Союзники, вы помните, ребята, как вдруг к нашим волжским старым городам приблизилась Атлантика, как она взлетела к нам тогда из кинохроники, мохнатые волны, ощетинившиеся спаренными и счетверенными зенитками, торпедные залпы, клубы дыма, и вдруг к кинокамере оборачивались узкие смеющиеся лица англичан.
На эсминце капитан
Джеймс Кеннеди,
Гордость флота англичан.
Джеймс Кеннеди!
Не в тебя ли влюблены,
Джеймс Кеннеди.
Сотни девушек страны?
Хей, Джимми!
Что ж, нашим старшим братьям, как и нам, становилось веселей оттого, что какой-то детина из Канзаса перед отправкой на фронт нашел себе «чудный кабачок и вино там стоит пятачок», да и тем морякам, летчикам и коммандос, должно быть, становилось теплей оттого, что вдоль бесконечного Восточного фронта «бьется в тесной Печурке огонь» и «на поленьях смола, как слеза» и прежде загадочному, а теперь близкому Ивану, свободолюбивому homo sapiens, поет, все поет и поет гармонь «про улыбку твою и глаза», а Гансу, этому homo, обманутому нацистами, становится холодно от этого огонька, и нервные пальцы берутся за аккордеон.
Если я в окопе
От страха не умру.
Если русский снайпер
Мне не сделает дыру.
Если я сам не сдамся в плен,
То будем вновь
Крутить любовь.
Под фонарем
С тобой вдвоем.
Моя Лили Марлен…
Эге, забыты уже штурмовые гимны — «Die Fahne hoch! Sa marschlert» — уже почесывается Ганс, кажется, мы опять откусили цукеркухена не по зубам, моя подружка Лили, и не поможет нам уже никакое вундерваффе, и ничего, кроме твоих колен, колен твоих их либедих, моя Лили Марлен.
Лупят ураганы!
Боже, помоги!
Я отдам Ивану
Шлем и сапоги…
— Браво, браво, мальчики! Ой, как смешно сейчас Самсик подыграл на саксе «Барон фон дер Пшик» — помните? — покушать русский шпиг давно уж собирался и мечтал.
— А помните начало:
Вставай, страна огромная!
— А ведь это и сейчас звучит здорово, вот послушайте:
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать…
— Не смеют, не смеют, не смеют крылья черные над Родиной летать!
— Мальчики, у меня просто мурашки бегут по коже от этих песен.
— Давайте выпьем от мурашек!
— Если сейчас выпьем, я разревусь.
— А смотрите-ка, у Пашки уже глаза на мокром месте. Неужели растрогался. Слон?
— Я не знаю, ребята, что это сегодня с нами? Вот ты поешь, Краф, «день погас, и в голубой дали», а передо мной так и мелькают отроческие картины, эвакуация, голодные шальные прогулки по перенаселенному городу, всегда бегом, всегда со свистом, с чувством близкого чуда.
Трамвай 43-го года
— Я помню разболтанный, мотающийся из стороны в сторону вагон трамвая. Четыре мощных парня в пилотских куртках курили на задней площадке. Трамвай был убогим, без единого целого стекла, и грохотал он по убогой улице, где сквозь ржавые и гнутые прутья садовых решеток. сквозь смиренно тлеющий осенний парк сквозили кирпичные стены смиренной, иждивенческой скудости, тихого угасания, заброшенности. На меня всегда навевала тоску эта улица, но парни шумно курили крепчайший табак и топали отменными сапогами и каждым своим движением как бы говорили мне, хилому школяру: «Не дрейфь, перезимуем, не угаснем», — а потом они вдруг стали выпрыгивать из трамвая, не дожидаясь остановки.
— Давай, Ермаков! Вали, как из «Дугласа»!
И пошли один за другим.
— Мы любили их.
— Мы их любили и завидовали.
— Как говорится, «хорошей завистью».
— Конечно, хорошей, но если быть честным, это была не совсем чистая зависть. Хорошая, но уже не совсем чистя зависть, к нашим косточкам уже притрагивалось либидо. Мы завидовали их пилоткам, звездочкам, их оружию, их боям в рядах свободолюбивого человечества, но мы завидовали уже и их встречам, и их разлукам, и синему скромному платочку, что «падал с опущенных плеч», и вальсы «в этом зале пустом» чрезвычайно трогали наше воображение.
…и лежит у меня на погоне
незнакомая чья-то рука…
— Браво, Эрик! Очень трогательно.
— Вздор! Что же нечистого в этой зависти? На мой взгляд, прекрасная зависть.
— Я именно это и имею в виду. За границей детства — волшебный аромат извечного греха.
При упоминании «извечного греха» в глубине Слоновой квартиры скрипнула дверь и послышалось хихиканье. Наташа прислушалась и улыбнулась.
— Я вспомнила, как наш главный сын Кучка пел романс:
.. как мимолетное виденье,
в огне нечистой красоты…
А когда я ему растолковала, что тут нечто другое, он был огорчен. В другой раз я заметила, что он часто употребляет термин «развивающиеся страны» и ему кажется, будто это такие страны, которые развеваются, как флаги. В этом он долго упорствовал, а на слове «коньяк»…
В глубине квартиры вдруг стукнула дверь детской, и перед обществом явился рослый двенадцатилетний акселерат — главный сын Кучка, суровый и со скрещенными на груди руками.
— Я и сейчас считаю, что коньяк — это не город во Франции, а конь с рогами яка, который на этикетке, а вы, взрослые, ничего не понимаете, потому что живете в волшебном аромате из млечного греха. Кроме того, горланит! песни можно и потише. Младшие дети кряхтят во сне.
Сказав это, главный сын развалился прямо в пижаме на ковре и помахал рукой несколько смущенным гостям.
— Продолжайте беседу, не смущайтесь. Я вполне полноправный член этой семьи.
Мы летим, ковыляя во мгле.
Мы ползем на одном лишь крыле,
Бак пробит.
Хвост горит,
Но машина летит
На честном слове и на одном крыле! —
тут же все спели хором.
— Что касается зависти, то я и сейчас им завидую. Я и сейчас жалею, что не родился на десять лет раньше и не был среди фронтовиков. Освобождать народы — завидная доля!
— А мы устремились в спорт, — сказал задумчиво Павел. — В сущности, мы были первым поколением, всерьез занявшимся спортом, и мы первые прыгнули в длину на восемь, а в высоту на два шестнадцать. Помните Степанова?
— Сравнил божий дар с яичницей. Сколько славных ребят погибло, и детей они родили гораздо меньше, чем мы.
— Теперь уже кончился весь наш спорт, за исключением яхт, стрельбы и, конечно, новозеландского бега. Недавно я был в Лужниках на легкоатлетическом матче, и там в забеге на 10 000 участвовал один ветеран.
Федя
Знаете, как это бывает на десятитысячнике, — лидеры обогнали аутсайдеров почти на целый круг, и Федя, бежавший последним, на короткое время как бы возглавил бег.
— Давай, Федя! — добродушно смеялись трибуны. — Жми, Федя! Жми-дави, деревня близко! Федя, лови медведя! — и прочую чушь.
Я и сам кричал что-то в этом роде, ведь на стадион люди ходят в основном для того, чтобы почувствовать общность с тысячами других людей, для того чтобы было общее чувство, вместе захохотать, вместе прийти в восторг, имеете возмутиться, вместе торжествовать.
В гонке участвовали парни хоть куда — ладные, загорелые, в мастерски подогнанной форме, с летящей манерой бега. Лишь два бегуна были невзрачны — действительный лидер, непревзойденный еще никем у нас малыш, и этот анекдотический лидер Федя, тоже маленький, сутулый и какой-то бурый, и трусы на нем висели мешком, и майка линялая, эдакая команда «Ух!», город Тмутаракань Пошехонского уезда Миргородской волости.
Я никогда не любил таких серяков, потому что сам всегда был ну не лидером, но в первой десятке, именно вот таким. как все остальные бегуны, — загорелым, ладным и с летящей манерой бега.
Федя этот вызвал во мне даже некоторое раздражение — куда. мол. он туг со своей клешней в табун мустангов?
А он все бежал круг за кругом, некрасиво, кособоко, но бежал, не обращая внимания на мое раздражение и на смех трибун. Лидеры обогнали его уже на два круга, потом еще больше, потом они кончили бег с рекордом стадиона, а он все бежал и бежал да еще и попробовал догнать пред последнего молодца с длинной, как у Мемозова, шевелюрой, но не догнал, а только сбил себе дыхалку и заканчивал дистанцию уже мучительно, совсем уже оскорбительно для глаза.
— Федя! Федя, лови медведя!
Сидевший рядом со мной толстый одышливый кавторанг тихо сказал:
— Между прочим, Федя был чемпионом профсоюзов и 1956 году. Горько слышать этот смех, ведь он старше всех других на пару десятилетий.
Ах, Федя, Федя, попробуй его отыщи теперь под трибу нами, в потных раздевалках, забитых молодежью, попробуй пригласить его на кружку пива, чтобы сказать: я преклоняюсь перед тобой, последним турнирным бойцом нашего поколения.
— …Теперь еще посчитай количество радикулитов, язв и вегетативных дистоний, а потом мы все хором поплачем.
Шутка повисла в накуренном воздухе, за окнами взвыл вихрь, кто-то кокнул рюмочку, а Самсик в углу еле слышно заиграл «Не говори мужчине никогда о его любви».
— В чем дело? — тревожно спросила Морковникова.
— Ничего, ничего, родная, не волнуйся, — прошептал Эрнест, — просто он что-то вспомнил.
— Я вспомнил кое-что из классики, — пробормотал Самсик, а на самом деле он вспомнил ритуал New-Orlean'e funeral, когда выходит весь состав, коричневые братья, и скорбно дуют в свою посуду траурную мелодию, а потом вдруг перелетают на бешеный ритм и всю ночь безумствуют, хохочут и топочут в память об усопшем. Так мы и начали свой вечер в кафе «Печора», но увы, мы не негры, а славяне.
Нью-орлеанские поминки
на Новом Арбате
Был вечер памяти Володи Журавского, барабанщика — может, слышали? Мы-то его все знали — ив Риге, и в Одессе, и в Хабаровске помнят его игру. Когда-то я играл с ним в квинтете Гараняна, а потом через много уж лет заехал как-то в Москву по бракоразводному делу и в «Синей птичке» увидел Володю в составе трио Игоря Бриля. Ну, вы же знаете, мне и рюмки не надо, чтобы завестись, и я играл тогда с ребятами чуть ли не до утра, потому что играли от живота, а не как-нибудь, настроение было хорошее.
Да с кем только не играл Володя Журавский — и в ВИА-66 у Юры Сеульского, и с Товмасяном, и с Козловым, и с Чарли Ллойдом в Таллинне, и с Намысловским в Варшаве. когда-то у него и свой был состав.
Вроде бы есть такое правило — о мертвых или хорошо, или «кочумай», верно? Но о Журавском при всем желании Никакой лажи не вспомнишь, а помнишь только хорошее.
В самом деле, не было лучшего спутника в путешествии, и когда ты выезжал вперед, ты был спокоен за свой хвост и видел перед собой только небо, ты знал, что он тебя ведет своими щеточками, и не трусь — дуй себе до горы из квадрата в квадрат и на верхушке не смущайся, потому что все в порядке, а в случае непорядка он сразу вздернет тебе узду, такой законный был барабанщик.
Я не знаю, где он сейчас — может, в другом измерении? — ведь он разбился в том самом самолете под Харьковом. Говорят, что отлетела плоскость и даже по радио сообщить не успели, все разом разлетелось в прах. Что это значит — в прах? Быть может, Эрик знает, ведь он знаком с высшей математикой? Значит — в прах разлетелся Володя Журавский, и где он сейчас, не ведомо никому.
Он и раньше разлетался в прах, когда играл соло и выбирался на верхушку. Любому из нас это знакомо, когда ты весь уже рассыпаешься вдребезги, пыль и угольки, но тут всегда вступят товарищи или весь состав и выдергивают тебя, как редьку из матушки-земли. Эх, у этого самолета не оказалось рядом товарища.
Кафе «Печора», знаете ли, огромное — может быть, на триста, а может быть, и на четыреста посадочных площадок. Там длиннейшая выдавалка, в глубинах — котлы и холодильники. девчонки в белых колпаках, слева касса, справа буфет с кирянством, и кирянство, между прочим, очень недешевое — марочный коньяк в коробках, больше ничего не было.
Когда наши начали собираться, в кафе еще много было обычных едоков, и они ходили со своими подносами и шу мели своей едой, а затихли только, когда Алеша Баташев поднялся на эстраду и объявил минуту молчания, но ни кухне, конечно, никто не затих. Напротив, какой-то реп кий голос в течение всей минуты вопил в пустоту «Шура, помидоры давай!» — как будто в резонатор, голос летел а какую-то дальнюю дыру, которой завершалось это кафе, а тоннель, где что-то светилось, кажется Старый Арбат.
Ну а потом, после Алеши, на сцену поднялся коллега Журавского барабанщик Буланов и десять минут играл а его честь один. У Журавского было странное осторожное лицо, слегка плоское, но с острыми углами, а когда он играл, лицо его становилось мрачновато-бесстрастным, как щит. Буланов — иное дело, этот на вид доцент, золотые очки, гладкий подбородок. Он и играет иначе, мягче, но в тот вечер он закусил губы, и мы почувствовали, как на самой верхушке он разлетелся в прах, словно Володя Журавский Они были большими друзьями.
Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, музыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше. Все были так красивы, что у меня сердце защемило от любви.
Бахолдин, Зубов, Гаранян, Козлов и Сатановский, Сеульский, Бриль и Товмасян, Лукьянов, Людвиковский — не знаю, как для кого, а для меня эти имена звучат таким же серебром, как Джо Кинг Оливер, да и Самсика Саблера не все еще позабыли в «Печоре», и в «Ритме», и в «Синей птичке», хотя, конечно, да ладно, чего уж там.
А меж столов старухи-уборщицы катали свои коляски, и там громоздились тарелки с остатками пищи, выеденные ломти хлеба, похожие на вставные челюсти, непрожеванная спинка чавычи, сбитый в сиреневые кучки гречневый гарнир, картофельное пюре, уложенное наподобие морских дюн, — золотое сытое время!
Все пришли в тот вечер, кто знал, а кто не знал, тот после жалел и тосковал, и все играли в этот вечер cool u hot, и все были в порядке, деловые и не сопливые, как будто и он был с нами, виновник тризны, как будто просто шикарный «джэм», и никого не развезло, и лишь временами из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали, а когда мы вышли на ночной пустынный Арбат, где пульсировала лишь реклама японских аэролиний, другой ветер, хмельной и с запахом снега, ветер резкого, но шаткого шага ударил мне в дыхало, и я даже на миг вспомнил юность и Бармалеев переулок на Петроградской стороне, но все это мигом промелькнуло, промчалось за каким-то лихим человеком вместе с патрульной машиной, а в углу перед фототоварами меня придушила изжога, и для того, чтобы выбраться из угла, я вспомнил слова Лени Переверзева.
«Прошу вас, сядьте, — говорил он публике со сцены перед началом большого концерта однажды, — прошу вас, прекратите стучать стульями, хрустеть фольгой, цокать языками, щелкать пальцами, сморкаться носами и хохотать языками при помощи зубов. Прошу вас — дайте музыкантам играть, ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна».
— Нет-нет, ничего. Луиза, я просто вспомнил вот эту тему ни с того ни с сего. — пробормотал Самсик, прошелся пальцами по клавишам и смиренно затих. Слово взял Великий-Салазкин и сразу же залукавился.
— Рано, рано, киты, ностальгию развели. Посмотрите-ка, в космос-то кто летает?! Ваша братия!
А в самом деле, ведь все космонавты — нашей, послевоенной генерации, и Юра, и Володя, и Борис, да и американские ребята! Ну вот, хоть и не воевало наше поколение, а зато первым на орбиту вырвалось, первым шагнуло на Луну и тем самым записалось в учебники. Да разве опять же дело в истории, в золотом тиснении, в жертвенном огне? Дело ведь в осознании себя и себе подобных, своих товарищей по жизни, дело в собственной памяти, которая может обойтись и без мрамора, и без других стойких мате риалов «Рожденные в года глухие пути не помнят своего». Мы — помним, и это наша удача. В конце концов и перенос семени тоже немаловажное дело, но если вместе с семенем передается еще и память, мгновение восторга и ненависть к преступникам, презрение к нечеловеческому и радость труда, то это дело — нечто более важное, чем жизнь высшего отряда приматов. И вдруг сквозь общий веселый гвалт, разговоры о спортсменах, артистах и космонавтах, о годах рождения и о памятных датах прорва лось зловещее:
— Вздо-о-р! Вззз-до-ор! Вздоррр!
То не злая струя бурана и не газ из болотного бочага, то не тойфель померанский и не татарский шурале, то обыкновенный человеческий голос гудит в вентилятор, саркастический голос «вздор».
А этому «вздору», проникшему к пиршественному столу, аккомпанируют на кухне визгливые звуки «дур-р-ра-ки», вылетевшие как будто бы из мусоропровода.
— Что это за новости? Должно быть, Кимчик что-ни будь придумал. В самом деле, куда пропал Кимчик? Наверное, он готовит сюрприз. Вот — звонят! Сейчас увидите — Кимчик явится с сюрпризом. Помните, на открытие «Выхухоли» что он придумал?
Главный сын Кучка ринулся открывать и вернулся разочарованный.
— Нет, это не Кимчик. Это просто животные пришли.
В дверях топтались, стряхивая снег, пудель Августин, сенбернар Селиванов и ворон Эрнест. Тщательно вытерев лапы, Августин и Селиванов вошли в комнату и улеглись на шкуру белого медведя. Здравствуйте, всемогущие люди, казалось, говорили они своими спокойными глазами, здравствуй и ты, шкура белого медведя. Твой бывший хозяин не пожелал стать нашим другом и потому поплатился своей шкурой, но ты, шкура белого медведя, ты наш друг, и мы на тебе лежим.
Эрнест взлетел на люстру поближе к вентиляции и многозначительно зеленым древним глазом глянул на сеточку, сквозь которую имеет свойство проникать порой в буран нечистая глупая сила. Чего-чего только не видел этот транссибирский невермор на своем многовековом веку и давно уже ничего не боялся, словно воин Чингачгук.
Визит животных всех успокоил, ведь все действительно немного взволновались — шутка со «вздором» и «дураками» была не похожа на кимовскую затею, Кимчик никогда не придумывал ничего зловещего.
— Здравствуйте, добрые звери, и спасибо за внимание. Мальчики и девочки, давайте-ка еще споем! Давайте из того же репертуара.
На позиции девушка.
Провожала бойца.
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами…
Вдруг вентиляция бурно и издевательски захохотала, а мусоропровод заклокотал в хохотальных рыданиях.
— На свалку! Вы все — торопитесь на свалочку! Лос! Лос! В органический синтез! — забормотали эти коммунальные системы, кем-то поставленные на службу недоброму делу.
— Да это же мемозовская хохма. — смущенно догадался Великий-Салазкин. — Ничего, а? Остро, правда?
— Халтур-ра! — прокаркал ворон Эрнест прямо в вентилятор.
— С Мемозовым мы вас по-прежнему не поздравляем, В-С, — надулись «киты». — Похоже на то, что он объявил войну нашей Железочке.
— Он устраивает какой-то сеанс медитации. Не надо соглашаться.
— Еще подумает, что трусим. Надо вывести его на чистую воду. Спустить за борт! Недельный запас провианта— и адью.
— А я не согласна, — вдруг заявили женщины устами Маргариты. — Мне кажется, что Мемозов внес некий аромат в нашу жизнь. Он пахнет остро, как смесь «Балансиаги» с «Тройным» одеколоном, и вообще иногда в предвечерние часы приятно видеть в перспективе хвойного проспекта его огнедышащую фигурку на серебряных кругах.
— Я не благодарю вас, вумены, нимфы, сирены, гетеры и одалиски, — сказал Мемозов, мгновенно входя в комнату без всяких предупреждающих звонков, стуков и покашливаний. — Я не благодарю вас, а просто лишний раз отмечаю ваше превосходство над кланом засонь, обжор, пьяниц и рогоносцев. Браво, Клеопатры! Браво, Мессалины!
Он повернулся к хозяйке дома и передал ей кусочек горного хрусталя с заключенным в него миллионы лет назад эмбрионом плезиозавра.
— Это не подарок, мадам физик, а всего лишь пароль, и смысл его вам, конечно, ясен. Мой подарок явится позднее, а сейчас перед тем, как выслушать ваш рассказ, то есть перед длительным молчанием, позвольте заметить, что я вовсе не воюю с вашей Железкой. Она мне скорее не отвратительна, а безразлична. Она всего лишь предмет, а предметы для меня — это семечки, уважаемый женский ум и вы, умы обоих полов. К бессловесным тварям я не обращаюсь. Итак, я умолкаю. Это жертва вашему идолищу.
Он медленно прошел по комнате, закрыл крышку пианино, взял со стола блюдо рыбы и застыл в углу.
Несколько минут прошло в напряженном молчании, что-то тревожное, похожее на первые симптомы эфирного отравления, возникло в замкнутой атмосфере пира.
— Наташа, я волнуюсь, — проговорили мужчины. — О чем ты хотела рассказать?
— Да ни о чем, — задумчиво промолвила хозяйка, вертя свою божественную прядь. — Но вот когда Мемозов назвал нашу Железку «предметом», я почему-то вспомнила краеведческий музей в Литве.
Предметы
Музей помещался в еще не старой красной кирпичной кирхе, чья кровля среди сосен так замечательно гармонизировала пейзаж песчаной косы.
Оказалось, что в кирхе остался орган и там дают концерты артисты из Вильнюса. Однажды мы с Кучкой отправились слушать старинную музыку. Конечно, брутальный мальчик сначала долго орал «Не пойду!», «Бр-рахло!» Др-рянь!» — но потом скромно и быстро собрался и отправился со мной, и я даже заметила, что он немного нервничает от нетерпения и любопытства.
Играли в тот вечер Свелинка, Фробергера, Муффата, Баха, Вивальди и пели к тому же из Моцарта, Генделя, Глюка и Скарлатти. Ах, вы знаете, я это люблю! Знаю, что модно и что еще моднее не следовать моде и не любить старинную музыку, но не могу тут выпендриваться и думать о какой-то собачьей конъюнктуре — пусть модно или немодно, мне все равно.
Вот, кстати, любопытная штука: когда-то ведь все мы, так называемые интеллектуалы, начали слушать музыку храмов из чистого снобизма. Время прошло, и музыка победила. теперь я вхожу в нее, как в реку, и она струится по моей коже, как сильный теплый дождь, а на горизонте в июльской черноте вспыхивает тихими молниями. Спасибо тому старому снобизму.
Но здесь, собственно говоря, хочется говорить не столько о музыке, сколько о предметах, о жизненной утвари старого курша Абрамаса Бердано.
Начнем с портрета, ибо там был и портрет. В манере старых мастеров мемельского овощного рынка был изображен Абрамас Бердано в зените своего могущества, однако уже перед спуском. Голову его венчала кожаная зюйдвестка домашней выработки, а под зюйдвесткой в облаке библейских, истинно авраамовских седин гордо и спокойно возвышалось красное лицо в крупных морщинах, а глаза его с простой голубизной смотрели на обширный, но привычный балтийский дом.
Рыбацкое племя куршей много веков населяло странную землю, вернее, песок, сто верст в длину и три в ширину. Говорили они по-литовски, а на храмы свои ставили лютеранский крест. Они все делали сами, своими руками, они изготовляли предметы, и с самого начала и до самого конца жизни они делали эти предметы, в этом и состояла их жизнь, и наш Абрам Бердано все себе сделал сам, отнюдь не думая, что когда-нибудь его вещи станут музейными экспонатами.
Сначала он сделал себе колыбель, в которой и лежал, прося у матери молока. Он не забыл и об удобствах — колыбель можно было подвешивать к потолку или качать материнской ногой. Потом он сделал себе лыжи, но предварительно, конечно, он сделал себе нож. Потом он сплел себе сеть, сделал ловушки для любимого гостя, саргассового угря, сделал сачки, вырезал весла и, наконец, построил баркас и сшил паруса.
Началось второе великое дело его жизни — он стал строить себе дом и построил его. Затем он сделал прялку для своей жены и два отличных узорных флюгера — один на крышу дома, другой на мачту баркаса. На деревянных этих флюгерах Абрам Бердано вырезал свои сокровища, всю красоту своей жизни — свой дом, свою корову, свой баркас — и покрасил тремя красками: красной, белой и синей.
Отдыхая, Абрамас Бердано пил самодельное пиво и делал коньки для катания себя и своих детей по прозрачному льду Куршио Марио в веселые дни Рождества и Пасхи.
Затем он сделал себе гроб и крест.
Теперь все эти предметы стояли перед нами в его церкви. начиная с люльки и кончая крестом, и музыка европейского Ренессанса как бы освящала их, делала их как бы предметами культа.
Сачки, багры, сети, паруса, бочки, обручи для бочек, лампа, стол, веретено, там в глубине на белой стене висели даже орудия пытки, эдакие страшные, в человеческий рост клещи. Уж не истязал ли себя Абрамас Бердано для того, чтобы быть причисленным к лику святых в лоне краеведческого музея?
— Нет, мама, это не орудия пытки, — сказал мне взволнованный Кучка. — Это не орудия пытки, отнюдь нет. Там написано — это щипцы для доставания льда из проруби. Это не орудия пытки, нет-нет, это совсем не орудия пытки.
Он повторял это шепотом до самого конца концерта, мальчик, ему очень хотелось, чтобы жизнь Абрамаса Бердано прошла без мучений.
Она и действительно прошла без мучений, простая долгая жизнь балтийца, но все ж и без мучений она, на мой взгляд, была освящена и люлькой, и крестом, и всеми другими предметами, которые он сделал сам, тем более что сейчас эти предметы столь торжественно и в то же время скромно, мирно и волшебно освящались музыкой, родившейся в других, куда более величественных мраморных храмах.
Итальянское мраморное кружево,
готические сталагмиты
— Смешно, — сказал Мемозов из-за рыбьих косточек. Все это время он работал над изысканным блюдом и сейчас возвышался, как дракон над останками жертв. — Очень смешно. Скажите, вы не пробовали подвергнуть эти предметы телекинезу? Воображаете, как заплясали бы все эти старые деревяшки? Еще смешнее получилось бы, чем с музыкой.
— Скажите. Мемозов, уж не собираетесь ли вы стать нашим пастырем? — спросил Крафаилов, тщательно маскируя свое негодование под маской холодного презрения.
— В пастыри я не гожусь, — скромно ответил Мемозов и забрал со стола блюдо мяса. — Я угонщик, конокрад и живодер, прошу любить и жаловать.
— Должно быть, Мемозов хочет подвергнуть телекинезу нашу Железку.
Этот полувопрос подвесил к потолку, словно ракету тревоги, лично академик Морковников.
Наступило тягостное молчание, и, надо признать, что. несмотря на презрение к Мемозову, все ждали его ответа с волнением.
— Объект громоздок, но не безнадежен, — потупив глаза к мясу и улыбаясь мясной вавилонской улыбкой, проговорил гость. — Павел Аполлинариевич, если вы собираетесь выставить меня на лестницу, учтите, карате дли меня пройденный этап и в арсенале у меня еще имеется таиландский бокс. Наталья Аполлинариевна, сдержите гнев вашего супруга посредством напоминания о гостеприимстве, этом биче цивилизованных народов. Друзья мои Аполлинариевичи. скоро вы поймете, что Мемозов гонит вас на новые пастбища к сладкой траве дурман под сень гигантских чертополохов. Рвите сами сплетенные вашим автором путы, а я сниму с ваших глаз катаракты Спокойно, друзья, без рукоприкладства, я отступаю, унося свое мясо, а на мое место приходит мой ассистент МИКРЕЦИЗРОМ, который раздаст всем медиумам приглашения на Банку.
Мемозов удалился то ли в двери, то ли в окна, то ли и стены, никто и не заметил, как он исчез, потому что вес обернулись на гремящую, пританцовывающую, напевающую фигуру в длинном желтом бурнусе, в огромных черных с верхней перекладиной очках на бритой голове, ни поминающей протез головы, то есть фальшивую голову безголового человека.
Никто не мог даже и вообразить, что под желтым бурнусом бьется робкое милое сердце их любимца Кимчика, так легко порабощенного и измененного новоявленным другом торнадо.
— Кто вы? — спросил, храбро выступив вперед, главный сын Кучка.
Взрослые все еще переживали безмолвие.
— Я мумия здешнего шамана, — скорее не произнесло, а дало понять явившееся существо. — Я дефект природы и газовый пузырь. Сто лет я облучал свою голову ультрафиолетом, пока не получился протез головы. Теперь я перед вами с приглашениями на сеанс контакта. Жизнь большого интеллекта невозможна без дефекта. Что касается дефекта, он съедает интеллекта. Жаден он, как саранча, и танцует ча-ча-ча!
Ударил бубен, веером вылетели из-под ног желтого балахона приглашения — сердечки, кружочки, треугольнички, склеенные из страниц индийской книги «Ветви персика».
Искусный и
благородный сердцем превратит трапезу нищего в пиршество князя.
— Остро, не правда ли? — спросили женщины.
— Согласен, — неожиданно для самих себя сказали мы.
Не потому ли, дорогая, что жизнь пошла наперекос? Нет. Просто Ночью Ветер Мая Шальную ласточку принес. И сдвинулись мои устои, в порт прибыл лайнер Кавардак», в лесу турусы на постое, а в чайнике кипит коньяк, летит мой конь
с рогами яка, в театрах бешеная клака, ответы ищет зодиак, бульваром рыщет Растиньяк, а я всю ночь в непонятном волнении.
— Все жаждут крови, даже дамы, — вопросительно утвердил на столичном углу среди затихающего провинциального бурагана Мемозов одинокой красавице в лисьих мехах и янтарных ожерельях.
Таисия прежде супруга сняла гипс и сросшейся помолодевшей рукой произвела с собой невероятное — завивку, подкраску, опрыскиванье — и вскоре неузнаваемой некрафаиловской красавицей выплыла в свирепеющий пурган.
— Халтур-ра! — прокричал в вентилятор ворон Эрнест, но оттуда лишь загудел ветер в ответ, а по мусоропроводу пролетела и кокнулась в ночи одинокая четвертинка.
В разгаре пира — помните? — Наталью перерезала пополам почечная колика.
Когда ты болеешь, когда ты страдаешь, когда ты
плачешь без слез, когда ты кусаешь губы», — продолжал работать поэт-компьютер в Европейском институте ядерных исследований на окраине Женевы.
Когда, когда, когда Невразумительные строки перелетали из Швейцарии в Пихты и обратно. Заело!
В разгаре пира дубовый стол с горячими закусками был перерезан вдоль телефонным звонком из Железки:
— Мезоны стали!
— Как так стали?
— Вот так, застыли в каре. Никакого намека на прежнее буйство. Стоят как ассирийцы или персы. Может быть, шарахнуть по ним тяжелой частицей, шеф?
— Еду!
Крупно усталые, сосредоточенные на одной идее глаза «шефа». Средний план! дряхлый разболтанный лимузин, не иначе из гаражей Аль Капоне, «шеф» за рулем, за стек лом вьюга. Панорама: войско Дария Гистаспа в зловещем безмолвии ощетинилось пиками, мезоны.
В последней попытке хоть что-то спасти привел Крифаилов своего безумного дружелюба на свой холм.
— Беру за рубль комплект — телекомбайн с прицепом плюс мельхиоровые вилки, а они у меня уже есть — брал с финским сыром. Значит, на мельхиоровые вилки покупателя найду и снова у меня рубль, и я тогда комплектом отовариваюсь в гаражном кооперативе, — тихо бормотал Агафон Ананьев и тихо пестрил золоченым карандашиком записную книжечку и как бы отгораживался локтем — никому, мол, не мешаю.
— Вот смотри, Агафон, Агафоша, дорогой ты мой человек! — не свойственным себе струнным призывным тоном проговорил Крафаилов и веерным жестом распахнул перед дружелюбом горизонт.
Он был уверен — проникновенное созерцание Железки исцелит помраченный дьявольским искусом разум Ананьева. Ведь чего проще, казалось бы, — стой и молчи, и зрелище родной, пронзительно любимой структуры, ее скромное, но удивительное полыхание в закатных снегах изгонит мышиную суету, наполнит сердце твое простым и мудрым блаженством.
Он глянул и сам со своего холма, и ужас хлобыстнул его лопатой ниже пояса — Железка в этот вечер ему не понравилась. Что же произошло, что изменилось? Да ничего не произошло, ничего не изменилось, но что-то неясное — го ли гнев, то ли раздражение, то ли просто сплин — проглядывало в любимых чертах и крохотная, желтая тучка стояла над пищеблоком физиологического вивария.
Да что же это? Неужто жалкая амбициозная заезжая личность может так легко прервать контакты, нарушить сокровенные связи нашей осмысленной, мирной и кропотливой жизни, исказить невыразимые черты нашей Железки, исказить невыразимое?
— …утюг обращаем в аккордеон вместе с канарейкой, и канарейку в мотор «Вихрь» плюс магазин «Детский мир», — тихо считал Агафон, глядя в разные стороны горизонта пустыни некомплектными глазами.
Однажды в морозное ведро антициклона местный самолет Жучок-абракадабра совершил удивительный, или, как в газетах пишут, памятный, рейс с цветами.
Пилоту Изюбрскому дяде Яше кружило голову полночным ароматом ЮБК и Кавказской Ривьеры, гремела в утлом аппарате бесшумная симфония запахов и красок, гремела в спину, шевеля лопатки, морозными воспоминаниями о третьей декаде жизни, струилась по позвоночнику немыслимая икебана из роз, тюльпанов, гладиолусов, пионов, хризантем, нарциссов, непорочных и пленительных маков, но руль он держал крепко — такая профессия.
Пассажиров в икебане как бы вроде и не было — таились, друг друга не узнавая, меняя черты лица хрустящим целлофаном.
Слава богу — долетели!
По слухам, роттердамская оранжерейная биржа дала в то утро непредвиденный скачок то ли вверх, то ли вниз — никто из инвеститоров не разобрался, но паника была большая.
Ну вот. Перед тем как завершить третью часть повествования, нам следует во избежание каких-либо упреков сказать, что в самый разгар пургана-бурагана, когда ничто и округе не летало и не крутило колесами, в Пихты при помощи ерундового произвола прибыл для спасения повести автор.
Он остановился в гостинице «Ерофеич», дав администрации подписку о немедленном выезде из отеля по первому же ея требованию.
Сейчас чемодан уже упакован, коридорная в зорком пенсне с инвентарным списком стоит на пороге, но автор — каков смельчак! — предлагает терпеливому читателю небольшой приз под названием
Инстинкты
Как известно, огромные собаки породы сенбернар в течение многих уже веков являются профессиональными спасателями. Каждый сенбернар от рождения снабжен инстинктом разгребания лапами снега, если под ним происходит замерзание человека. Пихтинский гигант Селиванов тоже не был обделен природой.
На исходе штормовой недели Селиванов гулял в районе засыпанного снегом горпарка, в секторе аттракционов. как вдруг почувствовал под собой на большой глубине биение теплого человеческого сердца.
Велика была радость хорошего, умного пса, когда в нем проснулся древний благородный инстинкт. Бешено работая всеми четырьмя лапами, одним хвостом, одним носом и двумя ушами, уподобляясь совершеннейшей спасательной машине, Селиванов в считанные минуты откопал человеческое тело, которое оказалось шофером городского такси Владимиром Телескоповым.
Владимир пребывал под снегом уже в состоянии клинической эйфории, улыбался ярко-синими губами, еле слышно пел песню Магомаева «Благодарю тебя». Пес. превозмогая запахи парикмахерской и бензоколонки, благоговея и ликуя, лег всем телом на Телескопова и в считанные минуты шерстью своей и мощным дыханием отогрел бедолагу.
— Сколько время? Десять есть? — таковы были первые слова Владимира.
Пес Селиванов в это первое тихое утро спас водителя Телескопова, а тот в знак благодарности подвез его до дома на такси.
Всегда до глубоких корней меня волнует взаимовыручка людей и животных.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
СКВОЗЬ СОН МЕМОЗОВА
…просит —
чтоб обязательно была звезда
хоть одна…
Владимир МАЯКОВСКИЙ
Почему все это происходит на квартире одного из нас, нашего любимчика Кимчика, а его самого не видно!
Мы входим. Нас встречает человек с протезом головы — каленый бильярдный шар в огромных черных очках с перекладиной непонятного назначения.
— Здравствуйте. Кимчик дома?
— Никого здесь нет! Никого! Ни мамы нет, ни папы нет. Никого! Бояться некого! Одна лишь ассирийская колдунья Тифона! Тифона! — поет протез.
Оставь насмешку всяк, сюда входящий, думаем мы Увы, насмешка не галоши. Стены типового коридорчики украшены дурацкими коллажами из плодовоовощных реклам, плесневелых иероглифов, баночек с заспиртованными сороконожками, птичьих лапок, скандинавских рук, таблиц и знаков каббалы. Тьфу, дешевка!
Затем мы проникаем в комнату, где когда-то над раскладушкой Кимчика висел портрет Хемингуэя, рядом с ледорубом, гитарой и рапирой. Теперь ничего этого нет, и есть опять же одна лишь Тифона, черные стены и стулья по количеству приглашенных.
В углу камеры-обскуры, растопырив крылья, сидит унылый мемозовский орел Рафик, в другом углу неодушевленная, в отличие от наших собак, собака мясной породы Нюра. Из первого угла остро пахнет орлом, из второго ост ро пахнет мясной неодушевленной собакой, из третьего и четвертого углов не пахнет ничем, и в этом, по-видимому, заключается особый КОШМАР.
Как глупо! Невольно вспоминается ильф-петровский маг Иоканаан Марусидзе. Чем хочет жалкий Мемозов потрясти наше воображение? Не будем сплетничать, но все-таки — вы слышали? — говорят, в Москве все его растиньяковские попытки с треском провалились. Решил, значит, на провинции отыграться?
Вдруг дверь открылась, и вошел Мемозов в лиловой мантии. Отчасти это даже понравилось, ведь все ждали какого-то дьявольского извержения, все немного нервничали, и вдруг пришел человек в простой лиловой мантии. Во всяком случае, это тактично.
— Добрый вечер, ребята, — тихо и приветливо заговорил Мемозов на простом русском языке. — Рад, что вы пришли. Спасибо. Начну с комплимента. Вы помолодели, особенно дамы. Раздрызги, развалы, дрязги, ревность, шальные ночи пошли впрок. Скромно торжествую и продолжаю. Сейчас мы все заснем, включая и меня и моих ассистентов, по не тем холодным сном могилы, и не тем физиологическим процессом торможения, и даже не гипнотическим сном, а сном особого свойства, природу которого мы постараемся выяснить вместе в процессе сна. Начнем, старики?
Эти обращения «ребята», «старики» были своими, близкими, и тон Мемозова был какой-то очень простой, свойский. Напряжение ослабело, но защитная насмешка все же не испарилась.
— Да ведь никто не заснет, Мемозов, — усмехнулись мы. — Никто здесь не заснет, может быть, только вы сами задрыхнете. Все присутствующие принадлежат к сильному типу нервной деятельности.
— А давайте попробуем, — простым задушевным тоном предложил Мемозов, мирно прошелся по комнате, пригласил в третий угол своего ассистента с протезом головы, закрыл плотно дверь, встал в четвертый угол и коротко сказал, словно выдохнул всем нам и себе, а также всем знакам каббалы каракатице, щуке, сому, вьюну, скату, орлу, коршуну, аисту, сове, свинцу, олову, железу, золоту, ониксу, сапфиру, алмазу, карбункулу, голове, сердцу, сказал, как бы выдохнул:
Сон
Вроде бы что-то пронеслось по стенам, то ли яркие моменты истории, то ли клинопись, то ли нотные знаки, на долю секунды шарахнуло по голове каким-то звуком, но в принципе ничего не изменилось.
— Вот видите, Мемозов, никто не заснул. — засмеялись мы. — Бедный вы наш дилетант — опять провалились?
— Я начинаю с лести.
Мемозов поплыл вокруг гостей лиловой марионеткой на невидимых нитях.
— Я льщу вам, я льстец, я лью, я льюсь, я льном льну к постаменту научной славы. Вы сильные типы нервной деятельности, и никто из вас не заснул, один лишь я, унылый неудачник, впал в состояние трансформации, и сейчас я прошу снисхождения, и ставлю вот здесь в углу систему трех зеркал и Банку-73 с глубоководным братом, и в глубине зеркальной пропасти сквозь формалин ищу волшебный корень пентафилон, и, даже не призывая на по мощь Тифону, Сета, Азазеллу и Шеймгамфойроша, то есть без них, начинаю спать, а поскольку я сплю и вы суть мог сновидение, то не обессудьте, я разрушаю вашу повесть!
— Я продолжаю с презрения!
Мемозов приблизил к нам свое лицо и вздул на лбу венозную ижицу. Глаза его слились в один циклопический бессмысленный и яростный ЗРАК. Взлетел и повис над ни ми его орел, похожий на муляж орла. Однако в когтях муляжа извивалось беззвучно что-то живое и в клюве дергалась жилочка мяса.
Собака, вернее, чучело собаки с блудливой порочной ухмылкой, обнажавшей желтый вонючий клык, кружилось в бесшумном вальсочке на задних лапах. На чреслах ее мясистых дрожали балетные пачки.
Человек с протезом головы встал на колени перед бельевым тазом, где булькали цветные пузыри, и начал горизонтальными и вертикальными пассами выращивать ядовитые и призрачные кусты, которые тут же таяли на наших глазах, чтобы уступить место новым, не менее ядовитым, ярчайшим и бессмысленным.
Все вместе было бессмысленно и уныло, но, увы, спасительная птичка иронии почему-то оставила нас и улетела сквозь черную стену в наружное морозное ведро клевать засахарившуюся рябину и напевать свои столь любимые нами, а сейчас забытые песенки.
Увы, мы и впрямь почувствовали себя персонажами дурного сна и впали в желтую абулию, то есть в безволие.
— Я презираю логос и антилогос, ангела и демона, жуть и благодать. Есть только я, одинокий и великий очаг энергии, и вы во мне, как мои антиперсонажи, как моя собственность, и я делаю с вами, что хочу, вопреки пресловутой логике, здравому смыслу и сюжету повести. Для начала поднимайтесь вместе со стульями. Ап!
И мы все повисли в воздухе, в его сне — не в нашем собственном. повисли на разной высоте и под разными углами наклона.
Мы были рядом, но связь прервалась. Ни звука, ни мысли не доходило от стула к стулу.
Он захохотал — довольный. Красиво! Какая блистательная по идиотизму и красивая картина! Видела бы это паша красавица Железка!
Железка! Дабль-фью! Серебристая цапля! Прощальная ннбрация любимого металла.
— А теперь прощайтесь со своими мечтами! Ну вот и псе. пришла пора прощаться.
— Я протестую! — вскричал вдруг юный голос, и в камеру-обскуру, сквозь черный многослойный мрако-асбест проник и укрепил кулаки на бедрах наш милый Кимчик, давний, молодой, в спартаковской линялой майке, в кедах и лыжных байковых штанах. Казалось, его не смущает присутствие господина с протезом головы, то есть его же самого, но оскверненного Мемозовым.
— Я протестую! Где моя гитара? Где рапира? Где Хемингуэй? Пока что я ответственный квартиросъемщик и площадь эта малая — моя!
— Сегодня, — медленно и раздельно проговорил Мемозов, — сегодня из всех этих жэковских и кооперативных домов весь научный персонал среднего поколения вынесет на свалку всех своих Хемингуэев. Не смешите меня своим Хемингуэем. хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами — сколько уж лет он у вас висит?
Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды в ночном экспрессе, и ты мне рассказал еще со страниц до военной «Интернационалки» нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. Прощай! Я прощаюсь не только с тобой, но и с твоим лихим, солдатским, веселым южным алкоголем. Увы, нам уже не въехать на джипе в пустой, покинутый немцами Париж, нам уж не опередить армию, и я забуду твою науку любви, ту лодку, которая уплывет, и науку стрельбы по буйволам, и науку моря, науку зноя и партизанского кастильского мороза.
Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половинки Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай!
А ведь я полагал когда-то с ознобом восторга, что мы не расстанемся никогда. Теперь — прощай!
Затем, очень быстро — много ли надо во сне! — камера-обскура превратилась в некое подобие боксерского ринга, на котором человек с протезом головы совершил быструю расправу над молодым Кимчиком, и Кимчик улетел в бездонную пучину черных стен.
— Теперь прощайтесь с Дабль-фью, с вашей шлюхой подзаборной! Прощайтесь, не смешите
человечество!
Мемозов, могучий и всевластный, уже не в тоге, а в набедренной повязке, переплетенный тугими мускулами, довольный и грозный, только что пожравший мореплавателей Кука и Магеллана, только что отравивший Моцарта и пристреливший Пушкина, короче — сытый и в белой безжизненной маске с неподвижной широкой улыбкой, открыл нам стену своего сна и левым глазом осветил широкую панораму.
Что я увидел! С чем я прощаюсь навсегда? Я увидел мой город, знакомый до слез. Я увидел темный силуэт города меж двух морей, над светлым морем и под светлым морем, и в верхнем море, в светлейшем золотом море моей юности над Исаакием, над шпилем Адмиралтейства, над Водовзводной башней, над Нотр-Дам и над Вестминстером, над Сююмбски и Импайром слезинкой малою светилась моя летящая звезда.
Я увидел со дна колодца гигантскую плоскость уже по-ночному светящегося стекла и бронзовую толсторукую фигуру ангела, а над ними лоскут моего пьяного полночного неба, и в нем светилась моя летящая звезда.
Я увидел кипень ночной листвы на пустом трамвайном углу и асфальтовые отблески юности, я увидел стук собственных шагов, я увидел свой меланхолический свист про грустного бэби, который забыл, что есть у тучки светлая изнанка, я увидел тихий шум удаляющегося под мигалками автомобиля, и там, в перспективе улиц, в пустом морском небе, я увидел ее смех, и щелканье каблучков, и летящую ко мне несравненную невидимую красавицу.
О, Дабль-фью!
А еще прежде была Лилит, рожденная из лунного света!
Итак, я все это увидел, чтобы попрощаться. Прощай, вокзальная шлюха с торчащими грязными бугорками подвздошных костей, с кровоподтеками на бедрах и на чахлых, измятых шпаной в подворотнях грудях — прощай! Прощай, моя Лилит, рожденная из лунного света!
И мы все замерли, когда по мановению спящего тирана панорама прощания стала медленно пропадать и наконец — «слиняла», растворилась в черноте.
Мы не спим, на нас его шарлатанские чары не действуют, но он, проклятый, спит, и мы стали персонажами не нашей повести, а его дурного сна, и сопротивление — бессмысленно.
— Ха-ха! — вскричал хозяин сна. — Только ли сопротивление? Может быть, вы хотите найти смысл — в смирении? Смысла нет — ни в смысле, ни в бессмыслице, есть лить Бес Смыслие, мой старый знакомый, вышедший в тираж и даже не добравший документов для получения пенсии Есть я — Мемозов, ваша антиповесть, и вы теперь — в моих руках, а потому — прощайтесь!
«Как?! Неужели вы отважитесь поднять ваш перст даже на Нее»? На нашу Железку? Немыслимо!
— Немыслимо, а потому возможно. Я вас лишу предательских иллюзий, лишу всего мужского и женского — прощайтесь! Объект вашей любви не легче и не тяжелее стула.
Мене! Текел! Фарес!
Разом вспыхнул вокруг нас голубой морозный простор, и мы почувствовали себя на нашем холме над нашей Железкой.
Бурая, окоченевшая от мороза долина лежала под ослепительным небом. Что может быть тоскливее такой картины — бесснежная свирепость, мгновенно окочурившееся лето? Лучшей погоды для надругательства не выберешь.
Наша Железка лежала внизу как неживая, как будто и она была убита мгновенным падением температуры, как будто сразу из нее выпустили ВСЕ наши споры и смех, и табачный дым, и газ, и электричество, и горячую воду, все наши годы, все наши муки, все наши хохмы, все наши мысли, все наши надежды — всю ее кровь. Мы стояли на твердой глине, на наших замерзших следах пятнадцатилетней давности и молчали, потому что никто друг друга не слышал, и сколько нас было здесь, на холме, неизвестно, потому что никто друг друга не видел. Никто из нас не поручился бы и за собственное присутствие, но все мы были уверены в близости кощунства.
Наконец появился хозяин сна — Мемозов. За ним влеклись его ассистенты — ковылял, как домашний гусь, некогда гордый гималайский орел, юлила профурсеткой на задних лапках некогда солидная корейская собака, низко распластавшись над землей, летел человек с протезом головы, который некогда был нормальным человеком, организатором досуга. Что касается самого Мемозова, то он двигался величественно, как будто бы плыл, и тога его мгновенно меняла цвет, становясь то черной, то лиловой, то желтой, и всякий раз яркой вспышкой озаряла бурый потрескавшийся колер древней картины сна.
Затем лицо Мемозова закрыло весь брейгелевский пейзаж и вновь надулось кровью, как у тяжелоатлета во время взятия рекордного веса. Увеличение продолжалось. Какой ноздреватой, кочкообразной кожей, напоминающей Торфяное поле, оказывается, обладает наш рекордсмен. Крыло носа вздыбилось над мрамором ноздри, как бетонная арка. Вращаясь, бурля, кипя, закручиваясь, словно котел с шоколадной магмой, приближался, закрывая весь белый свет, глаз Мемозова. О ужасы, о страсти, о катаклизмы самоутверждения!
И вот процесс закончился, вращение магмы в зрачке приостановилось. Возникла прозрачнейшая бездонность, и там отчетливо и безусловно мы увидели страшное — наша родная Железка оторвалась от земли и всем своим комплексом висела теперь в воздухе.
В воздухе или в его проклятом сне, важно то, что она висела над поверхностью земли, и низ ее был гладок, словно и не было никогда никаких корней.
Тогда включился звук. Мы остались немы, но услышали дыхание друг друга и увидели себя на горе, под горой и по всей округе, все увидели друг друга, но Мемозов, сделав ужасное, замаскировался в пространстве. Наглый, хитрый и могущественный, он «слинял», как будто и не имел ника кого отношения к ледяной коричневой прозрачности своего ЗРАКА. Лишь голос его хулиганской едкой синицей порхал над нашей толпой.
— Некоторые еще сомневаются в возможности телекинеза!
Происходило кОщунство, как мыслил осознавший себя Великий-Салазкин.
Зеркально гладкий поддон Железки висел над покинутым котлованом, отражал оборванные недоброй силой корни и энергетические коммуникации. Медлительно, но неумолимо котлован затягивала желтая ряска, неизвестно откуда взявшаяся на этом космическом морозе.
Мы все, киты и бронтозавры, потрясенные кОщунством, обнявшись, пели песню без слов.
О, если бы небеса вернули нам искусство слова! Быть может, хоть что-нибудь нам удалось бы спасти!
И тут Она взметнулась, как оскорбленная девушка или испуганная птица. Она стремительно ушла в высоту, в не подвижное и бездонное голубое небо, которое мы все еще видели как бы сквозь задымленное мемозовское стекло. Она ушла так высоко, что казалась нам теперь огромной бабочкой, приколотой на голубой поверхности неба.
Прошел, ледяным ветром проплыл над нами миг, и бабочка из огромной стала просто большой.
Прошел, смрадом продышал над нами еще один миг, и бабочка из большой превратилась в маленькую.
Прошел, черными вороньими хлопьями прокаркал над нами еще один миг, и маленькая бабочка с красными пятнышками и терракотовыми прожилками стала еле видимым пятнышком в бескрайнем голубом небе.
Голубое, голубое, голубое до черноты.
— Она покидает нас! Она улетает! — запели мы хором. Слово вернулось к нам, но — увы — слишком поздно. Она, подхваченная горькой обидой, улетала.
Она улетает!
И долго ли?
Протянется?
Тяжкий сон?
Шарлатана?
Она улетает!
И вернется ли когда-либо, никогда ли не вернется ли, когда ли вернется ли, не ли либо ли? Хитроумными извилинами сослагательного наклонения мы пытались бежать своего горя.
Она улетела, и хватит хитрить. Теперь выходи на широкий простор горя и пой!
Горе было огромной чашей с хвойными краями, с волнистым диким горизонтом. Таежная зеленая губка с рваными порами заполняла все блюдо нашего горя, а в центре горя, там. где еще три мига назад теплела наша Железка, теперь пылало желчным огнем ледяное болотное злосчастие.
И пой!
Третье письмо к Прометею
О Прометей, я знаю, как труден твой путь на Олимп и как плечи твои отягощены плодами Колхиды! В те дни проколы в шинах и пересосы в карбюраторе вконец извели нас, и жгли ссадины, и кровь сочилась сквозь слишком тонкую для титанов кожу, но ты, привыкший к истязаниям орлов в ущелье, генацвале, ты шел вперед, таща, кроме венца тернового, еще венец лавровый и две покрышки на своих плечах, и утешал нас всех надеждой на краткий отдых там. где сейчас большой мотель, там. в Македонии на перевале!
Какой пример являл ты нам, кацо, когда мы вдруг увидели за перевалом ожившую картину Анри Руссо «Война»: разброд телесный, вывернутые ноги, и черные листья, и черные санитары войны — вороны, в том мире страшном, где как будто бы забыли, что в силу теоремы Гаусса в сочетании с «Диалогами» Платона мы испокон веков имели

И в клочьях дыма рыжего ты нас, Аполлинариевичей, вел сквозь всю картину, чтоб мы еще смогли увидеть в холодном синем небе родную улетевшую Железку, и потому. Прометей-батоно, в благодарность за вечное мужество мы преподносим тебе на шампуре вечного логоса дымящийся приз — вот этот шашлычок

Всего лишь три кусочка, батоно, но извини — сейчас не до мясного. Адью, пиши, я жду.
Война промчалась, бешеная девка в обрывках комбинации на черной лошади по трупам, размахивая жандармской «селедкой» над головой, и стук ее копыт, и идиотский хохот, и свист меча в конце концов затихли в каких-то отдаленных палестинах, а я очнулся.
Я потрогал свой лоб, ощутил под кожей лба лобную кость, я потрогал нос и ощутил под пальцами кость и хрящ, я потрогал низ своего лица и вспомнил, что нижняя челюсть в юности называлась mandibula, и я возил ее в трамвае на урок, на коллоквиум, на зачет, на морозное крахмальное судилище госэкзамена. и она погромыхивала в портфеле вместе с фибулой и тибиа и лямина криброза и еще с десятком других человеческих костей. О, как прост в те дни был мир, а я еще не имел ни малейшего понятия о рибонуклеиновой кислоте!
Рибонуклеиновая кислота?! Ерунда! Мне ее вливали. Зачем? Для профилактики. Каков состав! Пожалуйста — шампанского сто граммчиков, тридцать граммчиков водочки. облепиховый ликерчик, лимонного сочку пару ложечек, портвейну таврического энное количество — таково «карузо», ярмарочное колесо, коктейль, сиянье молодежной жизни. Ты дыбишься?! Значит, еще жив. Вставай, чего лежишь — простудишься!
Я покупаю за рубль музей фарфора плюс кружку пива в комплекте. Теперь я хожу с кружкой пива, ищу любителя, потому что мне нужна путевка в санаторий — устал. Пиво расплескал, продал музей фарфора, купил путевку в комплекте со шпулькой ниток. Теперь живу на всем готовом, ничего не покупаю, а нитки подарил искателю ниток. Гори псе огнем — я не заколдованный!
…На поле битвы лег туман, а снизу просочилась влага. Я все еще лежал и улыбался за порогом боли, и за порогом страха, и на пороге сизой смерти.
Вот что-то зашлепало, мерно и медлительно, но с неожиданными замираниями, с неожиданным глупеньким смущением, с подгибанием нелепой ножки, с робким покачиванием. Падали капли с клюва на падаль, миг — тишина. еще один осторожный шаг, тишайший разворот крыла, как будто пальцы, сведенные уже страстью, но еще стыдящиеся, тянут длинную «молнию» на спине.
Призыв памяти
Не забывай, не забывай, не забывай ярко-синего моря и всего, что связано с ним. не забывай ярко-черного рояля и всего, что связано с ним, не забывай ярко-белого Эль бруса и всего, что связано с ним, не забывай ярко-желтой яичницы и всего, что связано с ней, не забывай ярко-зеленого поля и всего, что связано с ним. не забывай яр ко-красной, леденящей и пьянящей рябины и всего, что связано с ней, не забывай ничего голубого.
Призыв благородной души безвременно усопшего пуделя Августина
Безвременно не усыпайте, безвременно не усыхайте, безвременно не икайте, не рыгайте, безвременно не про клинайте, безвременно не искушайте, не жирейте, не пьянейте, не старейте, безвременно не молодейте, потому что и я усоп не безвременно, а просто пришло мне время погонять по райским лугам за той мухой, которую я не обидел.
Призыв Дабль-фью
О, муж мой сраженный, вставай и пой в ряду первых рыцарей, люби и жди!
О, муж мой сраженный, вставай и рычи своими рычагами, лети своими летунами, коли своими колунами, вези своими везунами, плыви своими плывунами, люби и жди!
Вся наша огромная толпа стояла на холмах и в низин»-и смотрела в небо, где не было вначале ничего, а потом появилось нечто, и, падая с удивительным сверканием и трепетом, подобно листочку фольги, нечто — весьма маленький предмет — упало к ногам Великого-Салазкина.
Это была новенькая чистенькая металлиночка, похожая на консервный ножик, почти такая же, как та пятнадцатилетней давности, что была заброшена академиком в глубь болот.
— Протестую! — закричал вдруг из какого-то бочага невидимый Мемозов. — Мой сон! Тинктуру саксаула!
— Халтур-ра! — прокаркал в вентиляцию чей-то добрый старческий голос.
Орел удалялся в бескрайний простор к своим заоблачным миражам, неся в когтях косматую подругу по рабству.
Человек с протезом головы сорвал очки, оброс свалявшейся шевелюрой, в которой вполне могли бы спрятаться маленькие симпатичные рожки, и, глянув исподлобья сатирическим взглядом, обернулся вечно юным стариком Кимчиком Морзицером. В руках у него была лопата.
У всех в руках уже были лопаты, у всей нашей толпы, у всех героев этой повести, у Эрика Морковникова и у его жены Луизы, у Самсика Саблера, и у Слона, и у Натальи, и у их главного сына Кучки, и у Вадима Китрусова, и у таинственной Маргариты, и у Крафаиловых, и у благородного Августина, у Телескопова, у Серафимы и у Борщова, у вылечившегося Агафона, у великана Селиванова и у гостей доброй воли Эразма Громсона, Велковески, Ухары, Бутар-аги и Кроллинга, у всех докторов, кандидатов, аспирантов, техников, студентов и даже у вахтера Петролобова, а главная лопата была у Великого-Салазкина.
— Начнем по новой, киты. — смущенно прокашлялся старик и зашвырнул консервную металлиночку на желчный болотный лед, где она сделала пью-пью-пью и остановилась.
— Начнем по новой наш сюжет! — крикнул академик и вонзил лопату в мерзлый грунт пятнадцатилетней давности.
И все мы вслед за мной вонзили в наш грунт наши лопаты, и на этом сон Мемозова кончился — прорвались!
Разом в Пихтах зазвонили все телефоны, загудели все селекторы, забормотали все уоки-токи, затрубили все трубы. Так бывало всегда, когда в Железке совершалось важное открытие.
Кто-то из нас порвал локтем черные стены, и мы увидели в сверкающей снежной перспективе аллеи Дабль-фью улепетывающего Мемозова. Он мчался по снегу на велосипеде без шин, на смятых в восьмерки ободах, работал задком, клубился гривой и тогой, а над ним летел четырехсотлетний ворон Эрнест и подгонял бедолагу крикаром «Хал-тур-ра».
— Хал-турр-рра!
Так я отпускаю своего соперника Мемозова восвояси, ибо великодушие свойственно мне, как и всем моим товарищам по перу. А ведь что можно было с ним сделать! Подумать страшно…
Доверительности ради сообщаю читателям, что встретил своего антиавтора в Зимоярском аэропорту возле туалетной залы. Смиренным слезящимся тоном он попросил у меня трояк: не хватает, дескать, на билет. Как будто ни чего и не было между нами! Что ж, подумал я, пусть летит подальше — для хорошей повести и трех рублей не жалко.
Иткол — Москва — Нида — Москва
Желток Яйца

 «Желток Яйца» — повесть впервые напечатана в журнале «Знамя», 1991, № 7–8. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Желток Яйца» — повесть впервые напечатана в журнале «Знамя», 1991, № 7–8. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
ПОСВЯЩАЕТСЯ
всем, моим котам, включая собаку
Вначале был Хаос, и Мрак, и Хмарь.
Тоскливые бездны Тартара.
Не видно Земли, не заметно Небес.
Но вот в глубине, в жалкой пазухе
Мрака.
Возникло яйцо из круженья стихий.
Это Ночь возложила его, овевая
Своим соболиным плюмажем.
АРИСТОФАН. «Птицы»
Десять минут до короткого замыкания
— Привет, Джек! Сто лет не виделись! Позволь представить представить тебе нашего почетного гостя, профессора Филлариона Флегмонтовича Фофаноффа, на конце два «эф», разумеется. Мы зовем его «Фил». Фил, не хотите ли познакомиться с Джо Керром? Ой, простите, с Джеком Ротом. Он у нас большой специалист в области перекрестного оплодотворения идей, концепций, замыслов, ротации первичных импульсов воображения… ничего не соврал?
…В общем, это прекрасный парень!
— Очень приятно.
— Очень рад.
— Чудный, чудный херес сегодня подают!
— И в самом деле, хорош.
— Посмотрите-ка на Джоселин, не правда ли, она, хм… восхитительна?
— Разумеется, хотя, на мой вкус, слишком приодета. Один только этот непостижимый бант на плече!
— О, вы слишком придирчивы, моя дорогая!
— Простите мне мою расхлябанность, старина, но я только что начал читать ваш трактат, хотя уже чертовски, чертовски впечатлен. Вы замечательно подчеркнули значение согласных, и я с вами абсолютно согласен. Гласные не привносят в текст национальной энергии.
— Подлейте-ка мне еще этого восхитительного напит ка. А кто эта девица в лиловом?
— Видите эту французскую пару, всю в вельвете? Вот уж всамделишный шик Левого берега Сены!
— Говорят, они только что прибыли из Континентального Китая…
— Как? Уйти из Вэ-Вэ и поступить в Эл-Эл-Эл? Никого не нашлось, чтобы ее отговорить?
— Внимание, братцы, кое-что новенькое из Белого дома. Последний советский анекдот.
— Поосторожней с советскими анекдотами. Тут где то ходит советский советник по садовым культурам.
— Простите, джентльмены, я как раз и есть советник советского посольства по садовым культурам.
— У-у-п-с! А не расскажете ли вы нам, господин советник, о колхозных плантациях мака?
— Не можете ли вы мне сказать, Генри, кто этот трехсотфунтовый толстяк, такой приветливый и симпатичный?
— Да это же почетный гость сегодняшнего вечера, мой старый кореш времен Московской траншейной войны Филларион Фофанофф, два «эф» на конце, разумеется.
— Уши не изменяют мне? Профессор Фофанофф во плоти?
— Да еще в какой плоти! Зовите его Фил, Раджа. Фил знакомься, Раджа Саванг, давний друг нашего института.
— Сахару или молока?
— Ни того, ни другого.
— Виски или херес?
— И то, и другое.
— Вот типичный ответ нашего доброго старого Фила. Добрый, старый Фил! Первая птичка гласности!
— И все-таки, советская хохма…
— Внимание, советская хохма в японской интерпретации!
— Ваше Превосходительство, почему у вас такие красные губы?
— Простите, Хуссако-сан, но вы опять чертовски неуместны!
— Хелло, Ксан Вьен! Я — Пэтси! Диззихэд говорил мне о вас. Похоже, что мы копаем одну и ту же шахту, не так ли?
— Что происходит в конце концов? Мне сказали, что этот вездесущий аргентинчж должен меня сегодня провожать, а он весь вечер крутится вокруг Ксана!
— Вы должны его простить, моя дорогая, профессиональные интересы. Где еще найдет он человека, что разделяет его взгляды на стратегическое исследование вечной мерзлоты.
— Мисс Янгблэддер, давайте говорить о деле. Вы же не будете отрицать, что уровень участия женщин в наших пополуденных дискуссиях стабильно повышается!
— Третьего дня, сэр. я наблюдала, как вы катались на коньках. Никогда раньше не видела таких подвижных слонов.
— О, тысяча благодарностей, мадам! Вряд ли вы найдете человека, более восприимчивого к лести, чем я.
— Вы польщены тем, что вас назвали слоном, сэр?
— Ну. не очень, мадам, но зато упоминание о подвижности… И кроме того, там, в Москве, а именно в Кривоарбатском переулке, я был известен под кличкой Хобот, что, как известно, является значительной частью слоновьего тела, мадам.
ПЯТЬ МИНУТ ДО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
— Кто эта девушка в лиловом, что так дерзко смеется над слоноподобным русским?
— Она вовсе не в лиловом, а в сером. У нее глаза лиловые. вот в чем дело. Это Урсула Усрис, доктор наук.
— Не говорите мне ни слова о Брендане Мэйписе. Фигурально говоря, он не что иное, как мешок с дерьмом.
— Но зато какой игрок в гольф, сэр!
Вечерний ритуал распития хереса в вашингтонском институте, известном под кличкой Тройное Эл, то есть Линкольн Либерал Лииг, или иначе — Либеральная лига Линкольна, был в полном разгаре. Не менее полусотни исследователей с международной репутацией толпились вокруг овального стола, жужжа как рой трудовых пчел. Дух академического сотрудничества, как мы слышали, явно преобладал над сплетнями.
Можно легко предположить, что никто (или почти никто) в этой славной толпе, так живо потребляющей всеобщую элегантность вместе с потоком традиционного академического напитка, не догадывался, что находится под пристальным наблюдением сверху.
Боже упаси, мы не имеем в виду грозные сферы невидимого, единственное, что мы имеем в виду, говоря «сверху», это один из прихотливых балкончиков, расположенных на разных уровнях под гигантским куполом супермодернистской конструкции, известной в Вашингтоне, округ Колумбия, под кличкой Яйцо. У каждого из этих многочисленных балкончиков было имя или знаменитого мыслите ля, или исследователя, и тот, на котором мы расположили двух наших наблюдателей, именовался балконом Ибн Эзры, испанского еврейского философа X столетия. От случая к случаю он использовался для собраний Генеалогического общества, иногда для тайных свиданий, вносящих дальнейшую путаницу в генеалогию будущего, но еще ни разу для наблюдения за традиционным распитием хереса.
Одним из двух наблюдателей был худощавый молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми, одетый и превосходном стиле площади Дюпонсеркл, то есть в костюме-тройке и стоптанных кроссовках, спецагент Джим Доллархайд, контрразведка ФБР, к вашим услугам.
Вторым был Каспар Свингчэар. начальник службы безопасности Тройного Эл, дюжая, сутулая личность сред него возраста в мешковатых штанах и мятой рубашке, которые, в комбинации с вечно кислым выражением мясистого лица, создавали впечатление вечной мизантропии и неряшливости, то есть лажи.
Притворяясь погруженным в какие-то размышления — неизменная резинка «базука» перекатывается во рту, — Свингчэар старался не обращать внимания на своего гостя. даже мельком не глянуть на его славную физиономию с добродушными, немного рассеянными, однако интенсивно любопытными глазами и с несколько двусмысленной улыбкой, вполне типичной для молодых вашингтонцев, в той или иной степени вовлеченных в секретные операции.
Какого черта этот назойливый малый хочет от меня, думал Свингчэар. Я не отвечаю за шпионов, я отвечаю за огнетушители, разбрызгиватели воды, уловители дыма, пластиковые пропуска, черт бы их всех побрал…
— Перестаньте, Каспар, — сказал спецагент. — Не будьте таким брюзгой. Скажите, что вы думаете об этой симпатичной толпе внизу?
Свингчэар глянул на него искоса, как будто удивляясь: «Почему ты, приятель, не спросишь, что я думаю о тебе?» Потом прорычал:
— Вы имеете в виду эту свору бездельников? Большинство из них — это отходы человеческой расы. Есть только один приличный человек там, внизу, замдиректора Пит Клевтчиз, да и тот, в общем-то, порядочная свинья.
Молодой сыщик, конечно, знал о том. как уничижительно относится начальник службы безопасности к персоналу Тройного Эл и к ученым гостям, а также к прочим «трепачам всех широт», то есть ко всей мировой академической общине. Он выдал ему свою лучшую улыбку, потрепал по круглому плечу и, облокотившись на перила — «не будьте так раздражительны, Каспар!», — внимательно вгляделся в грубое плато этой недружелюбной физии, как бы изучая складку за складкой.
— Но кто же все-таки в этой толпе может быть советским шпионом?
С полным презрением Каспар Свингчэар пожал плечами:
— Да никто! Слишком низкая квалификация для любой ответственной работы.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
— Вы мне плеснете еще стаканчик этой амброзии, то-варищ-щ-щ? Я знаю, как вы ненавидите наше любимое Щ, это истинное воплощение русскости, как вас тошнит от этой трехголовой бестии, наверняка предназначенной для разрушения западной цивилизации…
— Не шутите, коллега. Все на кампусе прекрасно знали, что она спит с защитником футбольной команды…
— Воображаете, носороги!..
— Эта чья нога, народы? Камнями по воронам, всех мужиков-свинтусов надлежит истребить!..
— Я вас не вижу. сэр!..
— Не важно. Давайте поговорим наконец-то о поздневизантийских гравировках…
ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
— Хватит, примите мою отставку, господин президент!
Каспар Свингчэар был сыт по горло: кто еще выдержит этот супермодернистский лабиринт внутренностей Яйца? С мощным фонарем в правой руке и с тяжелым (впрочем, незаряженным) пистолетом в левой, он несся по спиральному переходу имени Герберта Спенсера навстречу воющим сигналам тревоги, пока внезапно не обнаружил себя в абсолютно неожиданной позиции перед черной дырой тоннеля имени Эдварда Беллами. Голова закружилась от мерцающих, полупрозрачных экранов и стен, пересекающихся лестниц и гибких мембран.
— Фля, иной раз это выглядит круче, чем Корейский демилитаризованная зона.
Система тревоги продолжала выть, и никого, кроме иг го. похоже, это не колыхало. Безобразные взрывы смеха то и дело доносились из глубины вздорной структуры, Бывший морской пехотинец рванул в тоннель и почти немедленно споткнулся о неподвижное тело.
— Какого черта вы здесь делаете, сэр?! — взревел обеспечитель безопасности. В полном соответствии со своим фундаментальным презрением ко всем «паразитам человечества» он предположил, что кто-то из них так нажрался хересу, что поскользнулся в собственной блевотине. Не менее минуты ушло на то, чтобы сообразить, что это тело ничего не делает в тоннеле имени Эдварда Беллами, ошеломляюще ничего. Все вопросы к этому телу следовало ставить в прошедшем времени.
Свингчэар прижал ухо к спине трупа, а именно к пространству между лопатками — ну и хрупкие же косточки! — и вдруг его охватило весьма отдаленное воспоминание: Токио тридцать с чем-то лет назад, ему двадцать пять, он в отпуске, из окопов… «Интимный бар», квартал Сидзюко… Кто это был, девочка или мальчик, по пьянке и не разберешь…
Он отмахнулся от этих неуместных, если не постыдных, воспоминаний и начал давить на хрупкую спину — мужскую или женскую, пытаясь вызвать признаки жизни. Туг подоспел еще один удар по нервам, на этот раз невыносимая вонь. Он отпрыгнул от тела, хотя было ясно, что не оно было источником вони, весь воздух в тоннеле был вонью. «Эдвард Беллами» разил чем-то неизвестным и непостижимым. Фактически что-то непостижимое было в самом воздухе, и не постичь было, что происходит: то ли просто дуновения непостижимого, то ли падали комья падали из чего-то-ничего, то ли просвистывало что-то-что-просвистывает из падали.
Ему казалось, что он теряет равновесие, через различные треугольные, овальные и серповидные отверстия он видел чистые осенние небеса, звезды и луну, однако луна вроде бы висела не на должном месте, то есть прямо под его башмаками, в то время как через искусственную трещину в том, что предполагалось быть потолком, видны были автомобиль Открытого отряда Секретной службы, белый фургон с надписью «Маляры по радуге и К
0», а также и другие фургоны и авто, запаркованные вдоль Вашингтонского мола.
— Теряю баланс! — запаниковал Свингчэар. — Какой позор! Шеф охраны теряет чувство реальности!
Тогда хорошо тренированный морской пехотинец прошлого приказал желеобразному бюрократу настоящего продолжать попытки оживления. Свингчэар повернулся к трупу и снова получил еще один опустошающий удар по нервам: трупа не было. Ничего не было в тоннеле имени Эдварда Беллами, кроме пространства; под лучом его фонаря были лишь невинные плитки пола. Каспар испустил вопль, заглушающий все сигналы тревоги и, что называется, бросился врассыпную через тоннель, пока не влепился в предмет своей любви и гордости, контрольную панель всего института, порученную его заботам.
Он заметил это сразу — зловещая штука, посторонний предмет торчал посреди этого изощренного аппарата. Давайте теперь раскроем один из секретов Каспара Свингчэара — он любил «это говенное Яйцо» больше всего на саг те. Фактически это чувство было единственным, что дер жало его на плаву в трясине тягостного старения. Этим именно и объясняется то, что он, не раздумывая, немедленно попытался вырвать гадкий предмет, размером не более бутылочного штопора, из своей дорогой панели. Однако как только он протянул руку, поблизости послышался какой-то деликатный шорох, и краем глаза он увиден контур стройной человеческой фигуры, крадущейся к панели, — мужская или женская, призрак прошлого или только что пропавший жмурик?
Фигура протянула руку. Начальник службы безопасности Тройного Эл нырнул вперед и взял запястье руки и стальной зажим. Фигура вскрикнула в стиле чопорной дамы, сдающейся будто коза под тигром, потом… Свингчаир сам возопил подобно раненому вепрю, его рука оказались закрученной за спину.
— Спокойно, Каспар, — усмехнулся спецагент Джим Доллархайд, — это всего лишь бутылочный штопор. Кто-то перепутал вашу панель приборов с бутылкой хорошею «порта».
Он освободил руку Каспара Свингчэара и осторожно удалил зловредный предмет из путаницы высшей технологии.
Короткое, как вспышка, лирическое отступление. Алкоголики в СССР издавна называли такие штопоры «спутниками агитатора».
СВЕТ
Затем двое мужчин пошли вдоль светящихся стен тоннеля подобно персонажам-космонавтам кинокартины «Верный состав».
ДЕСЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Вид с балкона Ибн Эзры. Следует отдать должное личному составу и ученым гостям центра Тройное Эл: никто из них не покинул увлекательного сборища, несмотря на адский мрак и завывания сирен тревоги. Сцена фактически мало изменилась, если не считать того незначительного факта, что институтский библиотекарь, Филиситата Хиерарчикос, в темноте умудрился оседлать эмигрантского профессора Александра Евтихиановича Пулково-Бредноколесниковского, известного в верхнем эшелоне нашей академической структуры под именем «Ал».
Глава первая
ПОВОРОТНЫЕ ПУНКТЫ
За пару недель до только что описанных событий молодой городской профессионал, то есть типичный американский айппи восьмидесятых, спецагент Джеймс Долла рхайд сидел в своем офисе в штаб-квартире Федерального бюро расследований, что на углу 10-й улицы и Пенсильвания-авеню, северо-запад столицы нации. Как обычно, он старался изо всех сил не свалиться со своего стула в объятия Морфея. Все вокруг представлялось ему здесь Берлогой Большого Дремлюги, как он описывал свою службу в письмах обожаемой мамочке. Мисс Монтана-1956. Даже компьютер, казалось, зевал ему прямо в лицо.
Разве мог Джим предвидеть такое монотонное существование при вступлении в грозную организацию? Все двадцать восемь лет жизни он относил себя к тому, что называл в своем сознании «Молодой мир» — поступал в разные колледжи и линял из них, работал лыжным инструктором, пожарником-парашютистом, барменом и диск-жокеем, пока дружок его мамули, дядя Роджер, через своих ветеранов Корейской войны не устроил его в контрразведку. Джим был в восторге: контрразведка легко вошла в концепцию Молодого мира.
Увы. с тех пор. как подготовительные курсы были окончены и он получил назначение в Пятый подотдел Третьего управления ФБР, прошло уже три месяца, а вся его работа ограничивалась перебиранием бумажек. И хоти непосредственный начальник, старший агент Бркх д’Аваланш, ежедневно подчеркивал исключительную значительность его исследования, он не мог не думать об этом иначе как о ловле блох.
Целая полка мягких дисков и несколько шкафов с папками — так выглядело десятилетней давности замусоленное дело многонационального запутанного мошенничества. Работа Джима состояла в том, чтобы снять с сотен потенциальных мошенников подозрения в шпионаже, иначе говоря, отделить зерно от плевел, пробить какой-то пуп»» лабиринте. Дело осложнялось тем. что большинство доку ментов были финансового характера, для Джима — полная китайская грамота, тем более что и немало китайцем было тут запутано. Иногда, особенно к концу рабочего дни Джиму казалось, что в его работе просто нет никакого смысла, и единственная цель следствия — это топтание на одном месте. Мамми и дядя Роджер, должно быть. представляли себе не такое будущее для своего Мальца-Молодца.
Второй стол в комнате был не занят уже целый месяц. Спецагент Брендан Разсказ, тот, что сидел здесь до Джима и приветствовал его прибытие, то есть тот самый парень, что показался ему просто мелкой старательной канцелярской тварью, если не просто остолопом, оказался достаточно толковым, чтобы слинять из «поросячьего рая» — выражение, которое Джим подцепил однажды в понедельник утром в туалете своего этажа.
Недавно Джим натолкнулся на Брендана на углу 18-й и Колумбия-стрит, в день этнического фестиваля Адамс Морган. В густой толпе представителей всех мыслимых рас и наций Брендан продавал с лотка любопытный товар — тугие резиновые пружины, похожие на туалетные очистители, но называвшиеся тем не менее «обнежнители мяса». «С помощью этих штук вы можете приготовить филе-миньон из подошвы армейского сапога», — объяснял Брендан.
Ну и дела, как он переменился! Можно сказать, полуголый, в прозрачной «тэнк-топ» маечке, полностью открывающей мускулистое пузо, с талисманом из Акапулько на шее, загорелый, здоровый и похотливый — ну просто символ Молодого мира!
За тот месяц, что они провели вместе в офисе, Джиму ни разу не пришло в голову никакой, насчет Брендана, шаловливой идейки, теперь же он был почти… почти…
Банг! Легкомысленные воспоминания были прерваны внезапно включившимся интеркомом. Скрипучий голос старшего агента Брюса д’Аваланша: «Привет, Джим. Не хотели бы вы выключить своего грузи-бузи и заглянуть к нам? Да, прямо сейчас. Нет, никаких данных не надо, валите с пустыми руками прямо в кабинет к Доктору!»
Спецагент Доллархайд никогда не полагал себя человеком, лишенным интуиции. Напротив, интуиция всегда была предметом его гордости. Он мог пересчитать на пальцах одной руки те редкие случаи, когда она (интуиция) его подводила. В данный момент она говорила ему, что приближается что-то необычное. Иначе почему махровый бюрократ д’Аваланш вызывает его не к себе, а прямо к Доктору? Больше того, Джиму даже показалось, что в голосе бюрократа промелькнули легкие нотки Молодого мира, некоторый ознобец налетающего приключения.
Может быть, это и есть поворотный пункт его карьеры? Или даже судьбоносный день всей жизни? Нетерпеливо он вырубил свой грузи-бузи, как в Пятом департаменте называли компьютеры, и рванул по прямому коридору к предвкушаемому крутому повороту дороги.
Заместитель начальника Пятого департамента Мэлвин Хоб-Готлиб предпочитал, чтобы его называли Доктор Хоб. В самом деле, нелегко найти человека, чья наружность еще менее гармонировала бы с концепцией тайных операций. Скорее уж его наружность вызывала в памяти тот урожай чудаков XIX века, к которому можно отнести как Оноре де Бальзака, так и Альберта Эйнштейна. Верьте не верьте, но Джим Доллархайд однажды даже слышал, как Доктор Хоб насвистывает «Хорошо темперированный клавир».
На этот раз, войдя в кабинет, Джим увидел, что Доктор Хоб сидит бочком у своего стола и рассеянно поглядывает в окно. Его плечи были покрыты перхотью, а пузик — пеплом из популярной трубки. Между тем непосредственный начальник Джима, старший агент д’Аваланш сидел за конференц-столом в своей обычной аршин-проглотил позиции, имея на своем правом фланге трех младших сотрудников, Эплуайта, Эппса и Макфина.
— Садитесь, пожалуйста, спецагент, — сказал д’Аваланш, указывая на стул слева от себя, то есть ближе к столу начальника, чем даже он сам был расположен.
— Привет, Джим, — сказал Хоб-Готтлиб, стряхивая свою артистическую задумчивость, — между прочим, как ваш русский на данный момент?
— Добрый вечер, черт бы вас побрал, — тут же ответствовал Доллархайд по-русски. О, эта летняя русская школа в Мидл-бэри, о, эти кусты малины, о, эти восторги по-над ручьем!
Доктор Хоб кивнул не без очевидного удовольствия. Славно, славно, совсем ньет-плохоу, мой многообещающий коллега!
Старший агент д’Аваланш со своим обычным кисло-сладким выражением воспроизвел одно из своих типических высказываний насчет некоторых молодых индивидуумов — в Пятом департаменте шутили, что он, очевидно, и родителей своих именует «парой пожилых индивидуумов», — которые, эти молодые индивидуумы, собственно, не так уж плохи, хотя могли быть гораздо лучше, откажись они от иных соблазнов, ну, хоть немного бы сократились в своей погоне за юбками.
«Мимо цели», — подумал Джим, притворно вздыхая, как бы признавая свое несовершенство — женщины, да-да, проклятые эти юбки…
— Гляньте-ка в это окно, Джим, — сказал Доктор Хоб, показывая своим пальцем, похожим на корень женьшеня, на крыши и башенки Вашингтона. — Вы, конечно, видите этот слегка голубоватый сфероид, эту уникальную структуру, Яйцо, которое не может вам не напомнить живопись Иеронимуса Босха. Отныне эта штука будет основной целью вашей активности.
— Конечно, если вы не… — добавил он быстро, очерчивая фигуру молодого спецагента неожиданно пронизывающим взглядом.
Словно зачарованный Джим смотрел на вершину светящегося Яйца. Внезапно свечение испарилось, склоны структуры угрожающе потемнели, будто покрылись листами свинца. Что вызвало эту метаморфозу — пролетающее облако или этот чертов дирижабль, рекламирующий шины «Гудиеар», что день-деньской циркулирует по столичному своду небес, будто демон прокрустивации, промедления?
Яйцо… основная цель моей активности… То, что вы делали до этого, Джим, было изнанкой нашей работы. Теперь вы вступаете…
Во что же он вступал, и какова была суть операции ФБР, что стала разворачиваться вместе с сюжетом нашего романа?
— Как вы прекрасно знаете, Джим, — сказал Доктор Хоб, этот город иногда называют Утечкоград. Утечки тут повсюду, стены сочатся утечками, отовсюду течет, иной раз ливнем льет из наших сфер. Утечка — это двигатель здешнего перпетуум-мобиле. Нечего и говорить, наша Утечка вовсю старается утечь за границы страны. Это довольно естественное явление, и поэтому мы не удивляемся тому, что наша Утечка старается слиться с советской Утечкой, чтобы образовать международное содружество утечек, в котором стаи ложных утечек вечно парят над иными весомыми, не особенно ложными.
— Впечатляюще, — пробормотал Джим с благоговением.
— Спасибо, — серьезно кивнул Доктор Хоб. — Итак, давайте выжмем излишнюю воду и подойдем к сути. У нас есть довольно основательная утечка из Москвы. Наши коллеги с Лубянки вроде бы собираются поселить своего «крота» в той самой структуре, которую вы только что лицезрели, то есть в сферы Тройного Эл, Либеральной лиги Линкольна. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Зачем секретно проникать в институт, который не имеет никакого отношения к засекреченным материалам? Ну, на данный момент мы ничего не знаем об их мотивах, однако по каким-то причинам Тройное Эл их сильно беспокоит, в этом нет сомнения. Да, джентльмены, у Москвы, как говорится, бабочки в желудке летают, когда доходит до этого гигантского яйцеобразного клуба болтунов.
Недавно мы заполучили еще не подтвержденную информацию, что их резидент в Большом Вашингтоне — кодовое имя Пончик — вовсю старается добыть как можно больше информации о людях Тройного Эл. Больше того, есть утечки, правда, еще легковесные, что они будут подключать к этому делу своего супершпиона Зеро-Зет.
Мы еще должны идентифицировать Пончика и Зеро-Зет. ЦРУ, разумеется, не обращает внимания на наши запросы, ребята из Лэнгли, как всегда, придерживаются своей обычной двусмысленности и вздорного снобизма. Беру на себя смелость предположить, что знают даже меньше, чем мы. В общем, Бюро придется отдуваться за всех…
К этим словам Доктор Хоб прибавил еще несколько своих собственных, что были восприняты всеми присутствующими, кроме Джима, как некая премудрость на латыни.
— Джим, вы, кажется, вздрогнули? — спросил Доктор Хоб. Спецагент Доллархайд потупил глаза.
— Мне очень неловко, сэр, но ваша последняя цитата напомнила мне какие-то восклицания советских хоккеистов на матче дружбы в Монреале.
— Браво, Джим, это показывает, что мы не ошиблись в выборе. Давайте-ка теперь сконцентрируемся. Вскоре после того, как мы заполучили утечку о намерении Москвы внедрить «крота» в Тройное Эл, мы перехватили еще одну порцию полезной информации. Выдающийся советский ученый-лингвист прибывает сюда следующим рейсом Аэрофлота. Он получил на год стипендию — феллоушип для работы в Тройном Эл. Его зовут Филларион Флегмонтович Фофанофф: на конце двойное «эф». Ему пятьдесят один год и он весит триста двадцать фунтов.
Один из троицы Эпплуайт — Эппс — Макфин вскочил на ноги, и комната тут же погрузилась в темноту. На стене появился экран и на нем — проекция обсуждаемого господина. Снимок был сделан явно скрытой камерой, однако высшего качества. Потрясающий толстяк стоял один в середине широкой и пустой асфальтовой площадки, создавая впечатление баобаба в выжженной пустыне. Он был, пожалуй, лыс, если не принимать во внимание легкий ореол вокруг темени и другие остатки некогда пышной растительности, а именно кустистые баки и мощную гриву сзади, достаточно неуправляемую, чтобы придать ему сходство с дикобразом. На картофелине носа он носил пенсне, а его непостижимый гоголевский шапокляк был поднят для горячего приветствия кого-то, кто не попал в рамку видоискателя.
— Да ведь это же новый Пьер Безухов, джентльмены! — вскричал Джим Доллархайд. — Да ведь это же человек Ренессанса!
НЕВИННЫЕ ГЛАЗА
Благодаря одному из капризных вывихов модерной, или, лучше сказать,
постмодерной архитектуры президентский сектор Яйца был выполнен в стиле Викторианской готики с каминами начала XVIII столетия, старомодными лестницами, пилястрами и панелями. Президент института, достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, не делал секрета из своей привязанности к этим помещениям. При всех обстоятельствах они все-таки больше подходили к его происхождению, чем ненадежные спирали, дыры, трещины, трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основной части структуры. Долговязый, великолепно седоватый и моложавый пятидесятиоднолетний англосакс мог бы без остановки проследить свое происхождение непосредственно к пилигримам: хотя никогда особенно и не стлался пуститься в это путешествие.
Иногда, впрочем, он думал о целостности тех чистых душ, одержимых только одной идеей — выжить во имя Бога. Каждый прошедший год для них был поводом к скромной гордости. Любой из них мог оглядеть свою жизнь во всей ее цельности от колыбели до могилы. Между тем достопочтенный ПТ испытывал некоторые, и весьма серьезные, трудности, когда пытался обозреть свое существование как жизнь одного и того же человека.
— Возьмите, к примеру, вот этот снимок с моего стола — Золотые пятидесятые, двое в отмытом «Кадиллаке», он и она, чудо-детки, всe шестьдесят четыре зуба в хохоте, неудержимый разгул летящих волос. Снялись вскоре после того, как я похитил Джоселин из ее общаги в Свитбрайер-колледж. Я был в пижаме, а она в ночном платье, и мы мчали всю ночь через Вирджинию, Мэриленд, Делавер и Нью-Джерси, пока не примчались в Нью-Йорк, где сняли комнату в «Уолдорф Астория», кот так, не менее, и сходу свалились на ковер в неуклюжем совокуплении. Я просто не могу поверить, что этот проказник, любимец общества, и я нынешний — одно и то же лицо.
Президент Трастайм предавался размышлениям, держа стакан с терпким напитком в одной руке и беспечно расположив остальные конечности в разных направлениях на разных предметах красного дерева.
…А те годы в Европе… а Россия… все эти завихряющиеся безобразия… неужели это был я?
Чтобы избежать окарикатуривания этой, действительно весьма достойной, персоны, мы должны сразу сказать, что Генри Трастайм был достойнейшим членом академической общины, поглощенным своим делом литературоведом, выдающимся экономистом, ведущим историком, непревзойденным советологом и даже признанным биологом в области холоднокровных и амфибий. И все-таки главным его делом, призванием жизни была лингвистика со специализацией по префиксам и суффиксам, этим бесчисленным русским частичкам, которые он воспринимал как некие языческие орды, рыщущие в пустынных степях в жажде еще большего опустошения и без какого-либо другого смысла, но тем не менее исполненные безнадежного романтизма.
Тем временем что-то происходило в коридоре, смежном с холлом, где несколько служащих постоянно сидели на страже, отгораживая своего обожаемого президента от хищных журналистов. Он услышал гнусавый голос своего японского друга Татуя Хуссако и фальцет библиотекаря Филиситаты Хиерарчикос, сопровождаемые возбужденным чириканьем трех младших сотрудников, известных как трио Рози, Пинки и Монти Блю.
Мы не можем не указать здесь, что достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм был постоянной мишенью газетчиков. В городе ходили слухи, что президент Тройного Эл собирается вскарабкаться на американскую политическую сцену; а точнее, хочет бороться за место в сенате. Что касается наиболее зловредных сплетников, то они со значением намекали на даже более важную информацию, просочившуюся из влиятельной группы «умеренно консервативных либералов». Трастайм обычно отметал это все как чепуху, однако в узком кругу друзей, особенно после поддачи, он не исключал резких поворотов в будущем. «Не вижу в этом ничего особенного, ребята. Если уж мне случилось подменить на саксофоне Джерри Маллигана в Западном Берлине в самые мерзкие дни «холодной войны», если уж я плавал на плоту вниз по Иртышу вместе с сибирскими хиппи-столбистами, что мне может оказаться не по зубам?»
«Это возмутительно, сэр!» — синхронно вскрикивали Рози, Пинки и Монти Блю. Сразу после этого стало ясно, что Линия Мажино прорвана. Дверь кабинета распахнулась, и резко вторгся некий юноша, голубоглазый и любезный.
— Добрый день, доктор Трастайм! Как поживаете? Не нужно нервничать, сэр, я не репортер. Я просто агент ФБР, Джеймс Доллархайд к вашим услугам. Зовите меня Джим. Очень приятно познакомиться.
— Миллионы извинений… хм… Джим… Я не очень-то подготовился к вашему визиту… хм… Джим, — ядовито проговорил ГТТ.
— Ноу проблем! — вполне грациозно Джим вернул «миллион извинений» их хозяину. Странным образом яд этой реплики почти немедленно испарился вслед за самим миллионом. — Не хочу тратить впустую вашего драгоценного времени, Генри. Я здесь для того, чтобы поговорить о вашем новом фэллоу, Филларионе Ф. Фофаноффе.
Первым побуждением Генри Трастайма было вызвать Каспара и попросить его показать выход этому нахальному молокососу. Вместо этого он предложил ему кресло и порцию своего терпкого напитка. Позже, пытаясь проанализировать этот неожиданный взрыв любезности, Генри пришел к заключению, что этот молодой человек какой-то непостижимой и ошеломляющей цепью ассоциаций соединялся у него в уме с армейской казармой, в которой осенью 1956 года юный Трастайм ждал демобилизации.
— Фил Фофанофф в такой же степени шпион, в какой он розовый фламинго. Он любимец академической общины мира… Сотни, если не тысячи ученых всех полов и убеждений посещали его знаменитую квартиру, вернее, его скандальную берлогу в Кривоарбатском переулке на Старом Арбате. Больше двадцати пяти лет тупая бюрократия не давала ему выехать за границу, даже в социалистическую Польшу, а вы знаете, что советские шовинисты говорят про Польшу: «курица — не птица, Польша — не заграница». Фил всегда был под наблюдением властей. Они видели в нем сомнительную парадоксальную личность, реального или потенциального возмутителя спокойствия, неуправляемого экспериментатора в собственной жизни и в области общественных вкусов, и это, в общем-то, довольно верно.
Но, разумеется, тупые башки не могли принять во внимание, что он просто ребенок, последний романтик, осколок Ренессанса, гений-гуманитарий, оплодотворяющий своих слушателей неистощимыми эякуляциями вздорных идей…
— Впечатляюще! — прошептал Доллархайд. Стараясь не проронить ни слова, он все кивал Трастайму, ободряя того к дальнейшему рассказу.
— Ну, что ж, — продолжал Трастайм. — Я был просто не в силах понять, почему они так жаждут изоляции этого человека в границах Кривоарбатского переулка, в свалке его книг и рукописей, или в рамках случайных приступов дебоша по родной Москве, в лучшем случае — во время вылазок на Кавказ или Камчатку. Слава Богу, его любимая тюрьма простирается на одну шестую часть земной суши, хотя и без выхода к Лондону или в Венецию, не говоря уже о Яйце в дистрикте Колумбия.
Однажды он едва, правда, не покинул свою страну, едва не отправился в дальний путь, но опять же не на Запад. После того как «Аполлон-9» успешно сел на Луну, советские вожди пришли в неистовство. Величие СССР было под угрозой. Построить аппарат, который гарантировал бы пилотируемый полет с возвратом, они не могли, поэтому разработан был трехступенчатый план. Первая ракета должна была доставить на Луну пустой возвратный модуль, вторая привезла бы луноход и, наконец, третья прибыла бы с товарищем камикадзе. Задача последнего состояла в том, чтобы сначала найти луноход, потом доехать на нем до модуля, влезть в модуль, взлететь на орбиту Луны, состыковаться с крейсерской ракетой и уж тогда вернуться на одну шестую часть земной суши, чтобы насладиться поцелуями Политбюро.
По счастливому стечению обстоятельств Фил Фофанофф оказался в это время в разреженной атмосфере вулканической станции на Ключевской сопке. Туда прибыла военная комиссия, чтобы набрать добровольцев для лунной экспедиции. Никто, однако, не захотел попытать счастья, кроме, разумеется, доктора Фофаноффа.
Комиссия, сияя, спустилась из разреженной атмосферы: доброволец-дурак найден! Впрочем, их тут же отрезвили: даже «Аполлон» не взлетит с таким пассажиром. Так что Фил снова провалился со своей страстью к путешествиям. В принципе его раблезианское тело спасло ему жизнь. Больше никто ни звука не слышал об этой лунной экспедиции, что означает два варианта: либо добровольца не нашлось, либо гробанулись…
— Вы бы не возражали, Генри, если бы я спросил, каким образом вы оказались осведомлены об этих удивительных событиях? — спросил Джим не без трепета.
— Мой дорогой сыщик, — вздохнул достопочтенный ШТ, — Фил Фофанофф — один из моих ближайших друзей, если не мое альтер эго. Мы знаем друг друга уже четверть столетия. Он был сотоварищем многих моих прошлых безобразий, если это был я, а не мое трансцендентальное отражение. Понимаете, что я имею в виду?
— Очень понимаю, — тихо сказал Доллархайд. — Эра зарождения самой идеи Молодого мира — трансцендентальные отражения.
Президент Трастайм с полминуты молчал, переваривая идею Молодого мира, а потом воскликнул, будто его разбудили толчком в бок:
— Браво! Клянусь музой ихтиологии, вы вернули мне веру в правительство Соединенных Штатов!
— Фил Фофанофф, — продолжил он, — всегда всех озадачивал. Он мог предстать то прилежным ученым, настоящим трудоголиком, то возмутительным оболтусом и бездельником. В течение одного часа он мог показаться обаятельнейшим, любезнейшим малым и полным хамом, выказывающим омерзительное невнимание к собеседнику, что случалось, когда какая-нибудь идея захватывала его целиком. А его идеи! Он был истинным генератором идей, как гениальных, так и попросту вздорных. Типично ренессансный субъект! Чем только он не интересовался, однако больше всего душа у него лежала к лингвистике. Мы с ним и сблизились на почве лингвистики, хотя и бились много раз из-за проклятых русских префиксов и суффиксов. Я обычно лупил его в пузо, а он меня огревал вдогонку по лопатке…
— То есть я могу предположить, сэр, что вы дрались в буквальном смысле? — спросил Джим осторожно. Трастайм кивнул, подтверждая это предположение. Джим тогда задал еще один важный вопрос: — Он диссидент?
— Ни в коем случае! — воскликнул Трастайм, как будто задетый за живое. — Фил Фофанофф в такой же степени диссидент, в какой он балетный танцор! Разумеется, ОНИ — вы знаете, кого я имею в виду — имеют все основания его не любить, однако не из-за политической активности, а скорее из-за духовной анархии, которую он источает с каждым выдохом своих легких кашалота. Он жил всегда так, будто не замечал ИХ, будто ОНИ не существуют, и этот подход вызывал ярость и правящих кругах.
Позвольте мне сказать вам, мой мальчик… хмм… пожалуй, довольно странный способ обращения к агенту ФБР, но… многие университеты приглашали Фила год за годом. Мы, например, возобновляли наше приглашение двадцать восемь раз. Он получал почетные степени всех институтов Лиги плюща, был точно выбран членом нашего совета, и все без толку. Вы знаете, как действуют эти «больши»; раз уж они постановили кого-нибудь не пускать, никогда не уступят.
— Но разве он не прибывает завтра самолетом Аэрофлота?
— О, да! И это означает, что там действительно происходят значительные изменения. Я приравнял бы это к легализации оппозиционной партии.
Достопочтенный ГТТ встал и прошелся по великолепному персидскому ковру по направлению к картине, изображающей его любимую хрящевую рыбу, ксифиус гладиус, подкласса цельноголовых, что появилась на лице Земли что-то вроде ста миллионов лет назад. Боже, откуда она появилась? Он чувствовал странную нервозность, какое-то несообразное соединение еле различимых промельков старых мечтаний и раздражающих угрызений. Черты лица молодого человека вызывали в нем какие-то туманные видения прежних дней и ночей, одно из его прежних «эго», которые так трудно соединить с ним сегодняшним. Тот прыщавый солдатик-оболтус, сохнущий по… по чему?… по кому…?
— Теперь вы видите, спецагент, почему я решительно отметаю любые подозрения в отношении Фила, — сказал он сухо. — Да и вообще, я не вижу никакого смысла шпионить в Тройном Эл. У нас нет никаких секретных материалов.
Те глаза, те чертовы невинные глазки, те сказочные полеты соображения…
— Вы вообще-то откуда, Джим?
— Из Монтаны, сэр, — ответил владелец невинных глаз и добавил с явным желанием усилить впечатление от его невинности: — Говорят, что у вас тут имеется очень изощренная электронная защитная система, это верно?
— Конечно, конечно, но наша система покрывает только очень редкий оригинальный материал. Во всех остальных случаях все тексты, чертежи, рисунки и прочее стоят на компьютере и доступны любому. Я думаю, что эта утечка из Москвы, о которой вы мне говорили, не что иное, как глупая шутка. Почему вы вздрогнули, Джим?
Спецагенту не хотелось, чтобы утечка из Москвы оказалась глупой шуткой.
— Нет-нет, ничего, простите, Генри, это просто рефлекторно… Значит, я могу предположить, что этот замечательный джентльмен Филларион Флегмонтович Фофанофф начнет у вас работать через пару дней?
Генри Трастайм улыбнулся, как бы предвкушая дивную встречу.
— Его уже ждет отдельный кабинет в Галерее Гей-Люсса-ка. Комната с голубыми стенами, все голубое. Какого черта вы все вздрагиваете, Джим?
— Простите, сэр… это просто, вы знаете… ну… такая удивительная комбинация… голубая комната у Гей-Люссака… Позвольте мне прежде всего вас заверить, что доктор Фофанофф — забавное имя даже для русского, не так ли? — которым я уже, после ваших фантастических историй, заочно восхищаюсь, ни в коем случае не является объектом какого-то специального расследования. Мое любопытство было вызвано просто совпадением его приезда с некоторыми, пожалуй, слабыми струйками только что полученной и неподтвержденной информации. Однако, просто чтобы предотвратить возможность неприятных последствий, которые могут возникнуть из-за этого абсурдного совпадения, я надеюсь, вы не будете возражать против моего короткого пребывания в Тройном Эл в качестве, скажем, молодого ученого из провинциальной Монтаны?
Спецагент Доллархайд осознал свой ляп еще до того, как закончил свой замысловатый пассаж. Достопочтенный ГТТ, президент Либеральной лиги Линкольна встал перед ним, подбоченившись. Губы его искривила сардоническая усмешка. Затем он поднял руку над головой и сказал:
— Видите эту грешную руку, юный сыщик? Следите за ее движением!
Описав полукружие в благородном воздухе знаменитого учреждения, грешная рука опустилась на низ живота господина президента и несколько раз подпрыгнула в этой области, как бы говоря: «Вот все, что вы от меня получите».
— Надеюсь, намек понят, — продолжил почтенный ГТТ с исключительным кавалерством. — Этот красноречивый жест древних скифов был возрожден советскими полярниками тридцатых годов. Сообразительная молодая ищейка, каковой вы, несомненно, являетесь, может легко перепрыгнуть от тех кочевников к современным бродягам русского алфавита, похожим на лаги некие буквы Икс и Игрек, а также к их младшему брату И краткому. Я ясно говорю? Рад, что вы правильно поняли. Теперь позвольте кое-что добавить. Я чертовски извиняюсь, Джим, но если я когда-нибудь увижу вас в помещениях Тройного Эл, у меня не будет другого выбора, как защитить свой институт от вашей сверхревностной опеки. Вам понятно?
— Еще бы, сэр, — Доллархайд поднялся и предложил Трасгайму прощальное рукопожатие вместе с понимающей и немного меланхолической улыбкой. Трастайм протянул ему руку и вдруг отдернул ее, будто ударенный электричеством. Вместо того, чтобы с галантным сарказмом проводить своего назойливого, хотя и приятного, незваного гостя, он сел на краешек стула, уронил го-лову и начал выборматывать какие-то абсурдные сгустки слов: «О, память… эй, Роджер, моя очередь… те страницы, то лицо… память все еще гложет… то тело, та улыбка… Роджер, слышишь?…»
Спецагент Доллархайд вежливо поклонился и вышел из президентского кабинета, спасая себя тем самым от головокружительного парашютирования к самим истокам Молодого мира, а именно к армейским казармам, очарованным глянцевитыми портретами Мисс Монтана 1956. «…Те ночи… фонарики под одеялами… те сказочные перелеты…»
Проходя через гулкий, тускло освещенный коридор в президентской секции Яйца, Джим уловил чей-то быстрый промельк под высоким потолком. Не одна ли из Валькирий? Можно предположить, что даже хорошо тренированный агент ФБР, каковым Джим, несомненно, являлся, мог испытать не очень-то комфортабельное чувство под парящей Валькирией. Он вышел из Яйца и поблагодарил обелиск Вашингтона за его убедительное участие в солнечном, воздушном, деловом дне вполне реальной эспланады.
МАСКИРОВКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
Джим прикатил в международный аэропорт имени Далласа задолго до прибытия аэрофлотовского рейса. Хоть ничего драматического и не предвиделось и единственной его целью было мимолетное знакомство с «объектом», он хотел, чтобы начало операции было отмечено высшим классом. Нота высшего профессионализма правильно настроит весь концерт.
В «Информации» ему сказали, что пассажиры советского лайнера будут выходить либо из выхода А, либо из выхода Ф-12, в зависимости от того, какой выход будет объявлен первым. Между двумя этими пунктами лежало пространство размером с футбольное поле, так что преждевременное прибытие для организации потаенного наблюдения вовсе не было занудством.
В окрестностях выхода А имелись приятные, хорошо дизайнированные контрразведывательные удобства, а именно: газетно-журнальный киоск, магазин подарков и закусочная, в то время как Ф-12 не мог предложить ничего, кроме кресла для чистки обуви. К счастью, между А и Ф-12, как раз на полпути, располагался блок туалетов, и это давало спецагенту хорошую возможность для быстрого изменения наружности: он мог легко нырнуть в одну из двадцати четырех имеющихся мужских или женских кабинок, чтобы прилепить удлинение к своему носу, или напялить рыжий парик, или сменить академический твидовый пиджак на кожаную пилотскую куртку… по обстоятельствам.
Через десять минут, потягивая чай со льдом в кафетерии, Джим заметил в толпе, вернее, над толпой, говорящие головы президента Трастайма и начальника охраны Тройного Эл Каспара Свингчэара. Два высоких господина медленно двигались к выходу А. Они казались членами одной команды, хотя первый был строен и безукоризненно одет, в то время как штаны и рубашка второго под постоянными наступательными акциями пуза готовы были в любой момент распрощаться.
«Все-таки у морской пехоты пятидесятых есть некоторые основания для гордости», — подумал Джим и быстро нырнул под защиту газеты «Вашингтон пост». Прячась за этой надежной и влиятельной газетой, он прилепил кустистые брови и баки на соответствующие участки лицевого пространства. Сделав это, он прижал большой палец к ободку своих, мягко говоря, не совсем обычных очков, чтобы активизировать вмонтированный в них направленный микрофон. И как раз вовремя. Чудо современной технологии немедленно стало вылавливать из гула толпы обрывки довольно ценной информации.
Достопочтенный ГТТ: «Перестань, Касп… он тебе понравится… Мы с ним корешились в Москве, как когда-то корешились с тобой в Токио… Поверь, московские ночи шестидесятых стоили токийских рассветов пятидесятых…»
Каспар Свингчэар: «На фиг твои ночи и рассветы… с тех пор, как я стал твоим начальником охраны, Генри, я резко переценил свое мнение обо всех этих гудилах вашей вшивой академической братии, особенно о паразитах из «старых стран»…
ГТТ: «Раньше никогда не замечал за тобой склонности к шовинизму, Касп. Всегда держал тебя за гражданина мира. Гош, в траншее демилитаризованной зоны я слышал, как ты насвистывал Шостаковича…»
Свингчэар: «Заткнись со своими воспоминаниями, парень! Как выглядит эта твоя советская задница?»
ГТТ: «Когда-нибудь видел кентавров?»
Свингчэар: «Хел-дамит-дади-мак, пока что не приходилось».
ГТТ: «Сегодня увидишь одного».
Еле слышное и почти неразборчивое объявление по аэропортовским громкоговорителям все же информировало, что выход А вряд ли будет подходящим местом для встречи кентавра. Джим бросился со всех ног к выходу Ф-12, прыгнул в возвышающееся, как трон, кресло чистильщика обуви и сказал дежурному философу:
— Видите, я типичный венецианец, а мы там в Венеции знаем законы отражения. Пусть мои ботинки сияют и отражают, как венецианские зеркала, договорились?!
Сразу же он был снабжен доброй порцией мизантропии:
— Может быть, в Венеции обстоит по-другому, но здешний народ не достоин отражения в хорошо отполированных штиблетах.
Чистка началась. Джим похвалил себя за исключительную маскировку. Он смело встретил взгляд приближающегося профессора Трастайма и даже не сразу удивился, когда тот сказал с полной невозмутимостью:
— Перестаньте валять дурака, Доллархайд!
Ну, и ляп! Неопытный новичок контрразведки был бы ошеломлен и угнетен таким провалом на целые месяцы. Джим Доллархайд был не этого десятка. Стиль жизни городского профессионала, йаппи, научил его находить определенную поэзию в постоянном чередовании взлетов и провалов. Выслушав завершающее рычание мизантропа — «ваши чертовы венецианские зеркальщики съедят свои шляпы из ревности», — он бросился в уборную, где добродушный рыжекудрый венецианец был быстро заменен вызывающим германским мужланом в кожаной куртке левацкого комиссара. Он появился у выхода Ф-12 как раз вовремя.
Слоноподобная личность только что вышла из тоннеля. Конечно, невероятное туловище с могучими руками и ягодицами не могло не вызвать у иной изощренной публики воспоминаний о мифических бестиях Эллады, однако большинство клиентов аэропорта имени Далласа, если даже и замечало это тело, не видело в нем ничего более, чем обыкновенного увальня с северных равнин, если, конечно, оно, большинство, не вглядывалось в черты его лица. Если же оно вглядывалось, то, разумеется, замечало причудливые гримасы этого лица и, несомненно, улавливало пары иностранного бренди, выделявшиеся с каждым движением мимических мышц.
Передвигая застежку-молнию на своей куртке, Доллархайд сделал несколько снимков объекта. Объект ему понравился в этот раз даже больше, чем на просмотре слайда в кабинете начальства, хотя советский не выказывал никаких признаков экзальтации в связи со своим первым в жизни заокеанским путешествием. Тем временем в глубине левого внутреннего уха спецагента звучал спокойный, немного хриплый, хоть и высокий по тембру голос, производящий серию маленьких взрывов с каждым звуком «п» и «т». Профессор Фофанофф обращался к администрации Тройного Эл.
— …До чрезвычайности сожалею, джентльмены, что представляю из себя столь отталкивающее сопорифическое зрелище. Усыпляющая комедия, которой нас развлекали в дороге, горсть транквилизаторов, чтобы подавить воображение, и дюжина двойных порций армянского коньяку, чтобы осмыслить концепцию моей перегринации как таковой, все это сделало свое дело.
— Добро пожаловать в Америку, долгожданное привидение, — воскликнул Трастайм и восхищенно обнял Фила Фофанноффа, точнее, одно из его гигантских плеч.
— Что касается сопутствующих затрудненностей, — продолжил советский джентльмен после объятия, — я должен признаться в полнейшей утрате бумажника вместе с его содержимым. Это плачевное событие оставило меня существенным образом импекьюниус…
— Что-что? — спросил ошарашенный Каспар Свингчэар.
— Остался без денег, — пояснил Трастайм, давно уже знавший манеру Фила изъясняться по-английски.
— А где ваш багажный квиток? — спросил начальник охраны. Фофанофф начал шарить в бездонных карманах, потом испустил вздох и промямлил:
— Если сказать ин орто…
— Как сказать?! — Каспар испустил шипение как бы от лица всей оскорбленной Вирджинии. — А вам не кажется, друг, что вы не в ту страну заехали?
Филларион продолжал рыться в карманах. Позднее он прижался, что не понимал ни слов, ни смысла этого вирджинского возмущения.
Трастайм дружески пихнул кентавра своим костлявым плечом и прошептал в его неожиданно свежее и розовое ухо, которое просвечивало сквозь ирландский мох бакенбарда, словно вполне съедобный гриб:
— Не обращай внимания, этот брюзга тебе позже понравится. Ну, что ты хотел сказать ин орто?
Доктор наук Фил Фофанофф пожал плечами и вздохнул.
— В добавление к упомянутой выше суровой беривементации я должен признаться, что утратил контроль над соответствующей документацией, касающейся моего импедимента.
— Короче говоря, нет ни денег, ни квитка на багаж, — перевел президент Трастайм своему начальнику охраны.
Живописное трио тем временем медленно, но неуклонно двигалось в направлении бара «Завсегдатай небес». Вдруг кто-то обратился к Генри Трастайму с безупречной сердечностью:
— Господин Трастайм, сэр! Какому событию я обязан этой неожиданной встречей?
Этот неподражаемый русский акцент! Трио повернулось и увидело мужчину средних лет в аккуратном костюме-тройке, с аккуратными усиками и аккуратнейшей прической, иными словами — сама аккуратность и компактность. Ба, советник Черночернов, какими судьбами! Ну, конечно же, это не кто иной, как советник по садовым культурам из советского посольства. Товарищ Черночернов лично. Нечего и говорить, его появление в аэропорту не имело никакого отношения к прибытию доктора Фофаноффа; он просто провожал группу голландских тюльпановодов. И вот, какое счастливое совпадение — провожать группу голландских тюльпановодов и сразу после этого познакомиться с гордостью советской гуманитарной науки! Нет-нет, я не льщу, дорогой товарищ, ваши заслуги признаны во всем мире, иначе уважаемый вашингтонский институт не выбрал бы именно вас из множества блистательных советских ученых. Браво, браво! И позвольте мне также сказать, даже рискуя показаться излишне патриотичным: нельзя не аплодировать мудрости нашего нового руководства за утверждение такого масштабного научного обмена. Перестройка в действии, джентльмены!
Генри Трастайм не мог поверить своим глазам и ушам: советский официоз заискивает перед скандальным Фофаноффым.
— Выпьем за новую эру, за новое мышление! — воскликнул Черночернов в баре.
В следующий момент бокал, наполненный ничем не меньше, как «Дон Периньоном», вырвался из его рук, будто подхваченный волной какого-то непостижимого сотрясения и разлетелся об стенку. Странный объект, очевидная причина этого сотрясения, висел в воздухе «Завсегдатая небес». Продолговатый и чешуйчатый, он напоминал бы селедку, если бы в то же время он не напоминал ракету «земля — воздух».
Выбив бокал из руки советского дипломата, «селедка» продолжила свой замысловатый, явно разведывательный полет, наугад раздавая мощные шлепки клиентуре бара. Все были ошеломлены, кто-то громко рыгал. Что за адская «селедка»! Послышался дикий вопль: «Я это заслужил!» Истерическое хихиканье. Каждый считал, что это уж, знаете ли, слишком.
— Внимание! — взревел вновь прибывший профессор. «Селедка» остановилась в воздухе. Она светилась изнутри и явно занимала позицию для атаки. Все онемели, кроме двоих. Первый, некий храбрый германец, перепрыгнул через стол и замер, держа пистолет двумя руками. Второй, а именно Филларион Флегмонтович Фофанофф, просто схватил «селедку» за ее мощный, похотливо дрожащий хвост. Результат этой спонтанной и, пожалуй, примитивной акции превзошел самые оптимистические ожидания. Внутреннее свечение моментально угасло, и объект (или субъект?) задергался в отчаянных конвульсиях. В конце концов он вырвался из кулака Филлариона и немедленно растворился в табачном дыму.
Позже, когда Генри Трастайм спросил своего друга, как тому удалось продемонстрировать такую безупречную смелость, профессор Фофанофф выступил с несколько туманным признанием: «Верь не верь, старик, но мне всегда в метафизическом плане нравилось принимать желаемое за действительность».
Глава вторая
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Через неделю после прибытия Филларион Фофанофф выступил с лекцией в рамках послеполуденных сессий Тройного Эл. Название лекции звучало так: «Советские шестидесятые. Генеральная репетиция Перестройки?» Первая же метафора, которую он использовал в своей презентации, потрясла аудиторию.
— Вообразите себе картину, господа: первые трещины на безжизненной поверхности асфальтовой пустыни социалистического реализма, и поднимающиеся из них к ужасу ошарашенной бюрократии первые травы Ренессанса, пусть бледные, но упорные…»Поэтическая лихорадка» и «гитарная поэзия»… «Новая волна» в советском кино и «молодая проза»… Новые театральные коллективы и возрождение великого русского авангарда в живописи… «Новый мир» и дискуссионные клубы в городках науки… Первые ростки борьбы за права человека и «самиздат»…
Первый, первая, первое… Аудитория обменивалась многозначительными взглядами: кто бы мог подумать, что советский гость, хоть и «птичка гласности», окажется таким откровенным, спонтанным, таким, прямо скажем, антисоветским?
Откровенно говоря, еще за день до сессии никто из членов совета не был уверен, что московский ученый согласится на председательство почтенного девяностолетнего мудреца старой белогвардейской школы Александра Евтихиановича Пулково-Бреднеколесниковского, которого все звали «Ал». Прежде советские гости изо всех сил старались избегать «эмигрантского отребья», высказывая в лучшем случае холодную вежливость, если не открытое недоверие. Профессор же Фофанофф просто вскричал в полном восторге: «Какая удача выпала на мою долю! Увидеть живую легенду, властителя дум всей мыслящей России!» Вслед за этим он предложил Алу огромнейшее объятие.
Нечего и говорить, обнявшаяся пара, заняв немало квадратных футов возле стола с бутылками хереса, дала сильный толчок постоянно угасающим надеждам на конвергенцию. Во время ланча Фил и Ал время от времени предавались углублению в свои родословные, пока, к общему триумфу, звено, соединяющее два их клана, было найдено в лице его превосходительства адмирала фон Котоффа. Скоростные клиперы адмирала когда-то терроризировали канадских браконьеров вдоль восточного побережья Камчатки. На рассвете пролетарской диктатуры адмирал был заклеймен как клеврет хищнического российского империализма. Впрочем, в нынешние времена сильной зрелости пролетарского государства он был признан как выдающийся географ и сеятель просвещения среди малых народов Севера.
В процессе лекции Филларион безгранично пользовался феноменом, известным в академических кругах как «язык движений». Посреди валящихся восклицательных и вопросительных знаков он вдруг вздымал свои гигантские верхние конечности и давал им обрушиться, как мощному фонтану, в то время как его рот извергал остатки спагетти по-милански, что он столь небрежно жевал во время предшествующей дискуссии за ланчем.
Мы помним, конечно, что нашему храброму спецагенту Джиму Доллархайду вход на эту лекцию, да и вообще в помещение Тройного Эл был заказан. Однако с помощью современной технологии он наблюдал всю конференцию со строительных лесов па другой стороне авеню Независимости. Нет-нет, думал он, этот малый не может быть шпионом. Какой шпион когда-нибудь пристегнет пиджак к жилету? Все, что угодно, но только не это!
Большое возбуждение было вызвано пением Филлариона, когда он с вдохновением исполнил московскую уличную песенку шестидесятых:
Марья Петровна идет за селедочкой,
Около рынка живет.
А над Москвою серебряной лодочкой
Новенький спутник плывет.
Марье Петровне жалко целкового.
Три ему дать, али пять?
А над Москвою-то спутник, как шелковый,
Новенький мчится опять.
Далее он поведал пораженной аудитории, что распространение этой песенки заставило Политбюро привести в состояние боевой готовности антиповстанческие войска и отряды спецназа.
Достопочтенный Генри Трастайм сиял: его кореш штурмом взял привередливую аудиторию. Либералы, которые, разумеется, составляли большинство, торжествовали: посмотрите, как он естественен и как открыт! Ни малейшей доли доктринерства не угадывается, ни малейшего инструктирования! Вот вам Ее Великодушие Гласность! Не следует ли нам отбросить весь этот вздор об Империи зла?! Если даже он и уникум среди советских ученых, которые обычно выглядят, следует признать, несколько скованными и напыщенными, все-таки ведь именно его выбрали для приезда сюда в данный момент. Не означает ли это, что советские хотят расширить наш диалог, преодолеть мерзкие пережитки холодной войны, культа личности, назовите, как хотите?…
Что касается консервативного меньшинства, то оно призывало к состоянию прохладной, но дружелюбной сдержанности, сохраняя верность своему нынешнему лозунгу: «Доверяй, но проверяй». Впрочем, один почтенный джентльмен, а именно заместитель директора Пит Клентчиз осторожно осведомился у начальника охраны Каспара Свингчэара, не намерен ли доктор Фофанофф попросить политического убежища. В ответ дюжий охранник пожал плечами, что могло и означать, что он не удивился бы.
Все иностранные сотоварищи Либеральной лиги Линкольна приветствовали москвича без оговорок. Утонченный аргентинец Карлос Пэтси Хаммарбургеро аплодировал. Индийская композиторша, два польских историка (один от правительства, другой от «Солидарности»), израильский экономист, высокопоставленный румынский чиновник, беглый эфиопский посол — все были впечатлены спонтанностью доктора Фофаноффа и его пузырящейся эрудицией. Что касается японского исследователя Татуи Хуссако, то он, демонстрируя набор своего самого отменного хихиканья, подошел к москвичу и представился как Федор Михайлович, что было, по его мнению, русским эквивалентом его имени. В вашем лице, доктор Фофанофф, сказал он, я вижу вечнозеленый дуб великой русской культуры.
Увы, ни одна компания не обойдется без нахала, и Либеральная лига Линкольна не была исключением из этого исключения. Даже и среди всеобъемлющего восторга чувствительная персона — а доктор Фофанофф был исключительно утончен под своей слоновьей кожей — может уловить возникающую где-то волну враждебности и вызова. С сожалением мы должны признать, что эта отталкивающая волна исходила от самой привлекательной личности в толпе ученых, а именно от лиловоглазой тридцатидвухлетней Урсулы Усрис, кандидата наук из Австралии.
Цветущая личность, истинный символ освобожденной женственности, с гибким, хорошо тренированным телом, определенно выделялась из несколько доскоподобного женского контингента Тройного Эл.
Стоя в позиции фехтовальщика, проверяющего кончик своей рапиры, она бросала искоса взгляд на нашего триумфатора и не очень церемонно спросила по-русски:
— А вы не врете?
Филларион был огорошен. Сначала он вдохнул такое огромное количество воздуха, что многие почувствовали головокружение, внезапно оказавшись в разреженной атмосфере. Потом он выдохнул в два раза больше воздуха, создав тем самым порыв сродни Карибскому урагану…
— Что вы имеете в виду, милостивая государыня?
Она вызывающе рассмеялась.
— Камнями по воронам! — ох, уж эти австралийские выражения! — Вы не преувеличиваете свою «генеральную репетицию?» Ваш так называемый поиск чистоты действительно существовал когда-нибудь? Простите, старина, но мне трудно не предположить, что все эти, трали-вали, ваши «движения» не что иное, как жалкие попытки русских нытиков и слабаков имитировать западную моду.
Он задохнулся от возмущения.
— Простите, сударыня! Вы посягаете на наш Ренессанс! В толпе отозвалось: постыдитесь, постыдитесь, сударыня! Улыбка Урсулы, лучшее, что может предложить стоматология Южного океана, пронзила Филлариона будто смертельный лазерный луч.
— Струс! Я и гроша не дам за ваш говенный русский Ренессанс!
Резкий разворот… взлет каштановой гривы… Боги, милосердные боги Балтики, ее тылы могут гордо конкурировать с фронтами!.. уходит, как королева.
— Великодушные дамы, благородные господа, ради Небес, кто она?
— Да конечно же австралийка, мы их тут зовем «оссис», сэр.
Теперь вообразите картину: великолепный ученый-женщина гордо вышагивает по пересекающимся переходам знамени-того института, в то время как президент этого института, достопочтенный Генри Трастайм трусит позади нее, подобно заместителю премьер-министра, трусящему за премьер-министром в одной из тех стран, которым повезло быть под управлением матриархата.
— Урси, подожди! Доктор Усрис, умоляю! — взывал он. — Поговорим как ученый с ученым. Не думай, что я хочу воспользоваться нашими прошлыми, столь взаимно благотворными отношениями. Я просто хочу признаться, что мне было очень прискорбно видеть тебя в приступе русофобии. Доктор Усрис, вы признаны повсюду как великий знаток их междометий, как теоретик их апокрифов… Конечно, я припоминаю, как вы однажды сказали, что предпочли бы изучать их как древних греков… однако, я надеюсь, вы не хотели сказать, что предпочли бы их изучать мертвых… о, нет… позволь мне заверить тебя, Урси, я и сам иногда разделяю твои сомнения в их достижениях, но все-таки то, о чем сегодня говорил Фил, я знаю из первых рук. Просто потому, что мне случилось быть участником тех событий и, пусть я опущусь еще ниже в твоих глазах, тех вакханалий… так что… как бы чайльдгарольдски для серьезного ученого ни прозвучал доклад Филлариона, все-таки было в этом зерно истины…
— Это правда, что у него была кличка Хобот в его Кривоарбатском переулке? — Урсула в конце концов снизошла до вопроса.
— Ну, конечно! — ГТТ радостно подхватил вопрос как добрый знак будущего примирения. — В нашей шайке мы перевели его кличку на «Пробосцис». Ему это даже больше нравилось. Пробосцис! Звучит?
— Очень даже, — она серьезно кивнула. — У меня всегда была склонность принимать глупые метафоры за отражение реальности.
Прощаясь, она последовательно преподнесла президенту улыбку, подмигивание и мощный шлепок по его тощим ягодицам.
— Ты должен мне рассказать подробнее об этой лиловоглазой даме, — настаивал Филларион, когда друзья остались одни в Гостиной Диогена, среди стекла и красного дерева, над панорамой американской столицы. — Клянусь, я выслежу истоки ее русофобии до самых глубинных тайников, размотаю истину до полной обнаженности! Так что, Сакси, не тяни и расскажи мне, почему доктор Усрис так яростно нас не любит!
Генри смутно улыбнулся, услышав свою кличку старых времен, внезапно выскочившую из забвения. Сакси, человек с саксофоном.
— Не забывайся с метафорами, Пробосцис! Если она решит когда-нибудь размотать перед тобой свою истину, она просто спросит, не хочешь ли ты прокачать систему.
— Что это значит, прокачать систему?
— Что это на самом деле значит? — подумал третий участник беседы, невидимый ни Сакси, ни Пробосцису.
У спецагента Джима Доллархайда, застывшего на строительных лесах возле Федерального монетного двора, все ушки Пыли на макушке, вернее, вся электроника была на заднице.
Сверхчувствительное устройство, что высовывалось из заднего кармана его комбинезона и имело вид обыкновенной щетки для волос, помогало нашему контрразведчику следить за малейшим изгибом диалога.
Между тем каждый следующий шаг в разговоре двух друзей уводил их все дальше и дальше назад из текущего момента с его щедрым разливом декоративных отражающих прудов вдоль Вашингтонского мола, от зеркальных поверхностей, на которых новые выводки утят резво пересекали отражения торжественно парящих чаек.
— Между прочим, Фил, ты не думаешь, что наша самонадеянная красавица в чем-то права? Тебе никогда не приходило в голову, что мы преувеличиваем достижения шестидесятых на обеих сторонах Атлантики? Отдавая должное вашему поколению со всем его спектром вдохновений, я не могу не признаться, что ярчайшим моментом того времени для меня до сих пор является безобразнейшая Свалка-68 в ресторане «Искусство» на углу Горького и Пушкинской площади. Будешь ли ты возражать, если я предположу, что та морозная ночь ранней весны со всем ее пьянством и чванством, хохотом и похотью, аканьем и траханьем, махаловкой и нахаловкой и с завершающим заключением в вытрезвительный центр «Полтинник» была лучшим воплощением твоей «генеральной репетиции», чем все абстрактные концепции духовных откровений, о которых ты сегодня говорил в своей блистательной лекции?
Филларион Ф. Фофанофф сморщил свое обширное лицо в гримасе, напоминавшей застывшее землетрясение.
— Давай лучше бросим эти глупые воспоминания.
— Почему? — энергично возразил Генри Тоусенд Трастайм. — Если не мы, то кто же вспомнит об этом внутри данного Яйца?
УКОЛЫ НОСТАЛЬГИИ
Да, это она виновата, она, мое незабываемое очарование. Именно Ленка Щевич поневоле, как обычно, начала катить тот снежный ком, Свалку-68.
Генри Трастайм вздохнул, вспоминая хрупкие плечики «своего очарования», вспоминая и самого себя в том году, розовощекого, с обмороженным носом, обмотанного драным оксфордским шарфом. В те времена он неустанно повторял свою любимую фразу: «Все любят И, а я И краткое!»
— Верно! — рев Филлариона Фофаноффа можно было бы сравнить с одновременным спуском воды в гальюнах авианосца. — Немало мопсов поломали себе носы из-за этой чувихи!
Он припомнил кристально чистое небо той ночи, столь редкое в загрязненной атмосфере Москвы, когда он стоял на углу Горького и Пушкина, охваченный неудержимым желанием завалиться в ресторан «Искусство», прекрасно понимая, какой опустошительный удар нанесет это желание по его морали, не говоря уже о физиологии и финансах.
В тот же вечер два молодых актера из передового театра «Новый век», Борька Мурзелко и Ленка Щевич, мальчик и девочка, завалились туда же перекусить. В американской пьесе «Качели» укачиваешься до голодного обморока! Ленкины лживые глаза подобны паре голодных калейдоскопов. Слухи о моей распущенности чертовски преувеличены, дорогие братья по ремеслу и друзья советского театра! Некоторые гудилы заходят так далеко, что говорят, будто Ленка играла подводную лодку в компании пяти моряков. Фуй, какой вздор, да ведь это просто немыслимо ни по физическим, ни по моральным
стандартам!
Борька, комсорг «Нового Века», пожертвовал своей репутацией ради Ленкиного человеческого достоинства. Занудными часами утреннего похмелья он лепил ее скульптуру из импортного пластилина.
Вопреки установившемуся мнению, говорил Мурзелко, мы, современные актеры, не бессмысленный, необразованный сброд, просто строительный материал в руках режиссера. Молодой советский актер шестидесятых — гордая и смелая личность, приобщенная к передовым идеям, к современной философии Запада и Востока! Понимаешь меня, Ленка?
Ленка кивала, стараясь как можно быстрей покончить с горячим блюдом, известным здесь как селянка «зубрик». Она притворялась, будто полностью поглощена этим самым дешевым и самым популярным едалом (есть гудилы, утверждающие, что зубрик — это ничто иное, как меланж из ресторанных остатков), и только изредка бросала искоса взгляды на соседний столик, где сидел ее четвертый муж. К двадцати годам Ленка сподобилась иметь на своем счету уже четырех законных мужей. Этот четвертый, собственно говоря «текущий», красивый дурак Александров, был известен широкой публике как Дитрих Фокс, изысканный эсэсовец, роль которого он играл в популярном сериале.
— Распутная тварь! — произнес Фокс — Александров, обращаясь ко всем присутствующим. Ублюдок до сегодняшнего номера и думать не думал о существовании жены, однако сейчас ему захотелось сыграть роль обманутого мужа. Хочет, чтобы его побили, догадывалась она, вот именно этого он и хочет.
— Почему? — Фокс — Александров подверг свой голос профессиональной акселерации. — Братцы, почему все мои жены обязательно проститутки?!
Все присутствующие повернулись к нему, и он, в соответствии с тем, чему его учили в актерской школе, зафиксировал позу невинного изумления.
— Почему, братцы?!
Ленка не поднимала глаз от тарелки, хотя и подсчитывала в панике: Артур, Мишка, Жека, Кока, Хобот, Иван, америкаша Сакси… по меньшей мере, семь родственных душ в округе, и все поддатые, и все готовы к бою, кошмар!
Все были готовы, кроме ее сегодняшнего рыцаря, актера нового интеллектуального типа, который, прожевывая свое сомнительное едало, продолжал развивать не менее сомнительную концепцию современной философии в ее приложении к московскому театру времен Великого Ренессанса, нравственного возрождения, в наши времена Поиска Чистоты, в поворотный момент русской цивилизации. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Читала Тютчева, Ленка? Бенц!
Артур, не надо! Фокс, встать! Сейчас получишь хорошую плюху за свои грязные выпады в адрес благородной юной дамы, что путешествует в одиночестве по стране негодяев! Бенц! Где же Фокс? Не видите? Да вот он, ползет к выходу! Бей его в грешный зад, если еще веришь человечеству! Бенц! Кока, Жека, на помощь! Подонок! Да как ты смеешь бить в зад благородного русского актера?! Опять грузины! Эй, ребята, тут грузины бьют многострадальный русский народ! СОС! Бенц! Молчи, Баранкин!
«Искусство» вспыхнуло в один миг, как тот стог сена, о котором упоминал Лев Толстой, говоря о духовной революции. Первоначальная причина драки была немедленно забыта. Актеры и другие завсегдатаи печально известного богемного стойла в сердце «образцового коммунистического города», «столицы прогрессивного человечества» щедро обменивались всеми видами биток, бросков и захватов. Обмен шел без разбора и во всех направлениях. Многие предметы ресторанного обихода пошли в ход, особенно бутылки и вилки, а также стулья, скатерти, алебастровая березка, этот символ русскости, сковородки с незаконченной селянкой «зубрик», длинные и твердые болгарские огурцы, пригодные для разгона уличных демонстраций… Словом, искусство ради искусства.
Позже некоторые свидетели, то есть участники, поскольку никто в стопятидесятиместном заведении не остался без дела, кроме Мурзелко, который тихо расплатился и ушел, погруженный в раздумья, вспоминали наиболее выдающихся бойцов. Среди них был, конечно, главный вышибала, отставной капитан дядя Володя (самый коварный), и, разумеется, боксер-тяжеловес, чемпион Европы Авдей Сашкин (самый мягкий), ну, и гигантский гуманитарий с Арбата Филларион Фофанофф — Хобот (самый сокрушительный), и один американский чудила, посол доброй воли Сакси Трастайм (самый забавный), а как же без него.
Последний нырнул башкой вперед в кучу малу, спас «свое очарование» Ленку Щевич из похотливых лап пяти кавказских пилотов. Перевернув несколько столов, он обратился к пяти парализованным от ужаса японским туристам с призывом создать незыблемый бастион свободного мира.
Милиция явилась с обалденным опозданием. Она окружила «Искусство», когда веселье было фактически окончено. Только те, кто не мог удерживать вертикальной позиции, оставались на полу. Некоторые из них храпели, другие взывали к духу пуританства, многие пели шлягер сезона «Мимоходом, мимолетом, пароходом, самолетом…»
Бой тем временем продолжался снаружи вокруг монумента российской любви и славы. Некоторые предлагали взять здание Центрального телеграфа. Чемпион принял предложение возглавить временное правительство. Фил Фофанофф-Пробосцис украл ментовский мотоцикл с коляской и предложил прокатиться парочке цыганок. По неизвестным причинам, он был одержим увидеть двух гигантов современного мира, Федора Достоевского и Карл Маркса.
Сначала он поехал на Божедомку, где в саду Туберкулезного института стоит полузабытый пророк в ночной рубашке, сползающей с его грешных плеч. Оттуда отправился в самый центр, где вздымается гранитный Отец Коммунизма, с двумя перелетными птицами, нашедшими по пути с Кипра пристанище на его объемной голове.
Потом Фил Фофанофф исчез из виду, а также из своих воспоминаний…
Двадцать лет спустя достопочтенный Генри Тоусенд Трас-тайм спросил своего друга профессора Фила Фофаноффа:
— Где же ты был до того, как мы на следующее утро столкнулись возле бочки с огурцами на Центральном рынке?
Разговор между двумя светилами гуманитарной науки проходил, напоминаем, в Диогеновой гостиной Либеральной лиги Линкольна.
— Понятия не имею, — пробормотал Фил. — Последнее, что ч помню, был огромный лозунг: «Коммунизм — светлое будущее человечества!» Мотоцикл нес меня прямо на него с ошеломляющей скоростью. В голове была только одна идея: «Красота спасет мир!» После этого полный провал, затем — бочка с огурцами…
Они оба вздохнули. Золотые шестидесятые! Молодая зрелость!
— Можешь себе представить, Пробосцис, я полностью потерял следы моей прелести Ленки Щевич. Ничего о ней не слышал с тех пор… — сказал ГТТ.
— Она здесь, — безразлично пробормотал Филларион.
— Где?! Бога ради, где она?! — вскричал Трастайм с безудержной страстью.
— В Штатах. Я знаю точно, что она эмигрировала и поселилась где-то в Чикаго, — мямлил Фофанофф, растирая себе лоб и виски.
— Боже Всемогущий! Она в Чикаго! — Трастайма бросало и в жар, и в холод. — Замужем? Отягощена семьей?
— Можно только догадываться, — сморщился Фофанофф. По непонятным причинам он выглядел мрачнее тучи; явно впадал в депрессуху.
Друзья не замечали изменений в настроении друг друга. Фофанофф встал.
— Прости, Генри, но воспоминания о той ночи или, вернее, провал в воспоминаниях всегда оставляют меня побитым и помятым, как благородный русский самовар в руках французских мародеров. Ты не возражаешь, если я тебя оставлю и отправлюсь на каток?
— Ну, разумеется, Ваше Превосходительство! — воскликнул Трастайм, даже не обратив внимание на странное направление своего протеже. Он был весь поглощен жаркими расчетами. Прошло двадцать лет. Ей сейчас сорок. Женщины этого типа могут совершенно не измениться! О, если бы она хоть наполовину осталась той же Ленкой Щевич! Друзья расстались.
Джим Доллархайд спрыгнул с лесов и бросился через авеню Независимости к тележкам уличных торговцев. Он купил пакет жареной картошки «френч-фрайз» и вышвырнул его содержимое в мусорную урну. Потом он купил губную помаду и с помощью этого дивного прибора нацарапал на картоне два слова: «эмоциональная нестабильность». Две толстые бабы смотрели на него с автобусной остановки.
— Че это мужик делает? — спросила одна.
— Мужик пишет губной помадой на пакете из-под картошки, — сказала другая.
— Понято, — сказала первая. Подошел автобус.
В СРАВНЕНЬЕ С ЧЕМ?
— Что он, действительно на коньках катается? — спросил Мелвин Хоб-Готлиб, выказывая что-то выше обычной фэбээровской любознательности.
— Еще как! — воскликнул Джим с энтузиазмом, который заставил брови старшего агента Брюса д’Аваланша взлететь вверх и воспроизвести галочку на его лице вечно дежурного офицера.
— Вы должны увидеть это сами, доктор Хоб! Стоящее зрелище! Есть нечто сюрреалистическое в том, как он скользит на фоне нашего величественного Национального архива, сдвинув набекрень свой гоголевский шапокляк! Скольжение — моя вторая натура, поясняет он. До недавнего времени он этого не знал, пока при стечении благоприятных обстоятельств вдруг не выяснил, что преодоление законов трения — это ничто иное, как его вторая, если не первая натура, сэр.
— Кому он это объяснял? — спросил старший агент д’ Аваланш.
— Другим конькобежцам, сэр. Кто-то спросил, не из цирка Барнума ли он, в ответ последовал пространный монолог о трепни и скольжении.
— Общительная персона, — сказал Хоб-Готлиб не без тени зависти в голосе.
— Вот именно, сэр. Его внешность привлекает всеобщее внимание, и он без задержки пускается в разглагольствования, хотя его английский оставляет желать лучшего. Он может безгранично дискутировать любую философскую тему, о Кьеркегоре ли, Конфуции ли, но из-за своего, скажем так, малообиходного словаря оконфузится в простейших обстоятельствах. Вот, например, третьего дня он пересекал Висконсин-авеню во время часа пик, и один водитель адресовал ему приятное выражение: «Ты что, не видишь красного света, задница?» Доктор Фофанофф одарил его улыбкой и взревел, потрясая своим шапокляком: «Вот они американцы! Ну, как приветливы, черти!»
— Кому он это сказал? — спросил д’Аваланш. Уточнения были его специальностью.
— Пролетающим облакам, сэр!
В комнате, не заслуживающей никакого специального описания, тем более что она уже известна нашему читателю как кабинет главы Пятого подотдела Третьего департамента контрразведки ФБР, Джим Доллархайд делал доклад о результатах своих предварительных наблюдений.
— …Прежде всего, мистер Фофанофф не прячет своей определенной осведомленности относительно вашингтонской средыобитания. Приехав, он выразил желание немедленно получить ощутимые доказательства существования некоторых гипотетически существующих мест. Простите, Брюс, но это не имело никакого отношения ни к Пентагону, ни к Старому дому администрации, ни даже к Арлингтонскому мемориальному клад-пищу. Он захотел увидеть книжный магазин «Йес», а также джаз-клуб «Блюз-эллей» в Джорджтауне.
В первом он сделал довольно дикий выбор книг, купив, в частности, «Симпатизирующие вибрации», «Власть вашей второй руки» и «Как приручить вашего чертенка». В последнем он фактически повернул внимание публики от пианиста Леса Макэна на себя. Всякий раз, как Лес пускался в свой «фанк» и публика по его знаку начинала петь «Пусть это будет правдой! В сравнении с чем?», доктор Фофанофф трубил, как потревоженный слон: «В сравнении с Кантом!» Даже либеральная публика не выдержит, когда все время кричат: Кант, Кант! Его едва не вышибли общими усилиями, пока он не пояснил, что он имеет в виду не только мистера Иммануила Канта, но и всю германскую философию. После этого они обнялись с Лесом Макэном и несколько секунд стояли в молчании.
— Сколько народу присутствовало? Какие-нибудь иностранцы были? — спросил старший агент д’Аваланш.
Джим обожал деловые вопросы своего начальника.
— Присутствовало сто сорок семь полнокровных американцев, сэр, и один декадентный араб, сэр. Да, джентльмены, там был шейх Сайд Кисмет Манна. Где он остановился в Вашингтоне? В настоящий момент он разговаривает с вами. Так точно, сэр, шейх к вашим услугам.
Доктор Хоб мягко поаплодировал: браво, браво, браво! Не нужно хмуриться, д’Аваланш. Это как раз то, что нам нужно, — импровизация, дар артистизма и так далее. Трое помощников, Эплуайт, Эппс и Макфин закивали в полном согласии. Как раз то, что нам нужно: И да и так далее.
Спецагент Доллархайд продолжал свое сообщение о вашингтонской активности москвитянина. На Коннектикут-авеню в магазине «Поло» Фил купил себе дюжину рубашек сверхкоролевского размера. Я знаю, что джентльмены покупают рубашки дюжинами, сказал он своему другу Генри Трастайму. Тут же он был ошарашен, когда ему предложили заплатить за эту покупку девятьсот шестьдесят пять долларов девяносто два цента. Как же так, я думал, что в Штатах можно машину купить за такое количество «презренного металла» (так он называет деньги). Конечно, можно, сказал ГТТ.
Они отправились в хозяйство подержанных автомашин и купили обшарпанный, но весьма грозного вида «Чеккер» образца 1969, за одну тысячу сто тридцать шесть с копейками. В этой машине нашего клиента можно принять за колдуна из болот Диксиленда.
Однажды он был ограблен во время небрежной прогулки в полночь вдоль Эй-стрит, юго-восток, где, как известно, после захода солнца жители не высовывают носа из дома. Для полной точности следует сказать, что это был не гоп-стоп, а только лишь попытка гоп-стопа. Вместо того чтобы удовлетворить требования молодых революционеров и вывернуть карманы, он сгреб их всех в одном медвежьем объятии и провозгласил мировое братство имени Франсуа Вийона. Когда же он ослабил свой зажим, все три пары кроссовок пустились врассыпную на светящихся подошвах. Интервенции сил порядка в лице вашего покорного слуги не потребовалось.
Фил выказал также определенный интерес к религиозной жизни, посетив католическую, русскую и греческую православные, протестантские, синагогу, мечеть, равно как и другие церкви дистрикта Колумбия, пока не присоединился к буддистскому ашраму «Луч света в темном царстве». Да, Брюс, это интересно. Вы правы, Брюс, это очень, очень интересно.
К несчастью, его изгнали оттуда спустя короткое время. Да, это тоже интересно, но дайте мне сначала вкратце рассказать эту историю, детали потом.
В последнее время эта компашка чудил была одержима идеей так называемых «волн Добра». Во время своих сборищ они передают эти волны то в Белый Дом, то в Кремль. Они абсолютно убеждены, что последний договор был подписан благодаря их усилиям, а госсекретарь Джордж Шульц тут абсолютно ни при чем.
Филларион ревностно посещал ашрам, молился и передавал в сторону Кремля «волны Добра», пока их гуру Годиванагуще (в миру Триша Адамс) вдруг не взорвалась криками со слезами, обвиняя новичка в недостатке искренности. Он клялся, что он ее верный последователь, но она сказала, что этого мало. Она провидела его будущее изгнание из этого мэрилендского рая, поскольку он не может выразить искреннюю любовь к Политбюро.
Некоторое время он еще болтался там на птичьих правах, а потом его окончательно вышибли. Надо отдать ему должное, он не был слишком огорчен. Выходя из ашрама, он насвистывал Россини, а потом приехал в кафе «Сплетни» и заказал пару пива.
— А были у него какие-нибудь контакты с советским посольством? — Старший агент д’Аваланш задал этот вопрос как бы мимолетно, что не оставляло сомнений в его чрезвычайной серьезности.
— Простите, Брюс, должен вас огорчить, «контакты с посольством» и Фил Фофанофф — понятия несовместимые. Во время той шикарной вечеринки «короткого замыкания» советник по садовым культурам Черночернов потихоньку сказал ему. «Есть разговор, зайди ко мне», но мне кажется, что он этого даже не расслышал. Фактически никто этого не слышал, кроме вашего покорного слуги.
— А как насчет сексуальной ориентации доктора Фофаноффа? — торопливо спросил Хоб-Готлиб, как бы стараясь пресечь дальнейшие уточнения предыдущего вопроса.
— Пока еще это тайна, завернутая в загадку, — усмехнулся Джим. — Неистребимое любопытство однажды завело его в «Горячие ванны Гвадалахары». Во всяком случае я там на него натолкнулся… — в этот момент спецагент вдруг сообразил, что едва не проговорился о своей собственной ориентации. — Собственно говоря, я шел за ним, когда он неожиданно туда завалился. Когда я вошел… то есть когда последовал за ним, он разговаривал с молодым стильным ювелиром. Ну, собственно говоря, профессия этого парня была установлена позже… но в общем, я подслушал, как Филу предложили «квики», и он, конечно, тут же согласился, не имея понятия о том, что ему предлагают.
Когда же ситуация прояснилась и стало понятно, что такое «квики», он разразился хохотом и сказал, что ни при каких обстоятельствах не принадлежит к «голубой дивизии». Ювелир обиделся и назвал профессора Фофаноффа расистом.
— В добавление к этому столкновению… хм… двух, так сказать, концепций, — продолжал Джим, — я не могу не обратить ваше внимание, джентльмены, на весьма диковинное объявление в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Извольте, вот оно: «Среднего возраста джентльмен — жизнелюб, заметная наружность, быстрая смена интересов и убеждений, полный набор вредных, хотя и безобидных привычек (копание в носу не включается), ищет знакомство с дамой приятного свойства (совершенство не требуется). В добавление к интимным отношениям философские темы и художественное пение. Можно звонить или заходить без предупреждения. Дикэйтор-стрит, номер такой, телефон такой-то…»
— Отличная работа! — воскликнул Хоб-Готлиб. — Согласны, ребята, что Джимми проделал великолепную работу?
— Конечно! Конечно, согласны! — срезонировало трио Эплуайт — Элле — Макфин. Брюс д’Аваланш, сдержанный больше, чем обычно, только лишь кивнул в знак одобрения. — Теперь самое время ободрать кошку, ребята, — проскрипел он. — Этот шизик — шпион?
— Он такой же шпион, как я Ромео, — сказал Джим убежденно.
— А почему вы не можете быть Ромео, молодой человек? — мрачно спросил д’Аваланш.
— Я хотел сказать — Джульетта, — поправился Доллархайд.
— Ну, это как вам угодно, Джим, — дружелюбно улыбнулся доктор Хоб и затем жестом попросил всех подождать, пока он найдет что-то важное на своем столе, который выглядел, как баррикады Парижской коммуны 1871 года.
Взвихрив короткий торнадо на столе, он, однако, так и не нашел ничего важного, если не считать тома переписки Набокова с Уилсоном. Что касается этой книги, то она была открыта на странице 69, и несколько строк в ней было отчеркнуто фломастером.
«…это одно из самых совершенных блаженств, которые я знаю — открыть окно в душную ночь и наблюдать, как они появляются. У каждого есть своя особая манера по отношению к лампе: кто-то тихонечко устраивается на стене, другой врывается и бьется об абажур и потом падает, трепеща крылышками, на стол, третий бродит по потолку…»
Перечитав отчеркнутое, доктор Хоб пожал плечами и спросил коллег:
— Может, нам бросить все это дело, ребята?
— Ни в коем случае! — вскричал Джим, будто задетый за живое.
— Не могли бы вы уточнить ваше «ни в коем случае», спецагент? — спросил д’Аваланш. — Почему нам не следует бросать расследование в Тройном Эл?
Джим был основательно озадачен. Стоит ли рассказывать им об ошеломляющем промельке, или, вернее, о немыслимом ощущении парящей валькирии? Стоит ли рассказывать о необъяснимом чувстве общности с этим толстяком? Стоит ли говорить им о том, что если мы бросим это дело, я всю жизнь буду знать, что оставил друга в беде?
— Простите, старший агент, — пожал он плечами. — Это всего лишь моя интуиция, а я всегда был склонен доверять ей.
— Вас понял, — сказал Хоб-Готлиб с довольным смешком. — Благодарю вас, Джим, за превосходную работу, и — полный вперед с вашей интуицией! На такой тонкой работе, как наша, джентльмены, мы не должны пренебрегать нашей интуицией. Конечно, Брюс, вы правы, мой друг, мы не можем позволить себе предаваться личным эмоциям, но, с другой стороны, мы не можем терять никаких оттенков.
Теперь позвольте мне познакомить вас с новыми данными. К сожалению, наши требования подкрепления и более легкого доступа к секретным данным не были удовлетворены. Ребята из Вирджинии все еще ни мычат ни телятся относительно идентификации Пончика, не говоря уже о таинственном Зеро-Зет. Так что мы опять предоставлены сами себе и можем уповать только на наши главные источники информации, вашингтонские и московские утечки. Так вот, согласно одной чертовски деликатной утечке таинственный Зеро-Зет располагает тремя сверхтренированными оперативниками, готовыми к выполнению любой задачи. Мы понятия не имеем о сфере их активности и ни в коем случае доктора Фофаноффа нельзя рассматривать в связи с Зеро-Зет, однако к нам постоянно и упорно поступают указания, что Либеральная лига Линкольна находится в фокусе интересов Пончика и Зеро-Зет. Так что, братцы, все мы должны быть в состоянии повышенной готовности. В заключение позвольте мне прочесть вам несколько строк из письма господина Набокова господину Уилсону… — и доктор Хоб, многозначительно подняв свой корень женьшеня, то есть указательный палец, прочел отрывок о влетающих на огонь насекомых, который был отчеркнут в книге жирным фломастером.
— Простите, босс, — сказал старший агент д’Аваланш, который изо всех сил старался изобразить полнейшее уважение к литературе. — Перед тем как мы разойдемся, я хотел бы сделать еще одно небольшое уточнение. Та назойливая «селедка» в международном аэропорту имени Далласа, что это было? Должны ли мы просто отмести это в сторону как какой-то новый тип этих проклятых японских игрушек йо-йо или… хм… в этом было нечто серьезное? Как вам кажется, Доллархайд?
В этом пункте Джим, увы, не смог проявить ни своей наблюдательности, ни своей интуиции.
— Право, не знаю, сэр… — забормотал он, — вполне возможно, это была одна из тех технологических шуток, которыми сейчас дурачат почтенную публику… право, не знаю, сэр… — По непонятной причине он почему-то не рассказал коллегам о том зловещем впечатлении, которое произвела на него летающая «штука» в баре «Завсегдатай небес». Контрразведчик ФБР не может позволить себе излишне предаваться личным эмоциям.
Вскоре после этой встречи Джим Доллархайд среди ночи был разбужен телефонным звонком. Секунду или две он прислушивался к странному гулкому жужжанию (вот именно, гулкое жужжание!), идущему из каких-то безмерных пространств. Со спутника, что ли? Потом непостижимый, замогильный голос произнес фразу: «Добавь четвертое «Эл», Джим, идет?»
Глава третья
ВЫСШИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Эта осень была блаженным периодом в жизни советника Черночернова. Его супруга, Марта Арвидовна, костлявый отпрыск проклятой революционной аристократии, латышских красных стрелков, была в отпуске, то есть пребывала в ее возлюбленном «мире социализма», так что он получил заслуженную передышку в их почти ежедневной сваре по поводу идеологических и физиологических вопросов.
Вообразите, стареющая «марксистская кляча», как он привычно называл свою жену из-за ее вздорной приверженности к этой прохиндейской, антирусской теории, вместо купаний в чудесном партийном санатории на Кавказе, проводит дни в Московском архиве КПСС, собирая материал для своей диссертации «Крушение латвийской псевдонезависимости как триумф марксизма-ленинизма»! Ну и ладно, это ее личное дело, а нам дайте в ее отсутствие вкусить «одиночества роскошные плоды». День за днем советник по садовым культурам при посольстве СССР, он же скрытый полковник Сто пятого управления КГБ и член коммунистической партии с двадцатилетним стажем, ублажал себя погружениями в глубокие тайники своей души и физиологии; коротко говоря, он мечтал о восстановлении русской монархии и о своих, пожалуй, шурум-бурум, сексуальных предпочтениях.
Данное утро, как таковое, началось в полном блаженстве. На грани пробуждения полковнику вспомнилась юная черная девочка, которую он заметил третьего дня выходящей из квартирной секции комплекса Уотергейт. Может быть, она никто иная, как маленькая наложница какого-нибудь миллионера среднего возраста с волосатой грудью и хорошо развитыми мускулами на ляжках? О, великодушие капитализма! Имей достаточно добра, и можешь в любой момент вызвать какую-нибудь стройную, благородную крошку, вдумчиво и осторожно раздеть ее, а потом медленно надеть пару белых чулок на ее длинные мальчишеские ноги и бейсбольную шапку на ее панковую прическу, и… лимиты, лимиты, товарищ полковник!
Помолодев при помощи этих фигментов воображения, Черночернов встал и энергично прошел в ванную бриться. В хозяйстве у него имелся смышленый прибор, который мог одновременно включать бесшумную бритву, ароматную кофейную машину и всегда поднимающий настроение (даже и гадкими новостями) голос радиостанции БЛАД-96. Из всех «безнравственных приманок» капитализма Марта Арвидовна пуще всего ненавидела именно этот прибор, между тем как полковник нежно его любил.
При первых звуках утренних новостей он перекрестил на православный манер свой лоб, живот и плечи: долгожданное событие в конце концов свершилось. Пока он мечтал о той славной мальчиковой девушке, морские пехотинцы США завершили высадку на пляжах и в глубине одной субтропической сюркоммунистической страны, чтобы изолировать ее кровожадную, саморазрушительную хунту и принести туда вечный мир и справедливость под покровительством Ее Величества Современной Рыночной Системы.
Спасибо, Ронни, за такой подарок, прошептал полковник. Чем скорее падет Империя зла, тем больше будет у нас шансов для Возрождения!
У советника Черночернова был выходной день, и он был намерен провести его к своему высшему удовольствию, а именно прогуливаться по городу, изображая несоветскую персону. Конечно, для этой цели требуются небольшие маскировочные меры: ну, скажем, вот эти густые брежневские брови, которые сбалансируют аккуратные британские усики, ну, скажем, вот эта мятая шляпенция ирландского твида, как у отставного консервативного служащего, ну вот, и пара затемненных очков… — извольте, теперь мы неузнаваемы.
Как это приятно, когда тебя не принимают за советского! Приобщиться к норме, как это славно!
Почему бы не посидеть спокойно у обычной стойки, не почитать «Пост» за брекфестом, почему бы не ответить спокойной улыбкой и кивком на обращение «сэр»? Какое огромное удовольствие поделиться с кем-нибудь деловой секцией газеты, обратить чье-то внимание на рост акций пиломатериалов, положительно ответить на чью-то просьбу о карандаше, о зажигалке… конечно, сэр… извольте… она ваша, сэр…
Иностранный акцент можно прекрасно замаскировать некоторым заиканьем и шепелявостью… небольшое врожденное косноязычие, джентльмены… Всем известно, что американцы, особенно британского происхождения, исключительно отзывчивы к малейшим формам неполноценности. Будучи стопроцентным консерватором, полковник Черночернов не делал секрета из своей англофилии.
А почему бы просто, с классическим зонтом в руках, не прогуляться вдоль Коннектикут-авеню? Никто из прохожих никогда и не подумает, что я советский. Почему бы не продолжить чтение газеты на скамье у фонтана на Дюпон-серкл, отечески наблюдая тамошних белых и черных бичей? Почему бы даже не подать им какую-то мелочь для поддержания существования, хотя и очень малую мелочь, чтобы не одобрять тунеядство в обществе. Бремя Белого человека гласит: «Кто не работает, тот не ест!» У-у-пс, это вроде из другой оперы, ленинская идея, черт ее дери!
Почему бы мне не пройти затем через Дюпон-серкл к книжному магазину «Лямбда на взводе» и почему бы там не посидеть в углу с книжкой на коленях, сенаторские очки на носу, почему не посмотреть на красивый «голубой» народ, такой непосредственный, такой спонтанный?
Эти, почти нестреноженные, утренние мысли полковника были внезапно прерваны телефонным звонком. Кто, черт дери, звонит по утрам? Кто бы это ни был, ни одна советская личность (за чисто теоретическим исключением вновь прибывшего шизика) не могла соответствовать блаженству Черночернова. Что касается несоветских личностей, то они никогда не тревожили его домашний телефон. Наиболее вероятно, это не что иное, как «свистать всех наверх» из посольства, созыв чрезвычайного загребанного собрания по поводу падения этой заплеванной субтропической сюрреволюционной хунты. Большое дело, разогнана еще одна кодла захребетников… разве это не на пользу матушке России, совсем уже досуха высосанной интернациональными подонками? При всех обстоятельствах, это не Афганистан, где мы отстаиваем наши корневые интересы. Каждый знает, что Россия исторически и… хмм… метафизически — это медленно расширяющаяся сила, а не авантюрная пантера, прыгающая с острова на остров. Любой человек в посольстве сведущ в том, что это зона не наших интересов и нам следует тут вести себя скромнее, и тем не менее мы будем все час или два жевать весь этот мусор насчет «дальнейшего углубления хищнической сути империализма», «классовой солидарности», и «хода истории, который никто не может повернуть вспять», как будто паршивая немецко-еврейская борода уже раз и навсегда установила все направления.
Эти идеи произвели своего рода торнадо в сознании полковника между первым и вторым звонком телефона. Не буду отвечать, подумал он и снял трубку.
Бессчетное число раз в своей жизни товарищ Черночернов благодарил свое благоразумие за то, что оно брало верх над идеями. Вместо всех этих вздорных голосишек из парткома он услышал единственно кого уважал безгранично, шеф-повара посольской столовой, самого Егора Егорова! Автоматически он встал по стойке смирно. Звонки Егорова всегда касались самого важного и самого деликатного. Управляя одним из ключевых секторов посольства (кто будет недооценивать значение питания персонала в осажденной крепости?), этот дюжий курчавый волжанин, основательно за полета, на самом деле отвечал за все тайные операции в США и Канаде, а потому имел чин генерал-лейтенанта.
— Хей, Федот-дот-дот-дот, хау ар ю эва янг? (Привет, Федот-да-не-тот, как твое ничего-себе-молодое?) — сказал Егоров. Он явно не собирался обсуждать империалистическую агрессию и классовую солидарность. — Как насчет «малость прогуляться» вместе? Давай глотнем свежего воздуха на Хэйнс-пойнт, а? Отлично!
С добродушным смешком генерал добавил к приглашению:
— И на всякий случай не забудь свой английский зонт, олд фэллоу. В прогнозе кратковременные дожди.
С легким укором совести полковник Черночернов понял, что его одинокие несоветские променады не остались не замеченными старшими товарищами.
Час спустя он ждал генерала на Дюпон-серкл. (Проницательный читатель, конечно, уже догадался, что Хейнс-пойнт был кодовым именем для площади Дюпона.) Не без симпатии он наблюдал за своими сотоварищами-вашингтонцами, которые к этому времени начали показывать первые признаки оживления после изнуряющей летней парилки в болотистом параллелепипеде у рек Потомак и Ана-костия. С первыми порциями осеннего прозрачного воздуха люди жадно возобновили свои прогулки и околачивание вокруг фонтана и поперек двух кольцевых проездов, которые делают Дюпон одним из наиболее вывихивающих мозги транспортных узлов в мире.
Две группы собирали деньги в сквере. Одна обогащалась для дальнейших атак против Стратегической оборонной инициативы. «Красные выродки», прошептал полковник и ничего им не дал. Другая алкала поддержки в их борьбе против аятоллы Хомейни — Черночернов дал им однодолларовую бумажку. Наслаждайтесь своей борьбой, персы! Ударим еще раз по позорному отродью бесноватых подонков шаксей-ваксея 1829 года, убивших посла нашего просвещенного Императора, гениального драматурга Грибоедова! Еще один долларовый удар во имя будущей Рос… Лимиты, товарищ полковник, лимиты, лимиты…
Он не отказался от своего обычного несоветско-пробританского маленького маскарада, поскольку они уже знали об этом, и генерал, конечно, отличил бы его от толпы без задержки даже под этими бровями, усами, баками, мятой шляпой и т. д. Время их встречи, однако, пришло, но никто не подошел к нему, кроме пожилого черного джентльмена, который с вежливым поклоном опустился на дальнем конце скамьи.
Чернокожий в классическом синем блейзере был похож на отставного метрдотеля, скажем, из «Хей Адамс» или «Мэдисона». Во всяком случае, он принадлежал к тому разряду людей, которыми округ Колумбия может гордиться. Он открыл свой «Уолл-стрит джорнэл» и закурил ароматную сигару. Не без мимолетного удовлетворения Черночернов подумал, как их скамья может выглядеть издали: два джентльмена, белый и негр, оба несоветские.
Десять минут, однако, прошло, а генерал так и не появился. Негр высказался о «хорошей погоде», а потом представился как Тимоти Инглиш, первый помощник старшего официанта «Хэй Адамса», в отставке. Черночернов пожал его руку и сказал слегка заикаясь: Джордж Шварценеггер, в прошлом офицер разведки. Простите, больше ничего не могу рассказать. Очень приятно познакомиться, сэр.
Черночернову было действительно очень приятно сделать такое славное знакомство в консервативных кругах, однако, увы, генерал мог обеспокоиться присутствием этой весьма общительной персоны, что сразу же после знакомства начинает увлекательный разговор о Ближнем Востоке.
Чувствуя себя как на иголках, Черночернов уже готов был покинуть скамью, когда пожилой черный консерватор вдруг произнес с сильным русским акцентом:
— Кончай, мэн! Не оставляй меня!
Это был, конечно, не кто иной, как генерал Егоров собственной персоной. «Браво», прошептал Черночернов с благоговением. Наша русская агентура всегда вне конкуренции!
— Ты тоже выглядишь неплохо, — сказал генерал снисходительно. — Хотя, позволь мне сказать, Дотти, ни один англичанин никогда не наденет носки с такой искоркой… О’кей! Вольно! У нас сегодня есть о чем поговорить.
Они оставили Дюпон-серкл и пошли вниз по Коннектикут-авеню, этой улице Горького американской столицы, заполненной в тот момент толпой энергично шагающих к ланчу «молодых-городских-профессионалов», «йаппи» или, если сокращать русское определение, «могорпрофов». Повернув направо, они достигли «М» стрит как раз в момент ее блистательного восхождения к статусу Пикадилли. Здесь, на углу «М» и «19», бросающей вызов Старому Арбату, товарищ Егоров позволил себе потратить толику своих оперативных фондов, то есть взять столик в открытом кафе. Принимая меры предосторожности против возможного подслушивания, генерал, конечно, не упустил из внимания смесь запахов из ресторанов «Вкуснятина», «Сплетни» и «Слухи». Как всякий подлинный знаток кулинарии, он был и ее фанатиком, и идея когда-нибудь начать другую жизнь, то есть дефектнуть из КГБ на кухню, никогда его не оставляла.
Он начал с незначительной, хотя — он усмехнулся — вздорнейшей, нелепейшей темы.
— Можешь себе представить, Джордж, Хранилище выпустило приказ пробудить еще одну «спящую красавицу». Она (или он) мирно дремала последние пятьдесят лет и до недавнего времени никому в Хранилище и дела не было до этого ископаемого. Как ты знаешь, у нас тут немало этих «засонь», этих бесполезных «кротов», подготовленных во время холодной войны на всякий случай. Клянусь, большинство из них и думать забыло о своем предназначении. Чего от них можно ждать? Ничего, кроме неприятностей, конфузий, неоправданного риска. Ребята там, в Хранилище, здоровы в старании, слабоваты в познании, просто озабочены тем, что «засони» перейдут в лучший мир, не получив от них ни одного задания и тем самым испортив их говенную статистику. Можешь представить, Джордж, просто ради их драгоценных геморроев эти бюрократищи готовы пожертвовать безупречной репутацией знатных кулинаров и других высококлассных специалистов!
Черночернов, попыхивая трубочкой, кивал с полным пониманием. Вполне понятно, что у Егорова есть все права ворчать по поводу гужеедов из Хранилища, тогда как у него, полковника Черночернова, этих прав не может быть ни при каких обстоятельствах.
Завершив свой ланч, два почтенных несоветских джентльмена предприняли долгую прогулку пешком через даунтаун к авеню Конституции, где и погрузились в так называемый турмобиль, состав открытых вагончиков, оборудованных безостановочно бормочущим голосом гида, что делало любую попытку подслушивания бессмысленной. Вряд ли можно найти лучшее место в округе Колумбия для обмена сверхсекретной информацией, чем экскурсионный турмобиль!
— Теперь давай о деле! — сказал генерал. — О настоящем деле. Прежде всего, Дотти-дорогой (я надеюсь, ты не возражаешь, что я тебя так называю, очень уж это мне нравится), прежде всего, я просто не могу разобраться, зачем сюда этого профессора Фофаноффа, этого пня с ушами, прислали…
— Прислали? — Черночернов был поражен. — Ты хочешь сказать, Тим, что он… хм… все же один из нас?
Знаток кулинарии усмехнулся и потрепал по плечу советника по садовым культурам. Их поезд в это время проходил мимо Мемориала вьетнамской войны. На поверхности земли не было ничего, впрочем, можно было мельком уловить вид своего рода траншеи с отражающей мраморной стеной, перед которой стоял народ.
— Замечательная идея, — заметил генерал. — Просто пара срезов лопатой, траншея, ничего больше. Наши халтурщики воздвигли бы тут гигантского истукана…
Искоса он внимательно посмотрел на Черночернова.
— Я думал, профессор Фофанофф еще не был… хм… посвящен, — произнес Черночернов. — Конечно, я хотел ему предложить, но, честно говоря, побаивался нарваться на бестактность. Вы знаете эту проклятую современную интеллигенцию…
— Ну, а теперь, — продолжал генерал Егоров, как будто не удивление Черночернова, а наблюдение мемориала прервало его высказывание, — теперь некоторые новые инструкции просветлили ситуацию. Можешь представить, Дот-дот-дот, Хранилище снова держит под прицелом Либеральную лигу Линкольна. День за днем они требуют как можно больше информации об этой чертовой лиге, как будто в Вашингтоне нет ничего важнее.
— Я себе язык вывихнул, убеждая их, что Тройное Эл не имеет ничего общего ни с ЦРУ, ни с НСБ, ни с НАБ, ни с какой другой секретной группой, что это просто частная организация с не очень отчетливой программой и с целями, ясность которых оставляет желать лучшего, иными словами, это не что иное, как то, что мы называем говорильней; все мои усилия — понапрасну! Хранилище настаивает на усилении внимания к Яйцу Генри Трастайма, как будто это гигантский Фаберже. Задницы заклепанные сисси бойз! Ручаюсь, нет ни одного человека в Комитете, кто понимал бы до конца, что такое американская частная фаундация, с чем ее едят. Жуткую штуку скажу тебе, Дотти, но даже и я со своим впечатляющим стажем работы в стране до конца не понимаю…
— Я тоже, — вздохнул полковник.
— Хранилище теперь приходит к колоссальному открытию и откровению, — продолжал Егоров. — Оказывается, библиотека Яйца обладает самым острым идеологическим материалом в мире, дневником Достоевского периода его азартных игр в Висбадене, Германия. Большое дело, скажешь ты? Вот именно, большое дело! Смысл в том, что как раз в этот же период геноссе Карл Маркс тоже играл в Висбаденском казино и, согласно последним исследованиям оболтусов из Высшей школы марксизма-ленинизма, два гиганта современного мира встретились и столкнулись в яростной дискуссии о сути коммунизма и о природе человечества.
— Улавливаешь, Дотти? Рад, что улавливаешь и понимаешь, что в центре боятся недружелюбных замечаний по поводу Маркса в дневнике Достоевского. Короче говоря, содержание этого заклепанного полусгнившего манускрипта спрятано в сверхсекретном американском Яйце, в настоящий исторический момент, если его использовать в идеологической войне, может привести к цепной реакции разочарований и отречений в странах «третьего мира», а это вызовет глобальное уничтожение… чего?… Правильно, Дотти-дорогой, вот именно этого!
Секунду или две секретные сотрудники смотрели друг другу в глаза, потом подтолкнули друг друга локтями и расхохотались.
— Посмотри-ка на этих двух джентльменов, черного и белого, — сказал французский турист своей жене. Пара, облаченная в вельвет и демонстрирующая ненавязчивый шик Левого берега Сены, совершала экскурсию в том же вагончике турмобиля. — Такие признаки расовой гармонии нынче можно уловить только в Соединенных Штатах.
До недавнего времени профессор Абажур и его таинственная супруга, которой, в соответствии с традициями французских литературных мистификаций, приписывалась, по крайней мере, дюжина скандальных романов, были известны как ярые антиамериканцы, хотя в течение долгих лет их леворадикальной активности пара ни разу не путешествовала за океан. Потом внезапно и на этот раз в полном соответствии с основным законом диалектики количество собранных познаний трансформировалось в качество приобретенного мышления, и пара совершила полный поворот, чтобы стать непреклонными проамериканцами. Со времени того исторического поворота пара начала пересекать Атлантику ежемесячно, туда и обратно, как будто их новые убеждения обеспечивали существенную скидку на билеты. По иронии судьбы, дело обстояло как раз наоборот, старые убеждения срабатывали. Американская академическая община приветствовала их с энтузиазмом и приглашала в университеты как раз за их ранние, противоречивые, так сказать, взгляды, а вовсе не за нынешний столь великодушный подход к атлантическому партнеру. В этом деле все зашло так далеко, что им приходилось делиться своими позитивными впечатлениями об американской жизни во время прогулок, но уж никак не под сенью Тройного Эл, где они пребывали на годичной стипендии, чтобы не повредить своей столь выгодной антиамериканской репутации.
— Ты прав, Бу-бу, — сказала мадам Абажур, пользуясь одним из их постельных уменьшительных. — И обрати внимание, черный джент даже выказывает некоторое чувство превосходства в отношении белого друга.
Турмобиль тем временем пересекал Вашингтонский Мол, имея по правому борту захватывающий вид вирджинского заката, мощный четырехгранный обелиск Вашингтона и значительно посвечивающее Яйцо Либеральной лиги Линкольна. К полному восторгу французской пары один из участников сцены расовой гармонии, а именно генерал Егоров, вынул фляжку доброго спиритуса, основательно приложился и передал своему
компаньону, а именно полковнику Черночернову.
Диалог разведчиков продолжался.
— …Ну, Джордж, Дотти, дорогой кореш, слушай, что старый Тимоти тебе скажет по этому поводу. Мы не теоретики, мы простые люди «плаща и кинжала». Им там виднее, что лучше, что хуже для нашего дела; тем более что… хм… они там теперь одержимы древним языческим мистицизмом, переоценкой некоторых ключевых фольклорных персонажей. Сама форма этой заклебанной штуки сводит их с ума — Яйцо! Если ты еще сам не знаешь, позволь мне выдать тебе один из наших высших секретов. Только что построенный, чудо техники, авианосец будет назван «Кащей Бессмертный». Понял? Нынче концепция бессмертности, понимаешь ли, их главная забота!
— Так что, — продолжал генерал, сделав еще один глоток стимулирующего напитка, — …мне как бы положено отложить в сторону все другие дела, включая и проект похищения невидимого бомбардировщика «Стелc», который мне так дорог, и сделать своей главной заботой какую-то паршивую перебранку между двумя гудилами сто двадцать пять лет назад. Иными словами, мы должны любой ценой заполучить дневник Дости…
Полковник усмехнулся:
— Не думаю, что это такая уж чертовски сложная задача. Вполне возможно его получить просто по программе межбиблиотечного обмена. Вряд ли в Вашингтоне есть хоть одна живая душа, интересующаяся этим хозяйством…
— Молчок, дорогуша! — Егоров прижал к губам свой палец, что выглядел как природный отросток магического корня женьшень. — Бюджет для нашей оперативной группы уже утвержден и одобрен. Нельзя разочаровывать руководство. В группе у нас четыре человека — я, ты, Петруха и профессор Фофанофф, и — все путем. Уловил?
В ответ последовал утвердительный глоток из фляжки, после чего Егоров деликатно, но решительно вернул сосуд под свою личную протекцию; пока не поздно.
— Самая конфиденциальная часть последних инструкций касается Фофаноффа. Мне кажется, что Хранилище разработало специальный сценарий для его пребывания в Тройном Эл. Так что, Дотти, в ближайшем будущем тебе придется выйти на него с деликатнейшей миссией.
— А чего же особенно деликатничать, если он один из нас? На этот раз генерал усмехнулся.
— А то, что он может этого и не знать. Он мог попросту и забыть самый счастливый день в его жизни. С такой женой, как Марта, тебе должна быть знакома эта вонючая профессорская рассеянность. Так что придется кое-что напомнить нашему беби Филлариону и сделать это деликатнейшим образом.
— Между прочим, Джордж, глянь-ка на этого вроде бы французского хмыря с его подружкой. Они нам улыбаются, будто хотят раздавить с нами пузырь на манер наших мужиков в Москве. Давай-ка выйдем, пока мы не исчерпали наши стратегические ресурсы.
Отмахнув чужакам добрый старый американский «гуд бай», два джента, не без некоторой юмористической фривольности, высадились на углу 14-й улицы и авеню Конституции. Клюква, апельсины и фисташки в огромном объеме вирджинских небес сияли сквозь могучие кроны платанов и каштанов. Тени реактивных лайнеров скользили вниз, к аэропорту Нэшнл, словно мыслящие существа. Короткий предсумеречный момент, пока не загорелись еще фонари вокруг Эллипса, момент, заполненный грохотом столичного часа пик, самый подходящий момент для самой секретной части разговора.
— Ну, а теперь давай поговорим о нашей собственной проблеме, о нашей, ты понял, собственной беде… о Зеро-Зет…
Черночернов вздрогнул:
— Что… что… об этом… об этой… оно уже?…
Егоров закурил сигару. Воплощение стабильности, опора здравого смысла… И только товарищи по оружию знали его как человека рефлексий, сомнений, забот, рафинированного интеллигента и нежную душу.
— Можешь смеяться, Дотти, но даже пол Зеро-Зет для меня — туман… Маскулинум? Фемининум?… И все это дело — тайна, обернутая в загадку… Проклятая штука иногда принимает мои команды, иногда нет… иногда задает мне леденящие душу странные вопросы… Вначале, как ты понимаешь, я подумал — перевербовали! Кто от этого гарантирован в округе Колумбия? Но позже, анализируя входящие и исходящие данные, я был потрясен — а что, если О — вообще ничьих команд не принимает?
— Звучит устрашающе, Тим! Ты думаешь, О — действует по своему усмотрению?
— Как раз об этом я и думаю. Ты, должно быть, помнишь ту славненькую «селедочку» в баре «Завсегдатай небес»?
— Матушка родима! Для чего?
— Для ничего, мой друг! Для Зеро! Для нулевого смысла, по нулевой логике. Держись, за что можешь, мой бесстрашный и безупречный рыцарь тайной войны, но, похоже, что-то поломалось в проклятой штуке. А самое худшее, что нам не под силу опознать О — среди четырех миллионов жителей Большого Вашингтона, тогда как Хранилище наотрез отказывается дать мне свои коды. Стратеги! Да я и флайинг-фак не дам за их стратегию. Они просто не способны понять, что судьба цивилизации на ставке. Иногда я задаюсь вопросом, дорожат ли они нашей западной цивилизацией…
Полковнику Черночерному показалось, что генерал Егоров жалобно хлюпнул в этот момент. Он уже готов был предоставить ему свой локоть — чувство локтя, не этому ли нас учили с ранних пионерских лет, локоть товарища! — когда генерал вдруг страстно прошептал прямо ему в ухо:
— Единственное, что я знаю о О — это то, что проклятая штука тоже шьется вокруг Яйца!
За минуту до того, как зажглись фонари, черный «Линкольн» с маленьким советским флажком на крыле остановился возле дворца Организации американских государств. Можно только удивляться, как успел генерал столь быстро сбросить своей маскировочный «негритюд» и вернуться к своей исконной белой и рябоватой наружности. Ни полковник Черночернов, ни даже наблюдательный шофер майор Петруха не заметили, когда произошла перемена. Вот вам они, высшие квалификации!
МЯГКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
Как хорошо известно в столице, стипендиаты и феллоу Смитсоновского института и Либеральной лиги Линкольна предпочитают снимать квартиры неподалеку от Мола, то есть на юго-западе, у реки Потомак. Однажды сюда и Филлариона Фо-фаноффа доставили, и сделала это библиотекарша Филиситата Хиерарчикос в своем клевом открытом «Фольксвагене». Бросив первый взгляд на кварталы жилья, расположенные вдоль рядов фонарей и пятен неживой растительности, Фил восхитился: «Ну и место! Вызывает в памяти «теорию бесконфликтности», времена расцвета Социалистического Реализма! Взгляните на эти безупречные линии пейзажа, на эти ряды столбов, увенчанные каждый тремя фонарями! Вы называете это Ланфан плаза? Клянусь, это Комсомольск-на-Амуре! Тысяча первый сон Веры Павловны Чернышевского! Какая утопия, какая ностальгия! Лучшего места для советского человека не найдешь!»
Пара тараканов, бодро пробежавших по стене в односпальной квартире кондоминиума «Седьмое небо», ничуть не уменьшила его восторга. Как раз наоборот, наоборот, наоборот… извольте, мы вальсируем… Дунайские волны… Амурские волны… Амур, амур… о, да, амурные волны Чесапикского залива… Фелиситата Хиерарчикос на гребне волны!
Пока на седьмом этаже гремела вся эта медь Старой Европы, весьма располагающий к себе молодой человек в свежепостиранном тренировочном костюме явился в подвальный офис управляющего и сказал, что хочет снять студию в этом же доме.
«Йаппи, кажется, облюбовали наш кондоминиум», — подумал управляющий и немедленно поднял цены на шесть и две десятые процента. Шоковая волна — то есть одна из этих дунайско-амурских волн — произвела всплеск в нервных компьютерах Вашингтонского рынка недвижимости, что через несколько минут отразилось на Уолл-стрите и вызвало неожиданный взлет акций Доу Джонс и колоссальный прибой оптимистических прогнозов. Ничему нельзя удивляться в этом современном мире взаимозависимости. Тем временем орды тараканов в панике неслись вниз с седьмого этажа «Седьмого неба».
Джим Доллархайд живо предвкушал будущее соседство с объектом своих профессиональных интересов, но, увы, как раз в этот день, когда он привез свои пожитки, Филларион съезжал из «Седьмого неба». «Проклятые иностранцы, больно умные стали, — ворчал управляющий. — Этот буйвол только перепугал наших постояльцев своим вальсированием, а теперь забрал заявление обратно. На месте правительства я… эх, если бы я на месте правительства…»
«Что происходит, — думал Джим с чувством необъяснимой горечи. — Похоже, что он просто наставил мне нос. Неужели он знает, что я хожу за ним по пятам? Неужели он действительно шпион?»
В существенном отступлении от избранного нами жанра мы хотим выдать один из секретов сюжета. Мысль о том, что кто-то ходит за ним по пятам, никогда не приходила в голову Филлариона. Более того, он вряд ли когда-либо замечал своего молодого обожателя. Просто он передумал селиться в «зоне бесконфликтности», и произошло это из-за случайного столкновения с прошлым.
Третьего дня, раскатываясь на доске с роликами вдоль Мола, он умудрился сокрушить велосипедиста, который оказался никем иным, как мистером Аликом Жукоборцем, доктором наук, его бывшим помощником в Московском институте литературы и лингвистики.
— Ба! — вскричал доктор Фофанофф.
— Ба! — ответствовал сокрушенный бывший помощник, ползающий в ногах сокрушителя в попытках найти свои очки, чтобы убедиться, что он не ошибся, что перед ним и в самом деле его бывший наставник Фил Фофанофф, а не гризли, не горилла, не слоноподобный подросток из Гейлсбурга, штат Иллинойс.
Невзирая на большую плешь в форме Новой Зеландии, Алик Жукоборец был молод. Эдакий сорокалетний юноша. До своего выезда из страны всех надежд он считался восходящей звездой в секторе суффиксов и префиксов. Теперь, десять лет спустя после совершения акта эмиграции, или, как писали советские журналисты времен застоя, «совершения трагической ошибки, граничащей с преступлением против родины», он все еще считался восходящей звездой в соответствующем секторе на этой стороне Атлантики.
Итак, они не виделись десять лет, и все оставалось по-прежнему — страсть, любопытство, пересекающиеся и сшибающиеся курсы академической рассеянности. Ни филларионовское пузо, ни жукоборческая плешь не изменились ни в размерах, ни в форме. Ситуация в лингвистике, по всей вероятности, тоже не изменилась: столкновение на углу 3-й улицы и авеню Независимости говорит само за себя.
Так или иначе, они снова овладели своими транспортными средствами и поехали вместе вдоль вашингтонской щедрой меморабилии, обелисков, памятников, музеев. Прохожие всех рас и национальностей застывали в изумлении при виде двух ездоков, не обращавших внимания на уличное движение.
— Очень сожалею, что налетел на тебя, Алик, — сказал на ходу Фил Фофанофф. — Тысяча извинений.
— А я и не знал, что ты в этой стране, Фил, — сказал доктор наук Жукоборец. — Если бы я знал, я бы поосмотрительней катался на велосипеде. Давно здесь?
— Десять дней.
— Десять дней! Ты шутишь, должно быть! Не хочешь ли ты сказать, что еще десять дней назад ходил по Арбату? Ну-ка, расскажи мне про арбатских девок! По-прежнему магнитны? Нет-нет, на эту тему мы попозже. Сначала поведай про Сашку Шейлоха. По-прежнему шарлатанит с моими суффиксами и префиксами?
— Саша Шейлох все еще в тюряге. Он, знаешь ли, получил семь лет за статью «Суффиксы и префиксы в идеологической войне».
— Шейлох в тюрьме! — вздохнул Жукоборец не без некоторой зависти. — Сидит за мою тему! Дорого бы я заплатил, чтобы вытащить его из тюрьмы и сказать ему напрямую, что я думаю о его шарлатанстве в области благородных частиц речи.
— Ну, что ж, гласность медленно, но верно открывает двери наших тюрем, — сказал Фофанофф. — Думаю, что к тому времени, когда я вернусь, Саша уже будет, как обычно, стоять на голове на своем балконе над улицей Горького, и никто уже не будет подозревать его в связях с ЦРУ-Гласность и гладкость, разве они не сестры? Мы уже подметили, не так ли, что склонность к мягкому скольжению была одной из уникальных черт нашего стошестидесятикилограммового профессора. Ну, посмотрите на него, каков самокатчик, леди и джентльмены!
Велосипед Жукоборца очертил несколько символов бесконечности — 888.
— Не верю своим ушам! Ты что, действительно хочешь вернуться? Что? Ты не эмигрант, как мы все, Фил? Ты просто участник программы научного обмена? Невероятно! И ты не боишься разговаривать с эмигрантским отребьем?
— Боюсь ли? Не более, чем быть трахнутым чучелом саблезубого тигра!
— Какого тигра, Фил?
— Саблезубого.
Оба ученых спешились и обняли друг друга как раз перед пряничным фасадом Смитсоновского музея, в котором упомянутое выше чучело саблезубого тигра мирно отмечало в этот день свое шестидесятилетие.
Насмешливый крик «Два русских пугала!» пролетел над ними вместе с головокружительным облаком пота и духов, сверкнула сиреневая молния. Другой какой-то велосипедист мощно прошелестел мимо, будто колесница Артемиды. Задний вид гонщика не оставлял у зрителей ничего, кроме тоски по всем мыслимым земным восторгам.
— Кто это?! — вскричал Филларион, охваченный дуновением вечно юной Эллады.
Жукоборец пожал плечами. Прекрасно зная, кто это и что это означает, он решил по каким-то причинам не опознавать грозного наездника. Вместо этого он сказал:
— Теперь-то я понял, кто ты такой, мистер Хобот-Пробосцис!
— Что ты имеешь в виду, мой бедный Алик?
— Сегодня утром за табльдотом я подслушал разговор о каком-то несколько необычном советикусе… Видишь ли, Фил, твой бедный Алик целый месяц был в отлучке, рыскал в пустынях Северной Канады в поисках суффиксов «кртчк», «мрдк», а также «чвск». Вообрази, я обнаружил их следы. Идет новая лингвистическая революция!
Они быстро ехали по Молу, этому главному вашингтонскому бульвару, в сторону самого убедительного в мире символа плодородия, окруженного пятьюдесятью флагами, трепещущими в постоянном желании оплодотворения. Перескакивая с темы на тему, они наконец допрыгнули до жилищного вопроса.
— Неужели ты действительно решил поселиться в «Седьмом небе»? — вскричал Жукоборец. — Да ведь это же просто-напросто Фелиситатина ловушка для деревенщины! Приличные люди живут в окрестностях Дюпон-серкл! Это же наши медовые соты, сексуальная, интеллектуальная и гастрономическая игровая площадка. На юго-западе, дорогой Хобот, никто не оценит твоей внешности, твоей гладкости, твоего порыва к перестройке, а вот на Дюпоне каждый увидит в тебе своего, и твой отъезд будет там оплакиваться как непоправимая потеря!
Вот что случилось с доктором наук Фофаноффым в середине сентября, а потому ранне-сентябрьский вальс с Фелиситатой пропал зазря. Заглядывая вперед, мы предполагаем, что случайное столкновение с вездесущим вашингтонцем Аликом Жукоборцем может сыграть важную роль в развитии нашего сюжета. Когда время придет, мы, разумеется, распечатаем несколько секретных писем из магического ящичка дистрикта Колумбия, стиснутого между невинным брюхом штата Мэриленд и не менее невинным горбом Вирджинии. Пока что, увы, мы можем только догадываться, почему Алик не пригласил Фила поселиться в своем Кондо дель Мондо, хотя там имелись свободные квартиры. Случайно так получилось, или намеренно?
МИНИАТЮРНЫЕ ДЕМОНЫ
По совету Жукоборца Филларион снял студию на тихой Дикэйтор-стрит, которая начинала свое скромное течение возле одной из самых элегантных площадей Вашингтона, Шеридан-серкл, только для того лишь, чтобы угаснуть, не добравшись до назначения, развеселого Дюпона. Студия увенчивала собой четырехэтажный таун-хаус, принадлежащий отставному адмиралу и послу без портфеля. Сам адмирал-посол Дринквотер вместе со своей миловидной женой занимали просторный английский полуподвал с обилием роз на заднем дворе и с алебастровым херувимом на передовой позиции.
Филларион обожал хозяина дома, особенно в те моменты, когда заставал его в клетчатых брюках, стоящим возле херувима, как сущее воплощение несгибаемой англо-саксонской культуры. Ему также очень нравилось жить под самой крышей, хотя узкая лестница явно не была рассчитана на слоноподобных обитателей. Иной раз, забираясь наверх, в соответствии с законами трения, он улавливал запах чего-то паленого, но зато после восхождения можно было любоваться большим объемом неба, а также наслаждаться пузырящейся ванной «джакузи», расположенной прямо под книжными полками, заполненными впечатляющим собранием консервативной мысли, от Генри Адамса до Ирвинга Кристола. Приобщаться к могучему источнику стабильности среди горячих пузырей модернизма, ну и дело! На триллион долларов физзи-фаззи!
Комната сама по себе была не очень большой, но зато она выходила на обширную, не менее тридцати квадратных метров, террасу, что давало Филлариону возможность танцевать перед сном «Танец маленьких лебедей». Густая растительность вокруг террасы закрывала виды и глушила все звуки с улицы. Из-за этой закрытости возникало странное чувство, которое Филларион однажды определил как чувство предсуществования. Впрочем, эта растительность, думал он иногда, дает мне возможность в любой момент прыгнуть в нее головой вперед и раствориться в зеленом. Он вряд ли смог бы объяснить свою идею растворения в зеленом, но тем не менее этот выход в джунгли чем-то его определенно устраивал. Ему никогда не приходило в голову, что этот запасной выход в равной степени может быть удобным трамплином для вторжения.
Это последнее событие случилось раньше, чем ваш покорный слуга мог бы ожидать. Вопреки авторским намерениям и пользуясь близорукостью Филлариона, некто, одетый в армейский камуфляж, великолепно замаскировался(лась) среди безучастной мешанины темно-зеленых листьев, прямо напротив всегда открытых дверей студии.
С этой позиции некто мог (могла) без всяких препятствий наблюдать любое движение профессора Фофаноффа. В тот вечер, например, о котором мы хотим рассказать в этой подглавке, он(она) наблюдал(ла) Филлариона, пока последний стягивал с себя свой гулливерского размера тренировочный костюм. Сняв костюм, он смотрел на свое почти голое отражение в большом безжалостном зеркале. Скорбное выражение на его лице в этот момент позволяло делать разные предположения — то ли он был лишний раз огорчен избытком своей плоти, то ли он просто думал о какой-нибудь проблеме литературоведения, например, о «последовательности синонимов» в гоголианской прозе.
Потом скорбь отлетела от его лица, и он, не без детского восторга, начал облачаться в обновки, голубые панталоны, синий пиджак, и крепко утверждать на голове свой пресловутый шапокляк. Теперь сам президент республики островов Ватанату позеленел бы от зависти при виде такого отражения!
Уже собравшись уходить, Филларион приоткрыл штаны, извлек орган и погрузился в следующий раунд каких-то размышлений. Его отшельник (когда-то, к восторгу посетителей «Искусства», он действительно называл его «мой милый отшельник») выглядел не вполне под стать всему гигантскому остальному, но тем не менее был приятно очерчен и донжуанственен.
«Славная штука, — думал(а) некто, сдерживая свое дыхание. — Что они имели на самом деле в виду, называя его Хобот?»
Филларион стряхнул задумчивость, положил немного какой-то мази на левую сторону «своего милого отшельника», затем закурил сигару и забухал вниз по узкой лестнице. Законы трения! Бесенята рассеянности! Истины ради мы должны сказать, что он отправил отшельника восвояси только уже после выхода наружу, то есть в том смысле, что после отвешивания глубокого диккенсовского поклона госпоже Дринквотер, то есть в том смысле, что уже оставив ее за спиной, с открытым ртом, очки набекрень, луковицы тюльпанов рассыпаны. Преисполнившись чувства полной искренности, мы должны признать, что полный порядок в его туалете был наведен только пару часов позже во время приема в Каннон-холле Американского сената, когда бразильский политический советник сердечно прошептал в его ушную раковину: «Ваш люк открыт, дорогой товарищ, камарадо!»
Тем временем… м-м-м… ну, хорошо, давай уж, вперед-вперед, хватит испытывать терпение читателя!..
Как только шаги Филлариона замерли внизу, некто в камуфляже пружинисто выпрыгнул из джунглей на террасу, а затем без задержки прокрался в студию. Первое, что поразило его (или ее) внутри, было ощущение, что он (она) не один (не одна). Что происходит? Может быть, эти многочисленные чертовы Филларионовские домашние животные создают это обманчивое ощущение чьего-то присутствия?
Эти, так сказать, домашние животные ползли по стенам, парили вокруг люстры, раскачивались на шторах, свисали с потолка, плели в углах паутину — кузнечики, майские мухи, жуки, муравьи, москиты, бабочки, стрекозы, осы, пауки… Филларион никогда не удосуживался выключать свет, все отверстия его подкрышной берлоги светились ночь напролет, привлекая несчетные рои миниатюрных демонов вашингтонского парного лета.
В два или три скачка некто в камуфляже выключил все лампы, а затем зафиксировался в стиле «ниндзя», то есть почти исчез. Сверхчувствительные линзы, которыми обладал незваный гость, не требовали ни ватта электричества для того, чтобы запечатлеть окружающий мерзкий хаос: скомканные бумаги, бесчисленные книги навалом, создающие картину недавнего землетрясения, пару ножниц и несколько дюжин срезанных с ногтей полумесяцев роговицы, пучок полуседых курчавых волос (откуда взятых? не из поэмы ли Бродского?), увеличительное стекло, неряшливый разброс дешевых пищевых материалов — конфетки «джели-бинс», кукурузные хрустелки «читос», козинаки «грану-лабар» и тому подобное.
Озадаченные насекомые, ведомые их непобедимым инстинктом двигаться в сторону того, что светлее, разочарованно жужжа, покидали ранее столь гостеприимное помещение. Затем чудовищный удар сокрушил внутреннюю структуру незваного гостя.
«Рушится, рассыпается на части Рим моего тела, — горько думал Джим Доллархайд, коллапсируя на полу. — Мамуля, дядя Роджер, взгляните на эти языки бешеного огня, прислушайтесь к зловещим разрядам грома… Пора сказать «прости» моей внутренней цивилизации!»
Последнее, что прошло через сознание спецагента, было видение молодого японца, с которым они неделю назад обменивались испепеляющими взглядами в «Лямбде на взводе». «Жаль, что я не убежал с ним из моего Рима до того, как тот развалился». После этой, пожалуй, странной идеи Джим отключился от мировой энергетики.
Глава четвертая
ФЛОРА И ФАУНА
ПОСОЛЬСКОГО КВАРТАЛА
Опытный читатель не будет, конечно, слишком удивлен, обнаружив, что наш блистательный сыщик все-таки выжил к исходу первой трети романа. Да, он уцелел и через две недели после беспощадной атаки на его «внутренний Рим» Джим, выглянув из окна своей квартиры на Висконсин-авеню, обнаружил, что портик Кафедрального собора напротив стал лучше различаться сквозь листву. Началась великолепная среднеатлантическая осень.
Несмотря на то, что доктор Каузешвитц строго рекомендовал дать его печени и почкам еще одну неделю горизонтального положения, Джим отложил в сторону «Историю русской литературы романтического периода» и надел свои панталоны для гольфа. Больше он не мог ждать: так сильно было желание увидеть ЕГО вновь.
Даже и не видя его, даже и среди тлеющих руин своей «внутренней цивилизации», наш сверхчувствительный профессионал улавливал аромат чего-то необычайного, исходящего от слоноподобного русского во время беспечных прогулок того по трехзвездному граду. Шпион он или не шпион, что-то совершенно невероятное должно произойти с ним или вокруг него, думал Джим.
Третьего дня он снова натолкнулся на, или, вернее, споткнулся о короткий призыв в секции объявлений «Нью-йоркского книжного обозрения». Призыв гласил: «Среднего возраста особа м. пола, внушительной заметной внешности, быстрая смена убеждений, полный набор скверных привычек, пение, фехтование, курение сигар, ищет общества дамы эфирного поведения, от 20 до 60. Звонить по телефону… или заходить без предупреждения… Дикэйтор-стрит, Вашингтон Ди Си…»
Как чудно было бы зайти к предполагаемому шпиону под маской дамы эфирного поведения! Но кто может гарантировать, что эту даму не встретят на Дикэйтор таким же, как и раньше, сокрушающе гостеприимным образом? Гош, я просто умираю… увидеть это чудовище! Легче, легче, спецагент, легче! Вы все еще в отпуске по «производственной травме», и вы все-таки не Ее Величества номер 007, мистер Бонд, чтобы перенести второе покушение на ваш внутренний… Да, сэр, на мой внутренний Рим, сэр… — что бы это там ни было — короткое замыкание или суперэлектронный призрак из КГБ.
Так или иначе, сегодня — никаких серьезных решений, но почему не глотнуть свежего воздуха? Почему не предпринять личную беспечную прогулку по Массачусетс-авеню, необязательно даже до угла Дикэйтора, а просто, ну, хотя бы до памятника Роберту Эммету, ирландскому патриоту?
В общем-то, я даже могу немного продвинуться и дальше, но, конечно, даже не взглянув в сторону Дикэйтор, а просто полюбоваться видом генерала Шеридана, вечно осаживающего своего боевого коня зазеленевшей меди. Почему нет? Если бы только Джим Доллархайд знал, каким будет результат его беспечной прогулки!
Тем временем объект этих жарких мыслей возлежал на своей шаткой кушетке, известной уже населению Дюпон-серкл как «лежбище Фила». В глубоком мохнатом гроте, образованном его ухом и плечом, он держал телефонную трубку.
В русском сленге есть словечко «кореш», так вот именно с корешем корешился в данном случае арбатский авангардист: достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм был на проводе.
ГТТ: «Интересно, чем ты сейчас занят, мой нерадивый и вечно юный кентавр? Ручаюсь, бьешь баклуши, не так ли?»
ФФ: «Дунул в лужу, кореш! Я чертовски занят, выколачивая блох непристойностей из своего последнего трактата. Ну, а вы, достопочтенный? Где вы слонялись после того, как сквозанули из своего яйцеподобного чистилища? Тоже блошек выискиваете, только из другого места? Готовы признаться и раскаяться?»
ГТТ: «Довольно нахальное предположение, мой Хобот! Впрочем, может быть, подсознательно я действительно жаждал раскаяния, хоть и не мог этого выговорить… В данный момент, Фил, ты в стабильной позиции?»
ФФ: «На всех четырех опорных точках, Ваша честь, то есть на обеих ягодицах и на обеих лопатках».
ГТТ: «И никакие центробежные силы тебя не крутят, мой гордый друг?»
ФФ: «Ничего, кроме томного снобского голоса, который заставляет меня думать о преждевременном мужском климаксе, вызванном программой «Современные лидеры» в рамках Гарвардского университета».
ГТТ: «Не сыпь соль на раны, зверь и гад! Я собираюсь тебе рассказать о самой предосудительной неделе в моей жизни после шестидесятых».
ФФ: «Ты сейчас звонишь из Ки-Уэста или из Провин-стауна?»
ГТТ: «Ну-ну, зубрила-мученик! Хоть я и отдаю должное твоей проницательности и быстроте, с которой ты опознал любимые становища нашей голубой элиты, должен сказать, что в данном конкретном случае ты зашел слишком далеко и, парадоксально, не дотянул до цели в своих догадках. Ну-ка, включи свою уникальную способность разгадывать сплетни и еще раз попробуй!»
ФФ: «Если провести параллель с шестидесятыми, ты звучишь так, как будто пустился в какое-то распутство, в какие-то эскапады с девочкой вроде Ленки Щевич».
ГТТ (с некоторым клекотом, с горячечным придыханием): «Попал, ублюдок! Это она, моя любовь, моя память, мое очарование!»
ФФ: «Не хочешь ли ты сказать, прелюбодей, что встретил Ленку?»
ГТТ: «Вот именно! Я не мог себе места найти с того времени, когда ты сказал, что Ленка осела в Штатах, просто потерял центр тяжести! Ты не помнишь, Фил, наш полночный разговор в уборной Одесского аэропорта? Я тебе сказал тогда, двадцать лет назад, что Ленка была единственной женщиной, что подтянула во мне подпруги?»
ФФ: «Подтянула тебя к супруге?»
ГТТ: «Подпруги моего существования, болван! А после недавних воспоминаний я подумал, что она могла не очень-то сильно измениться с той волшебной, апреля 1968-го, призрачной, непостижимой ночи вокруг «Искусства».
ФФ: «С той галактической ночи, ты хочешь сказать?»
ГТТ: «Спасибо, старина, именно галактической ночи! Ей сейчас под сорок, ну, что ж, девочки такого типа долго не меняются. Она могла остаться все той же Ленкой, моей девушкой…»
ФФ: «И моей девушкой, осмелюсь сказать, а также и вообще, так сказать, общей девушкой…»
ГТТ: «Это не имеет значения! Ты понимаешь, что я хочу сказать, эта пронизывающая женственность…»
ФФ: «О, о, о…»
ГТТ: «Вообрази, найти ее оказалось несложно. Алик Жукоборец — разумеется, не без многозначительной ухмылки — сразу же дал мне адрес: Диван-стрит, Чикаго. Ее муж, господин Ясноатаманский, владеет там автоматической прачечной «Оптимистическая трагедия». Я мигом выскочил из Яйца и помчался в аэропорт Нэшнл, не оставив своей милой Джоселин даже намека на свое местонахождение. Я знаю, что мое поведение безобразно, непростительно, но с другой стороны, знаешь ли, Фил, моя Джоселин всегда была психологически подготовлена к такого рода эскападам, несмотря на то, что мое положение в обществе уже сделало евнухом бывшего сатира.
О, дорогой мой Пробосцис, как только самолет оторвался от земли, я увидел вокруг бескрайнее новое море. Помнишь, как в «Улиссе»? «Сжимающее мошонку море…»
ФФ: «Я дико извиняюсь, Генри, но надеюсь, ты не изгонишь меня с берегов своего «нового моря», если я взмолюсь о короткой паузе. Мне нужна передышка, чтобы переварить тебя в образе бывшего сатира».
Короткая пауза.
ФФ: «Благодарю. Пожалуйста, продолжай, мой бывший сатир».
ГТТ: «Продолжаю. Вообрази себе, с каким трепетом я подходил к «Оптимистической трагедии»! Я был уже готов увидеть опустившуюся тетку или чопорную еврейскую матрону, которая и смотреть на меня не захочет. Даже не узнает с другой стороны, я страшно боялся узнавания. Что я скажу ей, если мои ужасные ожидания оправдаются?
Несколько раз я прошел мимо «Трагедии», украдкой заглядывая внутрь. Рядом находился магазинчик фокусов с разными масками к Празднику всех святых, и я даже — верь, не верь — думал, не купить ли мне там резиновый нос. Бывший Дон-Жуан стал жалким влюбленным увальнем, влюбленный в прошлое Дон-Жуан… Тебе нужна еще одна пауза, мой друг?
ФФ: «Ничего, ничего… я уже привык к твоим… м-м-м… метафорам».
ГТТ: «Так или иначе, я в конце концов оказался внутри. В «Оптимистической трагедии» было пусто и спокойно. Можно было слышать только жужжание трех стиральных машин, три другие бездействовали. Потом где-то в глубине скрипнула дверь. Охваченный паникой, я бросился к одной из бездействующих машин и начал забрасывать в нее все, что я мог постирать в этот момент: платок, шарф, галстук, часы…
ФФ: «Моющиеся часы?»
ГТТ: «В этот момент я был готов уже бросить свои туфли в ненасытную пасть, когда услышал смешок за своей спиной. О, такой знакомый смешок! Я повернулся медленно, как будто для того, чтобы предстать перед расстрелом. Это была Ленка Щевич во плоти!»
ФФ: «Во плоти? Значит, это не было дуновением мечты, звуком лопнувшей струны? Это была действительно Ленка Щевич во плоти, да? Простите, сэр, но мне нужна еще одна передышка».
ГТТ: «Просьба отклоняется. Ты можешь упражняться в своем загребальном остроумии как хочешь, но ты должен слушать меня далее без передышек, хотя бы в соответствии с кодексом поведения цивилизованного человека».
ФФ: «Продолжай, продолжай, силь ву плэ!»
ГТТ: «Как мало она изменилась! О нет, прости мне эту банальность, она ничего не скажет о ней. Она не была моложе своего возраста, но она была все той же! Той самой девчонкой, с которой я столкнулся на исходе той головокружительной «раззл-даззл» ночи двадцать лет назад… тот же огонек в этих лживых глазах… та же немедленно ободряющая, очаровательная искусительница… Тот же язык движений… поворот этих худеньких плечиков, что заставит любого мужчину забыть обо всем, кроме неудержимого желания… о да… защитить их всей своей мощью…
Остолбенев, я стоял перед ней с парой монет в руке. «Сэр?» — сказала она. Жужжание трех работающих машин. Мои вздорные постирушки в четвертой. «Мне нужны монеты», — пробормотал я. «Нет проблем», — сказала она. Проклятье, вот что она может написать на своем гербе — «Нет проблем!» Как я мог упустить этот простейший момент, этот вполне доступный, хоть и извилистый проход к истине? Если нет проблем на Земле, почему мне всегда не хватало спонтанности?
«Спонтанности», — словно эхо повторила она. Думал я вслух или нет, но по какой-то причине она вдруг надела большие слегка розоватые очки и внимательно в меня всмотрелась. Меня пронзило острое ощущение — конечно же, снятие с нее этих очков будет моим первым шагом в процессе нашего нового сближения. Близорукость и обнаженность, разве они не сестры?»
ФФ: «Конечно, сестры!»
ГТТ: «Saxy?» — сказала она и потом по-русски: «Ну и ну, да это же Сакси!» Помнишь, многие ребята в «Искусстве» звали меня тогда Сакси?
…Через два часа мы уже были в воздухе, направляясь в сторону Надветренных островов. Это было сродни эзотерическому путешествию к перевоплощению. Не помню уж, когда и где мы начали наше соитие, в воздухе ли еще, или в такси на Сен-Мартене, в лифте ли отеля… Эти перехватывающие дыхание, ошеломляющие ощущения вокруг копчика, ты не забыл, как мы об этом говорили?»
ФФ: «Как я мог забыть одну из важнейших вех жизни? Всю ночь в позорном узилище мы толковали о копчике и даже решили написать об этом совместное эссе. Что касается меня, то я никогда не забрасывал этой идеи, тогда как ты, проклятый англо, забросил тему копчика сразу после освобождения ради своей вшивой массачусетсности!»
ГТТ: «Никогда не забрасывал! Копчик — это моя самая сокровенная тема! И теперь, когда мое жизненное путешествие вдруг сделало резкий поворот из выжженной пустыни к…»
ФФ: «Прости, что перебиваю, мой Секси-Сакси, но ты бы лучше вместо всей этой многословности попробовал со своей партнершей пуститься в левитацию. В таком состоянии, в каком вы сейчас находитесь с Ленкой, а я не сомневаюсь, что она у тебя под боком, вы можете преодолеть силу притяжения земли и во время очередного соития оторваться от земли. Эй, Щевич, привет! Слышишь меня?»
Голос Ленки: «Слышу, Хобот, слышу!»
ФФ: «Ну, давайте, попробуйте левитацию! Не хотите? Что за чудачество? Вот странные люди, не хотят попробовать левитацию. Экое чудачество, в самом деле!»
Пожимая плечами — отказываться от упражнений по левитации, что за чудачество? — озадаченно просвистывая свой нос, — встретиться после двадцати лет, сбежать на франко-голландский остров, это капище греха — топорщилась дикообразная грива на затылке, — жевать друг дружку до самой корки и не сделать ни малейшей попытки левитации! — профессор Фофанофф последовательно покидал свое «лежбище», вошел в туалетный шкаф, вышел оттуда, одетый с привычным шиком — ну, знаете ли, что за чудачества!
Привычно бросая вызов законам трения, профессор спустился по лестнице, вышел на Дикэйтор-стрит, поклонился послу Дринквотеру с супругой, которые стояли на своем газоне с садовыми орудиями в руках, словно истинное воплощение американской готики. Отправился вниз по Дикэйтор. Впечатляющая тень его рябила под налетом стаи мелких облачков, бойко бегущих над столицей нации. На углу Дикэйтор и Масс Филларион остановился, чтобы отвесить еще один поклон, на этот раз огромной магнолии.
Благодарю тебя, дерево магнолии, за дополнительный кусочек гармонии! В твоем лице я глубоко кланяюсь всем вечнозеленым. Без вашей непобедимой листвы генерал Шеридан выглядел бы дезертиром с поля боя.
О, спасибо, спасибо, среднеатлантический мороз великодушный, за благотворный массаж, который ты даешь моим кровеносным сосудам! «Румяный критик мой, насмешник толстопузый!»… Большое спасибо, северо-восточный ветер, 15 миль в час, за то, что превращаешь дым из трубы пакистанского посольства в стремительного ирландского сеттера, за то, что спускаешь его с поводка в погоню за собственным хвостом над крышами мавританских, викторианских, греческих, классических, декадентских и колониальных вирджинских особняков и таун-хаузов.
Флора и фауна посольского квартала, спасибо за все, особенно за этот экземпляр вымирающей породы, Эмили Дикинсон в дизайнерских джинсах и в жакетке из рыжей лисы! Спасибо тебе, серокаменный дом, наполненный загадками югославского коммунизма, за то, что дал мне шанс сделать вокруг тебя резкий поворот и увидеть мост Дамбортон с четырьмя зеленоватыми бронзовыми буйволами. Четыре грозных зверя, стерегущих сооружение, которое без них не стоит и копейки…
Тем временем наш храбрый сыщик, спецагент Джеймс Доллар-хайд двигался вниз по Масс-авеню, самым дружеским образом обозревая фасады иностранных посольств и консульств. Вот британское, подлежит охране от террористов ИРА; индийское, хм… держи ухо востро с сикхами; японское… о, иес… имей в виду их собственных ублюдков из Красной Армии; турецкое… б-р-р-р… наблюдай за армянами…
«Что это за бледный тип тащится мимо с такой подозрительной улыбкой на устах?» — думали соответствующие офицеры безопасности в их посольствах. «ИРА? Красная Армия? Армянин? Обестюрбаненный сикх?»
Завершив полный круг вокруг генерала Шеридана, Филларион Фофанофф остановился возле скульптуры Роберта Эммета, вдохновенного ирландского патриота. Шапки долой, джентльмены, перед вечно бушующей юностью, единственной надеждой Перестройки! Он вынул сигару и сел на скамейку перед монументом. Ему нравилось походить на местную персону, что просто возымела привычку попыхивать сигарой в этом окружении.
В следующий момент Джим Доллархайд, слегка покачиваясь, тоже приблизился к мемориалу Роберта Эммета, имея в виду короткий привал на скамейке. Прекрасно натренированный для встреч самого неожиданного характера, он все-таки вздрогнул при виде объекта его столь интенсивных раздумий и стремлений, который задумчиво попыхивал сигарой как раз на этой скамье.
— Доброе утро, — сказал Фил Фофанофф с приветливой, хоть и рассеянной улыбкой. Разве это не чудесно вот так вот запросто сказать «гуд морнинг» проходящему юноше, который по каким-то причинам выглядит словно погорелец Великого Рима?
Доллархайд ответил со старомодным поклоном:
— Вы, должно быть, поздняя птичка, сэр, если этот чертовски зрелый пополудень все еще утро для вас.
Филлариону понравилась добродушная шутка так же, как и выражение «чертовски зрелый пополудень». Он открыл коробку «Генри Риттенмайстера», предложил по-русски:
— Не угодно ли?
— Спасибо, что-то не хочется. Перенес землетрясение, знаете ли. Моя наружность говорит сама за себя. Даже этот худышка, — Джим кивнул на ирландского патриота, — выглядит здоровее.
Пуф-паф, голландские колечки русского восторга.
— Мне нравится, как вы говорите о мистере Эммете, этом жалком воробушке революции. Должен признаться, сэр, что я испытываю некоторое тяготение к этой юной персоне. Возможно, потому, что его бронзовая внешность чем-то напоминает моего соотечественника Александра Пушкина.
— Позвольте предположить, сэр, — мягко сказал спецагент, — что вы имеете в виду Пушкина перед выпуском из Царскосельского лицея?
Пуф-пуф-пуф, колечки восторга рассеялись вокруг со скоростью стрельбы безоткатной мортиры. Слух не изменяет мне? Прохожий на Массачусетс-авеню толкует о Пушкине лицейского периода?
Вот так они встретились, подозреваемый в шпионаже любимец мировой академической среды профессор Филларион Ф. Фофанофф и его злополучная тень, оперативник контрразведки ФБР Джим Ф. Доллархайд.
Они понравились друг другу.
— А почему бы нам не завернуть в «Рондо», Фил? Не заморить червяка?
— Ну, разумеется! Впрочем, Джим, ваше предложение сворачивает меня с сегодняшнего курса. Я собирался покататься на коньках возле Национального архива. Почему бы нам вместе не предаться этому дивному занятию, а уж потом закатить сказочный пир?
— Хм, хм… я не очень-то сильный конькобежец, Фил, да к тому же, знаете ли, эти последствия землетрясения… все эти приливы и пожары…
— Легкое катание вылечит вас, Джим! Скольжение по льду обычно смягчает сожженные поверхности внутренних цивилизаций… Что это вы стали заикаться, Джим? Я вижу, вы согласны.
В такси Филларион дружески повернулся к Джиму.
— Ну, а кроме русской литературы, Джим, кто вы? Джим ответил с широкой улыбкой:
— Нештатный аналитик при Центральном Разведывательном Управлении.
— Потрясающе! — вскричал Фил. — Ни разу еще не встречал никого, связанного с этим впечатляющим учреждением, хотя в дистрикте Колумбия, наверное, немало таких, как вы.
— Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина, — засмеялся Джим.
— Замечательно! Все эти американские тайные действия, это захватывает, как песнь муэдзина!
— Бога ради, Фил, чья песня? Почему муэдзина? Филларион смущенно пожал плечами.
— Ну, просто я подумал, что это так же странно, загадочно, маняще, как песнь муэдзина. Я всегда, например, мечтал увидеть детектор лжи. Скажите, нет ли какого-нибудь шанса провериться на такой машине?
Джим лез вон из кожи, чтобы не потерять самообладания. Кто кого тут дурачит?
— Вы серьезно, Фил? Хотите пройти тест на этом дьявольском империалистическом устройстве?
— Если вы мне это устроите, Джим, я буду у вас в долгу весь остаток моей жизни.
— Легче сказать, чем сделать, — промямлил молодой агент. — Впрочем, я попробую…
Глава пятая
НОВОЭВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ
Пока два новых друга ехали в такси на каток, два старых друга, а именно отставной первый помощник старшего официанта при жаровне отеля «Хэй Адамс» и Джордж Шварценеггер сидели под тентом кафе «Рондо» и с одобрением наблюдали свободный в манерах молодой народ всех мыслимых рас и полов. Британец нет-нет да бросал особенно внимательные взгляды на нежного юношу-черногорца, который обслуживал соседний столик, что, конечно, не ускользнуло от внимания вашингтонца.
— Так или иначе, Дотти, — сказал генерал Егоров в свободной раскованной манере, как будто речь шла о здешней футбольной команде, — сегодня ты должен будешь сказать нашему другу о том, что мы от него ждем на данный момент.
— Однако, Тим… — пробормотал полковник Черночернов.
— Никаких «однако». Дотти, дорогой, — мягко, хотя и не без легкого взвизга кухонной утвари в голосе сказал генерал. — Люди нашего призвания не могут пренебрегать словом «Надо»… — Он приблизил губы к уху полковника, что
напоминало пластиковую игрушку, и жарко шепнул: «Надо, товарищ!»
— Кто же спорит? — сказал Черночернов, но потом добавил с некоторым камикадзовским напором в голосе: — Однако могу я все-таки попросить об элементарной страховке? Можешь ты гарантировать, что Зеро-Зет не вмешается в мою сегодняшнюю операцию?
— Увы, не могу, несмотря на мое самое горячее желание, — мягко сказал Егоров. — Всю последнюю неделю проклятая штука не отвечает на мои запросы. Похоже, что он — или она, или оно — становится все более дерзким, если не враждебным, в своем непослушании.
— Надеюсь, что он, по крайней мере, не имеет доступа к нашим коммуникациям, — предположил Черночернов с искоркой истинной надежды в его глубоко упрятанных зрачках.
— Прости, Дотти, но он имеет доступ, — вздохнул генерал. Кажется, он меня опять испытывает, прошло в голове полковника. Мурашки поползли по коже.
— Послушай, Тим… ведь за малейшее нарушение… хм… этики наши самые уважаемые… ммм… сотрудники подвергались… ну-у-у — суровым взысканиям, что ли, а тут какая-то вонючая ШТУКА…
Мистер Тимоти Инглиш был старомодным пунктуальным человеком. Он посмотрел на свои увесистые швейцарские часы (тридцать лет беспорочной службы) и снова вздохнул.
— Боюсь, тебе уже нужно идти к нашему весомому другу, Шварценеггер. Хвост пистолетом, мальчик! Я верю в свою интуицию, а она определенно говорит, что сегодня ты подвергнешься не большему риску, чем любой посетитель кафе «Рондо».
Заплатив по счету, они вышли из этого сомнительного места, где между столиками витают вполне крейзанутые идейки, ну, например: почему не засунуть кредитную карточку меж ягодиц молодому черногорцу?
Как только они свернули за угол, тент кафе рухнул, причинив посетителям немало неприятностей по части пятен на одежде, а также спровоцировав щедрый показ всякого рода царапин и синяков. Три человека, а именно ассистенты Либеральной лиги Линкольна Рози, Пинки и Монти Блю были срочно отправлены в Джорджтаунский госпиталь и зарегистрированы там по графе «состояние стабильное».
Грандиозное здание Национального архива, это самое надежное в мире хранилище высших тайн и мелких секретов, фальшивых и истинных признаний, косвенных и прямых улик, оплаченных и неоплаченных счетов, включая и счета бакалейщика и зеленщика с далекой Шпигельгассе в городе Цюрих, примыкало к самому скользкому месту, если и не в мире, то в городе, где конгрессмены, лоббисты, сотрудники Белого дома и Национального совета безопасности, члены дипломатического корпуса и общины разведчиков кружились, бросая несколько снисходительный вызов законам трения, однако и не забывая об определенном почтительном поклоне законам тяготения.
Опять споткнулись, Доллархайд? Это ничего! Ув-ва! Главное, что вы должны уловить на катке, это чувство ритма, а это придет! Опять на пятой точке, дорогой друг? Не унывайте! Ритм катания — это просто часть ритма Вселенной, подобно ритмическим движениям в плавании или в совокуплении. Ув-ва! Поздравляю, сэр, я только что наблюдал ваш самый близкий подход к маятнику Вселенной! Чем суровей обстоятельства ученичества, тем большее наслаждение вы получите от чувства всеобщей глади, которое у вас неизбежно прорежется в самом ближайшем будущем.
Внезапно Филларион заметил пару знакомых, увлеченно проделывающую серию искусных, хотя излишне кокетливых пируэтов. Это были доктора наук Урсула Усрис и Алик Жукоборец, и выражение их лиц находилось в остром контрасте с развеселым рисунком, который их коньки чертили на ледяной пленке. Руки их были перекрещены, но лица отвернуты прочь друг от друга и светились взаимной ненавистью.
И не без причины, леди и джентльмены! Всего лишь десять минут назад красивые фигуристы столкнулись лбами на теме славянских суффиксов и префиксов. Весь этот недавний шухер вокруг ваших слюнявых русских частиц, особенно вокруг этих загребальных кртчк, мрдк, чвск, которые вы якобы нашли — о Боже! — в Канаде, не что иное, как подделка, типичная русская переоценка более чем скромных культурных достижений, сказала Урсула, выгибая свои неотразимые губы в форме сердцевины плотоядной агавы.
Вы, вы… Доктор Жукоборец вспыхнул от возмущения. Вы, австралийская невежда, посягаете на наше великое лингвистическое наследие только для того, чтобы утвердить свой агрессивный феминизм!
С момента этого грозового разряда идей они не проронили ни единого слова, не переставая в то же время кружиться по льду в полном синхроне. Хотелось бы, чтобы этот хмырь был бы хоть наполовину так же синхронен в других областях деятельности, думала Урсула презрительно.
Потом вдруг слоноподобный русский, это ходячее, вернее скользящее посмешище, Его Жироподобие Фил Фофанофф появился, как с неба свалился. И распростер свои объятия, как рожденная на Борнео горилла.
— Урсула, душка, богиня сирени!
— Я тебе кренделей накидаю за «душку» и за «богиню сирени», — сказала она вежливо. Она всматривалась в фофаноф-фского дружка, шатконогого молокососа, очевидной жертвы довольно приличного землетрясения. Очень знакомое лицо. Спала я когда-нибудь с этим малым или просто сталкивалась, не замечая? И что означает это восхищение, которое сверкает сейчас в его глазах? Пятнадцать лет назад в Канберре я бы сказала, что это любовь с первого взгляда.
Встретившись таким вот не столь элегантным образом, четверка затем, окрестив руки, образовала хоровод. Дикая эйфория охватила Фила.
— Я мост! — вскричал он. — Я снова мост! Что он имеет в виду, думали его партнеры.
Этот же вопрос интересовал и еще одного господина, который предпочитал кататься в одиночестве и не попадаться на глаза. Японский ученый Татуя Хуссако опровергал все стереотипы своих земляков. Он пренебрегал коллективизмом, сдержанностью потребностей и чувством такта. Хоть был и тощ, а не переставал жевать, являя образец обжоры. В тот момент, когда мы уловили его промельк на катке, он как раз кончал сосиску под соусом «чили». Жирные коричневые капли рассеивались вокруг в подтверждение его всегдашней бестактности. «Что означает это «снова мост», — подумал Хуссако и стал поспешно линять, как будто это и не он накапал.
Тем временем талантливый Джим Доллархайд катался все глаже и глаже, несмотря на то, что его внутренний мир снова вошел в турбулентную зону. Новоэвклидова геометрия действовала. Ледяная поверхность рябила. Отражение колоннады Национального архива перепуталось в диковинных конвульсиях. Внутри и снаружи все как-то извращалось, отклонялось, ревербировало. Грандиозная Вселенная спецагента Джеймса Доллархайда рухнула, к полному стыду группы «Лямбда на взводе» первая же встреча с лиловыми глазами австралийки подкосила твердый свод его убеждений и склонностей. Гош, я никогда такого еще не испытывал к женщине!
Внезапно хоровод распался. Будто что-то вспомнив, мисс Усрис полетела к выходу. Боже упаси, как бы вдруг не потерять ее из виду! Джим отчаянно рванулся вслед и в непостижимом, чертовски дерзновенном пируэте умудрился схватить ее за локоть.
— Але, друг, — сказал он задыхаясь. — Сваливаем? В чем дело? Что-нибудь с мочеиспусканием?
Ей понравилось, как он адресовался.
— Да ну, надо позвонить, — сказала она.
— Мой Бог! Да кому же?! — воскликнул он. Она усмехнулась.
— Хорош вопросец! Прямо по существу, мэн. Если бы я знала. У меня сегодня просто свиданка — вслепую.
— С мужчиной или женщиной?
— Эй-эй, мэн! Камнями по воронам, ты звучишь, как сыщик!
Некоторое время они стояли, глядя друг другу в глаза, два существа ныне процветающей породы, мужчина на его неопытных шатких ногах и женщина, каждая из чьих ног напоминала хорошо тренированного серфера из Южного океана.
Горе мне, думал Джим. Барометр падает. Влажность возрастает. Ветер из Мексиканского залива, смешиваясь с зимним экспрессом озера Онтарио, образует над Вашингтоном огромную чашу черной смородины, тяжелое темно-лиловое облако, чреватое молниями. Ну и момент! Как я могу не думать, что все это имеет прямое отношение ко всему делу?
Она расхохоталась, неожиданно нежным манером отделилась от трепещущего новичка и исчезла. Лиловое в лиловом.
ПРОДВИНУТЫЙ ПЛАЦДАРМ
Когда бы полковник Черночернов ни взглядывал на свою законную супругу Марту Арвидовну (урожденную Нельше), перед ним возникали проклятые полки латышской Красной пехоты, этой гвардии революции, которую он всеми фибрами ненавидел. И не без причины, дорогой читатель. Марта Арвидовна, казалось, родилась пехотинцем, ее тяжелая, все сотрясающая поступь выглядела как убедительные фразы коммунистического манифеста.
Как мог я, человек не без вкуса, жениться на этой костлявой балтийской кобыле, думал Черночернов в тоске. Единственное, что оставалось в утешение, — все валить на Останкинскую ВПШ, именно там они и возникали, эти несообразные брачные предприятия.
Товарищ Марта только что вернулась из месячного отпуска, который она наполовину провела в партийных архивах, а наполовину в партийном санатории «Красные камни» у подножия Кавказского хребта. Была она — несмотря на все принятые медицинские меры — чертовски желчна и раздражена. Проклятое тухлое чудовище капитализма опять преодолело свой периодический кризис, цинично сверкая, оно поигрывало всеми копытами. Поступь истории опять, к полному разочарованию, замедлилась.
Товарищ Марта винила русских за эти раздражающие задержки в поступательном движении, этих русских с их блудливостью, с их постоянной склонностью к коррупции. Если бы всех их заменить трудолюбивыми и честными латышскими членами, коммунизм уже торжествовал бы на планете.
Увы, мы имеем полторы сотни миллионов бесстыдников и бездельников и только два миллиона, совместно с ГДР, тех, кто действительно заслуживает держать знамена Готического Марксизма!
— Куда ты собираешься, Черночернов?
Она стояла перед полковником с дымящейся папиросой в ее длинных хреноподобных пальцах. Жизнь не очень щедра ко мне, подумал Федот с пронизывающим чувством самосострадания.
— Я должен идти… в город… по делу…
Она надела внимательные очки на мост своего необаятельного, но зато первоклассно тевтонского носа. Все можно принять, любую дрянь, что жизнь для вас подготовила, но эта гребальная Марта Арвидовна! Он упал на колени.
— Клянусь, Марта!.. Моя партийная совесть чиста!.. Ты знаешь, мне мало нужно от жизни… Ради нашего дела, во имя Великого Отечества… иа, иа, натюрлих… ради интернационализма… не пощажу ни малейшего куска моей грязной кожи, ни кубика моих вонючих легких, ни песчинки из засоренной печени, ни…
— Хватит! — воскликнула Марта Арвидовна, с отвращением глядя на своего рыдающего, дрожащего, слегка конвульсирующего мужа. Как могло случиться, что это жалкое создание попало в нашу разведку, иначе говоря, на наш продвинутый плацдарм?
— Я предупреждала тебя перед отпуском, что если ты не прекратишь шляться вокруг «Лямбды на взводе», я сообщу куда надо!
Полковник расхохотался в самом тревожном, истерическом — пфуй, таком русско-достоевском — позорном стиле. Его подошвы отбивали чечетку на вертикальной поверхности стены.
Любимая Мартина картина — Ленин и Сталин на интимном плетеном диванчике — перекосилась. Вдруг зазвонил телефон.
— С возвращением, Марта!
Она вздрогнула. Шеф звонит, собственной персоной. Отчетливо доносились звуки, реверберирующие в огромных пространствах посольской кухни.
— Не возражаешь, если я заскочу на минутку? — спросил Егоров в своей такой приятной все смягчающей манере. — Хочу наших ребятишек побаловать вашими знаменитыми картофельными «цеппелинами», а единственный у нас знаток балтийских рецептов это ты… Федот-то-не-тот-тот-тот-то небось в городе по своему садово-культурному бизнесу, да? Ну, ничего. Все будет в полном порядочке.
Полковник был уже в вертикальной позиции, сух и спокоен. Марта Арвидовна отмахнулась от него — иди уж, ничтожество! Снова она была глубоко впечатлена всезнающими и всемогущими революционными органами. Все-таки русский русскому не чета.
«САППОРОВСКОЕ БОЧКОВОЕ»
«…В принципе, гольф, невзирая на все ссылки и экивоки в сторону кругов высшей буржуазии, имеет много общего с самыми первобытными видами труда, а именно с косьбой. Вглядитесь внимательно, джентльмены, в мои движения, когда я произвожу свинг. Разве это не напоминает хорошего советского колхозника с его обожаемой косой?»
Тренируя своих новых друзей в искусстве гольфа, Джим Доллархайд чувствовал, что руины его внутренностей в этот момент охватывает мощный процесс самореконструкции. Что было причиной оживления его обычно бурного метаболизма — первые успехи на льду ли, лиловые ли глаза насмешливой ин-теллектуалки, невероятный новый кореш профессор Фофанофф или просто поток космической энергии, который можно поддерживать только двухсторонним движением щедрости — дать и взять, взять и дать… это было не очень-то ясно и, по сути, не имело значения. Он просто чувствовал, что границы Молодого мира расширяются, в то время как недавние угрызения совести по поводу запятнанной голубой репутации съеживаются.
Жадно наблюдал он окружающую среду — залитые солнцем зеленые плоскости Хейнс Пойнт, сверкающие пространства воды и неба, похоже было на берега Вселенской гармонии, несмотря на запах жаровни «барбикью».
Джим определенно не был одинок в его приподнятом состоянии. Два других гольфиста, Филларион Фофанофф и Алебастр (Алик) Жукоборец, тоже были явно захвачены новыми горизонтами. Первый, с отчетливым желанием вновь сыграть роль моста, сжал кисть Алика, как наручниками, двумя пальцами левой руки и навалил на плечи Джима ярмо своего правого локтя.
— Разве мы не трио, старики?
— Трио, трио! — прозвучал двойной ответ.
Затем на садовой скамье появилась упаковка «Саппоровского бочкового». Жукоборец лицемерно вздохнул.
— Поскольку мы уже трио, хочу поделиться с вами своими сомнениями. Вы оба, мужики, истинные люди Ренессанса, а что я могу предложить на благо нашего союза? Единственное, что приходит в голову, — это моя исключительная близость к веселящимся кругам города. Как насчет этого, ребята, интересно вам будет приблизиться к веселящимся кругам города, иными словами к рафинированному дебоширству?
— Очень даже интересно, — последовал двойной ответ. — И чем скорее, тем лучше.
— А как насчет той лиловоглазой леди? — осторожно спросил Джим. — Она тоже близка к веселящимся кругам города?
— Урси Усри? — хохотнул Алик. — Посмотри, Фил, Джим-то наш заторчал на Урси Усри!
— О, доктор Усрис, — вздохнул Филларион. — Жаль, что она так ненавидит нашу великую русскую культуру!
— Знаете, Джим, она одна может заменить все веселящиеся круги города, — сказал Алик. — Давайте выпьем за наше трио!
Три банки с пивом, похожие на гранаты времен Второй мировой войны, поднялись над головами. Как это чудесно, думал Джим, и только опять же непонятно, кто кого дурачит.
На самом деле наше трио давно уже было квартетом: Татуя Хуссако хихикал за кустом.
Глава шестая
СЛЕПОЕ СВИДАНИЕ С БЛИЗОРУКИМ
Госпожа посланница Дринквотер глянула в глазок парадного и увидела за дверью чрезвычайно благонадежного джентльмена. Да, есть еще в мире некоторое число людей, чья наружность с первого взгляда говорит, что человечество еще не потерпело поражения. Долго не думая, она открыла дверь.
— Добрый вечер, мисс Дринквотер, — войдя, визитер снял свою ирландскую шляпу. — Меня зовут Уайти Уайт, мэм, Дотти Уайти Уайт к вашим услугам. Я из теоретических кругов.
Господин посол уже поднимался из своего подвального кабинета. Ему тоже с первого взгляда понравилась наружность визитера. Черт побери, с такими ребятами в запасе мы еще имеем некоторые шансы!
— Это мистер Майти Майт из теоретических кругов, дорогой.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал посол.
Ну, какой приятный феллоу! В наши дни не каждый, о, далеко не каждый умеет держать чашку чая должным манером.
— В наших теоретических кругах, сэр, мы сильно озабочены сейчас быстрым развитием серии спонтанных событий в постоянно ухудшающейся ситуации. О, да, мэм, недостаток, если не отсутствие выраженных напрямую целей и устремлений, вот причина нашей наибольшей озабоченности. Простите, могу я на минутку удалиться и воспользоваться туалетом?
— Посмотри на его походку, Сесиль! Ей-ей, он принадлежит к вымирающей породе джентльменов!
За мгновение до того, как закрыть дверь туалетной, Черночернов катнул в глубину гостиной невесомый мягкий баллончик с усыпляющим газом.
Гуманитарии всего мира, объединяйтесь! Три-четыре часа доброго сна не повредят пожилой паре: небольшие неприятности с пробуждением не в счет.
Когда он вышел из виси (ватерклозета) в биомаске, известной в разведывательных кругах как «нейтральное лицо», супруги мирно бубукали в креслах перед телевизором. Он включил магический ящик — спасибо вам, щедрые творцы сериала «Даллас»! — и проверил телефонный автоответчик. Милейший голосок Сесили обещал звонящим немедленный ответ, — «как только обстоятельства повернутся в желательном направлении, то есть очень скоро». Потом он отправился наверх, стараясь создавать как можно меньше звуковых и визуальных эффектов. Супруга его, очевидно, недооценивала некоторые специфические способности этнических русских, особенно тех, что получили спецподготовку на курсах «Залп» в московском пригороде Растительное Масло.
Разумеется, не Филлариона имел в виду полковник, когда принимал меры предосторожности. Ну, и уж, конечно, не ребят из ФБР и ЦРУ; этих он уважительно величал «коллегами» и в глубине души даже полагал их союзниками; с дальним прицелом, конечно. Зеро-Зет, вот кого больше всего опасался полковник, таинственное, ускользающее существо — или предмет? — которое в «теоретических кругах» считалось потенциально более опасным, чем Чернобыльская катастрофа. Обычно хорошо информированный Черночернов почти ничего не знал относительно проекта Зеро-Зет. Он слышал, что около года назад Хранилище пылало энтузиазмом, в элитарных кругах разведки ходили разговоры, что новое немыслимое, почти научно-фантастическое суперчеловеческое существо вскоре будет внедрено в самую чувствительную сферу «невидимого фронта», то есть в Северную Америку. С этим как бы занималась новая эра, когда практически не останется препятствий ни для каких задач. Что и говорить, в принципе, это было не что иное, как величайший, если не окончательный прыжок к триумфу нашего дела, к победе в мировом масштабе, за которой, как страстно надеялся полковник, последует реставрация единственно законной власти, Дома Романовых.
Увы, энтузиазм вскоре сменился признаками полного недоумения. Зеро-Зет вышел из-под контроля. Хранилище обвиняло Кухню, последняя ворчала по поводу первого. Похоже было, что ни те, ни другие не знали местонахождения Зеро-Зет, не представляли себе даже его (ее? их?) наружности.
В недавнем разговоре с Джорджем Шварценеггером Тимоти Инглиш намекнул, что он не исключил бы даже совсем неожиданного, едва ли не метафизического перекоса в клеточной архитектонике этой структуры, в результате чего мог возникнуть самый лживый, коварный, жестокий и мегаломанический агент в мире. Тимоти однажды просто остолбенел, заметив на ветровом стекле своей секретной «Тойоты» комбинацию пятен, которые расшифровывались, как дерзновенное заявление: «Я шпион на все сезоны!» Это означало, прежде всего, что следует ожидать череды в высшей степени иррациональных поступков, что-то сродни ядерному мелтдауну, а во-вторых, это означало, что неуловимая и вездесущая штука имеет доступ к самым чувствительным линиям наших коммуникаций.
Вот почему полковник Черночернов так нервничал и был даже излишне осмотрителен той ночью. К интуиции генерала Егорова он относился не очень серьезно. Хоть он и не видел драматического крушения тента в кафе «Рондо», он не мог, конечно, исключить чего-нибудь гадкого, оскорбительного или даже угрожающего по своему адресу — оглушающего, что ли, шипения прямо в ушную раковину, конфузной ли серной вони, обжигающего плевка промеж лопаток, посягновения на детородные органы… — чего угодно!
На лестнице ничего не случилось, и он благополучно проник в филларионовскую студию. Как обычно, комната была наполнена густым жужжанием и тончайшим звоном. Похоже, что все представители вашингтонской энтомологии, которые умудрились пережить первые укусы мороза, нашли свое зимнее убежище именно здесь. На всякий случай полковник засунул в щели несколько электронных родственничков этой нечисти и сделал несколько снимков письменного стола. В общем-то, сбор информации не был его сегодняшней целью. На повестке дня был серьезный, прямой мужской разговор.
Внезапно внизу возникли колоссальный грохот и рычание. Уровень звука нарастал с каждой секундой. Похоже было на лавину, которая идет снизу вверх вопреки всем законам тяготения. Затем вся комната была поглощена облаком потных испарений, исключительного возбуждения, похотливых импульсов, патриотической ностальгии и фигментов воображения. Две или три стрекозы и один изможденный кузнечик свалились замертво. Полковник Черночернов едва успел нырнуть под филларионовское лежбище. Проклятье, он не один, миссия проваливается, «шит», дерьмо, этот парень один не бывает, прошептал полковник полузасохшей сороконожке, что оказалась рядом с его носом.
Затем в комнату вошел профессор Фофанофф. Он был как раз один, хотя в высшей степени романтизирован. Насвистывая мелодию из «Севильского цирюльника», он взялся готовить себе ужин — опять смесь борща и китайского супа «Вонтон», — потом перешел к «Дону Базилио», снова вернулся к Фигаро. И, нароссинизировавшись уже до мельчайших альвеол, наш преувеличенный москвитянин запел своим приятным молодым тенором. Какая жалость, думал полковник не без меланхолии. Вместо того чтобы сформировать вокальный дуэт с такой прекрасной русской персоной, что, безусловно, произошло бы под покровительством щедрой и просвещенной Русской империи, я должен буду затащить его в грязнейшую грязь, в шантаж, обман, вербовку… позорная судьба! Хочешь не хочешь, то, что надо сделать, будет сделано. Черночернов уже готов был выкатиться из-под кровати, когда зазвонил телефон. Какая непростительная ошибка со стороны опытного рыцаря плаща и кинжала! Уж телефон-то должен был быть отключен в первую очередь.
— Хей, — сказал атакующий женский голос. По крайней мере, слуховая техника не подвела полковника. — Это ваше было объявление в «Нью-йоркском книжном ревью»?
— Да, но это была своего рода шутка, мэм, — промямлил Фил, как будто застигнутый врасплох. — О нет, мэдам…полушутка, полусерьезное предложение… мэм…ммм… внешне это была, так сказать, шутка, в то время как внутренне… будьте любезны, не вопите на меня, мэм!.. я очень был бы признателен, если бы вы на минутку… да, я уважаю ваше время, мэм, и, конечно, я уважаю любого активного женского партнера… да-да, сор-ри… не могли бы вы не называть меня больше гудилой, мэм?… Нет-нет, ваше раздражение, мэм, абсолютно беспочвенно, так как я просто умираю увидеть вас как можно скорее…
В какой неловкой позиции пребывал Черночернов! Обнаружить себя, то есть выкатиться из-под кровати в тот момент, когда неизвестный визитер поспешает сюда из соседнего квартала, было бы абсолютно преждевременно и неуместно. С другой стороны, пребывание на нижнем профиле неопределенное количество времени лицом вниз могло в конце концов привести к потере чего?… да лица же, черт побери! Не говоря уже о возможности вместо лица подцепить какую-нибудь серьезную заразу. Конечно, он был достаточно экипирован для того, чтобы выйти из любой западни — возьмите, например, вот этот последний дар лаборатории из Растительного Масла, преотвратительную резинку под кодовым названием «гриб» — достаточно, чтобы на три минуты отключить от реальности целую станцию метро — увы, в арсенале у него не было экипировки для организации дружеского мужского разговора, да ее, кажется, и в природе пока не существовало, кроме… впрочем… молчок!
А между прочим, как получилось, что объявление в «Нью-йоркском книжном обозрении» оказалось не замеченным сектором садовых культур? Рвением к службе, ей-ей, не могут похвастаться неряхи — лейтенанты Жмуркин, Котомкин и Лассо!
Из своего убежища полковник отчетливо услышал приближающийся вверх по лестнице полет каблучков. Сердце какого мужчины останется равнодушным к полету каблучков вверх по лестнице? Сердце советского монархиста не было исключением.
Паровозное дыхание профессора Фофаноффа… Дверь распахивается…
— Джи! — восклицает женский голос, сладкий голос, хоть и насмешливо-вызывающий, то есть не без металлической стружечки. — Ну и воздух! Русские бы сказали, топор можно повесить.
Странно, знакомый голос! Полковник подкатился на одну шестнадцатую своей окружности ближе к «большому миру», как он мысленно уже называл все пространство за пределами своего пыльного убежища. Так ему удалось увидеть узкую туфельку, нервно постукивающую по сомнительному линолеуму. Эта туфелька немедленно пустила в ход всю цепь предположений, которые в конечном счете привели к заключению — туфля принадлежит никому иному, как особе, состоящей под строгим наблюдением сектора садовых культур, доктору наук Урсуле Усрис. Прозвучал ее голос:
— Ну и ну! Это вы, Пробосцис? Не верю своим глазам! Поверю ли рукам своим?
Филларион, очевидно, не мог произнести ни звука и был неподвижен, если не считать пульсации и биения его внутренних органов. Клик! Туфельки мисс Усрис сделали шажок вперед.
— Признавайтесь! Вы именно меня имели в виду, когда помещали свое дурацкое объявление в «Нью-йоркском книжном ревью?»
— Пуф, пуф… Мисс Усрис… Может быть, тайком от самого себя… в самых глубинных тайниках… Мисс Усрис…
— Делайте ударение на последнем слоге, пожалуйста! Я не собираюсь менять своего имени из-за ваших похабных русских значений!
— О, как угодно…
Клик! Еще один шажок вперед. Не будем тратить время зря, сэр! Невнятный дальнейший разговор задохнулся в мешанине звуков: расстегивание рывками, жиканье молний, шипящие, стягивающие звуки, легкое хихиканье, хулиганские вскрики, странно лопающиеся пузырьки, непостижимое шамканье… затем огромная масса разгоряченной плоти лавиной свалилась на кровать, распластав тело полковника по полу на манер цыпленка-табака в добрых старых средиземноморских традициях.
Голова полковника оказалась в эпицентре чувственного урагана, а его левое, сверхтренированное ухо самым непостижимым образом непосредственно вовлеклось в эту гормональную оргию. Беспомощный в нарастающем прибое титанических толчков слуховой орган был растерт почти до кровотечения.
Прекращение… молчание… шепот. «Я тебе нравлюсь, Фил?» Непостижимое чмоканье и шамканье. «Урси, ты гладкая, как тюлень, и пушистая, как коала…» Журчанье… «Нет, вы посмотрите на этого нахального хамюгу, я для него — тюлень и коала!»
Приглушенный вопль гиганта… «О, не щипайся, мой зяблик!» «Твой кто?»…«О, пожалуйста, не жми так сильно… о, вот так лучше, мой глупыш!..» «Твой кто? Товарищ Фофанофф, вы, конечно, невыразимо сладчайший гиппо, но, тем не менее, я вам не зяблик и не глупыш, я — ваш всадник — обезьяна!»
Охваченный паникой, полковник Черночернов сделал отчаянную попытку спасти свое ухо и другие выпуклости головы. Вновь пошли крупные, хотя уже вроде бы и не такие бешеные волны. «…Фил, Фил, давайте не менять позиции, оба партнера только выиграют от этого».
Третий партнер тоже, быстро подумал полковник.
— Вот как чудно! Ну, признайтесь, пользуетесь толчеными оводами? Как, вы даже не пользуетесь толчеными оводами, мой Пробосцис? Невероятно! О’кей, пока мы на этих волнах, почему бы нам не поговорить о наших общих темах? Скажите, вы действительно верите в существование этих бродячих славянских суффиксов «кртчк», «мрдк» и «чвск»?
— Конечно, верю и обещаю развить свои соображения в очередном докладе, моя драгоценная!
— Ну, знаете ли, сэр, делать пометки в блокноте во время гребальной раскачки! И потом, откуда эта банальность — «моя драгоценная»?
— О, простите, простите меня… моя… моя… жемчужная лагуна!
— Да, да, о да… я твоя жемчужная лагуна…
В конце концов молодая луна пронизала своими лучами листву Посольского квартала.
— Благодарю вас, сэр, за прекрасную компанию, — сказала Урсула.
— Это вам спасибо, — пробормотал Филларион. Схваченный внезапной тоской, он не мог видеть, как сворачивается в обратном направлении его столь прекрасное и неожиданное любовное приключение. Она одевается! Разве это не жестокое возмездие за наши грешные восторги?! Даже такие моменты проходят и пропадают…
— Ты не останешься на ночь, Урсула? — спросил он еле слышно.
— Простите, нет, — ответила она сухо. — Я должна еще поймать последний рейс на Нью-Йорк. Ну, что ж, если я поняла правильно ваше объявление, все прошло достаточно гармонично, не так ли? Нет, нет, пожалуйста не провожайте меня и, пожалуйста, мистер Фофанофф, никогда не называйте меня вашим зябликом и вашим глупышом.
Она помахала рукой на прощанье, направилась к лестнице и вдруг, словно споткнувшись, повернулась и прошептала:
— Впрочем, я не возражаю против Жемчужной Лагуны. Лиловый лучик ее глаза на мгновенье пересек серебряный луч луны. Потом она исчезла.
РАВНОВЕСИЕ
Она меня любит! Она хочет, чтоб я называл ее Жемчужной Лагуной! Это был не слепой шанс «Нью-йоркского книжного обозрения», это был направляющий перст… кого? чего?… Россини, господа! Направляющий перст Россини!
Филларион, голый и расцарапанный, как был, выпрыгнул из своего лежбища, дико пролетел на террасу, залитую лунным светом, и произвел там серию невообразимых пируэтов. Пузырящееся средиземноморское кружение захватило его. Не будет ужасным оксюмороном сказать, что, танцуя, он откусывал от большого круга польской колбасы: любовь и голод — это сестра и брат.
Вернувшись с террасы в комнату, он не сразу понял, что здесь изменилось, хотя сразу же понял — что-то изменилось. Довольно дикая идея пришла ему на ум в этот момент: «Красные в городе!» Затем он вдруг понял, что эта его догадка не так уж далека от реальности. За своим письменным столом он увидел советника по садовым культурам при советском посольстве в Вашингтоне лично товарища Черночернова, очки ВПШ сумрачно посвечивали на носу.
— Садитесь, пожалуйста, товарищ Фофанофф, — сказал советник, показывая модуляциями голоса, что красные и на самом деле в городе.
— Большое спасибо, — сказал Фил и искренне извинился за несколько неформальный вид. Он сел и подцепил с пола семейные в горошек трусы, часть славного наследия своего деда-дяди, великого русского биолога Фонкотова. Просто для информации: он был вылитая копия почтенного ученого мужа.
— Что с вашим левым ухом, Федот Ксенофонтович? — спросил он, выражая глубокую озабоченность и искреннюю симпатию.
Полковник отмахнулся от неуместного вопроса. Предложение чашки чаю было тоже отвергнуто.
— Давайте по делу, Филларион. Вы не вчера родились и, надеюсь, вы понимаете, что вас бы не послали в США без серьезной причины, правда?
В соответствии со старой надежной чекистской традицией, Черночернов сделал значительную паузу, увы, на этот раз надежный психологический прием пропал втуне: счастливый возлюбленный Жемчужной Лагуны все еще выглядел отстраненным и туманным. В центре его внимания по-прежнему было левое ухо полковника.
— Простите, что надоедаю, Федот Ксенофонтович, но я бы предложил вам хорошие обезболивающие лепешки вместе с доброй плюхой отличной кортизоновой мази для вашего уха. Чертовски виноват, но… оно горит ярче, чем… чем рубиновые звезды Кремля, с вашего разрешения…
Полковник ударил кулаком по столу.
— Какое вам дело до моего уха, Филларион Флегмонтович? Я приехал сюда поговорить о цели вашего назначения в США!
Раздражение советника по садовым культурам не впечатляло Фофаноффа.
Он не перестал надоедать Черночернову до тех пор, пока большой блин прохладного пластыря не закрыл целиком весь поврежденный орган.
— Мочка, хоть и рудиментарна, тоже вызывает сочувствие, — объяснил он.
Только после этого акта милосердия Филларион стал воспринимать откровения других, более серьезных органов.
— Вы хотите сказать, что у меня есть еще и другая задача, кроме продвижения плодотворного сотрудничества советских и американских ученых «как мне объяснили в Академии? Вы хотите сказать, что у меня есть, кроме Академии, еще и другой, настоящий спонсор? Кто же, смею вас спросить?
Дальнейшая затяжка не принесет никакой пользы, подумал Черночернов. Затем он написал на специальной саморастворяющейся бумажке три буквы своего самого любимого и дорогого сердцу акронима.
— Кириллица! Мама миа, советская авиация! Как я по ней соскучился! — начал восклицать Фил. — Не находите ли, сэр, что уже в самом рисунке нашего славного алфавита есть нечто супрематическое? Как они посмели оторвать нашего великого Казимира Малевича от его родных почв? Благодарю вас, Ваше Величество Гласность, за возвращение национальных сокровищ!
Черночернов разъярился, что за шут?! Совершенно очевидно, что он намеренно показывает ноль уважения к леденящей комбинации букв.
— Сдается мне, что вы забыли, милостидарь, о вашей подписи под определенным документом, обязующим вас к сотрудничеству с нами при любых, избранных нами обстоятельствах? Вас не трогали двадцать лет, милостидарь, но сейчас пришла ваша очередь послужить Отчизне!
Сказав это, полковник извлек из портфеля множество вполне убедительных материалов — копии протоколов московской милиции, формы медицинских осмотров, фотографии дебошей, задержаний, допросов и, наконец, копию того заветного «документа» с личной, сродни абракадабре, подписью Филлариона.
Черночернов всегда верил в хорошо разработанную методику КГБ, но даже эта твердая вера не удержала его от изумления: документ и фото произвели на Фила совершенно сокрушительный эффект. Гигант дрожал, нагой и босой, будто под действием электротока. Дыхание его сбилось, он выделял огромные количества пота и слюны. Отвратительное зрелище, однако первейший долг чекиста, повторял про себя Черночернов, никогда не терять веры в человека!
— Когда это было сделано? — пробормотал Фофанофф еле слышно.
— 22 апреля 1968 года, в день рождения великого Ленина, за два года до славного столетия. Разрешите мне помочь вам в ваших воспоминаниях, дорогой профессор? — Полковник взял пачку фотографий и начал ее тасовать, выщелкивая то одну, то другую картинку по своему выбору.
— Вот здесь вы со своими, так сказать, соратниками… грязная пьянка во дворе государственного туберкулезного института… Это вы, целующий ноги бронзовой статуе…
— Целующий ноги бронзовой статуе… какой позор, — прошептал Фофанофф.
— Здесь вы яростно атакуете милицейский патруль. Нокаутировали трех сержантов, милостидарь! Нокаутировали людей, которые всеми силами старались вас спасти от комсомольцев-дружинников… Здесь вы в процессе кражи милицейского мотоцикла…
Фил положил руки на медузу своего лица, речь его превратилась в череду бессвязных пузырей.
…Федор, выше ноги… дерусь, как Меркуцио… не забывать… ночь перед Столетием… Столетие чего? Преступления и Наказания? Капитала?…
Черночернов не мог скрыть смеси триумфа и брезгливости. Эта всесокрушающая «любовная машина», почти стершая до основания некое невинное ухо, этот огромный книгочей и великий источник знаний… как быстро он превратился в труса, в сущую дерьмовозку!
— Слушайте, Фофанофф, ну-ка, возьмите себя в руки! Вы не в застенках Инквизиции, мы современные люди, никто не посягает на вашу личность!
Полковник был ужасно доволен собой — все-таки долг чекиста пытаться обнаружить хоть какие-нибудь достоинства даже и в такого сорта человеческом материале.
— Итак, продолжим? Этот снимок показывает вас, милостидарь, в момент столкновения с фонарным столбом перед другой статуей, на этот раз гранитной. Вот здесь вы плюете на данную скульптуру и одновременно изрыгаете оскорбления в адрес персоны, запечатленной в граните.
Итак, чтобы покороче, пару часов спустя после вашего задержания и умиротворения средствами современной медицины, у вас состоялся исключительной важности разговор с особой исключительного значения, а именно с шефом вашего философского управления, генералом Якубовичем-Пущиным. А так как результаты этого разговора были признаны удовлетворительными, вы были вскоре отпущены из отделения милиции № 50, скандально известного в ваших кругах интеллигенции под именем, да, вот именно, «полтинника». Вот здесь мы видим вашу подпись под соглашением о сотрудничестве, а это финальный снимок данной серии. Вы видите самого себя уходящим из «полтинника», с вашего зада свисает почти полностью оторванный карман «Леви Страуса»…
— Впечатляющий фон, ах, какой впечатляющий фон, — v шептал Фил сквозь слезы.
Черночернов тут вгляделся и не поверил своим глазам — это были слезы истинного счастья. Фил простер к нему свои жутковатые конечности.
— Я так вам благодарен, Федот Ксенофонтович! Вы только что заполнили провал в моей памяти, который преследовал меня двадцать лет! О, эти мучительные угрызения совести! Иногда мне даже казалось, что я оскорбил кого-нибудь честного, обесславил кого-нибудь благородного, осквернил нечто превосходное…
— Вы осквернили всего лишь нашу философию, — сумрачно заметил Черночернов. — Гранитное воплощение всего дорогого.
Филларион отмахнулся:
— Да кому интересна ваша философия? Спасибо вам, дорогой мой великодушный соотечественник, за такое облегчение! Значит, ничего непоправимого не произошло, и я просто был всю ночь за решеткой, в нашем дорогом уютном, хоть и облеванном, «полтиннике»!
Хитрец, подумал Черночернов и сухо сказал:
— Ну, что ж, я рад, что вам стало легче. Так что вы, я вижу, не возражаете работать на нас, верно? Ну, ну, что это за неестественное изумление? Это вам не идет, такому… м… корпулентному мужчине это не к лицу… Я надеялся, что вы меня поняли, ну а если что-нибудь не дошло, еще раз могу объяснить попросту Вы, профессор Филларион Фофанофф, двадцать лет назад были завербованы КГБ и с тех пор всегда состояли в списках наших секретных сотрудников.
— Как интересно! — еле слышно прошептал Фил. — Я — сексот КГБ, каково?! Мне кажется, я теряю равновесие!
Теперь он распростер свои руки в стороны и, напомнив одновременно что-то непристойное из греческой мифологии, рекламу шин Мишелин и какое-то гиперболическое акушерство, изобразил потерю равновесия.
— Не можете ли вы меня избавить от удовольствия созерцать вашу наготу? Наденьте хоть халат, — предложил полковник.
— Иес, сэр, — ответствовал Фил. — Вы теперь можете не только предлагать, но и командовать, не так ли?
Сарказм или простодушие, плут или дурак, размышлял полковник.
— Удивительно, — пробормотал Фофанофф. — А я-то думал эти двадцать лет, что просто нахожусь под вашим наблюдением.
— И не ошиблись, — усмехнулся полковник.
Он объяснил слегка потрясенному ученому, что органы знали всю его подноготную, и выразил надежду, что такой интеллигентный человек не будет задавать наивных вопросов или вопросов с претензией на наивность о том, почему они ему ни разу за двадцать лет не напомнили о себе. Так надо было, милостидарь, вот и ответ. Между прочим, Фофанофф, ваша семья случайно не связана каким-нибудь образом с теми Пархомович-Лиссабонскими, что были близки к кругам конного конвоя Его Императорского Величества? Ах, как я рад, что не ошибся! Как славно то, что вы теперь среди нас, дорогой Фил! В эти дни наши товарищи особенно ценят истинно русское историческое происхождение! Не преуменьшая нашу идеологию, мы теперь приподнимаем наше наследие!
— Ну, а теперь, дорогой коллега, позволь мне объяснить тебе суть твоего задания, которое необходимо выполнить за время вашингтонской командировки. Прежде всего скажу, что это дело высочайшего значения. На ставке вся судьба марксизма-ленинизма!
Скажу тебе напрямую, ты можешь любить эту философию или ненавидеть, но ты не можешь отрицать, что это цемент нашего государства и нашего общества и поэтому она находится под нашей постоянной защитой. Ирония в том, дорогой товарищ по оружию, что самый чувствительный документ, касающийся этой философии, оказался в Тройном Эл, этом проклятом американском Яйце, точнее, в желтке Яйца, еще точнее — в библиотеке…
Полковник сделал паузу и посмотрел на «товарища по оружию». Фофанофф был на грани полной прострации. Он испускал какие-то кудахтающие вздохи, озирался с диким выражением. Тем временем его гигантские ладони порхали над его брюхом, будто крылышки херувима. Потом голова его упала, и он прошептал еле слышно:
— Неужели, Федот Ксенофонтович, вы имеете в виду неоплаченные счета Ленина, его долги в цюрихской бакалее?
Черночернов хохотнул.
— Ну-ну, Фил! Мне нравится твое чувство юмора, но на этот раз это не Ленин. Я говорю о записной книжке Достоевского. Ты можешь меня спросить, что общего имеет Достоевский с нашей бл… бл… благородной философией? Видишь ли, до недавнего времени никто не знал, что наш национальный гений сделал некоторые комментарии, и даже продолжительные комментарии об их… хмм… простите… простите, я хотел сказать, о нашем международном гении Карле Марксе… И в этом вся суть проблемы. Достоевский и Маркс — два гиганта современного мира, и ни при каких обстоятельствах мы не можем им позволить столкнуться лбами!
Дикий вопль, сродни Архимедову банному оргазму, потряс стены студии на Дикэйтор-стрит:
— Понял! Понял!
Вслед за этим взрывом энергии последовало новое падение, возврат к прежнему состоянию медузы, выброшенной на берег. Едва различимый шепот:
— …Федор и Карл… Наконец-то… все соединилось… та судьбоносная ночь двадцать лет назад, все теперь озарилось… вот то, чего я жаждал… оба имени произнесены… все эти порывы ветра, все угрызения совести, предчувствия кардинального виража жизни… сначала я увидел ту страждущую сутулую фигуру романиста… потом выплыла из мрака огромная гранитная глыба экономиста… вся эта говенная тусовка с мотоциклом в промежутке… О, дорогой мой Федот-да-не-тот, дот-дот-дот…
Полковник не мог не вздрогнуть, разумеется, услышав эти гулкие
точки. Фофанофф продолжал:
— И потом… эта неожиданная гармония, что пролилась благодаря вашему хамскому предложению, дорогой сукин сын из сучьего борделя… Теперь понятно, что мне предвещали те предчувствия… Каков парадокс: гармония, экстаз, отчаяние, весь спектр этих почти забытых эмоций был вызван наглым шантажом тайной службы! Как вам нравятся эти превратности судьбы, дорогой товарищ Шварценеггер?
Теперь пришел черед полковника потерять равновесие. Шварценеггер засвечен? Неужели этот жирный ублюдок уже перехвачен нашими коллегами из Вирджинии? Что же, он меня просто дурачит?
Ему очень не хотелось прибегать к инструкции № 11 — пытки всегда противоречили его убеждениям просвещенного монархиста — и все-таки в инструкции № 11 было непреложно написано: «Перед лицом окончательного раскрытия следует немедленно применить устройство номер 9, предназначенное для быстрого выявления источника опасной информации». Устройство номер 9 напоминало спичечный коробок из тех, что можно найти в каком-нибудь шикарном клубе. Направив эту внешне безвредную Штучку на носителя опасной информации — собеседника или секс-партнера, — вы нажимаете соответствующую почти невидимую кнопочку, и, в мгновение ока, носитель ОН оказывается связан по всему его (ее) телу тончайшими неразрывными нитями. Связав носителя ОН — не важно, взрослого или ребенка — и лишив его возможности двигаться, вы можете (и должны) извлечь из устройства номер 9 экстрактор SQ=1,2, то есть прибор, используемый для экстракции желаемой информации из ее иммобилизированного носителя. Ничего, что экстрактор 80=1,2 выглядит как обычный штопор из страны Лилипутии, практика доказала его исключительную эффективность.
Черночернов, конечно, знал, что некоторые «чистильщики» старого сталинского стиля все еще привержены к своим добрым старым надежным зажимам… эти замшелые олухи используют любую возможность, чтобы дискредитировать устройство номер 9 и экстрактор SQ=1,2, дизайнированные специально для современных условий, чтобы не оставлять следов «активной беседы»… но он сам был не из этого числа отсталых элементов.
Быстрее, чем ожидалось, а именно через одиннадцать минут применения экстрактора профессор Фофанофф начал петь:
Не счесть кораллов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полуденном…
Песня Индийского гостя, Римский-Корсаков, оперный опус «Садко».
Затем он прервал взрыв своего бельканто, подмигнул мучителю и хрипло пробормотал:
— Прошу прощения, но в ваших приборах уже нет никакого толку. Я — за болевым порогом.
Черночернов, пораженный и потрясенный, нажал другую соответствующую кнопочку и смотал неразрывные нити. Еще раз он отдал должное своему руководству за то, что вычислили такого исключительного агента, ускользающего даже от экстрактора SQ=1,2.
— Фил, дорогой, бесценное мое человеческое существо, я надеюсь, ты не будешь держать на меня зла. Я ведь просто слуга своего долга. Если бы ты только знал мои истинные убеждения, мою настоящую песню, чье горло я столько лет топчу своим собственным сапогом! Давай выпьем на брудершафт! Можно отмыть бутылку этой стопроцентно русской перцовки? Что, эта девка, твой зяблик, принесла ее сюда? Очень мило с ее стороны! Хотел бы я ближе узнать твою Жемчужную Лагуну, но на всякий случай будь с ней на стреме, птичка, может быть, из нехорошего гнездышка. Ну, ладно, так или иначе, можешь ты мне точно сказать, что Шварценеггер был просто игрой твоего воображения? Спасибо, друг! Давай поцелуемся! Ты меня хоть в малейшей степени уважаешь? Так же и я тебя, в малейшей. Когда ты хочешь начать наше… кх, кх… исследование по Достоевскому? Прямо сейчас? Не шути! Все-таки после таких сегодняшних экстраваганций… я, конечно, ценю твое рвение, но спешка в столь деликатном деле не нужна. Не будем суетиться, дорогой ученый муж, и давай ручки-то, ручки-то наши перекрестим…
Выпивание водки с перекрещенными руками — старая русская традиция, дико называемая немецким словом «брудершафт». Трудно сказать, почему русские начали в этих случаях употреблять немецкое слово, как будто им самим никогда не приходило в голову целовать собутыльника, чавкать его губами и клясться никогда, никогда не плевать новому брудеру в ряшку.
Фил и Федот перекрестили свои руки со стаканами перцовки, опустошили эти стаканы залпом и потом громко и не без взаимного отвращения поцеловали друг друга во рты. Братья навсегда.
— Позаботься о своей антенне, Шварци, — прошептал Филларион прямо в глубину мученика, то есть в полковничье ухо.
Хихикая и слегка морщась, как будто после исключительно похабного приключения, полковник сошел вниз. Там он бросил взгляд в гостиную господина посланника. Милейшие супруги оставались в прежних позициях, погруженные в уютные кресла. Две маленькие лужицы рвоты поблескивали перед ними. Телевизор в центре комнаты трещал, как индийский костер. Передавали сегодняшний пресс-брифинг на Южной лужайке Белого дома. На лицах журналистов, как обычно, было написано, что они знают гораздо больше, чем говорят. Тэд Коппол. «Ночная линия».
Глава седьмая
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
К Рождеству спецагент Джеймс Доллархайд достиг пика своей формы, если, конечно, не принимать во внимание плачевную разруху в его концепции Молодого мира. Совершая пробежки вдоль каньона Рок-Крик, Джим размышлял о быстро нарастающей маскулинизации своих вкусов и рефлексов. Что происходит, черт возьми? Еще недавно он вряд ли остался бы равнодушен к стройному япончику, которого он только что заметил возле доски объявлений парка отдыха. У него больше не подкруживалась голова, когда его ноздри улавливали запах чудесного мужского феромона из подмышек пробегающего мимо атлета. Вместо этого простой вид двух незначительных выпуклостей на грудной части женского тренировочного костюма или даже еще менее значительный, но по каким-то непонятным причинам дивный, невыразимый изгиб бедра бегущей девушки заставлял его жадно хватать ртом хорошо прогазованный вашингтонский воздух.
Эта додекафония в его столь грациозно настроенном оркестре была вызвана — он не мог не признать этого — той лиловоглазой нимфой с ледяной окружностью возле Национального архива. От Алика Жукоборца, соседа Урси по клевому кооперативчику Кондо дель Мондо, он узнал, что она всеми признана как «бесовски одаренная сучка в области руссистики», что она к тому же ненавидит русских и придерживается исключительно свободных взглядов по любому вопросу. Некоторое время он пестовал робкую надежду, что она также принадлежит к Молодому миру. Он даже нажал на Алика, чтобы выудить из него хотя бы намек на ее лесбийские склонности, однако Алик заверил его в противоположном. «Можешь мне поверить, старик, это хищная Мессалина вашего проклятого американского поколения йаппи…»
Что касается его клиента, то есть третьего члена их трио, Фила Фофаноффа, то, едва лишь Джим спросил его об Урси, тот немедленно начал петь «Песню индийского гостя». Странная цепь ассоциаций, ей-ей, странная цепь.
Чтобы оправдать свою неутолимую жажду видеть ее как можно чаще, то есть каждый день, Джим убедил сам себя, что ее следует внести в список сомнительных персонажей Тройного Эл и поставить под мягкое, в высшей степени деликатное наблюдение. Через улицу от клевого Кондо дель Мондо он обнаружил сербский ресторан «Шибица» и сделался там, что называется, завсегдатаем. Сидя в оконном «фонаре» этого далеко не первоклассного балканского заведения, он размышлял о странностях судьбы: любой мессалинистый силуэт на мглистой улице оставлял его бездыханным.
Тем временем что-то решительно изменилось в подходе Пятого подотдела Третьего отделения ФБР к делу Филлариона фофаноффа. Как-то раз его непосредственный начальник, старший агент д’Аваланш, в самой что ни на есть дружеской манере, то есть на пределе своих возможностей, бросил ему как бы мимоходом: «А не завязать ли тебе, Джим, со всем этим шухером, с тем трехнутым русским индивидуумом, постольку поскольку наш недавний анализ показал полное отсутствие чего-либо интересного в этом дерьмовом Яйце, если не считать всяких вшивых и молью съеденных писем от одного придурка XIX века к… ну, к другому индивидууму… Бросил бы к чертям, а?»
Задетый за живое, Джим возразил, что хотя все подозрения к Филу Фофаноффу развеялись — он не более шпион, чем вы, Брюс, розовый фламинго, — тем не менее он полагает, что утечка из Москвы пришла недаром, что нечто таинственное и даже жуткое заключено в этом Яйце.
«Моя интуиция, сэр…»
— Простите, Джим, но наш бюджет лишает нас удовольствия следовать за вашей интуицией. Я надеюсь, что ты меня не держишь за какого-нибудь заплесневелого лаптя с 9-й улицы… (если не лапоть, кто ж ты тогда, быстро подумал Джим), и все— таки я бы предложил тебе вернуться к твоим первоначальным разработкам…
Боже правый! Неужели они действительно хотят меня опять засадить за ловлю блох? Что за проклятье! Вместо того чтобы вести дивные разговоры с международными учеными о предметах романтизма, о Пушкине и Роберте Эммете, вместо преследования лиловой нимфы из классических дубрав, ему придется опять углубиться в скучнейшие перипетии запутанного жульничества, опять вернуться к этим снотворным и тошнотворным дискеткам и папкам?! Боже упаси!
Он отправился к шефу. Конечности Доктора Хоб-Готлиба были, как обычно, небрежно раскинуты по предметам кабинетной меблировки, за исключением одной, а именно правой руки, в которой он держал книгу. Джим заметил титул. Это были «Федон» и «Критий» Платона, карманное издание из тех, что сейчас найдешь в любой забегаловке. Три младших сотрудника, Эплуайт, Эппс и Макфин, «молодая гвардия» Пятого подотдела, сидели за столом совещаний, держа карандаши наготове.
— Простите, братцы, за вторжение в ваш СПКУ (семинар по повышению культурного уровня), — сказал Джим.
— Всегда вам рад, Джим, — Доктор Хоб, казалось, чувствовал себя не вполне в своей тарелке.
«Молодая гвардия» тактично покинула помещение. Джим понял, что увертюра д’Аваланша была полностью оркестрована всем подотделом. Тогда он решил сразу взять быка за рога.
— Простите, Доктор Хоб, вам никогда не приходило в голову, что таинственное нападение на вашего покорного слугу в студии на Дикэйтор-стрит может иметь некоторое отношение к Зеро-Зет и его трем помощникам, которых вы упомянули в инструктаже пару месяцев назад? Не видится ли вам в этом некий заговор против перестройки?
— Конечно, приходило, конечно, видится, — ответил Хоб-Готлиб серьезно, хота и с еле заметной усмешечкой в уголке рта. — Поверьте, Джим, меньше всего я хочу смешивать вашу самоотверженную работу с приключениями вашей молодой личной жизни, но, увы, есть некоторые люди у нас в Бюро… ну… хм… наши собственные антиперестроечные силы, так сказать… которые считают, что вы слишком лично воспринимаете всю ситуацию в Тройном Эл. Наберитесь терпения и посидите немного тихо… в стороне от Яйца… Не обижайтесь, Джим, и позвольте мне напомнить вам строку из Платона: «Слабое рождается из сильного, а быстрое из медленного»…
Два дня спустя спецагент Доллархайд сидел на вершине вирджинского холма в окрестностях города Фэрфакса. Он размышлял о своей карьере контрразведчика. Несмотря на неопытность, Джим уже понял, что в пандемониуме ФБР судьба любого человека зависит от его собственной воли и от удачи. Рисковые и удачливые могут превратить свою жизнь в захватывающее странствие. Другие, невзирая на их титулы и награды, на всю жизнь останутся жалкими правительственными чиновниками. Каков же я сам: рисковый, но неудачливый или удачливый, но не рисковый? Платон, ответь!
Это был один из тех серых теплых дней, что не так уж редки во второй половине декабря в среднеатлантических штатах. С вершины холма мягкие склоны окрестностей выглядели как огромное поле для гольфа, пересеченное там и сям белыми вирджинскими заборами. Время от времени в скучных равнодушных небесах появлялись планеры, поднимавшиеся из близлежащего авиаклуба. Бесшумные, они парили над холмами, словно призраки самолетов. Повсюду были раскиданы маленькие яркие пятнышки всадников. Вдалеке различался флаг клуба верховой езды.
По некоторым причинам именно этот клуб привлекал в настоящий момент внимание спецагента. В последние три дня разработок название клуба несколько раз выпрыгивало из компьютерных лабиринтов. Не важно, что многие сомнительные личности из его списка потенциальных мошенников и потенциальных немошенников оказались членами этого клуба. Камнем преткновения был вопрос о том, кому принадлежит заведение. Джиму удалось выудить несколько имен, которые, похоже, были подставными лицами, но настоящий владелец был неуловим.
— Как я догадываюсь, вы, Джим, сведущи в лошадях, — сказал д’Аваланш. Он сиял, как бы говоря: наконец-то ты взялся за стоящее дело, сынок. — Почему бы вам не отправиться в Фэрфакс и не записаться в члены этих гребаных конюшен?
Ну и тоскливое дело, думал Джим, пока сидел на холме неподалеку от клуба. Лошади, мошенники, подсадные утки, пасущиеся на этих слишком уж умиротворенных холмах, какая лажа! Внезапно он услышал то, что меньше всего ожидал здесь услышать — романтический галоп. Три всадника галопировали мимо холма, и этот галоп напоминал вальс Его Величества Императорских голубых гусар или даже — почему бы и нет? — похищение Европы. О, да, он видел бешеный факел выцветшей крашеной гривы, хохочущий чувственный рот, собравшиеся в вожжи морщинки у глаз, еще один тип неотразимой женщины — если не похищенная Европа, то кто же она? Если не мистера Зевса, то кого же еще представляют двое мужчин, скачущих рядом? О, нет… Он не мог поверить своим глазам, представителями Мистера Зевса были не кто иные, как достопочтенный Генри Трастайм и начальник службы охраны Тройного Эл Каспар Свин-гчэар. Пощелкивание груженных судьбой секунд, мгновенное восстановление лишенной всякой судьбы реальности…
Этот промельк оказался поворотным пунктом в жизни и карьере спецагента Джеймса Доллархайда: он решил отбросить все предосторожности, а также инструкции начальства и устремиться к своему предназначению.
Почти немедленно он был вознагражден за свое решение. Однажды в «Шибице», в один из очаровательных вечеров, его пронзил насмешливый взгляд. Он содрогнулся над блюдом балканского салата — «ле мини принтан», вуаля, обволакивающие испарения кустов сирени. Доктор наук Урсула Усрис потягивала свой эспрессо в двух столах от него.
Что сказал Пушкин Баратынскому, когда они столкнулись на ежегодном осеннем балу барона Геккерена?
Что за мистификация? Он слышал скрипки того бала, видел похотливых львиц в великосветской толпе… новый развратный танец… триумфальная контрреволюция, то есть обратное вращение…
— Только мы остались невознагражденными в нашем отечестве, — вот что сказал Алекс Юджину в ту ночь.
— Верно! — воскликнула Урсула. — Хочешь честно, Дик? Ты поколебал мою уверенность в том, что передо мной всего лишь мелкий стукач. Не будь дубарем, петушок-гребешок, и перестань сидеть день за днем в этой чертовой «Шибице». Если ты просто хочешь в темпе повальсировать, сделай соответствующее па-де-де. Для начала заплати за мой эспрессо!
Она расхохоталась, а он заморгал. Когда он кончил моргать, ее стул был пуст. Испарилась. Джим уныло собирал себя по кускам. Прощай, моя профессиональная интуиция!
МАТУШКА ОБЕСКУРАЖ
ИЗ ДИСТРИКТА КОЛУМБИЯ
Перед тем как перейти от сравнительного спокойствия предшествующих глав к взрыву диких событий, повествование наше, безусловно, потребует, чтобы читатели насладились видом Филлариона, стоящего на углу улиц Икс и 14-й. В задумчивости он взирал на названия улиц.
Ради небес, думал Фил, почему это живописное место было названо столь безлично, столь обескураживающе? Инкогнито, Икс, лежащее меж двух тоскливых цифр, 13 и 14! Господин мэр, почему бы нам не спустить с цепи гончую свору ассоциаций и не переименовать 13-ю в улицу Чертовой дюжины, то есть, по-английски, Дюжины пекаря. Заполучив пекаря, нам будет ничего не стоить переименовать 14-ю в улицу Круасана, поскольку число 14 столь живо напоминает нам о Дне Бастилии, 14 июля, то есть о национальном празднике той страны, где выпекают круасаны, эти дивные булочки-полумесяцы. Теперь, господин мэр, дело лишь за простой логикой, и она не позволит нам задержаться ни на минуту в переименовании улицы Икс в улицу Наполеона!
Итак, насладившись видом нашего 160-килограммового иноземца на углу Круасана и Наполеона, проследим его беспечную прогулку вдоль Чертовой дюжины, подмечая все его дружелюбные кивочки и экивочки по адресу элегантных жильцов и завсегдатаев этого места, подмечая также вспышки его фотоаппарата, с помощью которого он тщательно фиксировал крылечки домов и множество бумажных объявлений, трепещущих на фонарных столбах в порывах атлантического ветра. Засим он погрузился в свой громоздкий «Чеккер» и направился в Горсовет на аудиенцию к мэру Берри.
Тем временем место, которое он только что оставил, — на самом деле средоточие городских чокнутых, торчковых и кирных в сочетании с дивным букетом ночных маргариток — нежится в лучах своего недавнего переименования. Как раз на углу Наполеона и Круасана располагается крыльцо, где матушка Обескураж дистрикта Колумбия постоянно расчесывает свои кудри. Нынче трудно себе представить, что эта тяжелая фемина когда-то осчастливила несколько поколений вашингтонцев, включая немало известных журналистов и лоббистов. Мы бы осмелились сказать, что многие красотки лучезарной современности позеленели бы от зависти, имей они хоть малый шанс увидеть неотразимую Полли Обескураж в тот момент, когда она шествовала по 14-й, то есть по улице Круасана, в 195… хм, хм… году. Сейчас она жужжит, жужжит себе песенку своих лучших дней: «Дик на лодочке, на лодочке, на лодочке плывет, Пусси в платьице фартовеньком по бережку идет», — и ее смутная улыбка, постоянно бродящая по пересеченной местности ее лица, считается своего рода фокусом этой округи, а громкое биение ее пульса действует как метроном для нашего дальнейшего повествования.
Ступенькой ниже на крыльце всегда можно видеть двух нынешних матушки Обескураж ухажеров, неразлучную пару стареющих бродяг, Теда и Чарльза. Как обычно, они заняты вечными поисками чего-то в бесчисленных и бездонных карманах друг у друга. Три сестренки также являются завсегдатаями этого сектора, три представительницы трех основных человеческих рас: Милиция Онто-Потоцка (кавказская, то есть белая раса), Глория Чемберлин (черная раса) и Иэн Уоу (азиатка).
Иногда даже владелец местной бакалеи, господин Пу Соннн, присоединяется к компании, чтобы поделиться своими глубокими огорчениями.
Являясь странным источником гармонии, матушка Обеску-раж проявляет заботу о каждом и о чем угодно в своем слуховом и визуальном пространстве, но, увы, не слишком далеко: она наполовину слепа и на одну треть глуха. Впрочем, что касается самых близких к ней лиц с их делами — ну, например, если Тед и Чарльз вдруг начинают громко собачиться или господин Пу Соннн жалобно рассказывает о последнем налете на его лавку, не говоря уж о сестричках с их обычными жалобами, — матушка Обескураж немедленно смягчает общую атмосферу на углу Наполеона и Круасана, просто бренча на своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке плывет, Пусси бережком идет».
В тот вечер новая личность появилась на углу, подобно буревестнику Нового Мышления. Это была высокая и стройная фемина, затянутая до пределов воображения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и трудно было определить ее возраст, все-таки многие клиенты нашли ее безу-у-мно привлекательной. Расовая принадлежность тоже была под вопросом. Вместе с громким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического карибского языка «пепельяменто», хотя рыжие ее кудри выдавали ирландские корешки. Похоже было на то, что она предлагает свои услуги, и в то же время она явно не спешила ухватиться за любое приглашение. Величавой походкой, о, да, прямо сводящей с ума поступью, она прошлась по улице Наполеона, как бы мимолетом делая снимки крылечка матушки Обескураж и трепещущих на фонарных столбах объявлений своей изящнейшей мини-камерой.
— Гляньте на нее! — презрительно усмехнулся Уокер Пи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястребы Атланты», 43 года, 2 и 03 м, 110 кг, идол всего околотка, сильный мужик и женоненавистник. — Воображает себя прынцессой со сверхзвукового «Конкорда», но вы, народы, сейчас увидите, как я в темпе вставлю ей в кормовой отсек!
Тут все завсегдатаи Наполеон-Круасана прямо вылупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит на аристократическую телку. Сказать по правде, ничего плодотворного из этого не вышло. Аристократка крутанулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. Позднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они увидели два коротких, но ослепительных разряда молнии, сверкнувших в ее очках, что были больше нормальных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она стряхнула парижские сапожки, в следующее мгновение ее голая пятка, сверкнув, как еще один разряд молнии, сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера.
Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы! — вскричал женоненавистник в ярости и тоске. — Это она, эта гребабенная Леди Стальная Пятка!»
«Стальная пятка!», «Стальная пятка!», разнеслось вокруг. Многие ребята с Наполеон-Круасана и даже из-за угла слышали и распространяли леденящие душу истории о таинственной девке, что появляется то там, то сям, в модных местечках к востоку от Коннектикут-авеню, всякий раз под различной маскировкой, и преподает местным кумирам безжалостный урок своей всесокрушающей пяткой.
Последний раз, как говорят, ее видели возле автобусной станции «Серая гончая», в закусочном павильоне Роя Роджерса. Облаченная в вечернее платье кастильского стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбородков и полдюжины ребер своими безоружными пятками. Кроме того, она проколола брюшную полость джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кончиком своего сомнительного зонта. Согласно слухам, этот португальский денди, слишком бухой, чтобы признать поражение, продолжал ухаживать за Стальной Пяткой, в том стиле, к которому он привык, пока полностью не отключился от реальности на задах Роя Роджерса, в дюнах недоеденных бургеров.
Теперь кодла быстро пришла к решению посчитаться с Леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость восторжествует! Ее следует опустить в деготь и вывалять в перьях, вычистить напрочь из приличного околотка! Остановим воинствующий феминизм! Но пасаран! Не менее двух дюжин завсегдатаев Наполеон-Круасана окружили Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хотя еще вполне смурной Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эшелоне. Впрочем, его стенания подстрекали других отомстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матушка Обескураж, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иан Уоу, господин Пу Соннн, а также Тед и Чарльз быстро вскарабкались на самый верх крыльца, чтобы не пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы.
«Бедная девчонка! — вздыхала Глория. — Парни вне себя от ярости, ей-ей, вне себя!» Милиция дрожала от экстремального возбуждения. «С ней покончено, холера ясна!» Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои волосы и отложила банджо. «Все будет в порядке, девчата», — бормотала она, хотя и не была убеждена, что все будет в порядке. Ей овладели два противоречивых чувства: жажда вечной гармонии и неистребимая склонность к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию видела поверженную на колени Стальную Пятку и парней, расстегивающих свои ширинки.
Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан внушительный круг польской колбасы, которую им только что принес господин Пу Соннн в рамках своей предрождественской благотворительной кампании. Их благодетель между тем просто качал головой, бормоча: «Ну что за мир!» Ему не нравились акты насилия, хотя он не видел никаких причин, чтобы не созерцать их, если показывают.
Леди Стальная Пятка в центре медленно сужающегося круга была неподвижна, стоя в превосходной позиции. Шедевр боевого феминизма, скульптура! Подонки ядовито ухмылялись. Один из них готовился бросить лассо.
Бант! Свиш-ш-ш! Рассыпался ворох искр! С ржавых небес столицы опускался некий полузмей, полудрозд. Он остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зловещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи света, испуская адское шипенье.
Банда женоненавистников замерла на месте. Какого фулуфуя? Пришельцы прибыли, что ли? Эй, мужик, ты что, не видишь, это же нюхающая электроника! Клянусь, натренировали гаду на анашу, натаскали на «сахарок»! Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно нюхает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дешкает, выпускает свет, жужжит пчелой, вот и все… Эй, мужик, ты что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у нас пронюхает, гада! Бона уже топорщатся, братцы! Вы что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучками, как та рыба, что они шамают…
В этот момент таинственный «змей-дрозд» начал шипеть громче, уподобляясь чему-то среднему между котом и огнетушителем.
Чего бы это ни было, но я от страха фсусь, мужики! Давай линяем, мальчики! Хватай девку и рвем когти в темпе!
Внезапно стремительная персона во фраке с хвостом, в цилиндре поверх летящей паганиниевской гривы двумя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и выросла перед Леди Стальной Пяткой подобно дирижеру в конце бетховенской «Героической».
— Следуйте за мной, мисс! Я ваш друг! Она расхохоталась:
— А ну, назад, дерьмовозы!
Она начала свой грозный пируэт, который, как правило, завершался сокрушительным ударом в наглую мужскую челюсть. На этот раз, однако, она не завершила ужасного приема. Летающий объект вдруг выпустил поток убийственно вонючих капель, каждая размером со спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. Последний поступил так, как будто он принадлежал к избранному числу итальянских музыкантов, которые во время Второй мировой войны посещали курсы борьбы с химическим оружиехМ при Миланском горкоме фашистской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой маской, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок онемевшее, хотя все еще неотразимое тело Стальной Пятки прочь от этой омерзительной сцены, и вскоре они оба растворились в ночи.
Несмотря на то, что описание омерзительной сцены заняло не менее семи страниц, продолжалась она не более пяти минут. Даже команда Четвертого канала ТВ не успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и «скорой помощи». Оппозиционные группы в нашем городе потребовали от мэра Берри чистосердечного, «бона фиде», отчета о событии, если он хочет избежать обвинений в действиях, похожих на акцию его коллеги из Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез отвергли все околичности и призвали к регистрации всех опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих объектов, имеющихся в распоряжении населения. Дело было закрыто.
ТОННЕЛЬ В РАЙ
Леди Стальная Пятка пришла в себя на верхней палубе двухэтажного вашингтонского мемориального автобуса. Она лежала вверх лицом, ртом ко рту со своим спасителем, дьявольского вида паганинистым монстром.
— Как мило, — прошептала она. — От вас совсем не несет чесноком.
Секунду спустя он испустил вопль первобытного восторга.
О, эти древние ночи, думал монстр, трепеща и ввинчиваясь, пока он все трепетал и ввинчивался. Разве я не фавн в аттической дубраве? Не Эллада ли это, колыбель поэзии? О, музы!
Автобус, свежепокрашенный ядовито-зеленой краской и декорированный лентой из букв, что читались как «Дух двух столетий», был оставлен без присмотра возле городской бухты Тайдал Бэйсин. Стояла зрелая луна, и отражение колоннады памятника Джефферсону в зыбких водах старалось изо всех сил опровергнуть научный вздор о параллельных линиях.
— Вы открыли мне другую вселенную, моя любовь, — задохнулся монстр в экстазе.
Леди Стальная Пятка исторгла хриплый хохоток.
— Такой сосунок, как вы, Ваше Сиятельство, в любом влагалище готов увидеть туннель в райские пущи!
Ночь полнолуния. Табунок панков тащился мимо. Услышав звуки классического пиршества чувств, исходящие с верхней палубы «Духа двух столетий», они заглянули в окно на нижнюю палубу и узрели там цилиндр, фрак и пару кожаных штанцов, еще сохранявших формы их обладателей, то есть стройных конечностей Леди Стальной Пятки.
— Истеблишмент колдапсирует, — сказали панки друг другу с понимающими кивками. Засим затрусили, будто табунок цирковых пони, к своим родным местам, в Джорджтаун.
— Перестаньте выдрючиваться, моя любовь. Бросьте этот ваш пепельяментский акцент, — нежно, рот в рот, прошептал он. Схватив ее за нос, он начал медленно стягивать тонкую пластиковую маску карибской «фам-фагаль» со славной мордахи доктора наук Урсулы Усрис.
Нечего говорить, она последовала его примеру, и из-под демонической поверхности появились приятственные черты Джимми Доллархайда, этого нового адепта гетеросексуальности.
— Хей, это ты, стукачишко? Рада наконец-то познакомиться! Знаешь что? Я не так уж дико удивлена.
Осторожно, хотя и не без легкого отвращения, Джим стянул с нее пышный парик.
— Вы твердо стоите на том, что я шпик, моя любовь. Ну, что ж, если я в шутку приму это утверждение, могу ли я — разумеется, тоже шутки ради — предположить, что и вы тоже принадлежите к этой древней профессии?
— Конечно, можешь, — усмехнулась Урсула. — Я секретно работаю на правительство Индонезии.
— Как мило! — воскликнул он. — Довольно необычный выбор — Индонезия!
— Почему нет? Я австралийка, а у нашего соседа Индонезии очень далеко идущие планы в современном мире. А как насчет тебя, золотой петушок? Кто твой патрон?
Джим пожал плечами и пробормотал самоуничижительным тоном:
— Пока это столь незначительно, что не стоит даже и говорить…
К его удивлению, она не настаивала и не уточняла.
— Я вижу, ты еще внештатник. Я с самого начала так о тебе подумала — новичок… хотя, — она все же улыбнулась одобряюще, — пожалуй, многообещающий новичок. Знаешь что, твоя летающая вонючка… довольно впечатляющая бестия.
— Это не моя была штучка, — еле слышно прошептал он, стараясь заглянуть поглубже в сиреневые озера. — Если это не ваша была фиговина, моя любимая, значит, принадлежала она третьему лицу… а может быть, и самой себе, если можно так выразиться…
Она засмеялась:
— Посмотрите на этого карапуза! Я уже его любимая. Вы слишком слащавы даже для начинающего, сэр!
Он улыбнулся, счастливый:
— О нет, нет, мадам! После нашего волшебного бегства в древние рощи… йес, мадам, в древние рощи… нельзя ли быть не столь уж жестокой со мной? О, нет, нет, нет… Конечно, больше никаких телячьих нежностей. Я знаю, что вы серьезный ученый и эмансипированная персона. Скажите, чем вы сейчас в первую голову заняты в Тройном Эл?
Она шлепнула его по руке, будто вдруг обернулась провинциальной кокеткой.
— Ты слишком все-таки любопытен для внештатника, Дик! Что бы ты сказал, если бы я тебе поведала, что интересуюсь в первую голову тремя допотопными частицами речи, суффиксом, префиксом и инфиксом, а именно частицами «кртчк, мрдк и чвск»? Долго не думай! Отвечай!
Бывший Паганини торжественно ответил:
— Отныне и навсегда становлюсь твоим четвертым суффиксом, моя любовь!
Глава восьмая
ЖЕЛТОК
В том случае, если наш читатель все еще склонен называть вещи своими именами, то есть яйцо Яйцом, в этом случае библиотеку Либеральной лиги Линкольна, это средоточие вселенской мудрости, следует полагать Желтком Яйца.
Впрочем, и задумана-то она была как ядро, расположенное в самой сердцевине, дизайнирована в виде овала, хотя некоторые помещения выглядели ни дать ни взять как обычная библиотека. По крайней мере, на первый взгляд. Второй взгляд улавливал различные, там и сям разбросанные странности — неожиданный косой луч света или головокружительно раскачивающийся кусок потолка, или полностью непредвиденная и в той же мере бессмысленная апертура, проходящая через несколько слоев Яйца, скорлупу, радужную оболочку, роговину и ретину, для того лишь, чтобы предложить вид на тележку торговца «хот доге», «горячими собаками», что стоит напротив, через Ваш-мол.
В библиотеке Филларион почувствовал себя счастливым. Разумеется, еще бы, что же иное, если не библиотеки были его привычной средой обитания! Сказать по правде, наш герой всю жизнь был не кем иным, как библиотечной крысой, и только меж библиотечных полок с их успокаивающим душком плесени он чувствовал близость к своей сути. Даже и в разгаре дичайших эскапад его никогда не покидало виденье последнего прибежища — библиотеки! Ленинка в Москве, Публичка в Ленинграде или те, немыслимо далекие, из мира грез западные храмы словесности — библиотека Сорбонны, библиотека Конгресса, библиотека Британского музея; непостижимый Ватикан… о, библиотеки! Всякий раз, как он тащил свои гигантские ягодицы вдоль рядов книг навстречу волнующей встрече с очередным источником мудрости или вздора, он испытывал едва ли не священное блаженство. Служащие библиотеки всегда допускали его прямо к полкам. Осенние бабочки, одинокие девы библиотек не могли супротивиться его, как они выражались, «пьер-безуховскому» шарму. Выбрав книгу, он мог погрузиться в нее немедленно и оставаться часами без движения прямо в проходе; фигура истинного читателя, монумент мировой библиотеке!
О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица с потупленными взорами, как будто вымаливающие прощения за царящую вне стен библиотек похабщину! О, эти читальные залы, какой обманчиво мирный вид представляют там человеческие окружности, венчающие стулья и табуретки, как будто за ними не скрывается грозное поле доблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкиваются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапиры! О, эти библиотечные туалеты с примыкающими к ним курительными комнатами… есть ли более крамольные места на Земле? Никакие побочные эффекты переваривания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные водопады в многочисленных кабинках, никогда не могли заглушить великих ораторов туалетных, этих гранильщиков чистого разума, секущих своих оппонентов с яростью Неистового Виссариона! О, можем мы вздохнуть в конце этого библиотечного лирического отступления, о, Николай Гоголь!
Словом, едва лишь улеглось наконец огромное возбуждение, связанное с его первым путешествием в Западное полушарие, Филларион вдруг, благодаря спецслужбе, благополучно приземлился в библиотеке. Он был даже благодарен полковнику Черночернову: сравнительно умеренные пытки добавили весьма впечатляющую страницу в его бурную биографию. Не каждому все же пришлось подвергнуться допросу с помощью изощренного экстрактора SQ = 1,2! Шрамы и порезы затянулись быстрее, чем можно было ожидать, и в результате той незабываемой ночи он оказался в библиотеке! Тем, кто еще не ухватил суть нашего персонажа, это может показаться странным, однако удручающие мысли о вербовке КГБ очень скоро были вытеснены из сознания Филлариона вдохновением научных поисков.
Жрица храма, Филиситата Хиерарчикос, величественно холодная и сдержанная, какой она теперь всегда была с ним после его бегства из «Седьмого Неба», все-таки снизошла и дала ему некоторые инструкции по пользованию библиотечным компьютером.
И вот, извольте, желанный предмет появляется на экране: записки Федора Михайловича Dostoievsky, сделанные во время его первого путешествия в Рулетенбург, то бишь Висбаден, Германия, 1864.
Сногсшибательно — попутно с расшифрованным текстом па экране можно видеть собственный почерк нашего Дости!
Раньше он был уверен, что все до последнего клочка бумаги, помеченного пером русского национального сокровища, находится в неоспоримом владении Академии наук СССР; он был готов увидеть подделку, апокриф, однако самые первые же промельки на экране убедили его в полной аутентичности записок. Гляньте-ка только на это Ща, гордость и честь всей кириллицы, этот умопомрачительный боевой трезубец, яростно нацеленный на грешников мира, кто, кроме Дости, мог выпятить его из полосы букв с такой непреклонностью?!
Однако что за течения вынесли этот бесценный дневник на здешние берега? Как случилось, что он нашел прибежище в «Желтке Яйца», расположенного между невинными штатами Вирджиния и Мэриленд? Шерше ля фам, и если будешь старательно шерше ее во дворцах и хижинах Русской Литературы, неизбежно натолкнешься на мисс Аполлинарию Суслову, очаровательную нигилистку урожая 1860-х, носящую короткую стрижку, голубые очки и неизбежную папиросу в углу темно-вишневого рта.
Тщеславная жалкая Европа, ты низвела нашу славу всероссийского «властителя дум» до завсегдатая казино! Всего лишь год назад одна из ярчайших барышень Санкт-Петербурга принесла ему в дар свои бесценные сокровища. Она трепетала, обожая его письмо и весь его образ сибирского узника, мученика, ставшего в ту пору героем Молодой России. И кто тогда, всего лишь год назад, мог вообразить столь безжалостную перемену в их отношениях?
Здесь, в Европе, а точнее в Париже, а еще точнее, dans la montagne dе Monmartr, Аполлинария встретила молодого стремительного испанца, и все было кончено. Когда, сжигаемый страстью, Ф.М. прибыл в Париж, она оказалась холодна, как Семеновский плац в день фиктивной экзекуции. Она с отвращением отталкивала потные руки великого романиста, отворачивалась от его умоляющих глаз. Лучшее, что она могла ему предложить, это братские отношения (sic!)! Что за женщина, думал Фофа-нофф, что за метания между всепожирающей чувственностью и ледяной фригидностью!
Аполлинария — это враг человечества, обычно говорил ее отец, богатый негоциант. Что ж, так или иначе, этот «враг человечества» был предметом страстной любви, по крайней мере, двух славнейших мужей столетия. Именно она вдохновила Дости на создание трех его ключевых женских образов, и «шелест ее платья», за которым следовали другие головокружительные агонизирующие слова, продолжает холодком проходить по позвоночникам «русских мальчиков»…
Итак, в августе 1864-го странная пара, 45-летний романист и его 20-летняя мучительница, находилась в Висбадене. Ежедневно испытывая свою удачу в казино, а ночью сражаясь с неутоленной страстью, Федор Михайлович вел раздраженный дневник. Страницы этого дневника, приплывшего, по непонятным причинам, из Аргентины, теперь светились перед Филовским картофелеобразным носом, и эта заметная часть его тела сама светилась изнутри в состоянии высшего возбуждения.
ВИСБАДЕНСКИЙ ДНЕВНИК
август 1864-го
…Прошлым вечером все тот же назойливый еврейчик с претенциозной бородой подошел ко мне в буфете и сказал, что питает большую надежду на Россию.
«Собираетесь там чем-нибудь торговать, сударь?» — спросил я вежливо, только для того, чтобы как-то от него отделаться. Тут же я подумал, не обидится ли — европейские евреи не чета нашим. Пришлось расширить вопрос: «Или учить там будете, сударь?»
Он усмехнулся: «В некотором смысле, образно говоря, я хотел бы там учить, однако боюсь, ваша арена еще не подготовлена к моему учению, и я сомневаюсь, что она когда-нибудь будет готова…»
Странный малый. Его зовут Карл Маркс. Живет он в Лондоне, в ссылке. Немецкий еврей в Лондоне? Странно. Он говорит, что в Германии он персона нон-грата, поэтому ему приходится ежемесячно пробираться в Рулетенбург без законно выправленных документов. Я не очень-то все это понял, да, честно говоря, и не было никакого желания.
Оказалось, что этим утром ему повезло, и он выиграл двенадцать фридрихсдорфов, играя по своей системе. Ну, знаете ли, если уж у такого жалкого субъекта система срабатывает, должен ли я отказываться от моей, великолепной? Он заказал бутылку «Вдовы Клико» и после бокала этого искристого чуда признался, что только рулетка еще как-то примиряет его с современной жизнью, то есть с капитализмом. «А как вы, Достоевский?» Я пожал плечами. Он настаивал: «Как вы относитесь к капитализму?»
Я сказал, что капитализм совсем неплох, когда ты выигрываешь несколько лишних фридрихсдорфов на рулетке. Похоже, что он немного обиделся на меня из-за моей несерьезности… Но в этот момент в буфетную вошла Аполлинария, и герр Маркс поперхнулся. Ошеломленное выражение лица различалось даже через его экстенсивную растительность.
«Кто она?»
…О, шорох ее юбок!..
Ну, кто сомневался? Карлушка попался на крючок, как глупый карп. Вуаля, они гуляют вдвоем по Английскому саду, величественная принцесса и чудаковатый господинчик с огромной волосатой головой. В своем шикарненьком хвостатом фраке он выглядит как приплясывающий, хорошо причесанный пудель. Время от времени она бросает на него взгляды поверх своих голубых очков, и от каждого такого взгляда он спотыкается. Интересно, на какую тему Аполлинария может говорить с таким человеком?
Третьего дня, после неудачной попытки заложить портсигар, я заметил эту парочку возле фонтана. Мне удалось незаметно приблизиться к ним, впрочем, они были так увлечены — они беседовали! — что, вероятно, не заметили бы меня, если даже бы я подходил, играя на трубе!
Боже, они говорили об экономике! Я слышал какие-то уродливые слова вроде «товарный фетишизм» и «прибавочная стоимость»… Аполлинария… посмотрите на нее, она, оказывается, внедряется в концепции этой новой чуши, именуемой «марксизмом», которой эти подонки с Монмартра развлекаются от нечего делать, спустя рукава.
Марксизм?! Ну и ну! Имя нашего нового компаньона Маркс! Внезапно до меня дошло, что он не кто иной, как основатель новой школы, властитель дум всей мыслящей Европы. Каково? Русская барышня из Санкт-Петербурга встречает в немецком капище идола своего парижского любовника с пружинистыми ляжками, и этот идол, к тому же, ссыльный из Лондона и скрывающийся от полиции политик! Нет, все что угодно может произойти в наш век железных дорог!
Когда я подошел, Аполлинария что-то записывала в свою книжечку под Карлушкину диктовку. Тем временем его рука с трепещущими пальцами парила над ее спиной,
словно эротическая стрекоза. Когда она наконец опустилась на талию Полли, я кашлянул и сказал: «Слушайте, Маркс, могу я у вас одолжить пару талеров?»
Он определенно был в восторге от этой просьбы и от возможности тут же отделаться от меня в такой решающий момент их отношений. Что касается моей любви, она даже не снизошла обжечь меня своим великолепным ядовитым презрением.
…Ей-ей, я готов стать самым верным учеником этого сомнительного мудреца! С его двумя золотыми я играю всю ночь напролет, и не без… не без… тс-с-с… осторожно, только не сглазить…
На следующее утро Карл Маркс прибыл в Английский сад в чертовски возбужденном настроении, неся в протянутой руке газету, одну из этих их проклятых цайтунгов. На первой странице были статьи о стачке лионских ткачей.
«Послушай, Полин, реальность превосходит мои ожидания! Эксплуатируемые массы уже поднимают головы, и, я должен подчеркнуть особо, это не имеет никакого отношения к анархизму, дорогая Полин! Все это событие — не что иное, как классовая борьба!»
Этсэтэра, и так далее, и так далее… в сопровождении щедрой жестикуляции и капелек слюны вперемешку с крошками французской булки, летящими рикошетом с его виляющей бороды на наши лица.
Достопочтенные дамы и господа, наше потомство, ну, только посмотрите на эту Полин! Она тоже возбуждена! Глаза ее горят. Ничтожная газетенка трепещет в ее пиано-пальцах… девочка моя… неужели тебе к лицу образ богини классовой борьбы?
«Спасибо за добрые вести, Маркс!» — сказала она. Понятно, девица называет человека в два раза ее старше без излишних церемоний. Извольте, манеры Молодой России к вашим услугам! «Я так счастлива, Карл!» Так-так, он уже просто Карл для нее. Может быть, их отношения зашли уже слишком далеко, пока я воевал со своим драконом? Клубочки дыма из ее ангельских губ отравляют воздух Английского сада. Прохожие столбенеют в изумлении. Курящая барышня! «Ну что ж, Карл, не следует ли нам сегодня вечером отпраздновать такое живое подтверждение вашей гениальной теории?»
«Следует! Следует!» — воскликнул он. Она захлопала в ладоши, как дитя: «Выпьем шампанского за лионских ткачей! Обещаю быть самой красивой барышней в Рулетенбурге! Гиганты литературы и науки вместе с принцессой красоты празднуют зарю классовой борьбы!» Даже и ко мне она снизошла с улыбкой: «Ты тоже счастлив, Федя? Дашь мне десять талеров, чтобы выкупить мое парижское платье у процентщицы?»
«Полинино платье заложено? — Карлушка возмущенно повернул ко мне свою львиную голову. — Ее платье? В сундуке ростовщика?»
Я пожал плечами: «А что особенного? Когда воюешь с драконом рулетки…»
Аполлинария расхохоталась: «Драконам иногда жертвуют и обнаженных девиц, что уж говорить об их платьях! Что ж, Маркс, может быть, вы выступите в роли щедрого благодетеля? Все-таки вы ведь экономист?»
Маркс был ошарашен: «Простите, Полин, вам не кажется, что мы все немного заигрались в тот момент, когда лионские ткачи берегут каждый сантим, чтобы продержаться? И потом… ммм… так или иначе, но… не далее, как вчера я сделал заем в размере двух талеров вашему… ммм… другу… месье Теодору…»
Аполлинария была неотразима в этот момент полнейшего смущения: она покраснела, она бросала пристыженные взгляды из-под своих ресниц, своими пиано-пальцами она мяла и крутила носовой платочек, и все это было полнейшим притворством. Не без облегчения я осознал, что она вовсе не была посвящена в члены марксистского клана, во всяком случае, пока нет. Без всякого сомнения, она была беззастенчиво цинична в отношении нас обоих. Мы оба для нее были просто похотливыми старикашками. Она просто забавляется, разыгрывая Музу двух гигантов, двух старых зануд.
Я вынул два талера и протянул их Карлушке, выразив при этом самые красноречивые чувства благодарности и извинения, на которые я только был способен: «Надеюсь, вы простите мне, сударь, те неудобства, которые я вам причинил, мое безрассудство и — о да! — мою русскую несуразность».
Затем я извлек десять талеров и сказал Апо почти грубо: «Выкупай свое платье!» Она подпрыгнула: «Федя, я люблю тебя!»
Нечего и говорить, празднование по поводу стачки лионских ткачей превратилось в гадкий водевиль. За ужином Карлушка не переставал атаковать Святую Русь, называя ее «чудовищем невежества и мрака», которое, без сомнения, всегда будет главным препятствием на дороге истории, другими словами, наша бедная отчизна может стать единственным отклонением от законов только что открытой науки развития цивилизации, то есть от его собственного вздора. Нецивилизованная в самой ее сокровенной сути Россия слишком велика и слишком бесчувственна, амебообразный мешок протеина, не более того.
В конце концов, я сорвался: «Перестаньте дерьмо молоть, Маркс, у человеческих ушей тоже есть пределы! О каких бы паршивых протеинах вы ни говорили, вы, надеюсь, не собираетесь нас убеждать, что жизнь — это просто форма существования белковых тел и ничего больше. И, пожалуйста, забудьте хоть на время о своей привычке заносить в ваш засаленный блокнот всю ту чепуху, что мы сейчас несем после шампанского! Что касается России, то я хочу высказать одну святотатственную идею, которая сейчас пришла мне в голову Единственной страной к западу от Урала, что примет ваш вонючий теоретический абсурд, будет Россия, с ее отсутствием логики и здравого смысла, с ее приверженностью ко всякого рода ложным пророчествам!»
Вопль сотен боевых труб, какофония гулких сибирских пустот. Аполлинария хохотала над нашим спором до икоты.
И течение нескольких дней я серьезно взвешивал возможность дуэли с этим противным геноссе Марксом. Не важно, что он еврей, а я русский дворянин; даже еврей заслуживает смерти за бесконечный поток плоских, дешевых острот.
Боже, он был просто невыносим в его попытках посмеяться надо мной перед мадемуазель Сусловой. Могу себе представить его «золотое детство» где-нибудь в Вестфалии, когда бесчисленные дядюшки и тетушки восхищались Карлушиным «уникальным остроумием». Словом, он просто из кожи лез, чтобы посмеяться надо мной как над неудачником: «Посмотрите на нашего бедного сибиряка, Полин. Кажется, он далек от своей клятвы победить дракона!»
Ему, очевидно, малость везло в те дни. Я видел его в казино то с горстью жетонов, то с толстой записной книжкой, в которой, думается, идеи азартной игры перемежались с рецептами классовой борьбы, подпорченной такими тошнотворными ингредиентами, как «полезный труд», «сверхпродукция», «накопление», «отчуждение собственности» и т. д., иными словами, с его схемами будущего человечества. Не говоря уж о человечестве, я был уверен, что он хочет загипнотизировать одно, хоть и модное, но чертовски простодушное существо, то есть украсть у «бедного сибиряка» его единственный стимул жить и писать.
…Прошлой ночью я видел, как они возвращались с концерта. Я заметил его победоносную улыбку и ее невинный вид (знаю по собственному опыту, что означают эти невинные виды). Вот тут я и пришел к решению вызвать его на следующее же утро! Я подготовил короткое, но неудержимо оскорбительное заявление, которое я адресую ему в ее присутствии. Оно начнется так: «Любезнейший Муке…»
По каким-то причинам он не появился ни за завтраком, ни за дежене. В то утро меня кошмарно мучила экзема, зудело все тело… Я даже не ответствовал Аполлинарии, чей голос, необъяснимо веселый и энергичный, доносился сверху.
Позже, в казино, я натолкнулся на Маркса и уже готов был сказать ему «любезнейший Муке», когда внезапно заметил, что он чертовски не в себе.
Он схватил меня за локоть и сжал его обеими руками, то есть всеми своими одиннадцатью пальцами. «Вы ничего не знаете, Теодор? Он — в городе!» Кто он, черт возьми?
«Он! Проклятый испанец! Сальвадор!»
«Любезнейший Муке» был абсолютно разбит и потерян, он оглядывался вокруг в каком-то замешательстве и времена-ми почесывался, как будто он тоже был знаком с шалостями экземы. Выуживая из его неясного бормотания кусочки смысла, я все же смог соорудить некую картину драматических событий сегодняшнего утра.
Неделю — или около того — тому назад господин Маркс (ни в коем случае не «любезнейший Муке»!) прошпионил за своей Полин (он так и сказал «моя Полин», хотя, впрочем, тут же поправился — «наша Полин») и нашел ее на местной почте. Подглядывая через отверстие в задней двери, он увидел, что она посылает депешу в Париж.
Через пару дней она получила ответ и залилась счастьем. Сегодня утром она пошла на вокзал и встретила молодого (объективный наблюдатель должен признать — очень молодого и очень привлекательного) незнакомца иберийской внешности. Они начали целовать друг друга и занимались этим, по часам, пять минут без перерыва. Потом они начали говорить, и она называла его Сальво, а он ее — Ало. Господин Маркс был вне себя от возмущения — разве это не вполне откровенное проявление самоиндульгенции в наши суровые времена? Он выдвинулся вперед из-за фонарного столба и обратился к паре с вопросом: «Который час?» Он даже слегка их подтолкнул.
«Вообразите, Достоевский, они прервали свои поцелуи, или, лучше сказать, жевание друг друга, взглянули прямо на меня и не заметили меня! Слепыми глазами, мой бедный сибиряк, совершенно стеклянными глазами посмотрели они и сказали: «Пол-третьего», — хотя большие часы прямо перед ними без всяких околичностей показывали без десяти четыре.
Со станции Сальво и Ало бросились в отель и беззастенчиво нырнули прямо в ее комнату. Они и сейчас еще там, мой бедный сибиряк!»
Вдруг меня пронзило довольно странное в таких обстоятельствах сочувствие к этому пареньку. Так или иначе, но у нас, очевидно, есть что-то общее, если уж мы испытываем те же самые (или, скажем, похожие) чувства в адрес избалованной и возмутительной персоны.
«Мой бедный палестинец, — сказал я ему и предложил понюшку табаку, фактически все, чем обладал в данный момент. — Позвольте мне откровенно вам сказать, что до сих пор я вас очень сильно недолюбливал. Вот уж не думал, что германский ученый муж, социолог и экономист, иначе говоря, изощренный самозванец может быть так одурманен страстью. Через эту муку я и сам прошел, и потому сейчас я предлагаю вам единственное утешение, которым располагаю, — эту жалкую толику табаку-с. Приступайте, нюхайте и чихайте, это принесет облегчение!»
«Я знаю, мы не соперники, Достоевский, — сказал он, все еще дрожа. — Гиганты могут задирать друг друга, но в глубоких тайниках своих душ они всегда союзники. Нам нужно наказать это ничтожество, совместно мы должны дать бродяге хороший урок!»
Тут я его сурово ограничил: «Надеюсь, вы не имеете в виду мою Музу?»
«Нет! Нет и нет! — лихорадочно воскликнул он. — Говоря «бродяга» и «ничтожество», я имею в виду этого сосунка-испанца, этого клоуна Сальво, этого наглого нарушителя нашего гармонического содружества трезвых умов и вдохновенных душ…»
Мой бедный палестинец едва не плакал. Я положил ему руку на плечо. Он мне нравился.
Впрочем, вскоре слезы его высохли, и он снова взялся запускать фейерверки пламенных слов и угрожающих взглядов. Мог ли кто-нибудь предположить такой запас взрывчатых веществ в обычной затхлой библиотечной крысе?
«Мы раздавим гнездышко прелюбодеев! Вы, Достоевский, вызовите Сальво на дуэль! Я обещаю быть вашим секундантом! Вы увидите, он немедленно наложит в штаны! Он поймет, кто из нас настоящий мужчина, а кто молокосос!»
«А почему бы вам его не вызвать, Карл?» — спросил я осторожно. По причине, непонятной мне самому, мне не хотелось терять внезапную привязанность к этому чудиле, кроме того, мне вовсе не хотелось играть роль тарана в этой любовной битве.
Он чихнул однажды, дважды, трижды. «Теодор, я надеюсь, вы не подозреваете меня в желании спасти свою несуразную жизнь за счет вашей, бесценной! Однако дуэли как отвратительное наследие старого мира резко расходятся с моими убеждениями, а они, то есть мои убеждения, это единственное сокровище, которое неисправимый мот оставил нетронутым».
«Неисправимый мот» мне снова нравился. «Простите, Карл, но я боюсь, что Сальво отклонит мой вызов на тех же основаниях. Все-таки ведь он и сам человек самых новых убеждений. Насколько я знаю, он один из ваших последователей, марксист!»
К этому моменту мы стояли возле фонтана, увенчанного глубоководным монстром в окружении похотливых наяд. Вождь самой дерзкой и дальнобойной европейской идеи перед образчиком безнаказанного злоупотребления бронзой… Зрелище почти невыносимое.
«А вы сами вообще-то марксист?» — спросил я со всей симпатией, на какую только был способен. «Конечно, я марксист». Я потрепал его по плечу: «Единственная разница между вами и Сальвадором заключается в том, что вы марксист теоретический, а он практический». Маркс рассмеялся: «Спасибо, Теодор, зa урок сибирского стоицизма. Давайте-ка выпьем, а потом — играть, играть и играть!»
В этот момент он мне нравился больше всего.
Всю ночь Карлушка делился со мной секретами своей научной антирулетной системы. «Весь этот подлый вздор казино, Тэдди, — говорил он мне, — каково, зовет меня Тэдди, — так же как и весь гнилой капитализм, основаны на фетишах и стереотипах. Моя система, как в жизни, так и в игре, напротив, базируется на решительном отвержении фетишизма как такового. Освободившись от древнего обмана, мы станем непобедимы».
Честно говоря, я предпочел бы не описывать весьма ридикюльного, наполеоновского поведения моего нового друга в начале той ночи. Из разных углов зала он посылал мне какие-то необъяснимые знаки и жесты, словно Император, направляющий свою гвардию. Иногда он вдруг менял тактику и начинал околачиваться за плечами у игроков. Однажды я заметил его мохнатое лицо, искаженное хитрой гримасой, прямо над декольте баронессы Энфуа. Он был похож на диковинного зверька, только что привезенного из Австралии. Время от времени он пробивался ко мне, совал мне в карман горсть фишек или клочок бумаги с инструкциями к следующему ходу. В те моменты, когда нашим телам случалось соприкасаться и, в соответствии с законами трения, выделять дополнительный жар, я мог слышать его лихорадочный шепот.
«…Юность безжалостна, похоть непреклонна… О, Тэдди, дорогой, как я счастлив, что не остался один в эту судьбоносную ночь; ведь, невзирая на тысячи последователей, я так одинок. Мой ангел никогда не ездит со мной в Рулетенбург. Мой ангел никогда не знал игровой горячки, он всегда укоряет меня за эту слабость. Он говорит, что этот отвратительный пережиток коррумпированного мира не к лицу мне, самому решительному критику этого мира…»
К тому моменту я еще не разобрался, что, говоря «мой ангел», Карлушка имеет в виду своего ученика Фрица Энгельса. Этот недостаток сведений, надо сказать, создавал какую-то дополнительную двусмысленность.
«…Мой ангел даже не принимает во внимание такой аргумент, как необходимость нанести мощный удар по капищу чистого капитализма, экспроприировать его сокровища для правого дела!
…Теодор, мы можем построить дивную коммуну, Теодор! Это будет идеальная ячейка общества будущего: вы, Полин, мой ангел, я лично… мы можем даже пригласить этого слащавого испанца… как его зовут… этого Сальвадора… Откуда он взялся, в конце концов? Уверен, что он из мелкой буржуазии, как и большинство моих последователей, к сожалению… Тэдди, эти лавочники, без должных инструкций, могут посеять хаос в классовой борьбе, так что мы должны будем приручить наших птичек в нашей ячейке. Впрочем, если вы возражаете, Тэдди, Сальвадор не будет допущен в коммуну! Единственное, что нам нужно для будущей гармонии — эти проклятые золотые фетиши… Юность можно соблазнить только политическими идеями или деньгами; лучше — и тем и другим. Зрелость, мудрость, гармонические концепции в экономике — все это лишь словесная шелуха для юных нарциссов нашего жалкого времени… Политика и деньги, дешевые вдохновения и дорогие подарки… эта проклятая метафизика все еще существует, несмотря на наши открытия…»
Вскоре после этого лихорадочного монолога наша «научная система» начала позорно разваливаться. Как еще могло быть, ведь колесо Фортуны — это не что иное, как модель антимарксизма. Бесконечные революции слепой удачи, перпетуум-мобиле неравенства… это может легко разрушить любую вашу систему, любезный Карлушка. Взгляните на все эти лица вокруг рулетки! Что вы прочтете на них? Корысть? Жажду прибавочной стоимости? Вы правы, майн либер герр профессор, но можете ли вы назвать что-то еще, другое нечто, могучее, симфоническое, полифоническое, если угодно, что угадывается за масками корысти? Это мечта! Все они жаждут удачи, и все они тешат себя бесконечной мечтой вскарабкаться выше других. Вот таким-то образом, мой злополучный реконструктор мира, и в этом-то и живет красота, красота несовершенства. Совершенство, увы, не предполагает более высокого уровня. Маркс застонал: «О, Тэдди, вы поете сущую серенаду капитализму!»
Глухой ночью, потеряв все наши деньги, мы опомнились на скамье в Английском саду, возле гигантского фонтана, который выглядел, как настоящее буйство барокко, со всеми этими преувеличениями человеческих округлостей, что казались такими неуместными двум неудачникам, погрязшим в трясине европейского застоя. Он почесал меж пальцев. Я почесался под мышками. «Страдаю от экземы», — признался он. «Я тоже друг, я тоже». Мы стали вяло говорить о симптомах старения… Что еще? Да ничего особенного, небольшие непорядки в мочеиспускании, некоторое замедление, меньше звонкости у струи… ничего больше… Я пробормотал что-то гуманное о своих приступах странности и последующего «видения», ощущении «причинности»… Он сардонически усмехнулся: «Причинность? Все так просто, а вы еще говорите о причинности». Никто из нас не хотел, как англичане говорят, назвать лопату лопатой, и так мы согласились на усталости белковых тел.
Небрежными пальцами покручивая свои трости, шурша шелковыми шлейфами, смеясь, обмениваясь остротами, свита баронессы Энфуа прошла мимо фонтана, даже не заметив двух ссутулившихся банкротов. Семидесятилетняя мегера, истинная Пиковая Дама, опять рванула банк.
«Это довольно несправедливо, — прошептал Маркс. — Старая кляча сказочно богата, и она забирает банк третью ночь подряд…» После паузы он добавил: «Говорят, что она держит все выигранное богатство в номере отеля, все ассигнации и монеты и одном кожаном мешке. Случайно, Тэдди, я заметил, что в ее апартаменты можно легко проникнуть через служебный подъезд…»
Я сжал его запястье: «Карл, о чем вы говорите?» Опять я испытал знакомый момент мимолетного головокружения. Мне казалось, меня засасывает и одновременно выталкивает какая-то бездонная воронка, что я во власти и центробежных, и центростремительных сил… и тут я уловил зарождение нового романа!
Он чесался и хихикал: «Почему нет? Так или иначе, решительная, умелая революционная акция могла бы остановить бессмысленное вращение так называемой Фортуны, другими словами, ненасытное расхищение. Экспроприируя ее дикие деньги, мы просто восстановим историческую справедливость, мы вложим дивиденды ее пустой и порочной жизни в дело социального прогресса!»
«И ради этих великих целей, Карл… — начал я осторожно, как бы стараясь не спугнуть мой новый ошеломляющий замысел и в то же время не ободрить его дьявольских намерений… — ради вашей грандиозной теории прибегли бы вы к… нет, нет, конечно, нет, простите…»
Он засмеялся победоносно, однако с некоторой ноткой истерии: «Перестаньте, Теодор! Задавать такие вопросы после ваших сибирских злоключений… Перед лицом наступающих величественных тектонических сдвигов вас интересует судьба жалкого трутня, нахлебника трудящихся масс, этой непристойной пиявки на теле человечества? Ей-ей, я начинаю сомневаться в величии русской литературы!»
Я схватил его за жабо и свирепо тряхнул, как будто я действительно был гигантом из сибирских соляных копей: «Вы, немецкая колбаса, тухлая капуста! Плюну ли я в вашу физиономию или поцелую ваш странно благородный лоб, зависит от вашего ответа: вы говорите о баронессе теоретически или практически?»
«Конечно, теоретически, — промямлил он. — Я никогда не говорю практически».
Голос его заглушался бородой, основательно взбитой моим гуманистическим, хоть и несколько лицемерным, порывом. Он дрожал. Глаза его, полные ужаса, смотрели поверх моего плеча в направлении юго-западном от моего уха, то есть в глубины Английского сада.
Я повернулся и увидел двух имперских жандармов в их шлемах с перьями и с усатыми носами. Они направлялись к нам, неся на лицах выражение непреклонной снисходительности. Дух этой снисходительности и беспристрастности распространялся все больше по мере того, как они, позвякивая шпорами, приближались.
«Герр Маркс, вы арестованы по обвинению в нелегальном проезде через границу». По аллее, покрытой аккуратным, как яички, булыжником, к фонтану подъехал тюремный фургон.
Великий Перестройщик вынул золотую монету достоинством в один фридрихсдорф и протянул ее мне с грустной улыбкой: «Я сэкономил это на завтрашний ленч, чтобы еще дальше продвинуть русско-европейские дискуссии, однако с этой ночи мои лично ленчи, увы, будут бесплатными. Воспользуйтесь этой монетой, мой бедный сибиряк, для любой цели, какую пожелаете, или просто сыграйте ею на красное…»
Он уронил голову и отдался в руки жандармов.
Остаток ночи я провел в полицейском участке, стараясь вызволить этого злополучного малого из тюрьмы. Я зашел так далеко, что даже предложил свое опекунство. К несчастью, власти не выказали никакой элегантности ни в отношении арестованного, ни в отношении возможного опекуна. Мне было просто сказано, что в моей собственной довольно двусмысленной ситуации, учитывая печальную известность, что я снискал средивладельцев отелей и ростовщиков, мне бы было лучше держаться скромнее и не высовываться. На рассвете я получил короткую записку из-за стен узилища.
«Дорогой Б С, не беспокойтесь обо мне. Мой ангел Энгельс возьмет на себя все. Он прекрасно знает, что делать при такого рода практических превратностях жизни. Могу ли я взять на себя смелость и посоветовать Вам оставить П. и С. и сконцентрировать все свое величие на Российском просвещении? Спасибо за историческую встречу. Ваш Карл Маркс, кандидат экономических наук».
Лезу из кожи вон, чтобы последовать его совету. Пишу эти строки и стараюсь не слышать голосов любовников, с идиотской оживленностью обсуждающих наверху непостижимую поездку в Аргентину. Нынче мне не до них, пора оценить истинную ценность марксизма, сопоставить его с Любовью, Ревностью и Рулеткой…
ПОЧТИ РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИФА
В этот момент чтение с компьютера и печатание прочитанного бесценного материала были неожиданно прерваны. Филлариону вдруг показалось, что он не один в комнате, а еще точнее, он вдруг ощутил себя под внимательным и враждебным наблюдением. Он обернулся и прямо за своим плечом на безупречно оштукатуренной стене, которая призвана была как бы вносить дух глубинки и стабильности в эту часть Тройного Эл, увидел огромную многоцветную «гусеницу». Не имея в наличии никаких органов зрения, эта тварь (или эта штука?) пристально и угрожающе наблюдала за ним.
Известно, что в подобных обстоятельствах истинный библиофил подсознательно печется не о личной безопасности, а о сохранности своего печатного или рукописного материала. Профессор Фофанофф ни при каких обстоятельствах не был исключением. Как раз наоборот, собственной плотью, говоря точнее, своим гаргантюански гигантским пузом, он попытался защитить уже отпечатанные страницы великого наследия. Увы, он не располагал ни временем, ни пространством для маневра в желаемом направлении. Невероятная «гусеница», размерами не менее французского горна, перепрыгнула через его плечо на принтер и в мгновение ока пожрала все листки дневника без остатка.
Не будет неуместным сказать тут, что это было сделано без каких-либо видимых органов жрания, не будет также преувеличением заметить, что, производя эту гнусную акцию, тварь (или устройство?) шипела, как комбинация огнетушителя и змеи-медянки, при полном опять же видимом отсутствии органов шипения. «Вот уж действительно продукт Лиги ядовитого плюща», — произнеслось в голове Фила. В этот момент он не отдавал себе отчета в том, что смешивает два несовместимых понятия.
В следующий момент его мыслям пришлось сделать поворот в противоположном направлении, а именно в сторону его собственного незащищенного грешного тела. Сразу после совершения злодеяния в отношении бесценного текста «продукт Лиги ядовитого плюща» прыгнул в том же направлении, другими словами, в сторону его живота, еще точнее, на его изношенный замшевый пиджак, который пятнадцать лет назад в Кривоарбатском подарен был ему с собственного плеча знаменитым кинематографистом Орсоном Уэллсом.
«Пиджак Орси должен быть спасен!» — решительно воскликнул Филларион и схватил гнусную тварь за хвост, если можно так сказать о части тела огромной «гусеницы», которая и вся-то выглядела, как чей-то хвост, хоть и существовала сама по себе, испуская дьявольски вонючую, сродни окиси железа, секрецию.
Несколько мгновений они свирепо сражались. В течение этих мгновений мысли Филлариона опять переменили направление. В этот раз они перелетели огромное пространство истории в те времена, когда эллинские фризы существовали живьем, то есть двигались, во времена Лаокоона и битвы на Флегрейских болотах. «Вот вам, пожалуйста, происходит рождение нового, мифа!» — думал профессор. Мысли агрессивной «гусеницы», увы, находились за пределами нашего понимания. Может быть, они вообще не являлись предметом литературы.
Вдруг вся мифология лопнула: дверь читальной комнаты распахнулась, и симпатичный аргентинский ученый Карлос Пэтси Хаммарбургеро вошел, насвистывая беспечный мотивчик. Зловещая «гусеница», как будто смущенная неожиданным свидетелем, немедленно прекратила так успешно развивающиеся злодеяния, бросила пузо Фила, пружинисто отпрыгнула на стену и начала в этой стене быстро исчезать, часть за частью, кольцо за кольцом, со всеми своими отростками, пока стена не предстала перед нами полностью в непорочном виде.
В результате этой прерванной битвы замшевый пиджак Орсона Уэллса превратился в дымящуюся бахрому, болтающуюся на теле Фила наподобие каких-то изощренных спагетти, однако наиболее суровые повреждения были нанесены штанам нашего мифологического героя. Волосатая плоть виднелась через многочисленные дыры, и хорошо тренированный глаз, подобный тем, что находились в распоряжении спецагента Доллархайда, мог бы заметить в прорехах еще дымящуюся шахту пупковой зоны, равно как и обожженное возвышение лобка.
Глава девятая
КАК ЕГИПТЯНИН, МОЛЯЩИЙСЯ ИЗИДЕ
«Привет, Фил!» — сказал сеньор Хаммарбургеро. «Хай, Пэтси, — ответил почти состоявшийся Лаокоон. — Ну, как вам нравится это исчадие гусеницы?» Пэтси сел и скрестил ноги в почти безупречной британско-аргентинской манере. Почти безупречные легкие туфли, почти безупречные носки, почти безупречно отглаженные панталоны. Он помахал рукой, чтобы разогнать слегка раздражающий дым, а также пар и вонь, оставшиеся после битвы, и одарил русского коллегу дивной, близкой к совершенству улыбкой.
Общее впечатление от этого молодого человека обычно заключалось в коротких популярных фразах вроде «какой милый», «какой толковый» и тому подобном. Он считался красивым, хотя взятые по отдельности иные его черты являли собой полнейшую как бы несовместимость друг с дружкой: узкое европейское лицо и косоватые азиатские глаза, веснушки и рыжий ирландский вихор и большой, смело очерченный рот «негритюда».
Елки, обычно вздыхал Пэтси, я — дитя нашего несуразного века. Холодная война и дуновения разных оттепелей и перестроек, международная контркультура и классический колониальный уклад, порывы спонтанной щедрости и циничные тайные операции, вдохновение и банальности — елки — все эти и бесчисленные другие феномены приняли участие в моем возникновении и развитии.
Хоть я и рос в буколической атмосфере богатого поместья на Ла-Плате, я подозревал, и не без причины, что некий дешевый отель в бассейне Тихого океана предоставил койку для того злополучного совокупления, что в конце концов привело к моим сегодняшним признаниям. В детстве, бывало, время от времени я получал какие-то странные посылки, то с эротическими книгами по-французски, то с резиновыми игрушками вроде Микки Мауса, Супермена, Человека-паука, Жестяного человека, Космического волшебника и так далее, а однажды даже пластиковый метод с конфетками «джели-биинс».
В те дни, когда я получал эти несуразные дары, я становился диковатым, меланхоличным и одновременно агрессивным, способным к непостижимым поступкам. Однажды, например, осквернил, то есть подверг вандализму бесценную коллекцию мраморных скульптур, принадлежащих отцу, в другой раз начал безобразно оскорблять наших крепостных, немыслимо гордое племя тамошних индейцев. Мои родители были в отчаянии из-за этих приступов иррациональности. Даже и сейчас я не знаю, были ли они на самом деле огорчены моим исчезновением.
Но уж, только не говори нам, Пэтси, что ты был похищен, хихикали слушатели. Сеньор Хаммарбургеро только пожимал плечами и улыбался. Современный мир развращен грязным потоком беллетристики, документалистики и элементарной лжи, он невосприимчив к правде. Разумеется, я был похищен, хотя некоторые газетчики распускали слух, что я сам убежал. Меня похитили оскорбленные индейцы в сотрудничестве с израильскими охотниками на нацистов. Они продали меня бесплодной паре западногерманских миллионеров, издателей, придерживавшихся строгих коммунистических убеждений, так что все мои подростковые годы я воспитывался как юный пионер марксизма-ленинизма. Я гонял свой «Порше» и распространял подстрекательные листовки среди иностранных рабочих в Рурской индустриальной зоне. Ходили слухи, что я был связан с группой «Баадер — Майнхоф», с одной из их революционных ячеек… прошу вас, не верьте этому! Анархистские идеи были чужды и мне, и моим родителям, мы были действительно передовыми, хорошо подкованными революционерами. О, Роза и Вилли, надо отдать им должное, они всегда приветствовали все мои самые смелые начинания, если только они были продиктованы классовым сознанием. Так, они не возражали против моего решения переехать в СССР, чтобы самому ощутить славную поступь социализма. Они даже не возражали против моего формального усыновления товарищем Швалиным, тогдашним председателем Телеграфного агентства СССР.
Великие времена колоссальных ожиданий и горького пробуждения… и нечего хихикать, господа! Приобщившись к советской элите, я сместился к ее левому флангу. Как вы, возможно, знаете, «левый» там — это «правый» здесь. В конечном счете, я присоединился к группе дерзких писателей, называвшейся «Метрополь». С тех пор и навсегда меня заклеймили как вырожденца и провокатора. В конце концов, мне пришлось бежать с родины слонов, как беззастенчиво называли свою страну люди поколения Миши Горбачева. Позади остались ворох разбитых иллюзий, кучка внебрачных детей, несколько чемоданов личных вещей.
На Западе я нашел много изменений. За время моего отсутствия мои аргентинские родители познакомились с моими немецкими родителями и заключили соглашение об обмене супругами. В результате мой аргентинский папа женился на моей немецкой маме, а моя аргентинская мама вышла замуж за немецкого папу. Жаль, что они не сделали этого раньше, когда я был просто бедным похищенным ребенком, потому что только после этого обмена у меня появилось подлинное чувство семьи. Вот такова вкратце история моей жизни. Чертовски надуманная история, не кажется ли вам? — обычно смеялись коллеги. Си, сеньорес, кивал Пэтси, я действительно чертовски надуманный персонаж.
В течение этого невольного отступления от развития нашего сюжета главный герой не переставал ворчать по адресу назойливой твари, совершившей нападение на материалы его исследования и личную собственность. Он явно чувствовал себя оскорбленным.
— Не обращайте вниманья, — посоветовал присутствующий вспомогательный персонаж, то есть Пэтси Хаммарбургеро. — Рех с ней, с этой платью! — добавил он на превосходном русском. — Не пытайтесь меня убедить, что вам и раньше не встречались такие чудища в библиотеках. Я хотел с вами поговорить о другом и, похоже, более срочном деле. Не могли бы вы мне сказать, дорогой московитянин, как далеко зашли ваши отношения с мисс Урсулой Усрис?
— Что такое, — вскричал Филларион. — Что дает вам право задавать столь неуместный вопрос, сэр?
На самом деле, как и любой влюбленный, он был чертовски доволен таким неожиданным поворотом разговора от объекта отвращения (гусеница) к субъекту обожания (Урси).
— Я не настаиваю на ответе, — сказал Пэтси, — хоть и это в самом деле очень важно… именно для вас, мой друг, а не для кого-нибудь другого в Яйце…
— О’кей, — сказал Фофанофф. — Давайте выпьем кофейку. Вы меня дьявольски заинтересовали.
Они наполнили свои чашки неким условным напитком, известным как кофе, текущим из постоянно циркулирующей в Тройном Эл кофеносной системы.
Фил испустил глубокий вздох, не лишенный меланхолии.
— Увы, я еще не изучил ее до желаемого уровня. У нас было всего одно свидание, вполне удовлетворившее нас обоих… Ну, знаете, может быть, я буду ближе к сути этого события, если назову его не свиданием, а искристой увертюрой типа Россини. Вы знаете, что я имею в виду.
— Разумеется, — сказал Пэтси и кивнул с неподражаемой серьезностью.
— Что касается всей оперы, то занавес еще не открылся, — Филларион снова вздохнул, на этот раз во всю силу своих перегретых альвеол, что создало впечатление открытой кузни. — Ну, а теперь, Пэтси, бросьте ваши утонченные улыбочки и скажите, почему вы спрашиваете.
Международный денди помахал рукой, пожалуй, с некоторой небрежностью.
— Мне следует подчеркнуть, Фил, что это, конечно, важно, но… но в общем-то не чересчур важно… Вы, возможно, знаете, что мы с Урси живем в одном кондоминиуме…
В этот момент Филларион начал вздыматься, зарокотал громоподобно, как будто стараясь оправдать свое прозвище Пробосцис-Хобот.
— А я и не знал! Значит, вы любовники, так?!
— Не судите обо мне так одноцветно, сэр, — улыбка Карлоса Пэтси Хаммарбургеро приоткрыла ну уж прямо высшую шкалу утонченности. — Мы просто соседи по модному коопу Кондо дель Мондо вместе с другими нашими коллегами, Хусса-косан, супругами Абажур, вашим соотечественником Жукоборцем, например… Фокусируя внимание на этом простом факте, я просто хочу с вами поделиться некоторой дополнительной информацией, которую я волей-неволей заполучил. Что касается личных чувств, ни я, ни Урсула никогда не имели по отношению друг к другу ничего, кроме легкого взаимного отвращения.
— Отвращения? Отвращения к мисс Усрис?! — Филларион вздымался и опадал, стонал и вскрикивал от болезненного недоумения.
Здесь нам следует сказать, что если отдел КГБ Хранилище всерьез отобрал профессора Фофаноффа для какой-то сверхтонкой операции, если это не было просто отвлекающим маневром в игре (а эти игры, как известно, нередко выходят за пределы художественной литературы), то выбор их был явно ошибочным. Неудержимая спонтанность мешала профессору удержать за зубами даже малюсенький секрет, не говоря уже о личных эмоциях.
Так и произошло. Фил немедленно вывернулся наизнанку перед малознакомым молодым джентльменом, называя доктора наук Урсулу Усрис совершенно необычной персоной женского рода, что глаже тюленьчика и пушистее медвежонка-коала, и в то же время существом высочайшей интеллигентности и независимости, которое категорически запрещает величать ее зябликом и глупышом, но не возражает против Жемчужной Лагуны, персоной, чьи глаза, разумеется, напомнят любому кусты сирени вдоль запретных зон Балтийского побережья, цветущей сирени разгара белых ночей, которые заставят тебя почувствовать себя человеком XIX века, гуляющим вдоль таких же кустов в тех же, тогда еще незапретных зонах.
Пэтси кивал со знанием дела на все откровения Фила, а потом сказал, погасив свою вечную двусмысленную улыбочку:
— Да вы действительно влюблены, мой дорогой рыцарь Перестройки! Знаете, я весьма впечатлен этой вашей Жемчужной Лагуной, однако позвольте мне также вам сказать, что над вами нависла большая опасность, мой друг!
— Что вы имеете в виду?! — воскликнул Филларион неожиданным фальцетом. — Как может это могучее чувство, эта жажда, столь напрямую именуемая любовью, ассоциироваться с какой-либо опасностью?! Я испытывал эти благотворные вихри не менее пятисот раз, и они ни разу меня не подвели. Напротив, они всегда вдохновляли мою беллетристику и мое бельканто, не говоря уже о плавности движений, которой они всегда способствовали!
Сразу после этого смелого заявления собеседники отправились глотнуть свежего воздуха, проехались на паре эскалаторов и на паре лифтов, прошли мимо поста охраны, где можно было увидеть мрачную фигуру шефа безопасности Каспара Свингчэара, в конечном счете, вывалились из Яйца в прозрачный и как бы похрустывающий вечер ранней вашингтонской зимы. Известная всем сова из Флаг-башни Смитсоновского института плыла вдоль воздушных потоков, словно пожилая балерина Большого театра навстречу неизбежной отставке.
— Экие подонки и дармоеды, — проворчал позади мистер Свингчэар. — Особенно хорош советский бездельник. А какая безобразная манера одеваться — все интимные места наружу… а этот запах горелой кожи, как будто парень только что дрался с огнедышащим драконом. Хотел бы я знать, как долго общество будет терпеть нахлебников вроде этих двух, один — полный чудак, второй — трепло; и это ученые наших дней!
Не успел еще он завершить своих мрачных наблюдений, как предмет недавней дискуссии Урсула Усрис шустро выскочила из внутренних сфер Яйца. Шеф охраны, в прошлом большой знаток таких бойких молодых женщин, выделил этого доктора наук из общего числа и сделал ее счастливой реципиенткой его сумрачных улыбок. В этот раз в ответ на ее быстрое «Куда они пошли?», он снисходительно ткнул большим пальцем в сторону обелиска Вашингтона.
Так уж развивается наш сюжет, что мы не можем оставить читателю ни малейшего сомнения в том, что У У подслушала разговор Пэтси и Фила до последнего слова. Ее трясло от возмущения, и ее глаза в этот момент меньше всего напоминали кусты сирени на Балтийских тихих берегах, скорее уж — штормовые облака, собравшиеся над островом Борнео. Впрочем, лиловый — это неотъемлемая часть калимантанского спектра.
— Ублюдки, — шипела Урсула, как будто была в некотором родстве с недавно описанной отвратительной гусеницей. — Осмеливаются говорить обо мне! Обсуждают меня, словно я лошадь или наложница! Все мужики и все андрогины, разгребись они на фиг, должны быть уничтожены!
Вскоре после того, как мисс Усрис вылетела из Яйца, двое других ее коллег, а именно Хуссако-сан и месье Абажур, один за другим, с интервалом не более 30 секунд, проскользнули мимо поста охраны. Цель их была очевидна — внести еще больше беспорядка в развитие сюжета.
Нечего и говорить — ни Урсула не догнала свою цель, двух женоненавистников, ни француз, ни японец не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрессменов и других джоггеров с Вашингтонского холма перекрыли все возможности для наблюдений.
Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направлению к большим зеленым лугам с развевающимися в прозрачном воздухе американскими флагами.
— Позвольте мне довести до конца мою мысль о докторе Усрис, — продолжил Пэтси, снова демонстрируя лучший вариант своей утонченной улыбки.
— Мисс Усрис предпочитает, чтобы ударение в ее имени ставилось на последнем слоге, — сухо поправил его Фил.
— Хоть это и звучит слишком суперлятивно по-русски, я постараюсь впредь удовлетворять ее желание, — сказал Пэтси. — Ну что ж, дорогой Фофанофф, вы, конечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту или иную разведку…
— Что?! — оборвал его Филларион. — Вы действительно так считаете?
Пэтси, который был также известен в академических кругах как человек, жестикулирующий всегда неадекватно своим словам, открыл свои руки наподобие пингвина:
— Разумеется, я так считаю, и у меня есть для этого основания. Почему вы так удивлены? Каждый завязан тут, по крайней мере, с одной шпионской фирмой, в этом нет сомнений. Вопрос только в том, на скольких хозяев вы работаете одновременно.
Вот вы, например, мой блистательный обитатель Кривоарбатского переулка, на кого вы работаете, кроме КГБ?
— Ни на кого! — пронзительно вскричал Филларион и выпустил пары возмущения. — Ни на кого не работаю… — Он вдруг оборвал тираду, конечности его пали вниз, и пробормотал, как кающийся грешник: — Ни на кого, кроме КГБ, конечно…
— Это хорошо, — сказал Пэтси. — С вашей стороны это очень, очень хорошо. Если вы, живя в Вашингтоне и к тому же работая в столь сомнительном месте, как Либеральная лига Линкольна, работаете только на одну разведку, это говорит о ваших высоких человеческих характеристиках, об исключительной цельности вашего характера!
— Однако, Пэтси, вы же не будете утверждать, что все работники Яйца связаны со шпионами, вы же не будете этого говорить о моем безупречном друге Генри Трастайме?
— О нет! — воскликнул Пэтси. — Я этого не скажу. Единственное, что я скажу о Генри… — он прервался и глянул на Фила снизу, — это то, что он тоже сохранил высокую шкалу цельности…
— А вы-то сами, сэр? — Фил агрессивно выставил вперед нижнюю губу. — Наверное, вы только себя и считаете здесь единственно честным, свободным, незавербованным, не так ли?
— Я весь вымышлен и надуман, — вздохнул Пэтси не без сожаления, однако и не без определенного лицемерия. — Но даже я, невзирая на мою перекрученную фиктивную жизнь, располагаю определенной границей моральных стандартов, которую я никогда не переступлю. Во всяком случае, я знаю, как отличать мою секретную деятельность от моего личного мира.
Он продолжал:
— Увы, иные из нас теряют баланс, соблазненные фальшивой идеей неограниченной власти, и Урсула У. является одной, если не первой, из этих заблудших персон. Пожалуйста, Фил, перестаньте делать мне эти угрожающие гримасы. Если я правильно понял, вы еще новичок в нашем деле, однако с вашим, столь хорошо развитым воображением вы
можете легко предвидеть, каким образом тренированный агент может ответить на угрожающие гримасы.
Итак, коротко говоря, пару лет назад ваша обожаемая У У, как многообещающий специалист по русским вопросам, была завербована индонезийским ЦРУ. О’кей, это личное дело каждого, принимать предложения от других школ или отвергать их. Основной наниматель будет молчаливо и тактично соответствовать неписаным правилам игры, пока его право первой ночи не нарушается. К сожалению, наша Урси с ее агрессивными женскими гормонами вырвалась из системы и превратилась в своего рода фурию этого города.
Позвольте мне повторить, Фил. В мире международного шпионажа основной наниматель обычно весьма терпим к своим людям. «Ваш» или, если угодно, «наш» — не исключение. Когда вы додаете, перепродаете и снова перепродаете так называемые государственные секреты, вы просто снабжаете вкусной информацией гигантские компьютеры, и они уж ее переваривают. Так что, проблем нет, полный вперед — и предавай, пока ты не предаешь наш бизнес как таковой. И вот это-то и случилось с мисс Усрис, увы, не могу в данный момент сделать ударение на не последнем слоге.
Третьего дня в ресторане «Слухи» я наткнулся на капитана Салтруканаджо, помощника хореографического атташе при индонезийском посольстве. Между прочим, вы еще не знакомы с этим очаровательным молодым человеком? При случае не упустите шанса, ей-ей, не пожалеете. Это просто к слову, но, дорогой Пробосцис, вы не можете даже представить, как горько Салтруканаджо жаловался на поведение объекта вашего обожания!
Она отбилась от рук, презрительно отметает все приказы, не говоря уже о дружеских рекомендациях. Должен подчеркнуть, что ребята из других школ, с ней завязанные, тоже недовольны. События закручиваются самым разрушительным для современного шпионажа образом, девица решила играть свою собственную игру! Никто пока что не может определить ее главную цель, одно ясно каждому — результаты будут деструктивными и угнетающими. Я бы, конечно, не стал бы вам рассказывать обо всех этих неприятностях, если бы не одна дьявольская штука: не кто иной, как вы, сэр, являетесь главной мишенью ее подрывных намерений!
Эй, не хотели бы вы освободить мою левую руку из своего неоправданно болезненного зажима? В том случае, если вам не захочется этого сделать, боюсь, мне придется употребить один из трюков, которым я был обучен для применения в подобных обстоятельствах. У-у-у-а-с! Вы в порядке, Фил? О’кей, давайте продолжим. Надеюсь, вы понимаете, что единственной целью, которую я преследую, сообщая вам всю эту информацию, является попытка предотвратить любой потенциальный вред нашей победоносно шагающей вперед Гласности. Ну, во-вторых, конечно, мои личные симпатии к вам, мой незадачливый исследователь жемчужных лагун. Так что постарайтесь собраться и перенести неприкрашенную правду, которую я вам сейчас скажу. Урсула Усрис решила любыми средствами удалить вас с вашингтонской арены!
— Но что за причина? — произнес Фофанофф еле слышно. — Что я ей сделал плохого, кроме одного великолепного фака?
— Причина — это ваше исследование по Достоевскому, — быстро ответил Хаммарбургеро. — У нее есть утечка, черт его знает откуда, что вы собираетесь принизить нашу миловидную западную культуру с помощью каких-то новых, то есть только что открытых материалов Достоевского. Естественно, никто не уполномочивал Урси становиться спасителем Западной цивилизации, но ее мегаломания бьет все рекорды. О нет, сэр! О, Фил, пожалуйста, не надо! Умоляю вас, Пробосцис, не надо петь!
К тому времени, когда аргентинец понял, что русский собирается петь свое горе в публичном месте, они как раз достигли Западной плазы и медленно шли от дверей Национального театра в сторону двух шикарных отелей, «Мэрриот» и «Уиллард»; здание Горсовета высилось через улицу. Множество людей в открытых кафе, театралов и постояльцев отелей, оказались загипнотизированы видом гигантского незнакомца, который внезапно решился выпеть свое горе в публичном месте.
Он пел:
Нет, нет и нет, сеньор Хаммарбургеро Карлос, известный как Пэтси, о нет, я не верю тому, что вы говорите о мечте моей Урсуле Усрис, докторе наук!
Миленький Пэтси, как бы сильны ни были ваши аргументы, я не доверюсь им во имя любви! Выпеваю мою тоску из-за ваших сообщений, ручаюсь я верить, о верить только в любовь!
Как любовник, я верю не грубым фактам, но лишь грудям ее нежным, зоне пупка и межножью! На все ваши правдоподобия невзирая, я убежден в противном, ее ногами раскинутыми и ее руками сомкнутыми, и я поклоняюсь ей, как египтянин когда-то молился Изиде. О, да. О, да, как египтянин Изиде, О, да. О, да, братья, как египтянин когда-то молился Изиде!
— Пожалуйста, остановитесь! — вскричал Пэтси, простирая руки. — Это уж слишком даже для гласности!
Публика столпилась вокруг экстраординарного певца, все были исключительно вежливы и тактичны (таков уж стиль нашей столицы), иные зеваки демонстрировали дивную щедрость, бросая монеты и купюры вокальному виртуозу, так сильно пострадавшему от любви. Два джентльмена, в костюмах-тройках и с портфелями крокодиловой кожи в руках, со знанием дела говорили, что певец этот — просто вылитая копия Паваротти, увеличенная версия немаленького певца, истинное воплощение мирового искусства и литературы, другими словами, поющая душа Восточного полушария.
Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в некоторых лагунах… Филларион продолжал петь, покачиваясь с носков на пятки и раскрывая руки, как будто пытаясь обнять отель, чье лобби, то есть вестибюль, полтора столетия назад родило слово «лоббист».
Успех! Каждая станса его бельканто сопровождалась взрывом аплодисментов. Его шапокляк был уже набит двадцатидолларовыми бумажками.
О, да, сэр, о, да, вы легко можете сказать, что я лишь пешка в ее руках, однако когда я касаюсь ее, когда я трогаю ее, о, братья, пешка моя переходит в ладью, и мы с ней, как королевская пара, о да, как царь и царица, о, да, о, да, братья, мы словно Кинг и Куин!
В последовавших за этим криках приветствия и аплодисментах никто и не заметил, что прямой адресат незабываемой арии исчез из вида. Где же он? Трудна задача автора, когда он пытается уследить сюжетные извивы целиком надуманного персонажа. Все же нам следует сказать, что в то время, когда колоссальное представление Фила было в полном разгаре, внимание Пэтси внезапно отвлеклось на клочок бумаги, прикнопленный к одной из чистопородных лип перед отелем «Уиллард». Внезапно он ослабел, как будто какая-то основная струна лопнула в его стройном теле. Он еле смог подойти к дереву и прочесть послание, которое выглядело столь же неуместным в этой шикарной диспозиции, сколь майка с надписью «босс» выглядела бы на груди профессора Джин Кирклатрик.
Клочок гласил: «Найден маленький кот. Темно-бежевый, туманные голубые глаза. Нежен, когда в хорошем настроении. Пол — под вопросом. Может быть взят своим хозяином (требуются подтверждения) в любое время. Вознаграждение по договоренности…» и т. д.
В мгновение ока ироничный, всезнающий и уверенный в себе персонаж превратился в дрожащую медузу. Трясущимися пальцами Пэтси откнопил записку, оглянулся в панике, как будто до смерти боялся, что кто-то за ним наблюдает, и бросился со всех ног прочь. Как загнанный мустанг, он пробежал несколько кварталов, пока не свалился на скамью в сквере Фаррагот. Два завсегдатая этого сквера внимательно посмотрели на него, а потом обратились с довольно вежливым вопросом: «Эй, мужик, ты в порядке? Гребена плать, о чем ты стучишь зубами? Ну-ка, дай-ка нам «есть и пить», мужик!»
Пэтси вынул свой «есть и пить», то есть бумажник, и протянул его одному из этих замшелых субъектов, после чего отключился от реальности в идеальном приступе летаргии.
Два «бомжа» — это были не кто иные, как Тед и Чарльз, с которыми мы уже познакомились при описании бурной жизни улицы Наполеона и Круасана — подсчитали наличность (51 доллар и 8020 иен), засунули пустой «есть и пить» в карман летаргическому парню и, довольные, заколебались в сторону закусочной Роя Роджерса. Хоть они ни разу не проголодались со времени прибытия в этот город, страшное видение полного коллапса западной экономической системы все еще преследовало их, и потому они всегда старались впрок набить до отказа свои бездонные багажники.
Филларион тем временем продолжал петь. Я люблю тебя, у-у, даблю, как одна безумная душа поэта еще любить обречена. Я люблю тебя, даблю, моя у-у, моя у-у!
Аудитория смеялась и аплодировала в полном восторге. Завершив свое экспромт-представление, он надел шапокляк. Пара долларовых купюр, вырванная порывом апалачского ветра, полетела в сторону Казначейства. Одна купюра прилипла к его мокрой щеке, остальные остались внутри подобно хорошему компрессу на темени. Триумф.
ОСВЕЖАЮЩИЕ ДРУЗЬЯ
Два дня спустя телефонный звонок разбудил нашего героя в его берлоге на Дикэйтор-стрит в 3 часа 45 минут утра: «Доброе утро, Фил-беби… Держу пари, ты узнал мой неизгладимый йоркширский акцент, не так ли? Иа, иа, это твой старый Дотти! Надеюсь, не разбудил, ведь ты же всегда был довольно ранней пташкой, верно?» — «Я только что лег, Федот Ксенофонтович», — ответил Фил мрачно.
В телефоне щелкнуло. Немедленное разъединение.
Пополудни Фофанофф остановился купить «горячую собаку» у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Эл-стрит (или Лореляй-стрит, в соответствии с его программой переименований). Торговец покрыл его сосиску щедрой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». Шествуя вдоль Конн и чавкая своим сочным куском американского культурного наследия, профессор читал узкую полоску послания, сродни тем, что Великий Ленин обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин времен Русской революции. Оно гласило: «Немедленно отправляйтесь в магазин Берберри и проявите желание примерить жилетку и шарф».
Вашингтонское отделение знаменитой Британской институции было расположено на тройном углу Конн, Род-Айленд и Эм (Маскарадной) улицы. Недавно обновленное здание XIX века с его довольно уродливой башенкой напомнило Филлариону извечное пятно в его анкетах, дом на улице Карла Маркса (бывшей Проломной) в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался филиал «Зингера и К°», в котором брат его бабки, Петр Фомич Костанжогло, был совладельцем и членом правления. Кто знает, подумал Филларион, может быть, в ходе перестройки это капиталистическое пятно в моем прошлом обернется фонтаном, полным торжества. Едва он выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же препроводили в примерочную. Хорошенькая англичанка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заметил в районе подмышки штамп «Ле Шан». Что касается вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с надписью «Уотергейт». Презентация сопровождалась очаровательной улыбкой, увы, приправленной типично британской сдержанностью: «Не угодно вам, сэр, слегка ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю за дух взаимопонимания. Такси вас ждет!»
В такси Филларион не без труда произнес комбинацию двух не очень сопоставимых слов «Ле Шан», что подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей и Уотергейт, от которого за версту разило громовым всемирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к круглым массивным стенам средоточения мировой скандалезности он насвистывал какую-то изысканную мелодию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту назначения вручил пассажиру квитанцию на пять с полтиной. На обратной стороне квитанции Фил увидел симпатично выписанную фразу: «Дюжина часопикских устриц и бутылочка пива «Кирин» дружески освежат вас в следующие полчаса». Сосиска-хотдог, Берберри, такси, устричный бар, думал Фил. Похоже, что я в западне какого-то коммивояжерства.
На террасе ресторана «Ле Шан» его приветствовала пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в майке с надписью «Футбольная команда русалок Потомака». «Как сегодня дела идут, приятель?» — спросила она без излишних церемоний. «Как тут у вас насчет освежающих друзей?» — «Ага, дюжина устриц и японское пиво? Прекрасный заказ, сэр! Сразу виден истинный джентльмен!»
После серии добродушных шуток и ошеломляющих исповедей, связанных со сложностями супружеской жизни, Триша подала «освежающих друзей». Ну, а к концу своего короткого пира Филларион получил буклет Лодочной станции Флетчера, что располагалась в двух милях вверх по Потомаку, на берегу параллельного могучей реке тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий шепот, направленный в заросли левой околоушной зоны, губки слегка покусывают мочку уха: «Попросишь там эскимосский каяк. А потом давай — заходи, давай быстренько заделаем штучку, крупный папочка!»
Его снова ожидало такси, на этот раз внутри, словно моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно было определить, обычная это была тачка или еще одна «из сети» — вот так он и подумал: «из сети», — пока они не пересекли горбатый мостик над старинными шлюзами в сердце Джорджтауна, и здесь шофер сказал: «Вот тут самое трудное место для плаванья вниз по каналу на эскимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах».
На Лодочной станции Флетчера Фил столкнулся с неожиданной проблемой — ни один спасательный жилет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги, пока вдруг решение не было найдено. Как и все великие открытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф, — сказал инструктор, — почему бы нам не взять два жилета и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, все путем!»
Два оранжевых узла на плечах усилили сходство Фила с певцом Паваротти, исполняющим «Риголетто». «Пожалуйста, не пойте, сэр, — инструктор махнул рукой на прощанье, красные паучки на носу и щеках недвусмысленно говорили о приверженности их владельца к ирландскому темному пиву. — И, пожалуйста, не раскачивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по каналу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать столкновения с этой гребаной джорджтаунской баржой, набитой этими лаптями-туристами, о’кей? А как достигнете устья Рок-Крика и войдете в Потомак, поворачивайте направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение из когда-либо возведенных на Земле, комплекс «Вашингтонская гавань». Постарайтесь преодолеть судороги отвращения, потому что вам там надо причалить. Потом вы высадитесь и все остальное увидите своими глазами. Ну, в путь! Бон вояж!»
Получив столь теплое напутствие, Филларион стартовал и мирно заскользил обратно к стильному Джорджтауну. Сегодня у него не было ни малейшего намерения петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с гороховым супом, настроило его на мысли о суффиксах, префиксах и других мелких частицах лингвистики.
Мы, безусловно, принижаем значение этих маленьких ублюдков. Идеологическая война, например, она ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, окончаниями. В истории были периоды, когда война идей практически превращалась в войну лингвистических частичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы гражданской войны, если бы у них был иностранный суффикс «ист» вместо «ик», такого родного и домашнего.
Интересен и поучителен также процесс адаптации некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической абракадабры. «Буржуа», такой необычный и странный, быстро трансформировался в «буржуя» и сразу стал обиходным словом по созвучию с самой популярной трехбуквенной непристойностью. Буржуй — гуй, буржуй ты гуев!.. Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, профессор Фофанофф не обращал ни малейшего внимания на встречных бегунов. Бегуны же без различия пола при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка задыхались. Он также избежал столкновения с туристической баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, молодых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках, ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был весь в раздумье.
А давайте-ка заглянем в коварные семантические ловушки, товарищи! Если, скажем, у гадкого слова «антисоветчина» отобрать негативный префикс «анти», мы предположительно должны получить что-то хорошее. Однако уродство суффикса «чина» настолько очевидно, что оно придает оставшемуся слову еще большую гадость, и получается действительно мерзкая «советчина».
Милостивые боги Балтийского моря, этой колыбели абстрактного мышления! Конечно же, он даже и не заметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на манжетах, он не видел, как двери шлюза закрылись и вода пошла вниз. В какой-то момент ему показалось, что сверху за ним пристально, хоть и с бессмысленной насмешкой на лицах, наблюдают три частицы «кртчк», «мрдк» и «чвск», однако он отогнал от себя это дикое предположение, и вскоре его судно покинуло заплесневелый шлюз и вышло к последнему перегону старинной транспортной системы.
Только лишь увидев перед собой широкое искрящееся пространство воды, Филларион вынырнул из пандемонизма русского лингвистического разгона. Тут только он понял, что близок к своему назначению. В несколько мощных ударов весла он достиг пристани, причалил и вскарабкался наверх.
Великодушные боги Волги и Каспийского моря! Странное эклектическое строение распростерло перед ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырастал из большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены с множеством балконов, террас, галерей, патио и внутренних авеню, с козырьками в стиле Прекрасной эпохи, с изгибами барокко по железобетону и модернистскими плоскостями отражающего стекла. Все вместе это создавало страшную чужеземную атмосферу, смесь венецианских площадей, предкатастрофного Санкт-Петербурга и романа Томаса Манна «Волшебная гора». Филларион влюбился с первого взгляда.
Со второго взгляда он увидел группу туристов, глазеющую на группу скульптур. Эти последние отличались высоким качеством и неслыханной приближенностью к реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от счастливого изумления.
Эй, глянь, этот парень в кроссовках, ну точно наш сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну просто хоть на свиданку приглашай! А старый-то, старый, может пригласить его выпить? А что, ребята, может они все ж-таки живые?!
Две фигуры скульптурной группы изображали юных влюбленных. Мальчик развалился на скамье, головка на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедониста со смешанным выражением материнских чувств и похотливости. На обоих — настоящие джинсы и клетчатые рубашки.
В полуметре от подошв юнца на скамейке располагался третий член группы, среднего возраста джентльмен в прямой, сдержанной позиции. В твидовой шляпе и зеленоватых очках «Рэй Бэн», с аккуратными пеговатыми усиками, скульптура выглядела, как отставной офицер разведки, своего рода полковник Черночернов. Ну, вот извольте теперь судить сами о качестве кагебешной подготовки: ни одна мышца, ни одно сухожилие не дрогнуло ни на лице, ни в теле нашего Шварци. Надо отдать должное инструкторам школы в поселке Растительное Масло: прекрасно обучили своих студентов использовать ахиллову жилу в качестве задвижки для всей системы.
Глубоко впечатленный, Фил Фофанофф стоял перед старшим товарищем по оружию. Лишь только тогда, когда рассеялись туристы, Черночернов проговорил голосом многострадального чревовещателя:
— Как ты мог так поступить со мной, Фил?
Угрызения совести потрясли тело профессора, как электрический разряд. Внезапный взмыв симпатий к этому, такому старомодному, такому располагающему к доверию носителю англосаксонского здравого смысла подхватил его. Конечно, я мог нечаянно схамить, задеть чувство собственного достоинства у этого простого человека, для которого применение простого экстрактора истины — уже серьезная моральная проблема.
— Как ты мог, Фил, открыть мое имя городской телефонной системе? — Полковник снял очки и посмотрел на Филлариона жалобным, поистине умоляющим взглядом: — Прошу прощения, дорогой Фил, но, как твой крестный отец, я должен тебя предупредить, что при повторении такого ляпа ты должен будешь… — он прочистил горло, — подвергнуться дезактивации.
— Бедняжка, — вздохнул Филларион с высочайшим сочувствием и стряхнул немного перхоти со слегка траченного молью плеча полковника, — он все еще верит в такие вещи, как дезактивация…
Они провели вместе весь день, обедали в вегетарианской секции ресторана «Пища славных» и даже изображали из себя любителей наблюдения за жизнью птиц на острове Теодора Рузвельта. Полковник делился с Филларионом своим грандиозным опытом на службе у Британской короны. Иной раз это звучало столь правдоподобно, что Фил волей-неволей вспоминал недавние откровения молодого аргентинца и думал, не является ли «Шварци», то есть Черночернушка, полноправным членом экстравагантного клуба вашингтонских перевертышей.
В свою очередь, Фофанофф поделился с непосредственным начальством своими первыми впечатлениями от деятельности в секретных сферах. Может показаться странным, но полковник не выказал большого интереса к содержанию дневника Достоевского. В такой же степени не был он впечатлен утверждением Филлариона, что в дневнике нет ничего особенно вредного для престижа отца научного коммунизма.
— Сказать по правде, содержание нас особенно не интересует. Отметая всю демагогию, нас интересует не наш собственный интерес, а чей-нибудь еще интерес к нашему интересу, который как бы не существует, но существует в связи с потенциальным интересом других, вот в чем дело. Уже давно эти разгребанные записки нашего национального гения были под наблюдением многих школ в этом районе. Фактически они никому не нужны, по каждая школа озабочена озабоченностью другой школы. Существовало что-то вроде молчаливого согласия не делать первого шага в этом направлении. Ну, а теперь просто трудно представить, что получится, если другие узнают, что мы начали. Сорвутся с цепи! Надеюсь, что ты пока что не замечал никакого подозрительного внимания во время своих исследований, правда?
Филларион пожал плечами:
— Ничего особенно подозрительного, если не считать одной, пожалуй, слишком докучливой гусеницы.
— Докучливая гусеница?! — вскричал Черночернов. Он затрепетал, как охотничий пес в болотистой равнине, полной уток. — Ты сказал, всего лишь одна докучливая гусеница? Гусеница-наблюдатель? Шипящая и обжигающая гусеница? Проглотила весь принтаут записок Федора Михайловича? Прожевала и выжгла большую часть пиджака Орсона Уэллса? Нацеливалась на твою пупковую зону? — Он потирал руки, очи его пылали: — Мать Россия и святой Николай Второй! Произошло нечто исключительной важности! Силы, почти равные нашим, бросают нам вызов. Послушай, Фил, будь особенно осторожен сегодня. Не возвращайся домой, не ешь, не пей, никого не трахай, особенно профессоршу Усрис! Ради орла двуглавого не пей на улицах! Что ты должен делать? Просто иди на площадь Лафайета, займи скамью напротив Белого дома и жди, жди, жди, пока не получишь моих дальнейших инструкций!
Сказав это, полковник Черночернов ринулся домой с такой скоростью, какой позавидовал бы рассыльный компании «Международный цветовод».
АЭРОБИКА
Трудно сказать, была ли его скорость чрезмерной или недостаточной, но так или иначе, ворвавшись в свою квартиру, он обнаружил там генерал-шеф-повара Егорова и теоретика Марту… о нет, нет, не подумайте чего… совсем не полностью голых, но, пунктуально говоря, в подштанниках.
Как только он вошел в комнату, эта далеко не голая пара его соратников, пустилась в неуклюжий, но все же синхронный цикл подскоков и приседаний. Ритмические эти движения могли бы даже претендовать на некоторое приличие, если бы не две желтовато-зеленоватых молочных железы, которые явно вели себя, как два независимых и не вполне серьезных партнера. Из-за этого недостатка в координации вся сцена была исполнена духом какой-то дикости.
— Глянь, Дотти! — сказал генерал-шеф. — Марта тренирует меня в этой проклятой аэробике!
Марта пожала плечами.
— Это вовсе не аэробика! Наши советские физические упражнения не имеют ничего общего с этой вздорной американской манией!
Генерал-шеф хихикнул.
— Ну-ну, товарищ! Ты что же, не уважаешь Джейн Фонду, величайшего борца за мир?
— Тщеславная баба предала наше дело! — взвизгнула Марта. — Ее аэробика отвлекла миллионы от классовой борьбы!
Черночернов даже не заметил, как оба товарища вдруг расположились возле круглого обеденного стола, полностью, по» кодексу, одетые, галстуки затянуты, пуговки застегнуты и даже государственные награды на соответствующих местах.
Марта привычно включила настольного жука, электронное устройство, которое начало ползать туда-сюда, чтобы заблокировать возможное подслушивание американскими органами. Затем она отправилась на кухню, чтобы поставить самовар: советские женщины отвергают соблазны американского мелкобуржуазного феминизма!
— Тревожные сигналы, Егор! — прошептал Черночернов. — Помнишь ту мерзкую «селедку» в международном аэропорту Далласа? Теперь гигантская гусеница появилась в библиотеке Тройного Эл.
— Елки-моталки! — сказал генерал, хотя и не похоже было, что удивился. — Ну, что ж, теперь жди еще что-нибудь в этом роде, третьего члена трио. Я говорю «третьего», потому что надысь получил сообщение о странном летающем объекте, условно названном «дрозд». Хоть все трое и выглядят по-разному, однако ж, сдается, что одной выпечки.
— Лэнгли? — скорее выдохнул, чем произнес полковник. — Второе бюро? Моссад? Удба? Косоглазые?
— Лучше уж все они, вместе взятые, чем то, что я подозреваю, — вздохнул генерал.
У полковника все конечности задергались.
— Не хочешь ли ты сказать, Егор-голуба, что проклятый это Зеро-Зет окончательно вышел из-под контроля?
— Вот именно это я и хотел сказать, гребать-их-всех-за-пазyxy, — сказал генерал.
Чекисты пожали друг другу локти и глубоко заглянули в глаза. В соответствии с заветами основателя тайного братства, монаха-расстриги польского происхождения, в трудные моменты истории они начинали «к товарищу милеть людскою лаской», а к врагу оборачиваться «железа тверже». Этот превосходный моральный кодекс все же иной раз затуманивался разными сложностями — как бы не пропустить тот момент, за которым друг превращается во врага.
— К сожалению, — продолжал генерал-шеф, — я не могу выключить эту штуку без соответствующих инструкций Хранилища. Я даже не могу и распознать ее. На все мои обращения Зepo-Зет отвечает с наглым вызовом, а Хранилище явно не торопится уничтожить своего блудного сукина сына. Значит, единственное, что нам остается, на тот случай, если гнусная штука зайдет слишком далеко, это действовать на свой страх и риск, а именно взорвать разгребанное Яйцо во время одного из их разгребанных сборищ.
Полковник Черночернов чуть не впал в столбняк. Яйцо, вместилище передовых идей, игровая площадка столь дивно очерченных индивидуумов! Подобно многим людям своей профессии, он был немного влюблен в объект исследования.
Генерал потрепал его по колену и предложил стакан водки, как будто это он был здесь хозяином, а не Черночернов.
— Спасибо, Егор-голуба, — промямлил полковник. — Водка это то, что мне сейчас нужно, чтобы переварить твою ошеломляющую идею.
Генерал прекрасно знал, где находится водка в этом доме. Он быстро выставил полгаллона «Смирновской», два стакана и круг польской колбасы на обрывке эмигрантской газеты «Новое Русское слово». Потом сказал товарищу по оружию:
— Надеюсь, Дотти, ты не видишь во мне старорежимного ублюдка-головореза. Я человек Перестройки, и я не прячу ни от кого, что Достоевский оказал на меня глубокое влияние. Не менее других, ни на йоту менее, я верю, что нельзя пожертвовать ни единой слезинкой маленькой девочки ради счастья человечества, но… ох уж эти подлые «но»… бывают в истории моменты, когда надо реально видеть неизбежность некоторых событий, иначе все слезинки испарятся совместно со всеми моральными дилеммами, в том числе и со «слезников маленькой девочки»! Давай выпьем, Федот-голуба!
Как обычно, слова генерала нашли тропу к сердцу полковника. Он поднял сосуд недрогнувшей рукой. Егоров покосился на него.
— Я знаю, Дотти, ты любишь эту птичку, — он указал на Российского имперского двуглавого орла на этикетке «Смирновской», — и я уважаю твои непоколебимые убеждения, кореш, хоть я сам и ценю гораздо больше либеральное содержимое этой бутылки.
Они опрокинули упомянутое содержимое. Полный стакан залпом, дух Великой России жив и невредим!
— Ты еще не пришел к окончательному решению по Яйцу, Егор-голуба?
— Пока что нет, Федот-голуба. Позволь тебе напомнить, что мы все еще в процессе охоты за нашим национальным сокровищем, и, поскольку кто-то еще явно выказывает к нему свой интерес, мы должны постараться, чтобы не захапали его чужие равнодушные руки. Так что, пока не поздно, бери своего тяжеловеса и извлекай из Яйца все данные по ФД — КМ, все дискеты и оригинал также. Как только покончим с этой надуманной проблемой, у нас будут руки развязаны для более серьезного дела.
Они употребили еще два стакана. Либерализм рос.
— Тебе никогда не приходило в голову, Егор-голуба, что три чахлых латинских Эл, L если их соединить, вместе образуют наше могучее русское Ща?
Либеральный генерал-шеф-повар смутно улыбнулся.
— Я знаю, что у тебя на уме, паря. Авианосец «Кащей Бессмертный» уже на плаву. Позволь мне сказать тебе одну более-менее важную вещь. Меня давно уже тошнит от их разгребанного коммунизма…
Полковник испустил радостный визг. «И меня тоже!» — и тут же сморщился, как будто пронзенный историческим штыком Октябрьской латышской стражи. Неся величественно пыхтящий самовар, в комнату вступала хранительница марксистско-ленинских традиций. В коммунистической общине Вашингтона, дистрикт Колумбия, эта бесплодная женщина-пехотинец считалась воплощением высшей партийности. Циничные и насмешливые вьюноши из посольской волейбольной команды даже прозвали ее Абсолютом на манер старой Большухи Елены Стасовой, но потом, узнав, что Абсолютом также называется превосходная шведская водка, решили, что это слишком получается лестно для клячи.
— Подонки, — пробормотала Марта Арвидовна Черночернова (урожденная Нельше), — наше правительство считает вас рыцарями без страха и упрека, а вы грязните партию своим киряньем монархической бузы из этих гигантских бутылок, болтаете грязный вздор о Кащее Бессмертном и коммунизме! Ты, Федот, что не мычит — не телится уже столько пятилеток, и ты, Егор, весь пропахший аджикой, этим отвратительным афродизьяком от тех кавказских взяточников и взяткодателей, если бы вы только знали, как я вас обоих ненавижу!
Зловещее молчание воцарилось в комнате на несколько минут. Груди Марты трепетали, ее лицо наливалось неудержимой яростью.
— Ленинское учение непобедимо, потому что оно верно! — прошептала она наконец и швырнула самовар, этот проклятый жупел великодержавного шовинизма, в своих двух мужчин.
МОМЕНТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Вскоре после завершения странного эпизода с кипящим самоваром спецагенту Джиму Доллархайду как раз случилось небрежно пройтись по Висконсин-авеню мимо советского квартирного блока. По стечению обстоятельств он приметил как раз двух друзей, посольского шеф-повара и советника по садовым культурам, выходящих из здания, лица их были красны, костюмы влажны. «Хотел бы я знать, кто из них этот неуловимый Пончик? Впрочем, так или иначе, оба парня, выглядят довольно симпатично, хоть малость и дымятся», — так подумал наш «йаппи», молодой городской профессионал. В руках у Джима в этот момент был пакет с некоторыми лакомыми кусочками, составными йаппиевской питательной системы, а именно: салат из латука и тунца, пара крупнопомолотых булочек, кувшинчик с ореховым тофу-желе и флакончик с порошком шпанской мухи. Естественно, он мечтал поделиться всеми этими прелестями с новым своим объектом обожания, Урсулой Усрис.
Джим вообще-то был на вершине блаженства. Позавчера вдруг фортуна, вопреки всем ожиданиям, ему улыбнулась. Глухой ночью вдруг звонок из Лас-Вегаса. Мамочка и дядя Роджер хохотали, как сумасшедшие. Неисправимые представители пятидесятых, они только что сорвали банк, гигантский выигрыш в казино отеля «Цезарь». Эй, киддо, скоро получишь наш сувенирчик! Сувенирчик оказался не чем иным, как новеньким красным «Порше-Тарга». А что вы хотите сказать этой машиной, Джим, — спросил старший агент д’Аваланш. Трио Эплуайт, Элле и Макфин повторило вопрос бровями, усами, бакенбардами и родинками. Красивое чудовище, вздохнул доктор Хоб. Джим понял, что его дни в составе Бюро сочтены.
Ну так что, думал он, подъезжая к тротуару возле Кондо дель Мондо. С такой машиной и с таким другом, как Урси, я смогу легко свернуть на другую, более творческую дорогу «нового мышления».
Вдруг он увидел на углу Урсулу, разговаривающую с юным эфиопским велосипедистом. Похоже, что она была очень взволнована и меньше всего готова к тому, чтобы обеспечивать спецагенту дорогу к Новому мышлению. Джим немедленно вытащил шариковую ручку и заткнул ее за левое ухо. Далее следует то, что ему удалось уловить при помощи этого нехитрого снаряда.
Урсула. Я тебе дам двадцатку… Кулдах, еще десятку за экстра-скорость… отправишься на Лафайет-сквер… кулдах-тара-рах… это чертовски срочно!
Велосипедист. Иес, мэээм!
Урсула. Увидишь там огромного человека… не меньше трех сотен фунтов… эдакого чудилу… вот записка для него… Понял?
Велосипедист. Ничего нет легче, мээээм!
Урсула. Его имя на конверте. Мистер Фофанофф.
Велосипедист вздрагивает, точнее сказать, дрожь пробирает его от макушки до скоростных подошв.
Урсула. В чем дело?
Велосипедист. У нашей семьи фамилия — Фофаноффи…
Урсула. Мне наплевать на ваши чертовы русско-эфиопские связи, понял? Единственное, что мне от тебя надо, это скорость доставки письма этому обормоту.
Велосипедист. Иес, мэм!
Теперь мы можем предложить читателям простенькую загадку: кто быстрей домчится от Джорджтауна до Лафайет-сквера — новенький с иголочки «Порше-Тарга» или подошвы потомка знаменитых с древних лет эфиопских посланцев?
Тэдди Фофаноффи, едва достигнув Лафайет-сквера, тут же увидел в юго-восточном его углу рядом с бронзовой фигурой генерала Костюшко не менее монументальную фигуру своего адресата. Профессионализм не позволил юнцу пуститься в генеалогические изыскания: он просто передал адресату послание и растворился в предвечерней голубизне. Таким образом, уникальная встреча двух родственных кланов не состоялась, и они отодвинулись друг от друга еще на одно тысячелетие.
Глава десятая
ВЕЧЕР РЕНЕССАНСА
Всякий знает площадь Лафайет-сквер как излюбленное место протестантов. Надеюсь, не будет бестактным сказать, что и бичам она нравится. Увы, иногда нелегко отличить одних от других. Политические лозунги не всегда помогают. Например, рядом с относительно небезумным требованием вывода Соединенных Штатов Америки с территории острова Манхэттен можно увидеть относительно несусветное: «Руки прочь от моей матери, Даниэля Ортеги!» У входа в парк, прямо напротив Белого дома, лежит в спальном мешке примечательный человек, профессор астрономии доктор Астрос Звездакис. Он держит не ограниченную во времени голодовку в поддержку своих собственных требований. Ну что ж, в сравнении с другими требованиями Лафайет-сквера Звездакиевские выглядят вполне умеренными: «Немедленное и полное разоружение Соединенных Штатов!» Многолетние исследования колец Юпитера привели ученого к заключению, что мир, потрясенный внезапной беззащитностью Америки, немедленно последует ее примеру и разоружится до последнего автомата Калашникова, который и будет выставлен в музее, как реликт варварской эры оружия.
Некоторые международные друзья астронома находили эти требования нереалистическими и увещевали его прекратить свое мученичество, однако другие друзья, особенно из Советского Комитета защиты мира, находили требования вполне реалистическими, советовали продолжать и с завидной регулярностью выражали астроному свои симпатии и поддержку. Советник Черночернов, например, никогда не упускал возможности заткнуть на ходу мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советского мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли ученый его дотацию или нашел силы выплюнуть.
В своем, еще не залатанном пиджаке «Орсон Уэллс» и неизменном шапокляке профессор Филларион Фофанофф уж никак не выглядел белой вороной среди завсегдатаев Лафайет-сквера. Нечего и говорить, все обитатели этого места его приветствовали, и он отнесся к ним как к «цветам Творца», каждый цветок со своим неповторимым лицом, разнообразием тряпья и уникальностью вони.
Женщина с дюжиной косиц в седых волосах, одетая в эскимосскую парку и обутая в вечерние туфли на высоких каблуках, приблизилась к нему, толкая перед собой каталку из супермаркета, доверху и сверх нагруженную ее личными вещами. Она обратилась к нему по-матерински:
— Что читаешь, киска?
Он поклонился в превосходном староарбатском стиле и показал ей обложку своего постоянного спутника, «Декамерона».
— Это Ренессанс, мадам. Должен признаться, что я всегда был основательно избалован инспирациями Ренессанса, мадам.
— Это ничего, — сказала Матушка Обескураж. — Больше читай, сынок, и люби книгу. Книги — источник знаний!
Она уселась на соседнюю скамью и вынула из своей тележки бумажный пакет с остатками изысканной еды, выданный ей в гриле аристократической гостиницы «Хэй Адамс». Затем она также вытащила банджо и стала попеременно использовать его то как обеденный стол, то как ритмический инструмент. Питание и пение, деликатное чавканье и мягкое нежное дребезжание голосовых связок задали тон всему этому позднему пополудню на Лафайет-сквере.
Ренессансный вечер, думал Филларион, наблюдая гирлянду розовых облачков над крышей Старой Конторы, где сидят все советники Президента. Вот вам послание из-за тысяч миль, из-за сотен лет.
Вскоре мы увидим, как неправильно интерпретировал он комбинацию полутонов и полузвуков этого вечера, и как мало нам следует доверять воображению тяжеловесных гуманитариев в их постоянных попытках убежать от реальности.
Тем временем два бомжа, Тэд и Чарльз, с их лицами, соответственно отражающими образы классической литературы и позитивно-радикальной социологии, подошли к матушке Обескураж и попросили у нее «есть и пить», то есть чего-нибудь пожевать.
Прекрасная дама немедленно разложила свои изыски перед скамьей. Удовлетворив себя гастрономически, Тэд и Чарльз адресовали к благодетельнице следующий вполне натуральный вопрос:
— Ну что, Полли, решила ты наконец, кого больше любишь? — Она прервала свое пение и залилась своим слегка похотливым смешком:
— Извините уж, мальчишки, но вы оба получили свою долю, а тут есть и неутоленно жаждущие…
Она хитровато глянула в восточном направлении, туда, где в тени генерала Костюшко стоял в романтической позе владелец бакалейной лавки господин Пу Соннн. Страстный дискант, исполняющий древнюю корейскую песню «Похороны белого тигра», возносился в деловые небеса Средней Атлантики, словно высокочувствительная биологическая спираль.
Бомжи застонали и заныли.
— Мы так петь не можем, Полли, но мы любим твои пальцы, любим, как ты расчесываешь свои волосы…
— Благодарю за великолепнейший квартет, — вмешался тут Филларион. — Как Боккаччо писал: «Любовь, дай мне восторгаться во имя Твое, дай мне от счастья сгореть в пламени Твоем…»
Он уже готов был открыть и свой собственный рот, чтобы снова воспеть свою собственную влюбленность, когда неизвестно откуда выпрыгнул вдруг советник Черночернов, беспокойный, возбужденный, дымящийся, истинный представитель «обожженного поколения». Он сжал кисть Филлариона и лихорадочно прошептал:
— Следуй за мной!
— О да, — вздохнул профессор. — Увы, Джованни был прав, говоря: «Тот, кто бесконечен, распорядился своим непреложным законом, что все земное должно завершаться концом…»
Ренессансный вечер закончился, современная ночь вступала в свои права.
Даже и в этот решающий момент нашего романа полковник, проходя мимо еле дышащего тела Астроса Звездакиса, не преминул втолкнуть несколько кубиков советского мясного бульона в увядающий рот идеалиста. За этой гуманитарной акцией последовал испепеляющий шепот прямо в ухо Филлариона: «Не оборачивайся!»
НОЧНОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Никому на свете не удалось бы выбрать менее подходящий момент для проникновения внутрь Яйца. Как только они приблизились к сфероиду, его главная апертура зазияла, и из нее в неоновом сиянии вышла кряжистая фигура шефа охраны Каспара Свингчэара.
— Привет, Касп, — промямлил Фил в замешательстве, — я тут привел британского коллегу, чтобы обсудить некоторые проблемы суффиксов.
— Валяйте, ребята, подрочите свои суффиксы, — сказал вдруг Каспар без своей обычной подозрительности и снисходительной мимики.
Он и сам выглядел несколько сконфуженно, однако «коллеги» этого не заметили, они были полностью погружены в свои собственные устремления.
Засим, леди и джентльмены, не откажите в любезности проверить свои часы. Итак, сейчас без двадцати пять, не так ли? Каблучки Урсулы Усрис щелкают вверх по ступеням гранитной лестницы Национальной художественной галереи, расположенной фактически через бульвар от Яйца. В этот как раз момент будет вполне уместным предать гласности записку, доставленную отпрыском мифических бегунов Веби-Шебели отпрыску знаменитых арбатских обжор и трепачей.
«Пробосцис, без четверти пять будьте в зале Рембрандта Национальной художественной галереи, обратите внимание на «Даму с веером из страусовых перьев». Не двигайтесь, пока к нам не обратятся. Ничего нет важнее этого. Ставки очень высоки. Жем. Лаг».
Она вошла в зал и огляделась. Если бы он знал хотя бы частичку того, что я знаю! Зал был пуст и навевал покой развешанными по стенам шедеврами фламандского гедониста: «Молодой человек в цилиндре», «Девушка со щеткой», «Старая дама, дремлющая над книгой», «Польский дворянин», «Дама с веером из страусовых перьев…» Как и следовало ожидать, его здесь не было, что за возмутительная личность! Мусоля в уме какой угодно вздор, он наверняка просто забыл о свидании, от которого так много зависит!
Первый оглушающий звонок прошел по всем залам и переходам национального
святилища — пятнадцать минут до закрытия. Филларион вошел в Рембрандтовский зал в сопровождении… О, боги Полинезии!.. в сопровождении Дамы с Веером из Страусовых Перьев. «Фил! — выкрикнула Урсула. — Не дотрагивайся до нее! Не давай ей до тебя дотрагиваться!»
Дама с Веером зловеще хихикнула и отскочила по направлению к «своей», так сказать, картине. Филларион протянул к Урсуле свои гигантские руки. «Урси, оглянись!» — его голос был как-то странно приглушен. Обнаружив себя в его нежных объятиях — что за отвратительная, старомодная, романтическая сцена! — она оглянулась и увидела всех персонажей знаменитых картин во плоти.
Болтая по-светски, то есть неразборчиво, Польский дворянин, Девушка со щеткой, Молодой человек в цилиндре и Старая дама, что обычно дремала над книгой, а теперь гримасничала над этой книгой, приближались к парочке. Ничего особенно угрожающего не было в этой скромной группе призраков, и тем не менее Урсула прошептала: «Нам конец, любимый мой!»
В следующий момент Филларион Ф. Фофанофф прыгнул к стене, как будто упругий, хорошо тренированный доберман-пинчер был заключен в массе его громоздкого тела — Дама с Веером испустила страннейший визг, — рванул на себя картину в ее бесценной раме. Немедленно после этого в галерее включились все сигналы тревоги, на мраморных полах воцарился хаос. Охваченные паникой посетители бросились врассыпную. Взводы музейной охраны сталкивались друг с другом и распадались в замешательстве. Вопли сотен сирен могли бы создать блестящую возможность для кражи не только «Дамы с веером», но, по крайней мере, дюжины не менее ценных объектов, если бы они не вызывали видения Армагеддона в умах потенциального жулья.
Теперь уже Урсула, как будто пришла ее очередь действовать, вылетела в середину зала, выпустила густой многоцветный дым из своих серег и сумочки, визжа и стеная, словно ирландский дух смерти. Мгновенно все призраки или полопались, как пузыри, или ускакали с грохотом в своих заказных башмаках. В любом случае, они исчезли в густом дыму.
…Урсула пришла в себя через десять минут в незнакомой машине, где пахло дорогой кожей. Ее голова лежала на мягких, черт побери, слишком мягких, коленях Филлариона. «Неужели ты действительно сказала ему «мой любимый»?» — произнес странно приглушенный голос. Мягкость колен раздражала ее. Она протянула руку, стараясь обнаружить что-нибудь потверже. Вместо искомого ее пальцы наткнулись на маленькую резиновую затычку на внутренней поверхности желеобразного бедра. «Где он?» — спросила она строго. «Он здесь, — сказал приглушенный голос. — Немного выше и чуть глубже. Не угодно ли?» Урсула схватила затычку. «Где Филларион Фофанофф, так же известный, как Пробосцис или Хобот?!» Она вытащила затычку… мощный свистящий выдох, сопровождаемый гнусными всплесками и всхлипами… через несколько секунд огромное тело опало… поистине отталкивающее зрелище… месиво влажных морщин, под которыми не без труда различались стройные формы спецагента Джеймса Доллархайда. В пупок ему уперся индонезийский непоколебимый клинок: «Где он?!»
Тем временем генерал Егоров, совсем в недурственном виде, во всяком случае обошлось без ожогов, оставил поле самоварной битвы и отправился по делам в город: надо было прокрутить парочку немаловажных дел. Сначала он взял такси до отеля «Вашингтон Хилтон», впечатляющего здания на Коннектикут-авеню, где возле служебного подъезда произошло одно из двух важнейших событий 1981 года: фальшивый Ромео стрелял в главу дома Капулетти. Генерал не мог вспомнить то мрачное утро без судорог в левой икроножной мышце: либеральная суть его натуры категорически не одобряла подобных дикарских действий.
Пройдя в величественный туалет отеля, Егоров скрылся в третьей кабинке слева и вновь появился из второй кабинки справа. На нем была его излюбленная маскировка, облик отставного почтенного негра, то ли бывшего метрдотеля, то ли управляющего супермаркетом. Эта роль казалась ему воплощением здравого смысла и социальной гармонии.
Он вышел из отеля и проследовал к Треугольнику Калорама, где, на перекрестке с семью углами, перед магазином 7 — 11, ждал его среднего калибра пудель, привязанный к фонарному столбу. Не без теплого чувства генерал подумал о своем шофере Петрухе: на этого парня можно положиться, хороший солдат, хотя и стоит проверить еще раз его китайские знакомства. Завершив маскарад при помощи дружелюбного зверя, Егоров медленно двинулся вниз по Вайоминг-авеню.
Ну можно ли вообразить себе более мирную картину — пожилой отставной дворецкий, прогуливающий среднего размера пуделя в квартале «среднего класса»? Кто может подумать, что этот человек является великим мастером шпионажа, и что истинная цель его прогулки — сбор угрожающей информации, суть которой может перевернуть вверх ногами этот город и даже поставить под угрозу всю человеческую цивилизацию?
«…Пропал кот… ухоженный, интеллигентный…», «…убежала ручная ласка…», «…прошу помощи, мой единственный собеседник, какаду Джордж, растворился в воздухе…», «Мистер Уилли Тёкер, датский дог, исключительно гордый и немного капризный (ест теннисные мячи), покинул дом после ссоры…»
Невинный зевака вряд ли нашел бы в этих посланиях что-либо большее, чем отчаянные попытки спасения тех малых душ, человеческих любимцев, о которых так проникновенно писал философ Николай Бердяев. Что же касается генерала Егорова, он расшифровывал их медленно, как неукоснительный вызов, полное отвержение субординации и недвусмысленную угрозу. Сняв четыре листка посланий с древесных стволов, генерал прикнопил свою шифровку к симпатичному каштану. Она гласила: «Найден чистопородный мопс, неуправляемый и дикий. Если в течение двух дней не будет взят хозяином (подтверждений не требуется), подлежит отправке на остров Калимантан для специальной тренировки».
Это было не чем иным, как последним предупреждением неуловимому Зеро-Зет. Отныне все переговоры посредством собачьих объявлений и пятен на ветровых стеклах машины прекращаются. Если требования генерала не будут приняты, война не на жизнь, а на смерть развернется по всему фронту.
Несмотря на напряжение, вызванное приближающейся битвой с таинственным Зеро-Зет, генерал с облегчением выдохнул скопившиеся пары аджики: по крайней мере, на сегодняшний вечер он восстановил чувство непреложности и определенности, которое обычно выражалось его любимой формулой: «Порядок в танковых войсках!» Теперь осталось только одно вполне заурядное и скучное дело: пробуждение крота после сорока лет невозмутимой спячки.
Егоров не знал, кем был этот «спящий крот», и это его не очень-то беспокоило. Он знал только место встречи и пароль. Некий индивидуум подойдет к нему (не исключено, что и на кресле-каталке подъедет) возле скульптуры динозавра, перед музеем естественной истории, и произнесет фразу: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам». Вслед за этим сукин сын (а может быть, и дочь) будет
«реактивирован» еще на сорок лет спячки. Никакого смысла не видел генерал в этом паршивом деле реактивации. Елки-гребалки, после целой жизни в полном забвении эти «кроты» фактически превращаются в бесполезный мусор. Ему уже приходилось несколько раз реактивировать, и все без малейшей пользы. Как правило, «кроты» начинают ныть и умоляют оставить их в покое, а то и угрожают настучать в ФБР. А что они могут сделать для школы? Завербованные давным-давно, за мизерную сумму чистогана, или пойманные на так называемой аморалке, которая, по нынешним-то стандартам, не помешает даже кандидатам в президенты, эти люди сделали свои жалкие карьеры как банковские кассиры, или бакалейщики, или, в лучшем случае, сторожа в Музее восковых фигур. Ни один из них на самом деле не оправдал ожиданий школы. В течение всех своих жизней они влачили смутные воспоминания о какой-то допотопной вербовке, подавленное чувство вины сродни скрытой венерической болезни — и уж, конечно, никаких обязательств перед школой.
Будучи исключительно преданным профессии офицером, генерал Егоров был весьма критически настроен по отношению к своему руководству в Хранилище. Уж он-то точно знал, что так называемые реактивации — это не что иное, как бюрократическая игра, просто вопрос расстановки новых галочек и перестановки покрытых пылью папок; потому-то он и отправился сейчас на свидание возле динозавра, которого часто туристы принимали за самку буйвола, даже без профессионального любопытства.
Гош! Как раз в тот момент, когда он уселся на скамье, впечатляющая грушевидная фигура появилась в поле зрения; связки ключей, наручники, уоки-токи, пистолет и дубинка побрякивали на широких бедрах, мрачное выражение, как занавес провинциального театра, висело на лице — шеф охраны Каспар Свингчэар собственной персоной.
Несмотря на то, что генерал Егоров испытывал некоторое чувство родства с этим человеком своего поколения, он категорически не одобрял его манер грубияна и хама. Один-единственный раз — видит Бог! — школа попыталась взять его на крючок и была отвергнута с возмутительной, просто гомерической яростью и даже с поползновением к физическому оскорблению посланца школы, дамы, приятной во всех отношениях. «Надеюсь, он не сорвет моего рандеву, — подумал Егоров. — Давай, Касп, вали мимо, занимайся своим разгребанным дедом». Шеф охраны Тройного Эл остановился, облокотился на круглый бок динозавра, закурил дешевую сигару, посмотрел на часы и хрипло произнес, не обращаясь ни к черному джентльмену на скамье, ни к предмету, на который опирался; иначе говоря, обращаясь к просто и быстро приближающейся ночи, к Ночи головокружения: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам…» Тем временем два новообретенных товарища по оружию, Фил и Дотти, сидели в одном из кабинетов библиотеки, во внутренней сфере Яйца, то есть в самом Желтке. Никто не заметил их, когда они шли через лабиринт современного интерьера, однако как только они уселись перед компьютером, в комнату заглянула жрица храма Филиситата Хиерарчикос и осведомилась, не нужна ли джентльменам какая-нибудь помощь. Довольно холодно отворачиваясь от ненадежного Пробосциса, очаровательная дама делала глазки новичку; такой мужланище, экий дивный балканский тип! С восторгом она убедилась, что не ошиблась в догадке: мужчина представился как хорватский коллега, который приехал, чтобы подработать свою фундаментальную теорию славянских суффиксов и префиксов. Они смотрели друг на друга, красноречиво улыбаясь. «Остаться ли мне с ним или уйти, заинтриговав?» — думала Филиситата. «Каким образом от нее лучше избавиться, — думал полковник. — Может быть, применить к ней Растительное Масло или просто по-быстрому пистончик сбросить?»
— Весьма сожалею, — вздохнула она. — Я должна идти… ах, какое совпадение… у меня сегодня свидание в сербском ресторане «Шибица», но завтра, профессор, я буду счастлива возобновить наше знакомство самым вдохновляющим образом.
Затем она покинула кабинет, не подозревая о потерянных возможностях. Полковник же подумал не без горечи: «Видела меня, по меньшей мере, сто раз на разных приемах и совершенно не узнала. Ну и людишки, ничего не могут ни вспомнить, ни распознать, если только профессионал применяет легчайшую, дурацкую маскировку».
Филларион включил «Макинтош» и углубился в бездонные, компьютеризированные анналы библиотеки Тройного Эл. Полковник косился на него с усмешкой. «Какое похвальное усердие! Впервые вижу, чтобы вновь посвященный коллега работал с таким энтузиазмом!»
— Дотти, — прошептал Фил. — То, что мы сейчас делаем, это что, действительно имеет отношение к международному шпионажу?
— Иес, сэр, — сухо ответил полковник. — Вряд ли можно найти лучшее определение этой работы.
— Как интересно, — сказал Фофанофф. — Предвещаю эту ночь, ночь международного шпионажа, головокружения, Ночь вертижжио…
— Вертижжио? Что ты имеешь в виду? Ночь вертижжио?
— Взгляните на экран, — по какой-то неясной ему самому причине Фил старался приглушить свой голос. — Мне не удается выйти ни на досье, ни даже на главное меню… Минутку… То, что я вижу там, сэр, кружит мне голову… Простите, но все мои пять конечностей немеют от ужаса…
Следующий момент, с его свирепой неотвратимостью, швырнул обоих на грань полного ступора. Однако перед тем, как погрузиться глубже в Ночь вертижжио, мы должны, пожалуй, сделать один значительный объезд, чтобы вернуть на страницы группу весьма милых персонажей, совершенно незаслуженно забытых на столь долгое время.
Ну, конечно же, повествование о знаменитом Вашингтонском институте уже достаточно созрело, чтобы можно было себе позволить лирическое отступление в жизнь его президента достопочтенного Генри Трастайма. Позвольте мне напомнить вам, благородный и терпеливый читатель, что мы оставили профессора Трастайма пару месяцев, то есть сотню страниц, назад в самом разгаре его ошеломляющего побега из академической общины на Надветренные острова. Что же случилось с ним с тех пор? Вернулся ли он к своей семье, на мощеную кирпичом Думбартон-стрит в сердце тенистого Джорджтауна? Возобновил ли он свое, всегда плодотворное руководство исследованиями и мыслительным процессом Тройного Эл? Или уехал он в свой родной Массачусетс, чтобы уточнить расписание избирательной кампании?
Ничего подобного не случилось. Вместо всей этой поистине похвальной общественной деятельности Генри снял квартирку с одной спальней на углу улиц Сесили и Грэйс, над желеобразными водами старинного канала, чтобы жить там с девушкой своей мечты, Ленкой Щевич, и, следуя советам своего друга, пустился в эксперименты с левитацией, то есть с определением силы земного притяжения.
Его отсутствие уже начинало беспокоить соклубников из престижного «Космоса», однако госпожа профессорша, Джоселин, не выказывала никаких признаков тревоги во время своих регулярных велосипедных прогулок под эскортом стопроцентного, утонченного мистера Ясноатаманского (надеюсь, что вы еще помните чикагский прачечный автомат «Оптимистическая трагедия»). «Да куда же, черт возьми, запропал Генри? — обычно спрашивали соседи по Думбартон-стрит, которых можно было бы вполне считать тоже членами одного клуба или даже спортивной команды. — Он в порядке, или как?»
Джоселин обычно отмахивалась от вопросов и улыбалась своей неповторимой, как бы увядающей улыбкой. «Ну, что вы так выпытываете, ребята? С Генри все в порядке. Любой путник должен пересечь изрезанное плато в ходе своей жизни». Она отмахивалась немного более энергично, когда ближайшая соседка Молли Кволифакс интересовалась, не завела ли она себе любовника в лице своего постоянного спутника по велосипедным прогулкам. «Пшоу, Молли! Где твое чувство сострадания? Мистер Ясноатаманский проходит в данный момент через суровый кризис общественного статуса. Ведь он же был знаменитым драматургом московского театра, он написал нашумевшую пьесу «Ленинский Треугольник»…» Между тем пытливые соседи, прогуливаясь мимо витрин на улице Эм, то есть Матримониал-стрит, легко могли натолкнуться (и иногда наталкивались) на долговязого джентльмена неопределенного возраста, с кустистыми рыжими усами и пышными пегими бровями. Никто не узнавал в этом лохматом господине Генри Трастайма, и не только из-за его простенькой маскировки или недостатка собственной наблюдательности, свойственной, вообще-то, современному человечеству, но в основном оттого, что внимание каждого мгновенно отвлекалось от него к его компаньонке.
Ну и дева! Она была, мягко говоря, не слишком молода и не ахти как цветуща. О, да, цвет ее лица отражал следы то ли дурного питания, то ли распутства. Движения ее угловатого тела с жеманной неуклюжестью в целом выдавали низкое воспитание, но… — елки! — что за истома сквозила во всех этих движениях, кого могла не покорить эта полнейшая беззащитность, сочащаяся из каждой клетки худенького создания, эта, давайте говорить прямо, вечная готовность к самоотдаче? И она самоотдавалась своему другу снова и снова, они буквально грызли друг друга все ночи напролет и добрую часть дневного времени. «О небеса! — думал достопочтенный Генри Трастайм, — что я делал без нее последние двадцать лет? Ну, конечно, я любил Джоселин, милую маму моих милых детей, но — о небеса! — что я делал последние двадцать лет без этой великодушной шлюхи?» Ближайший к нему член его клуба тем временем не задавал никаких вопросов о прошлом, полностью поглощенный своей ролью в этом эротическом урагане.
Как-то ночью, входя в девятый виток своей обычной спирали, они почувствовали, что потеряли чувство земного притяжения. Скрещенье рук, скрещенье ног, судеб скрещенье, невесомость, момент истины, момент признаний.
— Друг мой, — шепнула мисс Щевич, — я польский агент.
Откровение не приостановило славного воспарения. Напротив, оно добавило еще один виток, который поднял их поиск гармонии прямо к потолку. Крики экстаза привлекли внимание команды южных репортеров, которая наугад прочесывала столицу в поисках сенсации. Они остановили под окнами свой микроавтобус и погрузились в терпеливое тупое наблюдение. Падая с потолка, пара, к счастью, не промазала мимо постели. Сладкое изнеможение, пальчики, пальчики, щипок за щипком, перестройка чувств… «Ах, лапуля, ну как ты мог предположить, что я работаю на эту противную хунту Ярузельского? Ну, разумеется, я тайный агент — Солидарности…»
— Как чудно! — Трастайм, который всегда гордился тем, что никому никогда не удавалось склонить его к сотрудничеству с какими-либо неприличными службами, сиял: его девочка, его «палома», как он ее иной раз называл, работает на благородную инфраструктуру, а не на подлую суперструктуру! Не без очаровательной живости и с огоньком в глазах она признавалась в содеянном.
Однажды ночью в Чикаго Ленка и Ясноатаманский стали верными сторонниками дела Солидарности, а именно ее подпольной издательской деятельности. Ты можешь себе представить, Сакси, — о эта неповторимая выразительность подсобной труппы МХАТа! — этим храбрым людям самим приходилось делать себе бумагу — я имею в виду бумагу как субстанцию — самим! Они варили бумажную пульпу из всего, что было у них под рукой — учебники ли партпросвещения, чучела с частных ли огородов, предметы ли интимного использования — выброшенные трусики, порванные чулочки, сильно поврежденные лифчики, заклинившиеся «молнии» и тому подобное, все, что можно использовать. Мы оба, Ясноатаманский и я, преисполнились сострадания к этим печатникам, мы не могли не откликнуться на страстный призыв их представителя стать членами их секретного подразделения…
— А нельзя ли поподробней об этом страстном посланнике? — спросил Генри подозрительно.
Она не могла чуточку не покраснеть.
— О, фактически он был типичным пророком пассивного сопротивления! — Генри задрожал от ревности. Она опустила ресницы — что за юная грешница, что за лживое раскаяние…
— Ну и что, он обладал силой убеждения?
По лицу ее скользнуло выражение благочестивого уважения:
— О да, огромная сила убеждения!
Нет сильнее афродизьяка, чем приступ ревности. Мгновенно, или по-французски тут де суит, запущено было еще одно спиральное вознесение, вошедшее, разумеется, в славные анналы улиц Сесили и Грэйс.
— Слушайте, ребята, — сказал один южный журналист своим коллегам, — а не напоминает ли вам мужской голос сенатора Гэри Харта?
Еще раз опустившись с потолка на кровать, пара пустилась в следующий тур исповедей: теперь была очередь Генри. Ленка пришла в полный восторг от истории его вербовки на мирных берегах Женевского озера.
— Швейцария — это ядро западной цивилизации, моя морковка! Как это чудесно — быть агентами двух благороднейших служб в мире! Теперь мне легче попросить тебя о срочной помощи.
— Что за срочная помощь?
— О, ничего не может быть легче, мой сладкий бананчик! Профсоюзники Быдгощского месткома недавно обнаружили, что Либеральная лига Линкольна обладает дневником Достоевского, в котором содержатся уничтожающие замечания по поводу марксизма. Они запаслись бумагой, чтобы опубликовать это как можно быстрее, чтобы им не воспользовались и не извратили бы сути все эти Ярузельские, Чаушески, Наджибуллы, Ким Ир Сены, ну, в общем вся эта компания… Иными словами, ради нашей юной и еще нерешительной Перестройки…
— Однако, как же они, Бога ради, узнали, что у тебя есть доступ ко мне, вернее, у меня есть доступ к тебе, кремовая моя карамелька?
— Я все тебе расскажу, мой папа-баклажанчик. Наша система коммуникаций, конечно, не на уровне мировых стандартов, но все-таки довольно надежна. Коротко говоря, мы используем почтовых голубей…
— Ага, значит, та эротическая птичка на нашем подоконнике прошлой ночью была не продуктом моего воображения, а скорее идеологическим диверсантом, не так ли? О’кей, моя цветущая агава, давай отправимся в Яйцо и возьмем текст, который ты так скромненько жаждешь. В соответствии с нашей общей концепцией гуманитарного либерализма мы не засекречиваем никаких наших текстов, так что ничего не может быть проще!
О да, это была ночь головокружений, которая вполне заслуженно захватила внимание читателей южных газет на следующее утро. В тот самый момент, когда пара любовников, не вполне безукоризненно одетых (скажем лишь, что он завернул свои костлявые плечи в ее шаль, а она облачилась в его смокинг и в желтые резиновые сапоги на босу ногу), появилась на углу Сесили и Грэйс, репортеры бросились к ним, жадно щелкая камерами и крича: «Мистер Трастайм, сэр, считаете ли вы, что выбранные члены правительства имеют право на свою порцию сладкой жизни?!»
Генри, хоть и завернутый в цыганскую шаль, являл собой воплощенное достоинство. «Я не уронил ни своих личных моральных стандартов, ни основных ценностей Западной цивилизации, джентльмены!»
Полная луна. Группа голубей вперемежку с ястребами взмывают над вашингтонским Левобережьем. Парочка цапель с изяществом украшает перила моста Кей. «Водитель, быстро к Яйцу!» «Иес, сэр!» Сквозь гусарские усы таксист насвистывал польскую песенку «Пестрые кибитки».
ВАКХАНАЛИЯ МОНСТРОВ
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
Шепот полковника был направлен прямо в мохнатое ухо профессора:
— Мы выполним свое задание в три этапа. Во-первых, сделаем копию всего дневника, страницу за страницей. Во-вторых, сотрем это досье, то есть изымем его из памяти компьютера, чтобы единственная копия в мире осталась за нами. В-третьих, экспроприируем оригинал нашего национального сокровища из чужой библиотеки или… ну, ладно?… остальное не в вашей компетенции…
Он ободряюще похлопал Фила по плечу, напоминающему скат кита:
— В случае успеха вам присвоят звание Героя Советского Союза. Понял?
В ответ послышалось дикое высоковольтное чириканье, как бы издевательски повторяющее довольно торжественные инструкции полковника: «Зада-зада-зада… ицей-ицей-ицей… про-прии-проприи-проприи… птени-птени-птени…» Что за абракадабра?!
— Что за детская безответственность, Филларион, да еще в ходе такой деликатной операции? Чего это ты вздумал чирикать как фантом?
— Это и есть фантом, — еле слышно проговорил профессор Фофанофф. — Посмотрите на экран, Дотти!
Из обычного макинтошного монитора необычное существо (или устройство?) взирало на них с бессмысленной насмешкой. Это была своего рода птица сродни дрозду, однако с осьминогиными конечностями, стрекозиными крыльями и акульим отверстием вместо клюва.
С первого взгляда было понятно, что это дьявольски сложная структура и что она — в этом-то и была наивысшая угроза! — с дьявольской скоростью калькулирует все входящие и исходящие данные для определения лучшего способа нанести сокрушающий удар.
Здесь мы снова должны отдать должное черночерновской альма матер в поселке Растительное Масло: студенты этой школы были великолепно подготовлены к любому неожиданному извиву капиталистической действительности. Со скоростью суперпроводника Дотти подсчитал все средства обороны, которыми обладал в данный момент — a y него, разумеется, было их немало — и потом, на вершине вычислительного процесса, выбрал лучшее из всех возможных — упал на пол! Филларион, хоть и новичок в этом деле, почти мгновенно последовал его примеру. В следующее мгновение непостижимый «дрозд», испуская серию ошеломляющих вспышек, вылетел из монитора. Верхние части двух стульев были мгновенно испепелены. Проницательный читатель может легко предположить, что подобная участь постигла бы и верхние части наших героев, если бы они хоть немного замешкались. К счастью для нашего романа, который в любом случае должен быть грациозно завершен, Шварценеггер и Пробосцис благополучно выползали из комнаты, тогда как исчадие электроники (или метафизики?), это дроздовидное, среднего размера чудовище остановилось в воздухе, скрежеща чем-то от разочарования. Естественно, ни полковник, ни профессор ие могли видеть, что монстр уронил нечто, похожее на крохотный флакончик. Это могло, конечно, быть просто побочным продуктом чудовищного огорчения, хотя, с другой стороны, вполне могло содержать и отравляющую субстанцию. Нельзя, впрочем, исключить и комбинации обеих версий. В любом случае, человеческий гений вновь превзошел дикую двусмысленность электроники и обстоятельств.
Избежав этой фатальной конфронтации, советник Черночернов и наш буревестник Перестройки теперь катились вниз по лестницам в сторону обширной внутренней сферы Яйца. То здесь, то там сквозь разные апертуры открывались некоторые многозначительные комбинации звезд и планет, иногда полная луна мигала в шахтах, будто вспышка космического фотографа. Вдруг, непонятно почему, заработали все эскалаторы, лифты и пружинистые трамплины в здании. Помещения, еще пять минут назад преисполненные усыпляющего спокойствия, вдруг огласились множественным эхом. Неузнаваемые голоса реверберировали, отражаясь от капризно изогнутых модернистских поверхностей. В какой-то момент перед Филларионом промелькнул его молодой друг Джим Доллархайд, в стиле Джеймса Бонда держащий пистолет обеими руками. Потом чешуйчатый продолговатый объект (или субъект), освещенный трубочными лампами, прошел через внутреннюю сферу и исчез. Момент спустя Филларион увидел старого Каспара Свингчэара в его обычной позе с уоки-токи у рта, но вниз головой (или это сам Филларион катился вопреки законам притяжения вдоль потолка?), а сразу после этого или одновременно из-за какого-то поворота, словно с американских гор, скатился почтенный пожилой негр со странно русским — «Мама, роди меня назад!» — выражением на лице… а потом… боги!.. любовь моя незавершенная, длинноногая Урсула Усрис пролетела и вылетела, завихряясь будто в неудержимом реактивном потоке… а потом этот таинственный японский коллега возник, повизгивая и пытаясь увильнуть от мощных охотничьих прыжков многоцветной гусеницы, а затем… Однако простите, где же в эти моменты был филларионовский товарищ по оружию, доблестный рыцарь российского трона и несгибаемый борец за социализм? Ну, что ж, извольте насладиться зрелищем — полковник, лежа на спине, вращался вокруг своей оси, словно молодой чемпион на соревнованиях по танцам брэйк. Затем внезапно все остановилось, роман обрел чувство равновесия и все наши персонажи оказались стоящими вокруг овального стола. Не без удивления они смотрели друг на друга — президент Трастайм в цыганской шали, его подружка мисс Щевич в президентском смокинге, спецагент Джеймс Доллархайд в костюме-тройке, располосованном на пять частей, доктор Татуйя Хуссако, вернувшийся от борьбы за жизнь к состоянию своего перманентного хихиканья, невозмутимая академическая красотка Урсула Усрис в ее излюбленной позиции фехтовальщицы, проверяющей кончик невидимой шпаги, молодой космополит Карлос Пэтси Хаммарбургеро, полирующий свои ноготки и беззаботно насвистывающий «Подмосковные вечера», облаченные в вельвет социофилософ Ипполит Абажур и его левобережная супруга, предположительно женского пола; наш гигантский посланец доброй воли Фил Фофанофф, который выглядел бы точь-в-точь как Пьер Безухов после Бородинской битвы, если бы не оранжевый спасательный жилет с лодочной станции Флетчера, все еще притороченный к его левому плечу; присутствовали также советник Черночернов, чьей первой реакцией после восстановления равновесия была проверка запаса его визитных карточек, а также добродушный черный джентльмен с всепонимающей улыбкой на красиво очерченных губах — дипломат? Знаток кухни Старого Мира? Ну, и, наконец, шеф охраны всей окружающей среды Каспар Свингчэар, чье брюхо после победоносной борьбы с поясом и пуговицами теперь лежало на краю стола.
— Привет, ребята! Что вас всех привело сюда, в этот предположительно пустой храм позитивного знания в неслужебное время? — мягко спросил достопочтенный ГТТ.
Свингчэар ударил кулаком по столу и гулко сказал:
— Во имя всеобщего благосостояния требую, чтобы каждый вывернул карманы наизнанку!
Может показаться странным, но все немедленно выполнили его требование. С вывернутыми карманами они обменивались смутными улыбками и светскими комплиментами: «…Рад вас видеть… Хорошо выглядите… С удовольствием прочел вашу статью…» и т. д.
Мадемуазель Хиерарчикос, которая вроде бы в это время должна была быть на свидании, вошла в комнату (если так можно сказать о внутренней сфере Яйца), толкая перед собой тележку, загруженную бутылками шерри и порта. Вскоре импровизированная вечеринка потекла веселее. Президент Трастайм представил коллегам своего нового ассистента, мисс Ленку Ясноатаманскую-Щевич, с помощью которой он надеялся продвинуть вперед свой слегка увязший проект по исследованию скрытых ресурсов творческого начала. Касп Свингчэар подтолкнул вперед скромного черного джентльмена, сказав, что вот внезапно натолкнулся на кореша по траншеям Корейской войны, где они выбили порядочно дерьма из «комисов» и «гуков». Урсула Усрис сделала выпад невидимой рапирой и запустила неясное высказывание, напоминающее фехтовальную атаку в неопределенном направлении: «Иные особы постоянно переживают значение ценностей Ренессанса, а между тем не могут даже приобщиться к наследию Рембрандта!» Спецагент Доллархайд задохнулся от любви и горько пожалел, что атака пошла не в его сторону. Моменты, летящие над овальным столом для шерри, были заряжены огромным количеством электричества. Под тонкой пленкой светской учтивости шипело варево эмоций: неудовлетворенная страсть и неудержимая ревность, чувство долга и дерзкое пренебрежение им, даже отчасти и коварство, не говоря уже о злокозненности.
Опустошив бутыль «Бристольских сливок» в лучшем стиле Кривоарбатского переулка, то есть «из горла», Филларион уже готовился сделать коллеге Усрис предложение прокатиться на Дикэйтор-стрит для дальнейшего гуманитарного сотрудничества, когда поток его мыслей и эмоций (или наоборот) был прерван взрывом горького театрального хохота неподалеку.
Все обернулись к источнику этого драматического излияния в стиле старорусского серьезного театра: это был Карлос Пэтси Хаммарбургеро. Бледный и напряженный молодой человек стоял со стаканом шерри в вытянутой руке. Лихорадочным взором он впивался в лицо-маску мадам Абажур. Отхохотавшись, он возгласил:
— Дамы и господа, давайте выпьем за матерей! За тех женщин, что зачали своих детей в ночи дебоша, в гнусных дешевых мотелях затем, чтобы бросить их потом, как и кошка не поступает со своим пометом! Давайте выпьем за тех зародышей, которые благодаря небрежности своих матерей избежали аборта, чтобы стать затоваренным излишком человечества! И еще раз поднимем бокалы за тех матерей, что забыли о своем природном долге ради погони за современным тщеславием!
— О, мой бедный беби! — вскричал тут пронзительно женский голос, однако никто из присутствующих не успел определить, был ли это на самом деле голос мадам Абажур, потому что вопль был заглушён адским, теперь уже отнюдь не театральным хохотом сверху.
Три чудовища среднего размера висели в воздухе прямо над головами людей, «гусеница», «селедка» и «дрозд». Не имея никаких органов хохота, они хохотали. Бессмысленная насмешка и безотчетная злоба слышались в полуметаллических, хотя и явно плотоядных голосах этого трио, появившегося, наконец, в полном составе в Желтке Яйца.
Минуту или две все присутствующие пребывали в ступоре. Потом один из наиболее тренированных индивидуумов, а именно генерал Егоров, он же ветеран Тимоти Инглиш, закурил сигару.
— Ваши птички, генерал? — тихо спросил его другой хорошо тренированный индивидуум, а именно спецагент Доллархайд.
— Хотел бы я, чтоб они были мои, спецагент, — Егоров несколько устало улыбнулся. — К несчастью, на данный момент у меня нет ни малейшего представления, как избавиться от проклятых тварей. Так что, Джим, если переживем эту ночь…
Монстры внезапно оборвали хохот и начали молчаливое угрожающее вращенье над столом. Похоже было, что приближается неизбежное злодеяние. В течение следующих нескольких секунд слышалось только биение сердец. Отдавая должное участникам мужского пола, мы должны сказать, что иные из них сделали импульсивные движения, направленные к защите участников женского пола. Предоставляем читателю догадаться, кто защищал кого, а также в каких случаях эти благородные попытки завершились мощными ударами защищаемых персон по животам защитников. Внезапно, не причинив никакого вреда, монстры прекратили вращение и со скоростью телевизионных мультяшек просвистели через овал внутренней сферы в главную апертуру библиотеки. Грозный голос прогрохотал: «Не допущу никаких нарушений в системе безопасности!» Это был, разумеется, старый Касп. В момент наивысшего кощунства, когда монстры среднего размера, эти злые духи, решили посягнуть на святая святых, он отшвырнул в сторону свое сомнительное, мягко говоря, прошлое и все тайнички своей жизни и вернулся к берегам своей сути, а именно к обеспечению безопасности «этого тухлого Яйца». В мгновение ока он вытащил из своего всегда внушительного арсенала два атакующих объекта и бросился к библиотеке, дубинка в левой руке, пистолет в правой. Он исчез на мгновение, а в следующее мгновение его бездыханное и изуродованное тело было выброшено обратно и грохнулось на тот уровень, где наши персонажи стояли неподвижно с открытыми ртами. Впрочем, минутой позже неуклюжая эта и, пожалуй, пародийная трагедия вызвала абсолютно необъяснимый взрыв эмоций. Молодой Пэтси и старая мадам Абажур вскричали в острой тоске, упали на колени и соединили свои руки над мертвым телом, профузно рыдая и слегка корчась в конвульсиях.
Позже, во время обследования, патологоанатом секретной службы США майор Нэвэрно выразил убеждение, что урон, причиненный бренному телу Каспара Свингчэара, был результатом детально разработанных садистических пыток и уж никак не в течение одной секунды. Два или три часа, джентльмены, не менее того. Это заключение привело некоторых экспертов к предположению, что монстры среднего размера явились из другого измерения, где время не считается.
Вскоре после совершения злодеяния (было ли это на самом деле «вскоре после»?) сатанинский хохот возобновился во внутренней сфере Яйца. Трио вылетело из библиотеки. На этот раз все три твари, похоже, находились в состоянии полного экстаза: они производили шутливые сальто-мортале, рывки вибрации и даже некие чопорные взлеты сродни тем, чем славятся «голуби мира» над стадионом Ленина в Москве во время интернациональных шествий.
Какого черта им понадобилось в библиотеке, думал Джим Доллархайд. Его глаза следили за своенравными трионами, правая его рука, просто на всякий случай, располагалась под левой подмышкой. И почему они сейчас-то так радуются? Вряд ли бедняга Касп был их главной мишенью. И наконец, кроме всего прочего, с какого фера вся эта чудная компания тут собралась среди ночи?
В этом пункте нам следует добавить к нашему сказу еще одну торжественную нотку: третьего дня электронная охота привела Джима к удивительному открытию — истинным владельцем клуба верховой езды в Вирджинии оказался не кто иной, как Каспар Свингчэар.
— Ни в коем случае не пользуйтесь огнестрельным оружием, спецагент, — шепнул ему прямо в ухо фальшивый Тимоти Инглиш.
Джим пожал плечами:
— Как же еще мы сможем защититься от этой чертовщины?
Генерал усмехнулся:
— Мой опыт намекает мне, что надо полагаться исключительно на силу мускулов.
Немедленно после того, как эта фраза была произнесена, монстры среднего размера, как будто подслушавшие ее и по каким-то причинам испуганные возможным применением мускульной силы, в плотном строю, один за другим высвистелись вон из Яйца в неизвестном направлении.
Ночь головокружения завершалась, хотя равновесие было далеко еще не полностью восстановлено. Контур городских крыш все еще подрагивал в тот час, когда молодой Доллархайд и ветеран Егоров вышли вдвоем на пустынную Пенсильвания-авеню.
— Все-таки любопытно, кого следовало бы привлечь к ответственности за спуск с поводка этих, ей-ей, не очень-то приятных штучек, — сказал Джим, вовсю демонстрируя англо-саксонскую сдержанность.
Егоров покосился на своего сдержанного англо-саксонского собеседника не без симпатии и одобрения. Молодой специалист напомнил ему его собственный дебют в качестве канадского служащего на сельскохозяйственном предприятии в Шри Ланке.
— Ну, Джим, вообще-то это, конечно, частично наша вина, и мы в некотором смысле отвечаем за то, что потеряли контроль над одной проклятой штукой, которая оснащена этими фантомами. Вы, возможно, знаете, что мы сейчас находимся в процессе переосмысливания всей системы, ну, и разведка — не исключение. Наша служба должна быть решительно очищена от застоя, формализма, небрежности, бахвальства, принимания желаемого за действительность. Так что мы охотно признаем наши огрехи, наши несовершенства, хотя в данном отдельном случае мы не может исключить, что и кто-то еще виноват, не только мы. Это не Чернобыль, мой друг, хотя осадки могут быть еще и хуже.
Проблема состоит в том, что одна суперструктура, которая должна была работать на нас (вы, конечно, понимаете, что я не могу на этот счет распространяться) вышла в свет с серьезным дефектом в самой сути своей задумки, и однажды эту штуку (верьте не верьте, но я не имею понятия о ее внешней форме), охватило что-то вроде наполеоновского комплекса.
С тех пор она отказывается принимать команды, по собственной прихоти заводит какие-то странные контакты с другими школами, расположенными в Вашингтоне, и выкидывает непредсказуемые и временами дикие трюки без какой-либо определенной цели… Хочу вам сказать, приятель, одну вещь, которая дико прозвучит в устах хорошо подкованного коммуниста-материалиста… Мне кажется, что суперструктура имеет доступ к иным эзотерическим измерениям…
К моменту этого признания они остановились на углу Пенсильвании и Десятой, у подножия гигантского чудища штаб-квартиры ФБР, этого шедевра антиутопических декораций размером с целый квартал. Егоров ухватил Доллархайда за жилетную пуговицу: неисправимая привычка старороссийской интеллигенции — откручивать у собеседника жилетную пуговицу.
— Короче, мой мальчик, мы снова оказались в одной лодке. Я вижу, ты ухмыляешься, но иногда бывает так, что старый вздор насчет одной лодки оказывается реальностью. Я хочу посоветовать вашему руководству, особенно доктору Хоб-Готлибу и старагенту д’Аваланшу, чтобы вам было разрешено сотрудничать напрямую со мной для выявления и изоляции опасной суперструктуры…
Джим почувствовал себя почти убаюканным мягким умиротворяющим голосом человека, чье самообладание, очевидно, возникло не вследствие англо-саксонских генов, но было выработано тщательной подготовкой и годами преданной службы. Ну, что за приятный пожилой малый; уж не собирается ли он пригласить меня на шикарный ужин с последующим завтраком? Славный хлопчик, думал Егоров. Ну, почему мы не можем просто стать друзьями или… хм… любовниками? Уж эта говенная война двух миров! Почему я неизбежно взвешиваю шанс, как бы его вербануть, вместо того, чтобы просто приготовить хороший густой борщ?
Он хорошо, по-солдатски пожал Джиму руку: товарищи по оружию!
— Позвольте, старина, мне сказать, что я чрезвычайно впечатлен стилем вашей работы!
— Не могу не вернуть вам этот комплимент, генерал, — сказал Джим. — Вам даже знакомы имена моих непосредственных руководителей. Это удивительно, тем более что оба джентльмена на днях вышли в отставку.
— Кончайте эту лажу, спецагент, — усмехнулся Егоров, — ведь мы профессионалы.
Они расстались, улыбаясь.
Пять минут спустя на пустынных плоскостях Пенсильвания-авеню появилось живописное трио: Тед, Чарльз и матушка Обескураж, мечтательная Полли.
Они медленно двигались, толкая перед собой три тележки покупателя, явно позаимствованные в каком-нибудь супермаркете вашингтонской зоны. Тележки были доверху загружены их пожитками, то есть ржавыми канделябрами, мешками садовых фертализаторов, мятыми плюшевыми игрушками, пластиковыми утками и фламинго, гипсовыми амурами и другими такими же необходимыми вещами.
Вдруг пронеслись три последовательных свистящих звука — как будто стальные птицы пролетели на небольшой высоте со сверхзвуковой скоростью; три друга подняли свои сонные лица к бледным небесам. Кочующая братия не заметила, как три летающих чудовища среднего размера сбросили им под ноги некий небольшой предмет, однако как только матушка Обескураж споткнулась об этот предмет, она немедленно его подняла и перекинула, чтоб не пропал, в свою тележку покупателя, где он пристроился рядом с картонной русалкой и двенадцатифунтовой головой сыра, пожертвованной Объединенной методистской церковью, в Чэви-Чэйсе, штат Мэриленд.
Глава одиннадцатая
КОЛЕСО ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКРУЧИВАТЬСЯ
Вот уж неделя, или более того, прошла после тех головокружительных событий, и все шло по-прежнему, никаких признаков нерегулярности не наблюдалось. Комиссия, назначенная Советом попечителей, после тщательно организованной инспекции не обнаружила в Тройном Эл и, в частности, в библиотеке никаких внешних или внутренних повреждений. Вдумчивое и тщательное рассмотрение всех обстоятельств (сродни знаменитой комиссии Уоррена) пришло к следующему заключению: «Как это стало ясно,
некоторые излишне централизованные компьютеры при некоторых, еще несколько неясных ситуациях производят внутри своих структур определенную, хотя все же весьма гуманную тенденцию к частично ненормальным и необязательно логически обоснованным акциям…»
Почти тот же уровень ясности был продемонстрирован на похоронах доблестного рыцаря охраны. Приглашенный неизвестно откуда оратор с необъяснимыми повадками игрока в поло, в частности, сказал: «Трагический случай оборвал жизнь человека исключительных, хотя внешне и вполне скромных качеств…» Лицо мадам Абажур было воплощением японской маски Но. Пэтси сжимал свои элегантные кулаки. Хуссако рыдал. Царило всеобщее смущение. Никто не говорил о странном сборище в ночном пространстве Яйца.
После возобновления регулярных занятий в научном центре Филларион Ф. Фофанофф лишь однажды сделал попытку вызвать Данные Дневника Достоевского (ДДД) на свой компьютер. Увы, единственный ответ на этот вызов был весьма лаконичен: «Больше в наличии не имеется».
Он был чертовски удручен. Из-за этого никому ненужного разгребанного шпионского бизнеса мы просто-напросто потеряли бесценный объект гениального наследия. Будучи многие годы безупречным членом мировой гуманитарной общины, Фил понимал, что нужно отложить все дела, включая и разгребанную греблю с Ее Высокомерием Урсулой Усрис, чтобы попытаться, невзирая ни на какой риск, спасти шедевр.
Как только идея самоотверженного служения мировой гуманитарной общине откристаллизовалась, Филларион известил советника Черночернова, что он покидает сферу тайных операций в связи с неотложным позывом послужить мировой филантропии и экологическому движению.
Реакция полковника на это заявление была, мягко говоря, не совсем обычной. После Ночи Головокружений Двойная Чернуха так и не смогла восстановить своего самообладания на сто процентов. Он часто бормотал что-то невнятное об угасании основных человеческих ценностей в современном мире, о неспособности масс, охваченных дешевым гедонизмом, оценить смысл власти и субординации в ранних, столь гармонически развитых формах государственности. «Ну, что ж, Фил, если хочешь завязать, твое дело. Гласность учит нас не быть слишком навязчивыми в секретных операциях. Следуя последним инструкциям, мы решительно порвали с варварскими методами убеждения».
— Как хорошо, что у вас не было этих инструкций перед нашей встречей у меня дома, на Дикэйтор, — искренне сказал Фил.
На следующее утро, производя несколько отвлекающих маневров в лабиринте Яйца, Фил в нарушение всех правил умудрился продраться — если так можно сказать о человеке его пропорций — внутрь святая святых, в кладовую рукописей, где его чувствительные ноздри немедленно уловили остаток странной вони, задержавшейся здесь после недавней электронной вакханалии.
Там — какой приятный сюрприз! — он налетел на своего дружка достопочтенного Генри Трастайма и его нового помощника, тоже довольно хорошо знакомую Ленку Щевич. Пара в бесконечном поцелуе покачивалась на носках и каблуках между двух рядов полок, отмеченных буквой «Д». За ними на соответствующей полке под ярлыком «Дневник Достоевского, DWDR 793» он увидел драматическое зияние.
Он попытался отвлечь внимание любовников от их мускусных мембран к величайшей неудаче Мирового Гуманитаризма, к потере классического манускрипта, который должен, невзирая ни на что, быть возвращен даже хоть и из адских сфер. В ответ он увидел две пары глаз, качающихся, как катамараны, в гормональном урагане и услышал звуки, похожие скорее на иканье, чем на вразумительную речь.
— Что за-за-за курш-ш-шлюза, Ф-фил? Ты на самом деле имеешь в виду дневник Достоевского? Для чего он тебе понадобился? Для гармонии, ты говоришь, для бессмертия? Не для любви? Не для гормонов? Не для безнравственности? Не для КГБ, в конце концов? Что за куршлюзы?!
Другие сотрудники Тройного Эл только пожимали плечами да поглядывали искоса в ответ на его призывы звонить во все колокола для спасения «бриллианта Западной цивилизации».
— Держитесь подальше от Западной цивилизации! — сказала Урсула Усрис, когда он подошел к ней со своей колокольной идеей. Она нагло чиркнула молнией на его штанах, вниз и вверх (о да, и вверх!), и сухо сказала, что ни одна из его попыток подчинить ее физически или духовно не увенчается успехом, что он только выиграет, если займется своими разгребанными русскими суффиксами и префиксами и не будет посягать на грандиозную идею Западной цивилизации.
Что же касается русских грамматических частиц, незаслуженно одаренных доктором УУ таким сильным русским прилагательным, то и они, как жаловался доктор Жукоборец, стали частенько отказываться от сотрудничества, в том смысле, что его любимые «кртчк», «мрдк» и «чвск» стали проявлять склонность к длительным исчезновениям. Что уж тут говорить, любой призыв к раздраженному исследователю от имени мировой гуманитарной общины пропал бы втуне. Карлос же Пэтси Хаммарбургеро тем временем с меланхолическим выражением своего приятно очерченного лица сказал, что смерть шефа охраны Каспара Свингчэара разрушила его последние иллюзии по поводу способностей человеческой расы даже в таких простых делах, как профессиональное сотрудничество. Таким образом, впервые со времени своего прибытия на дружелюбные поля вашингтонской академии Филларион почувствовал себя брошенным и одиноким. Оглядываясь вокруг, во время часов шерри, он находил только рассеянные взгляды, двусмысленные ухмылки, он слышал только заурядную тягомотину. Почему, удивлялся он, никто из участников Ночи головокружения никогда не говорит о тех летающих монстрах, от которых кровь свертывается в жилах? Эта тема как будто намеренно обходится, как будто простое упоминание наглых исчадий может приоткрыть какие-то личные постыдные тайники. Он и сам себя спрашивал с недоумением: почему я так неуклюж и затруднен в попытках поднять интерес общественности к пропавшему дневнику? Почему я веду себя так, будто мне стыдно оказаться частью чего-то трухляво-вульгарного, будто то была не реальная ночь в реальном здании Яйца, а какой-то кошмарный сон, своего рода духовная трясина, которую хотелось бы забыть.
Пару раз в течение недели после той ночи он наталкивался на Джима Доллархайда, но несмотря на то, что, как он смутно припоминал, Джим тоже был там в ту ночь, он все-таки не поднял темы. Ему казалось, что было бы смехотворным втягивать легкого, славного знатока романтического периода в это отягощенное подсознанием дело. Вместо этого они ублажали друг друга разговорами о павловских гвардейцах, петербургском моросящем дожде, статуях Фальконе и т. д.
В свою очередь, Джима, отчаянно пытавшегося определить истинный смысл той ночи, ни разу не посетила идея поговорить начистоту с этим советским: ведь все-таки еще не было доказано, что Филларион не шпион. Кроме того, Джим тоже был как-то странно стеснен в разговорах о монстрах среднего размера. Таким образом, первый не смог найти реальной помощи в поисках пропавшего сокровища, в то время как последний попросту перескочил через человека, который мог бы дать ему настоящий ключ ко всему делу. Порочный круг этой кви-про-кво трагикомедии продолжал крутиться, и поезд событий приближался к тому пункту, где Филиситата Хиерарчикос, не без грации взлетает на сцену и объявляет о своей блестящей идее организовать «Вечер лягушачьих ножек» под сенью жилищного коопа «Кондо дель Мондо».
ТРЕХЦВЕТНОЕ ЖАРКОЕ
ИЗ ЛЯГУШАЧЬИХ НОЖЕК
Кто знает, почему эта поистине блестящая идея пришла в голову Филиситаты? Может быть, мамзель была озабочена центробежными силами, бушующими в ее любимой общине, и жаждала воссоединить коллег в стиле утонченного парижского суарэ, а может быть, у нее были совершенно иные, гораздо дальше идущие планы?
Так или иначе, однажды вечером в начале декабря обширная гостиная на первом этаже Кондо дель Мондо была залита ярким светом и заполнена уютно жужжащими голосами почти всех наших персонажей. В тот вечер каждый хотел отбросить заботы и насладиться легкой светской болтовней, перемежаемой изысканным похрустыванием слегка пережженных лапок амфибий.
В соответствии с новым духом гласности советник Черночернов был также приглашен с супругой, и — вот так чудо! — оба приняли приглашение и явились на это несколько фривольное сборище. Довольно шикарная парочка в полном блеске Москвы-88 — блэйзер с двуглавым орлом на пуговицах, глубокое декольте, открывающее ключицы, похожие на оборонительные сооружения долговременного использования.
На левой руке товарища Черночернова Алик Жукоборец заметил толстое золотое кольцо с выгравированным на нем профилем Императора Николая Второго.
— Что это у вас такое, господин Черночернов? — невинно спросил Алик по-русски. — Неужели Его Величество, наш последний Император?
Советник подозрительно взглянул на ученого. Ох, уж эти бывшие соотечественники из этой дерьмовой Третьей волны, вот болячка! То и дело ставят в неловкое положение наш дипломатический персонал эти выскочки и всезнайки нерусской нации! Перекрывают дорогу к плодотворным контактам с туземной интеллигенцией. Хуже всего, что их не сразу различишь! Ну, кто бы, например, догадался, что этот долговязый приятель в галстуке-бабочке и с подстриженными усиками окажется одним из тех сионистов, что добровольно (добровольно — sic!) покинули Родину, тем самым совершив ошибку на грани преступления!..Хм-хм-хм… немного устаревшая терминология в свете капризных выкрутасов перестройки, однако…
— Вы знаете, я как-то слушал вашу лекцию, — сказал Жукоборец, — ваше примечательное представление марксистского подхода к садово-культурному наследию Российской государственности. — Брови советника превратились из одной сурово сжатой «галочки» в пару пушистых пчелок. Эта лекция была ого сокровенным триумфом, поскольку ему удалось в ней сделать несколько намеков на последовательность… сечете, дамы и господа, последовательность!.. садово-культурного наследия России.
— Да вы, наверное, молодой человек, подозреваете меня в монархических взглядах? — Его «О» в этот вечер были округлы и подчеркнуты, как вся «деревенская литература». — А все-таки, молодой человек, этот кусочек золота на самом деле — сувенир вашей героической революции!
Ну, что за волшебное слово! Едва услышав слово «революция», гости стали собираться вокруг полковника: мадам Абажур, профессор Хуссако, достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, эсквайр, со своей новой помощницей… Какое возбуждающее, ей-ей, афродизиакальное слово!
— Это кольцо — память моей матери, которая щипала красных бойцов во время гражданской войны, а сделано оно из монеты, данной моей матери раненым буденовцем, а происходило это в глубоком тылу Белой армии…
Всегда, когда скрытый монархист повествовал эту полностью фальшивую и несколько похабную историю, он чувствовал себя, как тяжелый налим, выскользающий из сети. С другой стороны, всякий раз, как история завершалась, он испытывал странное удовлетворение, некое сладкое бодрое пощипыванье: уте-е-ек, опять у-у-тек! Подлый грязный лгун, думала Марта, стоя неподалеку с превосходной дипломатической улыбкой на устах, бледных, словно листья колхозной кукурузы.
Все зааплодировали дивному советскому джентльмену, все, включая трио новых приятельниц Жукоборца, то есть трех сестер трех разных человеческих рас, Милиции Онто-Потоцки, Глории Чэмберлен и Иэн Уоу, которых он представил коллегам как членов вашингтонской интеллектуальной богемы, немного в стиле Бертольда Брехта; или, так сказать, Старый Стокгольм. Штатное трио Тройного Эл, Пинки, Рози и Монти Блю, было в восторге: О, Брехт! О, да!
Теперь у нас есть время для риторического вопроса? Кто когда-либо превзошел Либеральную лигу в ее приверженности к принципам терпимости? Гордо и триумфально мы можем ответить утвердительным отрицанием: никто!
Появление, рука об руку, Джима Доллархайда и Урсулы Усрис на лягушачьем вечере Кондо дель Мондо оказалось немедленным подтверждением приведенного выше молниеносного лирического отступления. Никто из гостей не был шокирован некомплектностью их туалетов, то есть обрывками странных одеяний, болтающихся на их великолепных телах. Наоборот, все были в восторге от изобретательности и оригинальности молодых людей, а птица Гласности, Филларион Фофанофф, открыл объятия и сказал, что он просто умирает от желания слиться с ними, с двумя его ближайшими душами в мире, раствориться в них и вознестись к чистому экстазу, без всяких осадков.
Камнями по воронам, подумала Урсула, похоже, что проклятые русские начисто лишены чувства ревности!
Что касается спецагента Доллархайда, то он был просто захлестнут чувством цельности и причинности (состояние ума и души, известное под кодовым именем «счастье»). Ну, как вам это нравится, сама позвонила, сказала, что жаждет повторить встречу Леди Стальная Пятка и Маэстро Паганини! Ему казалось, что он танцует вальсы и мазурки в духе Русской Романтической Поэзии, он готов был уже бряцать воображаемыми гусарскими шпорами, выпивать до дна бутылки вина «Кометы», мчаться опрометью то к одной, то к другой группе дискутирующих лягушатников… спорить до зари о чем угодно… почему бы не о Достоевском, братцы?… Почему бы не о Марксе, сестренки?…Почему бы не о потерянных рукописях, дамы и господа? Вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, его позвали к телефону.
— Келькьюн ву телефоне, месье, — сказала Филиситата Хиерарчикос, держа трубку в своих длинных пальцах арфистки. — Же круа ке вуз алле инвите вотр ами а нотр петит суаре, не-с-па? Уверена, что вы пригласите вашего друга на нашу маленькую вечеринку, не так ли?
Русский имперский гусар быстро исчез в побрякивающих шпорами па-де-де мазурки, тогда как контрразведчик ФБР ощетинился по тревоге. Кто мог сегодня вечером выследить его в Кондо дель Мондо? Старший агент д’Аваланш? Какой-нибудь тип привидений? Фантомы литературы, истории, археологии? Валькирии, наконец?
Густой бархатный голос, спокойный, но не без некоторых драматических извивов, принадлежал человеку, которого Джим решительно исключал из своего списка предположений. «Ради всей цивилизации, умоляю вас, мистер Доллархайд, покинуть на минуту вашу вечеринку», — произнес генерал Егоров.
Они встретились на углу улиц «М» («Метрополь») и Двадцать Третьей (улицы 23-го залпа). Этот перекресток недавно трансформировался из затхлой параши южного захолустья в деловой район мировой столицы с тремя величественными отелями в чисто постмодернистском стиле, с толпой, жужжащей в космополитической абракадабре, а также с лимузинами, постоянно разгружающими очаровательный груз длинноногих и мини-юбочных посетительниц дорогих нумеров-с.
В этот раз наш корифей гастрономии был одет в белый комбинезон и твердую пластмассовую каску, что делало его похожим на подлинного члена того класса, чье счастье было главной заботой его организации.
Он пригласил Джима в маленький фургончик с надписью на борту: «Маляры по радуге и К°». Они сели на скамейки напротив друг друга, между ними оказалось три ведра краски. Синяя, красная и белая, Заметил Джим. Есть в этом какой-то смысл?
Мясистая рука легла на костлявое колено спецагента:
— Подошел решающий момент истории, мой друг!
Интересно, все они так склонны к дешевой театральщине?
— Без ложной высокопарности, сынок, скажу тебе: перед нами момент истории!
Извольте, я уже его «сынок»!
— Мы должны действовать быстро и решительно, иначе история плюнет в рожи двух слабаков, двух соскососов, которые не смогли для нее пошевелить и пальцем!
Нельзя не оценить этот мастерский оксюморон, сопровождаемый усмешкой, хотя нельзя и не поставить под вопрос уместность пребывания мародерской лапы на молодежном колене.
Егоров продолжал:
— Дело в том, что я на девяносто процентов убежден, что суперструктура, о которой мы говорили пару недель назад, в настоящее время находится здесь, в Кондо дель Мондо. Мои многомесячные попытки напасть на ее след вдруг привели к неожиданным результатам. Мы не можем себе позволить упустить такой шанс! Главная проблема состоит в том, как выделить суперструктуру из тридцати пяти любителей лягушачьих ножек. В чьем теле она путешествует?
— В чьем теле путешествует суперструктура? — пробормотал Джим. — Да вы впадаете в мистицизм, генерал.
— А как мне этого избежать, спецагент, — горячечно прошептал Егоров. — Оглянитесь! Разве вы не видите вокруг взрыва мистицизма? Хотел бы я послать на большой фулуфуй все школы позитивной мысли, в том числе разгребанный Институт марксизма-ленинизма, с теми фактами, что я недавно собрал в пользу негативной мысли. Ты только подумай, Джим-лапуля, обычное дело внедрения агента в столицу потенциального противника превращается в череду кошмаров, в вакханалию монстров среднего размера! — А чего мы можем ждать завтра? Позволь мне сказать тебе, Джим, как мужчина мужчине, что последствия нашей халатности могут превзойти самое дикое воображение, перепахать тут все поперек борозды. Прошу прощения за прямой перевод…
— Что нам нужно делать? — спросил Джим. Егоров вздохнул с облегчением.
— Слава Богу, что есть такой парень, как вы, Джим. Слушай, ты возвращаешься на вечеринку и плотно наблюдаешь всех присутствующих. Тем временем я буду давить на суперструктуру средствами, которые я сейчас имею в своем распоряжении. Как только ты заметишь, что кому-то стало не по себе, что кого-то затрясло или законвульсировало, ты немедленно сообщаешь мне об этом по уоки-токи…
— Простите, генерал, но почему вы выбрали меня для такой деликатной операции? Насколько я знаю, у вас есть свои люди в Кондо дель Мондо, — невинно спросил Джим.
— Ненадежны, — проворчал Егоров. — Один погряз во вздорном монархизме, другая — старомодная коммунистическая халява, третий — просто дурацкий просчет нашего руководства, и я не собираюсь держать в секрете своего отношения к такому небрежному отбору наших заокеанских оперативников! Что касается четвертого… хм… думаю, что хватит… в общем не на кого положиться…
— Значит, я здесь — это единственный человек нашей профессии и сторонник либеральной цивилизации, которому вы можете доверять, и мы, стало быть, коллеги, да? — улыбнулся Джим.
— Ну, разумеется, — серьезно кивнул Егоров.
Джим усмехнулся. Что за миражи тут развешивает этот дюжий, хитрый мужик? О’кей, в соответствии с традициями наших праотцев, тех всадников пустыни, что всегда скакали к неведомым горизонтам, пойдем на риск сотрудничества, однако прежде всего проверю товарища генерала нашим личным сверхсекретным испытательным устройством, то есть левым мизинцем. Он осторожно удалил мясистую жабу генеральской руки со своего колена, а затем вонзил свой сверлящий палец в генеральское пузо.
— Ну и пальчик у вас, Джим! — скрипел генерал. — Жалит, как черт, дико убедительный мерзавчик!
Джим продолжал сверление. Он мог уже пальпировать край генеральской печени и изгиб дуоденум.
— Чего ты хочешь, Джим, — стонал генерал. — Положи свою повестку на стол переговоров!
Держа свой испытательный мизинец в зоне генеральской селезенки, спецагент провел «тест Кью»:
— Какими средствами вы располагаете, ваше превосходительство, для воздействия на вашу мистическую суперструктуру?
— О’кей, скажу, — кивнул Егоров. Он испустил вздох облегчения, когда маленький разведчик покинул его кишки.
— Хотел бы я иметь такого изобретательного парня, как ты, в моем аппарате. — Потом показал подбородком вниз: — Видишь эту субстанцию в трех ведрах, красную, синюю и белую? Когда я помешиваю ее в определенной последовательности моим указательным — а этот старый грешник все-таки еще на что-то способен, — суперструктура, по моим предположениям, должна страдать, как мышь в ловушке, по крайней мере, до тех пор, пока она не выработает какой-нибудь защиты. А теперь, спецагент, умоляю, давай отложим в сторону отдельные интересы наших школ ради общей универсальной ответственности!
КРТЧК, МРДК, ЧВСК
В Кондо дель Мондо царил вальс! Амурские волны, завихренья Амура! Резвое циркулярное шарканье подошв по паркетному полу… быстрый и жадный обмен мнениями на тему о рукописях-апокрифах по ходу сужения…
Гляньте-ка на этих танцоров! Мужественный Жукоборец с отрядом чопорных девиц, ведомых мамзелью чистого совершенства, Филиситатой Хиерарчикос; декадентная лилия мадам Абажур с прической в виде древнеегипетского шлема в вельветовых объятиях своего суперинтеллектуального мужа; счастливый Фил Фофанофф, зажавший в своих медвежьих объятиях гладкую, как тюлень, хоть и пушистую, как коала, и как всегда весьма самоуверенную профессоршу Урсулу, которая умудрилась уже сменить обрывки своего воинственного туалета на взбитые сливки бального платья Наташи Ростовой; советник Черночернов, вращающийся в твердых руках латышского красного стрелка, — иной раз слабый дискант полковника был различим в волнах музыки и взрывах дискуссий: «А как насчет смены партнеров, дорогие товарищи?»; ну и также кучка мало кому известных друзей вечно таинственного и аккуратно одетого представителя страны восходящего солнца с хрупкой косточкой амфибии в углу его улыбающегося рта…
— Какая непосредственность! — воскликнул глубоко тронутый президент Генри Трастайм.
«Посмотри-ка, мой морской конек, как естественны наш Пробосцис и доктор Усрис, когда они, вальсируя, обсуждают аутентичность «Слова о полку Игореве»! И как славно они на полной скорости обмениваются шиболетами, то есть вербальными символами нашего клана, с нашими с тобой любимыми супругами Джоселин и Ясноатаманским. А теперь наблюдай, моя канарейка, как небрежно я адресуюсь к нашему Хуссако, этому улыбчивому гению острова Хоккайдо. Эй, Хуссако-сан, вам никогда не приходило в голову, что многие японские мифы первично возникли в Китае… у-у-упс, порыв вальса относит нас в сторону, но я могу уже представить, какую бамбуковую дубину готовит он мне в ответ. Мне кажется, что такого типа ассамблеи могут быть более плодотворными, чем наши обычные шерри-коктейли. Отныне мы должны внедрить подобные спонтанные кружения в нашу академическую практику». «Или даже еще более спонтанные кружения», — шепнула мисс Щевич еле слышно. Ее пальцы в легком стаккато прогулялись вдоль позвоночника достопочтенного ГТТ от шеи до копчика. «Ах, моя карамелька, ты опять заходишь слишком далеко», — вздохнул он.
Амурские волны, волны Амура!
Хуссако был о’кей, все были вполне о’кей. Небрежно насвистывая мелодию распада Российской империи, Джим Доллархайд проскользнул в соседний холл, откуда несколько лестниц вели в частные квартиры. Откатывающаяся дверь толстого стекла закрылась за ним и приглушила музыку, и вот тогда, в тишине, Джим и услышал доносящиеся сверху стоны. С живостью, что считалась непревзойденной среди его коллег, Джим определил, из-за какой двери доносятся стоны. Используя свое самое изощренное приспособление, а именно правое ухо, Джим стал прислушиваться к стонам, которые перемежались со взрывами сквернословия на многих языках, с немалой долей русского матюга. Попросту толкнув дверь коленом, он вошел внутрь (нечего и говорить, что его правая рука в этот момент была в районе его левой подмышки) и увидел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. Это был Карлос Пэтси Хаммарбургеро.
Джим взял стул и сел напротив аргентинца. Последний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немыслимо выпученными глазами было повернуто к гостю.
Джим не отрывал от Пэтси взгляда. Впервые в жизни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то дикой летаргии, вызванной перемешиванием трех цветов краски в трех разных ведрах. Итак, вот она Эс-Эс, Супер Структура, самый зловредный возмутитель спокойствия в Вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что им оказался именно этот малый, подкидыш международной аристократии, многократная жертва похищений, безупречный денди и просто приветливый приятный феллоу, с которым спецагент даже не исключал возможности небольшого романешти перед своим гордым переходом в племя мужланов.
Джиму казалось, что каждый всплеск изящных конечностей был непосредственно вызван безжалостными движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь на обнаженных частях кожи Пэтси, а именно в пупковой зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсировать пятна трехцветной сыпи.
Потом внезапно Пэтси прекратил стонать и ругаться, руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже не без грации легли вдоль тела — летаргия овладевала сеньором Хаммарбургеро, этим далеко не худшим представителем человеческой расы.
— Бедный мальчик! — произнес женский голос за спиной Джима. — Бедное мое многострадальное дитя!
Будучи хорошо тренированным агентом, что, разумеется, было замечено читателем, Джим внешне не выказал никаких признаков удивления. Он спокойно поднял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отражения продолговатых декадентских лиц месье и мадам Абажур.
— А вы, должно быть, друг моего бедного Пэтси? — спросила мадам Абажур.
— Да, мадам, я его близкий друг.
Сухая и довольно крупная рука легла на плечо молодого человека, словно талисман всех смертных грехов.
— Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой хорошенький Парис, сын Приама и Гекубы! Поверьте, как мать и как человек современных убеждений, я действительно ценю вашу близость и преданность моему сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем: мой муж и я позаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и я буду держать вас в курсе.
— Ни в коем случае, мадам, — ответил Джим вежливо. — Разумеется, я высоко ценю ваше благородное желание опекать этого злополучного индивидуума, однако я просто не могу оставить тело на произвол судьбы, иными словами, вверить его незнакомцам, несмотря на то, что они объявляют себя его ближайшими родственниками. Разумеется, мадам, любое подтверждение ваших претензий на материнство приветствовалось бы без всяких оговорок.
После этого заявления страннейшие изменения трансформировали черты утонченной дамы, которая когда-то считалась властительницей дум Левого берега Парижа, включая правую набережную острова Сан-Луи. В мгновение ока она подбоченилась, задрала подбородок выше носа, с высочайшим пренебрежением посмотрела на Джима и обратилась к нему в манере торговки копченой салакой с Одесского колхозного рынка, что опровергает оппонента резкой репликой: «Сами вы дурак, сэр!»
— А где у вас у самого-то подтверждение ваших близких отношений с моим сыном, сэр?
Джим не только не ответил, он не произнес ни слова во время череды ошеломляющих моментов, последовавших за наглым вопросом. Он остолбенел, глядя поверх голов супругов Абажур па книжные полки, а именно на полку, где стояло полное собрание опусов Габриеля Гарсиа Маркеса. Именно там, у подножия роскошных, переплетенных кожей томов, он увидел тройку самодельных бумажных игрушек, одну в форме странного дрозда, другую в отталкивающем виде гадкой гусеницы, третью напоминающую чешуйчатую сельдь.
Неужели это были те самые наводящие ужас монстры, только в состоянии отдыха после работы?
Момент, последовавший за чередой ошеломляющих моментов, не принес облегчения. Внезапно в странной пустоте Джим услышал голос своего непосредственного старшого:
— Спецагент Доллархайд, мы благодарим вас за вашу блестящую работу!
Затем какой-то набор плохо смазанных голосовых связок продуцировал голос старшего агента д’Аваланша:
— Рад вас видеть, приятель!
Французская чета между тем стояла перед ним недвижно и молчаливо.
— Браво, мадам! Браво, месье! — усмехнулся Джим, напоминая себе главную заповедь своей профессии — всегда ожидать неожиданное. — Где это вы так прекрасно натренировались в чревовещании?
Вместо ответа на вопрос месье Абажур начал стягивать кожу с кончика своего носа. Следуя его примеру, мадам Абажур схватила и потянула вниз свое хорошенькое, хотя и немного искусственное на вид ухо. Одновременно пара свободными руками расстегивалась, стараясь как можно быстрее стащить одежды. Может показаться странным, однако размеры двух хамелеонов увеличивались по мере быстрого раздевания и самосвежевания, и вот через минуту или две худенькие интеллектуалы превратились в дюжих федеральных агентов: доктор Мелвин Хоб-Готлиб и Брюс д’Аваланш к вашим услугам, дорогой читатель! Эта метаморфоза лишний раз предупреждает нас не бросаться опрометчиво к леволиберальным критиканам, нападающим на рвение и мастерство наших правительственных служащих.
— Пуф! — сказал д-р Хоб. — Задание почти выполнено!
Д’Аваланш защелкнул пару наручников на запястьях летаргика.
— Мое бедное дитя! — вздохнул он комично. — Мой дорогой подкидыш!
Спецагент Доллархайд, хотя и охваченный восхищением перед высшей степени профессионализмом своих старших коллег, все же поспешил предупредить их против преждевременного триумфа:
— Осторожнее, ребята! Разве не узнаете вот этих?
И он показал на бумажные игрушки на книжной полке.
Автомобильный сигнал, похожий на три первых ноты увертюры Россини, долетел с улицы. Доктор Хоб поднял шторы с видимым удовлетворением.
— Теперь-то уж дело действительно сделано, — он повернулся к спецагенту. — Ну-ка, гляньте, Джим!
Белый фургон с надписью «Маляры по радуге и К°» медленно вкатывался на стоянку Кондо дель Мондо. На передних сиденьях видны были два агента ФБР в штатском. Как только фургон остановился, три машины ФБР, то есть трио Эплуайт, Эппс и Макфин, окружили его. Кто-то помог выйти из кузова человеку в белом комбинезоне. За мгновение до того, как наручники защелкнулись на его запястьях, он пожал плечами и меланхолично улыбнулся, как бы говоря: «Что еще я могу сделать?» Даже мысли Джима по вполне объяснимым причинам отставали и от развития событий, однако когда он увидел, что руки генерала схвачены безжалостной сталью и перекрещены на копчике, он сразу понял, что помешивание краски в трех ведрах прекратилось и теперь…
— Вы не должны были этого делать, ребята! — вскричал он. — Последствия задержания Пончика могут быть ужасны! Дайте мне объяснить…
Но было уже поздно. Зловещее чириканье донеслось откуда-то, го ли из летаргического тела, то ли с полки Г. Г. Маркеса. «Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск…» — слышалось в комнате. Громкость чириканья нарастала. Три полноразмерных монстра среднего размера взирали на офицеров с бессмысленной насмешкой.
Наручники на летаргическом теле вдруг лопнули, точно шелковые струны. В мгновение ока Карлос Пэтси Хаммарбургеро, он же Супер Структура, он же Зеро-Зет, вздыбился в середине комнаты, руки воздеты к потолку. Грозный вид сродни некоему карающему демону. Голос его, поднимаясь постепенно из глупим его галактики (мы, разумеется, имеем в виду галактику его структурных клеток), возрастал угрожающе, пока не достиг громовых высот: «Во имя моего обманутого поколения, я уничтожаю…» Мгновенно комната наполнилась почти невыносимым запахом серы. Черт побери, Джим содрогнулся от макушки до своих ахилловых сухожилий, мы сами себя затащили в ловушку! Три монстра соскочили с книжной полки и теперь висели в воздухе перед лицами трех федеральных агентов.
— Не стреляйте, братцы! — выкрикнул Джим. — Их надо брать руками, только…
Он снова опоздал. Д’Аваланш выстрелил, по крайней мере, три раза из-под своей левой подмышки. Адский грохот поднимался из ниоткуда. Он был столь неотвратим и могуч, что казался вещественным и ощутимым, словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы были поглощены его сатанинскими децибелами. У Джима еще было время догадаться: этот шум идет из другого Измерения! Вот почему он воняет и кажется видимым и ощутимым, а потому…
В следующее мгновение все здание модного кондоминиума коллапсировало к полнейшему восхищению завсегдатаев ближайшего бара, которым случилось остановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в верное время. Когда же шум и вонь улеглись, над развалинами, в баре возобновилось употребление напитков. Лишняя изюминка, ей-ей, не испортит пирога.
Глава двенадцатая и последняя
НОЧЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Автор прекрасно понимает, что его авторитет может быть подорван, заяви он сейчас, что никто из танцоров не пострадал при крушении Кондо дель Мондо, и все-таки он идет на этот риск, больше того, он даже осмеливается заявить, что это не имеет никакого отношения к околичностям современной прозы. Народ просто вышел из здания за три минуты до звуковых извержений.
Дело в том, что один из танцоров (упоминание в этой связи имени Филлариона не было бы слишком большой натяжкой) запустил идею отправиться в «таинственный лабиринт среднеатлантической ночи», другими словами, пошлепать куда-нибудь в Джорджтаун, а точнее в кафе «An Pied dе Cochon», «У Свиной Ножки», скандально известное с той поры, когда бравый полковник разведки Юрченко прочимчиковал оттуда до советского посольства, что дюжину кварталов вверх по авеню Висконсин.
Вся компания отправилась из Кондо дель Мондо пешком.
— Это будет не просто ночь, а заззи-зиш-зови-зэззл-ночь! — прошептала Урсула прямо в гущу филларионовского уха. — Сечешь?
— Ну, разумеется, моя дорогая Жемчужная Лагуна!
— Это что-то сродни этому вашему до разгребанности раздyтому Серебряному веку, Белая ночь Дикой Мечты…
Она испустила захватывающий и нежный и вместе с тем реактивный вихрь мечты, о котором он только мог мечтать в своих староарбатских грезах; что это было, духи «Бродячей Собаки»?
— Подожди! — она скользнула в скромно освещенную дверь «Бродячей Собаки».
Не важно, что это было, бутик, кафе или бордель, через десять минут она вернулась в новом ослепительном, сверкающем образе Коломбины, Петербург-1913. Ее суть, так долго замаскированная, — хотя далеко не всегда удачно, мы должны признать, под сбруей академической зануды, теперь вознеслась к своей истинной вершине: это была жрица любви, блистательная распутница, Леди Нежность собственной персоной. И без малейшего намека на сдержанность она упала в жаждущие руки Фила Фофаноффа.
— Я люблю тебя, мой бедный толстяк! Я не дам изуродовать твою душу фламинго! Я люблю твою грязную Россию, мой ублюдок! Я не позволю ей погибнуть!
Это было то, что она хотела произнести вместо того, чтобы проборматывать какой-то чувственный вздор, держа в зубах кружева своей юбки, в то время как Фил Фофанофф браво углублялся все глубже в таинства Серебряного века. Оргия чувственности на бурлацкой тропе старого канала Часапик-Огайо, пир на покинутых в ночи кормушках бурлаков-мулов!
Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, стараясь изобразить из себя вполне приличную парочку привидений. Будто декорации под раскинувшимися ветвями граба, их окружал мир старины. Тут были маленькие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюрного капитализма; можно было увидеть лавку, торгующую шотландскими горнами с мехами, или часовую мастерскую, представленную почему-то на витрине чучелом ощетинившегося дикобраза, или колониальную фармацию, откуда пахло чабрецом и которая выставила в окошке желтоватые чаши с порошком из растертых слепней, различные грибообразные растения, листья, коренья, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы морских коньков, молотый женьшень, пилюли, сделанные из рогов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, порошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чудотворные субстанции.
Они проходили мимо, как прототипы извращенной версии романов Теодора Драйзера.
— Знаешь что, дорогая моя Филадельфия? — произнесла она, кладя свою розовую щеку на крутой склон его плеча. — Иногда мне хочется хорошенько запастись афродизьяками, схватить за какую-нибудь твою самую ухватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки тщеславия в Южную Тихоокеанию.
— Для меня лучшее убежище — это ты, моя Жемчужная Лагуна, — Фил меланхолически вдохнул мокрый воздух Средней Атлантики, — но, конечно же, я желаю тебе удачи в буксировке меня к южным островам. — Она улыбнулась и мило шлепнула его по одному из двух его пушечных ядер.
— О, мой зяблик, — простонал он, снова заводясь внутренним мотором.
— Мечты, — усмехнулась Коломбина, Петербург-1913. — Увы, может быть, мы уже опоздали, мой Хобот, потому что сегодня не просто ночь, а заззи-зинг-зови-зэззл-ночь!
— О, да! — и он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова.
«У СВИНОЙ НОЖКИ»
По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы, бродячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин, двери «Au Рied dе Cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая отвратительная картина, изображающая тройку поваров с ножами, преследующую свинтуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку: ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, по нашей компании это не очень-то понравилось.
Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному, унисекс, туалету.
Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юрченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку:
— Врать не буду, как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал: ну вот и шпиены заявились!
Пар дессус тут, ну прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами, ходил вперевалочку, неуклюжий малый, сказать по чести, малость смахивал, месье-дам, на пана Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень примечательный, не очень вообще-то запоминающаяся личность…
Ну, тогда этот первый парень начинает выговаривать второму, то есть сопровождающему. Куда, дескать, вы меня привели? Мне здесь не нравится! Такой, вишь ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское заведение ему не подходит!
О чем они говорили? Ну, врать не буду, месье-дам, толковали они о любви. Вот именно любовь была у них на повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в любви, но вот измена требует верности, вот об этом как раз сопровождающий и говорил усатому Мы вообще-то привыкли к таким разговорам промеж мужчин. Потом сопровождающий извинился и пошел в ле туалет почистить зубы, как он сказал. Из гальюна он передал свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр Жерар, и тут же слинял, испарился на месте, тут де суит!
Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже-то узнали, сидел один почти что два часа, пел еле слышно чтой-то грустное (Жакко воспроизвел мелодию «Шумел камыш», любимую тему советских вытрезвителей), потом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как он прошел мимо окна по улице. Развернул зонтик с надписью «Столичная»… В общем и целом, не вижу ничего особенного в этой истории: нынче, знаете ли, очень сложная ситуация внутри мужского пола…
THOSE FOOLISH THINGS
Тем временем президент Либеральной лиги Линкольна играл на саксофоне, а все наши уцелевшие персонажи наслаждались его игрой. Давно уже достопочтенный ГТТ смирил свою ренессансную натуру, чтобы подниматься вверх по социальной лестнице, и только недавно, а именно после встречи с мисс Щевич, он спустил с поводка свои многочисленные таланты. В частности, он продолжил разработку проекта геликоптера с задним ходом, впервые предложенного Леонардо да Винчи. Больше того, он даже, как видим, возобновил игру на саксофоне.
— Знаешь, милая, — сказал господин Ясноатаманский Джоселин Трастайм, — твой муж мне представляется истинным предвозвестником вашего беби-бум поколения. Он родился слишком поздно, чтобы стать одним из производителей этого поколения, и слишком рано, чтобы быть одним из них, однако этот тип человеческих индивидуальностей всегда является предвозвестником различных бумов.
— Как глубоко! — воскликнула сидящая с ними за одним столиком Ленка. — Вот так я люблю вас обоих: ты размышляешь, а он играет!
— Некоторые полагали его занудой, — сказала Джоселин. — Но это неверно. В спальне он всегда играл, как человек Ренессанса. Все было так просто, так свежо, так убедительно…
— Крошка моя, — сказала Ленка и поцеловала мочку Джоселининого уха.
Достопочтенный ГТТ играл «Those Foolish Things», эти старые глупости. У него был неотразимый свинг, и его старый друг Фил Ф. Фофанофф, также известный как Пробосцис, присоединился к нему со своим энергичным стаккато по толстым струнам контрабаса. В цилиндре и с сигарой, зажатой меж его корпулентных губ, этот буревестник Перестройки был похож на образ классического капиталиста, вечный жупел классовой борьбы.
Those FoolishThings…
Внезапно и дико стаккато заспотыкалось. Фофаноффский взгляд непроизвольно упал на трио, что сидело в полумраке слева от него вокруг столика на двоих. Три существа среднего возраста выглядели несколько старомодно в их слегка траченных молью бархатных одеяниях. Одна из них, фемина на вид, в туалете болотного цвета, пользовалась лорнетом, чтобы посматривать на одного из своих компаньонов, который яростно, будто охваченный внезапно нахлынувшим вдохновением, строчил что-то в блокноте. Тем временем третий нервно барабанил по стулу кончиками пальцев. Нужно было обладать определенной наблюдательностью или — что касается наших читателей — определенной читательской смекалистостью, чтобы распознать в этих довольно приличных людях двух заборзевших бомжей Теда и Чарльза (или, если угодно, Федю и Карла) и королеву местных шалашовок матушку Обескураж, интимно известную как Полли. Нечего и говорить, Филларион не принадлежал к числу смекалистых наблюдателей. Потрясло его то, что человек с объемистой лохматой бородой делал свои заметки рядом с неповторимым почерком русского гения, величайшего медведя русского пера. Другими словами, объект всеобщей жажды, маленький, переплетенный в марокканскую кожу альбомчик, находился сейчас в трех
ярдах от Филлариона! Он приглушил соло, и вот что он услышал сквозь мягкие звуки, творимые его пальцами:
— Ну, как вам это нравится, милостидари и милостидарыни? — сказал Тед, повторяя коронный жест кандидата в президенты Майка Дукакиса.
— Полли, благородная дева, как бы ни относилось к тебе всеядное потомство, ты все еще принадлежишь к моему внутреннему миру, к сфере моей вселенной, не так ли? Как же ты можешь терпеть тот возмутительный факт, что третье лицо, пусть даже близкое к нам, но третье лицо, использует вещь, которую ты мне дала как подтверждение нашей внутренней близости, эту старинную красивую вещицу, пусть и бывшую в употреблении и частично замазанную неразборчивыми варварскими записями, для записывания побочных продуктов его вполне посредственных псевдонаучных наблюдений, как ты можешь?
— Да ну, Тедди, — матушка Обескураж шаловливо и с некоторой даже похотливостью ему улыбнулась и помахала веером, ну, прямо в стиле кружка Блумсберри.
— Не ссорьтесь, мальчики! Эту пухлую штучку вполне можно использовать на двоих, равно как и некоторые другие вещи, что в нашем общем владении.
В этот момент Чарльз прервал свои лихорадочные записи и ударил кулаком по шаткому столику. Три тарелочки с крем-карамелью покрылись трещинами, как отражения трех лун в озере при землетрясении.
— Подожди, Полли! Я не могу допустить этого наглого вторжения в мой частный мир! Вы зашли слишком далеко, монсеньор, в своем свинском воображении! Уверен, что граждане этого города, невзирая на свои убеждения и классовую принадлежность, не останутся равнодушны, сэр, если я разоблачу некоторые аспекты вашего бесстыдного поведения! Быть вам вымазанным дегтем и вывалянным в перьях, кабальеро! А ты, Полли! Постыдись, падший мой ангел!..
— Ни шагу дальше! — возопил Тед. — Требую немедленного удовлетворения!
Перчатка была сорвана с руки, энное количество пудры упало на дрожащие поверхности внизу.
— Дуэль? — взвизгнул Чарльз. — Вот и чудесно!
Движением, резкости которого до зелени в лицах позавидовали бы бейсболисты «Кардиналов Сан-Луиса», он схватил ржавую перчатку, брошенную ему прямо в лицо.
Двое мужчин стояли друг перед другом, охваченные ураганом эмоций: любовь и ненависть, привязанность и тщеславие, ревность и чувство исторической непреложности.
Перед лицом драматической сцены матушка Обескураж лишь производила какую-то странную серию неадекватных жестов, похожих на хлопанье крыльев у дикого гуся в конце далекого перелета. Этот взрыв внутри как бы вполне приличного, хоть и потусторонне странного трио привлек всеобщее внимание. Пауза. Немая сцена. И только достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, держа саксофон наподобие эмбриона внутри вогнутости своего длинного тела, умолял соперников успокоиться, смягчая их сердца главной темой пьесы «Эти старые глупости». Тем временем объект соперничества, пухлая, крытая марокканской кожей книжка, спокойно лежал между тремя блюдцами крем-карамели.
Следующий пролетающий момент. Кто-то, некая женская фурия, производит гигантский прыжок над перегородками едальных лож. Мисс Филиситата Хиерарчикос, разумеется! Все признаки ее утонченно заморского воспитания улетучились в одну минуту! Кого или что можно обвинить за ввержение нежной мамзели в состояние полной бесноватости? Вопрос этот, боюсь, будет оставлен для ответа критикам сего фривольного сочинения, столь неуместного в наш суровый век.
С рвением и искусством чемпиона женской борьбы Филиситата расшвыряла завсегдатаев «Свиной Ножки», из тех, кто попался ей под руку, схватила предмет соперничества, то есть зеленый альбомчик, спрятала его в одной из своих сокровенных зон и выклокотала что-то не очень-то вразумительное: «Вууки-вау-зззз-иииххххррр!»
Люди, что решили остаться в этом скандальном ресторане в течение получаса, потребного для прочтения нашей книги до последней страницы, будут, разумеется, живо обсуждать тот дикий первобытный и утробный крик утонченной дамы. Иные будут клясться, что уловили в этом до сих пор неслыханном голосе некие пронизывающие спазмы угнетенной женственности, другие заявят, что им послышалось некое влечение к преувеличенному чувству долга, сродни сублимации врожденного эксгибиционизма… Никто, однако, не предложит объяснений к ошеломляющему виду приличной женской особи, летящей верхом па метле над столиками к окну и покидающей «Свиную Ножку» с влачащимся за ней шлейфом стеклянных частиц. Если это не явилось прямой манифестацией социалистического реализма, что же тогда это было? Не дурачьте нас, пожалуйста, разговорами о булгаковских ведьмах!
У-уж как вокруг все заварилось, закипело и забулькало после эскапад Филиситаты! Урсула Усрис кинула контрабас в невинную задницу: «Хватит производить эти вечные глупости своими дурацкими сосисками, Фил! Неужели ты не понимаешь, что история дает нам еще один шанс, чтобы спасти нашу тему?!»
Саксофон Генри взвыл, как сирена тревоги, после чего замолчал, будто упав на поле брани. Урси и Фил бросились вон, держась за руки, не замечая, что и все другие бросились вон, не замечая других, достопочтенный ГТТ и Ленка Щевич, Джоселин и мистер Ясноатаманский, Жукоборец и Хуссако-сан, Тед, Чарльз и Полли, три сестры, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иен Уоу, а также все «кто-такие», и среди них Рози, Пинки, Монти Блю, а также советские лейтенанты Котомкин, Жмуркин и Лассо.
Не обращая внимания на уличное движение, они помчались вниз по Висконсин-авеню, как будто по взлетной полосе, и некоторые из них уже отрывались от земли. Вслед за ними все шапки из магазина «Шляпы с колокольни» завернулись хвостом, будто торнадо, все часы в компании «Белл» зазвонили и забухали, все чучела на витрине «Коммандер-Саламандер» растворились в экстазе.
Они перелетели улицу Ле (Мастер и Маргарита) и пролетели под эстакадой Уайтхерст, фривэй по направлению к реке — толпа возле дискотеки «Буй» повернулась и подняла руки в прощальном салюте, — потом над неспокойным пегим Потомаком и над Центром Кеннеди — прощальные трубы и фаготы из симфонии «Героика» мистера Бетховена — и т. д., и т. д., и т. д., пока гигантское Яйцо не встало перед ними, все склоны и макушки залиты лунным светом.
К сведению: среди всей этой суеты, увы, никто не заметил плачевного завершения блистательной карьеры советника Черночернова. Кто знает, что — революционный ли шухер вокруг или что-то другое — заставило его супругу Марту вытащить из деревянной кобуры свой заветный, 1917 года, маузер и, испустив дикий крик «Долой монархию!», нацелиться в широкую лояльную грудь своего супруга и попутчика. До самого последнего момента он все не верил, что она всерьез… Дальнейших объяснений, похоже, не требуется.
«URBI ET ORBI»
Яйцо вдруг пустилось в медленное и молчаливое вращение вокруг своей воображаемой оси. В зловещей тишине внезапно хихикнул Хуссако-сан: «Архитектор, хи-хи, во всем виноват!» «Неуместная ремарка!» — прорычал в ответ Жукоборец. Бесшумно открылась апертура главного входа. Нарастающий гул вперемешку с вызывающим, хоть и неразборчивым хохотом долетели до ушей нашей компании. Почти невыносимое, никому доселе неизвестное чувство, которое, может быть, превосходило «Арзамасскую тоску» графа Толстого, сковало конечности.
— Я люблю тебя, Фил! — сказала Урсула.
— Я тоже тебя люблю, Урсула! — гулко резонировал Филларион Ф. Фофанофф.
Они взялись за руки и двинулись вперед. И вся толпа, над которой возвышалась задумчивая голова достопочтенного Генри Тоусенда Трастайма, последовала за ними.
В главной внутренней сфере они увидели дюжую фигуру генерала Егорова, его руки в наручниках лежали на копчике.
— Умоляю, братцы, не стреляйте! — воскликнул он. — Товарищи, братья, леди и джентльмены! — он был готов упасть па колени.
— Огряньте взор на охват истории! — почти по-солженицынски взывал он. — Никогда никакие проблемы не решались порохом! Не стреляйте!
Куда стрелять? В кого стрелять? Какого рода артиллерия у него на уме? Взгляд Филлариона последовал за егоровским пальцем, который от копчика показывал на купол Яйца. Там, оказывается, закручивался пандемониум летающих тел и предметов. Определенно присутствовали: миловидный исследователь романтизма Джим Доллархайд, элегантный аристократический подкидыш Карлос Пэтси Хаммарбургеро, два незнакомых человека с лицами федеральных агентов, хотя и в обрывках парижской одежды, а также Филиситата Хиерарчикос в дерзком бальном платье. Все они двигались с медлительностью жертв кораблекрушения, повисших в глубоких толстых слоях океана.
Некоторые неодушевленные предметы также висели в воздухе, а именно: пара пистолетов, две или три пачки презервативов, один экземпляр «Ста лет одиночества», гребешок, напоминающий космический корабль в галактике перхоти, небольшая бутылочка витамина «Джеритол», три разрозненные штуки обуви, плоская фляжка с предположительно добрым содержимым, если судить по янтарного цвета капле, повисшей рядом. Среди всего этого беспорядка наблюдательный глаз легко мог бы заметить скандальный предмет русского национального наследия, дневник Дости с засушенной хризантемой, недвижно выпадающей из открытых страниц.
В резком контрасте с томным, несколько даже чопорным, хоть и не лишенном грации, движением упомянутых тел и предметов, три чудовища среднего размера просвистывали туда и обратно с заметно бессмысленной энергией.
Предполагаю, что наши читатели не будут слишком удивлены, увидев на следующей ступени нашей быстро завершающейся драмы тело только что скончавшегося полковника Черночернова — Шварценеггера. Оно вплыло торжественно, держа вверх свое лицо и носки хороших советских ботинок, его галстук трепетал в вертикальном положении; ни дать ни взять, флагман Перестройки!
Почти одновременно вбежали Чарльз, Тед и Полли Обескураж, прыгнули вверх с резвостью циркового трио и расположились под куполом, словно небесные акробаты.
Скованные силой притяжения пока еще превосходили числом плавающих в воздухе, когда Филларион увидел генерала Егорова, в непостижимом сальто протягивающим свои скованные ладони навстречу идущей в наступление ленинистке Марте Арвидовне, с ее революционным маузером. Марта! Умоляю! Не стреляй!
Долой буржуазный либерализм! Выстрел из грозного оружия показался Филлариону лопнувшим мыльным пузырем, и почти немедленно перед ним стала разворачиваться панорама Бородинской битвы 1812 года. Панорама, хоть и дико раскачивалась, как будто ее наблюдали с качелей, все же была полна движения и дыма — сражение в полном разгаре.
Потом поле битвы стало быстро закрываться густеющими облаками, сквозь которые он иногда ловил летящие виды псовой охоты (борзая, борзая, борзая, заяц!) или несколько щебечущих жеманниц в очаровательных шляпках… Потом все исчезло в тучах, и тучи сами исчезли в тучах. Ему показалось, что он мощно вздымается и в то же время стремительно низвергается, не говоря уже о том, что улепетывает во всех возможных направлениях.
Единственное чувство, которое еще поддерживало его целостность, было сострадание. Сострадание его было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачивающим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ослепляющее и оглушающее чувство сострадания ко всем, кого оставил позади.
Урси, Усри, Урби и Орби, Ю-Эс-Эс-Ар, Ю-Эс-Эй, США, Эс-Эс-Эс-Эр…
Потом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие тучи пропали в пропадании.
ОТРАЖЕНИЕ И СЛИЯНИЕ
Он очнулся в стране тихо дрейфующих льдин, глетчеров, скромно очерченных утесов, кристальных вод и бледно-голубых небес с хвостиками кудрявых и полупрозрачных облаков.
Погода казалась довольно устойчивой, имелась и растительность, хотя не совсем обычная. Вот, например, он заметил исключительную чувствительность вечнозеленого кустарника, агав и диковинных карликовых пальм с мясистыми короткими ветвями: они слегка, хотя вполне отчетливо меняли цвета в зависимости от колебаний его настроения. Впрочем, настроение было довольно стабильное: ему здесь нравилось. Единственное, что его беспокоило, было отсутствие отражения. То и дело он склонялся над прозрачными водными пустотами и взирал на поверхность, гримасничая и жестикулируя без всякого толку. Никакого отражения не возникало в ответ, даже и тени собственной он ни разу не заметил. Однажды ему показалось, что он поймал свое отражение между двумя скалами, на одной из которых он сидел, пережевывая свои мысли (мы забыли добавить, что он привык также пожевывать ломтики листьев агавы). Увы, его отражение на поверку оказалось всплывшим дюгонем. Он или она (определение пола всегда сущая проблема с дюгонями) вынырнул из глубин, выпустил розовые пузыри и струи воды и спросил: «Привет, как дела?»
Не дожидаясь ответа, дюгонь мощно всплеснулся и исчез.
С этого момента довольно многие обитатели этой отдаленной территории стали появляться то тут, то там, капризные лемуры, чопорные павлины, забавные медведи-коала, жеманные кенгуру, некоторые довольно объемные тритоны… Однажды приблизилась благородных кровей, хоть и несколько застенчивая гагара. Она села рядом с ним на краю утеса, покачивая крылом и избегая его взгляда, будто юная девушка впервые в опере.
Не без спазма тоски он заметил, что птица также не отбрасывает тени и не отражается в воде. Взглянув на ее миражно подрагивающий плюмаж, он внезапно почувствовал острое желание амальгамации.
— Позвольте мне сказать, сэр, — сказала гагара голосом, дрожащим от эмоций. — Позвольте мне только сказать вам, что я влюблена в вашу длинную шею!
— В мою длинную шею? — удивился он.
— Да-да… а также и в ваши крылья, и в ваш клюв, радость моя! Если бы вы только знали, как я жажду… ох, как стыдно… амальгамации… слияния с вами, сэр…
Донельзя пристыженная гагара спрятала свою грациозную головку под левое крыло. Фламинго, то есть предмет гагариной страсти, потянулся всеми своими длинными конечностями, предвкушая высшее наслаждение.
— Перед тем как мы сольемся, — прошептал он, — вы должны знать, что я обожаю ваши перья!
— Мои перья? — удивленное круглое око выглянуло из-под крыла гагары.
Око… око… око… око… око… око… о, неземные восторги, фузия соков и чувств!
Впоследствии фламинго случалось амальгамировать свои соки и чувства с другими обитателями страны дрейфующих льдин, то с лемуром, то с коала… даже иные объемистые тритоны не обделены были его вниманием, однако он никогда не испытывал с другими того состояния полной завершенности, то есть почти полного саморастворения, какое он испытывал с гагарой.
Рано или поздно большинство обитателей перезнакомились друг с другом. Доминировали чувство взаимной вежливости и несколько прохладные утонченные манеры. Они много говорили о разных абстрактных вопросах, однако тема отражения или, вернее, отсутствия отражения была их главной заботой.
Однажды через поле зрения всех обитателей прошел авианосец «Кащей Бессмертный». Он тоже был лишен отражения, однако антенны радаров грозно вращались. Все проводили боевую единицу задумчивыми взглядами, понимая, что это уходит, не желая сдаваться, Эпоха Торжеств.
В другой раз все они, или, по крайней мере, персон тридцать, собрались на одной из многих льдин, что циркулировали в этой части мира. Уплотнившись на малой льдине, они напоминали экзотическую фруктовую нашлепку на порции мороженого «хаген-датц».
— Ну, что ж, — произнес один, — значит, можно рассматривать вопрос отражения как самый смысл существования?
— Надо уметь отличать фальшивое отражение от подлинного, — сказал другой. — В то время, как первое не имеет никакого отношения к целям вечного искусства, последнее прокладывает путь к сияющим вершинам духовной революции.
— Должен признаться, — вздохнула третья персона, — что моя тяга к слияниям порой производит препятствия перед моим стремлением к отражению…
Внезапно ярчайший луч, ярчайший за все времена луч опустился на них из облака, и они увидели свои отражения на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, то есть всегда, они могли видеть себя как Филлариона Ф. Фофаноффа, Урсулу Усрис, Джима Доллархайда, Генри Трастайма, Джоселин Трастайм и Ленку Щевич, Каспара Свингчэара, полковника Черночернова и генерала Егорова, Марту Арвидовну, Филиситату Хиерарчикос, Карлоса Хаммарбургеро, Алика Жукоборца, Доктора Хоба и старагента Брюса д’Аваланша, и прочая, и прочая, вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой читатель, не говоря уже о живописном трио, — Чарльз, Тед и матушка Обескураж, — а затем они вдруг увидели отражение своего далекого дома, города Вашингтона-Нашингтона, дистрикт Коломбины.
— Из-за чего вообще-то был весь этот шухер? — спросил голос с японским акцентом. — Еще год назад я опубликовал эти записки Достоевского в журнале «Рыболов Хоккайдо»…
— Экая опять неуместность! — прогудел голос с петербургским акцентом.
Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегчения они приступили к своей финальной и всеобщей амальгамации.
Писался с 1986 по 1989 в городе Вашингтоне, на островах Шелтер и Корфу, в крепости Дубровник и снова в городе Вашингтоне
Стальная Птица

 «Стальная Птица» — повесть впервые напечатана в сборнике повестей и рассказов В. Аксенова «Рандеву», Москва, Издательство «Текст», 1991. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Стальная Птица» — повесть впервые напечатана в сборнике повестей и рассказов В. Аксенова «Рандеву», Москва, Издательство «Текст», 1991. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится.
Тяжелый танк не проползет.
Там пролетит стальная птица.
Боевая песня 30-х годов
Появление героя и попытка портрета
Кажется, герой моего повествования появился в Москве весной 1948 года, во всяком случае, на Фонарном переулке он был замечен именно тогда. Возможно, что он обитал в столице и раньше, никто не отрицает, может быть, даже ряд лет, мало ли еще у нас осталось белых пятен на карте города.
Острый запах плесени, очень нечистого и влажного белья, почти мышиный запах поразил людей, столпившихся вокруг пивного киоска, что напротив дома № 14 по Фонарному, когда герой проходил мимо. В ноздри им шибануло разрухой и ненастьем, распадом, гниением, сумерками цивилизации. Бывалый и в прошлом боевой народ, прошедший от Волги до Шпрее, был ошеломлен — уж очень не вязался этот запах, этот знак абсурдных разрушительных сил с весенним московским вечером, с голосами Вадима Синявского и Клавдии Шульженко, с мирным фырчанием плененных «бээмвэ» и «опель-адмиралов», с отменой карточной системы, с воспоминаниями об отступлениях и наступлениях, с пивом, с ржавой, но удивительно вкусной тюлькой, с женой замминистра З., очаровательные руки которой всколыхнули штору бельэтажа буквально минуту назад.
Запах этот вязался с тем, чего не было даже в самые гиблые времена, с тем, о чем нормальный человек никогда не думает не гадает, даже не с адом, с чем-то похуже.
Ошеломленные эпизодические персонажи немо уставились на слабую спину моего героя, и в это время он остановился. Бывший десантник Фучинян, человек мгновенных и точных решений, и тот растерялся, глядя на героя, на бледные, слегка волосатые его кисти, на две авоськи в этих кистях, на авоськи с выпирающими из ячеек клочьями желтых газет. Из авосек что-то темное капало на асфальт. Все же Фучинян решил встряхнуть народ шуткой, ликвидировать гнетущую ситуацию, сгруппировать дружков для отпора.
— Вот крысеныш, — сказал он. — Был бы котом, слопал бы, и дело с концом.
Дружки захохотали было, чуть ли не сгруппировались, но в это время герой мой повернулся к ним и остановил хохот невыразимой печалью своих глазниц, глубоких и темных, как железнодорожные тоннели в раскаленной Месопотамии.
— Скажите, пожалуйста, товарищи, — сказал он обыкновенным голосом, от которого все же что-то дрогнуло у каждого пивника внутри, — как мне пройти к дому № 14 по Фонарному переулку.
Эпизодические персонажи молчали, и даже Фучинян молчал.
— Не откажите в любезности объяснить, — сказал герой, — дом 14 по Фонарному.
— У вас что-то капает из сеток, — глухим, срывающимся голосом промолвил Фучинян.
— Немудрено, — кротко улыбнулся герой. — Это мясо, — он поднял правую руку, — а это рыба, — он поднял левую руку. — Omnea mea mecum porto, — он еще раз улыбнулся, в месопотамских тоннелях забрезжил свет.
— Дом 14 напротив, — сказал кто-то. — Вот этот подъезд. Вам кого там?
— Спасибо, — сказал герой и пошел через улицу, оставляя за собой две цепочки темных пятен.
— Где-то я видел этого, — сказал кто-то.
— Я тоже встречал, — сказал другой.
— Знакомое рыло, — сказал третий.
— Довольно! — закричал Фучинян. — Вы меня знаете, я — Фучинян! Кто хочет пива — пусть пьет, а кто не хочет, пить не будет. Тут все меня знают.
И, несмотря на ужасно нервную обстановку, все стали пить пиво.
ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА
И БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
До сих нор история с его первой болезнью и с моим участием в ней остается для меня загадкой. Во-первых, я не понимаю, как это я, в то время уже опытный клиницист и по общему мнению неплохой диагност, не смог установить диагноз, не смог даже ориентировочно предположить характер болезни. Я никогда не видел ничего подобного — не было печки, от которой можно было бы танцевать, не было ни малейшего плацдарма для развития медицинской мысли, не было никакой зацепки.
Передо мной лежало оголенное тело сравнительно молодого Мужчины; подкожный жировой слой был несколько недостаточен, но, в общем, близок к норме; кожные покровы бледные, грязные, несчастные (помню, что я похолодел от страха, когда Употребил в уме этот абсолютно не медицинский термин, но Дальше дело пошло еще хуже); дыхание ровное, хрипов не прослушивалось, а только лишь прослушивался хлопотливый шепот альвеол, да с тихим чириканьем гемоглобин насыщался кислородом; сердечные тоны отчетливы и ритмичны, но все же при Прослушивании мне стало ясно, что это страдающее сердце (мы, врачи, смеемся над лирическим термином «страдающее», ибо каждому мало-мальски культурному человеку известно, что духовные страдания развиваются в коре больших полушарий, но в данном случае это было духовно страдающее сердце, и мне опять стало страшно); живот мягкий и безболезненный при пальпации, но в сигмоидальной кишке таилась странная игривость (это совсем сбило меня с толку); периферические кровеносные сосуды просматривались на конечностях под кожным покровом, а на правом бедре я вдруг прочел формулу крови, словно отпечатанную на бланке нашей клинической больницы: L-6500, РОЭ-5 мм/час, НВ-98 (формула была нормальна) — словом, никаких признаков физического страдания при объективном осмотре обнаружено не было, и лишь в глазах его, в глубоких впадинах, в древнем пещерном городе, бушевали пневмония, милиарный туберкулез, сифилис, рак, тропическая лихорадка, вместе взятые.
Все это во-первых, а во-вторых, я совершенно не понимаю, почему я не отправил его в клинику, а выскочил ночью на улицу и обегал всю Москву, будоража коллег, в поисках дефицитнейшего в те времена пенициллина.
Когда, вернувшись, я склонился над ним со шприцем, в котором был драгоценный пенициллин, какая-то из бесчисленных женщин, окружавших его ложе, пролепетала сзади:
— Доктор, ему будет не очень больно? Не очень, правда?
У меня у самого руки дрожали от жалости к этому существу, и ничтожный укол, который я собирался ему сделать, казался мне чуть ли не лапаротомией, но все же я вспомнил о своем медицинском звании и коротко приказал:
— Перевернитесь на живот.
Мгновенно он крутанулся на живот, я даже не разобрал, усилием каких мышц было совершено это движение.
— Спустите кальсоны, — сказал я.
Он спустил кальсоны, и обнажились ягодицы очень неприятного вида, они были похожи на опушку леса, где корчевали пни, а потом прошел лесной пожар.
— Бедный, — ахнули позади женщины.
Когда игла вошла в верхний наружный квадрат правой ягодицы, мой пациент задрожал сначала мелко-мелко, потом началась бурная вибрация всего его тела, что-то щелкало, клокотало у него внутри, что-то свистело, по подушке расползались пятна пота, но это продолжалось не более минуты, потом все стихло, и он успокоился.
«Что это? — думал я, медленно двигая поршень шприца вперед. — Какие же тайные цепи приковали меня вдруг к этой ужасной заднице, к этому трансцендентальному существу?»
Когда процедура была окончена, пациент сразу перевернулся на спину, и в глазах его появились желтые огни, как прожекторы приближающихся поездов. Он улыбнулся кротко, даже униженно.
— Когда будем еще колоться, доктор? — спросил он.
— Всегда, дружок, когда захотите, в любое время дня и ночи, по первому мановению вашей руки, по первому призыву, где бы я ни был, — ответил я, не шутя.
— Спасибо, доктор, — просто поблагодарил он, но у меня сразу стало тепло на душе.
— Спасибо, доктор дорогой, вы его спасли, — зашептали женщины, смыкая кольцо. Мы замолчали все, чтобы запомнить навсегда величие этой минуты.
Все— таки я не удержался и измерил ленточным метром некоторые пропорции его тела. Эти данные я долгие годы хранил в секрете, а недавно их зашифровал Комитет по координации научно-исследовательских работ.
Глава первая
Николаев Николай Николаевич, управляющий домами Фонарного переулка, был занят разбором конфликта, вспыхнувшего между жильцами 31-й квартиры дома № 14 Самопаловой Марией и Самопаловым Львом Устиновичем.
Дело было хоть и нехитрое по сюжету, по сплетениям, но жестокое, боевое, примирения не предвиделось.
Мария и Лев Устинович прежде были супругами, но лет за десять до войны разошлись из-за непомерного разрыва в культурном уровне. Управдом это хорошо понимал и сочувствовал Льву Устиновичу, уважал его за решимость и сильную волю, потому что сам вот уже четверть века тяготился низким культурным уровнем своей благоверной.
Все это было давно и быльем поросло, и теперь, конечно, бывшим супругам даже не вспоминалось, что когда-то они сплетались в нежных объятиях и забывали самое себя в порывах безудержной взаимной страсти. Теперь они сидели перед Николаевым и смотрели друг на друга с тяжелой застоявшейся недобротой. Надомница Мария была грузная и темная лицом, а зав. парикмахерским цехом Лев Устинович как раз наоборот — суховат и светел.
Самопалов тогда же, лет за десять до войны, ввел в свой дом Зульфию, женщину восточного происхождения, и прижил от нее четырех мальчишек-чертенят, а Мария все эти годы бедовала с первенцем Самопалова, дочерью Агриппиной, оставила она ее при себе, воспитала и сделала помощницей в своем нелегком надомном ремесле.
Суть конфликта сводилась к жалобе Льва Устиновича на то, что Мария, прежде промышлявшая безобидным вышиванием, теперь завела себе ткацкий станок, который своим стуком, естественно, не создает Самопалову и его семье условий для отдыха никаких. Аргументы сторон были все уже исчерпаны, кроме главных козырных, которые были припрятаны про запас, и теперь стороны обменивались только ничего не значащими репликами.
— Обормоты вы, Лев Устинович, — говорила Мария.
— А вы, Мария, себялюбец, узкий эгоист, — парировал Самопалов.
— Ваш Сульфидон стучит погромчее моего станка, когда о стенку вас головой-то колошматит.
— Боже мой! — задохнулся от негодования Самопалов. — Какая клевета! И потом я запретил вам, Мария, называть Зульфию Сульфидоном.
— А дитяти ваши как вечерами базлают? — не унималась Мария.
— А ваша Агриппина как ходит, полы дрожат! — воскликнул уязвленный Самопалов.
— Моя Агриппина такая, как голубица, а вам, Лев Устинович, к сигналам прислушаться стоит — харкаете по утрам в туалете и производите звуки, аж на кухню не пройти.
— Неправда!
— Правда!
— Дети! — позвал Самопалов, и в кабинет управдома сразу вбежали четверо смуглых его пареньков, лучшие физкультурники дома № 14.
— Агриппина! — крикнула Мария, и в кабинет, переваливаясь, вкатилась невероятно пышная блондинистая ее дочь, лицом — вылитый Самопалов.
— Стыд-позор, Лев Устинович, — затараторила она, — как вы нас с матушкой притесняете в коммунальном вопросе, сил никаких нет.
Дети Самопалова от Зульфии, Иван, Ахмед, Зураб и Валентин, крича, обступили Агриппину, и управдом Николаев не мог уже разобрать ни единого слова.
Ситуация, возникшая в 31-й квартире, угнетала Николая Николаевича невыразимо своей безысходностью, вся эта буря страстей вызывала в нем только печаль, но, Боже упаси, чтоб он выказал эту печаль и тревогу, ведь он был администратор, воля и страх, слово и дело Фонарного переулка. Как он мог помочь этим людям, к чему он мог их призвать? Термина «мирное сосуществование» в то время не было. Единственное, что он мог сделать, — посадить кого-нибудь из Самопаловых в тюрьму, но это, как ни странно, даже в голову ему не пришло. Что же делать, что предпринять, на кого опереться? Роль общественности в то время, как известно, была сведена к нулю: разделять и властвовать, кнутом и пряником, как там еще.
— Замолчали, — негромко приказал он, и все Самопаловы замолчали, потому что знали — Николай Николаевич, хоть и медведь с виду, но бывает крут, а порой и своенравен.
— Я вам приказываю с сего дня прекратить раздоры и бои, — сказал жестко управдом и добавил уже мягче, с внутренней улыбкой: — Все ж таки родственники.
— А как же ткацкий станок? Поломать надо ткацкий станок! — рванулся было горячий Иван, но более рассудительный Ахмед его остановил.
— Товарищ управляющий домами, — обратился Самопалов, пуская в ход запрятанные козыри, — ткацкий станок, как мне кажется, это типично капиталистическое средство производства, а в нашей стране, как мне кажется…
— Ах, Лев Устинович! Ах, такой-сякой! — вскричала Мария, поняв смысл его выступления. — Сами-то держите ваши средства и клиентов на дому принимаете, и замминистра у их в квартире сроете, халтурите налево, а бедную вдову под монастырь хотите подвести!
— Позвольте, какая же это вы вдова? — возмутился Самопалов. — Я ведь еще, кажется, жив. Среди моих жен вдов еще покамест не было.
— Мамички справка есть из артели на станок, — заревела белугой Агриппина.
— Все равно не отдам станка, хоть со справкой, хоть без справки, — заявила Мария. — Я советский человек и станочка своего любимого не отдам. Сталину буду писать, отцу нашему.
— Не сметь! — закричал тут управдом, не на шутку рассердившись. — Не смейте упоминать имя Генералиссимуса Сталина всуе! Это что еще такое? Только и дело Иосифу Виссарионовичу до ваших склок, до вашего станка дурацкого.
Ссора затихла, и Самопаловы покинули помещение конторы.
Николай Николаевич, отгоняя печальные мысли, навел на своем рабочем месте элементарный порядок, закрыл контору и отправился домой. Жил он в том же доме № 14, что и Самопаловы, построенном в 1910 году, а посему облицованном светящимся на закате кафелем. Дом имел шесть этажей, один парадный подъезд с вычурным козырьком над ним, действующий, хотя и дореволюционный лифт, центральное отопление, телефоны и прочие удобства. Было в доме 36 квартир и 101 ответственный квартиросъемщик. Словом, этот дом был гордостью Фонарного переулка, да и во всеарбатском даже масштабе он был явлением значительным.
Отужинав, просмотрев «Вечерку» и покормив роскошных своих вуалехвостов, Николай Николаевич сел на тахту, извлек из чехла корнет-а-пистон и крикнул жене:
— Клаша, замкни!
Жена, привыкшая к таким командам, ничего не спрашивая, замкнула входную дверь и навесила цепочку. Николай Николаевич поднес к губам инструмент и тихонько нежнейшим образом стал выводить мелодию «…И по эскадронам бойцы-кавалеристы, подтянув поводья, вылетают в бой».
Тут следует открыть маленькую тайну Николая Николаевича. До войны он был солистом духового оркестра в ЦПКО им. Горького, а в военные годы, хоть и рвался на передовую, был Начислен в оркестр фронта. Игра корнетиста Николаева многих военачальников привлекала чистотой и мажорностью звука, и поэтому он дослужился к концу войны до майорского звания. Гвардии майор. Выйдя в отставку, он понял, что обратного хода ему нет, — не может, не имеет права гвардии майор быть каким-то легкомысленным корнет-а-пистонщиком, хоть в ЦПКО, хоть даже в оркестре Большого театра. Перечеркнув свое прошлое, Николаев явился в райком и попросился на руководящую работу. Так он стал управляющим домами. Естественно, никто из жителей Фонарного переулка не знал о прошлом Николая Николаевича, а те, кто слышал по вечерам чистые мажорные звуки, воображали, что это радио. Правда, стал иногда Николай Николаевич сбиваться на минор: такая уж работа, кого хочешь может настроить на невеселые размышления, а то и на философию. Да ведь и сами эти вечерние потайные упражнения стали предметом тоски Николая Николаевича, предметом воспоминаний о звонкой веселой жизни, о задорном коллективном труде, к которому ему мешало вернуться звание гвардии майора.
Николай Николаевич был музыкантом высокого класса и достиг уже такой степени сближения со своим инструментом, что иногда корнет-а-пистон начинал выражать столь глубокие мысли и чувства своего хозяина, которым обычно управдом Николаев не давал хода и о которых даже порой не подозревал в своей жизнедеятельности.
Вот и сейчас с целью отвлечения от печали Николай Николаевич начал исполнять жизнерадостную кавалерийскую песню, но не заметил сам, как перешел на странную и не очень-то веселую импровизацию.
«Как же получилось, как же оказалось, почему в раздоре Само-па-ло-вы? — пел корнет. — Бедный, бедный Сталин, вождь ты мой несчастный, батюшка родимый, милый удалец».
Тут следует заметить, что Николай Николаевич, помимо обычного для того времени сыновнего уважения к Сталину и преклонения перед его гениальными качествами, питал еще к вождю самую обыкновенную жалость, то есть относился чуть ли не по-отечески, как к своему ребенку, отторгнутому от родителей бесчеловечною судьбой, или как к сироте. Иногда ему казалось, что вождя совсем замытарили его соратники и министры, а также 220 миллионов советских людей плюс все прогрессивное человечество. Конечно, чувств этих он боялся, таил их, но вот иногда они вдруг вырывались через корнет-а-пистон.
— «Люди, дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви? Тетушка Мария, свой станок несчастный запускай потише, не мешай другим. Дорогой парикмахер, милый Самопалов, вспомни, как Марию нежно ты ласкал, вспомни про дитятю, подели жилплощадь, законы общежития соблюдай во всем. Не пиши ты Сталину, милая Мария, не мешай несчастному думать и творить. Пожалей, голубушка, знаменосца мира, милого, родимого сына и отца», — так пел корнет.
— Тема вождя у вас великолепна, — сказал кто-то за спиной Николая Николаевича.
Трудно, невозможно описать состояние Николая Николаевича в следующий момент. Физические его действия были крайне неприглядны: во-первых, он выронил корнет, во-вторых, упал на пол, в-третьих, пукнул, в-четвертых, попытался спрятать свой инструмент под валик тахты и, наконец, только в-пятых — обернулся.
Перед ним в нерешительной позе стоял человек с двумя авоськами в руках. Из авосек что-то темное капало на паркет.
— Что? Что вы сказали? — воскликнул Николай Николаевич.
— Не волнуйтесь, — сказал человек, — я просто сказал, что вы очень трогательно и оригинально выразили тему вождя. Такой трактовки я еще не слышал.
— Откуда вы знаете, что я выражал? Что это за парадоксы?
— Просто я понимаю и люблю музыку, — очень серьезно сказал человек с авоськами.
— Значит, вы понимаете язык моего корнета? — Николай Николаевич все еще вел диалог на повышенных, чуть ли не визгливых тонах.
— Да.
— Вы композитор?
— Нет.
— Кто вы такой?
— Я Вениамин Федосеевич Попенков.
Николай Николаевич замолчал и уставился на пришельца. Тот стоял перед ним, субтильный, нечистый и очень вонючий, в затертой бахромчатой пиджачной паре, однако из хорошего довоенного сукна «ударник», в гимнастерке под пиджаком, человек без единого ордена или планки, но с двумя довоенными значками — «МОПР» и «Ворошиловский стрелок». Николай Николаевич больно ущипнул себя сзади — все напрасно, это была тяжелая роковая явь.
— Поймите, — прервал тишину тот, кто назвался Попенковым, — то, что вы играли, очень близко мне. Это моя жизнь, мои чувства, мои страдания. Возьмите этих Самопаловых, к которым так трогательно обращался корнет, я их не знаю, должно быть, это прекрасные, прекрасные (прекрасные! — выкрикнул он) люди, но неужели они не могут поладить? А то, что вы играли о Сталине, это вот здесь, — он указал подбородком на область сердца.
— У вас что-то капает из сеток, — мрачно сказал Николай Николаевич, в душе его дрогнули все струны.
— Немудрено, — кротко улыбнулся Попенков. — Это мясо, — он поднял правую руку, — а это рыба, — он поднял левую руку. — Ornnea mea mecum porto, в переводе — все мое ношу с собой.
— Вы из заключения? — спросил Николай Николаевич. Надежда еще теплилась в нем. ' — Нет, — ответил Попенков, — с врагами народа никаких, даже родственных связей не имею.
Николай Николаевич почувствовал себя раздавленным, жалким, почти голым, почти рабом.
— Что вам угодно? — все еще хмурясь, цепляясь все еще за свою должность, спросил он.
Николай Николаевич, товарищ Николаев, жалобно заговорил Попенков, я к вам не только как к человеку, не только как к музыканту, но и как к управляющему домами. Вы прекрасный, прекрасный (прекрасный! — гаркнул он) человек!
Тут он присел и взглянул снизу на Николая Николаевича глубокими впадинами своих глаз, и словно жар пустыни коснулся Николая Николаевича, такова была печаль этих глаз. В следующий момент Попенков, оставив на полу авоськи, подпрыгнул высоко, даже, пожалуй, слишком высоко, бешено потер руки и приземлился.
— Николай Николаевич, я прошу приюта, крова, крыши над головой в одном из вверенных вам домов.
— Но вы же знаете о паспортном режиме, — жалко пролепетал Николай Николаевич, — потом куда же я вас поселю, все и так заселено сверх мочи.
— Николай Николаевич, я раскрою карты, я расскажу вам все, — быстро заговорил Попенков. — Я шел сюда издалека, я много пережил, я летел сюда, подгоняемый верностью и любовью к одному человеку. Вот уже год… то есть, простите, вот уже неделю я живу в котловане Дворца Советов. И вот наконец я нашел в себе мужество прийти к нему. Карты на стол — я говорю о замминистре товарище З.! Дело в том, милый Николай Николаевич, что я несколько раз спасал З. жизнь. Я жертвовал собой ради него, и он говорил мне: Вениамин, приезжай ко мне, будешь моим другом, братом, частью меня самого. И вот я пришел, и что я вижу — жена, молодая красавица, красавица (красавица! — выкрикнул он), антикварные гарнитуры… Я очень обрадовался за него. Но З. меня не узнал, больше того, он даже испугался меня. Я не понимаю, как можно пугаться меня, маленького жалкого человека. Короче, З. показал мне на дверь. Поверьте, я не осуждаю его, З. — замечательный, замечательный (замечательный! — крикнул он) человек, я понимаю его — ответственный участок работы, умственное и физическое перенапряжение, молодая жена, и т. п., но что мне теперь делать, ведь это была моя последняя надежда.
Попенков снова присел на корточки и глянул на Николая Николаевича снизу вверх, и, если бы управдомами имел хоть небольшое представление о географии нашей планеты, он сравнил бы печаль его очей с древней печалью Месопотамии или выжженных солнцем холмов Анатолийского полуострова. Но поскольку у него не было предмета для сравнения, неопосредствованная печаль этих очей подействовала на него сильнее, чем на какого-нибудь ученого географа или историка.
— Вот вы говорите, что страдали, что жили в котловане, и все-таки я не знаю, где вас поселить, — дрожащим срывающимся голосом сказал Николай Николаевич. — Ведь вы понимаете, я не могу резонно повлиять на З., ведь это птица не моего полета…
— Да-да, и не моего тоже, — поддакнул Попенков.
— Он и живет-то у нас просто, знаете ли, из своего рода чудачества, да еще из-за того, что жена его любит дореволюционные лепные потолки, по сути дела, он живет здесь, на Фонарном, просто из-за своего демократизма, и я уж не знаю, как с вами-то быть, товарищ Попенков, — Николай Николаевич растерялся вконец.
— Да вы не смущайтесь, — ободрил его Попенков, — я ведь неприхотлив. Любое подсобное помещение. К примеру, ваш подъезд, он обширен и прекрасен…
— В подъезде нельзя, участковый, знаете ли, очень суров. На дворников я еще могу повлиять, но участковый…
— А-та-та-та-та-та, а-та-та-та-та-та, — звонко щелкая языком, задумался Попенков. — А-та-та-та-та-та… Лифт! Ваш отличный просторный лифт! Меня бы это вполне устроило.
— Лифт — место общего пользования, — пробормотал Николай Николаевич.
— Ну, разумеется, — подтвердил Попенков, выпрямляясь. — Поверьте, я никому не буду мешать. Вы мне дадите раскладушку, и я буду ставить ее в лифте только тогда, когда удостоверюсь, что все в сборе, что все птички уже в гнездышках, а в шесть утра я уже на ногах и лифт к общим услугам. В случае крайней ночной надобности, «скорая помощь», или, скажем, из органов товарищи придут, я моментально освобождаю лифт, выпархиваю из него. Идет? Ну? Ну, Николай Николаевич? Я вижу, вы уже согласились. Ну, последнее усилие. Вспомните, дорогой, о чем пел ваш корнет-а-пистон. «Люди дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви…»
— Ну, хорошо, раскладушку я вам дам, но вы уж извольте помнить, что лифт — место общего пользования, — заворчал Николаев, всегда он так ворчал, когда шел кому-нибудь навстречу. — Пойдемте, товарищ Попенков.
— Подождите! — воскликнул Попенков. — Давайте помолчим. Такие минуты надо фиксировать.
Николай Николаевич, в полной уже расплывчатости, словно под гипнозом, молча зафиксировал эту минуту.
Затем они вышли в переднюю. Клавдия Петровна выглянула из кухни и замерла, открыв рот, глядя, как муж ее лезет на антресоли за раскладушкой. Попенков скорбно взирал на нее уже с лестничной площадки.
— Вот вам раскладушка, — буркнул Николаев. — Учтите, рассчитана только на одного: пружины слабые.
— Николай Николаевич, вы
прекрасный, прекрасный (прекрасный!) человек. — Попенков с раскладушкой под мышкой стал спускаться.
— Скажите, а как вы попали ко мне? — спросил вслед Николаев. Попенков обернулся:
— Обычным путем. Да вы не волнуйтесь, Николай Николаевич, о вашем корнете я никому. Ни гу-гу, могила. Ведь я понимаю, у каждого есть свои маленькие тайны, вот я, например…
— Вы уж меня, пожалуйста, в ваши тайны не посвящайте, — мрачно сказал Николаев, покосившись на авоськи, из которых продолжало что-то капать.
Закрыв дверь, он напустился на Клавдию Петровну:
— Ты что же, мать, двери не закрываешь, когда тебя просят?
— Коля, дружок, побойся Бога, замкнула я, как взялся ты играть, и цепочку навесила.
— Что же он в окно влетел, что ли?
— В самом деле, — ахнула Клавдия Петровна, — не в окно же. Может, и впрямь я запамятовала, закрутилась по кухонным вопросам. Старею, Коля, склероз, видать… А кто таков-то?
— Из органов, — буркнул Николай Николаевич, чтобы пресечь дальнейшие расспросы.
Супруга у него была натренированная и затихла.
В этот вечер некоторые из жильцов, проходя в лифт, замечали в темном углу парадного скорбную фигурку с двумя авоськами и с раскладушкой, а некоторые проходили, не замечая. Попенков приветствовал жильцов смиренным наклонением головы. Когда последний жилец, легкомысленная Марина Цветкова, ловко ускользнув от провожающего офицера, поднялась в лифте к себе на этаж и когда офицер перестал колобродить по подъезду и возмущаться коварством Марины, Попенков опустил лифт, поставил в нем раскладушку, поел немного мяса, немного рыбы и принял горизонтальное положение. В этом положении он с чувством глубокой благодарности подумал об управдомами Николаеве, с легкой симпатией о Марии Самопаловой, которую знал пока только по песне корнета, с легкой укоризной о замминистре З., с легким волнением о его молодой красавице жене, с легкой игривостью о быстроногой Цветковой Марине, а затем погрузился в мечты.
Мечты его были необузданы, почти фантастичны, но о них мы пока распространяться не будем, скажем только, что если для всех людей сон — это сон, со сновидениями или без, то для Попенкова сон — это как бы своеобразный разгул мечты.
Утром, ровно в шесть, Попенков очистил лифт и встал в своем углу, смиренно приветствуя выходящих из дома жильцов. Так было на следующий день, на третий, на пятый, на десятый…
Естественно, поползли всякого рода слухи, домыслы, предположения, но в конечном счете все это стекалось в домовую контору и там останавливалось.
Между Николаевым и замминистром З. произошел разговор такого рода.
— Послушайте, товарищ майор, — сказал З., — этот тип из подъезда, он ничего вам обо мне не говорил?
— Он говорил, что не раз спасал вам жизнь, — ответил Николаев.
— Очень многие люди спасали мне жизнь, но вот этого я что-то не помню, — задумался З., — нет, решительно не помню.
— Может быть, еще спасет, — предположил Николаев.
— Вы так считаете? — опять задумался З. — А он не опасен? А то, знаете, сам я не из трусливого десятка, но милиционер мой волнуется.
(На площадке замминистра постоянно дежурил старшина милиции Юрий Филиппович Исаев.)»
— Я думаю, он не опасен, — сказал Николаев, — что в нем опасного? Несчастный человек, тонкий, разбирающийся… в искусстве.
— Ну тогда пусть, — махнул рукой З.
Вот собственно говоря и все, на этом заканчивается первая глава. Следует только еще сказать, что к Попенкову скоро все привыкли, а многие даже прониклись сочувствием. Вскоре он стал вхож в некоторые квартиры.
Он умел слушать людей, сопереживать, и довольно большая часть жильцов раскрыла перед ним свои души. Правда, рабочий класс во главе с водолазом Фучиняном косился на Попенкова и близко к себе не подпускал.
Справка техника-смотрителя
Двойная дверь дома № 14 открывается наружу, ширину имеет 3 метра 52 сантиметра, высоту 6 метров 7 сантиметров. Дверь изготовлена из древесной породы, называемой «дуб», имеет с двух сторон медные ручки в виде пресмыкающегося животного «змеи».
Над дверью имеется фонарь в сетке из цветного металла, сетка состоит из 24 ячеек, лампочка (100 В) цела.
Примечание. Дубовая поверхность обеих створок двери имеет резное изображение виноградного фрукта, сильно пострадавшее в нижних частях. В трех сантиметрах от наружной ручки вырезанная острым предметом надпись из трех букв скрыта гремя параллельными надрезами но приказанию домовой конторы, однако при внимательном рассмотрении читается.
Пройдя через двери, мы имеем перед собой овальное помещение, т. н. парадное, площадью примерно 178,3 кв. метра. Цифра приблизительна, поскольку точную квадратуру овала измерить столь же трудно, сколь квадратуру круга. Высота куполообразного потолка «парадного» в высшей точке 16,8 метра. Пол представляет кафельную мозаику ориентального, точнее мавританского характера (консультация в Институте востоковедения). Пол имеет повреждения плиточного фонда в размере 17,2 % к общему числу плиток.
С потолка свисает на металлическом шнуре люстра-плафон в виде древнегреческой амфоры с ручками (консультация в Музее им. А. С. Пушкина).
Бездействует и представляет собой угрозу для жизни ввиду износа шнура, но в связи с отсутствием в домовой конторе соответствующих лестниц-стремянок (12 м) не может быть ликвидирована для передачи в музей.
Освещение «парадного» осуществляется через посредство четырех плафонов, по два с каждой стороны, каждый плафон имеет по три патрона для электроламп. Из двенадцати ламп действуют восемь. Свет рассеянный, мутно-желтый. Дальний правый плафон поврежден (разбит) с левого угла, отчего образуется луч, упирающийся в нишу, расположенную по левую руку от двери на расстоянии 1,25 метра от последней. Ниша имеет сводчатый верх, высоту 2,5 метра, ширину 1,5 метра. Ранее в нише помещалась полая чугунная скульптура императора Петра I, от которой сейчас остались лишь сапоги высотой 1,1 метра, именуемые еще ботфортами (консультация в журнале «Октябрь»).
Окраска стен на уровне 1,6 метра — темно-синий колер, масляная краска с применением олифы. Выше и по всему куполу фрагменты сильно пострадавших фресок (1914 г. н. э.), как-то: кудри, конечности, складки одежды, женские молочные железы и т. п., элементы древнегреческой мифологии (консультация в журнале «Октябрь»).
Примечание. Справа и слева по стенам на темно-синем фоне имеются меловые надписи и рисунки, затертые по приказанию домовой конторы, хотя никому данные надписи и рисунки не мешали.
Дневное освещение «парадного» осуществляется через посредство шести окон с цветными витражами, по три окна с каждой стороны. Окна стрельчатые, высотой 4,5 м, шириной 0,5 м, расположены на высоте 0,7 м от пола на расстоянии 0,8 м друг от друга. Витражи левой стороны отражают ориентальный, точнее японо-китайский сюжет, как-то: гейши, рикши, водоносы, чайные домики, канонерские лодки (консультация Общества советско-китайской дружбы).
Окна правой стороны отражают средневековый франко-германский сюжет, как-то: рыцари, менестрели, прекрасные дамы, животные, лошади, холодное оружие (консультация Общества советско-французской дружбы). Нижняя часть второго левого витража укреплена листом фанеры размером 0,5 м х 0,9 м, нижняя часть первого правого витража укреплена картоном 0,5 х 0,9.
Помещение отапливается — вдоль стен расположены четыре калорифера центрального отопления по три секции каждый.
В глубине овального помещения имеется шахта лифта с находящимся внутри действующим лифтом. На дверях лифта укреплены четыре эмалевых белых таблички 0,2 х 0,4 с черными буквами. Объявления гласят: «Берегите лифт — он сохраняет ваше здоровье», «Сначала выгрузите детей, потом выгружайтесь сами», «С собаками проезд воспрещен», «Лифт — не уборная!»
Внутренность лифта представляет собой коробку площадью 4 кв. м, высотой 2,5 м, покрашенную в коричневый цвет, с зеркалом прямоугольной формы, зигзагообразно расколотым в 1937 году.
Справа от лифта начинается первый марш беломраморной лестницы, насчитывающей тридцать восемь ступеней, из которых повреждено шестнадцать. В самом начале лестницы укреплена полая чугунная фигура высотой 1,25 м, не определенная специалистами никак. В правой руке фигуры имеется фонарь, который некоторые жильцы пытаются использовать как мусорную урну, тогда как знают прекрасно, что фонарь прикреплен наглухо, не переворачивается и что же получится, если мусор заполнит его до краев?
Партия корнет-а-пистона
Тема: Здравствуй, столица, здравствуй, Москва! Здравствуй, московское небо! В сердце у каждого эти слова, как далеко бы он ни был…
Импровизация: Бедный, несчастный, лежал в котловане, долгие годы страдал. Спас замминистра и им же был изгнан, где ж благодарность тогда? Нет справедливости, нет справедливости, могут птенца загубить. Бедный, вонючий, ужасный прохожий, кто ты таков, наконец? Есть ли прописка, имеешь ли маму, паспорт имеешь ли ты? Птенчик ужасный, живи в своем лифте, только молчи про меня. Если расскажешь, мне будет ужасно, я замолчу навсегда. Бремя ужасное авторитета давит и ночью, и днем. Пост в руководстве — дело большое, дело — ужасное есмь…
Внезапный конец партии: Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка?
Глава вторая
Что случилось? Что стряслось? Стук и крик по всем этажам, ночной аврал в доме № 14 по Фонарному. Старшина Юрий Филиппович, обомлев от страха, забарабанил в дверь З., ввалился в квартиру и задрожал в объятиях замминистра.
— Что с вами, Юрий Филиппович? — спрашивал З., полчаса назад вернувшийся с ночного совещания. — Что случилось?
— Не знаю, батюшки родимые, не знаю, матушки родимые… стуки, крики, — бормотал Юрий Филиппович.
Оставив своего стража супруге, З. рванулся за заветным браунингом.
Дети Самопалова горохом посыпались с шестого этажа. Мария с перепугу повесилась на шею Льву Устиновичу. С другой стороны его схватила Зульфия. Лишь Агриппина, на что теха-матеха, тут же вооружилась шкворнем в готовности защищать ткацкий маменькин станок.
Доктор Зельдович с пятого этажа вышел на площадку уже одетый, в пальто и теплой шапке, с чемоданом. Семейство его тоже подготовилось в течение нескольких минут.
А началось все с того, что легкомысленная Марина Цветкова пугливой антилопой пронеслась по четырем маршам беломраморной лестницы и чуть не сорвала с петель двери квартиры Николая Николаевича.
Николай Николаевич в это время, в глухую ночь, сидел в туалете и, таясь уже от собственной семьи, занимался со своим корнетом. Под сурдиночку, почти беззвучно. Партия корнета была прервана безбожным, невероятным стуком и громом.
— Товарищ Николаев! — кричала Цветкова.
— Этот! ваш! протеже! там! в лифте!..
— Что с ним? — медведем заревел Николаев.
— В судорожном! состоянии! — расширяя и без того огромные глаза крикнула Цветкова.
— Спасайте, люди добрые! — панически заревел корнетист.
Весь дом был разбужен, и все устремились вниз, кто в пижамах, кто в халатах, кто в кальсонах, кто в чем. В одну минуту весь вестибюль был запружен гудящей толпой, было похоже на римский форум. Те, кто пробился поближе, видели в раскрытых дверях лифта извивающегося на раскладушке Попенкова.
— Доктора! Врача! Товарища Зельдовича! — кричали в толпе. По образовавшемуся коридору к лифту направился доктор Зельдович, и тут судороги прекратились, Попенков затих, вытянув руки по швам.
Неприятное событие (судороги, острый недуг) произошло уже через несколько месяцев после вселения Попенкова в лифт. До этого жизнь дома протекала сравнительно мирно, спокойно, почти без сучка и задоринки, во всяком случае, без внешних треволнений.
Как уже было сказано, жильцы быстро привыкли к смиренной фигуре с раскладушкой, терпеливо стоящей в самом темном углу вестибюля возле калорифера. А фигура тем временем осваивалась с новым местожительством.
Прежде всего нужно было освоить вестибюль, разобраться в его тайной ночной жизни. Глухими ночами Попенков внимательно следил за предметами, следил молча, не вмешиваясь, пока полностью не вошел в курс противоречий.
Дело в том, что ориентальный орнамент находился в прямой и непримиримой полемике с древнегреческой амфорой, повисшей над ним. По ночам он звякал плитками, менял фигуры своей мозаики с целью создать неприличное слово и тем навеки оскорбить нахальную амфору, да и фрески к тому же, все эти куски разнузданной плоти — словом, весь античный мир. Увы, все усилия орнамента были тщетны, то ли времени ему не хватало, то ли еще чего, так же, как еженощные попытки потолка организовать разрозненные части тела во что-то целое.
А в витражах происходило какое-то брожение, сдержанное бульканье страстей. Некая плоская готическая фигура, то ли Роланд, то ли Ричард Львиное Сердце, пресытившись прекрасными дамами, посылала поцелуи гейше на той стороне, а гейша, в свою очередь, повернув к рыцарю прельстительный треугольник оголенной спины, улыбалась из-за плеча, совсем презрев своих самураев и водоносов.
— Одзюо-сан, Тайхен кирейдес Идее Нэ, — шептал рыцарь по-японски.
— Аригато, — нежно, как колокольчик, отвечала гейша. — До-мо аригато.
Непонятная фигура с лестницы (это был бы Диоген, если бы не некоторые черты Аладдина) все порывалась выйти погулять, но при первом же ее движении внутренняя змея вытягивалась и шипела, а наружная яростно колотила своей головкой в дверь.
И, разумеется, всех чертовски интересовала злополучная амфора, никто не знал, что в ней. Рыцари и самураи предполагали, что там винище, ну а какой же мужчина не мечтает о вине? Прекрасные дамы и гейши убеждены были, что в амфоре благовония, и мечтали умаститься ими. К утру болтовня об этой амфоре достигала предела.
Один Попенков точно знал, что в амфоре ничего нет, кроме полувековой пыли, тринадцати засушенных мух, двух помирающих с голода пауков, да невесть как туда попавшего окурка папиросы «Герцеговина Флор».
Вообще вся эта ночная жизнь была ему не по душе. Он не без оснований подозревал, что, если так пойдет дальше, все сдвинется, и самураи рванутся к прекрасным дамам, а рыцари загуляют по гейшам; канонерки высадят десант «томми»; парень с фонарем пойдет погулять; орнамент наконец изобразит свое заветное слово; амфору, естественно, расколотят; змеи, чего доброго, заберутся к нему в раскладушку, и вообще развалится тот мир, в котором он собирался царствовать по праву живого существа. Поэтому однажды, в самый разгар вестибюльного шухера, а именно в 5 часов утра, он вскочил с раскладушки, расшвырял взбесившийся уже к этому времени орнамент и прыгнул в петровские сапоги.
Все, естественно, испугались, заахали, зашептались по углам: кто да что, что, мол, за птица, но Попенков цыкнул тут на них, подпрыгнул (немного странно, что подпрыгнул он вместе с сапогами), сорвал древнегреческую амфору, брякнул ее об пол вдрызг, и, вернувшись в нишу, заявил:
— Вот вам ваша презренная грязная 'мечта, ничего в ней нет, кроме дохлых мух и полудохлых пауков, а окурок я докурю, «Герцеговина Флор» на полу не валяется. Ясно теперь, кто здесь хозяин?
С этими словами он выпрыгнул из ботфортов, подобрал окурок и добрый час еще дымил им, лежа в раскладушке.
Все замолчали и застыли уже на веки вечные до его конкретных указаний, и лишь орнамент, подхалимски змеясь, пытался подползти и лизнуть его в ногу в знак благодарности за расправу над амфорой. Попенков же отталкивал его пяткой, не допускал к себе.
Утром первая спустилась вниз Мария Самопалова, направилась она в артель сдавать продукцию.
— Вот тебе на, — сказала она, увидев расколотую амфору. Подумав, ахнула.
— Износ шнура, Мария Тимофеевна, ничего не поделаешь, время съедает даже прочный металл, — философски заметил Попенков.
— А ведь так-то она могла и мне на голову угодить, — прикинула Мария.
— По теории вероятности вполне, — согласился Попенков.
— Да ведь и Льва Устиновича могла прихлопнуть, — зажмурилась Мария.
— Вполне, вполне, — закивал Попенков. — Представляете, был Лев Устинович и нету его.
— Да ведь и Николаю Николаевичу могла бы на темечко хлопнуться…
— Не только ему, но даже и замминистру З., — с удовольствием подхватил Попенков.
— Да, если бы даже какой-нибудь высший начальник к нам в дом зашел, все равно она могла и на него свалиться. — продолжала рассуждать Мария.
— Точно, точно. Вот было бы горе, — закручинился Попенков.
— Кого хочешь, могла бы жизни лишить, — подвела итог Мария.
— Очень верно вы рассуждаете, — согласился Попенков.
— А ты-то сам не пострадал, Вениамин? — поинтересовалась Мария.
— Обошлось, Мария Тимофеевна. Я мирно спал, Мария Тимофеевна, и вдруг услышал удар, почти взрыв! Воспоминания о войне, задрожал от ужаса. Неужели опять? Неужели империалисты опять… Вы понимаете?
— С них станется, — проворчала Мария. — Хоть бы Черчиллю какая люстра на голову хлопнулась или бы Трумэну.
— Присоединяюсь к вашим пожеланиям, — сказал Попенков, отворяя Марии дверь. — Кажется, вы в артель следуете, Мария Тимофеевна?
— Продукцию несу, — солидно ответила Мария. — Какую-никакую, а пользу государству даю, не то, что всякие брадобреи. В крайнем случае человек может и с бородой прожить, а без текстиля ему не обойтись. Давеча мимо детского садика № 105 иду, а холстина моя шитая у их на окне, сердцу любо.
— Позвольте хоть краешком глаза взглянуть на вашу продукцию, — попросил Попенков.
Они вышли на улицу, и Мария, хоть и с большим подозрением, но все же развернула сверток, показала ему часть холстины. Попенков, скрестив руки па груди, уставился на холстину.
— Чего молчишь? — удивилась Мария. Попенков только отмахнулся.
— Конечно, мы кустари, инвалиды, — заканючила Мария, — нам, конечно, далеко до этих, до самых…
— Это искусство! — вдруг с жаром сказал Попенков. — Это настоящее искусство, Мария Тимофеевна. Вы талантливый, талантливый (талантливый! — гаркнул он) человек. Непосредственность, экспрессия, фи-ли-гран-ность. Вам следует пойти дальше. Вы могли бы производить, — он перешел на шепот, — старинные французские гобелены.
— Какие еще гобелены? Белены, что ли, объелся, Вениамин? Втравишь ты меня в историю, — забеспокоилась Мария.
— Не волнуйтесь, я все объясню. Позвольте я вас провожу, — он подхватил сверток, а другой рукой Марию. — Я берусь вам помочь, я достану репродукции, и мы с вами будем делать гобелены. Мне не нужно никакого вознаграждения. Просто хочется, чтобы у людей были красивые старинные гобелены.
Он повел Марию но извилистому Фонарному переулку, убеждая ее взяться за старинные гобелены, попутно восторгаясь прелестью цветущих лип, полетом ласточек (зоркий кинжальный взгляд в высоту), ярким июньским днем. Временами он подпрыгивал, темпераментно потирал руки. Мария только кряхтела от его напора.
Читатель вправе спросить — кто же такой этот Вениамин Федосеевич Попенков, откуда он взялся, каков его культурный уровень, кто он по профессии и т. д. и т. п. Не получая этих сведений, читатель вправе предположить, что автор води» его за нос.
Я мог бы прибегнуть к какой-либо наивной мистификации и действительно повести читателя за нос, но литературная этика прежде всего, поэтому вынужден заявить, что совершенно ничего не знаю о Попенкове. Темна вода во облацех. Мне думается, что по ходу повествования постепенно сложится какой-нибудь, хотя бы приблизительный, портрет этого существа, но история его происхождения и некоторые другие данные вряд ли когда-нибудь выплывут на поверхность.
Первый гобелен, разумеется, был продан любительнице антиквариата Зиночке З., молодой супруге нашего бравого замминистра. Гобелен был прекрасен, хотя, конечно, несколько пострадал от действия времени, как-никак прошло почти два века со времени его выработки неизвестными мастерами Лиона. Изображена была на нем пастораль, немного напоминающая сюжеты Буше.
Зиночка прямо ахнула, когда Попенков принес ей этот гобелен. Вечером ахнул и сам З., когда узнал о цене.
— Немыслимо! — сказал он, прикинув сразу в уме, что на приобретение вещицы уйдет чуть ли не два месячных пакета. — Зиночка, это немыслимо, это уже попахивает буржуазным декадансом.
— Милый, что ты говоришь? — удивилась Зиночка и подошла к нему, просвечиваясь сквозь пеньюар.
Замминистра сейчас же покатился в пропасть, мгновенно его накрыл с головой девятый вал, закружил тайфун.
— Впрочем, конечно, ценная вещь, — сказал он по прошествии некоторого времени.
После продажи гобелена наладились у Попенкова и с Зиной хорошие товарищеские отношения. Замминистра дома бывал мало, горел на своем участке работы, и Зиночка, конечно, скучала, нуждалась в живом человеческом общении. Иной раз в состоянии мизантропии она отсылала Юрия Филипповича погулять с собачкой и звала к себе Попенкова поговорить о жизни, о печальном характере человеческого бытия.
— Помилуйте, Вениамин Федосеевич, — говорила она, возлежа в халатике на софе, а Попенков сидел на краешке, — вот я молодая, красивая… ведь не уродина же, правда?
— Вы еще спрашиваете! Вы еще спрашиваете! — бурно возмущался Попенков.
— Да я не кокетничаю, — делала ручкой Зина, — просто неуверенность в себе, сомнения, тревоги… Вы понимаете, я молода и не уродина, все у меня есть — красивая квартира, деньги, персональная машина, продукты питания, почему же мне бывает так плохо, почему меня не удовлетворяет жизнь? Может быть, я лишний человек, как Печорин?
— Я понимаю вас, Зина, все это созвучно мне, — печально говорил Попенков, глядя в пол, — мы как будто с вами одна душа. Нас куда-то тянет ввысь. Мы люди большого полета, Зина, — на мгновение он поднимал глаза и обжигал Зиночку месопотамским огнем.
— В 1943 году я отдалась одному летчику, — говорила Зиночка. — Он был первым, он взял меня дико, бесчеловечно. Это было на берегу реки в ливень, а он был, как тигр, как…
— Как орел, — вставил Попенков, — ведь он был летчик.
— Да, тогда он был летчик, сейчас он замминистра, — грустно кивала Зиночка. — Товарищ моего мужа, бывает у нас, пьет водку с З., сейчас он не такой.
Попенков вставал, нервно ходил но ковру, потирал руки, резко оборачивался к Зиночке… Ух, как она нравилась ему, она лежа-а-ала и не боялась.
Тут раздавалось покашливание Юрия Филипповича, лай собачки. Зиночка вставала с софы, говорила Попенкову всякие мелочи насчет доставки антиквариата, провожала к дверям. Встречи их из-за Юрия Филипповича с собачкой стали приобретать какую-то ненужную двусмысленность.
Ночами Попенков приказывал фрескам купола двигаться, совмещаться разрозненными частями тела. Его не оставляла надежда, что как-нибудь сложится Зиночкина обольстительная фигура, но все получались какие-то чудовища, хоть и симпатичные на вид, но «типичное не то».
Позже всех возвращались два человека — вторая прелестница дома № 14 Марина Цветкова и сам замминистра. В те времена, как известно, окна министерств и ведомств сияли всю ночь посреди спящей Москвы.
З. входил в дом энергично, крепко стукал дверьми, военным шагом проходил вестибюль, на ходу шутил с Попенковым.
— Как жизнь молодая, спаситель?
Попенков вскакивал, открывал дверь лифта, на вопрос этот, задевающий самолюбие, не отвечал, но спрашивал смиренно:
— Воспользуетесь лифтом?
— Не требуется, — говорил З. и на сильных ногах взлетал к себе в бельэтаж.
Цветкова постукивала туфлями-танкетками, модель текущего сезона. Ходила она в белом шерстяном пальто, как Клавдия Шульженко, а прическу носила «Марика Рокк».
В годы войны такая девушка, как Цветкова, была мечтой всех воюющих стран, то есть всего цивилизованного человечества. В ней было то, что волновало и вдохновляло боевых ожесточенных мужчин, то, что связывало их с нормальной человеческой жизнью, и если символически это называлось «Людмила Целиковская», «Валентина Серова», «Жди меня, и я вернусь», а с другой стороны фронта «Марика Рокк», «Сара Ляндра», «Лили Марлен», а в песках Сахары и в Атлантике «Дина Дурбин», «Соня Хени», «Путь далекий до Типерери», то в жизни это была Марина Цветкова.
Годы войны для нее были временем нежной власти, романтики, печали и надежды. Ее мальчики, ее ухажеры, в ночных бомбардировщиках летели на Кенигсберг, топали по дорогам Польши и Чехословакии, всплывали на субмаринах в студеных норвежских шхерах. От одного такого героя, собственно говоря, единственного, кого она любила по-настоящему, у Цветковой осталась дочка. Герой не вернулся, погиб уже после капитуляции Германии, под Прагой.
Цветкова оставалась прекрасной и в 1948 году, только чуточку, почти незаметно сменился ее стиль. Она продолжала принимать ухаживания офицеров, потому что погоны)(орденские колодки напоминали ей о недалеком прошлом и потому что «молодость проходит», а на штатских пижонов в Длинных пиджаках с квадратными плечами — ноль внимания, фунт презрения.
Офицеры провожали Цветкову домой, она входила с букетами в лифт, постукивала танкеткой во время подъем напевала «ночь коротка, спят облака» и почти не замечала раскладушки с Попенковым, никак не реагировала на его комплименты, касающиеся фигуры и общего очарования.
А Попенков потом присовокуплял к мечтам и Цветкову, колдовал со своим куполом и орнаментом и, в общем, если честно говорить, испытывал крупную злобу к роду людскому.
В ту ночь Цветкова вошла в вестибюль хмельная и веселая, вся в георгинах, маках и прочих бутонах.
— Разрешите понюхать, — попросил Попенков и зарылся в букет, почти касаясь костяным носом Марининой груди.
— Вы бы в баню сходили, Попенков, — сказала Цветкова, — а то очень от вас неприятно пахнет. Хотите, дам вам тридцатку на баню? Вот вам тридцатка, и вот вам еще пион.
— Как понять этот ваш дар? — спросил Попенков. запихивая за пазуху цветок и купюру. — Понять ли его как знак внимания или как знак жалости? Если как знак жалости, то я верну: жалость унижает человека, а человек — это звучит гордо.
— А вы разве человек, Попенков? — наивно удивилась Цветкова и нажала кнопку своего этажа.
Попенков вздрогнул от каких-то самому ему не совсем понятных гордых и мощных чувств.
— Вы легкомысленная особа, Марина, я все про вас знаю, — сказал он, взяв себя в руки.
— Ничего вы про меня не знаете, — вдруг помрачнела Цветкова, — и никакая я не легкомысленная. Наоборот, я очень тяжеломысленная, а вы про меня ничего не знаете.
Они ехали вверх.
— А вот и знаю, — сказал Попенков.
— Ха-ха, — сказала Цветкова, — ничего вы не знаете. Например, вы не знаете, кого я люблю, какого мужчину я давно заочно обожаю, а люблю я замминистра З., и на этом привет.
Лифт остановился, и Цветкова попыталась выйти, но Попенков нажал кнопку нижнего этажа, и они поехали вниз.
— Вы что это хулиганите? — спросила Цветкова.
— Вот так-так, — хихикнул Попенков. — А как же Зиночка З.?
— Подумаешь, Зинка, телка такая-сякая! — выкрикнула Цветкова. — Когда З. у нас поселился, я ему больше нравилась, чем Зинка, да только я ему отставку дала, потому что он замминистра и чтоб не думал, что я его как замминистра люблю. Дура я непутевая, — заплакала она и нажала кнопку своего этажа.
Они поехали вверх.
— Любопытно, любопытно, — проговорил Попенков. — Что ж, выходит, и встречались вы с З.?
— Ну и встречались, ну и что ж, ну и в командировку вместе ездили, да уж год не встречаемся, и не надо мне от него ничего, — продолжала плакать Цветкова.
— Не плачьте, родная, — сказал Попенков, обнимая Цветкову и незаметно нажимая кнопку первого этажа, — не плачьте несчастная, очаровательная (очаровательная! — гаркнул он, округляя глаза) женщина. Любовь без взаимности, как мне понятно, ведь это и моя жизнь, мы с вами люди одной судьбы…
Они ехали вниз.
— Пустите меня, дурно пахнущий мужчина! — спохватилась Цветкова и нажала кнопку своего этажа. — Вы что, обалдели?
Она попыталась выбраться из объятий Попенкова, но руки его были, как сталь. Она почувствовала невероятную, нечеловеческую силу в его руках и даже испугалась.
— Пустите!
Вниз!
— А в случае разоблачения… вы не подумали?., эксцесс?., гнев Зинаиды… а если обнародовать?., вот возьму и по инстанциям… а?
Вверх!
— Пустите, негодяй! Балда… ворона несчастная, — трах по щеке, — идиот… пусти, я за себя не отвечаю… я… я в газете работаю… секретарем… возьму и фельетон про вас… какой вы негодяй… пустите! то-то…
Вниз!
— В несчастье я… крэг, крэг, карузерс чувыть… геморроидальные узлы… как же посмотреть?., фить, фить, рыкл, екл, а?
Вверх!
— Ничтожество… проклятое животное! Слезы не из-за вас! Мой любимый был летчик, дважды герой! Вон с дороги!
Вниз!
— В газете… про меня?… чрык, чрык… грым фираус в скобках… почему не пощадить… я екл бижур жирнау члок чувырь… кури-кури… слабый организм…
Вверх!
— Вы что, рехнулись? С ума сошел! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Меня не купите!
Вниз!
— Лык брутер, кикан, кикан, кикан… пощады и любви… я жажду, как орел… приказ… литон фри ay, ay… мы улетим… фить, фить, рыкл, екл, а?… Над пепелищем, над домами… Цветы, Марина… екл…
Вниз, вниз, она уж не владела руками, и смех ее завял, а слезы высохли, а лифт был полон электричества, как лейденская банка, и он все проваливался, проваливался, потом взмывал в сплошную черноту, в гиблое небо, и ей показалось, что она сама… сейчас… как ее любимый летчик или танкист… тот, который не вернулся… сейчас — конец, но в это время Попенков грохнулся на раскладушку и забился в судорогах.
Женщины дома № 14 учредили спасательный комитет и постановили дежурить у постели больного.
Утром из соседнего детского сада принесли манную кашу, сливки и творог.
Товарищ З. под давлением супруги прислал врача из Кремлевки, и тот провел консилиум с доктором Зельдовичем. Юрий Филиппович бегал в аптеку. Пугая фармацевтов формой и надписью, он получал лекарства без очереди.
Лев Устинович безвозмездно брил больного, а его дети не шумели в подъезде, а, напротив, старались развлечь Попенкова, читали ему стихи и пели восточные песни.
Мария и Агриппина завесили лифт чистыми и художественными холстами.
— Как же будем решать с лифтом? — спросил Николай Николаевич на общем собрании жильцов.
— Чего ж с лифтом? Куда ж теперь лифт, если в нем больной человек? Шут с ним, с лифтом! — ответили жильцы как один человек.
— Значит, постановили — лифт остановить! — резюмировал Николай Николаевич, и всегда строгие его глаза потеплели.
Так в доме № 14 по Фонарному переулку был остановлен лифт. На этом, пожалуй, можно закончить вторую главу.
ВОСПОМИНАНИЯ
МИХАИЛА ФУЧИНЯНА, ВОДОЛАЗА
Все меня знают, я — Фучинян, а кто не знает, те узнают, а кто не хочет узнать, пусть выйдут, а если не выйдут, тогда они меня узнают, а те, кто здесь — это мои друзья, это молодые мужчины и ребята первый сорт. Рюмки на уровень бровей! Пошли, ребята!
Ну, хорошо, если кому-нибудь интересно, могу рассказать вам про этого типа. Только, чур, не перебивать, а те, кто будет перебивать, пусть сразу выйдут, а то нарвутся на неприятности.
Короче, вот моя рука, проверьте сами, тот, кто хочет. Ну, как моя рука, в порядке? Бицепс, трицепс — все на месте? Левая такая же — вот! Короче, вот перед вами весь мой плечевой пояс. В общем, как видите, мужчина не из последних.
Как— то вечером сидели мы с ребятами во дворе и нормально забивали козла. Игра эта не нравится мне своей тупостью, но нравится ударом. Толик, он водителем был в Главрыбе, воблочки как раз в тот день подкалымил кило шесть, ну, сложились мы, послали пацанов за пивом. Притаранили пацаны два ящика пива, в общем, получается приятный тихий вечер. Сидим нормально, козла уже по боку, рубаем воблочку, запиваем пивом, делимся опытом Второй мировой войны.
Тут появляется эта ворона, Вениамин Попенков. Подсел, воблочку клюет, пивка кто-то ему налил, сидит помалкивает. Чистенький сидит, не то, что в 48-м году, благоухает одеколоном «В полет», галстук, штиблеты, будь здоров.
Я его с самого начала невзлюбил, этого крысеныша, был бы котом, слопал бы и дело с концом, но отношения своего активно не проявлял, потому что имею принцип — живи и дай жить другим, вон ребята скажут.
А тут что-то злость меня стала разбирать, как на него посмотрю. Ах ты, думаю, несчастненький, убогий, бездомный, все тебя питают, все жалеют, все чего-то подбрасывают, а ты между тем устраиваешься, грач проклятый. Тут только я подумал, что устроился этот убогий — дай Бог каждому. Допустим, квартиры у него нет, но зато весь вестибюль в полном распоряжении, понаставил там ширмочек, у жильцов только узкий проход от лестницы до двери, про лифт я уж не говорю. Следующий вопрос: бабу взял себе наш горемыка самую товаристую во всем переулке, наслаждается с ней за ширмами, да так, что всему дому на удивление. Теперь следующее: вот я водолаз, высокооплачиваемый работник, так я за свои две с половиной на дне Москва-реки, как краб, ворочаюсь, а он, подлюга, на поверхности в таком костюме ходит, что мне и не снился, и запахи у них в вестибюле такие гастрономические, какие в моем доме никогда не бывают. А так посмотришь, ходит обездоленная личность и на всех такими глазами смотрит, будто каждый ему что-то должен. Гипноз какой-то, иллюзионист Кио, Клео Дорогти.
Ну, в общем, злость меня взяла, и я делаю резкий поворот кругом на конфликт. В это время Толик Проглотилин как раз рассказывает про операцию в Цемесской бухте, а Попенков все ему поддакивает, все кивает своим клювом. Тут я перебиваю Толика и говорю:
— А что же вы, Попенков, военным опытом не поделитесь? Небось в Ташкенте оборону держали? Небось по урюку удары наносили?
Улыбается, подлюга, улыбается тайным, скрытым, невероятным образом.
— Ах, Миша, — говорит он мне, — вы о моей войне ничего не знаете. Ваша война уж кончилась, а моя нет. Моя война пострашнее вашей будет.
Тут все замолчали, поняли, что начинается конфликт, все знают, что не люблю я, когда задевают мое боевое прошлое.
— С кем же ты воюешь, воробей, щипач подножный? — говорю я на повышенных тонах. — С бабами? На большее-то у тебя силенок не хватит, чижик!
А он все усмехается, усмехается и вдруг как уставится на меня своими зенками, так на меня прямо жаром дохнуло, как из Пароходной топки.
— Во-первых, Миша, — я не воробей и не чижик, а, во-вторых, Не каждый знает свою настоящую силу. Я, может быть, посильнее вас буду, а, Миша?
Так. Вот таким образом. Вот так, значит.
Тогда я поднимаю свою правую руку, вот эту самую руку, которую вы видите перед собой, и ставлю ее локтем на стол.
— Ну-ка, силач, давай потягаемся.
Смех в самом деле, но он тоже ставит на стол свою тощую лапку, свою бледную, умеренно волосатую руку. Ребята надрываются от смеха, потому что я чемпион по этому делу не только Фонарного переулка, но и всего Арбата, а, впрочем, не знаю, кто во всей Москве мою руку к столу прижмет, может быть, только Григорий Новак.
Значит, мы сцепились, и я тихонечко, почти без усилий, веду его лапку вниз, но в десяти сантиметрах от стола что-то застопорилось. Удвоил усилия — все равно. Утроил усилия — один черт! Как будто упирается моя рука в сплошной металл, чуть ли не в танковую броню. Посмотрел ему в глаза — там желтый огонь. На губах — любезная улыбка. Учетверяю усилия, и тут моя рука, словно это не моя рука, идет вверх, а потом вниз под действием силы просто не человеческой, а машинной, и вот она припечатана к столу. Все замолчали.
— На нерве он тебя взял, Миша, на нерве, — шепчет мне Васька Аксиомов. — Попробуй еще раз. Сгруппируйся.
— Совершенно верно, — говорит Попенков, — я победил Михаила не силой своих мышц, а превосходством нервной системы. Если угодно, можно попробовать еще раз.
Попробовали еще раз — результат тот же.
Попробовали в третий — один черт.
Тут, честно говорю, не выдержал мой темперамент, сами знаете — папа у меня армянского происхождения, и я бросился на Попенкова. Валял его, мял, крутил, гнул, и вдруг сам оказался припечатанным на обе лопатки, полное туше, а надо мной желтые огни, тьфу ты, проклятые его очи.
— Нервы, — сказал Толик Проглотилин, — нервы как сталь. У нас у всех нервы слабые, а у них, — он с уважением указал на Попенкова, — у них нервы стальные.
Джентльмен признает поражение, и я признал, хлопнул Попенкова по плечу (он чуть не рухнул), послал за водкой.
Попенков сидел тихий, скромный, надо признать, совсем не бахвалился. Выпили. Ребята, чтобы это дело замять, начали песни петь военных лет и довоенные, разные маршевые песни:
Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит Стальная Птица.
— Вот наша Стальная Птица, — сказал Васька Аксиомов, обнимая Попенкова, — наша самая настоящая Стальная Птица.
— Стальная, цельнометаллическая, — ласково продолжил Толик Проглотилин.
Тут же сложился новый вариант:
Где Аксиомов не пройдет,
Где Проглотилин не промчится,
Где Фучинян не проползет,
Там пролетит Стальная Птица…
Ну, естественно, все заржали. Нашим ребятам палец покажи — оборжутся.
И тут, братцы, произошло нечто странное, как пишут в романах. Попенков вскочил, замахал руками, в самом деле, как птица, глаза его загорелись, он прямо страшный стал какой-то и заорал на полупонятном языке:
— Кертль фур линкер, я так и знал, наконец-то! Да, я Стальная жиза, чуиза дронч! Ага, попались фричеки, клочеки крыть, крыть, крыть! В полете — свист и коготь перкатор!
Все мы обомлели, глядя на это чудо, а он вдруг затих, засмущался, мягко улыбнулся, присел:
— Ловко я вас разыграл? Смешно?
У всех отлегло от сердца, захохотали — во, шутник! во, Стальная Птица! во, нервная система! А он меня отозвал в сторонку.
— Я, собственно, Миша, вышел по вашу душу, — сказал он мне тихо.
Меня стало трясти, и я решил — если что, буду уж до конца защищаться, стоять насмерть.
— Вы не поможете мне завтра мебель занести? — спросил он. — Один я не справлюсь, а жена, знаете, слабая женщина. Знаете, решили обставиться, а то живем, как на бивуаке. Хочется родственников встретить с мебелью.
— Ладно, Стальная, — сказал я, честно говоря с облегчением, потому что душа моя ему не понадобилась, — ладно, Стальная Птица, чем можем, тем поможем. Завтра приду с Васькой и Толиком.
Вот такая была история, ребята. Поехали дальше. Рюмки на уровень бровей! Салют. Ну да мебель мы ему занесли, а вечером он заколотил парадный подъезд. С того времени жильцы стали ходить через черный ход.
ВОСПОМИНАНИЕ ВРАЧА
Я лечил его много раз и каждый раз будто с завязанными глазами, каждый раз диагноз был для меня абсолютно неясен. В конце концов мне стало казаться, что выздоравливает он вовсе не от моего лечения, не от антибиотиков, не от физиотерапии, а просто по собственному желанию, так же, как и заболевает.
Каждый вызов к нему был для меня мукой, напряжением всех Душевных сил, то есть всех сил высшей нервной системы. Во-первых, мне иногда начинало казаться, что в нем, в его организме, заключено нечто могучее и таинственное, нечто такое, что начисто опровергает мое мировоззрение советского врача. Во-вторых, каждый раз я ловил себя на том, что эта тайная сила ввергает меня в состояние полной абулии, т. е. отсутствия всех волевых реакций, в дремучее состояние домашнего животного, ждущего только приказаний, только удара бичом.
Однажды он попросил меня положить на две недели в нашу клинику его родственника, здоровенного бугая, похожего на молотобойца. Я осмотрел этого родственника и, разумеется, отказался госпитализировать абсолютно здорового человека. С какой стати, думалось мне, ведь в клинике даже коридоры забиты тяжелобольными людьми, действительно нуждающимися в лечении.
— Поймите, доктор, — стал упрашивать меня Попенков, — этот человек приехал издалека, месяц провалялся в котловане Дворца Советов, он погибнет, если вы его не спасете.
— Отнюдь нет, товарищ Попенков, — возразил я. — Ваш родственник в прекрасном жизнедеятельном состоянии. Если же он устал с дороги, пусть отдохнет у вас. Я замечаю, что наш вестибюль почти уже превратился в довольно комфортабельную квартиру, — тут я позволил себе усмехнуться.
Это было в тяжелые для нас, медиков, дни, зимой 1953 года. Совсем недавно была арестована группа профессоров, которым были предъявлены страшные обвинения. Всю свою жизнь я преклонялся перед этими учеными, по сути дела, это были мои учителя, и я не понимал их логики. Как они смогли сойти со столбовой дороги гуманизма на путь преступлений против человечества? Конечно, я не высказывал вслух своих мыслей.
Дело усугублялось тем, что преступления этих ученых рикошетом били по всем нам, честным советским врачам. У некоторых людей появилось недоверие к белым халатам. В поликлинике, где я раз в неделю проводил консультации, мне приходилось сталкиваться с фактами такого недоверия, а также с оскорбительными замечаниями, представьте, по поводу моего носа. Никогда не думал, что нос имеет какое-то отношение к медицине.
Однажды ночью, лежа в постели, я услышал шум поднимающегося лифта. Лифт в нашем доме несколько лет уже не действовал, поэтому необычный, неожиданный этот шум меня насторожил.
«Лес рубят, щепки летят», — подумал я, быстро встал и надел теплые вещи.
Раздался тихий стук в дверь, я спокойно открыл — на площадке стоял Попенков.
— Я хотел с вами посоветоваться, доктор, — сказал он, — в чем дело, не пойму. Третьего дня вы мне дали лекарство от ушей, а отреагировала печень. Простите, но я давно замечаю некоторые странности, фучи мелаза рикатуэр, вы даете от сердца, а в мочеточнике страшная резь, крыть, крыть, лиська бул чварь, от ваших витаминов — резкий авитаминоз. В чем дело? Вы не можете мне объяснить?
Честное слово, он так мне все и сказал.
— Да, понимаю, — ответил я, — извините, больше это не повторится.
Утром я отвез его родственника в клинику.
КОНСИЛИУМ ВРАЧЕЙ,
ИМЕВШИЙ БЫТЬ ЛЕТОМ 1956 ГОДА
— Да, мы должны смело смотреть в лицо фактам. Есть еще много неизученного в природе…
— Вы меня простите, товарищи, может быть, я покажусь вам сумасшедшим, но…
— Что же вы замолчали? Продолжайте!
— Нет, я подожду.
— Давайте еще раз сопоставим наши данные с антропометрией, данными анализов и рентгенограммами какого-нибудь homo sapiens.
— Нонсенс, коллега! Может быть, вы полагаете, что нормальная анатомия и нормальная физиология как-то изменились за последнее время?
— Товарищи, вы будете меня считать сумасшедшим, но…
— Опять вы замолчали? Говорите.
— Подожду.
— Однако наши данные настолько поразительны, что поневоле напрашиваются…
— Доктора, давайте оставаться все-таки в рамках науки.
Чудес на свете не бывает.
— Да, но так мы не выйдем из тупика.
— Товарищи, должно быть, я сумасшедший, но…
— Ну, говорите!
— Говорите же!
— Высказывайтесь!
— …но нельзя ли предположить, что перед нами самолет?
— Представьте себе, что и мне казалось это, только язык не поворачивался.
— Коллеги, коллеги, давайте останемся в рамках…
— …и все-таки я убежден, что перед нами не homo sapiens, а обыкновенный стальной самолет.
— Давайте не будем опрометчивы, вызовем инженера-конструктора. Я позвоню своему знакомому конструктору.
Приехал Туполев, ознакомился с данными. — Нет, это не окончательный самолет, — сказал он, — и имеет много общих черт с истребителем-перехватчиком.
— Товарищи, возможно, ход моей мысли может показаться странным, но…
— ???
— …но нельзя ли предположить, что перед нами птица?
— Я сам хотел сказать, но язык не поворачивался.
— Не будем торопиться с заключениями, доктора, давайте вызовем орнитолога.
Приехал академик Бухвостов, ознакомился с данными.
— Хоть и похоже, — сказал он, — но не птица. Не может быть птица с такими явными данными истребителя-перехватчика.
— А нельзя ли предположить, товарищи, конечно, это может нас далеко завести, нельзя ли предположить, учитывая все высказывания и суммируя мнения авторитетных специалистов, а также характер поведения изучаемого существа, довольно частое употребление им неизвестных еще в мире звукосочетаний, нельзя ли предположить с должной осторожностью, разумеется, хотя бы ориентировочно, нельзя ли предположить, что мы имеем дело с совершенно новым видом, с уникальным сочетанием органической и неорганической природы, нельзя ли предположить, что мы в данном случае являемся первооткрывателями, нельзя ли предположить, что мы имеем дело со стальной птицей?
— Прошу всех встать. Прошу всех учесть — стенограмма консилиума совершенно секретна.
ПАРТИЯ КОРНЕТ-А-ПИСТОНА
Тема: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор…
Импровизация: Двери заколочены ржавыми гвоздями, что ж теперь нам делать, жителям с ним? Трудно пробиваться грязным черным ходом, все же, если надо, будем там ходить. Лишь бы быть в согласье, в мире, в благолепье, свод пожарных правил лишь бы соблюдать.
Конец темы:…Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.
ВОСПОМИНАНИЯ ПАРИКМАХЕРА
Наш сосед снизу, из вестибюля, припер меня к стенке. Позвольте, говорю, что же получается? А он мне — крыть, крыть, фил бурорэ ляп, то есть на иностранном языке. А ежели я тебя опасной бритвой? Хвать, бритва сломалась. Пусти, а он не пускает. А ежели я тебя ножницами? Хвать, ножницы сломались. А ежели я тебе феном прическу сделаю? Это, говорит, пожалуйста. А ежели я тебя одеколоном «В полет» освежу? Это, говорит, пожалуйста. А ежели я тебе массаж лица с питательным кремом? Это, говорит, пожалуйста. Отпустил.
Глава третья
Унылая необходимость тянуть лямку сюжета обязывает меня попытаться восстановить хронологическую последовательность событий.
В 1950 году, а может быть, на год раньше или на год позже, между супругами З. разыгралась необычной силы ссора. Она произошла, разумеется, из-за старофранцузских гобеленов и прочих предметов эпохи мадам Помпадур. Замминистра катастрофически быстро нищал, гардероб его изнашивался, питание ухудшалось с каждым днем, вся зарплата и пакеты и даже некоторые составные элементы пайка уходили на антиквариат. Дошло до того, что З. стал стрелять у своего стража Юрия Филипповича папироски «Север». Вот до чего дошло — с «Герцеговины Флор» докатился до «Севера», да еще и чужого.
— Знаешь, Зинаида, — сказал З., — пора с этим покончить. Наша квартира превратилась в комиссионный магазин. Это буржуазный декаданс и космополитизм.
— Ты не чуткий, ты грубый, ты ржавый, — зарыдала Зинаида, — никакого понимания, никакого ответного трепета. Тебе бы только перемигиваться с вульгарной Цветковой. Я ухожу.
— При чем тут Цветкова? Куда ты уходишь? К кому? Боже, что это такое? — возопил З. Мысль о том, что Зиночка может лишить его своих ласк, показалась ему фантастически ужасной, почти адской. Попутно уже возникли мысли о неприятностях на службе, об объяснениях по партийной линии, о всем комплексе неприятностей, связанных с уходом жены.
— Я ухожу к человеку, с которым мы говорим на одном языке. К человеку, эстетические взгляды которого не расходятся с моими, — заявила Зиночка.
И она спустилась вниз, в вестибюль, к Попенкову, который в ожидании давно уже бестолково прыгал по клеткам орнамента.
— Примешь? — спросила она драматически.
— Любовь моя, свет очей моих, кувыраль лекур лекувырль ки ки! — в восторге заплясал Попенков.
«Надо же, замминистра сковырнул», — подумал он, вне себя от радости и животворного оптимизма.
Моментально произошел раздел имущества, после которого З. остался в своих комнатах один с раскладушкой, с тумбочкой, с растерзанным платяным шкафом, с кое-какими книгами по специальности. Он стоял в полной растерянности, почти в прострации, когда вошел Попенков с целью нанести завершающий Удар, нокаутировать неблагодарного замминистра.
— Как мужчина и как рыцарь, — обратился он к З., — я обязан вступиться за несчастную, вами измученную женщину, которой вы к тому же предъявили необоснованные обвинения в космополитизме. Зинаида не космополит, она — настоящий советский человек, а вам, товарищ З., стоило бы вспомнить о тех странноватых взглядах и сомнениях, которыми вы делились с вашей бывшей супругой, отключая телефон и закутываясь в одеяло. Учтите, я в курсе. Кстати, Зинаида просила принести ей этот шкафчик. Женщина без шкафа не может, а вы утретесь. Adieu!
Легко подняв огромный шкаф и вытряхнув из него остальные вещички З., он вышел.
Всю ночь из вестибюля слышался шум, скрип пружин, гортанные непонятные возгласы, а на площадке бельэтажа горько бедовали над поллитрой З. с Юрием Филипповичем.
— Остались мы с тобой сиротами, Филипыч, — плакал З. — Одиночество, Филипыч… Как это пережить?
— Замкнитесь, товарищ замминистра, — советовал старшина, — уйдите в себя, с головой в работу…
Вполне понятно, что карьера З. с этой ночи резко пошла на убыль.
Попенков с молодой спутницей жизни постепенно налаживали быт. Частенько приезжали родственники и вносили свою лепту в это дело. Родственник Кока помог молотком, родственник Гога малярной кистью, родственник Дмитрий оказался на все руки мастер.
Вестибюль перегораживался, возникали комнаты, альковы, будуары, санузлы. Сапоги Петра Великого оказались в кабинете Попенкова. Японский сюжет интимно и в то же время скромно окрашивал будуар Зиночки. Рыцари, варяги и новгородцы оказались в комнате для гостей, что, должно быть, сильно вдохновляло приезжающих родственников — частенько они пели там хором воинственные песни.
Питание постоянно улучшалось. Зиночка добрела, наливалась молочно-восковой, сахарно-сливочной спелостью. Жизнь ее представляла ныне полную гармонию, во внутреннем мире царил субтропический штиль, благолепие, роскошный покой.
Попенков появлялся в ее будуаре всегда внезапно, стремительно, с порога вонзал кинжальный взгляд в голубые лагуны ее глаз, бросался, утопал в прелестях, бурно клокотал.
— Ты моя гейша! — выкрикивал он. — Моя гетера! Моя Лорелся!
Зимой 1953 года в Москве произошло важное событие — умер И. В. Сталин. Всенародное горе захлестнуло и дом № 14 по Фонарному переулку. Глухие стенания слышались в нем несколько дней. В бельэтаже по ночам горько рыдали два бобыля — Юрий Филиппович и замминистра. Пронзительные отчаянные звуки корнет-а-пистона проникали во все квартиры, пользуясь трагической свободой этих дней.
В свалке на Трубной площади чуть не погиб Николай Николаевич Николаев. Миша Фучинян, Толик Проглотилин и Васька Аксиомов еле-еле вытащили его из канализационного люка. Эти мужественные люди организовали боевую группу и кое-как вывели с Трубной растерзанных обитателей Фонарного переулка. Никто так и не пробился в Колонный зал.
Никто, за исключением, конечно, Попенкова, который неведомым самому себе, может быть, даже фантастическим путем без особого труда и членовредительства оказался в «святая святых», все видел самым подробным образом и даже в качестве сувенира принес с собой кусочек траурного крепа с люстры.
Весь день после этого он был сосредоточен, углублен в себя, удалил родственников и даже Зиночку, стоял в петровских ботфортах и думал, думал.
Что ж, решил он к концу дня, вот результат половинчатых мер, топтания на одном месте. Печальный результат, следствие ненужного маскарада. Фучи элази компрор, и, пожалуйста, изволь лежать в гробу. Нет, мы пойдем другим путем, ру хноп-ластр, ру!
После этого он поднялся в своем лифте на пятый этаж и вошел в квартиру Марии Самопаловой, гремя чугунными сапогами.
Как он и ожидал, Мария и Агриппина сидели, окаменев от горя, возле бездействующего ткацкого станка. Скрестив руки на груди, в полном молчании Попенков несколько минут сопереживал им. Потом сказал слово:
— Мария Тимофеевна и вы, Агриппина! Горе наше беспредельно, но жизнь продолжается. Нельзя забывать о ближних, нельзя забывать о тысячах, ждущих от нас радости, света, желающих ежедневно преклоняться перед искусством. Надо работать. Ответим трудом!
Мария и Агриппина тут встряхнулись, пустили станок. Попенков некоторое время наблюдал за тем, как рождается очередной шедевр, затем тихо вышел, чтобы не мешать творческому процессу.
Мария с дочерью все эти годы работали, почти не смыкая глаз. Они отлично понимали важность своего дела — ведь родственники Вениамина Федосеевича, эти бескорыстные культуртрегеры, распространяли старофранцузские гобелены на Дальнем Востоке и в Сибири, на Украине, в республиках Закавказья и Средней Азии.
Парикмахера Самопалова Попенков взял на себя, провел с ним беседу, растолковал значение Марииного труда. Провел он беседу и с Зульфией, которая вскоре после этого насела на своего Мужа, требуя и к себе в квартиру хоть небольшой гобеленчик, заставила-таки Льва Устиновича развязать мошну.
После этой покупки в семействе Самопаловых установилось очень почтительное отношение к Марии, да и к шуму станка за эти годы все члены семьи привыкли, и теперь воспринимался он ими как нечто родное, близкое.
Управдомами Николаев диву давался: прекратились склоки в 31-й квартире, прекратились скандалы и бесконечные апелляции к нему и к Сталину. Впрочем, как уже известно, второй адресат в скором времени выбыл, совсем немного вкусив спокойной жизни.
Николай Николаевич жил в постоянном страхе. Он боялся, как бы Попенков не вывел его на чистую воду, показав его жильцам не как руководителя, а как обыкновенного корнет-а-пистонщика, легкомысленного музыкантика.
При встречах он напускал на себя начальственную хмурость, интересовался устройством быта.
— Ну как? Устраиваешься? Терпишь неудобства? Слесаря тебе подослать?
Попенков понимающе улыбался, подмигивал ему, заговорщицки оборачивался.
— Ну как вы-то, Николай Николаевич? Все импровизируете? Молчу, молчу.
И Николай Николаевич терялся, сбивался со своего начальственного тона, мялся перед Попенковым, как нашкодивший школьник перед завучем.
— А неудобства, конечно, терплю, Николай Николаевич. Сами понимаете — квартира как проходной двор. Нервная система у жены в угрожающем состоянии.
И Попенков принимал любимую свою позу, приседал на корточки и глядел на Николая Николаевича снизу своим жгучим взглядом.
— Да что же делать-то, Вениамин Федосеевич, я уж ума не приложу, подъезд все-таки, — сказал Николаев.
— Хуло марано ри! — воскликнул Попенков, подпрыгнул и бешено потер руки.
— Что вы сказали? — задрожал как осиновый лист Николай Николаевич.
— Простите, — притворно смущался Попенков, — я хотел сказать, что не будет большой беды, если мы примем решение ликвидировать никому не нужный пышный, аляповатый так называемый парадный ход, через который когда-то ходили присяжные поверенные и прочие слуги буржуазии, и направим поток жильцов через так называемый черный, а на самом деле вполне удобный и даже более целесообразный ход.
— Это конечно… оно, конечно, резонно, — мямлил Николаев, — да уж больно узок так называемый черный ход. Вот я с моими габаритами проникаю через него только путем усилия, а в случае покупки кем-нибудь рояля или чьей-нибудь кончины, как пронести рояль или гроб?
— А окна на что? — воскликнул Попенков, но, спохватившись, засмеялся. — Впрочем, что это я — окна, конечно, для вас неприменимы… Постойте, постойте, окна вполне можно использовать для подъема рояля или для спуска гроба. Кронштейн, блок, крепкий канат — вот и все! Вы меня понимаете?
— Смело, смело, — забормотал Николаев, — смелое решение проблемы, но…
— Об остальном не беспокойтесь, милый Николай Николаевич, мнение жильцов я беру на себя. А вы ни о чем не беспокойтесь, спокойно себе музицируйте, ха-ха-ха! Ну, понимаю, понимаю, молчу, молчу!
Таким образом был заколочен парадный ход и перекрыта капитальной стеной беломраморная лестница. Из дверных ручек-змей родственник Гога изготовил для Зиночки вполне аристократические канделябры. Для выхода из фешенебельной квартиры вначале использовались окна, а впоследствии, когда жильцы привыкли к новому статусу, парадный ход был открыт, но только уже для личного пользования семьи Попенковых.
Так был завершен первый этап, и, хотя на него ушло довольно много лет, Попенков был доволен, ходил спокойный, гордый, но в глазах его по-прежнему стоял тяжелый желтый жар, вековая мечта и тоска Тамерлана.
Иногда по ночам он прерывал наслаждения и задавал своей подруге вопросы:
— Довольна ли ты своей судьбой, Зинаида?
Сказочно пышная Зинаида потягивалась в подобострастной истоме:
— Я почти довольна своей судьбой, довольна на 99 и 9 десятых процента, а если бы ты…
— Я понимаю твою мятущуюся душу, понимаю все величие этой одной десятой, — говорил он и начинал бурно клокотать, а через некоторое время спрашивал: — Но понимаешь ли ты меня?
Зиночка, теперь уже довольная на 99 и 99 сотых процента, отвечала:
— Мне кажется, что я понимаю тебя и всю красоту твоей мечты. Ты, как могучий дух, преобразил этот заплеванный вестибюль в величественный чертог, в эстетический храм нашей роковой страсти, ты не похож на всех этих серых обыденных мужчин, на замминистров и милиционеров, врачей, парикмахеров и водолазов, которых я знала до тебя, ты смерч огня и стали, могучий и гордый дух, но иногда, Вениамин, я теряюсь, твои загадочные слова все еще непонятны мне…
— Какие же это слова? — возбужденно хохотал Попенков.
— Ну, например, вот эти слова, которые ты говоришь в порыве страсти: бу жиза хоку ромуар, тебет фелари…
— …кукубу? — вскрикивал Попенков. Диалог на некоторое время прерывался.
— Да, вот эти слова, что они значат? — слабо спрашивала Зиночка потом.
— Ха-ха, — благодушествовал Попенков, — ведь ты же знаешь, что я не какой-нибудь заурядный человек, да и среди птиц я отличаюсь определенными качествами. Я — Стальная Птица. Это наш язык, язык стальных птиц.
— Ой, как интересно! Как это меня волнует! Стальная! Птица! — задыхалась Зиночка.
— Кукубу! — вскрикивал Попенков.
Диалог вновь прерывался на некоторое время.
— А есть ли еще подобные? Существуют ли еще в мире такие, как ты? — возобновляла разговор Зиночка.
— Не так много пока, но и не мало. Ранее предпринятые попытки, к сожалению, рухнули, думаю, что это результат половинчатых мер, топтания на месте. Чиви, чиви зол фарар, ты понимаешь?
— Почти.
— Пока мы вынуждены ходить в пиджаках и ботинках и шепелявить по-английски, по-немецки, по-испански. Вот и мне приходится пользоваться великим и прекрасным, правдивым и свободным, чтоб его черт чучумо роги фар! Но ничего, придет время! Какие я силы чувствую в себе! Какое предназначение! Ты знаешь, — шептал он, — я — главная Стальная Птица…
— Ты главная! Главная! Главная! — задыхалась Зиночка.
— Кукубу! — вскрикивал Попенков.
— Поделись со мной своими планами, моя Стальная Птица, — нежно лепетала после паузы Зиночка.
Попенков выбегал из будуара и возвращался в чугунных сапогах на босу ногу.
— Я все могу, — говорил он, расхаживая вокруг ложа, — я все устрою, как захочу. Вначале я завершу свой маленький эксперимент с этим маленьким шестиэтажным домом. Я всех их засажу за ткацкие станки, всех этих интеллигентов. Они все у меня будут ткать гобелены, все эти Самопаловы, Зельдовичи, Николаевы, Фучиняны, Проглотилины, Аксиомовы, Цветковы…
— Цветкова тоже? — сухо спросила Зиночка. — По-моему, с Цветковой следует поступить иначе.
— Ха-ха-ха, тебе нужна Цветкова? — покровительственно засмеялся Попенков. — Бери ее, крошка.
— Спасибо, — сокровенно улыбнулась Зиночка.
— Что ты хочешь с ней сделать? Фучи элази компфор трандирацию? — спросил Попенков.
— Фучи эмази кир мадагор, — ответила Зиночка.
— Кекл федекл? — расхохотался Попенков.
— Члок буритано, — хихикнула Зиночка.
— Муги халоги ку?
— Лачи аргуго холенон.
— Буртль?
— Холо олох, ха-ха-ха! — дико, как кобылица, взревела Зиночка.
— Кукубу! — вскричал Попенков.
Пауза и молчание, хотение и вожделение, шебуршание и осквернение, омерзение, гниение, возрождение и самозарождение, трепыханье, глотание, поглощение, исторжение, задушение, уничтожение живого, легкого, такого, с походкой теленка, с глазами олененка, с яблочными грудками, с глазами-изумрудками, с сердцем-апельсинчиком и с таинственной душой доброго человека — уничтожение!
А между тем глава кончается, и годы идут, стареют некоторые особы, а некоторые растут и на мягких подушках, на потных кулачках видят любовь и высшую школу, рекорды и славу, земные дары и никто не видит смерчи, а, наоборот, все видят картины жизни, и никто во сне не слышит, как тихо гудит, поднимаясь и опускаясь, казалось бы, бездействующий лифт, и даже доктор Зельдович спич теперь крепко, а теплые вещи до зимы упрятаны в сундук, под нафталин.
НОЧНОЙ ПОЛЕТ СТАЛЬНОЙ ПТИЦЫ
а) Обращение к Медному Всадник)
Отсель грозить ты думал шведам?
Ну-ну. Вот этот город заложил назло
надменному соседу? Ну-ну. Всего делов —
то — флот, Полтава, окно в Европу.
А знаешь ли ты кто перед тобой? Я —
Стальная Жиза Чуиза Дронг! Мне
памятников не нужно — я сам
летающий памятник. Захочу и
проглочу, захочу — помилую! Не помилую,
не надейся. Съем тебя, Петр Алексеевич.
б) Обращение к памятнику Юрия Долгорукого
Я лошадь вашу съем, шашлыки сделаю
из вашей лошади. В «Арагви»
вашу лошадь — на кухню! А вас я уже съел.
в) Обращение к памятнику Тысячелетия России
Тоже мне дача — жалкая тыщонка!
Что это за людишки в рясах, в
мантиях, в доспехах, в камзолах, во
фраках? Всех расплавлю и сделаю
кашу из бронзы, и будет здесь памятник
бронзовой каше! а я ее буду есть.
г) Обращение к памятнику Авраама Линкольна
Не важничай, Абрашка! Негров
освободил? Нечего этим гордиться.
Никаких возражений — на помойку!
А на помойке я тебя съем.
д) Обращение к памятнику Варшавского гетто
Ну, тут и разговаривать нечего! Всех
в печь, а Мордехая Анилевича уже съел.
е) Превращение в спутник Земли и обращение ко всему человечеству
Говорит спутник Земли Стальная
Птица. Все ваши искусственные спутники
я уже съел. Уважаемые, большой сюрприз готовится,
большая чистка, очистка планеты от
памятников прошлого. Прошлого не будет,
будущего не будет, а настоящее я уже
съел. Уважаемые, дисциплинированно поедайте
памятники! Теперь памятник у вас один —
очаровательный спутник Стальная Птица.
Готовьте насесты, от каждого города по насесту, иначе я
вас съем.
ВОСПОМИНАНИЯ ВРАЧА
Он пришел ко мне и пожаловался на аппетит. Живот действительно был раздут и весь в синих линиях. Ушел от меня аппетит, сказал он. Так вы действуйте через милицию, дерзко посоветовал я. А как же пищеварительный тракт, спросил он. Действительно, некоторые заклепки кишечника разболтались, болты дребезжали, а иные сварные швы поползли. В конце концов я не инженер и мы живем не в научно-фантастическом романе, а в обыкновенной советской действительности, заявил я ему и умыл руки. Ну хорошо, Зельдович, в конце концов окажетесь здесь, сказал он и хлопнул себя по вздутому животу. Я открыл окно и предложил ему очистить помещение. Он вылетел в окно. Полет был тяжелым, иногда он проваливался, как самолет в воздушных ямах, но потом вдруг стремительно взмыл и исчез. Конечно, я понимаю, что за смелость надо платить, но перспектива оказаться у него в желудке, в этом стальном мешке, прямо скажу, мне не очень улыбается.
Справка техника-смотрителя
За истекшие годы в результате перестройки цокольного этажа. а также в результате почти беспрерывных ритмических сотрясений правого угла бывшего вестибюля происходит разрушение фундамента и оседание правого угла дома № 14 на манер итальянской башни в городе Пиза (консультация в Обществе СССР — Италия). Сточные воды из вновь возникшей автономной канализационной системы активно размывают грунт.
Ситуация аварийная, можно сказать, спасайте, люди добрые! Представитель фундамента, краеугольный камень, в личной беседе заявил, что они смогут продержаться не более двух месяцев.
Настоящим предупреждаю и, пользуясь случаем, заявляю на основании вышеизложенного, что при дальнейшем наличии отсутствия действенных мер по организации спасения дома № 14, который люблю и обожаю, сниму с себя полномочия техника-смотрителя и в состоянии душевной дисгармонии покончу с собой посредством пеньковой веревки.
ПАРТИЯ КОРНЕТ-А-ПИСТОНА
Тема: Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук…
Импровизация: Рушится фундамент, наползают тучи, словно ива, клонится наш родимый дом. Наклонился, родный, словно башня в Пизе, точат его воды, сточные притом. Молодые жители, старые герои, не подозревая проживают в нем. Будет катастрофа, сердце сильно бьется, руки опустились, горе в животе…
Конец темы: Спасайте, люди добрые!
Глава четвертая
Вновь возвращаясь на путь строго хронологического повествования, должен сообщить, что от начала повести прошло ровно восемнадцать лет. Те перемены, которые произошли за это время в жизни общества, известны каждому читателю, поэтому распространяться о них нечего. Продолжу унылое свое дело и буду плести паутину сюжета, ту паутину, в которую, сами того не ведая, попали мои герои, в которой они до поры до времени нежатся, подставляя ласковому майскому солнцу свои изумрудные животики.
Замечательным майским вечером старший сын парикмахера Самопалова Ахмед, ставший к тому времени очень известным, почти фантастически знаменитым молодым писателем, одним из тех кумиров молодежи, что разъезжают в маленьких машинах марки «Запорожец» и появляются всегда именно в тех местах, где их не ждут, этот самый Ахмед Львович Самопалов возвращался к себе домой на Фонарный переулок. Автомашину свою «Запорожец» Ахмед совсем недавно загубил и продал в утиль, поэтому возвращался домой пешком. Возвращался он разгоряченный баталиями в Центральном доме литераторов, все еще бурно полемизируя в уме с оппонентами.
«Не вышел номер, старик не помер, — думал он. — Ну, хорошо, вы блокируетесь, приходите, гады, сидите, хихикаете, подзуживаете, мешаете вести игру, так? И в заключение выставляете против меня какого-нибудь своего подкованного подонка, так? Вам кажется, что и удар у него сильный и хорошая защита, да? Вы уже крест поставили на Ахмеде Самопалове, верно? Шиш вам, мне достаточно двух перекидок, чтобы нащупать его слабину, вижу прекрасно, что крученые в правый угол стола он не тянет. Бью ему сначала пару сильных справа — тянет, укорачиваю — тянет, тут я ему закручиваю в правый угол и, если даже он каким-то чудом вытянет, сразу подрезаю слева и привет от Бени, очко в мою пользу. Деятели тоже мне, гении, ракетку правильно держать не можете, пупсики!»
Тут вдруг Ахмед ахнул, дернулся, схватился за сердце, потом за пульс, потом закрыл глаза, потом открыл их, потом щипнул себя за ногу.
По другой стороне улицы, в тени, в голубом озоне вышагивал редкий экземпляр человеческой породы: долгоногое, синеокое, загорелое, сексапильное, светлое, задорное — девушка… Ахмед забарабанил про себя боевой литературный гимн, потому что это шел идеал, кумир, боевая лошадка молодой московской прозы 1965 года, тайная мечта всех владельцев автомашины «Запорожец», начиная еще с патриарха Анатолия Гладилина.
Не знаю, как получится в печатном тексте, но сейчас я пометил страницу своей рукописи цифрой 88. Это вышло совершенно случайно и знаменательно, ибо 88 на языке радистов означает любовь, что обнародовано поэтом Робертом Ивановичем Рождественским.
Ахмед Львович отбарабанил гимн и решительно рванулся.
— Ниночка! Вот так встреча! Давно приехала? Наших видела? — крикнул он, изображая неслыханную и абсолютно товарищескую радость.
— Здравствуйте, Ахмед Львович, — засмущалась девушка, замедляя шаги, краснея и опуская глазки долу.
«Популярность, жуткая популярность, чудовищная известность», — бешено пронеслось в голове Ахмеда.
— Ну, как там наши? Как загорела, вытянулась, просто взрослая женщина, — ласково зажурчал он, беря девушку под локоток. — Давно оттуда, Ниночка?
— Ну как же, Ахмед Львович, какая же я Ниночка, меня Алей зовут, я Аля Цветкова с вашей же площадки, — залепетала девушка, — а ваших я утром видела, и Льва Устиновича и тетю Зульфию, и тетю Марию, и тетю Агриппину, и Зураб меня на мотоцикле утром катал… А вот вас я уже пять дней не видела, Ахмед Львович.
Вполне понятно, что она не видела его так долго. Ахмед Львович вот уже пять суток не ночевал дома, а все вращался в литературной среде, играя в кости, в буру, в преферанс, в подкидного, в кинга, в девятку, в пинг-понг.
— Боже мой, да вы, значит, Аля, Маринина дочка! — воскликнул Ахмед. — Что же с вами случилось за эти пять дней?
— Да вот сама не знаю, что случилось, — ответила Аля. — За пять дней видите какая стала. Мужчины проходу не дают, а ваш брат Зураб каждое утро на мотоцикле катает. На прошлой неделе и подойти не давал к мотоциклу, даже пальчиком дотронуться до него не разрешал, — всхлипнула она.
— Ну знаете, ну знаете, ну знаете, Аля, Аля, Алечка, Алеч-ка, — забормотал Ахмед и подумал: «Зурабке в случае чего мотоциклом по голове».
Они шли уже по Фонарному переулку, и сама судьба катила им навстречу в виде веселого сосредоточенного старика на роликовых коньках с задорно вздернутой бородкой, с длинным шестом, которым он вздувал люминесцентные фонари, как будто это были газовые фонари блаженной памяти XIX века, и фонари загорались под солнцем, которое тоже, как судьба, сидело на трубе дома № 14, свесив худенькие ножки в полосатых чулках, покуривая и подмигивая, и небо было синим, как их ярко-синяя судьба, и без единого крестика, без единого бомбардировщика, допотопно счастливое небо с маленькими оранжевыми уголками.
— Ну, а книжки ты мои читала? — вспомнил вдруг Ахмед про свое положение в обществе.
— Как же, читала, — ответила Аля. — Мы их в школе проходили. Наш преподаватель литературы Бровнер-Дундучников ваши книжки разбирал и очень вас ругал, а я ему сказала, что вас люблю.
— Что? — вскричал Ахмед, сильно сжимая Алин локоть.
— Да, я так ему и сказала. Я люблю творчество Ахмеда Самопалова за то, что он интересно ставит вопрос об отчуждении личности. А потом у нас была совместная конференция по вашему творчеству с фабрикой мягкой игрушки № 4, и все работницы этой фабрики сказали, что вы интересно ставите вопрос об отчуждении личности, а Бровнер-Дундучников ничего не мог сказать. Я, можно сказать, только из-за этой общности интересов поступила после школы работать на фабрику мягкой игрушки № 4.
В четвертый раз уже мимо промчался мотоцикл Зураба Самопалова со снятым глушителем, жутким треском выражая свое негодование. Сам Зураб в полном отчаянии, в жуткой восточной ревности бежал за ним.
— Значит, вы меня любите? — вкрадчиво спросил Ахмед.
— В основном как писателя, — сказала Аля. С этими словами они вошли во двор.
Во дворе на солнцепеке сидели два члена совета пенсионеров — бывший замминистра З. и Лев Устинович Самопалов, а также дворник Юрий Филиппович Исаев. Уже который час они обсуждали вопросы литературы и искусства.
— Я так считаю про этих абстрактистов, — говорил Юрий Филиппович, — не умеешь рисовать, не берись, не дури. Лично я живопись люблю и понимаю все, как полагается. Сам когда-то рисовал. Люблю картину Левитана «Над вечным покоем», это выдающаяся акварель. Заметили, товарищи, какое там изображено обширное пространство? А мы сейчас покоряем это пространство, вот почему эта художественная картина так хороша. А твой Иван, Лев Устинович, настоящий абстрактист, формалист, ненадежный элемент. Не знаю, куда Николаев смотрит, о чем он там в ЖЭКе думает, когда абстрактисты под боком тлетворно влияют на духовно зрелую молодежь.
— Неправда ваша, Филипыч, мой Иван — фигуратист! — горячо возражал-Самопалов. — Конечно, он деформирует, пропускает, так сказать, натуру через воображение, через фантазию, но это не формализм, Филипыч, а поиски новых форм.
— Фигуратист, говоришь? — сердился Юрий Филиппович. — А вот давеча я ему позировал, так он как меня изобразил? Лобик маленький, личность, как волдырь налитой, а сбоку еще пририсовал голубой ножик, это зачем?
— Зря обижаетесь, Филипыч, это он вашу внутреннюю сущность изобразил, а не фотографический отпечаток.
— Выходит, моя внутренняя сущность — волдырь налитой?
— Выходит, волдырь, — соглашался Самопалов.
— Под корень их надо сечь, твоих таких фигуратистов! — орал Исаев. — В другое время как секанул бы под корень и дело с концом. Правильно я говорю, товарищ Зинолюбов?
— Вы, должно быть, имеете в виду времена Белинского, Юрий Филиппович? Времена неистового Виссариона? — мягко улыбался З.
— Правильно, товарищ Зинолюбов! Именно эти времена! — шумел дворник.
— Мягче надо, — говорил З., — тоньше, деликатней. Не забывай, Юрий Филиппович, с талантом надо осторожно, не все сразу.
— Чего ругаетесь-то, Филипыч? — сказал Самопалов. — Чего базлаете? Чего вам спать не дают мои сыновья? Помрем ведь все скоро, песчинками станем в потоке мироздания.
— Философски правильно, — заметил З.
— А я что говорю? Я разве не согласен? Конечно, скоро песчинками станем в философском вихре мироздания, — сказал дворник. — Поэтому и надо пока не поздно по шапке надавать кое-кому, под корень секануть всю эту братию.
— Мягче, мягче, Юрий Филиппович, тоньше, интеллигентней, — увещевал З. бывшего своего стража.
Вот так часами сидели пенсионеры, часами обсуждая вопросы литературы и искусства. Еженедельно эти вопросы ставились в повестку дня заседания Совета пенсионеров, где мнения фиксировались для истории.
А в глубине двора, отбросив домино, обсуждали вопросы литературы и искусства Фучинян, Проглотилин и Аксиомов.
— Сегодня пустил станок, достал книжку, читаю, — рассказывал Василий Аксиомов. — Ну, значит, читаю такую небольшую книжку. Подходит главный инженер. Что читаете, Аксиомов? Перевернул я книжку, прочел название. Оказывается, Ахмедка наш Самопалов книжку эту настрочил. «Оглянись в восторге» называется эта книжка. Нравится? — спрашивает главный инженер. Сильно, говорю, взято, так, говорю, и шпарит через точки и запятые. Мура! — кричит от своего станка Митя Кошелкис. Я, кричит, эту книжку наизусть знаю, мура полная. Тут все ребята загалдели. Одни кричат: оторвался от народа! Другие: связь с народом! Ничего не поймешь. Главный инженер говорит: мнения разделились. Давайте обсудим. Прошу остановить станки. Остановили станки, стали эту Ахмедкину книжку обсуждать. Мастер наш Щербаков по конспекту выступал. Пришел директор, подключился. Горячий у нас директор, заводной. До обеда прогудели.
— Я эту книжку читал, — сказал Толик Проглотилин. — Вчера диспетчер мне ее дал вместе с нарядом. Тут случай был. Еду по Садовому, читаю. Чуть под красный свет не проехал. Смотрю, в «стакане» старшина сидит, читает. Что читаешь, старшина? — спрашиваю. Он показывает — «Оглянись в восторге». Здорово, правда? — кричу я. Ничего, кисло так улыбается он, влияние Бунина, говорит, чувствуется, а также Роб-Грийе. Тут сзади на меня полуприцеп наехал. Тоже зачитался водитель. Ну, провели летучую читательскую конференцию.
— А я эту книжечку тоже прочел, — сказал Фучинян. — Вчера под Крымским мостом кабель чинили, так я ее взял в скафандр. В шлем перед глазами поставил, чиню себе кабель, а сам читаю. Честно говорю, ребята, зачитался. Не заметил, как воздушный шланг порвал. Здорово ставит там Ахмед про отчуждение личности.
— Это верно. Что верно, то верно, — согласились Аксиомов и Проглотилин.
Словом, был мирный и теплый весенний вечер. В трех окнах играли на скрипках, в пяти на роялях. Из одного окна по радио передавали партию корнет-а-пистона. Грузчики неторопливо подтягивали на блоках еще два рояля, один из них висел пока на уровне третьего этажа, другой подползал к шестому. Из окна Марии Самопаловой долетал непрекращающийся стук ткацкого станка. Агриппина, развесив во дворе несколько новых старофранцузских гобеленов, выколачивала из них трудовую пыль. Художник-фигуратист Иван Самопалов выставил в окно свой очередной портрет, отливающий вороной сталью образ человека-птицы, продукт формалистического воображения. Все еще очаровательная Марина Цветкова сквозь дикий плющ, затеняющий ее окно, наводила зеркальцем зайчик на бывшего замминистра Зинолюбова.
Ну что там еще было? Ну, дети-футболисты метко били по окнам первого этажа. Ну, ворвался во двор разъяренный мотоцикл. Ну, Зураб наконец оседлал его и стал кружить по двору, иногда взлетая на брандмауер. Ну, вошел во двор младший Самопалов Валентин в техасских джинсах, в ластах, в маске, с аквалангом за спиной, с транзистором на груди, с кинокамерой в кармане, с гитарой в руках, он исполнял big beat, крутил хула-хуп, снимал через карман любительский кинофильм. Ну и наконец, всем на удивление под аркой Ахмед Самопалов целовался с юной Алей Цветковой, перемежая поцелуи клятвами в вечной любви.
Под аркой появился доктор Зельдович. Увидев целующегося Ахмеда, он обратился к нему:
— Добрый вечер, Ахмед. Добрый вечер, Аленька. На конфетку, покушай. Вы знаете, Ахмед, сегодня во время операции заспорили мы о литературе. Вскрыли брюшную полость и как-то заговорились. Ну, естественно, вспомнили вашу «Оглянись в восторге». Операционная сестра как раз читала в этот момент вашу книгу и сказала, что она без ума. Я тоже отдал вам должное, Ахмед, но, признаться, и пожурил за отдельные недостатки. Наш анестезиолог безоговорочно на вашей стороне, а больной, которого мы оперировали, сказал, что книга хоть и интересная, но вредная.
— Надо было дать ему наркоз, — недовольно сказал Ахмед.
— Представьте, какая странность, он говорил под наркозом, — сказал Зельдович. — В общем, заговорились мы и решили провести операцию в два этапа. Больной сказал, что ко второму этапу он подготовит аргументацию с цитатами. Ну, извините, я вас отвлек. Всего доброго. Новых успехов.
Зельдович юркнул было в черный ход, но сейчас же выскочил оттуда, потому что навстречу ему вышли Вениамин Федосеевич Попенков с женой Зинаидой.
Попенков мало изменился за эти годы, лишь появилась в нем некая устойчивость, тяжеловатость, категорическая властность во взгляде. Зинаида напоминала праздничный торт. Тотчас, как они появились, замолкло радио в пятом этаже, и во двор выбежал запыхавшийся Николай Николаевич, на ходу натягивая подтяжки. Извинившись за опоздание, он присоединился к Попенковым и пошел за ними, чуть отставая.
Во дворе сразу установилась напряженная тишина, если не считать поцелуев, прерывистого шепота под аркой, треска мотоцикла, криков big beat'a и мычания легкомысленного художника.
— У Самопаловых отключить воду и свет за издевательскую формалистическую карикатуру, — бросил через плечо Попенков.
Николай Николаевич записал.
— Как же мы без воды, без света? — ахнул Лев Устинович. — Семья большая, Вениамин Федосеевич, сами знаете, не побриться, не постричься…
— А почему кумни тари хучи ча? — крикнул разъяренный Попенков.
— Что-с?
— А почему ваш сын не хочет поставить свой талант на службу народу? — перевела Зинаида.
— Вениамин Федосеевич, а как мой вопрос? Разбирали? — обратился Зинолюбов.
— Брак с Цветковой? — ухмыльнулся Попенков.
— Чими мичи холеонон, — шепнула ему на ухо Зинаида и расхохоталась.
— Так точно, брак с Мариной Никитичной Цветковой, — подтвердил Зинолюбов. — Осуществление старой мечты. Когда-то вы говорили, что несколько раз спасали мне жизнь, Вениамин Федосеевич, а однажды даже спасли в реальном плане, — он покосился на Зиночку. — Теперь у вас еще одна возможность.
— Кукубу с Цветковой? Чивилих! Клочеки, дрочеки рыкл екл!
— Брак с Цветковой? Никогда! В случае неповиновения отключим свет, воду и канализацию, — перевела Зинаида и от себя добавила: — Канализацию, понятно? Понимаете, чем это пахнет, товарищ Зинолюбов?
— Он совсем уже забывает русский язык, эта Стальная Птица, — сказал Ахмед Самопалов Але.
— А черт с ним, — сказала Аля. — Поцелуйте меня, пожалуйста, еще раз, Ахмед Львович.
Обход двора продолжался. В центре Попенков остановился и стал рассматривать очень внимательно стены дома и раскрытые окна квартир.
— Вениамин Федосеевич, я еще вчера хотел вам сказать, — осторожно обратился Николаев. — Дело в том, Вениамин Федосеевич, что вами заинтересовались.
— Что? Как? Где? — вскричал Попенков. — Где мной заинтересовались?
— Там, — многозначительно сказал Николаев и показал большим пальцем в небо.
Попенков упал на живот и пополз, выворачивая голову наподобие провинившегося пса и высовывая язык. Потом он вскочил и на пуантах, подчиняясь одному ему слышной трагической музыке, заскользил по двору. Асса, шептал он себе под нос, асса, танец всем на загляденье, оп-па, оп-па, оп-па-па!
Весь двор с интересом следил за пируэтами Попенкова, за его скачками, за трагическими всплесками и вывихами рук, за огненными улыбками, поклонами и экивоками в адрес зрителей, за волчкообразным вращением и замиранием в трепетании.
Николай Николаевич, поначалу завороженный танцем, перепугался насмерть, когда Попенков лег на асфальт. Он подбежал к нему, прилег рядом и зашептал:
— Вениамин Федосеевич, встаньте, родной! Не терзайте мое сердце. Вас хотят ввести в комиссию за культурный быт. Учитывая ваш опыт, Вениамин Федосеевич, вашу хватку, вкус…
Попенков быстренько вскочил и отряхнулся.
— Что ж, я согласен! — воскликнул он. — В комиссию я охотно. Давно пора меня в комиссию, шуши маруши формазатрон!
— Я наведу в быту порядок, — перевела Зиночка.
— Кстати, Николаев, — Попенков медленно пошел по двору и сделал знак начальнику ЖЭКа следовать за ним. — Кстати, руфир харатари кобло батор…
— Будьте любезны, по-русски, — взмолился Николаев.
— Пора уже понимать, — раздраженно сказал Попенков. — Ну, ладно. В общем, так. Завтра мои родственники хотят переоборудовать крышу, сделать там люк, чтобы я мог из лифта выходить прямо на крышу.
— Зачем? — в панике спросил Николаев.
— Как зачем? Вы знаете, что я иногда пользуюсь лифтом для… для прогулок. Хочется иной раз и на крыше посидеть.
— Это я, конечно, понимаю, — сказал Николаев, — ваше желание мне понятно, но дело в том, Вениамин Федосеевич, что наш дом в очень тревожном, почти в аварийном состоянии. Сегодня мне об этом докладывал техник-смотритель, и я боюсь, что отверстие в крыше совсем расшатает устои…
— Ерунда. Паникерство. Технику-смотрителю давно пора в мир иной, — сказал Попенков. — Короче, дискуссии закончены. Завтра мои родственники сделают люк.
Вдруг над двором пронесся крик:
— Граждане!
И все, подняв головы, увидели техника-смотрителя, стоящего на карнизе пятого этажа. Балансируя, он махал руками, словно большая бабочка билась в невидимое стекло.
— Граждане! — кричал он. — Третью ночь не сплю, ничего не ем, зубы расшатались, покидают силы… Граждане, наш дом в аварийном положении! Посмотрите, неужели вы не замечаете, он стал наподобие итальянской башни в городе Пиза. Фундамент может продержаться не больше недели. Он сам мне об этом сказал! Граждане, необходимы срочные меры! Граждане, все докладные записки кладут под сукно!
Чтобы не упасть, техник-смотритель делал кругообразные движения руками, но был похож не на птицу, а на несчастную бабочку, потому что на нем был широченный цветной женин халат, из-под которого высовывались нагие ноги.
Никто не заметил, как оказался на карнизе Попенков, все только увидели, что он быстро скользит к технику-смотрителю.
— Граждане! — в последний раз воззвал техник-смотритель и в это время был схвачен стальной рукой Попенкова, смявшей в мгновение ока яркую ткань халата.
— Видели психа? — гаркнул вниз Попенков, рассыпая молнии из горящих глаз, таща под мышкой обвисшее тело техника-смотрителя. — Граждане, он сумасшедший! Никулу чикулу грам, оус, суо!
— Психам и паникерам нет места в культурном быту! — крикнула Зинаида.
Попенков с телом техника-смотрителя молниеносно вскарабкался по водосточной трубе, прогрохотал по крыше и скрылся в слуховом окне.
Жильцы, ошарашенные и возбужденные, приступили к Николаю Николаевичу. В чем дело? Что случилось? Есть ли основания для эвакуации? Из-за чего тронулся техник-смотритель?
— Граждане, сохраняйте полное спокойствие, оставайтесь на своих местах, — увещевал их Николаев. — Конечно, определенные основания для беспокойства имеются, фундамент в довольно напряженном положении, я тоже с ним беседовал, но катастрофа рисуется только в отдаленной перспективе, где-то в конце квартала, не раньше. Граждане, завтра утром я иду в райжилуправление, даю там бой. Вернусь иль на щите, иль со щитом. Хотелось бы, чтобы ваши мысли и сердца были в этот момент со мной.
— А что это мы слышали, Николай Николаевич? — крикнул Проглотилин. — Попенков крышу собирается долбить?
— Так мы и до конца квартала не дотянем, рухнет хибара! — завопил пронзительно Аксиомов.
Фучинян, сгруппировавшись, прыгнул в центр круга.
— Здесь Фучинян! — крикнул он. — Все меня знают — я здесь! Я этого дела не допущу. Крыша будет цела! А Стальной Птице крылышки мы пообломаем. Васька, Толик, верно я говорю?
— Попилим на расчески Стальную Птицу! — крикнул Васька. Жильцы загудели.
— Никулу чикулу грам, оус, суо! — в панике закричала Зинаида Попенкова. — Николай Николаевич, что же это получается? Стихийное сумасшедствие?
— Граждане, спокойствие. Граждане, порядок, — увещевал Николаев. — Снятие части крыши не угрожает непосредственной катастрофой. Граждане, надо понять Вениамина Федосеевича, надо войти и в его положение. Граждане, спокойствие. Граждане, давайте договоримся.
Но толпа еще сильнее загудела, возбуждаемая боевым и напористым видом Фучиняна.
— Это все из-за Попенкова! — кричали люди.
— Всю ночь дом сотрясается невероятным образом!
— Выселить его!
— Открыть парадное!
— Надоело!
— Долой Стальную Птицу!
— Граждане, я постараюсь войти с этим вопросом к Вениамин Федосеевичу, — умолял Николаев (никто не узнавал сурового администратора), — постараюсь его уломать. Граждане, я почти обещаю, что крыша будет цела.
Солнце закатилось, сгущались сумерки, но жильцы не расходились, и в глухо гудящей толпе вспыхивали спички, трепетали огоньки зажигалок, мерцали сигареты и глаза, весь темный двор был наполнен тревожным шевелящимся мерцанием. Фучинян, Проглотилин и Аксиомов по пожарной лестнице полезли на крышу. Они решили спасти ее своим бдительным дежурством и готовностью к любому, даже смертельному бою. Младшие Самопаловы, Зураб и Валентин, блокировали черный ход. Ахмед и Аля Цветкова вызвались подежурить в садике. Товарищ Зинолюбов занял наблюдательный пост в квартире Цветковых. Мария Самопалова и Агриппина объявили забастовку и легли спать впервые за восемнадцать лет. Лев Устинович выправил бритву, а Зульфию вооружил ножницами. Словом, все жильцы внесли посильную лепту в коллективный протест против самоуправства Попенкова.
Ночь прошла тревожно, спали урывками, целовались лихорадочно, курили, курили, иные выпивали, иные готовились к эвакуации, никто не знал, что принесет утро.
Фучинян, Проглотилин и Аксиомов сидели на коньке крыши, давили на троих, настроение было приподнятое, вспоминались былые бои на пространстве от Волги до Шпрее. Несколько раз им казалось, что над ними, застилая звезды, с тихим реактивным свистом проносится какое-то темное тело, и они тогда жалели, что не располагают зенитной установкой.
Солнце поднялось быстро, выкарабкалось из городских теснин, повисло над Москвой. Крыша сразу раскалилась.
В восемь часов утра бойцам самообороны показалось, что под ними, на чердаке, кто-то есть. Быстро заняли боевую позицию, сгруппировались. Из слуховых окон вылезли родственники Попенкова — родственник Кока, родственник Гога и родственник Дмитрий. Они были с топорами и пилами-ножовками, с молотками.
— Привет, хлопцы! Загораете? — сказал родственник Дмитрий бойцам самообороны. — А мы с утра пораньше за работу.
— А ну-ка, мальчики, весело с песнями вниз! — скомандовал Фучинян и выдвинулся вперед.
— Посмотри, Митя, — сказал родственник Кока, глянув на мостовую, — высота большая. Если кого случайно толкнуть — в лепешку! Как ты думаешь?
— Кисель будет из человека, — грустно предположил родственник Гога.
— Жидкость, — подвел итог родственник Дмитрий и начал пилить крышу.
— Сейчас проверим, что получится, — сказала самооборона и засучила рукава. Крыша вздулась и хлопнула под их первым тяжелым шагом.
Родственники, бросив свои шуточки, тоже сгруппировались и двинулись навстречу. Татуированные их мускулы надулись таким образом, что, казалось, это движутся не три человека, а сцепление страшных шаров; из кулаков их щелчками выскочили узенькие жала стопорных ножей; оскаленные золотые зубы отсвечивали на солнце; также отсвечивали на солнце перстни, браслеты, брелоки, серьги и кольца. В жгучем свете утреннего солнца на бойцов самообороны двигалась в заграничных жилетах и кованых башмаках яркая жизнерадостная смерть.
— Васька, правого бери! Толик, левого бери! А я Гогу нехорошего возьму! — завопил Фучинян и бросился вперед.
Началась самооборона без оружия. Стопорные аргентинские ножи родственников со свистом рассекали воздух, но попадали в пустоту. Фучинян, Проглотилин и Аксиомов, вспоминая уличные бои, дергали родственников за ноги, били им по носам. Слезы и сопли родственников фонтанами вздымались в голубое небо, но все-таки ножи есть ножи, и пролилась кровь, и оттеснили наших молодцев к краю крыши.
Вдруг в тылу у родственников послышался грохот. По крыше ползли четыре брательника Самопаловы: писатель, художник, мотоциклист и big beat.
— Отступаем! — скомандовал родственник Дмитрий и первым спрыгнул вниз. За ним сиганули с крыши родственник Кока и родственник Гога.,
Бойцы самообороны в ужасе склонились, вообразив себе превращение этих мощных организмов в лепешку, в кисель, в жидкость. Однако родственники приземлились благополучно и бросились наутек в разные стороны.
В 8 часов 30 минут на северной торцовой стороне дома появилась первая трещина. В трещину высунулась Мария Самопалова и закричала на весь Фонарный переулок:
— Ратуйте, люди добрые!
В 8 часов 45 минут у парадного подъезда скопились все жильцы дома № 14, а также сочувствующая публика из соседних домов. Домашние животные: кошки, шпицы, фокстерьеры, доги — прыгали из окон на мостовую. Выпущенные из клеток чижи, канарейки, попугаи многоцветным облачком парили над толпой. Из водосточных труб лилась изумрудная вода аквариумов, а в ней струились вуалехвосты, красноперки, вьюны. Хлопали ставни, скозняки гуляли по опустевшим квартирам, опрокидывая горшки с вечнозеленой флорой. Слышались стенания. Жильцы тосковали по оставленным вещам, по предметам обихода, по дорогим и милым безделушкам.
В толпе метался во вздутом женином халате техник-смотритель.
— Граждане! — кричал он. — Я произвел расчет. Дом еще может продержаться двадцать семь минут. Можно еще что-то спасти! Надо только открыть парадное! Очистить вестибюль!
— Открывай парадное!
— Ломайте двери!
— К чертям собачьим!
— Гарнитур, родненькие, только купили! Семь лет копили, не пили — не ели!
— Ломай!
Двери уже гнулись под напором толпы, а внутри Попенков спокойно завязывал галстук, вкалывал в него бриллиант, полировал ногти, влезал в чугунные сапоги.
— Ты что-нибудь придумаешь, правда? — металась подпрыгивая, как пушбол, Зинаида. — Ты найдешь выход, милый, родной, гений человечества, моя гигантская Стальная Птица? Жужо жирнава жуко журо?
— Ноки мурлоки квакл читазу! — спокойно ответил Попенков. — Ты боишься этой толпы, моя Лорелея? Жалкая толпа, вшивота. Десять минут работы для циклона. Филио дронг чириолан!
И одним махом сорвав все гвозди, он распахнул дверь и предстал перед жильцами.
Наступила тишина. Техник-смотритель, вспомнив вчерашнюю таску, спрятался в толпе.
— Зачем вы собрались? Чего вы хотите? — спросил Попенков, скрестив руки на груди.
— Хотим вышвырнуть тебя вон, Стальная, — ответил перебинтованный и совершенно героический Фучинян.
— Вышвырнуть вон? — усмехнулся Попенков. — А теперь выслушайте мои условия. — Глаза его зажглись далеким тайным и страшным огнем, из горла вырвались звуки, похожие на реактивные выхлопы. — Дронг халеоти фынг, сынг! Жофрыс хи ласр фури талот…
— А мы вашего языка не понимаем! — крикнули из толпы. — Уходите, товарищ, покуда цел!
Попенков с видимым усилием перешел на русский язык:
— Мои условия таковы. Все возвращаются по своим квартирам, получают ткацкие станки, станки прибудут к вечеру, и — за работу. Понятно? Кое-кем, конечно, придется пожертвовать. Некоторые будут подвергнуты чизиоластрофитации. Чучу-ху, клочеки, дрочеки?
— Если ты нас хочешь взять на понял-понял, — сказал Фучинян, — то мы сами тебя возьмем на понял-понял. Понял?
Он еще придвинулся, и все придвинулись, и Попенков вдруг действительно понял, что ему несдобровать: кольцо сужалось, а прямо над ним висел проклятый жестяной козырек. Конечно, козырек можно было бы и пробить, но в этот момент как раз кто-нибудь и схватит тебя за чугунные ноги. Выхода почти не было, и он внутри себя уже расхохотался трагически над таким глупым концом своего большого дела.
В какое— то мгновение настала вдруг полная тишина, и в это мгновение влетел дробный приближающийся цокот копыт. Стук копыт в Москве — явление из ряда вон выходящее, все обернулись и увидели в конце Фонарного переулка галопирующую белую лошадь, на которой восседал начальник ЖЭКа Николай Николаевич Николаев.
Было 9 часов 15 минут утра. Николаев возвращался из райжилуправления со щитом, да еще и на белой лошади с широкой грудью, с округлым мощным крупом, с лукавыми розовыми глазами, с челкой, развевающейся, как праздничный флажок. Неторопливо галопируя, лошадь напоминала старинную каравеллу, весело идущую по свежему морю под раздутыми белыми парусами.
Приблизившись и увидев толпу возле подъезда, увидев распахнутые окна и разветвленные трещины в стенах, Николай Николаевич вытащил из-за пазухи сверкнувший на солнце корнет-а-пистон и приблизил его к губам.
— Граждане родные, сестры и братишки! — торжествующе запел корнет. — Райжилуправление выделило дом! Дом восьмиэтажный, весь почти стеклянный, весь почти пластмассовый, уверяю вас! В сказочном квартале, в экспериментальном, всем на загляденье высится чертог! Голубые ванные, рядом унитазы, мусоропроводы ожидают вас! Каждому солярий, каждому дендрарий, каждому столовую, каждому бассейн! Собирайтесь, граждане, сестры и братишки, пестрым караваном к счастью потрусим!
— Ура! — закричали все жильцы и, забыв про Попенкова, ринулись в свое расползающееся жилище за вещами. Попенков успел юркнуть в лифт.
В девять часов тридцать минут к подъезду подошел обоз, посланный райжилуправлением. Это были мохнатые живчики-пони, задорно грызущие узорные удила, бьющие сильными копытцами в асфальт. Они были запряжены в небольшие, но вместительные тележки, украшенные фольклорной резьбой.
В девять часов тридцать девять минут погрузка скарба была закончена, и обоз весело побежал по Фонарному переулку. Цокали копытца, звенели бубенчики, реяли цветные ленты и флажки, играли гармоники, гитары, транзисторы, а впереди скакал на белом коне Н. Н. Николаев с корнет-а-пистоном. Длинный караван змеился по московским улицам, направляясь к новой жизни в Новые Черемушки.
В девять часов сорок четыре минуты дом № 14 рухнул. Когда рассеялась кирпичная пыль, немногие оставшиеся в Фонарном переулке увидели, что над руинами высится лишь шахта лифта. Через некоторое время из ее глубин начал подниматься лифт. В нем стоял замкнутый, ушедший в себя Вениамин Федосеевич Попенков.
Когда лифт остановился на предельной своей высоте, Попенков открыл двери, присел на корточки и застыл, вперив безжизненный взгляд в необозримое пространство. Никто не знает, о чем он думал и что он видел вдали. Неизвестно также, видел ли он, как по Фонарному переулку, подобно пушболу, прокатилась, подпрыгивая, Зинаида.
Долгие месяцы он сидел на каркасе шахты совершенно без движения, как одна из химер Собора Парижской Богоматери.
Однажды в Фонарном переулке появились бульдозеры. Услышав хлопотливое урчание их моторов, Попенков встрепенулся, прыгнул и полетел над Москвой, над арбатскими переулками, над голубым блюдом бассейна «Москва», над Большим Каменным мостом… За ним тянулись две темные полосы. Потом их развеял ветер.
ПРОЩАЛЬНЫЙ МОНОЛОГ СТАЛЬНОЙ ПТИЦЫ
Руррро калитто Жиза Чуиза Дронг! Чивилих жифафа кобло ураззо! Рыкл, екл, филмоча абстерчураре?(Фыло сыло ылар урар!
Щур ырамтура ы, ы, ы! Жастри частри гастри нефол! Нефол фолиадавр логи жу-жу? Уж жу руж жур оруж журо олеожар! Ража!
Фага!
Лирри— отул!
Чивилох зузамаза азам ула лу? Лузи урози клочек тупак! Зффтщ! Жмин перкатор сапала! Со! Па! Ла! Ал! Ап! Ас! Спл! Вспыл севел фук журару! Рефо яром филиорам, отскьюда сиплст-во аны ына! Аны, ына, аны, ына, аны ына, аны! Пшпыл, пшпыл, пшпыл, пшпыл — вжиф, вжиф, каракатал!
Общий хор.
а все— таки цветы цветут и детство у всех в голове и старость просит руки тут некоторые с поцелуем уходят туда и с жаром сливаясь чтоб встретиться на небесах и масло на свежей булке а ягоды в утренней росе в неразберихе светящихся пунктиров где отыскать хитрую мордочку с ягодами на устах в кварталах с гитарррой часовые любви наводят глянец на мостовые утренние голоса обещают нам молоко в свежей газете очередные сообщения о проделках дельфинов младшие братья в поверхностных светлых слоях океана пасут для нас косяки вкусных и деликатных рыб и каждый в мечте о билете на обыкновенный тысячеместный аэроплан чтоб пролететь над океаном с приветом к морским пастухам а после вернуться к своим старикам к своим детенышам-хитрецам засыпает чтоб проскакать на деревянном скрипучем коне по лесу через поляны в блеске весеннего утра весеннего лета и осенней зимы летней весны и зимней осени зимнего лета и летней зимы зимней весны и летней осени весенней зимы и осеннего лета
1965
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Читаю «На полпути к Луне». 16 ноября 1962 года

Алла (племянница), Майя (сестра), Павел Васильевич (отец) и тетя Ксения. 1955 или 1956 год

Отец с дядей Адрианом, который вытащил меня из детдома детей врагов народа в 1938 году

Дорогой для меня снимок — моя мама Евгения Семеновна Гинзбург

Пошли! 1962 год

Здесь Алеше уже 15, а деду — 76

Первые дни эмиграции. На обороте этой фотографии надпись: «Старикам Аксеновым от стариков Аксеновых». 1980 год

С Эльдаром и Эммой. Самара, 1997 год

Друзья Виттихи. Самара, 90-е годы

Вилик Т. и Васик А.

Неожиданная встреча в Пятигорске с Розовскими. 2000 год

Вернулся я на Родину… 2000 год
INFO
Аксенов В.
А 42 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 21. —
М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 640 с., ил л.
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
ISBN 5-099-01173-0 (Т. 21)
ISBN 5-04-003950-6
Литературно-художественное издание
Аксенов Василий Павлович
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том двадцать первый
Автор серийного оформления Е. Поликашин
Художественный редактор А. Мусин
Компьютерная верстка Т. Комарова
Корректор Л. Квашук
ООО «Издательство «Эксмо». 107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home раде — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@ eksmo.ru
Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.10.2002. Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Бум. писч. Усл. печ. л. 33,6 + вкл.
Тираж 7100 экэ. Заказ 7231
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
…………………..
Отсканировано Pretenders,
обработано Superkaras и Siegetower
FB2 — mefysto, 2023

Примечания
1
Гинзбург Евгения Семеновна (1906–1977) — прозаик. Автор автобиографической книги «Крутой маршрут» (том 1-й — 1967 г., том 2-й — 1979 г.).
В 1937 г. арестована в г. Казани, через 10 лет освобождена из лагеря, находилась в ссылке в Магадане, где некоторое время жила с сыном Василием.
В 1951 г. снова попала в лагерь. Реабилитирована в 1956 г.
(обратно)
2
Гуро Елена Генриховна (1877–1913) — поэтесса, прозаик. Автор книг: «Шарманка» (1909): «Осенний сон» (1912); «Небесные верблюжата» (1914).
(обратно)
3
Имеется в виду известная картина Анри Руссо «Футболисты».
(обратно)
4
Разумеется, автор субъективен: аэроомнибус привез моих проев. и мне, конечно, хочется какого-нибудь скромного торжества, хотя бы маленького оркестра, кучки фотографов, маленького микрофона. Ничего этого на аэродроме не было: мало ли авторов со своими героями летают нынче в небесах.
(обратно)
5
Строка из стихотворения Гейне «Лорелея».
(обратно)
6
Эта история имеет лишь косвенное отношение к так называемому тунгусскому метеориту ТМ, суть не что иное, как печная заслонка флагмана, отброшенная при взрыве.
(обратно)
7
Автор вновь выражает свое недоумение и опаску: для чего приехал Мемозов в Пихты и не посягает ли он на главное: на самую повесть, на Железку?
(обратно)
Оглавление
«Затоваренная бочкотара»
как явление стиля
Вместо автобиографии
Три шинели и нос
Затоваренная бочкотара
Первый сон Вадима Афанасьевича
Первый сон моряка Шустикова Глеба
Первый сон старика Моченкина
Первый сон педагога
Ирины Валентиновны Селезневой
Первый сон Володи Телескопова
Сон пилота Кулаченко
Второй сон Володи Телескопова
Второй сон Вадима Афанасьевича
Второй сон старика Моченкина
Второй сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой
Второй сон Шустикова Глеба
Третий сон педагога
Ирины Валентиновны Селезневой
Третий сон военного Шустикова Глеба
Третий сон Владимира Телескопова
Третий сон Вадима Афанасьевича
Третий сон старика Моченкина
Сон внештатного лаборанта
Степаниды Ефимовны
Последний общий сон
Золотая наша
Железка
К истории публикации
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
С ВЫСОТЫ 10 000 МЕТРОВ
Десятилетие назад
Письмо к Прометею
Что же я за человек такой
Глушь моей юности
Гигантские шаги
Мемозов
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИЗ ГЛУБИН ИСТОРИИ
Клякша
Пихты
Горюны
Карменсита
Петух
Ребро
Внутренний монолог
Великого-Салазкина
Разочарование
Тройной одеколон
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИЗНУТРИ ПИХТИНСКОГО БЫТА
Ночная горячая колбаса
(второе письмо к Прометею)
Особенный вечер
Европейские подстрочники
Цапля
«Селяви»
Сквиррел
Высокая луна
Трамвай 43-го года
Федя
Нью-орлеанские поминки
на Новом Арбате
Предметы
Итальянское мраморное кружево,
готические сталагмиты
Инстинкты
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
СКВОЗЬ СОН МЕМОЗОВА
Сон
Третье письмо к Прометею
Желток Яйца
Десять минут до короткого замыкания
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая и последняя
Стальная Птица
Появление героя и попытка портрета
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
*** Примечания ***

 ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ


 «Затоваренная бочкотара» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1968, № 3. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Затоваренная бочкотара» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1968, № 3. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.

 «Золотая наша железка» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1989, № 6–7. Текст печатается по настоящему изданию.
«Золотая наша железка» — повесть впервые напечатана в журнале «Юность», 1989, № 6–7. Текст печатается по настоящему изданию.
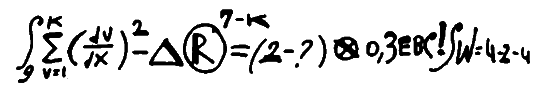











 «Желток Яйца» — повесть впервые напечатана в журнале «Знамя», 1991, № 7–8. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Желток Яйца» — повесть впервые напечатана в журнале «Знамя», 1991, № 7–8. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.

 «Стальная Птица» — повесть впервые напечатана в сборнике повестей и рассказов В. Аксенова «Рандеву», Москва, Издательство «Текст», 1991. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.
«Стальная Птица» — повесть впервые напечатана в сборнике повестей и рассказов В. Аксенова «Рандеву», Москва, Издательство «Текст», 1991. Текст печатается по собранию сочинений в 4-х томах. Библиотека журнала «Юность». Издательский дом «ЮНОСТЬ». Москва. 1995 г.












