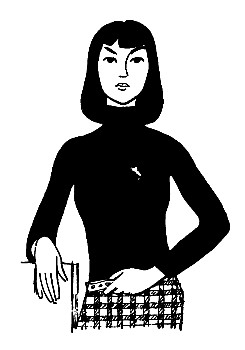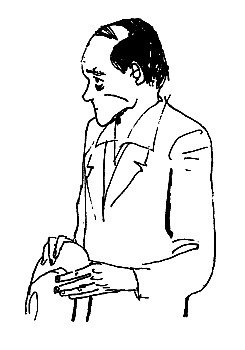Иржи Кршенек
Петля

ИРЖИ КРШЕНЕК (род. в 1933 г.) — известный чешский писатель. С начала 60-х годов у него вышли: роман-хроника «Мужики», сборники повестей и рассказов, роман «Дички», опубликованный в 1976 г. на русском языке, две части трилогии — «Селянка» и «Дом среди лиственниц». Детективная повесть «Петля» вышла в свет в 1975 году. И. Кршенек плодотворно работает также в кино, на радио и телевидении. За роман «Дички» удостоен премии на конкурсе в честь 50-летия КПЧ.
I
Управляющий хозяйством пансионата «Романс» — если вообще можно назвать пансионатом несколько полусгнивших, низких, как бы боязливо пригнувшихся к земле строений на фундаментах из плоских камней — кряхтел и вздыхал еще добрых полчаса после того, как поднялся с постели. Он щурил покрасневшие глаза и то и дело подтягивал широченные, мешковатые брюки, измазанные масляной краской, асфальтом и пропахшие скипидаром. При первом же взгляде на этого человека становилось ясно, с кем имеешь дело. Он принадлежал к редкой категории чересчур добросовестных людей и нес свой крест с удивительным мужеством. Его превращение в неусыпного стража всех этих досок, юфти, ящиков с шурупами и гвоздями, которые вместе с железными каркасами палаток, лодками, сплюснутыми мячами и канистрами с керосином скрывал в своей утробе «Романс», было поистине совершенным.

Душу его ранила каждая дождевая капля, которой удалось проникнуть сквозь обветшалые крыши, терзали ржавчина, плесень, маленькие рыжие муравьи, кишмя кишевшие на стропилах срубов и нещадно вгрызавшиеся в трухлявые бревна. То была душа благородная и чистая, как дукат святого Вацлава, но — как и он — принадлежала к другой эпохе.
Ночь, в которую управляющий почти не смыкал глаз, была похожа на все прочие, как черные щенки одного помета. Шум реки и дождя звучал усыпляюще вкрадчиво, но управляющему все чудилось, что кто-то ходит по волейбольной площадке. Потом до него явственно донесся скрежет весел, будто кто-то вытаскивал заржавевшую уключину, затем что-то глухо шлепнулось в воду.
«Доски тащат, — смекнул он, сжимая вспотевшими ладонями никелевый фонарь. — Уже и до них добрались».
Несколько дней назад ему привезли длинные доски для ремонта крыш, и они сразу же обратились в «новый страх».
«Кому же такое добро не нужно? Любому пригодится», — рассудил управляющий и принялся за дело: втащил доски на крышу столовой. Но, едва сделав это, тут же сообразил, что доски с крыши утянуть куда проще. Под вечер он сложил их на прежнее место, но, снимая последнюю, чуть было сам не свалился — от усталости у него прямо-таки подкашивались ноги.
Он хлебнул перлового супа, запил его бузиновым отваром и, не успев наказать жене, чтобы заперла сарай (сто раз ей все повтори!), погрузился в тяжелый, без сновидений сон.
Это было в среду. В четверг утром стал накрапывать дождь, и управляющий прикрыл доски толем, прижав его кирпичами. Под вечер дождь усилился. На береговом откосе, поросшем дубом, грабом, кустарниковым полевым кленом, среди которых торчали острые расщепленные скалы, словно окаменелые зубы доисторических мастодонтов, тревожно вскрикнула иволга, и долина погрузилась в тоскливо туманные сумерки. Силуэты строений, дождевые капли, омывавшие листья орешника, пихтач, набухший чернью, и тоскливая тишина — таков был четверг озабоченного управляющего. Таким же туманным, неприветливым и дождливым встретило его утро в пятницу, когда он почти затемно встал, дрожа от холода и досады, и оглядывал воспаленными глазами сокровища «Романса». «Забор бы поставить. Добротный забор», — думал он, зябко поеживаясь.
Он обследовал кирпичи, которыми накануне прижал толь, и удовлетворенно отметил, что подставленные чурочки на месте. Стало быть, ни к чему не притрагивались. «В эдакую мокрядь людям не до воровства», — мелькнула мысль.
Он нагнулся к куску толя, лежавшему тут же возле досок. «Ведь наказывал ей, чертовой бабе, чтоб убрала толь в сарай».
— Я же велел тебе убрать это! — крикнул он в сторону дома.
— Боже всемилостивый, толь намок! На крыше, что ли не намокнет? — отозвался женский голос. — Обуйся поди, не то опять всю ночь кряхтеть будешь.
Управляющий махнул рукой и рывком дернул толь. В этот миг в дверях дома, точно береста, забелело лицо женщины — она пошатнулась и оперлась о притолоку.
Ян Жампах — так звали управляющего — не заметил этого. Он отбросил толь на доски и только тогда увидел то, что так ужаснуло жену.
В обнажившемся прямоугольнике сухой земли, навзничь лежала девушка в коротенькой клетчатой юбочке и черном свитере. Жампах узнал ее. Ее звали Анна, Анна Кралова. Господи, когда же он видел ее в последний раз? Вчера, позавчера?
Теперь она лежит тут, и в ее широко распахнутые глаза падают капли дождя...
Близость города, река, вьющаяся по дну глубокой романтической долины меж крутых скал и грабовых рощ, регулярное автобусное сообщение и хорошие магазины превратили Красную Горку в популярную зону отдыха. Пожалуй, не проходит и недели, чтобы к кому-либо из местных счастливцев — обладателей клочка луга у реки, не постучался бы солидный горожанин с кошельком, утяжеленным сотнями крон, пустившийся в нелегкий путь в оздоровительных целях. В год, когда так страшно оборвалась жизнь Анны, на хуторе, где эта двадцатилетняя девушка жила со своей матерью, таких незадачливых претендентов побывало по меньшей мере пять или шесть.
Последнего из них, настырного облысевшего очкарика, матушке Краловой пришлось выставлять чуть ли не силой.
— Не было печали, так черти накачали — нужен нам был этот хутор, — сказала она дочери. — Слыхала: «Я, мол, еще ворочусь... вдруг передумаете». Пусть только заявится. Возьму вилы да турну его как следует...
Хотя хутор и не был никогда ей особенно дорог, однако после смерти мужа она охраняла его с типично моравским упорством, граничившим подчас с чудачеством.
К строению в двадцати минутах ходьбы от заброшенной каменистой дороги, тянувшейся вдоль речного русла, примыкало несколько десятин пологого склона, заросшего орешником, мохнатым шиповником и дикой черешней. Именно этот косогор, неплодородный, запущенный, исхлестанный частыми ливнями, и стал предметом небывалого интереса и источником постоянного «пекла» Анежки Краловой, или «Кралихи с хутора», как окрестили ее в деревне.
— Люди совсем с ума посходили, — разговорилась она однажды с женщинами в магазине. — Вот дочка выйдет замуж, пусть и делает с хутором, что захочет, а мне-то что?
— Может, отыщется покупатель, купит хутор вместе с вами, пани Кралова, — заметил на это заведующий магазином Флориан Кратена.

Кралова от души рассмеялась:
— А я-то ему на что?
— Кто знает, — пожал плечами неудачливый поклонник «Кралихи с хутора».
— Плохого вы, однако, обо мне мнения, пан заведующий.
— Помилуйте, как же — плохого? Напротив, самого что ни на есть лучшего, пани Кралова.
Этим обыкновенно и ограничивался флирт пана заведующего с миловидной вдовой, которая знала, что все еще нравится, и, как всякая женщина, тешилась этим. Иногда заведующий появлялся на хуторе, проделывая несколько трюков с пинг-понговым шариком, бесследно исчезавшим в рукавах его широкого, старомодного пиджака, непременно спрашивал — ну как, Аничка, идет учеба? (это его вечное «ну как» выводило девушку из себя) — и, положив на стол пакетик с шоколадными конфетами, скрывался в ельнике. Матушка чувствовала, что пана заведующего дочка терпеть не может.
— Аничка, — сказала пани Кралова дня два спустя после того, как дочь получила аттестат зрелости. — А не отметить ли нам с тобой начало каникул?
— Еще чего, — ответила Анна, прыгая по кухне в пестрых шортах, открывавших длинные загорелые ноги. — Лучше не отмечать, все равно через год из института меня вытурят — чувствую, не потяну, это как пить дать. Ты разве не знаешь, что на первом курсе самая высокая смертность?
— Загляни-ка в холодильник, — сказала мать.
Анна открыла холодильник и ахнула:
— Ой, мороженое со взбитыми сливками. Мамка, ты — прелесть...
— А вечером пойдем искупаемся. Я мокрая, как мышь.
— Ага, — согласилась Анна, захлопнув холодильник. — Над пионерским лагерем новую запруду сделали. Песок выгребли... мировое местечко...
— Ну вот, а заодно прихватим и молоко для Жампаховой, — добавила пани Кралова. — А где это ты такой синяк заработала?.. Ну и синяк...
— Выпускное приветствие, — объявила Анна. — Об угол парты. — Она залпом выпила стакан содовой воды. — Надо же, — удивилась она, высунувшись из окна и чуть было не опрокинув горшок цветущей герани. — Пан Флориш к нам тащится...
— Многое ты себе позволяешь...
— А как же прикажешь мне его величать? — вскинулась Анна. — Пан заведующий или милостивый пан?
— Уймись, слышишь!
Кралова оглядела кухню, оправила скатерть, ладонями пригладила волосы на висках. Тут и она увидела в окно Кратену. Лицо у него блестело от пота, в одной руке он держал соломенную шляпу, в другой — лукошко с грибами. На хутор уже ложились мягкие, пастельные тени, внизу у реки хлопали ставни дач. Была пятница, и город просто-напросто атаковал Красную Горку.
— Что это он не в лавке? — буркнула Анна.
— А ты взгляни на часы, — обрезала мать. Она быстро натянула ей на голую спину рубашку. — Только завидишь его, и уже сразу заводишься. И накинь на себя что-нибудь, ведь ты почти голая.
— Ох, и вспотел же, бедняга. Сходил бы лучше в пивную, чем сюда тащиться.
— Ну, перестань, Анна, — строго сказала мать. — Не запретить же ему ходить к нам.
Анна взяла книжку и, вытянув ноги, уселась на кушетку, всем своим видом как бы говоря: ну, что ж, мне все равно, представление может начаться, даже любопытно...
— «Шел мимо», вот увидишь, так скажет, — шепнула она, когда Кратеновы шаги послышались уже во дворе. — На спор, так и скажет: «Драсте, шел вот мимо...»
— Да уймись ты наконец, — цыкнула мать.
Не зная, куда девать от смущения руки, пани Кралова взяла вазочку с садовой ромашкой на длинных плотных стеблях, и, если бы в эту минуту дочь заглянула ей в лицо, она наверняка усомнилась бы, что их уговор — пойти после обеда купаться — сбудется. Тут раздался робкий стук в дверь, и Флориан Кратена вошел.
— Драсте... шел вот мимо...
Анна тихонько прыснула в ладонь, Кратена чуть покраснел.
— Заходите, — пригласила его Кралова. — А ты, Аничка, отнеси Жампахам молоко. Оно в погребе.
Анна прикусила губу. Отложив книгу, с упреком взглянула на мать.
— И не слоняйся нигде... Ну, присаживайтесь, — предложила Кралова гостю.
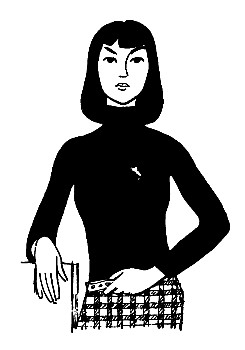
Девушка, гордо вскинув голову, прошла мимо Кратены. До нее донесся слабый запах кореньев и грибов. Когда она закрыла за собой дверь, Кратена наконец облегченно вздохнул.
— Ну и жарища, — растерянно проговорила Кралова. — Бог мой, сколько же вы набрали, — добавила она, оглядывая спасительную корзинку. — И это все под вечер?
На лице гостя постепенно таяла напряженная, застывшая маска.
— Я собираю то, что другие ногами отшвыривают, — сказал он. У него был приятный, несколько хрипловатый голос, живые серо-голубые глаза и выражение усталого человека, начинающего понимать, что самым большим врагом его становится время.
— Я опасаюсь таких грибов, — заметила Кралова. Она поставила перед Кратеной стакан и налила пива. — Признаю только белые, да и то с осторожностью.
— А вы не выпьете? — спросил Кратена, глядя на женщину, вблизи которой он чувствовал себя счастливым.
— От пива ужасно толстею.
— Будет вам... Ведь у вас фигура прямо девичья, — искренне сказал Кратена. — Издали и не подумаешь, что...
— Вот именно «издали», — улыбнулась Кралова, оправляясь от смущения. В присутствии этого человека ей становилось на редкость неловко — так обычно бывает женщине в обществе влюбленного мужчины, который ей не совсем безразличен, но не больше. Она это хорошо понимала и порой даже грустила по этому поводу.
— Ну, к примеру, эти грибы, — говорил Кратена, меж тем как пиво в стакане безнадежно утрачивало цвет и пену. — Ну вот хоть этот мухомор красный — один из лучших грибов вообще. В атласе он отмечен как съедобный, замечательный гриб. А люди пинают его ногами, просто невозможно понять...
— Я мухоморов боюсь, как чумы. Уж их бы ни за что не взяла, — покачала головой Кралова. И, улыбнувшись, сказала: — Выпейте, все ж таки. Может, вам кофе сварить?..
На этот раз Кратена провел на хуторе свыше двух часов, а вскоре после его ухода возвратилась Анна. Чашка с кофейной гущей стояла еще на столе. Кралова смотрела телевизор.
— Долго же ты пропадала, — отозвалась она, не поворачивая головы.
— Ходила в деревню... так поглядеть, — ответила Анна. — Чего мне тут делать.
Ее тон заставил мать оглянуться. Она хотела было что-то сказать, но сдержалась.
— Приготовь что-нибудь на ужин. Там грибы, если хочешь...
— Таких грибов я не ем, — обрезала Анна. — Не хочу, чтобы меня отравили. Мне жизнь еще не надоела.
Тут уж мать прорвало.
— Послушай, Анна, не перегибаешь ли ты? — сказала она неестественно высоким голосом. — Не кажется ли тебе, что ты слишком дерзишь. Запомни раз и навсегда: спрашивать тебя о том, что мне делать, я не стану, понятно? Ты вела себя безобразно. Мне совершенно все равно, что ты о нем думаешь, но об одном прошу тебя: держи себя с ним как воспитанная, приличная девушка. Хотя бы потому, что он в отцы тебе годится...
Анна опешила. Такой вспышки она не ожидала и решила лучше отмолчаться. После слов матери в доме установилась напряженная атмосфера.
— Доброй ночи, — чуть погодя сказала Анна, с трудом пересилив себя, она никак не могла примириться с «предательством» матери.
— Доброй... — тихо откликнулась мать.
«Обиделась, будто я в чем виновата», — подумала Анна, поднимаясь к себе в крохотную комнатку со скошенными стенами, облицованными лиственничным пахучим деревом.
«Ну и ну, — размышляла она, лежа уже в постели, — вот так отметили начало каникул... мама верна своему слову, ничего не скажешь».
Снаружи глухо гудел ветер, ветви сосен шуршали по крыше. «Мда, — проронила она, разглядывая в тусклом свете настольной лампы ночных бабочек, упрямо бившихся в оконное стекло, — какой же она может быть несправедливой! А что, если она в самом деле влюбилась, и я ей только мешаю? Конечно, всем я только мешаю, я бы даже не удивилась, подсунь мне эта обезьяна в грибы какую-нибудь гадость. Уж как он меня ненавидит, ну прямо слопать готов своими глазищами. Не знаю, что со мной будет, если придется назвать его «папой»... Этого я не вынесу».
Анна уснула после полуночи. Это была первая стычка с матерью, хотя мать и раньше бывала сварливой и раздраженной. Но тут случилось нечто особенное. Щемящая тоска не отпустила душу Анны даже на рассвете, с первыми флейтовыми трелями дроздов, она не покинула ее и потом, когда хутор залило горячее огромное солнце над голубоватым горизонтом, и все погрузилось в золотистое светящееся озеро. Эта тоска вонзилась в ее сердце тупой иглой, застряла там и саднила.
— Аничка... Аничка, — кричала мать со двора.
Было семь часов утра, и от «Романса» доносились звуки трубы. Пионеры играли побудку...
II
Вскоре после маловразумительного звонка управляющего пансионата «Романс» в Красную Горку выехали две серые «Волги» из уголовного розыска областного управления Органов охраны общественного порядка. В одной сидели лейтенант Марек и майор Абсолон, первый эксперт по убийствам, прозванный в угрозыске «злым стариком», в другой — техники и бригада mordparty
[1], как ее называли в управлении. Прозвище «злой старик» Абсолон заработал у молодого поколения следователей. Услышав об этом впервые, он был несколько озадачен. «Старик» — бог с ним, но что «злой» — это было несправедливо. Правда, иной раз он мог гаркнуть своим сиплым, прокуренным голосом, нахмурить брови, столкнувшись с какой-либо промашкой или нерадивостью в работе, но «злым» в прямом смысле этого слова он никогда себя не считал.
Майору с утра нездоровилось, тянуло в желудке, на лице выступили сероватые пятна. Дышалось почему-то с трудом, он едва переводил дух.
В машине стало еще хуже. Казалось, что в кабину просачиваются выхлопные газы.
— Остановите, пожалуйста, — сказал он шоферу.
Это было на лесной опушке. Абсолон сделал несколько шагов, перешел неглубокий овражек и стал около кривой березы, печально подрагивавшей листвой на слабом ветру.
Абсолон, не оглядываясь, почувствовал, что за ним следует Марек. Он хорошо знал его походку: пятка... носок, пятка... носок. Он повернулся и ощутил знакомый легкий запах одеколона.
— Вам плохо, шеф?
Смуглое, несколько изможденное для тридцатилетнего человека, лицо Марека выражало участие.
Абсолон сглотнул. Ощутил, как жгуче проходит по горлу неприятная горечь, и просипел:
— Да вроде получше.
— Мне кажется, в кабину тянет из выхлопной трубы, — сказал Марек, когда они возвращались к машине.
— Вам вечно что-то кажется.
Марек, пожав плечами, умолк. Машина тронулась. Вскоре она взлетела на покатый холм, у подножия которого сверкала матовой гладью река, а затем спустилась в Красную Горку и запрыгала по размытой, расхлябанной дороге, вьющейся вдоль реки меж крутых скал прямо к «Романсу». Абсолон вспомнил, что в свое время бывал в этой долине. Когда проехали мимо карьера, где светился желтоватый камень и поблескивала гладкими листьями мать-и-мачеха, он сказал:
—Точно... я здесь уже был... скала эта... утес... только строений было поменьше.
Машина въехала на волейбольную площадку, оставив на красном песке легкие следы шин. Марек вежливо открыл Абсолону дверцу. Толпа чуть расступилась.

«Откуда взялось столько народу? Ведь не сезон, к тому же день будний», — подумал Абсолон.
— Разойдитесь, пожалуйста, — крикнул Марек.
Абсолон нагнулся к Анне Краловой. Когда он вгляделся в ее лицо, на котором еще не успел запечатлеться стигмат смерти, у него легкой болью сжало сердце. Майор выпрямился, огляделся вокруг. Массивная нижняя губа, косматые брови поверх колючих серых глаз, придавали ему вид крайне свирепый. Марек потом утверждал, что «так выглядеть мог бы только старый, разъярившийся лев, который хотел бы кусаться, да не может...»
Врач, запинаясь, докладывал:
— Так около одиннадцати вечера... чем-то тонким... струной или проволокой... просто какой-то петлей...
— Продолжайте, — сказал майор лейтенанту. — Где этот самый... ну, управляющий?
— У себя, — отозвался кто-то из толпы. — Совсем скрутило его.
Управляющий лежал, накрытый одеялом, высунув голову, точно испуганный котенок. На облупившемся больничном столике возле койки стояли стакан с бузиновым отваром, бутылка «францовки»
[2] с этикеткой, на которой изображена сосновая шишка, рюмка с градусником и коробочка с порошками.
Абсолон беспрерывно перхал, точно проглотил муху, которых, кстати, было здесь видимо-невидимо. Рядом, в каморке, служившей, верно, кухней, топилась плита. Мухи носились в воздухе, пропахшем лесной «францовкой» и бузиновым отваром, и жужжали на оконном стекле. Жена управляющего подставила майору стул. Сама уселась возле столика с телефонным аппаратом, сложив на коленях руки.
— Абсолон из уголовного розыска, — представился майор устало. — Это вы звонили?
— Жампах, Ян Жампах, — сказал в ответ управляющий.
— Ну рассказывайте, пан Жампах, — предложил ему Абсолон.
Жампах, заикаясь, стал говорить, майор терпеливо слушал. Лишь когда управляющий упомянул, что в последнее время Анну часто видели в обществе некоего Адамека и что тем роковым вечером Анна, по всей вероятности, была в кино, Абсолон, резко оборвав Жампаха, спросил:
— Кто этот — Адамек?
— Карел Адамек, — ответил Жампах. — Электрик из сельхоза, но этот бы нипочем такого не сделал. Боже упаси. Это хороший парень, не то чтобы какой безобразник. Вот тут лампы — это он смастерил. Скрутит проволоку, покроет лаком, вырежет из пергамента колпак... у меня еще одна, только красная... Боже милостивый... Кралова не перенесет этого...
— Как далеко до хутора?
— От нас?
— Ну ясно.
— Десять минут напрямки лесом, двадцать по извилистой тропке вдоль реки. Анна обычно бегала лесом, только вот вечером приходилось...
Абсолон поднялся.
— Вы допустили оплошность, пан Жампах. Ночью, услышав какие-то звуки, вы должны были выйти. Мы могли бы знать гораздо больше.
Жампах оживился.
— Да... скажу вам, может оно и так. А может и не так... — захрипел он с досадой и схватился за «францовку». — Одним трупом больше — это вы и впрямь могли б заиметь. Вот этим, — Жампах постучал себя по лысому черепу. — Знаете, этого еще не хватало. Я тотчас убираюсь отсюда, ни минуты здесь не останусь, пусть хоть сам святой Петр стережет это добро. То есть, поймите меня правильно... Я совсем другой человек. Я все думал, что люди только воруют, такой уж болван был. А они не только воруют, но и убивают.
— Да, вы правы, — ответил ему Абсолон.
Едва майор скрылся за дверью, как Жампах захрипел с возмущением:
— Вот те раз, «могли бы знать гораздо больше». Не зря говорится: хитер, что твой полицай. Этот мордастый строит из себя неведомо что, а когда я звонил, им и дела до Анички не было, все только орали «ваше имя, ваше имя», это их больше всего занимало. Скажи я, что меня зовут Алоис Ирасек
[3], им все одно было бы...
Труп Анны Краловой был отправлен в институт судебной медицины.
Только увидев молодого Адамека, Марек невесть почему подумал, что с этим парнем придется немало повозиться. Хотя Адамек давал показания весьма охотно и вежливо, бесхитростно глядя в глаза, но именно в этом взгляде и учуял Марек какой-то подвох. И в самом деле, манера Адамека разговаривать явно не вязалась с его атлетической фигурой, с его внешностью трактирного забияки и необузданного деревенского парня. Кроме того, существовало еще и армейское прошлое Адамека, когда он был условно осужден военным окружным судом за драку и нанесение телесного повреждения.
Поначалу Марек был убежден, что Адамек что-то скрывает, но достаточно было и нескольких слов парня, как следователя уже охватили сомнения: «А что, если мы несправедливы к нему? Если это правда, что же еще он может сказать? Ну и работка...»
У Марека вспотели руки. Адамек был сдержан и невозмутим.

— Так вы, стало быть, хорошо знакомы с управляющим Жампахом? — в какой уж раз повторил Марек, меж тем как Абсолон, казалось, подремывал и только изредка по обязанности приоткрывал припухшие, покрасневшие веки.
— Угу, — подтвердил Адамек.
— А с доктором Янчиком, у которого дом за пионерским лагерем, тоже знакомы?
— С ним — нет.
«Да — нет» Адамека раздражало следователя. Вроде бы парня нельзя было ни в чем упрекнуть: он отвечал точно, о чем бы его ни спрашивали, но, когда ему самому приходилось что-то рассказывать, Марек вынужден был все время его подталкивать: «Ну так опишите подробнее». Но и это не помогало. Адамек спокойно глядел на Марека и говорил:
— А я не знаю как. Уж лучше вы меня спрашивайте.
«Как она только могла встречаться с эдаким тюфяком», — подумал Марек. — «Как никак будущая студентка. Ведь таких парней у нее могло быть тринадцать на дюжину».
— Ну, расскажите нам, что вы делали, когда вышли из кино, — спросил Марек уныло. — Только ничего не упускайте. Важна каждая мелочь. Гораздо важнее, чем вам кажется.
— Ладно.
Услышав это тягучее «ладно», Марек вздохнул с облегчением и сел, точно одолел трехсоткилометровую дорогу в разбитом автобусе.
— Выкладывайте все по порядку.
— Когда мы вышли из кино, она мне сказала, чтобы я не провожал ее, сама, мол, дойдет, — начал Адамек.
— Ну да. Вы нам уже об этом сказали.
Адамек посмотрел на Марека с укоризной.
— Я ее спросил: «Почему?»
— Ну а дальше? — нетерпеливо допытывался Марек. — Не можете ли вы говорить более связно? Не выводите меня из терпения, Адамек, я уже сыт по горло, — Марек вдруг раскричался. — Я не могу вытягивать из вас каждое слово. Поймите же наконец, что речь идет об убийстве. Если вам не хватает времени как следует все обдумать, скажите. Я дам вам эту возможность.
Абсолон закашлялся, Марек несколько сбавил тон.
— Что вам на это ответила Аничка?
— Что незачем.
— А вы что?
— Я сказал: «Возьми хотя бы мой фонарик».
Марек усмехнулся. Адамек, казалось, недоумевал.
— Но правда же так было, — настаивал он.
— Только ради бога, не делайте такой вид, будто вас на кресте распяли, — снова взорвался Марек. — Она вам говорит «незачем», а вы на это: «дам тебе фонарик». Вы последний, кто видел ее живой. Как вы расстались, Адамек? По-хорошему или поссорились?
В этот момент Абсолон с натугой сглотнул, прошелся ладонью по массивной нижней губе и прохрипел:
— Так отчего же вы ей этот фонарик не дали?
— Она не взяла. Если бы...
— Что «если бы»? — выпалил Марек.
— Если бы я знал, что ее убьют...
— Ну, допустим, — сказал Марек. — Допустим, что вы расстались так, как вы рассказываете. Аничка сказала: «Не ходи за мной, незачем», а вы в ответ: «Возьми хотя бы фонарик». Она: «Ну его, и впотьмах доберусь, не впервой, к чему мне фонарик...» Так, что ли?
— Ага.
Марек вздохнул.
— Потом она отошла и скрылась во тьме. Да?
Адамек сказал «да», Абсолон тяжело вздохнул — с каким-то даже присвистом.
— У кинотеатра горел свет, — продолжал Марек. — Вы еще минуту-другую смотрели, как искрится дождь на свету, как расходятся люди. Потом и вы пошли домой. Вы спите на кухне. Отец был еще в пивной, мать уже спала, на кухне играло радио, которое мать позабыла выключить. Как вы говорите, передавали какую-то музыку. Она вам не понравилась, вы выключили радио и легли спать. Сколько времени было точно — вы не знаете, но больше пятнадцати-двадцати минут одиннадцатого быть не могло...
— Да, все так.
Марека удивило, что Адамек прервал его.
— Предположим, что так. Теперь постарайтесь припомнить, пожалуйста, кто вас видел.
— Я никого не видел. Мне можно идти?
Марек поглядел на Абсолона, тот кивнул.
— Ну идите и обдумайте все хорошенько.
— Ладно, — ответил Адамек.
— Не кажется ли вам, шеф, что этот Адамек малость того? — Марек постучал себя по лбу, едва Адамек скрылся за дверью.
Абсолон пожал плечами.
— Или он совершенный дебил, или весьма ловко играет, — продолжал Марек. — Но эту дорогу к дому я ему не спущу. Это он пустое затеял, мы еще поговорим начистоту. В эту пору пивная битком набита. Эдак после десяти... — повторял Марек задумчиво. — Он прошел мимо пивной, пересек площадь... хм... все так... но чтобы он был убийцей?
— Думаете — нет? — спросил Абсолон.
— Думаю — нет, — откровенно признался Марек. — У меня уже есть кой-какие соображения насчет всей этой истории, но Адамек в них как-то не вписывается.
— Знаете, и мне так сдается, — сказал Абсолон к великому удивлению Марека, ожидавшего, что Абсолон поинтересуется его «соображениями» или по крайней мере пропесочит его.
— Вы помните Каменца, Марек?
— Еще бы.
— Вот видите. Такой милый старикашка из сказки. Голосок как звоночек: «спасибо», «пожалуйста». А убийца, да еще дважды. На такую удочку, Марек, не попадайтесь.
— Ну, я не из тех, кто мог бы на такое попасться, — взорвался Марек. — Я так его прижму, что он не отвертится, — пообещал лейтенант. — Что-то он скрывает от нас, не нравятся мне его речи. Но из этого парня не так-то просто выудить правду.
— Что-нибудь да придумаем, — сказал Абсолон. — Нам надо знать об Аничке как можно больше, может, именно тут-то собака и зарыта. У меня тоже пока только ощущения, но одно из них мне подсказывает, что Анна Кралова была существом не простым. Поинтересуемся среди студентов, поговорим с людьми, поглядим, что даст экспертиза... Я пойду выпью рюмочку, потом немного пройдусь вдоль каньона.
— Что делать с Адамеком?
— А вы как полагаете?
Марек пожал плечами.
— Лишь бы потом нам ни в чем себя не винить. Прокурор...
— Ну, пора, — решил Абсолон.
— А я здесь поразведаю, — сказал Марек.
— Добро.
Абсолон задержался у секретаря МНК
[4] и в долину отправился только под вечер. По реке тихо плыли ржавые листья в кроваво-грязных прожилках. От черной водной глади тянуло холодом. Он зябко кутался в куртку зеленоватой юфти с большими костяными пуговицами и не спеша шагал вдоль берега по тропинке, вытоптанной рыбаками. Студеное дыхание осенней реки пронизывало его насквозь.
Опавшая листва шуршала под ногами, следователь остановился, потер ладони. Где-то перед ним ежились неказистые строения «Романса», но видны они не были. Река сворачивала мягким изломом, и именно в этом изломе серо-зеленым пятном вырисовывался облезлый железный фургон, который кто-то привез сюда и поставил на плоские камни.
Абсолон подошел к фургону и прочел на двери:
Вход запрещен
Имущество ВЧ 6130
Он отшвырнул окурок и взялся за ручку двери. Фургон был открыт, дверь на тяжелых железных петлях заскрипела. Следователь посветил фонариком, внимательно оглядел дощатые нары, походную печку, обломки ящика, открыл печку, заглянул под нары. Поднял несколько окурков, тюбик из-под губной помады, три старых автобусных билета и записку на газетном огрызке: «Алена, приду в полседьмого, жди!» Потом списал еще номер воинской части, которой принадлежал фургон. Уже почти совсем стемнело, и над долиной заблестел медный месяц.
Абсолон поднял воротник куртки, сунул руки в карманы. Он пересек лужайку и пошел по дороге. Приближаясь к «Романсу», отчетливо расслышал грубый, вовсе не женский голос жены управляющего.
Волейбольная площадка тонула в половодье света. «Как неожиданно светло, — подумал Абсолон. — Точно в храмовый праздник...»
Абсолон обогнул строения, прошел по мосткам и остановился у ручья, который создавал естественную границу между пансионатом и срубовым домом, принадлежавшим, по словам Жампаха, доктору Янчику, врачу факультетской клиники в городе.
Сейчас ставни дома были открыты, через пестрые занавески проникал слабый, желтоватый свет, попахивало дымом.
Абсолон потянулся за сигаретой, но в эту минуту что-то щелкнуло и в лицо следователю ударил луч слепящего света.
— Это вы? — разочарованно сказал Жампах.
— Потушите.
Тень Жампаха отделилась от дома.
— Извините. Знаете... прежде эту долину называли долиной тишины, теперь это долина страха.
Следователь закурил, и Жампах продолжал:
— Убийца мог приплыть и на лодке, что вы скажете? Я думал об этом. Все-таки не такой уж он идиот, этот человек, чтобы не понимать, что есть такая вещь, как улики. Грязь, следы и все прочее. На лодке приплыл, на лодке и отплыл. Тут у каждого байдарка или яхта. Мне все время кажется, что ночью я слышал...
— Вам уже лучше? — спросил Абсолон.
— Лучше мне уже никогда не будет, — ответил Жампах. — Того, что я навидался, с меня довольно. Инвентаризация, и дело с концом — здесь меня ничто не удержит. Я уже заявил об этом.
— Кстати, вы говорите, что доктор Янчик не был на даче, а он утверждает обратное, — сказал Абсолон Жампаху.
— Ну, тут уж извините, — возразил тот. — Я только говорю, что в его доме были закрыты ставни — за это ручаюсь головой. Вечером я ремонтировал «дарлинк»...
— Что вы ремонтировали?
— «Дарлинк»... автоматическую водонапорную башню. Я бы удивился, если бы узнал, что пан Янчик был тогда дома — ведь если человек дома, он всегда открывает ставни, не так ли? Да и потом я бы услышал, как он подъезжает. Его колымага за километр слышна — ржавая выхлопная труба...
— Вы спали, как убитый, — заметил Абсолон.
— Я и во сне слышу. А весла я определенно слышал. Кто это был, — уж дело другое, но я свое знаю.
— Янчик ничего не слыхал.
— Если его не было в доме, что ж он мог слышать?
— Да был он, пан Жампах, — сказал следователь. — Он приехал в двадцать минут первого ночи, это он знает точно, потому что качнул маятник и заметил, что часы показывают двенадцать. Он еще подумал: вот здорово, надо только передвинуть большую стрелку с двенадцати на четыре, и будет полный порядок.
— Он что, на ночь заводит часы? — удивился Жампах. — Я их всегда останавливаю.
— Вы думаете, что все вокруг врут и воруют, пан Жампах, не так ли? Но кое-кто все же честен и говорит правду, а? Ведь вам же я верю, что в ту ночь вы спали и все было именно так, как вы говорите, — заметил следователь.
— Да, это факт, — согласился управляющий. — Где-то я читал, что люди делятся не на виновных и невиновных, а лишь на пойманных и непойманных преступников. С Адамеком-то вы уже беседовали?
На этот вопрос Абсолон не ответил, а спросил сам:
— А тот фургон внизу давно здесь стоит?
Управляющий объяснил, что фургон привезли солдаты два года назад. Арендовали здесь кусок лужайки под палаточный лагерь, положили деревянные настилы, разбили палатки, только... обещали кооперативу помочь убрать сено, но обещания не выполнили, и кооператив отказал им в аренде. Вот и остался этот фургон, кто-то сломал замок и теперь это такая «меблирашка», где может переспать кто угодно. Тяжелый случай...
Возвратившись в Красную Горку, Абсолон нашел Марека, как они и условились, в небольшой забегаловке. Марек разговаривал с секретарем МНК, усталые глаза которого выражали сочувствие и понимание. Впрочем, такие же глаза были у всех, кто сидел в погребке, по которому Абсолон прошел, как проходит по сцене главный герой античной трагедии. Едва он вошел в забегаловку, на секунду-другую установилась такая тишина, что было слышно шипение пены в пивных кружках.
Майор вспомнил, что пять лет назад он руководил группой следователей, которая вела дело об убийстве молодой девушки, случившемся близ деревни Яворовой после танцев. Преступник был пойман в три дня. Попойка, изнасилование, убийство... Достаточно было дождаться результатов экспертизы, и улики превратились в неопровержимые доказательства. Однако теперь, после всего, что стало известно, в голове у Абсолона была сплошная путаница. Отсутствовало самое главное — мотив. Ведь если речь не шла о сексуальном убийстве, то кто же тогда мог быть заинтересован в смерти Анны Краловой? Очевидно, те, кто был заинтересован в покупке хутора — только найдется ли среди них человек, который ради зыбкой надежды приобрести хутор пойдет на убийство? Это майору казалось почти невероятным, но даже такую версию он не исключал.
— Я звонил в больницу, — сообщил Марек. — Пани Краловой очень скверно.
— Мы обо всем позаботились, — сказал секретарь МНК. — Птицу отвезли в кооператив, дом опечатали, ключи в МНК. Если что понадобится — скажите. Рады помочь. И вот еще что... Хотел вас спросить насчет цыган.
— Каких цыган?
Секретарь объяснил, что в Красной Горке временно размещено несколько цыганских семейств, работающих на сборе бурелома в государственном лесничестве.
— Среди них было уже несколько драк, доходило и до поножовщины, — сообщил секретарь. — А ведь знаете, как бывает...
Сообщение секретаря было для следователей новостью.
— У вас есть точный список этих людей? — спросил Марек.
— Конечно. Список в МНК у лесничего, — ответил секретарь. — Только к ним вечно кто-то приходит, остается на несколько дней — разве тут уследишь?
— Что-нибудь пропадало? — спросил Марек.
— Нет, упаси боже, — ответил секретарь. — Это настоящие работяги, каждый вам скажет. Только я к тому, что и у нас разные люди живут, всякое могут подумать...
Марек понял, что имел в виду секретарь, но прежде чем он успел вставить слово, отозвался Абсолон:
— Соберите людей, поговорите с ними — пусть не теряют разума и не боятся каких-то там маньяков-убийц...
— Именно этого они и боятся...
— Ну и бог с ними, — продолжал Абсолон, — только пусть не строят из себя судей. Так и объясните им, а понадобится — сам им объясню. Завтра приедем чуть свет и останемся здесь на некоторое время. У вас найдутся какие-нибудь комнатушки?
— Конечно — все устроим как нельзя лучше. Мы рады помочь вам, — повторил секретарь.
— Значит, договорились, — сказал Абсолон.
И уже минуту спустя из Красной Горки выехал автомобиль, весь в сверкающих дождевых каплях.
— Так с чего начнем? — спросил Марек. — С кинотеатра?
— Возможно. С кинотеатра, с дачевладельцев, с бригадников...
— Это я возьму на себя, — предложил Марек.
Обещание свое он выполнил, но расследование ничего нового не дало. У бригадников было алиби, более того, допрос вызвал среди них такой взрыв негодования, что они все до единого решили сменить место работы и бросили лесничество и бурелом на произвол судьбы.
Гибель Анны Краловой по-прежнему была окутана тайной.
III
На деревенском пустыре, который красногорские обитатели гордо называют «площадью», стоит псевдобарочный, содержащийся в образцовом порядке костел, возведенный в честь девы Марии Снежной.
Примерно за полгода до смерти Анны Краловой его отделали новой, слегка желтоватой штукатуркой, кровлю покрыли красной глазурованной черепицей. Прибыли даже позолотчики, чтобы украсить крест на округлой охристой башенке.
На рождество приезжает в Красную Горку любительский симфонический оркестр с хором, чтобы исполнить Чешскую рождественскую мессу Яна Якуба Рыбы
[5]. Торжество это исключительное, и стекается на него народ со всей округи.
Костел в форме латинской буквы U стоит на развилке дорог, одна ведет в областной город, другая пересекает по мосту реку, связывая Красную Горку с ближними селами. Добавим еще, что органистом в костеле девы Марии Снежной служит, как ни странно, безбожник, заведующий писчебумажным магазином, тридцатилетний Оскар Кубелка, мужчина с запавшими, изрытыми оспой щеками, поэт на случай и грамотей, который никогда не преминет напомнить, что он незаконный сын некоего графа и что, стало быть, в его жилах течет голубая кровь.

Тот факт, что за клавишами превосходного органа сидит неверующий, выводящий надтреснутым голосом Gloria, вызвал целый поток жалоб в костельный комитет. За всем этим стояла Жампахова, жена управляющего хозяйством «Романса», женщина в этом отношении до болезненности чуткая. Правда, местному духовному пастырю, державшемуся весьма либеральных позиций, нередко удавалось и охладить горячие головы.
И все-таки жалобщицы не унимались. Жампахова даже заявила: «Покуда этот иуда будет восседать за органом и осквернять костел, мы не перестанем жаловаться и дойдем хоть до самого епископа...»
И ведь в Красной Горке есть кому заменить Оскара Кубелку. Это 80-летний директор школы, ушедший на пенсию. Но хоть он и верующий, его способности не идут ни в какое сравнение с искусством органиста Кубелки. Конечно, Оскар Кубелка — человек не лучшей репутации, зато характер у него твердый.
Узнав, как его величает Жампахова, он сказал:
— Пусть эта богомолка идет ко всем чертям. Я делаю это искусства ради, иначе давно бы уж на все наплевал.
Что же касается упомянутого духовного пастыря, мужчины лет шестидесяти, но все еще моложавого на вид, большого любителя красного вина, фазанов на шпике и отборных кубинских сигар, то он оказал немалое влияние и на судьбу единственного отпрыска Жампахов, который после двух семестров изучения философии решил стать священником и поступить на богословский факультет в Литомержицах. Недаром шел слух по деревне, что святой отец о нем «позаботился». Мечта жизни Жампаховой исполнилась, а муж ее только пожимал плечами:
— Что ж, — говорил он, — пусть делает, что хочет, небось не маленький. Хотя, конечно...
За этим «хотя» скрывалось отношение Жампаха к священникам, которые, по его мнению, «только жрут, пьют да с народа по три шкуры дерут». Но, упаси боже, ничего подобного Жампах вслух никогда не решился бы высказать. Он мужественно переносил все невзгоды, какие подносила ему жизнь рядом с исступленно верующей католичкой. Бывало, что и он не выдерживал ее упреков и начинал бубнить под нос какую-либо молитву, лишь бы только отделаться от жены и безраздельно заниматься досками, олифой, лаками и скипидаром.
Когда руководство пионерской организации, которой принадлежал пансионат, доверило попечению Жампаха маленький трактор, счастливей человека, наверно, трудно было сыскать в Красной Горке. Он то и дело убегал к нему, протирал, смазывал, разбирал, ремонтировал, и все это с таким усердием, в котором было уже что-то неестественное.
— Такого дурака свет не видывал, — говорили в пивной о Жампахе. — Он и свою получку готов просадить на этот «Романс».
Управляющего, однако, эти разговоры ничуть не трогали. Он был счастлив, а если кто по-настоящему счастлив, то едва ли беспокоится о том, что судачат о нем люди.
Когда Жампахов Иржик был еще ребенком, родители опасались, что потеряют его. И верно, отпрыск прошел через все хвори, был всегда хилым, страдал частыми головными болями и какими-то приливами. Но судьбе было угодно, чтобы Иржик «выкрутился». Он вырос здоровым, может, только чуть робким мальчиком, не по возрасту развитым и вдумчивым. Мать свято верила, что именно она вымолила ребенку жизнь.
— Я всегда его воспитывала в уважении к ближнему, — распространялась она, поблескивая глазами. — Внушала ему: Иржик, не поддавайся искушению. Эта жизнь — лишь ступень к жизни вечной, истинной. Боже милостивый, ведь он еще мальчонкой читал Библию, знал Евангелие. А когда я впервые была с ним на Гостыне
[6], он вот что сказал мне на погосте, где похоронены странники: «Матушка, уж как, верно, господь любил их, коли взял их к себе именно здесь...»
Солнце, висевшее над Красной Горкой, невероятно жгло. Воздух дрожал. Собаки, вывалив розовые языки, изнывали у ворот. Анна шагала по «площади», с реки возвращался священник, в одной руке держал длинное бамбуковое удилище, в другой — мережу, в которой серебрилась рыба.
— Добрый день, — поздоровалась Анна.
Он охватил глазами эту стройную, хрупкую фигурку и сказал:
— Наслаждаешься каникулами?
— Ага, — ответила Аничка. — Ну и рыбы наловили!
— Это форель, — объяснил ей священник. — Бывает за полчаса наловишь штук двадцать, а уж ежели ей не захочется, взывай хоть к самому святому
Петру, и тот не поможет. Тебе бы тоже не мешало порыбачить — развивает наблюдательность...
— Ох, неважная из меня рыбачка, скажу я вам, — рассмеялась Анна, размахивая спортивной сумкой. — Я бы рыбу ни за что в руки не взяла.
— Тебе так кажется. Погляди-ка на пани Срнцову, — ласково сказал священник.
— Ну, она дело другое, — ответила Анна, беззаботно озираясь по сторонам. — А я уж больно чувствительная. Комара убью и то чуть не реву потом от жалости.
Она заметила, как из магазина высунулся органист Кубелка и внимательно оглядел ее. Потом запер магазин и как был — в белом, щеголеватом халате выше колен — направился к погребку.
— Пан Кубелка, — крикнула Анна. — Вы уже закрываете? Мне бы почтовой бумаги.
— Розовой? — спросил Кубелка.
— Еще чего. Нормальной. С богом, — сказала она священнику и побежала к Кубелке, который, возвратившись к магазину, звенел связкой ключей.
— Вы очень любезны. Но неужто так поздно?
— Сегодня в виде исключения я закрываю в пять, — заявил Кубелка и облизал сухие, тонкие губы. Его беспокойный взгляд на мгновение остановился на Аничкиной блузке. «Девица в самом соку, — мелькнула мысль. — Готов побиться об заклад, что на ней нет лифчика».
Кубелка был известен в Красной Горке не только своим искусством органиста, но и пылким отношением к девушкам, особенно к самым молоденьким. Из-за этого он уже не раз попадал в переплет. Сам он своих склонностей никоим образом не скрывал, только иногда оправдывался:
— Не могу же я просить у каждой девахи паспорт. На лбу небось не написано, сколько ей стукнуло, а есть вообще такие, что быстро старятся. Мне вот тридцать, а поглядите, на что я похож...
Он жил на квартире у Кратены, и перед этим маленьким деревенским домиком с мансардой часто останавливалось такси с гостьей. Хозяин дома против этого не возражал, но бывало в порыве откровенности говорил своему квартиранту:
— Удивляюсь тебе, Оскар, ведь ты на баб на этих последнюю копейку просаживаешь...
— Вот эти конверты очень тонко надушены, — сказал Кубелка. — Принюхайтесь, Аничка, — это напоминает аромат интимспрея
[7].
— Все-то вы знаете, — улыбнулась Анна.
Она выбрала бумагу и конверты с золотым ободком — именно те, которые, как говорил Кубелка, нежно пахли интимспреем.
— Мне бы еще самописку. Только подешевле, я все равно потеряю.
— Точно как я, — заметил Кубелка. — Я тоже все теряю, особенно зажигалки и ручки. Поэтому пользуюсь спичками и пишу ручкой за три кроны. Вот такой. Хотите?
— Вам, как аристократу, надо бы писать золотым пером, — сказала Анна и взяла ручку. — Сколько с меня?
Кубелка подсчитал.
— А вы недешево торгуете. Бумага в два раза дороже самописки. Здорово же вы меня обсчитали, бог вас за это накажет.
— Ну, это уж непременно, — хохотнул Кубелка. — Я дам вам все хоть задаром, ну или в долг. И деньги даже приносить мне не надо, сам за ними приду. Запросто, только с одним условием.
— С каким же? — спросила Анна.
— Чтоб матери не было дома, — спокойно сказал органист и небрежно сгреб деньги в ящик. Его развязность покоробила Анну.
— А что, у вас есть время еще к кому-то ходить? — спросила она. — Я думала, вы и так не знаете куда заскочить раньше?
— С тех пор, как я в этой богоугодной дыре, — сказал он, оставаясь невозмутимым, — обо мне говорят столько, что пора бы начать писать роман. Но я не знал, что среди этих людей и вы, Анна.
Кубелка запер магазин, проверил дверную щеколду и сказал, оборачиваясь к Анне:
— Ну, всего хорошего и кланяйтесь маме. Надеюсь, что когда вы влюбитесь, вы измените свое мнение обо мне.
Тут пришел послеобеденный автобус. Отслужившее свой век «транспортное устройство» протарахтело до «площади», оставляя за собой пронизанные солнцем клубы пыли и взвихренного мелкого песка.
— Почему это я должна влюбиться? — возмутилась Анна.
— А почему бы и нет? Любовь все же одно из редких чувств, которые облагораживают человека, — безучастно ответил Кубелка. — Взгляните-ка, кто пожаловал, — добавил он с живостью, прикрывая от пыли глаза. — Вот это да! Удивительное дело.
Слова Кубелки относились к молодому Жампаху, который вышел из автобуса с крохотным фибровым чемоданчиком в руке.

— И поглядите-ка, в чем их отпускают домой. Джинсы, водолазка — я бы им задал по первое число. Отпускал бы разве что в сутане. Но этому малому явно что-то взбрело в голову. Готов поклясться, что он переоделся где-то в сортире...
Молодого Жампаха Анна почти что не знала — он редко появлялся у родителей. Но циничные замечания Кубелки вывели ее из себя.
— А вы бы хотели, чтоб он мешок на себя напялил, — взорвалась она. — Кто верит, кто нет — в конце концов это личное дело.
Молодой Жампах остановился на мостках и огляделся. Видно было, как он прикуривает сигарету — спичка дугой полетела под мостки.
— Вы правы, — ответил Кубелка. — Впрочем, как я погляжу, не очень-то похоже, что он задумывается о загробной жизни. Пожалуй, скорей размышляет, не свернуть ли в кабак.
И в самом деле, семинарист, словно повинуясь словам Кубелки, повернулся и неторопливой, небрежной походкой стал возвращаться. Однако в пивную он не пошел, а минутой спустя за ним захлопнулись широкие, деревенские ворота фары
[8].
— Один черт, — рассудил Кубелка. — Нажарят себе рыбы, вытащат из погреба жбан с холодным вином. Вот и будет настоящая духовная пища.
— Вы в чужом глазу соринку видите, а в своем... — накинулась Анна на Кубелку. — Лучше бы на себя поглядели... Зачем вы на органе играете, если о костеле и слышать не можете? Мне-то все равно, я туда не хожу, а вы, знай, надо всем потешаетесь...
— Вы опять взъелись на меня, Анна. Что я такого плохого сказал? Ну, зальют малость за галстук, я от души им желаю. То, что я делаю открыто, другие богобоязненные обитатели сей замечательной деревушки предпочитают делать тайно. Но и это понятно. Общество надо охранять от дурного влияния.
— Бог мой, — сказала Анна. — Если вам у нас не нравится...
— Напротив, мне здесь очень нравится, — прервал ее с улыбкой Кубелка. — Вы меня обижаете, Анна, и обижаете Красную Горку. Ведь это чудесный уголок и, наверно, нигде нет таких тихих рассветов и такого близкого неба. Да вы и сами это знаете лучше меня. У вас на хуторе это куда заметнее, особенно когда взойдет месяц — можно просто к нему дотянуться. Если будете когда продавать дом, я заявлюсь первым.
— Этого не будет, — сказала Анна.
— Чего не будет? — спросил Кубелка.
Анна заметила, что Кубелка подмигивает какому-то человеку у погребка, точно говоря: «Одну минутку, я уже бегу, только вот отделаюсь от этой болтливой девчонки». Это ее обидело.
— Дом никогда продаваться не будет, — неприязненно отчеканила Анна.
— Ни о чем нельзя говорить с такой непоколебимой уверенностью, — сказал небрежно Кубелка и зевнул, прикрыв рот ладонью. — А что, если ваша матушка выйдет замуж и ее будущий супруг не захочет жить на этом, по его понятиям, торчке? Вы что, останетесь на хуторе одна?
— Запросто.
— Вот как. А я ждал, что вы ответите: мама никогда не выйдет замуж, а, оказывается, вы уже смиряетесь с этим. И правильно делаете — почему бы и нет? Ведь и у нее есть право на счастье...
— Все-то вы знаете, даже мысли чужие читаете, — растерянно сказала Анна.
— Я ничего не знаю. Но мне нравится, что вы смотрите на мир реально. Простите меня, но это слово кажется мне подходящим. Вы, верно, свое счастье будете искать очень долго, но если однажды найдете — уже не упустите. Это превосходное качество. Ну, всего вам хорошего и как-нибудь еще загляните в мою лавку.
Анна не ответила. Она проводила взглядом Кубелку, который весьма нелюбезно оставил ее посреди улицы и, засунув руку в карман халата, зашагал к погребку.
Всю дорогу к дому Анна злилась на себя: «Тоже вздумала лясы точить с ним. Ноги моей в этом магазине не будет. Дура дурой...»
Она остановилась у источника, в нескольких шагах от хутора. Так торопилась, и вот почти у дома раздумала возвращаться. Со времени той злополучной ссоры с матерью между ними как бы выросла незримая стена: обе чувствовали это, но ни одна не шла на попятную.
Анна взяла с камня, нависшего над родничком, стаканчик. Ледяная, голубоватая вода струилась прямо из расщелины скалы. Она напилась — даже свело зубы. В котловине стоял извечный сырой туман. Она выбралась из котловины и уселась на вывернутый ствол, лежавший прямо над крутизной.
«Выйдет мама замуж, а что потом?» — вертелись в голове слова Кубелки. И впрямь, почему она не ответила: «Мама никогда не выйдет замуж!» Не будь этой ссоры, она так бы и ответила.
«Господи, какие глупости, — думала она, сидя на стволе, как человек, потерпевший кораблекрушение. — Что, собственно, приключилось? Завтра, не то послезавтра мы помиримся, и опять все будет по-старому. Надо быть реалисткой...» Это слово ей нравилось, оно выражало ее характер.
«А что, если бы в маму влюбился человек вроде Кубелки, — размышляла она. — Наверное, я бы с ним вечно ссорилась. И все-таки ужилась бы под одной крышей. Он притворяется, языком мелет, а на самом же деле — просто несчастливый человек. Может, и меня бросил посреди улицы нарочно, ведь он человек воспитанный...»
С башни костела девы Марии Снежной над Красной Горкой поплыл колокольный звон.
IV
О Срнцовой Марек высказался так: «Встретишь такую бабу в лесу, сразу кинешь ей кошелек и припустишься наутек».
Встрече Марека с Срнцовой предшествовала долгая, кропотливая работа по установлению алиби десятка людей, которые, по словам Абсолона, «хоть как-то могли приниматься в расчет». Экспертиза не принесла следователям ничего особо нового. Она только лишний раз подтвердила, что убийство совершено не на сексуальной почве и не из боязни возможных последствий. На оба вопроса заключение института судебной медицины ответило коротко и четко — нет. Ничего не дали и точные фотографии, отснятые на месте нахождения трупа. Правда, доподлинно стало известно одно обстоятельство, о котором до поры до времени следователи решили умолчать. Анна Кракова была убита не на том месте, где ее нашел управляющий Жампах. На микропористых подошвах туфель убитой налипли комочки ржавого перегноя, хвои и мелкого щебня. Никаких следов песка на них не было. На то место, где она была найдена, девушку кто-то принес и прикрыл толем.
Срнцова была женщиной крупной, с копной рыжих волос. В ярко накрашенных губах вечно торчала крепкая кубинская сигарета.

Срнцова круглый год жила на даче. Когда приходила охота, она работала в лесу, но чаще всего возилась с курами и кроликами, которым устроила закуток из обструганных жердей, или же подолгу просиживала с удочкой, а ее верная подружка, престарелая овчарка Зузка, посапывала рядом.
Несколько скороспелое суждение Марека основывалось на впечатлении, которое произвел на него наряд этой чудаковатой женщины. Юфтевая куртка, на голове черная широкополая шляпа, какие носили красногорковские возницы, — надо ли еще удивляться, что такая женщина пришлась Мареку не по нутру. К тому же, когда Марек впервые вошел в ее дом, при этом забыв постучать, от печки мгновенно взметнулась и будто черная пружина прыгнула ему на грудь преданная Зуза. Это было так неожиданно, что следователь успел только прикрыть рукой глаза. Срнцова крикнула: «Зуза!», но было уже поздно — от рукава новехонькой замшевой куртки остались одни клочья. И прежде чем Марек опомнился, Срнцова его изрядно отчитала, не преминув при этом похвалить Зузку за верную службу.
Марек, сжав зубы, вынул удостоверение.
— Ну и что с того? — ледяным тоном спросила Срнцова.
Эта встреча для Марека была неприятной и унизительной, хотя в том, что он не постучал, не было ни злого умысла, ни следа от «наглого поведения пижона из угрозыска, считающего, что ему все дозволено, а остальные люди — нули без палочки», как выразилась Срнцова. Но тем не менее этот эпизод послужил причиной тому, что между Мареком и Срнцовой установилась вежливая, почти что дипломатическая форма беседы.
— Едва завижу этого парня, сразу настроение портится, — сказала Срнцова Кубелке, который иногда заходил к ней на чашку кофе.
А Марек своим чередом заявил шефу:
— Хоть на край света пойду, вы же меня знаете, но к этой бабе меня больше не посылайте.
Вот отчего Абсолон отправился к Срнцовой сам.
— Шел мимо, — как бы оправдываясь, сказал он и погладил Зузу, которая хоть и настороженно ворчала, но позволила коснуться себя. — Надеюсь, не задержу вас.
— Порядочные люди никогда меня не задерживают, — выжидательно проговорила Срнцова.
Они перебросились двумя-тремя незначительными фразами. Срнцова предложила следователю кофе, а когда заметила, что он поглядывает на низкий потолок комнатушки, со вкусом обставленной самой необходимой мебелью, вздохнула:
— Трескается вот.
— Ну, обшейте его, — посоветовал Абсолон
— Думаете, поможет? Ведь мастера сейчас — грех сказать, один другого хуже. Как-то был тут жестянщик. Две недели ждала, — разговорилась Срнцова, поставив перед майором чашку кофе. — Угощайтесь... Так вот, когда наконец он пожаловал, ромом от него несло за версту. Гляжу я на него и думаю: ежели ты, голубчик, с крыши сверзишься, кто ж тебе больничный оплатит. Так-то, говорю, папаша, вот вам пять крон на пиво и отчаливайте подобру-поздорову...
Абсолон предложил Срнцовой сигарету.
— Анну вы хорошо знали, пани Срнцова, — приступил он к делу. — Что вы обо всем этом думаете?
— Трудно сказать. Это ужасно... в голове не укладывается. Я до сих пор не могу поверить. Я хоть и не робкого десятка, но, по правде говоря, с тех пор не спала спокойно. Верно, знала я Аничку. Когда она, бывало, шла мимо, заходила ко мне либо просто крикнет с дороги: пани Срнцова, как там ваши кролики поживают? Веселая была девчонка, это мне в ней и нравилось. Стоило на нее поглядеть, как на душе становилось светлее. Ведь это тоже дар божий, не так ли? На иного взглянешь, и тут же настроение портится.
— Вы видели ее, когда она шла в кино? Вам ничего не показалось в ней необычным?
— Она только мелькнула перед глазами. Торопилась. Я скорей видела ее тень, — ответила Срнцова. — Ничего вообще понять не могу. Нашу «Аничку с хутора» все любили. В Красной Горке едва ли нашелся бы человек, который косо взглянул на нее. Да и почему? Рослая была, красивая, вся в мать, а характер — ну золотой. Была... господи, какой ужас... — Срнцова помолчала, закусив губу. — А имя-то какое — Кралова
[9], а? Ох уж и шло ей. Занятно даже, как много значит имя для человека. Скажешь «Срнцова»
[10] и уже перед вами — дикарка, лесная нечисть. Хоть тресни, а никуда от этого не денешься.
— Не делилась ли она с вами чем-нибудь? — спросил майор. — Ведь она доверяла вам.
— Я никогда с ней ни о чем таком не говорила, — пожала плечами Срнцова. — Она для меня всегда оставалась подростком. Однажды она пришла к плотине искупаться — тому уж немало лет, а я ей в шутку и говорю: «Ну, Анчи, и фигура у тебя, тебе бы в кино сниматься», а она мне: «Пани Срнцова, что с того, когда здесь пусто». И постучала себя по лбу. А училась с отличием. Ясное дело, она понимала, что нравится, это сразу было видно по ней...
— А как же вы объясните, что ее часто видели с молодым Адамеком? — поинтересовался Абсолон.
Срнцова ответила не сразу. В эти мгновения майор ясно слышал тихий гул близкой плотины, заглушенный лишь хриплым дыханием дремавшей овчарки.
— Как? Да никак. Об этом судить не берусь, потому что в этом никто не смыслит.
Она опять помолчала, потом спросила необычно глухим голосом:
— Я могу кое о чем спросить вас? Знаю, вы не любите этого, но все-таки...
— Конечно, спрашивайте, пани Срнцова, — подбодрил ее следователь.
— Аничку...
Следователь покачал головой:
— Нет... ничего такого... кто-то у нее уже был, но в тот день... исключено...
— Тогда я вообще ничего понять не могу, — жестко сказала Срнцова.
— И такие вещи случаются.
— Какие такие?
Следователь старался говорить как можно убедительнее. Чувствуя, что эта женщина от него что-то утаивает, он обстоятельно обдумывал каждое слово.
— А вот какие, пани Срнцова, — он говорил, будто ножом отрезал слова. — Убьет убийца с мотивом или без него, все равно это убийство. Девушка была убита. Злодейски и преднамеренно. И это неоспоримый факт. И я здесь для того, чтобы убийцу найти и предать суду.
Вместе с Зузкой Срнцова проводила следователя до самой живой изгороди, мимо которой шла дорога, пересекавшая долину. Стояла ясная лунная ночь, на небе мерцали россыпи звезд.
Срнцова зябко куталась в облезлую кроличью куртку.
— Какая луна.
— Небо как в августе, — подтвердил Абсолон.
Они помолчали. В траве скрипуче отозвался кузнечик, над рекой заметался ветер.
— С осенью пора прощаться, — сказала Срнцова вполголоса. — Как река почернеет — конец.
Абсолон погладил собаку по холодной шерсти.
— Не простужена? — спросил он. — Дышит вроде меня. Сколько ей?
Срнцова на его вопрос не ответила, погладила сучку и легонько сжала ее мокрую морду.
— Кое-что я забыла сказать вам, — проговорила она сдержанно. — Может, это ерунда, а может, вам пригодится. В ту ночь, когда это случилось, я как раз проснулась. Собственно, Зузка разбудила меня. Вы правы, она простужена, и главное, стара — уж немало лет тянет лямку со мной — и, бывает, в доме начнет задыхаться. Дышит с трудом, просится наружу. Сколько тогда было времени — не знаю, на ночь я часы останавливаю, да и без того я бы не взглянула на них, просто накинула плащ, вышла с Зузкой из дому и вдруг слышу — кто-то бежит по дороге...
— Куда? — спокойно спросил майор.
— К деревне, — сказала Срнцова. — Бежал очень быстро, только тень мелькнула мимо изгороди, но Зуза почуяла его и затявкала. И не знаю, кто это был, видела одну только тень и слышала, как хлюпает грязь, но раз моя Зузка затявкала, значит, подумала я, это наверняка Адамеков Карлик. Должно быть, ходил с Аничкой в кино, а теперь вот несется, чтобы не вымокнуть. Вы меня поняли? Зузка поздоровалась с этим человеком.
Майор, не упустивший ни слова из рассказа Срнцовой, спросил:
— Поздоровалась? Как это понимать?
Сучка, навострив уши, не спускала с хозяйки больших, чистых глаз.
— Да вот так, — ответила Срнцова. — А ну, Зузка, поздоровайся с паном, поприветствуй товарища...
Зуза простуженно, отрывисто гавкнула.
— Слышите? Так она здоровается со знакомыми. А теперь послушайте, как моя Зузка охраняет. Зуза внимание... охраняй, охраняй...
Срнцовой не пришлось долго уговаривать собаку. Зуза подобралась, ощетинилась, и из ее горла вырвалось грозное раскатистое ворчание.
— Ну вот и все, — смущенно заключила Срнцова. — Умей Зуза говорить, она бы сказала, кто это был. Но прошу вас, — добавила она, глядя на следователя, — мне не хотелось бы подставлять кого-нибудь под удар. Я... я бы вам вообще этого не сказала, если бы не почувствовала, что вы любите собак. Иметь дело с милицией — не по мне.
Абсолон спросил:
— А что потом?
— Потом я пошла спать, — сказала Срнцова.
— Машины вы не слыхали?
— Нет... Да хоть бы трактор проехал — не услыхала бы. Уж если усну, так усну.
— У меня тут одна пустяковинка. Я ведь тоже не сидел сложа руки, — сказал Марек своему начальнику.
— Выкладывайте, — поторопил его Абсолон. — Из вас получился бы никудышный актер, Марек.
— Знаю, — ответил Марек, прилаживая магнитофонную пленку. — Да, где-то здесь это должно быть...
«Стало быть, вы сказали, что отец был в пивной, мать уже спала и на кухне играло радио, которое она позабыла выключить...» — раздался резкий голос Марека.
— Помните это? — Марек взглянул на Абсолона, удобно расположившегося на стуле. — Я осмотрел приемник. Бакелитовый ящичек старого образца, марки «Трио». Он на полочке в кухне, рядом с окном. Слева дверь в комнату, а парень спит в кухне на кушетке. В тот вечер пани Адамкова варила повидло и при этом слушала радио.
— Ну...
— Это была станция «Звезда», «Трио» лучше всего ее ловит, — продолжал Марек. — Но вскоре музыка прекратилась, Адамкова переключила на станцию «Прага», но вдруг в приемнике что-то щелкнуло — и готово.
Марек выпил тепловатой минеральной воды, Абсолон сказал:
— Все звучит весьма правдоподобно.
— Мне тоже так кажется, — согласился Марек. — С какой стати мать уличала бы собственного сына во лжи? Но вся загвоздка в этом приемнике. Он работает, когда ему заблагорассудится, и Адамкова сделала то, что обычно делала в таких случаях — хлопнула по нему кулаком. Но когда и это не помогло, она подумала: «Ведь у меня же сын электрик» — и плюнула на радио.
— Точнее, не выключила его.
— Именно так.
— Но если этот приемник такая рухлядь, он мог до прихода Адамека взяться за ум и начать играть сам по себе, — предположил Абсолон.
— Не играть, а говорить. В том-то и заковыка, — продолжал Марек. — Нрав семейного радиоприемника молодой Адамек хорошо знал. Только случилось то, чего он не учел. «Прага» в это время передавала радиопостановку. Если уж он слышал радио, то непременно радиопостановку, а не музыку. Если мы осторожно подойдем к нему, думаю, он наконец расколется и выложит правду, — заключил Марек.
Следователи условились, что зыбкое собачье свидетельство — как они называли «показание» Зузки — они объявят главным своим козырем.
Основные здания ЕСХК
[11] расположены в Красной Горке в стороне от деревни. За просторными, покрытыми листовой жестью помещениями, в которых устоялся запах скота и костной муки, размещаются ремонтные мастерские и пилорама, работающая бесперебойно, ибо кооператив постоянно расширяется и кроме своего основного назначения занимается еще и прибыльным побочным производством.
Следователи направились прямо к Адамеку, который суетился вокруг пилорамы.
— Нам надо поговорить с вами, — сказал ему Марек.
Адамек повел следователей в свою мастерскую, и у Абсолона мелькнула мысль, что они совершили ошибку, оставив парня в его привычной среде.
Они снова попросили Адамека, чтобы он постарался «вспомнить точно, как все было», начиная с четверга, со дня, предшествовавшего трагическому событию.
— Но я уже все сказал, — хмуро запротестовал Адамек. Его словно подменили. Неуверенность и растерянность бесследно исчезли.
— Это не имеет значения, — оборвал его Марек. — Приступайте.
— Я работал на «зеторе»
[12], на двадцать пятом. Потом пошел домой, взял тачку и отправился накосить кроликам...
— Вы кого-то встретили, — напомнил Марек.
— Пани Кралову, я уж сказал. Встретил ее у магазина, когда возвращался. Поздоровался с ней, а она говорит: «Где ты только берешь такую траву?» За рекой, отвечаю, и еще спросил, дома ли Аничка. Или что-то в этом роде. Что, мол, делает. А она говорит: «Что ей делать, читает все»...
Адамек разговорился, следователи его не прерывали. Идет, он, значит, дальше, останавливается у кинотеатра и разглядывает картинки. Ему приходит на ум, что он мог бы через Кралову позвать Аничку в кино... Потом он кормит кроликов и бесцельно слоняется по долине. Жампаховой, которая повстречалась ему, говорит, что идет побродить в орешнике, а она отвечает: «Не болтай вздор, Карлик». Он огибает хутор, находит несколько опят, а когда наконец возвращается домой, говорит себе: «Ну и дурак, к чему собственно, вся эта возня?..» Ложится в постель, но уснуть не может, болит голова, ему кажется, что он простудился. Встает, берет порошок, запивает его чаем, дома ничего не занимает его. На другой день продолжает возиться с провода́ми «зетора». День как день, вечером кино и там, случайно, Анна. Расставание, возвращение, радио...
Следователи переглянулись.
Марек, огромный верзила, умевший быть грозным или по крайней мере при надобности казаться таким, поднялся, обошел стул, на котором сидел Адамек, — единственный в помещении стул, расшатанный, с дырявым плетеным сиденьем, следователи сидели на перевернутых ящиках — и прямо бросил парню в лицо:
— А не кажется вам, что этого довольно?
Подследственный заморгал и прикинулся непонимающим.
— Что это была за музыка?
— Почем я знаю... играли что-то.
— Вы уверены в этом? — осторожно спросил Марек.
Адамек пожал плечами:
— Так было.
— А вот и не было, — сказал Марек. — Не было, пан Адамек. Теперь мы вам скажем, что вы делали между десятью и одиннадцатью и что передавалось по вашему радио. Вы вообще не были дома. Вы шли за Анной, Адамек. Между десятью и одиннадцатью вы убили Анну Кралову.
Адамек побледнел.
— Это не... это не правда. Я не убийца.
Марек выложил ему все, что знал о его радиоприемнике, а майор добавил:
— Пан Адамек, обдумайте хорошо все, что вы нам сейчас скажете. У нас есть свидетель, понимаете меня? Свидетель, который вас в это время видел в долине. Назвать вам его?
Адамек молчал.
— Идемте, поговорим об этом в другом месте.
Они довезли его до своего временного «кабинета» в одном из помещений МНК. Едва переступив порог, Адамек спросил:
— Воды можно?
Марек подал ему стакан минеральной воды. Адамек поднес его к посиневшим губам, но потом, почему-то раздумав, осторожно поставил на стол. Было заметно, как у него трясутся руки.
— Я скажу вам... я ее не убил... я ее нашел.
— Где вы ее нашли? — спросил Абсолон.
— У карьера. Она лежала там, и я подумал, что с ней что-то случилось. Ну камень откуда-то сорвался... Там часто падают камни. Но когда я посветил на нее фонариком, то...
— То что?
— То я понял, что она мертвая... Хотя нет, — поправился Адамек, — не то, чтобы понял. Я думал, что она жива, что с ней что-то случилось, и я тут же вспомнил о пани Жампаховой. Она вроде где-то работала, как и я... в Красном Кресте, и у нее всякие лекарства... Я, правда, ее не убивал.
Абсолон сказал:
— Так, значит вы Аничку подняли и понесли к «Романсу», вспомнив, что у пани Жампаховой всякие лекарства. Но тут вы смекнули, что дело определенно будут расследовать, и испугались, что на вас падет подозрение. И вместо того чтобы разбудить Жампахову, вы положили Аничку на землю и прикрыли толем, чтобы не мокла под дождем. Так это было?
— Но ведь она была уже мертвая, — удрученно сказал Адамек. — Холодная.
— А, может, на самом деле и это было не так, — заметил Марек.
— Я ее не убивал, это сущая правда, — ответил Адамек. — Делайте со мной, что хотите, но это было так. Мне уже все равно.
Когда он ушел, Марек спросил Абсолона:
— Вы ему верите?
— Теперь верю, — ответил майор. — Ошалел, все это шок. Вот почему он не припустился напрямик через лес. Ему надо было исчезнуть как можно скорее — это вполне понятно. Я бы от всей души влепил ему пару затрещин. Ступайте с ним к карьеру. Придется там перерывать каждый миллиметр.
— Может, лучше его за решетку, — предложил Марек. — Он определенно этого заслуживает.
Абсолон потер руки, поскреб в волосах и зевнул, почувствовав усталость.
— Если бы за решеткой сидели все, кто этого заслуживает...
Больше всего ему нужно было как следует выспаться.
V
Анна встретилась с молодым Жампахом в городе у магазина охотничьих принадлежностей. Это была чистая случайность. Она возвращалась от подруги, с которой вместе «тянули» четыре года гимназии, и вдруг увидела Жампаха, с интересом рассматривавшего витрину.
Жампах и оружие — в ее представлении одно никак не вязалось с другим — и возможно поэтому она остановилась у магазина. Помимо оружия, в витрине был выставлен лист бумаги, на котором Анна прочитала выведенное красным фломастером объявление — патронов нет! Тут Жампах обернулся и спокойно, без тени волнения, точно именно ее ждал тут, поздоровался.
— Здравствуйте, — ответила Анна. — Разве вам положено ходить вот так... в гражданском?
— А почему бы и нет... Как жизнь, Анна?
Вскоре они уже вместе бродили по улицам и разговаривали. Город в эту пору был расцвечен всеми цветами радуги. Он завораживал красотой бархатистых анютиных глазок, сверкал травой ухоженных газонов, манил прогулками по притихшим улочкам с гончарными и скрипичными лавками, утонувшими в густой зелени.
Они бродили более часа, потом зашли в бистро и пили из высоких, на стройных ножках, бокалов оранжад
[13] с содовой.
Вернувшись на хутор, Анна застала мать в ванной.
— Ты уже вернулась? — спросила Кралова, и голос ее потонул в дробном звуке набегавшей воды. — Что, ее не было дома?
— Не знаю. Я у нее не была, у меня было свидание.
— Свидание?
— Да.
Мать помолчала, потом сказала:
— Не потрешь ли мне спину?
Анна поднялась.
— По крайней мере он на вид хоть ничего?
— Мне нравится, — ответила Анна, продолжая эту странную игру.
Кралова набросила на себя халат и босая вошла в комнату. Она благоухала цитроновым мылом и выглядела удивительно свежей.
— Он цветов тебе хотя бы купил?
— Теперь цветы не покупают, их крадут.
В пятом часу пожаловал на хутор Кратена. Анна объявила, что у нее болит голова и что она пойдет ляжет.
— Не знаю, как вы, — сказала Кралова гостю, — но я бы, пожалуй, немного прошлась.
Эти слова вогнали «пана заведующего» в краску. Такое он слышал из уст вдовы впервые.
— Разумеется, — залепетал он, — ведь сейчас чудесно... Тепло. А куда мы пойдем?
— Мне все равно, — улыбнулась Кралова и взглянула на себя в зеркало. На ней было летнее пестрое платье с глубоким вырезом, на голове — лиловая силоновая косынка. Кратена растерянно мял в пальцах соломенную шляпу.
Они вышли из дома и отправились по тропинке вдоль невысокого сосняка. Вскоре Кралова вполне естественно взяла Кратену под руку, и пана Флориша бросило в жар.
— Видать, — начал он разговор, — здорово я действую на нервы вашей Аничке.
— Ну, не выдумывайте, — возразила Кралова, у нее было прекрасное настроение. — Скорее, это я действую ей на нервы, или, вернее, мы друг другу.
— Как завидит меня, убегает, — жаловался Кратена. — Что я ей сделал такого?..
— У нее было свидание, — сообщила Кралова. — Кто-то завелся у нее, вот она и сама не своя.
Поднялся низовой ветер, платок на голове женщины затрепался.
— Кто именно? — спросил Кратена.
— Откуда мне знать. С недавнего времени моя девица мне не доверяет. Знаете, сейчас иначе знакомятся. Без лишних церемоний. За моей бабушкой ухаживал офицер, так он посылал ей письма в букетах роз. Со слугой, разумеется. Девчонка беспокоит меня, — добавила Кралова уже серьезно.
Прервав разговор, она отошла чуть в сторону и стала рвать мак-самосейку. Кратену охватило удивительное волнение: «Как она воротится — тут же все ей и выложу, — решил он. — Пожалуй, она только и ждет этого. Сейчас или никогда».
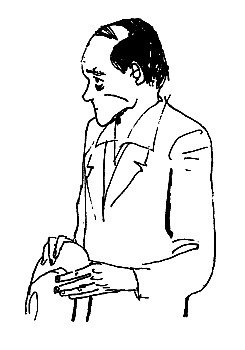
Однако тут произошло неожиданное. Кралова вдруг ахнула — он даже испугался, и, прежде чем опомнился, она поднесла к самому его носу мясистый гриб с сероватой, словно посеребренной шляпкой. Потом, сунув гриб ему в руку, закричала:
— А вот еще один... а вот еще...
И о Кратене совершенно забыла. Не случись этого непредвиденного обстоятельства, Кратена, возможно, и осуществил бы свое намерение. Но ему никогда в таких делах не везло. В присутствии Краловой он чувствовал себя каким-то оторопелым, растерянным, скучным. Он казался себе дилетантом, простодушно ввязавшимся в спор с профессионалом, а когда стал понимать, что все смеются над ним, уже не мог отступиться. «Ведь я же примитивный, самый заурядный человечишка, недоучка. Не пара я ей...»
На хутор вернулись уже под вечер.
— Девчонка, верно, читает, — сказала Кралова, глядя на освещенный квадрат окна. — А потом жалуется — голова болит.
— Может, занимается, — предположил Кратена.
— Ну, это уж вряд ли. Скорей всего обдумывает, как дальше вести свою домашнюю битву. Ну и характер. Может, зайдете?
— Поздно уже, — извинился Кратена. — Я должен завтра в город ехать, в клинику. Прислали повестку. Рентген легких или еще что. Все равно я должен в контору зайти. Мне непременно в магазин кого-нибудь надо, хотя бы на сезон. Мне, правда, дали ученицу с третьего курса, но это невесть что, — жаловался Кратена. — Куда ее ни поставишь, — через полчаса там ее уже нет. Вечно где-то прячется. Иду на склад, смотрю: сидит на ящике и малюет себе глаза. Боженка, говорю ей ласково, отложите это занятие до вечера, ведь в магазине людей тьма-тьмущая...
— Вы ко всему очень серьезно относитесь, пан Кратена, — от души рассмеялась Кралова. — Девушки в этом возрасте совсем другим заняты.
— Да я все понимаю, — оправдывался Кратена. — Но что из таких девчонок получится, а? Детей теперь не приучают к труду, это главное. Каждый думает: раз мне было плохо, пусть хоть моему ребенку будет получше...
— Родители всегда так думали, — перебила Кралова. — Наши тоже. Однако же мы не выросли лоботрясами. Зачем уж так? Молодость все-таки — самое лучшее, что дано человеку. Мне всегда становится грустно, когда вспоминаю о ней...
В то время, когда Кратена разглагольствовал о несмышленой молодости, предмет его недовольства — чернявая и глазастенькая Боженка — сидела в ресторане, прозывавшемся когда-то «Кузнечным трактиром», в компании Оскара Кубелки и молодого Адамека и тянула через соломинку из тонкого бокала джус с водкой. Этот напиток был вписан в счет Кубелки. Сам же он пил пиво, время от времени прихлебывая ром из маленькой рюмки.
— Не пора ли вам баиньки, Боженка? А то еще маменька разнервничается. Тут приятно посидеть, не правда ли? Только вот в сезон несколько шумновато, но что поделаешь?..
От соседнего столика поднялась группа парней, кто-то бросил в автомат крону, и просторное, со вкусом отделанное помещение наполнилось сладкой мелодией сентиментального шлягера.
Адамек взглянул на часы и заметил:
— Идут на угрей. Ну и пускай. Ведь угрей можно ловить только до одиннадцати. Дачники иной раз и вытянут какого гольца. На днях мне рассказывали, что в том месте, где канат через реку, какой-то умник приспособил восемь рыбешек на щуку. За ночь вода опустилась, и рыбешки повисли в воздухе. Я бы такому олуху руки-ноги переломал.
— Ты сегодня уж больно взвинченный, — сказал ему Кубелка. — И не гляди ты все время на свою луковицу, не нервируй меня! Уж не поцапался ли ты со своей Аничкой?
— Не твоя забота, Оскар!
— Бог мой, ведь я тебе от всей души желаю счастья, — сказал Оскар и наступил Боженке на ногу. — Мне что, женись хоть завтра, я тебе к тому же еще и сыграю. Задарма. Можете устроить две свадьбы сразу. Вам с Флоришем это обойдется дешевле...
— Говорю, не твоя забота, — зло огрызнулся Адамек. — На сей раз ты промазал. Я просто жду одного мужика. Хочу у него купить «нортон»
[14].
Адамек огляделся, точно желая удостовериться, произвело ли его сообщение должный эффект.
— Вот оно что! — удивился Кубелка. — Так, стало быть, на нем прямиком врежешь на кладбище?
— Ничего подобного, это мировая машина. Я на ней ездила, — заступилась за Адамека Боженка.
— Ну что ж. Хоть я не вижу ничего мирового в мотоциклах, но в них что-то есть, — согласился Кубелка. — Особенно двойное сиденье. Но ты гляди в оба, Карел, ежели покупаешь подержанную машину.
— Будь спокоен, меня не проведешь. Должно быть, что-то помешало ему прийти. Он честный малый. На этой машине разбился сын его, вот он теперь и видеть ее в доме не может. Отдает по дешевке, — рассказывал Адамек.
Кореш с «нортоном» и впрямь не пришел, однако пришел тот, кого они меньше всего ожидали, — Кратена. Божена сразу же поднялась и, оставив недопитым бокал, демонстративно поплыла к двери.
Кубелка зло поглядел на своего квартирного хозяина.
— Не порть мне молодежь, — сказал Кратена вместо приветствия.
— Здрасте, пан заведующий.
— Девчонка в кабаке, — продолжал Кратена выговаривать Кубелке. — Ты соображаешь, на кого она будет похожа завтра в магазине?
— Ты чего кипятишься, — успокаивал его Кубелка. — Ей что, пятнадцать? Да это и не кабак, а вполне приличное заведение.
— Да... очень... очень приличное заведение, — проворчал Кратена, оглядываясь. Однако он был в превосходном настроении. Они поняли это тотчас, когда он заказал три порции водки, не забыв крикнуть при этом услужливому толстяку в широких брюках на подтяжках:
— Только «столичную», ясно?
Этим вечером Кратена хватил лишку, что бывало с ним весьма редко. Органист костела девы Марии Снежной, сам упившись до того, что едва стоял на ногах, тащил его до дому. И случилось то, что обычно случается, когда двое пьяных пытаются помочь друг другу: оба свалились в канаву. Кратене там так понравилось, что и вставать ему не хотелось.
— Подымайся, Флориш, — уговаривал его Кубелка. — Шевелись, брат. Ну и здоров ты, черт бы тебя побрал. Ну же... — он тянул Кратену из канавы, точно мешок картошки из погреба.
— Оставь меня, слышишь. Ступай своей дорогой. Я тут полежу. Нету у меня счастья.
— Здесь его не найдешь, — убеждал его квартирант и с упрямством, на какое способны лишь пьяные, тащил Кратену за шиворот из канавы. Воротник не выдержал, лопнул, и органист, опрокинувшись на спину, выворотил низкий штакетник палисадника.
— Она любит меня, — твердил Кратена. — Только эта девчонка все портит, так и знай. Порядочному человеку всегда не везет...
— Ну ладно, — согласился Кубелка. — Ну вставай. Не оставаться же тебе здесь. Что люди скажут? Ну и разморило тебя, братец, зачем пьешь, ежели не умеешь?..
— С горя, — пробормотал Кратена и с трудом поднялся.
Кубелка подхватил его и дотащил до дома. Палисадник, всегда такой ухоженный, был разворочен, словно его взрыли дикие кабаны. На розовом кусте осталась висеть мятая, пыльная соломенная шляпа Кратены.
VI
Вечером Абсолон заехал в город и, закончив необходимые дела, решил переночевать дома. Жил он у сестры, 60-летней женщины, по мужу Сикоровой, вдовевшей уже лет десять.
Пани Сикорова следила за братом, как строгая мать за ветреной дочкой, и жила в постоянном страхе за его здоровье.
Абсолон же за годы, что жил у сестры, так свыкся с этой опекой, что почти не тяготился ею. Однажды он сказал Мареку, что между ним и сестрой установились странные дружеские отношения, основанные на том, что сестра упорно и непрерывно наступает, а он окапывается и малодушно переходит к обороне.
Пани Сикорова не относилась к тем женщинам, которые еще и в шестьдесят думают о замужестве. Детективов и любовных романов она не читала, а в газетах отдавала предпочтение объявлениям. Над ними она проводила долгие вечера и не только увлеченно читала их, но и метко комментировала.
Майору не удалось незаметно прошмыгнуть в свою комнату: распахнулась кухонная стеклянная дверь, и в прихожей появилась сестра. На ней был длинный парчовый халат с набивными яблоками, розами и золотистыми драконами, лениво раскрывшими зубастые пасти.
— Ну и вид у тебя, — сказала сестра и всплеснула руками так, что драконы испуганно завиляли хвостами. — И опять налегке, не мудрено, что вечно кашляешь. Постой, дам тебе чаю.
Она затолкала Абсолона в кухню, и он опустился в мягкое широкое кресло, настолько удобное, что веки смежились сами собой. Он очень устал. Из всего того, что Марек выведал у студентов, явствовало, что Абсолон ошибался, считая Анну Кралову существом не простым. Однокашники знали Анну тихой, улыбчивой девушкой, скорей замкнутой, чем общительной. Ее единственная подруга Павла Кованова, с которой Анна иногда заходила в кафе приличной репутации, показала, что чаще всего они сидели дома, слушали магнитофон, копались в книжках и всякое такое прочее...
Анна иной раз оставалась ночевать у Кованов, особенно зимой, но, если не успевала предупредить заранее мать, всегда звонила Жампахам.
Утром Абсолон чувствовал себя превосходно. Даже помог сестре приготовить завтрак. Он налил себе в чай немного сгущенного молока, сестра взялась за газеты.
— Тут кто-то машину продает, — сказала она. — «Шифр: предпочтение наивысшему предложению». Ну и народ...
— Это закон спроса и предложения, — объяснил Абсолон. — Удивляюсь, почему это тебя нервирует. Человек, дающий объявление, всегда предпочитает того, кто больше заплатит. Ведь ты когда-то читала объявление: «Продаю велосипед, ржавый, в запущенном состоянии. Шифр: бесполезная покупка».
— Или вот, — отозвалась сестра. — «Стройная, длинноволосая девушка, двадцати одного года, ищет интеллигентного бородача для создания личного уголка. Шифр: ум и фото необходимы, борода — нет...» Потрясающий кавардак...
Две книги Анна Кралова взяла из библиотеки отца своей одноклассницы, но так и не успела вернуть их. Одну из книг Абсолон держал в руках и — в который уж раз — перелистывал. Это был сборник рассказов Хемингуэя, в коричневом переплете, довольно потрепанном; страницы книги были буквально испещрены галочками, восклицаниями, вопросами — будто учебник.
Вторая книга — «Монт-Ориоль» Мопассана — была заложена на 218 странице свернутым в несколько раз листом старой газеты, сплошь забитым рекламами и объявлениями.
Абсолон и эту книгу тщательно просмотрел, но, кроме газетного листа, не обнаружил в ней ничего примечательного. В книге рассказов Хемингуэя была закладка, в «Монт-Ориоле» — нет. Вероятно, Анна или кто-то другой заменил ее газетой.
Абсолон раскрыл газетную полосу. На него ощерились столбцы объявлений, одно из которых было обведено черным фломастером. Оно сообщало: «Худ. фотограф ищет модель. Шифр: объектив».
Уже вскоре после того, как Абсолон развернул газету, следователи знали, что объявление давал доктор Янчик. Они отправились к нему на дачу вместе. Пока Марек разглядывал обстановку дома, точно ожидая, что вот-вот откуда-нибудь выглянет обнаженная красотка и скажет «ау», Абсолон спросил:
— Когда в последний раз вы были здесь?
— В среду после обеда. Заскочил на минутку. Завез брикеты, — спокойно ответил Янчик, загорелый, стройный мужчина лет сорока, с колоритной бородкой.
Марек, раздражаясь олимпийским спокойствием хозяина, как бы случайно спросил:
— Адамека вы в ту среду не видели?
— Не припоминаю. У табачной лавки я посадил в машину Жампахову и подвез ее к «Романсу». Брикеты бросил в подвал и тут же уехал.
— Жампаха вы не видели?
— Нет.
Янчик поднял голову и раздавил сигарету, будто назойливое насекомое.
— Адамека вы, кажется, тоже несколько раз подвозили? — спросил Янчика Абсолон. — И, кстати, говорили об Анне.
— Может, я
и возил его. Но чтобы мы говорили именно об Анне...
— Адамек помнит. Вы спрашивали его, когда он собирается жениться, и вроде бы советовали ему не торопиться. А когда речь зашла об Анне, вы ему подсказали не очень-то к ней приставать, а лучше делать вид, будто девчонка ему безразлична...
Янчик пожал плечами.
— Наверное, это правда, коль он утверждает. Но я такого не помню.
Абсолон показал Янчику газету.
— Это, очевидно, была последняя книга, которую она держала в руках. Ведь это ваше объявление?
— А, вот оно что, — сказал Янчик. — Теперь начинаю понимать. Но должен вас разочаровать. Эта девушка никогда не была моей моделью... Так вы, значит, меня поэтому подозреваете?
— Вовсе нет, — сказал Абсолон.
— Ну ясно. И справедливо. Ведь я был здесь, когда это случилось. Я был на даче, и у меня нет алиби.
— Так, значит, Анна у вас никогда не была, — сказал Марек.
Это замечание уже окончательно вывело Янчика из себя.
— Уважаемый, если бы она была здесь даже десятки раз, для меня все равно она всегда оставалась бы только моделью. Объектом для объектива, куском камня, понимаете? Что, собственно, вы хотите услышать? Что с помощью объявлений я ищу женщин и продаю их в наложницы? Если вы не оставите этот тон, то я вообще откажусь вам отвечать, пока вы не выполните все официальные формальности и рядом со мной не будет сидеть адвокат.
— Мы проверим ваши показания, — сказал Марек.
— Сделайте одолжение, — прозвучало в ответ.
Однако к Янчику Абсолон отправился еще раз. Один. На этот раз Янчик был совершенно другой, будто его подменили. Когда следователь рассказал ему, что им пока известно о смерти Анны Краловой, доктор постучал костяшками пальцев о подбородок и сказал:
— Представьте себе, я тогда задержался в доме из-за ерунды. Из-за ключей от машины, которые обычно висят на вешалке у дверей. На этот раз их там не было, и я добрых двадцать минут ползал на коленях, позабыв, что они в других брюках. А этих двадцати минут, возможно, хватило бы, чтобы я застиг ее на дороге и взял с собой. Какие-то невероятные случайности бывают в жизни, — добавил он, поглядывая на пылающие в камине поленья. — К тому же на даче я был не один, понимаете, и на этот раз это была не модель. Болван, открой я ставни, может, и услыхал бы что... Я даже не удивляюсь тому, что вам наплел Адамек. Будь я в его шкуре, я, может, тоже напридумал бы невесть что. Так, как этот парень, вел бы себя каждый. Человеку вовсе не нужен умственный коэффициент сто двадцать, чтобы понять, чем все это пахнет.
Янчик разгреб кочергой жар. Взметнулся сноп золотисто-красных искр, дрова затрещали, у Абсолона в носу защекотал слабый запах дыма. Янчик открыл окно, чтобы проветрить комнату, и в ту же минуту донесся со стороны «Романса» грубый женский голос:
— Холуй... дубина эдакая...
И мужской, сипловатый голос проблеял:
— Et cum spiritum
[15]... святоша проклятая...
— Нехристь... безбожник... Мария премилосердная...

Янчик закрыл окно.
— Вечерний концерт, — сухо заметил он. — Дуэт Жампахов. Прежде думал даже дом продать из-за этого. Теперь привык.
— Часто бывают эти концерты? — спросил следователь.
— Как когда. Когда приезжают дети, бывает поспокойнее. Такой парадокс! Или когда пожалует отпрыск. Тогда достаточно его «ну, маменька», и полный порядок. Иногда случается и детям воспитывать родителей. Жизнь полна неожиданностей...
Янчик предложил Абсолону сигарету.
— Но он занятный человек, Ян Жампах, — продолжал доктор. — Убежденный материалист, в этом, должно быть, источник вечных супружеских неурядиц. Как-то кивнул эдак мне через ручей и спрашивает: «Пан доктор, не знаете ли вы, что было раньше — материя или дух...»
Янчик улыбнулся, Абсолон с интересом спросил:
— Ну, и что вы ему ответили?
— Я посоветовал ему обратиться к своему Иржику. Это их сын, изучает где-то богословие. Спросите, говорю, своего Иржика, пан управляющий, он наверняка знает это лучше меня. А он — нет, мол. Ну, я тогда ему и говорю: «Насколько мне известно, есть два противоположных мнения». Жампах свое: «Ну, хорошо, а все-таки, что было прежде: дух или материя?» Ну, я сказал, что считаю себя материалистом. А он мне: «Превосходно, доктор, я ей все время твержу, что у господа бога должна была быть сначала глина, прежде чем он слепил из нее Адама». А теперь вообразите себе, каково сказать вот такое жене, которая готова даже обручальное кольцо заложить, лишь бы было что подбросить костельному сторожу в кружку.
— Так, стало быть, вы недолюбливаете Жампахов? — спросил Абсолон.
— Это не совсем точно сказано, — ответил Янчик. — Я и себя-то самого не слишком люблю. Отчего бы мне их не любить? В сущности, я против них ничего не имею, они мне просто глубоко безразличны. Подчас я завидую Жампаху.
— Почему?
— Потому, что он счастлив. Посадите его в городскую квартиру, отберите у него гвозди, молотки, краски, кисти, стамески и прочее, и не пройдет и полгода, как Жампаху будет крышка. То, что он делает, приносит ему удовлетворение. Вот чему я завидую...
Следователь счел нужным вернуться к цели своего визита, полагая, что у доктора должно быть свое «особое мнение» о случившемся, и, видно, только Марекова манера вести себя убедила его, что ему лучше молчать.
— Скажите, что вы обо всем этом думаете? — спросил он Янчика.
— Убил ее тот, кому она мешала, — ответил Янчик. — Подумайте сами, этот хутор уже давно стал предметом особого натиска. Таких местечек в республике, может быть, десять, двадцать. Все знали, что Кралова равнодушна к хутору. Она давно продала бы его и переселилась с дочкой к матери. Проблема, однако, называлась «Анна». Это была упрямая, даже своенравная девушка...
— Ну, хорошо, — перебил Абсолон. — Но если бы этот упомянутый так рассуждал, как вы думаете, ему непременно должно было бы прийти в голову, что по этому следу все же пойдут — ведь и такая возможность не исключена. И потом, где тут уверенность, что именно он в конечном счете извлечет выгоду? Что именно он станет хозяином хутора?
— Ну, это может быть куда сложнее, — возразил Янчик. — Как бы то ни было, но мне представляется, что путь к объяснению убийства девушки тянется именно от человека, который там, наверху, займет место. Подождите, пока все успокоится. Дом Кралова несомненно продаст. И меня очень бы занимал человек, который сменит ее на этом уединенном ранчо. Ведь тут, по сути дела, отсутствует опасность промедления. Возможно, все станет ясным через год, два. Разумеется, сам убийца на хутор не сядет, иначе это был бы законченный идиот, — рассуждал Янчик спокойно, и следователь столь же спокойно выслушивал доводы доморощенного детектива. — Но от него ведет дорожка к преступнику.
— Наемный убийца? — спросил Абсолон. — Не кажется ли вам, пан доктор, все это притянутым за волосы?
— Почему? Разве изначально должна была идти речь об убийстве? Речь шла о том, чтобы Анну как следует припугнуть, испортить ей жизнь. А за хорошую плату найдутся и такие, кто не прочь поиграть в подобные игры. Вы думаете — нет?
Абсолон пожал плечами, Янчик продолжал:
— Найдутся, это точно. Некто скажет: кореш, тут мне надо поприжать одну девку. За тыщонку, так, что ли, но особо-то ты ее не обижай. Об чем речь? — спросит упомянутый. Внесется ясность, они ударят по рукам и пойдут на дело. Девчонке накинут петлю на шею, она в страхе дернется, а тут, как на зло, послышатся чьи-то шаги. Они дадут тягу, и упомянутый узнает лишь из газет, что, собственно, приключилось. У кого-то это дело переросло задуманное, но того, кто за этим стоит, такой исход чрезвычайно устраивает, — заключил Янчик. — Хотите рюмочку?
Абсолон кивнул.
— И все-таки удивляюсь вам, — обронил Янчик.
— Почему?
— У вас должно быть адское терпение, — сказал Янчик и повертел рюмкой, в которой плавали золотистые искры. — Искать иглу в стоге сена — это занятие не для меня.
— Вы тоже, пожалуй, без терпения не обходитесь, — заметил майор.
То, что сказал ему Янчик, по сути дела, соответствовало его намерениям проверить алиби всех известных «фирм», состоявших на учете в уголовном розыске за совершенные насилия, драки, нападения и дебоши. Абсолон сознавал, что его ждет напряженная, затяжная работа, но в отличие от Янчика не был столь убежден, что время не играет на руку преступнику. Все новые события час за часом оттесняли некогда свежие впечатления, настоящее становилось прошлым, часы превращались в секунды, люди забывали детали, исчезала убедительность. Какую-то надежду ему еще оставлял опрос Краловой, но пока об этом не могло быть и речи. Кралова была госпитализирована в психиатрическое отделение факультетской клиники с тяжелой душевной травмой. Она сгорала в жару, бредила, и специалисты утверждали, что могут пройти месяцы, пока она немного оправится, если вообще это случится.
Абсолону оставался единственный путь — он ходил, расспрашивал, собирал сведения, пытаясь найти в них точку опоры. Словом, на сей раз действовал наперекор своим привычным правилам.
VII
Тщательно ухоженная светло-бежевая «октавия» Кратены выехала из гаража. И уже минуту спустя нетерпеливо завизжал гудок. В окне дома показалась голова Кубелки.
— Поторапливайся, Оскар.
— Один момент.
Когда Кубелка узнал, что приятель собирается в город, он объявил, что у него там тоже «кой-какие дела», повесил на двери магазина табличку со словом «учет», запер его и пошел переодеваться.
— Ты запер на два оборота? — спросил Кратена своего квартиранта, когда тот наконец появился у машины в белых полотняных расклешенных брюках, полукедах и безрукавке в широкую ядовито-зеленую полоску.
— Конечно, — заверил его Кубелка и поглядел на небо. Надвигалась тяжелая, черная грозовая туча, освещенная по краям. Кубелка отер ладонями лицо и сказал:
— Неплохо, если бы как следует брызнуло.
— Да... и тут же начнет буксовать, — проворчал Кратена, садясь за руль. — Я не больно-то жалую мокрый асфальт, эти машины слишком капризны. Черт побери, не хлопай так дверью, замок покорежишь.
— Ясно, — виновато пробормотал Кубелка. — Извини.
Выбравшись из Красной Горки, машина преодолевала долгий и пологий подъем среди пшеничных полей. Мотор натужно урчал. Кубелка сидел молча — в Кратеновой машине он никогда не чувствовал себя уверенно. Стоило ему шевельнуться, как его тут же пронизывали вопрошающие глаза водителя — не случилось ли какой порчи в тщательно оберегаемом движимом имуществе? Однако Кубелка никогда не критиковал, не высмеивал своего приятеля за чрезмерную заботу о машине. «Кому люб хлев, а мне — порядок», — часто говорил Кратена, и против этого нечего было возразить.
— Сколько ты проторчишь на этом рентгене? — спросил Кубелка.
Кратена неотрывно глядел вперед, на приближавшийся грузовик. Только когда он проехал — Кубелку даже обдало запахом бензина, Кратена сказал:
— Откуда я знаю, сколько там будет народу, но мне все равно еще придется заехать в контору.
— Ну, а все-таки? Если быстро управлюсь с делами, я бы вернулся с тобой.
— Девок я не вожу, — предупредил приятеля Кратена.
— Что это ты сегодня не в духе? Причем тут девки?
— Знаем, знаем, Оскар. Хотел бы я поглядеть на это твое «дело».
Прежде чем Кубелка успел ответить, за ними раздался глухой гул, который тут же сменился нервозным стрекотом, будто кто-то вздумал стрелять по машине из пулемета. Кратена инстинктивно повернул руль — мимо них пронесся мотоцикл, окатив ветровое стекло дождем мелких камешков. Когда они опомнились, мотоцикл уже исчез за крутым бугром.

Это был Адамек на своем «нортоне» — оба узнали его.
— Ну и псих, — вскричал Кратена. — Мокрый асфальт, а он шпарит на сотне. Даже не просигналил, надо же!
— Я уж говорил ему, что когда-нибудь разобьет себе голову. Эта машина не для такого сумасшедшего...
— А кто был сзади?
— Аничка Кралова, — сказал Кубелка. — Не узнал, что ли?
— Я видел одни ноги.
— Именно по ним я и узнал ее. Ноги у нее, как у газели... Уж пусть бы ездил один, раз на тот свет захотелось.
— Ясное дело, у девчонки разума нет, — согласился Кратена. — Растет без отца, это главное.
Но мысли Кубелки были уже далеко.
— Как ты думаешь, Флориш, у него есть надежды? — спросил он.
— Я думаю, что не мешало бы ее отшлепать по одному месту, — заметил Кратена. Он уже чуть успокоился. Машина выехала на холм и по извилистой дороге спустилась к перепутью, где в неглубоком рве среди кроваво-красных волчьих маков паслись две черно-белые коровы.
— Тоже скажешь. Ведь она уже почти дама, дружище. Ведь ей двадцать. Ты вроде бы и за человека никого не считаешь, покуда ему не стукнет пятьдесят. Зачем тебе казаться старше, чем ты есть на самом деле? Взгляды у тебя столетние.
— Уж какие есть, — бросил раздраженно Кратена. — Разобьются, поздно будет. Я, к примеру, езжу так, чтобы всегда мог остановиться. Что с несчастной матерью будет?..
— А, вот оно что, — проворчал Кубелка. — Ты вот о чем заботишься...
Кратена осторожно свернул к обочине. Остановился, вышел из машины, Кубелка продолжал сидеть. Он знал, что через каждые несколько километров наступает «технический осмотр» с вечным Кратеновым: «А не кажется ли тебе, что в моторе что-то барахлит?» Вот и сейчас он сидел и терпеливо ждал, когда же пан Флориш захлопнет капот.
— Помпа, точно, — заявил Кратена.
Кубелка, ничего в этом не смысля, удивился:
— В машине есть помпа? Впервые в жизни слышу.
— В некоторых вещах ты балда, Оскар, ничего не поделаешь, — сказал ему по-дружески Кратена. — Ты не создан для практической жизни... ты все время витаешь в облаках...
— Знаешь, что мне вдруг пришло в голову, Флориш? — перебил его Кубелка. — Почему ты еще ни разу не пригласил Краловых покататься, а? Дело известное — женщины любят кататься на машине. Особенно на такой шикарной, как у тебя. Пригласи их, вот и случай представится...
— Трудно это, — ответил Кратена.
— Господи, что в этом трудного. Пригласи их, и дело с концом. А не захочет Анна, тем даже лучше. За женщиной надо ухаживать, сама в твои объятия не бросится, — поучал Кубелка.
— А если она без нее не поедет? — простодушно спросил Кратена.
— Ну, и замедленное же у тебя зажигание, — вздохнул Кубелка. — Тогда я поеду с вами, почему бы и нет. Позабочусь о дочке, а ты — о маме. Совершим прогулку. Я — за.
— Оскар, ты бы в самом деле поехал? — тихо сказал Кратена и на секунду оторвал взгляд от шоссе. В его голосе было что-то, заставившее Кубелку внимательно посмотреть на своего приятеля, и в этот момент он подумал, что Кратена действительно болен, что ему не до шуток. Лицо его было серое, точно осыпанное пеплом, покрасневшие глаза блестели, и по всему было видно, что даже вождение машины по шоссе с минимальным движением дается ему с трудом. «Плохи дела у него, это факт, — подумал Кубелка, — нечего мне было тянуть с этой повесткой на рентген, надо было давно все устроить...» После обстоятельного осмотра, которому недавно подвергся Кратена, да и после разговора с знакомым врачом факультетской клиники Кубелка понял, что ждет его приятеля. Понимал и боялся этого... Он решил: если с Кратеной что-либо случится, он, Кубелка, покинет Красную Горку. В эту минуту ему было все равно, чем он тогда займется; добровольно подвергая себя этой неопределенности, он как бы давал судьбе обет, выторговывая у нее шанс на жизнь для своего друга.
— Ну, конечно, когда захочешь, — ответил Кубелка как можно убедительнее. — Ведь ты переживаешь, братец, тяжко смотреть на тебя.
— Надо только осторожно, — сказал Кратена. — Чтобы она еще чего не подумала. И особенно Аничка, ведь я против нее ничего не имею, ты не думай... Ни против нее, ни против кого бы то ни было, — повторил Кратена...
Меж тем молодой Адамек вместе с прелестной спутницей, сидящей позади, успел пролететь несколько селений, выскочить извилистыми крутыми поворотами на шоссе, лихо миновать длиннющую автоколонну и, развернувшись, снова очутиться в лесу над Красной Горкой.
Они выехали на тропинку, густо выстланную сухой хвоей. Адамек выключил мотор и обернулся:
— Ну, что скажешь?
— Сила.
Мотоцикл исходил жаром.
— Это лучшая машина на свете, — заявил Адамек. Анна, присев на корточки, завязывала шнурки на полукедах.
— Я бы такую не хотела, хотя бы потому, что на ней кто-то разбился.
— Не совладал с ней, в этом все дело, — сказал Адамек. — Слабые руки были. Тут нужны сильные руки.
— Может, и так.
— Я не верю ни в какие приметы.
Адамек тоже присел и озабоченно приложил ладонь к ребристому цилиндру мотоцикла.
— Влажный, — объявил он гордо. — С такой машиной я любую гоночную за пояс заткну.
Анна облизала сухие, обветренные губы. Она все еще была точно пьяная от бешеной езды и того необыкновенного чувства, которое приносит скорость.
— Забавный ты, Карлик.
Она отколупнула с елки янтарно-желтый пупырышек смолы. Жевала его, пока не почувствовала во рту терпкий, горьковатый вкус.
Адамек тут же поднес ей целую горсть этого лакомства.
— Тебе нравится жевать смолу?
— Ага.
— Я могу набрать тебе сколько хочешь. Говорят, полезно, по крайней мере, мама так говорит. От смолы зубы становятся белые. А вечером я иду на плотину за судаком. Хочешь, тебе тоже одного притащу?
— Ты так говоришь, будто он тебя там дожидается, — улыбнулась Анна.
— Как-никак я воду знаю, — возразил Адамек. — Судак тянется под плотину, это факт. Но сегодня на живую рыбу не возьмет, что тоже факт.
— А что, они едят и мертвых рыбок? — удивилась Анна.
— Судак цапнет и кнедлик, — пояснил Адамек. — Хоть рыбий хвостик, хоть голубиное перышко. По крайней мере, одного сегодня поймаю.
— Я не люблю рыбу, — Анна надула губы.
На стволе ели мелькнуло рыжее пламя беличьего хвоста, ветви качнулись, и несколько пластинок коры, выпущенных коготками зверька, легко опустились на волосы Анны.
— Будешь тут все каникулы? — спросил Адамек.
Анна пожала плечами.
— Почему ты спрашиваешь? Вряд ли. Тоска здесь зеленая.
— А куда поедешь?
— К бабушке, должно быть. Или еще куда. Все равно.
— У меня отпуск. Еще несколько дней, пока не начнется уборка. Хочешь, махнем куда-нибудь. У меня палатка, все есть...
Анна рассмеялась, Адамек осекся.
— Ты чего смеешься?
— Так. Для тебя все просто. Залезай в эту палатку еще с кем-нибудь, Карлик. На меня не рассчитывай.
— А разве я чего плохое сказал? — защищался Адамек. — Разве не здорово поехать куда-нибудь, посмотреть какой-нибудь замок. Я люблю замки: комнаты, старинное оружие, картины...
Анна пытливо вглядывалась в еловую крону. Лес стоял опоясанный солнечным светом, где-то далеко жалобно завывала циркулярка.
— Мне надоело в Горке, — продолжал Адамек, не дождавшись ответа. — Может, я все это к черту брошу и устроюсь куда-нибудь на плотину или на автостраду. У меня третий разряд, там и заработаешь кучу денег, и никто в душу лезть не станет.
— А тут к тебе лезут? — отозвалась наконец Анна.
— Да нет вроде, но тут все настырные какие-то. И девчонки глупые и спесивые. А дачники и дикари — те совсем одурели. Одна ты другая.
Это заинтересовало Анну, она спросила:
— Другая? Чем же?
— Так, ты нормальная.
— А ты ненормальный, что ли? В самом деле, ты занятный, Карлик.
— Они все думают, что я чокнутый, — сказал Адамек. — Я знаю, пророчат, что я разобьюсь на этой машине...
Анна села на пень, сняла полукеды, вытряхнула из них песок.
После небольшого дождя, который окропил землю, лес источал тысячи запахов. Адамек подошел к ней поближе.
— У тебя, Аничка, красивые волосы. Вроде как светятся.
— Ты славный парень, Карел, — сказала она серьезно. — Я тебе желаю удачи. Когда пойдешь за судаком?
— Как стемнеет. Тогда они выплывают и заходят под шлюз. Придешь вечером?
— Может, приду, — пообещала Анна.
— Так я заеду за тобой, а?
— Ну нет. Я уж на всю неделю наездилась. Ты носишься, как угорелый. Даже страх берет. Мне казалось, что тот поворот наверху тебе уже не осилить.
— Это тебе только казалось, — сказал Адамек и невольно поглядел на мотоцикл — на его хромированном бензобаке блестело несколько капель, упавших с ветвей. — Не хочешь попробовать?
— Ни за что! — испугалась Анна. — Тут же сковырнусь в ельник.
— Это тебе только кажется. Все равно, кончишь учиться, купишь машину, придется сдавать на права. Тебе будет легче, чем мне. Меня два раза выгоняли. И все за перекрестки, они мне никак не давались. Да я и теперь на все сто не уверен, — признался он. — Гудят со всех сторон, так что забудешь, где левая рука, где правая.
Анна улыбнулась. Из разжеванной смолы выдула розовый пузырь и проткнула его мизинцем. Смола налипла на палец.
— Ты, может, не ту выбрал специальность, Карел, — сказала она, застегивая ему пуговицу на рубашке. — Надо было тебе стать рыбаком, если это тебя так забавляет.
— Там тоже теория, математика и все такое прочее, — сказал Адамек. Он был на голову выше Анны, его лицо, обожженное солнцем, лоснилось. — Я тут от всего отдыхаю. Тут хорошо, если бы не некоторые.
— Кто, например?
— Хотя бы Кубелка. Этот умник.
— Мне думается, он не такой уж плохой. Только любит порисоваться.
— Чудной у него разговор, мне не нравится. Ведь не каждому быть таким умным. Кто-то должен работать.
— А он что, ворует?
— Какая это работа! Метаться за прилавком и продавать карандаши и чернила? Я бы не стал.
— Кто-то же должен.
— Мне в помещении не интересно. Вот еще, торчать в магазине, вроде этого Кубелки или Кратены! Хотя пана Кратену мне жалко, он хороший.
— Почему ты так думаешь?
— Потому, что он нормальный. Такой же, как ты. И не выдрючивается. К кому-то хорошо относится, а о некоторых и слышать не может.
— Обо мне, что ли... — перебила его Анна.
— А ты причем? — Адамек искренне удивился.
— Просто мне пришло в голову. — Она поняла, что Адамек ничего не знает об отношении Кратены к ее матери. «Боже мой, ну и дура, ведь кроме меня, это, может, вообще никого не занимает».
— Он больной, — продолжал Адамек. Анна уселась на мотоцикл и осторожно вертела рулем. — Недавно сказал мне, что у него мотор барахлит. Я поглядел. Ясно, говорю, щетки в генераторе у вас того, и стал выпиливать новые. Он стоял, наблюдал, что да как, а потом вдруг как скорчится, а руками за живот держится, даже весь мокрый стал. Жалко его. Здоровье у него никудышное, куда ему работать на улице. А Кубелке просто неохота.
— Что ты к нему привязался? — воскликнула Анна уже сердито и соскочила с мотоцикла. — Что он тебе сделал?
— Ничего, но...
— У тебя постоянно какие-то «но», — перебила она. Ей уже все надоело. Она взглянула на часы и с деланым удивлением вздохнула: — Боже, как уже поздно. — Адамек погрустнел.
— Я подвезу тебя?
— Зачем? Я пробегусь лесом. Привет, Карлик.
— Придешь вечером?
— Может, приду.
Она прилепила жеваную смолу, ставшую уже лилового цвета, к стволу ели и, перескочив канавку, скрылась в лесу.
Минуту спустя, услышав шум мотора, это знакомое, гулкое фырканье мощной машины, она подумала, что совершила ошибку, пообещав прийти. Ведь в тот самый миг, когда сорвалось это с губ, она уже знала, что не придет.
Охваченная какой-то непонятной тревогой, Анна спустилась по тропе, петлявшей заброшенным смешанным лесом. Эти места были особо пустынны, в жаркие дни тут кишмя кишели змеи, но сейчас это странное, теснившее ее беспокойство скорей было вызвано ощущением, будто ее кто-то преследует, будто затылком она чувствует чей-то пронзительный взгляд. Она резко обернулась — никого... Эти глухие места, утопающие в душном жгучем воздухе, ничем не обнаруживали присутствие человека. Нещадный зной стиснул землю стальными клещами, стебли трав помертвели, и небо походило на расплавленное стекло.
Когда Анна вышла на пасеку, пот буквально лил с нее, неприятно пощипывая глаза. Она остановилась, беспомощно оглянулась. В тишине, которая придавила ее чуткую душу, она явственно слышала, как торопливо стучит ее сердце, почти до головокружения... И вдруг среди развалин старой кормушки для зверей она заметила чью-то тень. В первое мгновение она было подумала, что это не тень человека. Но когда Анна подняла глаза, ее залитые слезами зрачки, расширенные, словно она напилась отвару из волчьих ягод, встретились с глазами молодого Жампаха. Казалось, будто он терпеливо ждал ее тут и совсем не волновался, что она медлит и не идет. Он глядел на нее спокойно, сжимая в зубах соломинку.
Анна опешила.
«Он ждал меня», — подумала она.
Она стояла, как вкопанная, в предчувствии чего-то страшного и одновременно прекрасного...
Прямо над головой висело палящее солнце, его разрушительный зной ощущала она всем нутром. Раздались удары колокола костела девы Марии Снежной, отбивавшие полдень. Молодой Жампах сделал шаг навстречу Анне.
— Что вы здесь делаете? — пробормотала она смущенно. — Почему вы не в храме?
Молодой Жампах протянул руки, повернул их ладонями кверху, словно хотел поймать сноп солнечных лучей, и, чуть запрокинув голову, ответил:
— Мой храм здесь.
VIII
В каждом городе есть свои темные закоулки — об этом лучше всего могли бы рассказать сотрудники органов охраны общественного порядка. В подшефном районе Марека одно из таких мест — пивная под названием «У виадука».
Посетители этой пивной — пьянчужки, мелкие и задиристые проходимцы, сводни, девицы сомнительного поведения, жулики и тунеядцы. Все они — неприглядные, оборванные, разболтанные и грязные люди с лицами порочными и убогими, как и их жизнь, — это отребье городской «галерки», потому как «элита» антиобщественного сброда в «Виадук» не заглядывает. Она толчется у интеротелей.
«Галерка» знает, что за «Виадуком» установлен строгий надзор, и все-таки каждый день тут околачивается.
С самого утра в пивной устаивается запах гниющей капусты, чеснока и петрушки, которым тянет с ближнего рынка. Посетителей обслуживает молодая, вечно пьяненькая девица в короткой облегающей юбке и замызганном кружевном переднике. Пиво и водку она разносит на круглом подносе из оцинкованной жести.
В поисках нужного человека в «Виадук» заглянул и Марек. Отыскав свободный стул, он протолкался с ним к столу, за которым сидели трое.
— Разрешите...
Никто не возразил. Когда официантка грохнула перед ним кружкой с пивом, он пробурчал:
— Еще поесть что-нибудь принеси.
Он получил гуляш. Пока он сидел, жевал и озирался по сторонам, его соседи по столу яростно спорили о какой-то исторической дате и время от времени упоминали «Золотую буллу сицильскую»
[16].
— Пан, — крикнул Мареку угреватый малый. — Вы человек интеллигентный, так скажите этому олуху, что значит «Золотая булла сицильская».
— Отвяжись, — ледяным тоном ответил Марек.
Нужного человека в пивной не оказалось. «Черт бы его побрал, — подумал Марек, — вечно тут околачивается, а когда ищешь, исчезает, как дым».
Со своего места Марек хорошо видел светлый прямоугольник дверного проема из погреба в «зал» и с интересом наблюдал, как ежеминутно там показывались все новые и новые люди.
Марек рассчитывал, что в дверях покажется и человек, занимавший его. Так и случилось. Эдак полчаса спустя, когда Марек уже вдоволь на все нагляделся, в дверях объявилось потрепанное продолговатое лицо и тут же вмиг скрылось. Вскочив, Марек метнулся к дверям.

— Горилка!
Убегавший широкими шагами Горилка остановился, беспомощно опустив вдоль туловища длинные обезьяньи руки.
Марек, не торопясь, направился к нему.
— Нехорошо с твоей стороны удирать от меня, — сказал он и, прижмурившись, с любопытством оглядел Горилку, одетого в джинсы, залатанные на коленях коричневатой искусственной кожей, полукеды, некогда белые, и облезлую военную куртку, явно с чужого плеча.
— Я не удираю, — оправдывался Горилка, — просто спешу на работу.
Его унылое лошадиное лицо казалось мирным, хотя Марек хорошо знал, что перед ним человек, никогда не жалевший своих кулаков.
В начале лета Горилка был выпущен уже третий раз из заключения, где отбывал наказание за драки, дебоши и тунеядство, и — насколько Мареку было известно — до сих пор нигде не работал. Одно время он связался с туристами и почти на месяц исчез из поля зрения уголовного розыска.
— Да что ты, — искренне удивился Марек, — ты работаешь?
— А чего? Вкалываю, — подтвердил Горилка. — Я все ж таки не чокнутый, знаю, что вы с меня глаз не спускаете. Отстучал положенное, зима на носу, ведь после трех месяцев фараоны идут по пятам за каждым, кто вышел из заключения. Или это уже не в их правилах?
— Где работаешь?
— На вокзале, — сказал Горилка. — Обеспечение бесперебойного снабжения трудящихся. Разгружаю картошку и прочее. Ей-ей, тороплюсь на работу, кореш меня дожидается.
— С дикарями уже не шатаешься?
— Не... что вы! Это не по мне. И потом — дикари тоже под приглядом. Я могу идти?
— Ты последний раз когда был в Красной Горке?
Горилка, не имевший ни малейшего представления об истинной причине Марековых вопросов, задумался. И Марек решил, что опять оплошал. Он знал: имей Горилка к убийству Анны Краловой хоть отдаленное отношение, он реагировал бы при слове «Красная Горка» совершенно иначе.
— В Красной Горке... а... так вы имеете в виду ту дыру... лунная долина, каньоны и прочее?
Марек кивнул.
— Так там, значит, я был довольно давно. В конце июня. На велосипеде. Но с другой стороны. У меня там дружок. А... так, значит, вы думаете, что я отделал там какую-то хату. Так, что ли? Но вы дали маху, ей-ей, это не по моей части.
Марек, знавший, что ограбление дач действительно не Горилки, сказал:
— Ну, ладно. А теперь серьезно, Горилка. Тебе придется сказать мне, что ты делал на прошлой неделе в пятницу, эдак между десятью и двенадцатью ночи. Только постарайся припомнить все точно...
Пока Горилка усиленно вспоминал, Марек подумал, что это уж слишком невероятно, чтобы Горилка ничего не слыхал о случившемся в Красной Горке. Во-первых, об убийстве писали в газетах, а «галерка» пристально следила за черной хроникой и, во-вторых, этот парень известен своей предусмотрительностью: если где что случится, он уж заранее готовит себе алиби.
Наконец, Горилка вытащил записную книжку, в которую аккуратно вносил долги.
— Ну вот... ясно, оттого и вспомнить не мог. Так я, это самое, вкалывал, факт. С десяти вечера до трех утра...
— На вокзале?
— А где же еще? Нигде больше работы мне не найти.
— И это тебя удивляет?
Горилка слегка встревожился.
— Да нет вроде. А с другой стороны, ведь и я имею право на труд. По конституции, а?
— Послушай, — сказал Марек. — Не разыгрывай комедию. Ведь мы не первый день с тобой знакомы. Ты хорошо знаешь, что я тебя здесь дожидался не для того, чтобы поболтать о твоем праве на труд или о каких-то шмотках, которые исчезли с чьей-то дачи.
Горилка снова всполошился.
— В данный момент мне никакая другая причина не приходит в голову.
— Как же так? — настаивал на своем Марек. — Ведь ты хорошо знаешь, что случилось в прошлую пятницу в Красной Горке. Знаешь или не знаешь?
— Что-то вроде знаю. Из газет. Но вы промазали, черт побери...
— Ну, вот видишь, — удовлетворенно кивнул Марек. — Это уже получше. Вот что я тебе скажу, Горилка, мы твое алиби проверим. Хоть сто раз, если понадобится. И проверим алиби всей братии. Проверим каждого очень жестко и без всяких послаблений, если даже кому-то это и не придется по вкусу. От таких дел лучше держаться подальше, Горилка. Искренне тебя предупреждаю...
— Ясное дело, — растерянно ответил Горилка. — Но можете мне верить, я в такие дела не ввязываюсь, это факт, я в стороне.
— Это оставь на будущее. И по-доброму тебе советую: если что, имя мое и адрес тебе известны.
Горилка помрачнел:
— Послушайте, я не легавый какой, вы знаете. Но обещаю, если где заслышу про это, хоть в полночь прибегу к вам, можете мне, это самое, верить. Потому что — думайте, что хотите, — я не люблю когда убивают людей.
— Ладно, верю, — сказал Марек и достал из кармана фотографию Анны.
— Это она? — изумился Горилка, внимательно изучая фотографию, которая предназначалась для стенда выпускников гимназии.
— Это была она, — уточнил Марек. — Оставь у себя.
— Ладно, — кивнул Горилка. Он снова поглядел на фотографию, и его лицо смягчилось. — Молодая какая... в самом деле, ужасно...
— В самом деле, — кивнул Марек.
IX
Жампахова лежала навзничь, рот был полуоткрыт, сильное тело женщины корчилось в эпилептических конвульсиях. За одну руку держал ее муж, за другую — сын.
— Ну ладно, маменька... Ну ладно, — шептал молодой Жампах.
Это был один из приступов Жампаховой, которые отец и сын тщательно скрывали от окружающих. Жампах боялся, что, заикнись он хотя бы доктору Янчику о болезни жены, ее тут же отправили бы на лечение, и тогда, возможно, ему пришлось бы расстаться с местом управляющего «Романсом».
Последнему приступу Жампаховой предшествовала в общем невинная (для отношений в этой семье), совершенно пустяковая ссора. Рано утром управляющий собрался в город, где должен был получить проволочную сетку. Он приготовил трактор и за завтраком обмолвился, что не худо, если бы и Иржик поехал, помог ему погрузить товар. Жампахова тут же решительно заявила, что это неудобно и что Иржик никуда не поедет. Сам Иржик молчал, уставившись в газету, и жевал хлеб с маслом.
— А почему неудобно? — спросил скорее сам себя Жампах.
— Потому что неудобно, и все тут, — отрезала жена.
Должно быть, этот дважды повторенный сомнительный аргумент рассердил Жампаха, и он ответил, что труд еще никого не унижал и что в конце концов трудился и сам Христос.
Тут в спор вмешался Иржик, державший себя до этой минуты так, будто происходящее его вовсе не касается.
— Я охотно поеду, — сказал он, — и не вижу в этом ничего плохого.
— А ты помалкивай, — одернула его мать. — Никуда ты не поедешь. Почитай книжку либо пойди погуляй — кровинки в лице нет.
— Он здоровый малый, — заметил Жампах, взглянув на сына, который и впрямь на больного не походил. — Махнем туда и часа через два будем обратно. Надень-ка старые брюки, Иржик, или спецовку.
— Ладно.
— Ты никуда не поедешь и никакую спецовку надевать не станешь, — тихо сказала Жампахова и поднялась. — Еще чего, мой сын проедет по Красной Горке на грязном тракторе, в замаранной спецовке. Этого не хватало!
— Поеду, — повторил молодой Жампах.
Такой решительности мать от сына не ждала. Жампахова, привыкшая повелевать в семье, разнервничалась, поглядела на сына, потом на мужа. Ей показалось, что он потешается над ней. У Жампаховой кровь ударила в голову.
— Изыди, сатана! — закричала она и судорожно растопырила пальцы. Иржик выдохнул — маменька! — и, вскочив, успел подхватить ее, когда она с криком падала навзничь. Лицо ее было искажено, глаза закатились, поблескивая желтоватыми белками. Отец с сыном, прилагая все силы, уложили ее на кушетку. Она билась, издавала нечленораздельные звуки, но приступ длился недолго, она наконец ослабела и притихла.
Жампах-отец, вернувшись к столу, допил кофе и сказал:
— Лучше оставайся, Иржик, я уж как-нибудь один управлюсь.
Минуту спустя зарычал мотор трактора, Жампахова поднялась, ополоснула осунувшееся лицо, и опять все было по-прежнему. За стенами дома кричали дети, кипела жизнь — никто не мог и предположить, что в семье управляющего разыгралась небольшая частная драма, поскольку к публичным скандалам Жампахова склонностей не имела. Правда, как исключение, можно бы вспомнить один случай, который произошел много лет назад, а точнее — осенью 1947 года, в первую неделю после дня святого Павла
[17]. Его описал в своем «Дневнике деревенского учителя» тогдашний директор Красногорковской школы, человек хотя и усердный, но без фантазии.
«Сегодня после большой заутрени неожиданно перед костелом набросились замужние женщины, которыми верховодила недавно вышедшая замуж Жофия Жампахова, урожденная Матысова, на мать-одиночку Катаржину Яновскую, недавно родившую ребенка. Упомянутые женщины Катаржину Яновскую насильно «очепили»
[18], что по здешним обычаям означает наивысший срам для матери-одиночки. Местные жители в большинстве своем поступок осуждают, Яновская плакала.
Мое отношение к происшедшему:
Художественное: можно драматически обработать.
Человеческое: средневековье, инквизиция».
И явно некоторое время спустя под этим приписано: «Мы потомки», — конец фразы вычеркнут и следуют слова: «Яновская уехала».
Учитель с литературными претензиями так никогда и не вернулся к этому событию, поэтому «драматической обработки» поступок горстки фанатичек Красной Горки дожидается и поныне.
..На следующий день, в субботу, красногорковцы жили в ожидании традиционного праздника, устраиваемого здешними рыбаками и охотниками на лоне природы.
Организаторы праздника долго бились над названием этого мероприятия и после жарких дебатов сошлись наконец, на таком, очень, по их мнению, романтическом: «В лесной заводи». Этим сочетанием они как бы хотели подчеркнуть, что празднество является общим делом двух обществ — рыболовецкого и охотничьего.
Адамек отвечал за освещение сцены и за различные световые эффекты, которые должен был сопровождать своими импровизациями на электрофоническом органе Кубелка, и Кубелка твердо обещал это. Однако, встретившись с Адамеком, он заявил, что с уговором ничего не получится, ибо «кое-что спутало его планы».
Адамек нес пятикилограммовую щуку, которую ему посчастливилось поймать в мелкой речушке неподалеку от «Романса». В рыбьей пасти торчал стальной двойной крючок.
— Не ломайся, Оскар. Все приготовлено, — сказал Адамек.
— Раз сказал не могу, значит, не могу, — отрезал Кубелка. — Импровизаций не будет. Пусть там кто другой протрубит на трубе или попиликает на скрипке. Не все ли равно.
— А почему не можешь?
— Потому что отправляюсь на прогулку. Часа через два махнем с Флоришем за Краловой, ясно?
— Аничка тоже едет? — спросил с деланным равнодушием Адамек.
— Можешь быть спокоен, — сказал Кубелка. — Едет пани Кралова, Флориш и моя скромная персона.
— А кто будет завтра играть мессу?
— Директор. Я что, незаменим? — спросил Кубелка.
Адамек повел плечом.
— Мне все равно. Только нечего было обещать. Нечестно с твоей стороны. У меня рефлекторы и всякие там стекла из театра, — объяснил он, а Кубелка, почти не слушая, глядел на торпедообразное тело рыбы, обреченной на медленное умирание. Когда Адамек кончил, Кубелка сказал:
— Черт бы тебя побрал, чего ты не прикончишь эту рыбину? Ты же ее мучишь!
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Адамек. — Боишься сказать, что и Аничка едет, да? Мне-то все равно, но...
Кубелка, махнув рукой, двинулся прочь. Сиянье на щучьем теле заметно угасло.
— Постой! — крикнул Адамек.
Кубелка остановился, но не сделал ни шагу навстречу парню. Адамек с щукой на плече подошел к нему.
— Ну, правда, Оскар, скажи, едет или не едет? — повторял Адамек смущенно.
Кубелка замотал головой и снова поглядел на щуку. Адамек держал ее как-то так, что стальной тросик, идущий от крюка, впивался ей в жабры.
— Ну и душа у тебя, парень. Если бы вот кто тебе обмотал петлей горло и тянул за нее? Поганцы вы, рыбаки, это факт.
Скажи он такое Адамеку при других обстоятельствах, тот наверняка разъярился бы. Но на сей раз он и бровью не повел. Вместо того чтобы отправиться к сцене, где его ждала уйма дел, он бросил улов в погреб и пошел в пивную. Там он уселся так, чтобы видеть домик Кратены. Когда официантка подала ему вторую кружку, он заметил, как вышел пан Флориш — в светлом коверкотовом костюме, белоснежной рубахе и галстуке, — и спокойно, не торопясь, отворил двери гаража и выкатил машину. В это время появился органист костела девы Марии Снежной. Он что-то сказал Кратене — тот покачал головой. Потом они сели в машину, и бежевая «октавия» медленно и степенно проехала мимо пивной. Направлялась она не к городу, а в другую сторону — к стальному аварийному мосту, который в сорок пятом построили советские зенитчики взамен моста, разрушенного немцами; «октавия» сделала крутой поворот и через минуту показалась на холмистых извилинах над Красной Горкой.
Второй кружки Адамек не допил. Он вывел из сарая мотоцикл и как был — в майке-безрукавке, в широких замасленных брюках — выехал на гребень холма, в места, где совсем недавно объяснял Анне, как просто водить мотоцикл, а она только таинственно улыбалась, чтобы минуту спустя так же таинственно и неожиданно покинуть его.
Адамек спрятал мотоцикл за поленницей теса, а сам вошел в молодняк, окаймлявший дорогу к хутору, лег животом на мягкий пружинистый мох и, подперев подбородок ладонями, стал ждать.
Услышав вскоре шум мотора, он замигал и, упираясь руками о землю, присел на корточки, напоминая хищника, который готовится к прыжку. Через минуту он увидел то, что и хотел увидеть. Рядом с Кратеной сидела пани Кралова в белой широкополой шляпе и пестром платье с белым воротником, а позади — Кубелка, дымящий длинной сигаретой.
Анны в машине не было.
Адамек, привстав, следил за машиной, пока она не исчезла во впадине, а затем, не подходя уже к мотоциклу, побрел по лесу. Он остановился, только когда увидел меж ветвей поблескивавшую крышу краловского дома. Почувствовав себя вдруг ужасно неуверенно, он долго колебался, идти ли ему дальше.
По мере того как садилось солнце, тени удлинялись, все больше досаждали насекомые. Адамек, весь исхлестанный ветками, нерешительно кружил вокруг хутора. Наконец, решившись, он вошел во двор и внимательно огляделся. Двери на веранду были приотворены. Слабый ветер мел по двору пыль и озорничал с крапчатыми птичьими перьями.
Адамек нажал медную ручку кухонной двери — здесь было пусто, на столе, покрытом суровой скатертью, голубели в пузатенькой вазочке цветы дикого цикламена.
Тишина...
Адамек встревожился.
— Аничка, — позвал он хрипло. — Ты здесь?
На сквозняке скрипнула входная дверь. Голос Адамека, зазвучавший так гулко, будто кто крикнул в пустом костеле, потонул в молчаливой полутьме дома.
— Аничка!
Он тихо прикрыл дверь и осторожно поднялся на мансарду. Дверь в Анину светелку была настежь открыта, но того, кого Адамек искал, и здесь не было. Комната была пропитана ароматами леса,
свежего воздуха и каким-то особым запахом молока и юного девичьего тела. Испуганный и растревоженный, Адамек попятился из комнатки. Если Анны не было ни в машине, ни дома, то где же она? Желание видеть ее, быть рядом, перемолвиться с ней словом покидало его, и где-то на дне души рождалась гнетущая тоска, липкая и холодная, как смола на давно умерших деревьях.
Анна лежала на спине, над верхней губой сверкали капельки пота, рядом стоял на коленях Иржик и целовал ее глаза, полуоткрытые сухие губы, волосы, пережженные солнцем, и каждый этот поцелуй, каждое прикосновение, как раскаленное клеймо, обжигало кожу и, проникая внутрь все глубже и глубже, вызывало удивительную, отдающую во всем теле боль. И становилось так, что уже нельзя было выдержать...
Анна резко села.
— Ужасно жарко. Мне бы немножко попить.
— Ну пойдем к родничку, там воды вволю.
— Вот еще, чтоб нас кто увидел.
— Подумаешь. Мне лично до этого дела нет, — ответил Иржик. — Мне уже на все наплевать.
— И на меня?
— Как ты можешь такое говорить? Обожди здесь, я сбегаю сам. У родничка есть стакан.
— Все-то ты знаешь, — сказала Анна. — Ты чего меня все преследуешь, не даешь мне покоя?
Он отстранился от нее.
— Я схожу за водой.
— Мне уже расхотелось пить. Ну и глаза у тебя, смотри куда-нибудь в сторону.
— Какие у меня глаза?
— Чудны́е. И злые. Я иногда боюсь их. Как тогда, когда ты ждал меня там...
Он легко ладонями сдавил ей виски и запрокинул голову. Она упала в мох, словно в подушку, и сразу утонула в знакомом горьком запахе земли и трав — у нее закружилась голова, по телу разлилась обжигающая волна. Его лицо на мгновение закрыло от нее солнце, вблизи черты его расплылись и исчезли, остался опять только этот разрушительный зной, огонь, пожирающий все, — она почти теряла сознание...
Он прижался к ней и зашептал:
— Аничка... дорогая... любимая...
— Иржик... Иржик...
Это была уже не игра. Она попыталась оттолкнуть его, но тотчас смирилась и только ждала, чтобы все скорее кончилось. И он, словно слыша ее зов, стал другим, в нем пробудилось нечто незнакомое ей — какая-то властная и настойчивая сила, которой природа обеспечила себе продолжение рода людского.
— Ты в своем уме?..
И Анна, впившись пальцами в мох, закрыла глаза.
Они оставались там до сумерек. Она сидела, привалившись спиной к его груди, и терпеливо ждала, когда боль отпустит ее. Слова не шли к ней, эта странная первая любовь развеяла в ней все, чем она жила до сих пор, но то, что должно было прийти взамен, — пока не приходило.

Он спросил, о чем она думает. Она ответила, что ни о чем — просто рада, что все уже кончилось.
Он сжал ее голову ладонями, притянул к себе и поцеловал волосы. У него были узкие, сухие и тяжелые руки — ей было приятно их ощущать.
Мягкие сумерки умирали в багровом зареве. Иглы ласточек и стрижей без устали прошивали балдахин опускавшейся ночи. Летучие мыши, мохнатые шмели сновали над черным кружевом леса, внезапно пронзительно запел кулик, и его жалобный выкрик, полный болезненной тоски, заставил Анну теснее прижаться к своему любимому.
— Меня коснулась смерть, — сказала Анна, дрожа всем телом. — Удивительно.
— Что удивительно?
— Всё, всё. Всё на свете. Слышишь? Внизу играют. Тебе пора домой — обыщутся тебя.
— Почему ты так думаешь?
— Так просто. Думаю, и все...
— А что, если и тебя уже ждут. Они вернутся сегодня, да?
— Откуда я знаю, — ответила Анна. — Какое мне дело. Что сегодня, что завтра. Мне все равно. Мне так хорошо, я так счастлива... А вдруг нас кто увидит? Твоя мать не пережила бы...
— Оставь, Анна, — сказал Иржик и, склонившись к ее волосам, погрузил в них лицо, словно в живительный поток. — Ну чего ты боишься, ведь мы вместе, нас уже ничто на свете не разлучит.
Анна тихо заплакала. Она оплакивала все свои бывшие печали, и радости, и мелкие невзгоды, и пустяковые стычки с матерью, оплакивала свое девичество... А когда перестала плакать, это уже была молодая женщина, решившая защищать свое счастье, бороться за него до конца, чего бы это ни стоило.
Вместе они дошли до его дома. Она простилась с ним во дворе, подставив для поцелуя щеку.
— Ну беги, — торопила она его. — Не то твоя мать поднимет всю Горку.
Дома Анна приняла душ, долго обливалась холодной водой, докрасна терла губкой тело.
— Реву как белуга... дура какая-то, — отругала она себя, накинула на плечи короткий махровый халатик и, оставляя на полу мокрые следы, пошла в кухню. Там схватила черствую горбушку хлеба, газету и поднялась в мансарду. Растянувшись на кушетке, она развернула газету.
«Мир женщинам всего мира» — сообщалось в этой газете, так же как и то, что «стеганые одеяла из нашего и импортного материала изготовляем в кратчайший срок» и что «Hot wine» — новое высококачественное марочное вино»...
Анна сощурила глаза, мелкие буковки объявлений кружились и расплывались...
«Худ. фотограф ищет модель. Шифр: объектив».
— Ой, — ахнула она изумленно и, взяв фломастер, тщательно обвела объявление.
Газета перестала ее занимать, вместе с фломастером она положила ее на полочку в изголовье.
Сладкая истома волнами разлилась по телу. Она еще немного почитала книгу, но уже почти не воспринимала смысла слов — вместо этого навязчиво крутилась перед ней карусель сбивчивых образов, впечатлений и воспоминаний.
Она потянулась к газете, взяла ее и, свернув вчетверо, вложила в книгу.
X
Они ждали у бензоколонки, пока Жампахов трактор насытился топливом. Их машину, невыразительного серого цвета, Красная Горка хорошо уже знала и привыкла к ней.
Абсолон покашливал — погода была будто на заказ для астматиков, а вдобавок еще над всей Горкой стоял запах навозной жижи и отходов сахарной свеклы. Марек морщил нос и выглядел весьма неприветливо.
Заправившись, Жампах тщательно обтер куском промасленной тряпки цистерну своего транспорта и не спеша уселся за руль. Из выхлопной трубы вылетело облако жирного, черного дыма, и трактор направился к продовольственному магазину.
— Сидит за баранкой, как собака на заборе, — заметил Марек.
Из местного почтового отделения вышла почтальонша, тучная, судя по лицу, ворчливая женщина, в дождевике, накинутом на черную форменную пелерину, поболтала с управляющим «Романса» и направилась к площади. Жампах скрылся в магазине.
Было около десяти утра. Марек, обернувшись, глядел из-за плеча сквозь забрызганное грязью заднее стекло на все это слякотное ненастье.
— Да, — сказал он. — Потеряли мы свидетеля. Нашего единственного свидетеля, шеф. Вчера ветеринар на веки вечные усыпил Зузу. У нее была какая-то язва на носу, что ли... Срнцова теперь как помешанная...
Марек говорил правду. «Главный свидетель» расстался с жизнью — Марек услыхал об этом внизу в погребке за ужином и подумал: все-таки занятно, что собака испустила дух именно тогда, когда ею заинтересовался уголовный розыск. Он с любопытством ждал, как отнесется к этому известию Абсолон, но тот лишь проворчал:
— Еще когда я заходил к Срнцовой, псинка была уже одной ногой в могиле.
— Ну, я бы не сказал этого, — возразил Марек, вспомнив свой незадачливый визит.
У здания МНК Марек заскочил за сигаретами в табачную лавку и у входа столкнулся с почтальоншей, которая нечаянно наступила ему грязным резиновым сапогом на новый замшевый ботинок итальянского производства.
— Черт подери, — не сдержался Марек.
— Извините, — испуганно охнула женщина и вся залилась краской.
— А, ерунда. — Лицо у Марека вытянулось: в замшу въелось черное, маслянистое пятно. «Что ж, отлично начинается день», — досадливо подумал он.
В одиннадцать должен был прийти Кратена. О его отношении к Краловой кудахтали все куры в Красной Горке, однако, в отличие от первого предварительного опроса, теперь он изменил тактику — отвечал неохотно, запинался, пожимал плечами и твердил одно: я вам уже все сказал... я не помню этого...
Когда ему напомнили его прежние высказывания о том, что Анна якобы сама навлекла на себя смерть своим легкомыслием, он только поморщился и сказал:
— Мало ли что когда скажешь... А на деле выходит по-другому...
Он с опаской избегал всего, что могло хоть как-то, даже косвенно, затронуть его отношение к Аничкиной матери. Марек был убежден, что дальнейшие беседы с паном Кратеной — только потеря времени: его не заставишь говорить о том, о чем говорить он не хочет. Еще оставалась надежда, что даст показания сама Кралова — ведь кто же иной мог дать более достоверные свидетельства о последних днях жизни Анны, чем ее мать? Но когда она заговорит и заговорит ли вообще — это было неясно даже врачам. Очнувшись от шока, Кралова впала в тяжкую депрессию. Безразличная ко всему, глубоко погруженная в мрак своей истерзанной души, она проводила долгие часы, глядя в тускло освещенный квадрат окна. Врачи могли делать с ней все, что угодно, — она не противилась, ее разрыв с внешним миром был настолько полным, что она превратилась в механизм, способный лишь двигаться и каким-то образом существовать. В отделении не было человека, который не относился бы к ней с состраданием.
Кратена явился в МНК точно, минута в минуту, в белом, явно новом халате. Абсолон заговорил с ним о поездке с пани Краловой. Пан Флориш говорил медленно, тихо, магнитофонная лента непрерывно шуршала.
— Было славно... ехали прекрасно... у нее было хорошее настроение, мы болтали о том, о сем...
Послышался робкий стук в дверь, соединявшую временный кабинет следователей с канцелярией МНК. Кратена замолчал.
Марек встал и открыл дверь.
— Вас спрашивают.
— Меня?
— Кого-нибудь из вас.
Марек вышел в коридор. Облокотившись о перила, стоял Горилка и по старой тюремной привычке курил в ладонь. Увидев Марека, он притушил сигарету и опустил длинные руки вдоль тела.
— Ну и ну, — удивился Марек. — Что творится на свете...
Но тут же посерьезнел: Горилка выглядел очень озабоченным. Он протянул Мареку Аничкину фотографию.
— Вот вам фото. И еще одна вещь. Рембранту сдается, что он эту девчонку где-то видел. Сказал, что вероятней всего у Фраера. С каким-то малым была там...
У Марека чуть стиснуло сердце.
— Кто это — Рембрант? — спросил он, стараясь казаться невозмутимым.
— Как, вы его не знаете? — от души удивился Горилка и скорчил изумленную рожу.
— Не дури, будь любезен.
Горилка «был любезен», и Марек узнал, что речь идет об одном талантливом молодом художнике, который запил оттого, что сжег добрую половину своих картин.
— Он совсем рехнулся, — рассказывал Горилка. — Купил несколько бутылок вина, позвал ребят и стал все засовывать в печь — ну вы бы видели, как все пылало. Точно нефть. Масло же. По мне, так замечательные все картины, а он никого слушать не хотел и только орал — дерьмо все, мазня, ничего я не умею, ничего, я совершенный идиот, бездарь. Так вот, значит, эту девчонку он точно видел — у него на личности колоссальная память. Он сказал — н-да, эту кису я видел как-то у Фраера, была она там с одним субчиком. Рембрант, значит, жуть как разъярился, когда я сказал ему, для кого это нужно, ну, а когда я объяснил все — он успокоился. Можете мне поверить, я не треплюсь.
— Да я бы тебе этого и не советовал, — машинально ответил Марек.
Через десять минут Марек с Горилкой уже мчались в служебной машине по направлению к городу.
— У него мастерская в старом развалившемся магазине, — сказал Горилка. — Рванем напрямик по этой улице, как раз вон тот угловой дом.
Они остановились у двухэтажного ветхого дома, предназначенного, вероятно, на слом.
Горилка задубасил по заржавелым жалюзи.
— Рембрант, вставай.
В ответ ни звука.
Горилка не сдавался. Под его ударами жалюзи дрожали и дребезжали. Мертвая тишина.
— Может нет дома, а? — досадливо предположил Марек.
— Он дома, — сказал Горилка. — По замку видать. Но, должно быть, перебрал вчера лишнего, не иначе.
— А может, вот этим попробуете, — вмешался в разговор шофер и подал Мареку увесистую палку.
— Хорошая мысль, — радостно согласился Горилка и заиграл на жалюзи такую симфонию, что во втором этаже распахнулось окно и хриплый женский голос завизжал:
— Вы что себе думаете? Ведь здесь люди живут! Убирайтесь-ка, не то милицию позову...
Но в этот момент внутри раздалось наконец покашливание, и Горилка завопил:
— Черт бы тебя побрал, Рембрант, вставай!
— Отвяжись, — прозвучало в ответ.
— Рембрант, не валяй дурака. Я здесь не один, — настаивал Горилка, глядя извинительно на Марека, точно хотел сказать: ну вот, видите. Но Марек заявил коротко и ясно:
— Откройте, милиция.
Минутная тишина, потом раздалось шарканье ног.
— Может, у него там краля, — шепнул смущенно Горилка.
— Один момент, — раздалось снова за жалюзи.
Загремел ключ, раздался металлический звук, точно по каменистой дороге катилось пустое ведро, жалюзи взлетели, и Марек лицом к лицу очутился с мужчиной, щурившимся на свет отекшими глазами ночного существа, потревоженного во время спячки. Марек вытащил удостоверение и изложил цель своего прихода.
— Ага, вот о чем речь, — сказал Рембрант.
Он пригладил ладонью взъерошенные усы и пригласил войти.
В комнате пахло скипидаром и ромом.
— Хотите рому?
— Вы могли бы вспомнить точно, когда вы эту девушку видели? — сразу приступил к делу Марек.
Рембрант ополоснул лицо, вытер его суровым полотенцем, потом обмотал полотенце вокруг шеи, точно шарф, и разлил ром в жестяные кружки.
— Это было... в августе, пожалуй, да, но когда, постойте... что я мог делать у этого идиота Фраера, должно быть, я получил какие-то гроши, не иначе...
Марек вытащил фотографию Анны.
— Это точно была она?
Художник рассматривал фотографию самым внимательным образом.
— Наверняка.
— А как выглядел тот, кто был с ней?
Рембрант возвратил Мареку фотографию и отхлебнул из кружки.
— Это похуже. Но в этом малом было что-то особенное. Но что же это было?.. Что это могло быть?..
— Попробуйте его описать, пан...
— Навратил — мое имя. Но запросто можете называть меня Рембрантом, мне безразлично. Описать... Худой такой, длинный, нормальный симпатяга... да... постойте... Парень был беленький. Белоголовый, вот что. Безошибочно. У него были какие-то особые волосы. Белые, даже чуть серебристые, понимаете? Черт возьми, голова у меня сегодня тупая. Когда он к ней наклонялся, в этих волосах отражался свет из окна. Лицо... глаза... должно быть, вот так...
Художник схватил лист бумаги. Набросал лицо, потом пристально взглянул на свое творение, смял и швырнул на пол.
— Нет, не то.
Марек заметил, что этот человек рисует левой рукой. Лица рождались легко и свободно, всего несколькими штрихами черного фломастера. Марек весь напрягся в ожидании.

— Вот, пожалуй, уже похоже.
Оба наброска — лицо Анны и лицо неизвестного юноши — Марек старательно спрятал. Потом чокнулся с художником.
— Он вроде сказал, — художник кивнул в сторону Горилки, — что эту девушку кто-то убил. Это правда?
— Правда, — ответил Марек. — Пока что мы еще не знаем, кто, но думаю, скоро узнаем. Ну, до свиданья. Вы даже не представляете, как вы нам помогли. Если бы вы еще вспомнили, когда вы их видели...
— Сегодня, должно быть, это не получится, но вообще-то вспомню, — сказал художник.— Я тогда наверняка получил какие-то гроши, а со мной это не часто случается.
Марек довез Горилку до самого «Виадука».
— Ты платил за автобус? — спросил Марек.
— Мелочь, — проворчал Горилка.
— Вот деньги, и спасибо тебе.
Горилка заморгал глазами:
— Я, пан лейтенант, тронут. Уж мне-то есть что вспомнить, но чтоб фараон сказал мне спасибо, такого еще не бывало.
— Давай получай поскорее штамп в паспорте, — напомнил ему деловито Марек.
— Это ясно. В последнее время воздух сквозь решетку мне не на пользу.
Марек заехал в уголовный розыск и просмотрел целую гору фотографий. Но ни одна из них и отдаленно не соответствовала наброску, сделанному художником. Его первоначальный пыл несколько поостыл, особенно когда он подумал, что речь может идти о чистой случайности: ведь в том, что Рембрант видел Анну в обществе мужчины, — даже если он и не ошибается — еще ничего особенного не было. И все-таки Мареку хотелось бы отыскать человека, лицо которого глядело на него с рисунка, хотелось бы поговорить с ним...
— Беленький... беленький... — повторял механически Марек, возвращаясь в Красную Горку.
Их машина въехала в деревню вслед за грузовиком, из кузова которого сыпалась угольная пыль. Вокруг костела грустно кружили вороны. Грузовик, угодив в лужу, обрызгал их лобовое стекло грязью. Водитель резко затормозил, машина едва не забуксовала. Когда они остановились перед ресторанчиком, башенные часы отбили половину второго. Марек невольно взглянул на свои — они показывали на одну минуту больше. Из погребка доносились запах пивных бочек и звяканье бутылок.
Марек взял с заднего сиденья папку. Вороны пронзительно кричали, косым полетом опускаясь на ольховые кроны, нависшие над рекой. Моросить перестало, Красная Горка оделась в кокон седого тумана. За мостом показалась группа женщин, они без умолку болтали, и Марек поставил бы тысячу против одного, что говорили они о чем угодно, только не о том, что случилось с Анной Краловой. Первый испуг прошел, и мелкие, повседневные дела заслонили случившееся.
Марек уже входил в здание МНК, когда у табачной лавки показался Адамек. Он нес моток провода с красной изоляцией, а через плечо у него болталась сумка из выворотки. Заметив Марека, он тотчас пересек шоссе, изобразив на лице полное безразличие. «Этому так же приятно видеть меня, как волос в супе», — подумал Марек.
Вдруг ему пришла в голову шальная мысль. Вместо того чтобы войти в здание, он быстро припустил за Адамеком и, нагнав его у костела, непривычным для себя любезным тоном сказал:
— Можно вас на минутку, пан Адамек.
Адамек остановился и, полуобернувшись, поглядел на Марека.
— Знаете, — сказал Марек, — у меня тут один рисуночек есть. Взгляните-ка, никого случайно он вам не напоминает?
И он протянул Адамеку четвертушку бумаги, которую получил от Рембранта.
— Не знаете, кто это мог быть?
— Ясное дело, — проворчал Адамек.
— Что «ясное дело»?
— Ну что — это Жампахов Иржик. То есть мог бы быть он, — поправился он.
Марек замер.
— В самом деле? Вы не ошибаетесь? Он действительно так выглядит?
— Ну, думаю, это мог бы быть Иржик. А может, и еще кто другой. Ведь есть же похожие на него, не так ли? Если бы это было цветное...
— А почему — цветное?
— Ну, ясное дело, потому что молодой Жампах белобрысый, — ответил равнодушно Адамек и поправил ремень сумки.
— Ну да, в самом деле, — произнес Марек так спокойно, как только мог. — Ну, спасибо вам.
— Не за что.
Едва Адамек скрылся из глаз, как внутри Марека бешено заработал какой-то мотор.
— Я идиот, — ругал он себя, — какой же я круглый идиот, нет такого второго на свете!
Вместо того чтобы отправиться к Абсолону, Марек бросился на почту. В его голове носился целый рой мыслей. Дрожа от возбуждения, он попытался собрать воедино все, что знал о молодом Жампахе, но это были какие-то крохи. Он знал лишь, что парень учится где-то в семинарии, и это в представлении Марека было столь же экзотичным, как изучение моллюсков в Индийском океане. И вдруг...
Даже открывая двери местной почты, он все еще ругал себя последними словами.
Почта в Красной Горке помещалась в двухэтажном кирпичном домике, по здешним возможностям, весьма запущенном и унылом. Помещение насквозь пропахло плесенью и канцелярским клеем, штемпельной краской и особым, не поддающимся определению запахом тихих деревенских почт с фанерными перегородками, залепленными официальными определениями и рекламами типа «Храните деньги в сберегательной кассе» или «Объединенное страхование имущества — в каждую семью»...
Поскольку в Красную Горку не проложена железная дорога, почта приходит из районного центра в закрытой черной машине марки «робур». Затем та же машина развозит почту по окружным селам, лишенным собственного почтового отделения.
Местный почтмейстер, педантичный и усердный служака старой закалки, руководит двумя почтальонами и одной административной единицей в лице девицы Поуповой, до того пропитавшейся штемпельной краской и клеем, что так и осталась в безбрачии.
Что же касается доставки почты на пять хуторов, примыкающих к Красной Горке, то практика такова: почтальоны оставляют письма в местной табачной лавке, где они при случае востребуются получателем. Это относится и к домовладельцам: почта не обязана доставлять корреспонденцию в постоянно действующие «зоны отдыха», как официально именуются дома, заменившие временные летние постройки. Неприятности у красногорковской почты были только однажды, и то не по ее вине. Некий молодой субъект получил по аккредитиву дважды по четыреста крон, а впоследствии выяснилось, что бумаги были поддельные.
Такова, стало быть, местная почта — тихое, спокойное, организованное и мерно функционирующее учреждение. И однако же ей суждено было оказаться втянутой в события, которые в уголовном розыске значились под кратким названием: «Убийство Анны Краловой».
Вот почему Марек, возвратившись с почтамта, оперся ладонями о стол, за которым сидел Абсолон, и заявил ему с плохо скрываемым волнением:
— Думаю, шеф, я кое-что уже знаю...
XI
— Я быстро все улажу, — сказал Анне молодой Жампах. — Я все уже обдумал.
— Даже трудно представить, как все будет, — вздохнула Анна. — Главное, твоя мать. Она с ума сойдет.
Был вечер. Гладь реки блестела, точно расплавленное олово. Тихо подрагивали ольхи, склонявшие свои лохматые кроны над крутым подмытым берегом, средь зарослей камыша безмятежно проплывали дикие утки, похожие на лодочки из сосновой коры.
— Не сойдет, — возразил Иржик. — Все это какая-то несусветная чушь. Сам не знаю, что на меня напало тогда. Характер у меня чудной. Тебе хочется в медицину?
Анна повела плечами:
— Скорее не хочется. Знаешь, мне никогда не хотелось учиться. Мне хотелось быть кем-нибудь совсем-совсем другим.
— Кем же?
— Отгадай. Можешь три раза.
Когда она в упор поглядела на гладь воды, лицо у нее осветилось, и молодой Жампах невольно сжал ей руку.
— Откуда мне знать.
— Ну, попробуй, отгадай, — настаивала Анна. — Что бы мне больше всего подходило?
— Тебе все идет, — ответил Иржик. — Художницей хотела быть или кем? Скажи сама.
Анна недовольно надула губы.
— Вовсе и не художницей. Продавщицей, если хочешь знать. Правда. Тебе странно, да? Я бы хотела быть цветочницей. В самом деле, я ужасно люблю цветы. Еще когда была вот такусенькая (Анна показала, какая она была тогда), тащила в дом что попало. Хоть крапиву. Было бы здорово. Кругом одни цветы — тюльпаны, нарциссы, гвоздики...
— И я знаю, что буду делать, — сказал молодой Жампах. — Буду водить грузовик на какой-нибудь стройке. Мне это нравится. Только там, к сожалению, не продают цветов.
Анна задумалась.
— Ну, это не самое страшное. Я поеду с тобой, — сказала она просто, как о деле решенном. — Буду продавщицей хотя бы в буфете, мне что. Ведь есть буфеты на стройках?
Иржик обнял ее за плечи.
— Ты просто чудо.
Анна молчала. Тихая гладь реки порой чуть рябила, там-сям всплеснется серебристо-белое тельце рыбешки, и опять замрет тишина. Лиловели сумерки, густели тени.
— Мне страшно, когда я подумаю, что с нами будет, — чуть погодя проговорила Анна. — Сама не знаю, почему. Может глупо, но это так. Какая-то тоска меня гложет. А отчего? Ведь я не такая уж неженка. Конечно, Горка на дыбы встанет, сплетен, пересудов не оберешься. Все это не так просто, как тебе кажется.
— Не волнуйся, Аничка, — сказал Иржи тихо. — Когда-нибудь вспомним с тобой обо всем и посмеемся. Отец будет на моей стороне, я знаю. Мама тоже смирится, у нее не будет другого выхода. Мне всегда хотелось ее порадовать, нелегкая у нее была жизнь, это точно. Я все продумаю, ты не волнуйся. Вместе нам ничего не страшно. Потом они еще приедут к нам, вот увидишь. Я твердо решил, — убеждал он Анну в какой раз, словно опасаясь, что она не очень верит ему.
— Думаешь, где-то есть такое местечко, о каком ты говоришь? — с сомнением спросила она.
— Ну сама посуди. Строят плотины, цементные заводы, газопроводы — нас, где хочешь, возьмут.
Анна вспомнила, что и Адамек недавно говорил ей то же самое: уеду, мол, куда-нибудь, плюну на Горку... нравится жизнь за баранкой.
— Почему ты думаешь, что нас всюду возьмут? — спросила она. Снова в ней росла неуверенность: нет, то, о чем говорил молодой Жампах, не казалось ей простым. «Легко ли, — подумала она, — собраться и уйти?»
— Потому что мы молоды и не боимся работы, — в который уж раз объяснял ей Иржик, — хочу быть рядом с тобой, а что буду делать — не все ли равно. Ну скажи, чего ты боишься? Выбрось все из головы, не думай об этом. Может, ты не хочешь?
— Я не сказала этого.
— Тогда чего ты боишься?
— Всего.
— Как всего? И меня?
— И тебя. Ну, мне пора.
— Постой, — выдохнул молодой Жампах и порывисто сжал ее за плечи. Ей стало даже больно. — Что ты имеешь в виду?
— Пусти меня, мне больно, — Анна высвободилась. Перед глазами мелькнуло бледное, в сумерках причудливо расплывчатое лицо Иржика.
— Что ты хочешь этим сказать? — настойчиво спрашивал он. Голос его показался ей чужим, незнакомым, и снова ее охватил страх. «Поскорей бы домой», — подумала она.
— Я тебя еще мало знаю, — сказала она, стараясь говорить как можно более беспечным, примирительным тоном. — Ну, пусти меня наконец. Пусти, слышишь, не то разозлюсь.
Он отпустил ее. Она потерла ладонью плечо.
— Ты никогда так не говори, прошу тебя, никогда не говори так, — твердил ей в самое ухо молодой Жампах. — Обещай мне.
— Обещаю, — сказала Анна послушно. — Но сейчас мне и вправду пора. Понимать все же надо.
— Обожди еще минуту. Сигарету выкурю.
— Ну хорошо. Только одну.
Она смотрела, как он прикуривал. Рука со спичкой дрожала, потом огонек описал полукруг и погас на речной глади.
«Что его так расстроило? — подумала она. — Скажешь ему слово, а он уже трясется весь». Анна подумала о всей его прежней жизни, полной переломов и внезапных решений. Она смотрела на него и почему-то вспоминала лицо его матери, эту застывшую маску со злыми глазами, которые всегда пугали ее.
Пока он курил, они молчали, и Анне казалось, что это длится целую вечность. В голове мелькали образы и обрывки мыслей, но одно оставалось неизменным и неотступно преследовало ее. Это был страх, предчувствие чего-то плохого, и в болезненном беспокойстве она начинала понимать, что, верно, совершила ошибку, так внезапно войдя в судьбу Иржика.
— Ну, мне пора, — она поднялась, и тут же вскочил Иржик. Он резко отбросил сигарету и, прежде чем она успела опомниться, схватил ее за руку и притянул к себе — она почувствовала его горячее дыхание, отдающее табачным перегаром.
— Анна, — шептал он порывисто, — Аничка... Я никогда не отступлюсь от тебя, понимаешь? Ты... ты все разбила во мне, все уничтожила, ты не посмеешь бросить меня. Анна, ты слышишь? Я за себя не ручаюсь... я бы тебя...
— Отпусти же наконец мои руки, — сказала Анна. Страх прошел, его сменило тупое равнодушие.
— Ну, что бы ты сделал? Договаривай... убил бы меня?
Он отпустил ее руки.
— Убил бы меня, да? Ты это хотел сказать? Ты просто псих, Иржик. Пойди выспись. Завтра я прийти не могу, только послезавтра, ладно? Как всегда — наверху.
— Хорошо, — удрученно сказал молодой Жампах. — Пройдусь с тобой немного. До опушки.
— Нет, — возразила Анна. — Сегодня ты злющий. Не строй из себя нахала, ведь ты совершенно другой. Ну, привет.
«Во что я только ввязалась? — корила она себя дорогой, правда, уже без всякого страха. — Опять бог знает что накрутила, а теперь раскручивай». Снова пришли в голову слова Иржика и почти такие же слова молодого Адамека. «Психи ненормальные эти ребята, — решила она. — Поедем на стройку... на плотину. Ну, а потом?.. Пойду-ка я к Карелу, этот хотя бы не пугает меня. Прокачусь за милую душу...» И она уже представила себе, как появится в Красной Горке и скажет: «Привет, Карлик, я была долго тебе не верна, это факт. А теперь нажми на педаль и трогай». И как только Анна усядется на заднее сиденье, Адамек нажмет на педаль «лучшего четырехтактного мотоцикла на свете», и резко хлестнет ее по лицу ветер, и телеграфные столбы запоют, словно флейты. И весь мир превратится в одну расплывчато-многоцветную полосу. Ни прошлого не будет, ни настоящего, все свернется в единое мимолетное мгновение, в единую минуту головокружительного счастья. Анна крикнет: «Ну, давай жми, быстрей, быстрей!» — и слова ее сольются в единый звук, который растает в дробном эхе среди безразличных к смерти скал, взирающих на мир глазами вечности.
Двор хутора заливал яркий свет лампы, вокруг которой бешено кружился рой золотых, светящихся мушек. Мать, склонившись у завалинки, подкладывала под порог веранды хвойные ветки — ее черная, резко обозначенная тень походила на пятно разлитой туши. Выпрямившись, она чуть пошатнулась, и то же движение послушно повторила ее тень.
Поправляя волосы, мать повернулась, и Анне стал виден профиль ее исхудавшего лица, попавшего в единственный во тьме конус переливчатого света.
«Почему мы так одиноки? — подумала Анна, стоя в некотором отдалении от дома, точно ноги перестали ей повиноваться. — Почему мы так ужасно одиноки?» Она видела мать, странно сгорбившуюся и сиротливую, и боль стиснула ее сердце. Анна почувствовала себя бесконечно виноватой перед матерью.
«Ведь только я у нее, а она у меня...» Она поняла, что чем дольше затянется то, что их разделяет, тем дальше они отойдут друг от друга, и в конце концов жизнь в доме станет для обеих невыносимой. С каждым неуверенным шагом, приближавшим ее к дому, это ощущение вины росло и росло, пока наконец не заглушило все, что до сих пор ее мучило.
Когда она вслед за матерью вошла в комнату, мать снова была за работой. Должно быть, она и не слыхала, как Анна вошла, — она сидела у стола и перебирала рис. Мелкие зернышки шелестели и, позвякивая, падали в жестяную миску. «Или сейчас, или никогда. Все будет хорошо, все снова будет хорошо, — твердила про себя Анна, — надо только начать».
— Мамонька, — выдавила она из себя.
Она произнесла это слово почти что тихо-тихо, но мать услыхала его. Звуки падавших зернышек на миг прекратились, и Анне показалось, будто в эту минуту по дому разлилась такая тишина, что стало даже слышно биение собственного сердца.
— В чем дело? — спросила мать, не оборачиваясь. — Что случилось?
Анна почувствовала невероятную слабость, она еле доплелась до кушетки и, не в состоянии что-либо вымолвить, свернулась клубочком, прикрыла глаза ладонями. Кралова оставила свое занятие и подошла к дочери. Подсев к ней, взяла ее за плечи.
— Ну, что случилось, Аничка... что с тобой?
Анна расплакалась.
XII
— Как мы только могли забыть об этом парне — уму непостижимо, — сказал Марек.
— Не переживайте, — успокаивал его Абсолон. — Очередь и до него дошла бы. Раньше, позже, а дошла бы. Порой и мельница угрозыска мелет помаленьку да потихоньку, но зато наверняка. И еще одно, чтобы не забыть, вы молодчага, Марек.
Марек невольно вспыхнул. Такие слова он слышал от Абсолона, пожалуй, впервые. Он быстро сказал:
— Вы помните, я говорил, что во всем этом, должно быть, кроется типичная наша безалаберщина. Так оно и вышло. Письмо Иржика Жампаха — ключ к смерти Анны Краловой. Мы должны найти его во что бы то ни стало. Хоть весь дом вверх дном перевернем. И только потом займемся молодым человеком.
Марек вытащил блокнот, и из него на стол перекочевал список заказных писем, которые пришли в Красную Горку в день, занимавший следователей.
— Письмо найдем, но, очевидно, его придется искать где-то в другом месте, не в доме Краловых. Вот взгляните.
Абсолон посмотрел на графу: подпись получателя.
— Гудцова... или Годцова... Кто это?
— Это подпись продавщицы в табачном киоске, — объяснил Марек. — В этом-то и вся безалаберщина. С какой стати почтальонше топать на хутор? Она отдаст заказное письмо киоскерше, и дело с концом. И вот случается то, что случилось. У табачного киоска останавливается некая особа и спрашивает, не пришло ли ей письмо. Нет, отвечает киоскерша, тут есть только одно письмо для Анички Краловой. Давайте, я передам его, говорит эта пани. Киоскерша вручает ей письмо и еще предупреждает при этом: «Не забудьте только, оно заказное». И эта особа, имя которой Жампахова, кивает, оглядывает конверт и по почерку видит, что письмо писал ее сын.
— Или по обратному адресу, — предположил Абсолон. — Это письмо действительно взяла Жампахова?
— Да. Но на обратный адрес я особую ставку не делаю, он мог бы быть и вымышленным. Почта ведь не устанавливает тождественности отправителя — там можете написать, что вам вздумается, а молодой человек, вероятно, не такой уж идиот, чтобы объявлять на всю Красную Горку, что он переписывается с одной местной девицей. Не следует забывать, о ком идет речь. Но как бы то ни было, достоверно одно — письмо попало в руки Жампаховой. Я вообще-то совсем не уверен, что Аничка видела его или читала. Письмо скорей всего следует искать в доме у Жампахов.
Абсолон молчал. Потом отстранил листок с перечнем писем одним пальцем, будто коснулся чего-то омерзительного, и прохрипел:
— Собака.
— Что вы сказали? — недоуменно спросил Марек.
— Ничего, — ответил майор растерянно. — Я просто кое-что вспомнил. Пожалуй, вы правы, Марек, — добавил он. — Я бы этих баб в бараний рог скрутил. Руки-ноги им бы перебить.
— Вы будто мои мысли читаете, — сказал Марек. — Я тоже думаю, что отсюда все и началось. Не случись этого, все развивалось бы совершенно иначе. Если бы... а, к чему все эти «если бы». Знаю, вы такое не любите слушать, но что поделаешь. Не трудно представить себе, как Жампахову занимало это письмо. Пожалуй, лучше всего вообще нигде ничего не искать, а отправиться прямо к ней и спросить, как, собственно, обстоит дело с этим письмом. Что вы на это скажете?
— Это, пожалуй, самое разумное, — согласился Абсолон. — Этой пани все равно придется нам кое-что объяснить.
Но объяснить ей ничего не пришлось. Когда оба следователя появились в «Романсе», они застали Жампаха, как обычно, за работой. Он лежал под трактором, а снаружи торчали только ноги.
Марек присел на корточки.
— Где ваша хозяйка? — спросил он, в то время как откуда-то из утробы машины доносились тихие ругательства и проклятия. — Слышите, пан Жампах?
— Дьявольщина... черт побери...
Потом показалась отвертка, точно копье, и наконец голова со взъерошенным пухом волос и черной масляной полосой поперек лба.
— Это вы?
— Где ваша жена, пан Жампах? — принуждая себя говорить спокойно, снова спросил Марек.
— А, вот оно что. Ее нету, — сказал управляющий. — Позавчера к сестре уехала. Та служит на одной фаре
[19]... служит, это самое, кухаркой...
— Где это? — прервал его Марек.
Жампах ответил, и Абсолон, молчавший до этой минуты, спросил:
— Она ездит к ней часто?
— Как для кого, — проворчал Жампах. — По мне так даже слишком часто. А в чем, собственно, дело, случилось что?
— Ничего, — поспешил ответить Марек. — Нам надо спросить ее кой о чем...
Минуту спустя машина с обоими следователями уже переваливалась по раскисшей дороге, удаляясь от Красной Горки.
— Сразу к ней? — спросил Марек. — Это недалеко. Часа через два там будем.
— Идет, — согласился Абсолон. — Только позвоню в отделение. Выпейте пока внизу кофе.
Когда они затормозили у здания МНК, на мгновение выплыло из разорванных туч солнце и осветило лицо Абсолона. В этот коротенький миг майор показался Мареку бесконечно усталым. «Да, он уже всем сыт по горло, — подумал Марек. — Эта работка его изматывает, видать по всему». Марек вскочил и предупредительно, из какого-то внезапного внутреннего побуждения, открыл дверцу машины.
— Может, следовало бы... — сказал Марек, но договорить не успел — рядом с ним неожиданно вырос человек в белом халате с таким же белым, помертвевшим лицом.
— Прошу вас...
— Что такое? — раздраженно спросил Марек.
Это был Кубелка. Трясущимися руками он беспокойно рылся в карманах халата.
— Прошу вас... пойдемте со мной... побыстрей только...
Он повел их в дом Кратены, точнее во двор дома, к гаражу.
— Там...
Марек почуял слабый, пощипывающий запах выхлопных газов, Кубелка повернул выключатель. Резкий свет упал на бежевый купол автомобиля и нарисовал на стене силуэт человека, поникшего на сиденье. Марек взглянул на посиневшее, одутловатое лицо, потом протянул руку к векам умершего.
— Когда вы его нашли?
— Только что.
На заднем сиденье что-то белело. Абсолон открыл дверцу и осторожно взял два конверта, лежавшие там, будто большие мертвые бабочки. Это были такие же конверты, какие совсем недавно покупала в писчебумажном магазине Анна Кралова — продолговатые с золотым ободком.
Один из них был запечатан, и на нем выведено: «После моей смерти вручить пани Анежке Краловой». В другом, открытом, торчал лист бумаги. Дальнозоркий Абсолон прищурил глаза.
«К смерти Анички не имею никакого отношения», — было написано на этом листочке большими четкими буквами. Далее следовала такая же разборчивая подпись.
Абсолон взглянул на Кубелку.
— Я, пожалуй, знаю, почему это случилось, — сказал Кубелка.
В тот же день прокурор подверг предварительному заключению Жофию Жампахову, домашнюю хозяйку и сезонную подсобную кухарку по вполне обоснованному подозрению в убийстве Анны Краловой. Первое торопливое признание Жампахова сделала еще на фаре, куда за ней приехали. Она написала его в присутствии своей сестры и местного молодого священника, которого, видимо, приезд следователей ничуть не удивил: едва они показались в дверях, как он тотчас пригласил их войти (хотя они ему даже не представились) и сказал:
— Вон там, пожалуйста, она ждет вас...
Она начала писать, но вдруг рука у нее словно одеревенела. Блуждающим взглядом она озиралась по комнате, пока глаза не остановились на открытом окне, где в ящичке рдели последним умирающим цветом пеларгонии и ветер слегка раздувал белую занавеску. Священник наклонился к ней и тихо сказал:
— Только спокойствие. Будьте мужественны и пишите.
По дороге в тюрьму она не произнесла ни слова. Как и всем, ей тоже пришлось пройти приемный церемониал — ее сфотографировали, вымыли и одели в костюм светло-кофейного цвета, отдававший дезинфекцией. В этом одеянии она походила на смертельно усталую, до времени состарившуюся крестьянку, которая по недомыслию запуталась в том, что было превыше ее понимания.
Когда за ней захлопнулись двери камеры, она села на койку, скрестила руки и так, оцепенев и безучастно уставившись в стену, провела ночь.

Почти так же проводила все свое время и вторая ее жертва — мать Анны Краловой.
Да и оба следователя не предавались веселью. Они сознавали, что во всей этой трагедии коренится что-то глубоко бессмысленное, противоестественное и темное.
Как бы уже начиная с необъяснимого решения молодого Жампаха поступить в семинарию (у сына, по-видимому, не было и следа от материнского нрава) и кончая самой смертью Анны, тянулась какая-то петлистая дорожка, по которой проходили судьбы сына и матери и куда игрой жестокого случая забрела эта девушка.
Несколько дней спустя следователи снова наведались в Красную Горку, чтобы на месте, указанном Жампаховой, найти единственное доказательство, которое помимо признания имелось у них, — петлю. На петле были обнаружены микроскопические следы кожной ткани Анны Краловой. А за образом богородицы — дешевой лубочной картинки, изображавшей божью матерь с розовощеким младенцем на руках, — было найдено письмо, которого до этого времени никто, кроме Жампаховой, не читал. Автор письма сообщал Анне, что его решение оставить семинарию неизменно и что Анна — он твердо в это верит — также сдержит свое слово и последует за ним. Из строк, полных горячей мечты, можно было понять, что молодой Жампах искренне любит Анну, — и, пожалуй, только это письмо и было единственным лучом света во всей этой трагедии, но, к великому сожалению, оно попало в недобрые руки.
В письме была фраза: «Мама, должно быть, уже что-то чувствует». В этом Иржик не ошибался. Жампахова признавалась, что заметила перемену в поведении сына, но что это «могло зайти так далеко» — она не предполагала.
Ее чудовищное решение убить действительно было вызвано этим письмом. Когда она прочла его, жизнь Анны имела для нее не большую цену, чем жизнь мухи, — с этой минуты она рассуждала совершенно хладнокровно. Когда муж уснул (не без помощи порошка в бузиновом отваре), она ушла и, подстерегая жертву, битый час коченела в каменоломне, сжигаемая ненавистью, слепой, как и ее вера, усиленной еще и решением покончить с собственной жизнью. Возможно, она и поступила бы так, если бы вслед за тем, как на горле возвращавшейся и ничего не подозревавшей Анны затянулась петля, не раздались чьи-то быстрые шаги. Жампахова скрылась в лесу и из того, что последовало за этим, почти ничего не помнила. Когда возвратилась домой — тоже не знала.
В первую минуту, когда ее муж неожиданно обнаружил у дома мертвую Анну, она усмотрела в этом «перст божий» и решила было во всем признаться. Почему не сделала этого — она также не могла бы объяснить. С петлей в кармане она смотрела, как увозят Анну, потом взяла щетку и принялась за уборку.
То, чем жила Жампахова последние дни, не был страх перед наказанием или желание как-то замести следы. Она жила, погруженная в какую-то бездонную тьму. Жизнь для нее потеряла всякий смысл. И случилось это в ту самую минуту, когда Жампахова открыла роковое письмо. Она продолжала дышать, двигаться, не решаясь пока покончить с этими остатками жизни и дожидаясь «наития сверху», как ей быть дальше.
Это «наитие» снизошло совершенно неожиданно — в образе священника, у которого служила сестра.
На следующий день после приезда к ним Жампахова работала в саду. Вдруг она заметила, что в двух-трех шагах от нее клумба начала подозрительно пучиться. Догадавшись, в чем дело, она тихо подошла и подняла мотыгу.
В этот момент в сад вошел священник и так и застиг ее — неподвижную,
напряженную, с мотыгой над головой. Прежде чем он успел вымолвить слово, перед глазами у него блеснуло острие, и на клумбу вылетело окровавленное, скорчившееся тельце крота, с бархатной шубки которого осыпались комочки земли.
— Что вы делаете! — вскричал священник. — Зачем убиваете, женщина?!
И будто ударом молнии к Жампаховой все возвратилось. Она упала на клумбу, а когда чуть опамятовалась, попросила священника исповедать ее. Ничего не понимая, священник отвел ее в костел, и там, окруженная холодным безлюдьем, среди гипсовых святых и мучеников веры, во имя которой совершила убийство, она во всем призналась.
Прошел год. За это время в Красной Горке многое изменилось. В ней и за ее пределами. Уехал Кубелка, а из-за опустевшего домика Кратены упорно судятся упомянутые и неупомянутые в завещании наследники. Молодой Жампах исполнил то, что когда-то обещал своей любимой, — уехал туда, куда хотел отправиться с ней. Эдак месяц спустя его разыскал там отец. Ездят они вместе. Отец и сын — грузчик и шофер, а поскольку это место далеко от Красной Горки, то оба они, по сути дела, люди без прошлого.
Тихо и пустынно стало на хуторе Краловых. Чтобы никто не растащил его, МНК распорядился забить окна неструганными досками, а в двери ввинтить кованые петли.
Печальный дом, как, впрочем, и всякое покинутое строение с заколоченными окнами.
Край птичьих гнезд.
Примечания
1
Группа, занятая расследованием убийств
(англ.) — здесь и далее прим. перев.
(обратно)
2
Спиртовой раствор для растирки.
(обратно)
3
Известный чешский писатель (1851—1930 гг.).
(обратно)
4
Местный национальный комитет
(Орган власти в ЧССР, примерный аналог существовавших в Советском Союзе Советов народных депутатов. Местный комитет по уровню соответствует сельсовету в СССР. – Пояснение Tiger’а.)
(обратно)
5
Чешский композитор эпохи Моцарта.
(обратно)
6
Гора, место паломничества в Чехии.
(обратно)
7
Средство от пота.
(обратно)
8
Дом священника.
(обратно)
9
Kral
(чеш.) — король.
(обратно)
10
Srnec
(чеш.) — самец серны.
(обратно)
11
Единый сельскохозяйственный кооператив.
(обратно)
12
Марка трактора чехословацкого производства.
(обратно)
13
Апельсиновый напиток.
(обратно)
14
Американская марка мощного четырехтактного мотоцикла.
(обратно)
15
С духом святым
(лат.).
(обратно)
16
Учредительная грамота чешского короля Карла IV по поводу основания Пражского университета (1348 г.).
(обратно)
17
16 октября.
(обратно)
18
То есть надели чепец — принадлежность туалета замужней женщины.
(обратно)
19
Дом священника.
(обратно)
Оглавление
Иржи Кршенек
Петля
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
*** Примечания ***