Остроумова-Лебедева А.П
Автобиографические записки.
Том III

Том III
I.
1916–1918 годы
В 1916 году Николай Ильич Романов, директор Московского Румянцевского музея, организовал выставку моих гравюр в Москве
[1].
В 1911 году кем-то (я точно не помню) была устроена выставка моих гравюр в Петербурге. Гравюры демонстрировались в двух больших залах — листов около шестидесяти. Выставка не была замечена. Печатные отзывы об этой выставке мне на глаза не попадались
[2].
В связи с выставкой в Москве между мною и Н.И. Романовым возникла оживленная деловая дружеская переписка. Одно из моих писем, в котором я по его просьбе пишу о граверном искусстве, он передал в архив Румянцевского музея
[3].
На этой выставке было 96 моих гравюр. Я ее не видела, но мои московские друзья, посетившие выставку, рассказывали, что она была устроена с большим вниманием и вкусом.
Кроме моих вещей, Н.И. Романов выставил на девяти отдельных щитах гравюры иностранных художников различных школ, подобрав гравюры в хронологическом порядке. Выставляя иностранную гравюру, Н.И. Романов знакомил посетителей выставки с краткой историей развития гравюры. Кроме того, он хотел показать, какие гравюрные школы влияли на формирование моего искусства. Он издал каталог этой выставки с пояснительным текстом и восьмью гравюрами. В нем он поместил выдержки из моего письма, в котором я высказываю мои мысли о гравюре. Они следующие:
«Я ценю в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, ее немногословие и благодаря этому сугубую остроту и выразительность. Ценю в деревянной гравюре беспощадную определенность и четкость ее линий. Контур ее линий не может быть расплывчатым, неопределенным, смягченным. Край линии обусловливается острым краем вырезанного дерева и не смягчается, как в офорте, вытравлением водкой, то есть случайностью, а остается резким, определенным и чистым. Сама техника не допускает поправок, и потому в деревянной гравюре нет места сомнениям и колебаниям. Что вырезано, то и остается четким и ясным. Спрятать, замазать, затереть в гравюре нельзя. Туманностей нет.
А как прекрасен бег инструмента по твердому дереву! Доска так отшлифована, что кажется бархатной, и на этой блестящей золотой поверхности острый резец стремительно бежит, и вся работа художника — удержать его в границах своей воли! Из-под блестящего кончика резца вылетают с мягким хрустением маленькие золотые стружки и щекочут глаза и губы.
Прекрасен момент, когда после трудной и медленной работы, связанной с непрестанным напряженным вниманием — не сделать промаха, — вы накатываете валиком краску, и все линии, оставленные вами на доске, начинают блестеть черной краской, и вдруг на доске выявляется рисунок.
Я всегда жалела, что после такого блестящего расцвета гравюры, какой был в XVI, XVII веках, это искусство стало хиреть, сделалось служебным, ремесленным! И я всегда мечтала дать ему свободу!»

Выставка имела большой успех. Я рассказываю подробно о ней потому, что это было впервые в России, когда просвещенный искусствовед, каким был Николай Ильич Романов, оценил мое граверное искусство.
Заграничные музеи в то время уже приобретали мои гравюры: Римский музей в 1911 году, Люксембургский музей в Париже — в 1905 году, музеи в Праге и Дрездене — в 1905 году и Фридрихский музей в Берлине (года не помню). У нас в России никто не торопился иметь их для музейных собраний. В Академии художеств, по словам Н.И. Романова, находился случайный оттиск какой-то гравюры. В Русском музее имелось несколько моих гравюр, но в нем отсутствовал графический отдел, так же как и в Третьяковской галерее.
Об этом мне не раз говорил Валентин Александрович Серов, выражая сожаление, что они не могут приобрести мои гравюры для Третьяковской галереи…
[4]
* * *
7 апреля 1916 года я получила письмо от директора Русского музея Дмитрия Ивановича Толстого следующего содержания:
«Милостивая государыня
Анна Петровна!
Художественный отдел Русского музея с текущего года приступил к собиранию коллекции русской графики (в оригиналах, оригинальных оттисках и репродукциях), и начало этому собиранию положено приобретением существенной части коллекции покойного Евгения Николаевича Тевяшева.
Вопросы, возникающие в связи с образованием новой коллекции в Музее, нуждаются в дальнейшем обсуждении, и я имею честь обратиться к Вам с просьбой не отказать в Вашем ценном содействии Музею в этом его начинании.
Долгом считаю прибавить, что Музей очень желал бы иметь в означенной коллекции Ваши работы и Вы очень облегчили бы его задачу, если бы нашли возможным переговорить с заведующим Художественным отделом П.И. Нерадовским, прислать для осмотра в Музей на летние месяцы сего года те Ваши произведения, которыми Вы располагаете в настоящее время. Очень желательно было бы получить Ваши работы в оригинальных оттисках и репродукциях, а также список, если Вы признаете возможным составить его, — всех Ваших произведений по графике с указанием названия, даты и местонахождения.
Прошу Вас принять уверение в совершенном уважении и преданности.
Д.И. Толстой».
Таким образом, из этого письма становится известным, когда было положено начало Графическому отделу в Государственном Русском музее
[5].
* * *
Приблизительно в эти же годы я вырезала гравюру в красках на 4 досках, изображавшую виллу д’Эсте — главную аллею с видом на дворец, сделанную для большого издания «Сады и парки» В.Я. Курбатова. Эта гравюра была помещена как фронтиспис. К сожалению, 4 доски этой гравюры не были мне возвращены издательством. Они пропали, и у меня осталось только несколько пробных оттисков моего печатания. Кроме этой гравюры, в издании было помещено несколько снимков с моих итальянских акварелей
[6].
Зимою 1916 года я вырезала одну из самых больших моих гравюр: «Дворец Бирона и барки» (37x50 см). Резала я ее на двух досках — одна деревянная, другая линолеумная. Изобразила вид на Малую Неву с Тучкова моста в сторону Биржевого моста.
Мне хотелось в ней передать суровость надвигавшейся зимы, когда холод как будто стремится сковать бег полноводной реки, когда тонкий ледок, запорошенный снегом, растет вокруг барок и шхун, когда середина реки еще свободна, но тяжело и медленно течет. Небо покрыто мрачными тучами. Так и кажется, что пойдет снег или холодный, безнадежный дождь. Небо и суда отражаются в темной воде. Несмотря на всю мрачность и печаль этой картины, мне хотелось передать величавость и строгую красоту моего дорогого города.
Печатать эту гравюру мне одной было не по силам. Помогал Сергей Васильевич (он мне иногда печатал, имея, как химик, ловкие и осторожные руки) и наш большой друг Вадим Никандрович Верховский, тоже химик.
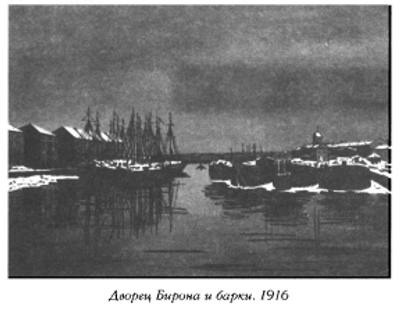
В свободные для них дни мы начинали печатать с утра и, проработав до вечера, получали только три оттиска. Я подбирала тона и накатывала их на доску (самая ответственная и творческая часть печатания), а мои помощники терли гладилками по наложенной бумаге. Приходилось несколько раз подымать то одну часть бумаги, то другую, чтобы прикатать на доску еще краски, усиливая ее тон или изменяя его. В то же время надо было соблюдать большую осторожность. Легко можно было сдвинуть бумагу и получить бракованный оттиск, что и бывало не раз.
Участвовала на очередной выставке «Мира искусства». Я не любила выставлять, не любила давать свои вещи на критику чужих, часто совершенно равнодушных к искусству людей. Но я считала полезным и совершенно необходимым ежегодно выставлять свои работы. Это был отчет о сделанном за год
[7].
Кроме того, при сравнении с вещами других художников нагляднее выступали свои недостатки. Дома я их часто не замечала, а на выставке они мне кололи глаза. Да и легче было там проводить строгую оценку своим вещам. И хотя это было не очень-то приятно, но я сознавала пользу такой самокритики.
Участие на выставке также являлось нередко энергичным стимулом к дальнейшему развитию и к новым достижениям. Одним словом — надо выставлять. В последние годы многие мои акварели, особенно виды Италии, Голландии, Бельгии, Испании, отошли от графического раскрашенного рисунка и приобрели характер самодовлеющей акварельной живописи.
В прошлом, 1914 году я и мои товарищи как-то проходили по нашей выставке, подробно осматривая картины
[8]. Когда мы подошли к моим вещам, я попросила разобрать и раскритиковать их.
«Зачем вам это? Ведь вы, Анна Петровна, мастер. Зачем мы будем вас учить?» Эти слова были неожиданны и взволновали меня.
Теперь я «мастер», думала я. Значит, довольно мне искать поддержки, искать опоры. Пришло мне время учить других. А твердости и определенности своих путей я внутренне не ощущала. Все мое искусство казалось мне таким шатким, неопределенным, полным исканий.
В акварельной живописи я главным образом стремилась к синтезу вещей и дальше — к обобщению. В то время моя техника невольно соответствовала моему внутреннему стремлению и становилась широкой и свободной. Может быть, даже излишне свободной, как показал следующий год.
А в следующем году выставленный мною ряд видов Баку и нефтяных промыслов заслужил упрек в печати. В отчете о выставке, напечатанном в газете «Речь», упоминая обо мне, критик порицал мою слишком вольную и размашистую технику
[9].
Труден путь художника, думала я, ой как труден! А без трудностей он не был бы так увлекателен… Надо работать, работать!
* * *
В начале 1917 года Сергей Васильевич был назначен профессором Военно-медицинской академии.
Это повлекло переезд с нашей комфортабельной и светлой квартиры на Васильевский остров в другую, очень большую, но всю затененную высокими деревьями. С трудом нашла светлое окно, перед которым я могла работать
[10].
Я радовалась, что мы будем продолжать жить за Невой, далеко от центра. Куда ни пойдешь в город, каждый раз надо переходить нашу красавицу Неву.
* * *
Два лета подряд мы ездили на кавказское побережье в живописное уединенное местечко Ольгинское. Оно лежало в тридцати километрах от Туапсе в сторону Новороссийска.
Взяли с собой нашего бульдожку Бобби. Он нас забавлял в дороге. В вагоне он целый день сидел на столе перед окном и с невероятным вниманием наблюдал за пролетающим дымом, мелькающими верстовыми столбами, за всем, что так быстро двигалось в окне. На остановках много детей да и взрослых собиралось перед окном посмотреть на забавного важного бульдога.
Приехав в Туапсе, мы наняли открытый фаэтон, запряженный тройкой лошадей. Бобби, в возбуждении от окружающей незнакомой обстановки, не хотел спокойно лежать в ногах или сидеть рядом с нами. Он предпочитал в экипаже стоять на задних лапах, передними опираясь на облучок, и смотреть вперед.
Ямщик, усаживаясь на свое место и увидев так близко от себя бульдожью морду, со страхом заметил: «Ну и образина же какая! Просто страсть смотреть».
Первое лето в Ольгинском прошло для меня бесплодно
[11]. Это со мной случилось чуть ли не первый раз в жизни. Я ничего не работала. Пейзаж был мне как-то не по душе. Он не зажигал меня, не увлекал на работу.
Берег Черного моря был крутой и отвесный. Внизу тянулась береговая полоса, усыпанная крупными угловатыми камнями, упавшими сверху. Пляж — не для купания. Наверху стоял домик, в котором мы жили, окруженный деревьями и виноградником.
В полуверсте от него, вверху, проходило шоссе, а за ним поднимались горы, покрытые густым лесом. Ползучие растения заплетали деревья, и так густо, что не везде можно было войти в лес. Нередко встречались огромные мертвые деревья, до макушки окутанные паразитирующими растениями…
В траве попадались нам во множестве пресмыкающиеся: черепахи и ящерицы-желтопузики.
Сергей Васильевич воспользовался фундаментом недостроенной террасы и наносил туда десятка полтора черепах. Нам интересно было наблюдать их нравы и сноровки. С удивлением услышали мы, как черепахи издавали звуки, похожие на легкий свист. Они пресмешно дрались между собой. Становились на задние лапы и ударяли друг друга своими твердыми панцирями.
Часто наталкивались и на желтопузиков. Идешь, бывало, по дорожке и видишь, как он впереди неуклюже ползет. Это пресмыкающееся — просто-напросто крупная ящерица, предки которой постепенно утеряли ноги. Она напоминает змею, но не имеет змеиной ловкости, гибкости и быстроты. Длиною она с метр, а то и больше.
Мы в Ольгинском вели тихий деревенский образ жизни: работали на винограднике, собирали орехи и грибы.
Вносили разнообразие частые и чрезвычайно сильные грозы. Они налетали вдруг, совершенно неожиданно. Гром неистово грохотал. Молнии ослепляли. Бешеный вихрь, как ураган, гнул и ломал деревья. Ливень, падая сплошной стеной, казалось, собирался затопить все кругом. А через каких-нибудь двадцать минут грозы как не бывало. Солнце уже опять ярко светило и жарко пекло. И теплый пар поднимался с земли.
В то лето два вражеских броненосца «Гебен» и «Бреслау» не раз проходили вдоль кавказского берега
[12]. Они стреляли по Туапсе и по береговым селениям. Когда они подходили близко к Ольгинскому, хозяйка нашего пансиона просила нас уходить и прятаться в большой впадине, тянувшейся за домом.
Впервые я видела стреляющее судно. Броненосцы были выкрашены в светло-серую краску. Вдруг появлялось пламя, и судно слегка подпрыгивало, как бы вздрагивая. И только через несколько мгновений долетал до нас гул выстрела орудия.
На следующее лето мы опять ездили в Ольгинское. И что странно, в этот наш приезд я вдруг поняла красоту окружающей природы, ее стиль и характер. Не теряя времени, принялась за работу с обычной жадностью и страстью. Оттуда я привезла много материала, по которому зимой сделала несколько вещей: «Кавказский пейзаж весной», «Закат в горах» и др.
В дождь и жару, когда трудно было работать на воздухе, я резала гравюру «Снасти». Рисунок этой гравюры я сделала в Петербурге осенью. Целая стая финских лайб на Васильевском острове сгрудилась на Малой Неве у набережной. Паруса на судах были свернуты, дрова выгружены. Они тесно стояли друг к другу, и казалось, что их снасти и реи так спутались, так сплелись, что никогда суда не смогут разойтись. Гравюра резана на двух досках, вторая доска — линолеумная. Еще сделала большую гравюру на линолеуме «Декоративный пейзаж». Взяла задачу создать гравюру, широко, плакатно трактующую крымский пейзаж
[13].

* * *
Произошла Февральская революция 1917 года. Монархический строй был уничтожен.
23 марта были похороны жертв революции. Весь город вышел на улицы проводить погибших борцов за свободу. Произошли грандиозные демонстрации.

Много часов мы пробыли на улицах. Я все время рисовала среди толпы, движущейся бесконечным потоком. Сделала семь подкрашенных рисунков. Они разошлись по частным собраниям. 1 мая набросала акварель идущих с музыкой учеников. Она попала в собрание Ф.Ф. Нотгафта
[14].
В один из этих дней я и Сергей Васильевич зашли за А.Н. Бенуа, жившим тогда на 1-й линии, недалеко от нас. Мы решили пойти вместе посмотреть на город, улицы, движение на них, на пожары, вспыхивавшие в разных концах города.
Проходя к Николаевскому мосту по 3-й линии, вдоль чугунной решетки садика Академии художеств, мы в темноте (город был без света) встретили какого-то высокого гражданина. Увидев Бенуа и узнав его, он сердечно с ним поздоровался: «А, Шура. Это ты!»
Александр Николаевич нас познакомил. Услышав мою фамилию, «незнакомец» вдруг горячо меня обнял и поцеловал, воскликнув: «Поздравляю вас. Вы будете первая наша женщина-академик».
Это был конференц-секретарь Академии художеств Валериан Порфирьевич Лобойков
[15]. Можно себе представить мое удивление и от неожиданности, и от странной обстановки, при которой я это узнала. Несколько времени спустя мне рассказали об этом более подробно.
Осенью 1916 года действительные члены Академии художеств: Евграф Евграфович Рейтерн, Владимир Егорович Маковский и Петр Иванович Нерадовский — на одном из заседаний Академии художеств предложили меня в кандидаты на звание академика. Когда это заявление стало известно всему собранию действительных членов Академии художеств, то проведение женщины в действительные члены академии вызвало у многих сильный протест.
Этот вопрос дебатировался довольно долго, и на заседании 30 января 1917 года решен был благоприятно, особенно после доклада почетного члена Академии художеств П.Ю. Сюзора, убедившего присутствующих в юридической законности присвоения женщинам звания академика.
После этого решения были выдвинуты и другие женщины-художницы в кандидаты на звание академика: З.Е. Серебрякова, О.Л. Делла-Вос-Кардовская и Шнейдер
[16]. Решено было устроить баллотировку на заседании в октябре 1917 года.
Но оно не состоялось, и заседание 30 января 1917 года было последним.
В 1917 году в апреле месяце я пережила большое горе: умер мой дорогой, незабвенный учитель Василий Васильевич Матэ. Тяжела была потеря и для Академии художеств, и для всего нашего искусства.
Отношение Василия Васильевича ко мне было самое дружеское и теплое. Спасибо ему за то, что, взяв меня к себе в ученики после ссоры моей с Репиным в 1899 году, он дал свободу резать, как я хочу, позволил по-новому работать над гравюрой и не мешал отвергать и нарушать традиции и навыки прежней тоновой репродукционной гравюры. Он поверил мне и понял искренность молодых самонадеянных попыток и стремлений создать новую, самодовлеющую художественную гравюру, как черную, так и цветную.
После моего окончания Академии художеств Василий Васильевич продолжал внимательно следить за моей работой.
Василий Васильевич Матэ до самой смерти оставался искренним другом всего творчески талантливого. Все тянулись к нему. Все знали, что найдут в нем внимательного, отзывчивого наставника и друга, который даст им объективный и доброжелательный совет. Теперь он нас покинул.
* * *
В 1917 году я дала на выставку «Мира искусства» четыре гравюры: «Дворец Бирона и барки», «Большую Венецию» и «Декоративный пейзаж». Все три большого размера и четвертую маленькую — «Книжный знак А. Коленского». Несколько видов города Каркассонна, большое полотно «Паруса». Взяла момент, когда много парусных судов около Тучкова моста после сильного ливня сушат свои развернутые паруса
[17].
Участвовала на выставке этюдов, послав на нее семь подкрашенных рисунков: манифестация 23 марта и 1 мая, восемь акварельных этюдов черноморского побережья и другие
[18].
* * *
Большие события совершались в стране!
Наконец произошла наша долгожданная Великая Октябрьская социалистическая революция!
Свобода! Свобода!
Радостно жить, когда в душе кипят светлые надежды на лучшую, более счастливую жизнь. Глубокая радость охватила нас. Вся страна кипела. В Петрограде улицы были полны взволнованным народом. Часто проезжали грузовики и легковые машины с вооруженными людьми. Куда-то шли войска. Дома не сиделось. Хотелось слиться с людским потоком, пережить те же чувства радости и надежды на светлое будущее, как и весь народ.
Работала я много. Старалась не терять ни одного часа. Мне думалось — надо работать для нашего будущего. Делать вклад в культуру моего народа. Все мои друзья-художники были в подъеме, бодры, энергичны и усиленно работали.
* * *
В 1917 году зимой ко мне пришел с письмом от моей сестры Н.Н. Купреянов, еще совсем молодой начинающий художник
[19]. Он хотел, чтобы я познакомила его с техникой деревянной гравюры. Я с удовольствием с ним занималась, скоро заметив, с какой энергией и целеустремленностью он принялся за работу. Приходил каждый день и работал до позднего вечера.
Купреянов был тогда моим единственным учеником-гравером, кроме В.Д. Фалилеева, с которым я занималась в 1905 году. В первых же гравюрах стал проявляться у Купреянова оригинальный, самобытный талант. Я ему не навязывала ничего своего, стремясь только облегчить усвоение граверной техники.

Одними из первых гравюр его, как мне сейчас вспоминается, были «Ломовик с телегой» на фоне городского пейзажа и пейзаж «Ветряная мельница, радуга и корова». Трактовка предметов и пейзажа была груба, тяжеловесна, лапидарна. Но в то же время в ней были сила, выразительность и элементы эпического. Это был большой граверный талант, интересный своей самобытностью. Через несколько лет он переехал жить в Москву. Изредка привозил мне показать свои работы (не гравюры). По ним было видно, как он бурно переживал увлечения всякими крайними течениями в искусстве, как он путался в них. При просмотре его вещей у меня с ним возникали споры, доходившие до ссор. Я его жестоко упрекала за то, что он бросил гравюру, так блестяще им начатую. Я поняла, что в своем граверном искусстве он кем — то в Москве был сбит с толку. Потом я много лет его не видела, и только на юбилейной выставке в Ленинграде, в 1932 году, мы возобновили наше знакомство. Он выступал тогда как законченный и талантливый художник многими хорошими вещами, но не гравюрами
[20].
* * *
В 1918 году мы никуда на лето не уезжали. Сергей Васильевич решил развести огород. Питание наше в то время было очень скудно. Он потратил много энергии и настойчивости, чтобы выхлопотать себе, своим сотрудникам по кафедре и младшим служащим одно пустопорожнее место недалеко от Финляндского вокзала. На огороде я и Сергей Васильевич все делали сами, без посторонней помощи. Пришлось очищать место от щебня, кирпича и всякого строительного мусора. Сергей Васильевич вскапывал и сколачивал гряды. Я мотыгой разбивала и мельчила землю, мочила семена, давала им прорасти и сеяла. Осенью сняли с наших гряд 66 пудов овощей. Вели дневники нашей огородной работы.
Мы очень увлекались огородом. Как весело было приходить на него! Сразу было видно, хорошо или плохо чувствуют себя наши произрастания. Взглянешь на репу, а она стоит взъерошенная. Листья дыбом подняты к небу, точно взывают о помощи. Польешь ее, посыплешь листья золой (средство от огородной блошки), и через какой-нибудь час-другой смотришь — листья ее расправились, опустились и плотно прижались к земле. Сразу видно, что репа довольна и благодушествует вовсю. Она у нас выросла замечательная. Точно прекрасно выпеченные круглые булки, весила по семь фунтов каждая. Ее у нас взяли в Москву на Сельскохозяйственную выставку. Четыре года мы работали на огороде, и природа щедро награждала нас. И чем внимательнее и заботливее мы относились к нашему огороду, тем более процветали наши овощи.
В одно из четырех лет на огороде у нас неожиданно выросла свекла с необыкновенно красивой ботвой. Огромные гофрированные листья роскошными кустами раскинулись на гряде. Окраска их была великолепна: от тонов зеленых всех оттенков, темно-малиновых, лиловых и синих до сине-зеленых с металлическим отливом. Стебли листьев ярко-малиновые.
Потом мы узнали, что нам случайно попали семена декоративной свеклы. Ею украшают за границей загородные сады и парки. Я так восхищалась красотой листьев этой свеклы, что решила написать большой натюрморт. Работала с увлечением и подъемом. Писала его маслом. И этот натюрморт я считаю моей лучшей живописной вещью из всех мною сделанных. Я изобразила на нем большую плетеную корзину с ручкой. В ней разнообразные овощи и сноп роскошных листьев свеклы.
Корзина стоит на моем рабочем столе, на нем тоже лежат овощи, фоном служит большая холщовая драпировка в красных узеньких полосках. Она отдернута в сторону, образуя широкие складки. За нею справа видна Нева, небо и здания. Картина большого размера. Написана в широкой манере.
Я не знаю судьбы этой вещи, мною ценимой. Она была на выставке в Москве в 1934 году
[21]. Вскоре после смерти Сергея Васильевича я получила из Москвы предложение ее продать. Находясь в состоянии полного душевного равнодушия и безразличия, я дала согласие на ее продажу и не поинтересовалась даже, кто ее купил. И только много времени спустя я узнала, что ее приобрел Нарпит.
Устраивая в 1940 году свою персональную выставку
[22], я хотела ее выставить. Приложила огромные усилия, чтобы ее в Москве найти. Но поиски мои пропали даром. Нарпит давно был реорганизован, и где она находится, осталось неизвестным.
* * *
Петроград за эти годы очень изменился. Не стало видно богатых, роскошных экипажей. Исчезла толпа сытых фланирующих людей. Улицы опустели, и город, который раньше был виден как бы до колен, встал во весь свой рост. Бывало, прежде, рисуя его, ждешь иногда несколько минут, когда пройдет вереница людей и даст возможность определить линию основания здания, колонны, памятника или горизонт над рекой. Сейчас совсем свободно.

Я и Сергей Васильевич с большой любовью неутомимо исходили наш город в свободное после интенсивной работы время. Куда-куда мы не забирались! В какие окраины, какие глухие места не заходили. Теперь от этих мест и следа не осталось. Город после Великой Октябрьской социалистической революции неудержимо рос и развивался, особенно на окраинах, бесследно поглощая их…
Вспоминаю одну из наших прогулок. Мы забрались в конец Песочной улицы, по обе стороны которой шли большие дачи с мезонинами, все темно-коричневого традиционного цвета. Террасы их были с разноцветными стеклами. Великолепные столетние липы стояли вдоль улицы и вокруг дач. Они были краса этих мест. По берегу Карповки, протекавшей слева, росли развесистые ивы, а склоны к воде были покрыты, особенно весной, ковром цветов.
Пройдя до конца Песочную улицу, мы попадали в обширный запущенный парк Вольфа. Дорожки в нем заросли, но следы парковых украшений и затей сохранились. Через ручейки переброшены крутые живописные мостики. Стояла полуразрушенная беседка. Встречались здесь и там гранитные опрокинутые пьедесталы от статуй, ваз и другой садовой скульптуры.
Недалеко от входа, параллельно Карповке, возвышался желтый каменный обширный дом. Архитектура его была претенциозна, в стиле ложной готики. Он был запущен, и в нем, кроме старика сторожа, никто не жил. Все кругом было пустынно, заброшено, и на всем уже лежала печать близкого уничтожения. А местоположение этого парка было прекрасно — на мысу между двух рек. Сейчас там находится трамвайный парк и лесопильный завод имени М.И. Калинина.

Еще упомяну прогулку на «Уткину дачу». Ее мы проделывали не раз, хотя она была еще дальше и на другом конце города, за Охтой. На трамвае мы доезжали до Охтинского моста. Кстати, при имени этого моста я вспоминаю, как в 1908–1909 годах ко мне приехал военный инженер Кривошеин, один из строителей Охтинского моста. Его привез знакомый молодой архитектор Н.М. Осипов
[23]. Он просил меня украсить акварелью проект моста. Кривошеин должен был представить его на просмотр и утверждение. Я сделала на нем голубое небо с облаками, траву и другие пейзажные детали.
От Охтинского моста мы шли по бесконечному Новочеркасскому проспекту вдоль реки Большая Охта, вверх против течения. Многочисленные заводы, расположенные по берегу, загораживали нам ее. Дойдя до небольшой речки Оккервиль, впадающей в реку Большая Охта, мы переходили мост через эту речку, и здесь была цель нашей прогулки. На самом мысу, образуемом этими реками, стоял загородный каменный двухэтажный дом, носивший название «Уткина дача».

Этот дом нас привлекал своей прекрасной архитектурой и тем, что строитель его (оставшийся до сих пор неизвестным) очень талантливо согласовал свою постройку с планом и условиями места.
Постройка сильно выдвинута углом на стрелку, образуемую реками. Этот угол был центром фасада дома и представлял открытую полукруглую ротонду с четырьмя колоннами и круглой, широкой каменной лестницей. С обеих сторон ротонды под углом, параллельно рекам, тянулись стены дома. Ротонду прикрывал плоский купол. Каменные низкие надворные постройки полуциркулем окружали большой двор. Весь архитектурный ансамбль был удивительно красив и гармоничен, и рассматривать его было большое наслаждение. Почему она носила название «Уткина дача», нам осталось неясно. Кому она принадлежала? Кем построена? Когда мы пытались это выяснить, мы получали очень неопределенные и разноречивые сведения
{1}.
Пробирались мы также по берегу речки Смоленки до ее конца, заходили на остров Голодай, ныне остров Декабристов. Ходили на Гутуевский, Канонерский острова. Бродили по остаткам Екатерингофского парка. Обошли пешком все острова. На Петровском острове, дойдя до места, где когда-то был небольшой Петровский дворец, каждый раз сожалели о его случайной гибели. Он сгорел в 1912 году, но я видела его еще в целости. Он был деревянный, темно-коричневого цвета и по характеру изящный и легкий.
Мы очень любили архитектуру и не уставая любовались ее высокими образцами.
Так проводили время мы летом последние четыре года. Никуда не уезжали, бродили по городу и работали на огороде. Я, конечно, много рисовала город, имея всегда около себя моего неизменного спутника. Зимой совсем другое, мы работали каждый в своей области, не мешая друг другу.
За 1918 годя сделала целый ряд акварелей Петербурга. Не буду перечислять всех акварелей (их около 35), а упомяну только те, которые были приобретены музеями. Третьяковской галереей: «Вид с Сампсониевского моста», «Ветреный вечер», «Марсово поле и памятник Суворову»
[24]. Русским музеем: «Вид из лаборатории ранней весной», «Внутренний дворик», «Статуя в Летнем саду». Государственным музеем Армении: акварель «Дворик ранней весной».
Многие из моих работ этого года попали в частные собрания: Е.М. Португалова, Н.Л. Алярдиной, И.И. Рыбакова, И.Е. Иозефовича, композитора А.Н. Глазунова, Е.Н. Николаи, О.И. Мгеброва и др.
Вспоминаю, как однажды поздно вечером приехал к нам с нашим другом В.Н. Аргутинским один англичанин, по фамилии Брус. Он на следующий день уезжал из России с женой и ребенком. А женат он был на нашей талантливой балерине — пленительной Тамаре Платоновне Карсавиной. Он ее и ребенка увозил навсегда к себе в Англию. А чтобы она не скучала по своей родине, он решил приобрести несколько моих акварельных видов Петербурга
[25]. Много раз и подолгу я работала в лаборатории Сергея Васильевича. Ее большие окна выходили на Неву. Мне было удобно там работать. Особенно я любила дни ледохода, когда ладожский лед шел по Неве к морю. Между плывущими льдинами вода была гладкая, зеркальная, и в ней отражались набережная, дворцы, крепость.
Какими разными по настроению были весенний ледоход и осенний ледостав! Если весной ледоход — радостный, с блеском солнца по краям льдин, с летающими чайками над рекой, сулил тепло и радость возрождающейся природы, то осенний ледостав обыкновенно проходил под тяжелым, мрачным небом, в холодные, темные, печальные дни.
В те годы, в годы Гражданской войны, было голодно, было холодно, но мы не унывали. Не хватало дров. Заморозив всю квартиру, забирались в одну комнату. Сергей Васильевич с большой стойкостью и энергией, несмотря на отсутствие в лаборатории газа и дров, продолжал вести занятия со студентами, не потеряв для работы ни одного дня. Со своей исследовательской работой ему было труднее. Из-за отсутствия тока в академии, с разрешения заведующего лабораторией фильтро-озонной станции, он поставил там два термостата, и ему приходилось два-три раза в день ходить туда, чтобы проверять их работу.
* * *
Осенью 1918 года я получила предложение взять на себя преподавание на художественном факультете в Институте фотографии и фототехники. Я с радостью согласилась, так как стремилась в те дни участвовать в общественной работе
[26].
Этот институт формировался вновь. Во главе его стоял А.А. Поповицкий, по образованию химик. Деканом художественного факультета был сначала назначен Владимир Яковлевич Курбатов, читавший лекции по истории искусств. Задача художественного факультета была развить вкус, поднять культуру профессионалов-фотографов и достичь того, чтобы ремесло фотографа стало большим фотографическим искусством. Развивали вкус и умение снимать портрет одного лица, группировки нескольких лиц, группировку масс. Учили фотографировать живописные художественные произведения. В программу факультета входило также ознакомление студентов с художественными произведениями искусства, посещение музеев.
Среди учащихся художественного факультета с самого начала сплотилась группа молодых фотографов, больших энтузиастов, которые с чрезвычайной энергией и увлечением стремились к художественному развитию и образованию.
Вспоминаю очень привлекательную и талантливую чету Я.М. и А.Д. Черновых, Е.С. Иоаниди, К.Г. Бессонова, К.Н. Фролова, мою племянницу Н.Е. Морозову, А.А. Хотеновского, Кириллова и др.
[27] Я с увлечением занималась с ними, а они верили в мое желание передать им мои познания и развить их вкус.
28 октября 1918 года совет Высшего института фотографии и фототехники избрал меня единогласно профессором живописи и композиции.
Вскоре меня выбрали деканом художественного факультета. Приняв эти обязанности, я должна была заняться административной и хозяйственной работой. Я решила разгрузить свои часы преподавания, да и программу факультета пришлось несколько расширить против первоначальной. Пригласила для преподавания в институте художников Г. Верейского, В. Белкина
[28], Н. Купреянова, В. Замирайло.
Условия занятий в те годы были очень тяжелы. Вследствие нетопленых помещений всем приходилось работать в шубах и студентам по очереди бегать на кухню за теплой водой, чтобы разводить в ней краски. Вода и краски замерзали на палитре. Было и голодно. Иногда на целый день выдавали только по кусочку хлеба. Частенько в городе не было света.
Улицы безлюдны. Шагаешь, бывало, после целого дня работы, в темноте, посредине улицы, все прямо вперед, никуда не сворачивая. Институт находился в конце Кабинетской улицы недалеко от Звенигородской. Иногда на ходу так погрузишься в свои мысли, что не заметишь, как ты попала на Литейный проспект. За спиной мешок с сушеной воблой и пшеном. А настроение, несмотря ни на что, хорошее, бодрое. Ходили со студентами в Музей Старого Петербурга, в Эрмитаж, в Русский музей. Ездила с ними экскурсией на несколько дней в Псков. Хорошо помню эту поездку. Ко дню отъезда В.Я. Курбатов — руководитель этой экскурсии — заболел, и мне пришлось неожиданно взять на себя его обязанности. Из преподавателей никто не поехал.
Сергей Васильевич, видя мою озабоченность и сознавая мое затруднительное положение, решил ехать с нами и помочь мне.
В Пскове мы провели несколько дней. Выехали вечером 14 сентября 1920 года, а вернулись 18-го. Всех участников экскурсии было 26 человек.
Дни прошли оживленно, полные художественных впечатлений. Помог мне вести экскурсию местный руководитель и искусствовед тов. Тихвинский, уроженец Пскова и знаток его архитектуры. В первый день мы осмотрели церкви: Спасо-Преображенскую, Никольскую, Михаила Архангела и др. Все виденные нами церкви отличались простотой линий, большими плоскостями и скромностью внешних украшений. Видели и любовались целым рядом интереснейших зданий. Прошли к обрыву над слиянием рек Псковы и Великой. О, какой широкий вид! Наш русский, родной пейзаж! Там мы пробыли до темноты. Утром на следующий день осмотрели здание Поганкиных палат и в них выставку картин, гравюр и замечательных икон.
Днем, переправившись в двух лодках на другой берег реки Великой, мы побывали в старинном Спасо-Мирожском монастыре. Осмотрели фрески, относящиеся к XII веку. По своим композициям и по яркости красок они являлись интереснейшими памятниками древнерусской иконописи, мы выслушали от руководителя экскурсии историю их возникновения и технические приемы написания их.
В тот же день, под руководством художника-фотографа Ларионова, осмотрели церковь в Залужье, место, где при проведении земляного вала Петр Великий засыпал церковь. Затем мы пошли к мельнице с плотиной и дальше по холмам, откуда открывался прекрасный вид на Запсковье. По дороге осмотрели старинное здание Солодежни.
В последний день товарищ Тихвинский повел нас по берегу реки Великой, и мы осмотрели второй монастырь и церковь, а в них очень редкое и интересное собрание икон
[29]. Потом прошли на мельницу и там отдыхали, а я работала.
Надо сказать, что работы мои в Пскове были неудачны
[30]. Не было возможности сосредоточиться — и от многолюдства, и от всяких забот и хлопот. Экскурсионная база переживала какой-то внутренний кризис. Отвели нам под ночлег большое мрачное помещение с деревянными узкими скамьями. Ученики мои откуда-то с торжеством принесли для меня крошечный диванчик. Но, несмотря на отсутствие минимального комфорта, мы все, включая и Сергея Васильевича, бодро, весело и с величайшим интересом провели эти дни.
Хочу упомянуть об одном маленьком комическом случае, происшедшем с нами в Пскове. Мы где-то должны были перейти довольно широкую, но мелкую речку или просто какую-то запруду. Воды было недостаточно, чтобы утонуть, но выкупаться в ней можно было с успехом. Через реку были переброшены мостки, где в одну, где в две доски.
Сергей Васильевич первым пошел по мосткам, а остальные двадцать пять человек гуськом потянулись за ним. Как раз в это время на другой стороне появился откуда-то козел, который направился к мосткам и зашагал по ним. Сергей Васильевич стал кричать, махать на него и пугать, желая прогнать козла с мостков. Но козел упрямо шел вперед. Их встреча нос к носу произошла как раз на середине реки. Все остановились, ожидая разрешения конфликта. Сергей Васильевич продолжал на него махать, кричать, да и мы ему помогали. Козел только тряс бородой и норовил боднуть противника. Сергей Васильевич начал неудержимо хохотать, отбиваясь от козла, того и гляди, что сам от хохота свалится с мостков. Мы все тоже громко смеялись. И чем же кончилось? Мы все должны были сойти с мостков и пропустить козла. Причем я вспоминаю, что все-таки кого-то из экскурсантов угораздило свалиться в воду.
После возвращения в Петербург мы составили большого размера альбом снимков, сделанных во время пребывания в Пскове. В нем мы поместили три акварели видов Пскова, сделанные мною, Н. Морозовой и М. Котихиной, и 34 фотографии, из них, к сожалению, только 19 архитектурных мотивов. На отдельном вкладном листе был написан краткий текст о нашем пребывании в Пскове, причем он был каллиграфически исполнен художником В.Д. Замирайло.
Я проработала в институте три года, и при мне был первый выпуск студентов художественного факультета. Многие дипломные работы были превосходны, особенно хороши были фотографии у Черновых. Как сейчас вспоминаю портреты художника В.Д. Замирайло, профессора В.Я. Курбатова, поэта Юрия Верховского
[31].
Я с радостью видела, что моя работа со студентами не пропала даром. После окончания института многие из моих бывших учеников поддерживали со мною дружеские отношения, навещали меня и приносили показать свои новые работы.
Ноябрь 1944 г.
II.
1919–1923 годы
В 1919 году была открыта Первая государственная свободная выставка картин. Она была огромна, в ней участвовало 290 авторов и выставлено было 1078 произведений. Помещалась она на втором этаже во Дворце искусств (Зимний дворец).
На этой выставке было одиннадцать следующих художественных организаций: 1) «Союз молодежи», 2) «Товарищество передвижных выставок», 3) «Мир искусства», 4) «Общество имени Куинджи», 5) «Община художников», 6) Товарищество «Независимых», 7) «Петроградское общество художников», 8) «Петроградское товарищество художников», 9) «Общество взаимного вспомоществования русских художников», 10) «Художественно-промышленное общество», 11) «Союз скульпторов-художников».
Я дала на эту выставку двенадцать акварелей
[32].
Вся выставка в целом производила сумбурное и путаное впечатление. Обойдя один, два зала, я начинала чувствовать огромную усталость.

Такое количество обществ с разными художественными течениями, тенденциями совершенно путало и сбивало зрителя с толку. Часто были вывешены лозунги и манифесты какого-нибудь общества. Они, казалось, должны были бы помочь понять задачи его, но, напротив, они еще больше запутывали зрителя, так как разобраться в них не было возможности при всем желании.
Сплошное заумничанье или пустая фразеология без положительного внутреннего содержания. Я много раз побывала на этой выставке. Добросовестно старалась понять и усвоить все особенности и странности крайних художественных течений. Мне иногда думалось: «Может быть, им принадлежит будущее?»
Эти новые течения в искусстве (я говорю об изобразительном искусстве) появились в Европе и у нас во второй половине XIX столетия.
Попробую их кратко перечислить, не вдаваясь в подробности, как сумею.
Самым ранним, как мне кажется, был импрессионизм, открывший новые блестящие области в изобразительном искусстве. Он внес свет, воздух, новые краски, звучный колорит.
К нему близко примыкал пуантилизм, или неореализм, который отличался от импрессионизма
только внешней формой техники.
Основателем импрессионизма считался художник Эдуард Мане. Его ближайшие соратники были Сислей, Моне, Ренуар, Писсарро, Дега и другие.
Много минут наслаждения и радости доставили мне эти превосходные художники!
Когда я училась в Академии художеств, в общих классах, в те годы (точно не помню) в Петербурге была выставка французов и на ней — вещи итальянского художника-пейзажиста Сегантини, пуантилиста.
Будучи в полном восхищении от его картин, я принялась, наивно подражая ему, писать натурщиков в этой манере. Разлагала тон тела на основные, яркие краски, нанося их на холст отдельными небольшими мазками, скорее даже точками. Выходило нехорошо, пестро и дико.
За эти этюды мне от профессоров академии сильно попадало… Пришлось смириться, когда настало время переходить из общих классов в мастерскую определенного профессора…
Кроме того, я поняла, что такая живопись и техника скорее подходят к пейзажу, к пленэру, где больше игры света и движения воздуха.
Хочу кратко упомянуть и другие течения или отклонения в изобразительном искусстве, которые мне пришлось наблюдать.
Футуризм у последователей его выражался нарушением законов форм, перспективы и, кроме того, планов. Движущуюся натуру художник передавал одновременно в последовательных состояниях (играющий пианист с десятью руками, бегущая собака с двадцатью ногами и т. д.). Художники-футуристы, протестуя против эстетических и бытовых традиций, бросали вызов обществу. Одевались в самые невероятные одежды, раскрашивали клеткой свои лица и в таком виде появлялись в общественных собраниях. К последователям этого течения примкнули у нас художники Бурлюк, Гончарова, Ларионов и другие.
Конструктивизм и супрематизм, на мой взгляд, не имели даже самого отдаленнейшего отношения к искусству живописи. Стояла на выставке перед произведениями этих крайних течений и удивлялась, зачем в раме находятся железные геометрические фигуры, куски стекла, дерева, проволоки и мочалы. Еще были произведения примерно такого характера или с небольшим вариантом: в раме натянут холст, покрытый синей краской, сбоку на нем прикреплена деревянная палка, а посередине приклеены длинные волосы женской косы и обрывки газеты. Где была здесь живопись?
Основателем конструктивизма считают художника В.Е. Татлина
[33]. Он проводил мысль, что зритель видит не только глазами, но и руками. Вместо зрения — осязание. Он поэтому проповедовал замену палитры красок палитрой материалов. В противовес кубизму, приведшему живопись к разложению, к дроблению предмета и абстракции, Татлин стремился к конкретизации вещей, к нанесению на плоскость рельефных, объемных форм и к игре плоскостями, выступающими из поверхности полотна. Затем Татлин, отказавшись от станкового искусства и картины, переходит к изготовлению самих вещей, подчиняя свойствам, качествам материалов и форму и идею произведения искусства. И вот результаты его за-умничанья я видела на выставке. И поняла — нет будущего в этом искусстве, в нем не было ни логики, ни содержания.
Супрематизм (его идеолог — художник К.С. Малевич) говорил об упрощении живописных приемов до их крайнего предела. Говорил об этом так темно, что ничего нельзя было понять.
Супрематизм сводит живопись к комбинациям различных окрашенных плоскостей и приходит к одноцветным комбинациям, например белого по белому, черного по черному. Стремление к объективизации творчества и в то же время к упрощению нашли в супрематизме свое крайнее выражение. Так я понимала это учение и совершенно отрицала его, не находя в нем смысла.
Теперь о кубизме. Я понимала его как реакцию против импрессионизма и неоимпрессионизма. Кубисты стремились к изображению на плоскости метафизической «абсолютной» или чистой пространственной формы. Они, как мне казалось, сводили всякую живую форму к геометрической схематизации. Кубисты разлагали ее на конусы, пирамиды, цилиндры, призмы, кубы. Но что интереснее всего, они перемешивали эти разрозненные элементы между собой, и тогда получалась просто бессмыслица. Идеологи кубизма — художники Пикассо, Брак, Дерен и др. Произведения их можно видеть у нас в Москве в большом собрании Щукина
[34].
Теперь экспрессионизм. Он выражает внутренние переживания художника. Будучи неудовлетворен окружающей действительностью, художник часто приходит к трагическим эмоциям и доходит до крайнего предела (до крайнего напряжения, надрыва), даже до деформации действительности. Последователи этого направления — художник Шагал
[35] и другие.
Все эти «измы», кроме импрессионизма, с начала XX века очень замутили чистый источник нашего и европейского искусства, а главное, сознание многих молодых художников, даже в академии.
Я не могла их принять. В конце концов пришла к заключению, что между художниками крайних течений было много ломанья, самохвальства и нередко, из-за отсутствия таланта, много уязвленного самолюбия.
Нельзя скрыть, что некоторые из этих увлечений доходили у художников до больших чудачеств и сумасбродств.
Вспоминаю такой забавный эпизод. Однажды я и Сергей Васильевич были в одном обществе, где собралось довольно много народу. Все оживленно беседовали. Неожиданно среди гостей появился Альберт Николаевич Бенуа — известный акварелист. На его красивом лице было выражение какой-то растерянности и недоумения. Поздоровавшись со всеми, он сразу заговорил очень взволнованно и возбужденно, обращаясь ко всем присутствующим: «Подумайте только, какой со мной сейчас произошел случай! Я под вечер поехал на острова, на этюды. Народу было мало, почти ни души. Расположился на берегу реки и принялся за работу. Я так был углублен, что не заметил, как вокруг меня устроились рисовать несколько человек молодых мужчин и женщин. Но странно было то, что все они сидели спиной к реке, а изображали ее. Я сразу понял, что случайно попал в группу больных из сумасшедшего дома. Их, видно, перед сном вывели гулять, а чтобы они не бросились топиться, посадили спиной к реке и заняли их внимание рисованием. С ними был надзиратель. Но страшнее всего было то, что этот надзиратель меня тоже принял за больного и стал уговаривать сесть спиной к реке и продолжать работать. Я перепугался, бросил работу и в ужасе убежал».
«Ошибаетесь, — сказали ему, — это вовсе не сумасшедшие, а ученики профессора Академии художеств М. В. М.
[36] Он в своем преподавании проводит идею „расширенного смотрения“, то есть стремится убедить, что человек может видеть не только глазами, но и затылком и спиной. Поэтому он своих учеников и заставляет изображать натуру, сидя к ней спиной. И ученики ему верят и следуют его указаниям».
Вся эта неразбериха в искусстве, групповщина и за-умничанье продолжались довольно долго и вредно отразились на деятельности Академии художеств.
23 апреля 1932 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации художественных группировок и создании единого Союза советских художников. Председателем областного Союза советских художников был избран Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, его заместителями — Н.Э. Раддов и Исаак Израилевич Бродский
[37].
Это мудрое постановление большевистской партии положило конец вредной неразберихе среди художников и направило усилия их на создание единого реалистического стиля советского искусства на основе метода социалистического реализма.
* * *
Жизнь наша, моя и Сергея Васильевича, после Великой Октябрьской социалистической революции шла бурно, в напряженной работе, с большим радостным подъемом. Впереди было яркое, блестящее будущее для народа и для нашей страны. Мы не теряли без работы ни одного дня.
Но я не могу скрыть того, что мы жили тогда, во время военной иностранной интервенции и Гражданской войны, в больших лишениях. Мы голодали, или, точнее сказать, очень скудно питались. Но особенно страдали от отсутствия дров. Не помню, где мы познакомились с одним коллекционером — Ис. Еф. Иозефовичем. Его особенность была — он за картины платил дровами. Приходил к нам на квартиру и, довольно примитивно указывая пальцем на висевшую на стене вещь, брал ее за дрова. (В общем он был добрый и гостеприимный человек. Жил он в Лесном, и мы иногда к нему ездили. Он имел порядочное собрание картин, в котором находились вещи Серова, Рериха, Бенуа и др.)
Несмотря на все это, увлекаемая ясным небом, прозрачностью далей, я продолжала работать на улицах города, находя в нем все новые красоты.
В 1919 году вырезала следующие черные гравюры: 1) «Постройка Дворцового моста и дымы Выборгской стороны», 2) «Набережная Невы около Летнего сада», 3) «Мойка около Певческого моста».

В 1920 году сделала восемь гравюр в черном для книги Н.П. Анциферова «Душа Петербурга». Они следующие: «Левый пролет Казанского собора», «Екатерининский канал в дождь», «Вид на Биржу», «Ледоход и крепость», «Прачечный мост и дворец Петра I», «Марсово поле», «Горный институт», «Новая Голландия»
[38].
Участвовала на выставке в городе Порхове, куда послала пять акварелей: «Мельница в Голландии», «Набережная из окна Зимнего дворца», «Вид на Миллионную улицу», «Сад зимой», «В Летнем саду» (из них две акварели были приобретены Порховским музеем), а также на выставке в Париже, устроенной Георгием Лукомским
[39].
Кроме педагогической работы в Фототехническом институте, я еще взяла на себя обязанности члена экспертной комиссии при Наркомпросе. Я жаждала общественной деятельности.
В 1921 году нас постигло большое горе. Умерла моя дорогая мать. Была она мудрая, скромная и до глубины души чистая и целомудренная женщина, со спокойным, уравновешенным характером, с большим запасом жизненной энергии.

Брак моих родителей был счастливый, полный согласия и взаимной любви. У них не было в жизни тяжелых потерь. С виду моя мать была сдержанна, даже сурова. Так она часто скрывала свою врожденную застенчивость. Но кто ее ближе знал, глубоко ее любил за ум, чистоту и большое сердце. Ее влияние на своих детей, особенно на дочерей, было огромно, несмотря на то что она никогда об этом специально не старалась. Без ее зова мы шли к ней и с нашим счастьем, и с нашими бедами, чтобы поделиться с нею.
* * *
Прожив три года в городе, я стала очень тосковать по природе: по деревьям, лугам, большому небу, по этому живительному, неисчерпаемому источнику.
В те годы вследствие Гражданской войны и военной интервенции железнодорожное сообщение было сильно нарушено. Даже поездка в окрестности Петрограда представляла большие затруднения.
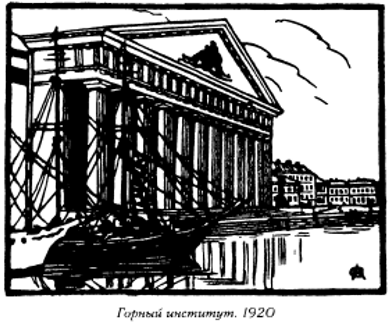
Студенты художественного факультета Фототехнического института решили помочь мне и Сергею Васильевичу переправиться в Павловск, чтобы провести там лето. Очень хорошо помню, как они распределили между собою разные обязанности. Одни с ручной тележкой приехали за нашими вещами и доставили их на вокзал, другие заняли заранее места в вагоне. Ехали мы в открытом товарном вагоне, на положенных досках. Третья группа учеников встретила нас в Павловске, тоже с тележкой, и проводила на дачу. Мы и не заметили, как с их помощью переправились в Павловск. Их энергия, бодрость и ласковая забота нас очень растрогали.
Дача, где мы жили, считалась одной из лучших в Павловске. Она принадлежала Котлеру, который отдал ее во временное пользование Фототехническому институту. Мы жили внизу, а наверху занимал квартиру наш друг В.Я. Курбатов с семьей. И хотя в бытовом отношении жилось довольно тяжело, часто лишенная самого необходимого, я, как проголодавшийся человек, безудержно работала. Куда, куда только я не заходила, иногда и очень далеко, но Сергей Васильевич в это лето не сопровождал меня, так как каждый день ездил в город в свою лабораторию.
Всегда я любила Павловск, его дворец, его парк с многочисленными павильонами и всевозможными парковыми затеями. С упоением бродила по его уютным извивающимся дорожкам, по открытым лужайкам, по очаровательной долине речки Славянки.
Когда-то я сделала по рисункам Павловска открытки. Они были исполнены цветной гравюрой и цветной литографией, а кроме того, и целый ряд станковых гравюр.
Я без конца делала в парке карандашные зарисовки, решив вырезать по ним ряд черных гравюр.
Проработав лето, собрав большой материал, осенью в городе я принялась за гравюры. Сделала их больше двадцати, все одного размера, и стала мечтать издать книжку с гравюрами, посвященными Павловску. Федор Федорович Нотгафт предложил мне ее напечатать в издательстве «Аквилон». Она была названа «Пейзажи Павловска». Небольшой текст я написала сама. Книжку посвятила моему любимому мужу Сергею Васильевичу. Вышла она в 1923 году. Состояла из моего текста, в котором помещены были четыре гравюрных украшения, и двадцати отдельных гравюр. Печатались гравюры с моих досок, за исключением нескольких, с которых было снято гальваноклише. Оттиски с последних я не могла отличить от оттисков, отпечатанных с моих досок, настолько печатание с гальваноклише совершенно. Вообще гравюры в этой книжке были отпечатаны превосходно
[40].

Тираж книжки был небольшой — 800 экземпляров. Сейчас ее довольно трудно найти на книжном рынке, и потому мне хочется несколько подробнее рассказать об этих гравюрах. Резала я их с большим увлечением, прибегая к разнообразным граверным приемам, смотря по тому, что мне хотелось выразить в этих пейзажах. Среди них есть сделанные в два тона: «Павел I» и «Туман», последняя не была помещена в книгу.
В некоторых гравюрах я прибегала к белым штрихам по черному, чтобы передать вечерний мрак, когда темнота преодолевает свет, таковы «Вечер» и «Ночь».
Гравюры «Круглый пруд» и «Пейзаж лунной ночью» наиболее лаконичны. В них я употребила три способа выражения: пятна белые и черные, плоскую штриховку и очень мало линий рисунка.
Передавая в гравюре «Дождливый день» мокрую, сырую погоду, я прибегла к новому приему в моей гравюрной технике — к мелкой беспорядочной штриховке. Ею я хотела передать расплывчатость и неясность форм и контуров в дождливом пейзаже.

Исполняя эти гравюры, я считала, что, кроме передачи данного пейзажа и чувства художника, надо еще в гравюрах, соблюдая краткость и остроту выражения, дать элементы декоративности. Мне хотелось, чтобы эти гравюры, если попадут когда-нибудь в печатный текст (а это случилось потом), не потерялись бы в нем, а доминировали на странице.
Хочу рассказать, как в те годы я была обрадована и душевно удовлетворена. От моего долголетнего друга
В.Н. Аргутинского получила письмо из Парижа. В нем он писал мне, что оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда», находившийся у него, приобретен Британским музеем. Известие это мне было приятно. Но еще больше я обрадовалась, когда дирекция Государственного Эрмитажа также решила приобрести у меня для собраний гравюр и рисунков Эрмитажа оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда». Но так как в Эрмитаже тогда не собирали произведений русских художников, то это приобретение было оформлено и проведено как «Копия с Рубенса». Хочу надеяться, что этот оттиск продолжает находиться в отделе рисунков и гравюр Эрмитажа.
Меня все это очень порадовало, и я невольно вспоминала мое окончание Академии художеств и как совет академии не хотел дать мне звания художника за работы, в числе которых была гравюра «Персей и Андромеда».
Я была удовлетворена, но мне пришлось этого ждать двадцать два года.
* * *
В те же годы я согласилась сделать для Комитета популяризации художественных изданий альбом из двенадцати оригинальных литографий видов Петербурга. Я наметила для него такие места города:
1) Биржа и Петроградская сторона, 2) Нева ранним утром (Вид с Троицкого моста), 3) Исаакиевский собор в туманный день, 4) Фонтанка от Аничкова моста, 5) Вид с Тучкова моста, 6) Литовский замок и Новая Голландия, 7) Школьный дом Петра I, 8) Постройка Дворцового моста, 9) Академия художеств и сфинксы, 10) Фонтанка у Летнего сада, 11) Ледоход на Неве, 12) Французская набережная и столб с колоколом
[41].
С большим удовольствием и подъемом начала я эту работу, исполняя литографии на корнпапире литографским карандашом. Но мне скоро пришлось сильно огорчиться, когда я увидела мои пробные литографии, отпечатанные в типографии с камня. Их было трудно узнать. Многое бесследно в них исчезло или было неясно и смазано. Но самое неприятное в литографских отпечатках было нарушение в них валеров, то есть изменялась сила взаимных отношений, намеченная автором. Иногда детали, слегка набросанные, резко вылезали вперед, а главное куда-то исчезало.
Я так была огорчена, что сгоряча хотела прекратить эту работу, но, сообразив, что уже сдала в печать пять литографий, смирилась и решила: «Пусть будет как будет».
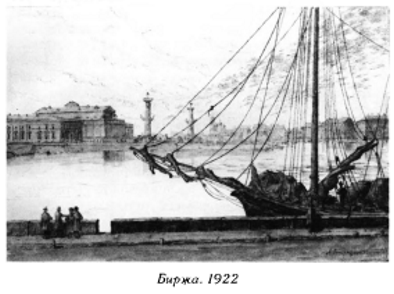
Мне было понятно, что неудовлетворительное качество работы литографской мастерской является не следствием небрежности мастеров, а временными неблагоприятными условиями их работы. Отсутствие дров, и потому холод даже в лучшей типографии того времени (типография имени Ивана Федорова) сильно затрудняли работу литографов.
Кстати здесь упомяну, в те же годы в Экспедиции заготовления государственных бумаг были сожжены, как топливо, в числе многих досок и мои. Они были гравированы для романа Фенимора Купера «Последний из могикан» по рисункам Бенуа. Этих цветных гравюр было семь, и резала я их на двадцати досках. В типографии, к сожалению, с них не успели сделать отпечатки. Таким образом, эта книжка и гравюры не увидели света. Несколько оттисков моего ручного печатания сохранилось. И только…
За работу над альбомом литографий я получила «натурой», то есть мне по выходе альбома предоставили около семидесяти экземпляров с предложением самой их реализовать.

Помещаю выдержки моего письма к Ивану Михайловичу Степанову, председателю Комитета популяризации художественных изданий, по поводу этого альбома и одной неисполненной детали.
«…Посылаю Вам обратно автолитографию головы Петра I, которая непоправимо плохо напечатана. Приготовляя Вам второй ее экземпляр, я пришла к заключению, что мысль моя поместить голову Петра в этом альбоме не совсем удачна. На таком большом листе белой бумаги небольшого размера голова выглядит нехорошо. Если увеличить размер, то это не будет соответствовать масштабу всех других литографий в этом альбоме. Пробовала ее заключить в какую-нибудь рамку, но это мало помогает. Альбом слишком велик для такого размера головы. Придется отказаться от этой мысли. Но вряд ли альбом от этого много потеряет.
Я теперь чувствую, что альбом будет неплох… если печатание с машинного станка будет близко подходить к последним корректурным оттискам, которые (не надо закрывать глаза) напечатаны с ручного станка…»

В 1923 году вышла моя монография, изданная Государственным издательством.
Года за два до этого ко мне из Москвы приехал Соломон Абрамович Абрамов, издатель журнала «Творчество». Он задумал выпустить монографии о четырех графиках: Чехонине, Митрохине, Фалилееве и обо мне
[42].
К этому времени по распоряжению правительства все частные издательства были закрыты. Но издание этих четырех монографий было одобрено, и Абрамов назначен их художественным редактором. Мы заключили с ним договор об издании моей монографии Государственным издательством.
С изданием этой книги мне пришлось проделать огромную специальную работу. Решено было мои цветные гравюры отпечатать типографским способом с цинковых клише. Для этого мне надо было с каждой гравюры, со всех ее досок, отпечатать (конечно, ручным способом, так как я станка себе не заводила) черные оттиски для снятия с них цинковых клише. При этом у каждого черного оттиска на полях я давала образчик того тона, которым это цинковое клише должно печататься. Мне пришлось для этого отпечатать огромное количество оттисков.
Работать по изданию этой книги было очень трудно, так как С.А. Абрамов жил в Москве, и, хотя книга печаталась в Ленинграде, без согласия Абрамова ничего нельзя было предпринимать…
В один из своих приездов художественный редактор спросил меня: «Кого вы хотите для написания текста вашей монографии? Хотите Муратова или Абрама Эфроса?»
[43]
Я, удивленная, спросила: «Почему они будут писать обо мне, ведь они меня мало знают. Они не были свидетелями ни начала, ни последующего развития моего искусства. У нас в Петрограде есть много лиц, которые близко знают мое творчество и с успехом напишут обо мне». — «Кто же, по-вашему, может написать?» — «Александр Николаевич Бенуа, Степан Петрович Яремич, Владимир Яковлевич Курбатов или Сергей Эрнст», — ответила я. «Бенуа отказался написать о Чехонине», — мрачно проговорил он и, ничего не сказав, уехал.
Но в тот же день редактор опять приехал сияющий, довольный и мне еще с порога прокричал: «Согласился. Александр Николаевич согласился писать о вас!»
Александр Николаевич написал и определил мое творчество так, как никто ни до него, ни после лучше и выше о нем не сказал. И я верю в искренность и правдивость его слов, так как знаю его неподкупную честность. Приязнь и дружба не могли на него повлиять в определении и в оценке творчества его товарища
[44].
В журнале «Печать и революция» № 1 за 1922 год появилась статья профессора В.Я. Адарюкова обо мне как о гравере. Написана она была в лестных для меня тонах, и в ней были помещены четырнадцать моих гравюр, из которых четыре цветные.
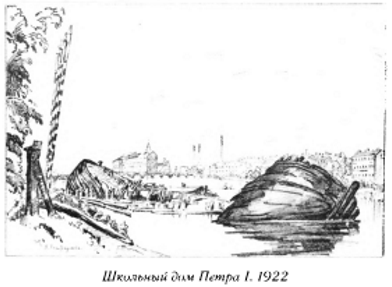
У нас возникла переписка, в конце которой, да и после, я очень жалела, что лично не познакомилась с
В.Я. Адарюковым. Он мне в письмах рисовался как благожелательный, умный и знающий искусствовед.
Впоследствии эта статья была выпущена издательством в виде отдельной маленькой книжки
[45].
Вскоре я познакомилась с художественным редактором журнала «Печать и революция» Вячеславом Павловичем Полонским
[46], в высшей степени культурным и образованным человеком, а в обращении с людьми — очень приятным и простым. Его ранняя смерть была большой потерей для нашей культуры.
В 1923 году Сергей Васильевич сильно заболел. На почве переутомления и хронического недоедания у него открылся туберкулезный процесс в обоих легких. Надо было принимать решительные меры. Врач потребовал выезда из города. Он дал моему мужу на устройство своих дел, научных и педагогических, две недели, с условием, что он все это время с утра до вечера будет сидеть в кресле в большом саду академии. Туда к нему приходили ассистенты и некоторые студенты из Военно-медицинской академии для решения разных вопросов.
Через две недели Сергей Васильевич, получив отпуск и устроив дела, уехал со мной в Детское Село.
Я воспользовалась тем, что Сергей Васильевич по своей слабости никуда не ходил, а все больше сидел на воздухе, написала его портрет маслом
[47].
Через два месяца слабость его постепенно прошла, и мы на летние месяцы уехали в Кисловодск, в санаторий Дома ученых. Там мы познакомились со многими интересными и выдающимися людьми: с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с профессором Семеном Ивановичем Златогоровым и его женой, с художником Александром Федоровичем Белым
[48] и др. Я впервые начала делать портреты акварелью, и первой жертвой был Иван Васильевич Ершов — наш знаменитый певец
[49]. Он был очень заметен среди всех остальных своей внешностью, живостью и бодрым настроением.
Помню, как он рано по утрам уходил высоко в горы и оттуда приносил огромные роскошные букеты цветов, всегда подобранных с большим вкусом и изяществом.
Иван Васильевич охотно согласился позировать. Но он не мог удержаться, чтобы не принять какую-либо неестественную театральную позу. Мне пришлось много усилий потратить на то, чтобы он забыл, что позирует, чтобы прошла его напряженность.
Я подбивала его на разговор, а сама в это время следила за игрой черт его лица, за сменой выражений. Я выбирала наиболее для него характерные черты, ясно выявляющие его образ, как он мне тогда представлялся. Он вышел похож. В данное время этот портрет находится в Третьяковской галерее.
С этого времени я опять вернулась к портретной живописи. Сейчас я могу подвести итог портретов, сделанных мною. Портретов карандашом и углем — шестнадцать, акварелью — пятьдесят два, маслом — тридцать один, всего девяносто девять портретов. При этом хочу прибавить, что исполняла их только с живой модели, никогда не прибегая к фотографии. Работая над портретом, я не думала о сходстве. Стараясь поймать то характерное, то существенное, что подмечала в разговорах с моделью, я незаметно для себя, за редкими исключениями, добивалась сходства.
Акварельные портреты я не рисовала карандашом. Слегка окрашенной кистью я начинала портрет с рисунка глаз, чтобы потом не перемещать, сохранить чистоту бумаги для бликов в глазах.
Портреты акварелью я работала медленно, обдумывая каждый мазок. Чтобы сделать законченный портрет, мне надо было шесть-семь сеансов, а маслом я работала гораздо быстрее, так как не боялась ошибок. Они ведь были легко поправимы.
Из моего пребывания в Кисловодске я привезла много работ. Мой милый спутник, Сергей Васильевич, уже настолько поправился, что мог сопровождать меня на этюды. И мы совершали пешком или на лошадях далекие прогулки.
Там же я сделала один натюрморт — букет розового душистого горошка в глиняном горшке. Рядом с ним — лакированная черная шкатулка, из нее выпадают нити янтарных бус, перемешанных с нитями старинных венецианских бус. Чтобы сохранить свежесть красок и яркость бликов янтаря, я не делала рисунка карандашом, а писала сразу, наверняка
[50].
После возвращения с Кавказа Сергей Васильевич получил командировку за границу для окончательного восстановления своих сил.
В день отъезда я поехала проводить его на Васильевский остров. Это было 15 октября. Он уезжал на германском пароходе «Schlesien». Пароход почему-то долго не отходил. Я этим воспользовалась и зарисовала пароход, пристань и видневшееся около нее большое парусное судно.
Наконец, пароход отошел и, сделав широкий поворот на Неве, стал постепенно удаляться, увозя моего дорогого путешественника.
Ушедший пароход открыл вид на парусное судно, которое до этого наполовину было им закрыто. Я тотчас обратила на него внимание. Мне сказали, что это парусный фрегат «Товарищ».
Судно стояло под всеми парусами. Словно гигантская великолепная птица, распустив свои белые крылья и распушив перышки, собирается в любой момент полететь на Неву, на взморье, в небесную даль. Особенно оно было хорошо, когда дул на него легкий морской ветерок и все паруса начинали трепетать.
Я сделала с него два подкрашенных рисунка. Этот очаровательный кораблик мне был почему-то очень мил. Может быть, своей красотой, которая ярко запечатлелась в моей памяти?
Прошло много лет. Недавно мне в руки попалась хорошо написанная книжка «На палубе». Автор ее Дмитрий Афанасьевич Лухманов
[51]. В биографии автора, помещенной в этой книжке, говорится, что Д.А. Лухманов в 1926 году как единственный в СССР специалист был назначен капитаном парусного корабля «Товарищ» и ему было дано задание сделать на нем рейс в Аргентину. На форзаце этой книжки было изображено парусное судно, и я неожиданно в нем узнала моего давнишнего знакомца, когда-то глубоко пленившего меня своей красотой и рисунки с которого я так бережно храню.
* * *
Сергей Васильевич вернулся. Почти шестимесячный отдых восстановил его силы. Болезнь была ликвидирована. С моей души сошла тревога. И мы опять, бодрые и радостные, вернулись к нашей любимой работе.
Апрель 1947 г.
III.
Лето в Коктебеле
В 1924 году я и мой муж первый раз проводили лето в Коктебеле, у Максимилиана Александровича Волошина.
Мы давно были с ним знакомы, но последние годы не виделись. На протяжении нескольких лет он безвыездно жил в Коктебеле. В начале 1924 года Волошин с женой Марией Степановной приехал в Ленинград. Связь наша возобновилась. Он был полон интереса к окружающей жизни, к людям, к литературе, к изобразительному искусству. В нем чувствовался внутренний порыв ко всем и ко всему, как у человека, который хочет наверстать годы уединенной жизни, проведенной вдали от людей.
Он много раз читал свои стихи. Позировал для портрета мне и Б.М. Кустодиеву
[52]. Расставаясь, мы дали обещание приехать на лето к нему.
* * *
Помню то яркое впечатление внезапности и восхищения, когда, выехав из Феодосии и после долгой езды по скучной степи с незаметным подъемом, мы вдруг увидели Сюрю-Кая — гору, острую, как пила, с зубцами, обращенными к небу, которая неожиданно выскочила из-за плоского, высокого, длинного гребня. Влево от нее высилась мохнатая шапка Святой горы. Ниже голубое море, заключенное в круглой бухте, как в чаше. И на самом берегу дом Волошина.
Как только мы открыли легкую калитку на обширный двор Волошина, на нас налетела толпа загорелых женщин в легких купальных костюмах. Они с веселым смехом бросились нас обнимать и целовать, но, заметив ошибку, приняв нас за кого-то другого, так же внезапно разлетелись в разные стороны, и за ними мы увидели хозяина дома. Максимилиан Александрович с развевающимися волосами большими шагами спешил нам навстречу. Его лучистые голубые глаза приветливо сияли. Он повел нас в приготовленную комнату. Она находилась под его мастерской. Окна ее смотрели на море, а море было совсем тут, в двадцати шагах, легкое, светлое, спокойное.
Макс, посмеиваясь, нам говорил: «Ну вот, как я рад! Как хорошо, что вы приехали! Отдыхайте. Отдыхайте. Сейчас вы заболеете „сонной“ болезнью, а потом „каменной“, но это ничего, это пройдет». Он знал, что приезжающие первые дни без просыпу спали, а потом, лежа на пляже, увлекались собиранием красивых коктебельских камешков.
«Летняя семья» Волошиных была многолюдна и разнообразна. Люди всевозможных профессий, характеров, наклонностей и возрастов.
Среди живущих у Волошиных в то лето находились поэты — Андрей Белый, Шервинский, Шенгели, Леонид Гроссман, Мария Шкапская, Адалис и несколько юных поэтов и поэтесс, московские профессора А. Габричевский, Б. Ярхо и др. Гостили также художники Богаевский, Шаронов, Кандауров, Костенко, артистки балета — всех не перечесть
[53]. Позднее приехал Валерий Брюсов.
Максимилиан Александрович к каждому подходил с ласковым, внимательным словом. Он умел вызвать на поверхность то самое хорошее и ценное, что иногда глубоко таится в человеке.
Люди приезжали обыкновенно утомленные, раздражительные. Но через короткое время окружающая природа, простой, какой-то благожелательный строй жизни приводил человека в равновесие. Он постепенно успокаивался, веселел и входил в общее русло.
Волошин был центром, куда все тянулись. Он умел все принять и все понять. Умный, с огромной эрудицией, всесторонне развитый, он по натуре своей был созерцателем — философом.
Его творческие силы, его внутренний огонь находили воплощение в поэзии и живописи.
В молодые годы Волошин был страстным искателем новых впечатлений, новых ощущений. Ему хотелось все видеть, все пережить. К пожилому возрасту страсть эта утихла. Появился опыт и равновесие.
В нем было много детского, наивного. Характером он был кроток, но, возмущенный, был способен на гневный порыв. В реальной, обыденной жизни — совершенно беспомощный. Денег он не признавал, отвергал их значение.
Он любил людей. Все его многочисленные друзья и знакомые, с их «человеческим окружением» (его выражение) жили в его домах безвозмездно.
Волошин очень любил человека. Чувствовал тяготение к нему, какое-то влечение познать другого. Но в то же время, имея много друзей очень близких, он ни с кем никогда не был откровенен до конца. В глубины своего «я» он никому не давал заглянуть.
Был тонким и глубоким психологом. С кем бы ни встречался, он всегда находил те слова, те мысли, которые позволяли ему ближе подойти к собеседнику и вызвать его на долгую беседу, в конце которой они оказывались, неожиданно для себя, близкими друзьями.
Собрания большей частью происходили на большой длинной террасе и привлекали много народу.
Иногда он сам рассказывал очень образно и живо о своих путешествиях, об интересных, исключительных людях, которых он встречал во время своих странствий. Говорил он очень хорошо.
Иногда мы взбирались к нему на вышку. Пребывание там было пленительно. Большой открытый балкон, расположенный на крыше дома. Вокруг глухие перила, и вдоль них низкие скамьи. На полу, на скамьях подушки, ковры. По вечерам там было так дивно слушать стихи, тихие песни, рассказы. Над головой голубое небо, усыпанное звездами, внизу море, отражающее блеск звезд.
Когда же читались доклады, рефераты, когда вечер посвящался автору, который читал свое произведение, когда требовалось более продолжительное и сосредоточенное внимание, тогда чтение бывало в его прекрасной мастерской. Передняя ее стена напоминала абсиду готической церкви с очень высокими окнами. В глубине комнаты находилась ниша с мягкими диванами и громадной головой царевны солнца Таиах. Над нишей были большие антресоли в виде балкона с перилами. На них вела здесь же поднимающаяся по левой стене открытая легкая лестница.
Все стены были увешаны картинами, этюдами, книжными полками и красивыми тканями. Мастерская производила впечатление уюта и художественной красоты. А когда она наполнялась народом разного пола и возраста, в ярких летних костюмах, когда на полу, на ковре располагалась молодежь и вся Лестница доверху была усеяна людьми и антресоли темнели от голов — тогда мастерская представляла необыкновенно живописное зрелище.
Во время таких чтений Максимилиан Александрович сидел за своим письменным столом в большом плетеном кресле и творил маленькие акварели-песни своей прекрасной Киммерии.

Иногда он сам читал свои стихи. Читал выразительно и сильно. Словами мощными и полнозвучными. Точно строил постройку, накладывая камень на камень.
* * *
Все с нетерпением ждали приезда поэта Валерия Яковлевича Брюсова.
Андрей Белый несколько раз в день складывал свои чемоданы, готовый в любую минуту сняться и уехать.
Брюсова что-то задержало в Севастополе.
Наконец, он приехал, и совершенно неожиданно, под вечер. В этот вечер Андрей Белый должен был читать свои стихи. Сейчас же после вечернего чая терраса быстро опустела. Все торопились занять места в мастерской, где должно было происходить чтение. Мыс мужем задержались и почти одни кончали чай. В этот момент на террасу вошел быстрыми шагами пожилой незнакомец, и мы сразу догадались, что перед нами Брюсов. Он был в чесучовом пиджаке и темных брюках, со шляпой и тростью в руках.
Его наружность: карие, почти черные глаза среди темных, густых и длинных ресниц. Взгляд умный, холодный и жесткий. Сдвинутые густые брови. Торчащие широкие скулы. Прямой мясистый нос. Толстые губы под нависшими седеющими усами и острая бородка. Высокий лоб, ежиком подстриженные волосы. Весь его облик являл собою сплетенный узел движения, нервности и раздражения.
Это незамедлительно и проявилось. Он вмешался в разговор моего мужа с кем-то и начал ему объяснять, что нельзя употреблять выражение «подняться на перевал». Сергей Васильевич стал доказывать, что если цель прогулки подняться на перевал, то можно употребить такое выражение. Тогда Брюсов излишне горячо стал повторять: «Это неправильно, это неправильно. Я — альпинист. Много раз поднимался в Альпах. Такого термина нет „подыматься на перевал“. Можно только сказать „перевалить через перевал“».
Сергей Васильевич перестал ему возражать, и тогда Брюсов набросился на молоденькую поэтессу, которая с кем-то говорила о современной поэзии, и стал резко с ней спорить.
Вскоре мы отправились на чтение, и я через несколько мгновений увидела его стоящим над нами, на балконе в мастерской, и прошедшего туда по внутренней лестнице, незаметно для Андрея Белого.
Перед началом чтения Андрей Белый, по обыкновению, стал нервно и долго извиняться, оправдываться за свое чтение и за свою поэзию. Это было скучно и ненужно. Брюсов не выдержал и послал ему сверху несколько крылатых словечек насмешки и сарказма. К счастью, Андрей Белый его не слышал и даже не знал о его присутствии. Так остро и неприязненно вошел Брюсов в волошинскую летнюю, большую семью.
Но он вскоре отдохнул и поддался общему настроению. Перестал быть таким резким диссонансом в добродушной настроенности всех окружающих и принял участие в общих прогулках и развлечениях.
* * *
Максимилиан Александрович очень любил Коктебель. Понимал, как никто, его изысканную и терпкую красоту.
Мать его и он были пионерами этих мест. В молодые годы он исходил горы и степь на много километров кругом.
В это лето часто затевались прогулки. То мы шли в каньоны. Так называлось глубокое ущелье, промытое в степи весенними водами горного ручья. То шли по морскому берегу, перебираясь через каменисто-глинистые оползни, в маленькие уединенные бухты. Над ними возвышались грандиозные отвесные скалы Карадага.
Сурова и прекрасна Киммерия — древняя земля, выжженная солнцем, — страна пустынных степей и в то же время удивительных горных нагромождений, придающих ей своеобразную и редкую красоту.
Скудность растительности отличает ее от Южного Крыма. В Киммерии ярче чувствуется дикий, обнаженный, но величественный облик ее. Облик на редкость терпкий и суровый.
Красота Киммерии, и в частности Коктебеля, главным образом заключается в чудовищном нагромождении скал Карадага и в его грозной вершине Гяурбах.
Ученые-геологи, приезжавшие к Максимилиану Александровичу, высказывали предположение, что Коктебельская бухта и скалы Карадага — остатки потухшего вулкана. По их словам, когда-то, в доисторические времена, вследствие каких-то великих подземных катаклизмов, повлекших за собою огромные сдвиги и обвалы, коктебельский вулкан был разрушен. Он лег как бы набок, расколовшись на части. Обрушившись чудовищно громадными скалами в море и завалив ими берег, Карадаг образовал совершенно недоступный, недосягаемый хаос.
Куски вулканического стекла, туфа, круглые камни, которые мы находили во множестве в окрестностях Коктебеля, свидетельствуют о том, что эти предположения о бывших здесь когда-то извержениях имеют основание. Мы раскалывали круглые камни и видели, что они состоят из концентрических кругов расплавленной и застывшей массы.
Не раз мы подплывали по морю в лодке к мрачным, темным стенам Карадага, отвесно уходившим в глубь моря. Дна в воде не видно. Громадные, остроконечные скалы редко отступают от полосы воды, образуя маленькие, уединенные, неглубокие бухты. В них тишина и безмолвие. Они недоступны никаким животным, даже козам. Нет веселого пения птиц. Только орел, свив свое гнездо на одной из вершин Карадага, часто парит высоко в небесах. Бухты носят названия не без оттенка романтизма и легенды. Одна называется Разбойничьей, другая Львиной, третья Ущельем Гяурбаха и т. д.
Когда смотришь на Карадаг с моря, то поражаешься его вышине. Его скалы вертикально поднимаются из моря и на огромной высоте кончаются острыми, узкими вершинами. Карадаг грозен, мрачен и дик. Скалы его напоминают чудовищное пламя. Длинные и острые языки взметнулись к небу и внезапно окаменели на страшной высоте.
Трудно найти слова, могущие образно и точно передать всю его красоту, его суровое величие и страшное безлюдье. Хаос его скал, острых вершин — пик, жутких нагромождений имел когда-то один закон — рвануться вверх на недосягаемую вышину и там застыть.
К Карадагу можно подойти и с суши и сверху заглянуть в его бездны и провалы. Из Коктебеля идет удобная дорога через Северный перевал в долину Отузы. Она все время поднимается вверх, сначала по глинистым, крутым холмам вблизи Коктебеля, потом по отрогам горы Кок-Кая, которая вплотную подходит к Карадагу. Склоны этой горы летом покрыты рыжей травой. Дорога по ней все круче идет вверх. Справа возвышается круглая, как мерлушковая шапка, Святая гора, поросшая густым, низкорослым курчавым дубняком. Наконец, дорога достигает своей верхней точки и проходит в нескольких шагах от страшного обрыва. С трепетом наклоняемся над бездной Карадага. В ней темные пропасти, со дна которых стремятся вверх острые каменные вершины, скупо освещенные солнцем. Оттуда веет холодом и мраком. Глядя на этот хаос, на эти чудовищные нагромождения и торчащие вверх пики, мне иногда казалось, что все это можно сравнить с готическим собором, который со своими высокими, острыми башнями поставлен на башни другому такому же собору.
Громадный мрачный каменный столб стоит наверху Карадага, совсем близко от дороги, идущей в Отузы. Его зовут Чертовым пальцем. Он весь состоит из окаменевшей лавы и у проходящих людей вызывает неприятное чувство жути… За всем этим безумным хаосом, очень глубоко внизу, плещет и блестит на солнце голубое море.
Карадаг, Святая гора в Сюрю-Кая (Пила-гора) — последние вершины, которыми заканчивается крымская горная цепь Яйла.
Очень своеобразная гора Сюрю-Кая. Издали она кажется вертикально стоящим скалистым, плоским гребнем, внезапно выскакивающим из глинистых, поросших мелколесьем холмов. На большой высоте скалы этого гребня кончаются острыми зубцами, напоминающими пилу. Только ближе подойдя к Сюрю-Кая, мы видим, что к ее главной гранитной массе примыкают отдельно стоящие зубцы. При желании и при некотором усилии можно пробраться между ними и даже на некоторые подняться.
По дороге к Сюрю-Кая, на краю крутого, высокого холма, можно видеть
остатки греческого храма — часть его абсиды и камни фундамента. Около него крошечный круглый бассейн, как зеркало, отражает небо. В двух шагах, укрытая кустами дикого барбариса, тамариска и кривых стволов мелкорослого дубняка, тонкая струйка источника течет в полуразвалившийся водоем и, пробираясь через дорогу, питает озерцо. Оттуда открывается обширный вид на бесконечные холмы и степь.
Еще по-другому красива Киммерия. Как красива окраска ее! Глинистые крутые холмы, испещренные складками земли, овечьими тропами и покрытые сожженной травой, окрашены в темно-желтый колорит. Холмы разделяются глубокими рвами и обрывами. Поднимаешься по холмам, а они все время передвигаются, показывая все новые комбинации линий и неожиданных перспектив. Между холмами часто проглядывают лазурные пятна моря, и кажется, что оно кругом заключено горами.
А на берегу, на пляже, то группами, то в одиночку — собиратели коктебельских красивых камешков. Какое наслаждение! Лежишь ничком на песке, сверху греет солнце, вдыхаешь аромат моря и внимательно перебираешь камешки. Между ними встречаются голубоватый халцедон, красный сердолик, красная и зеленая яшма. Между гостями Волошина встречались страстные любители камешков. Начиналось соревнование. Устраивались выставки камней, конкурсы, выдавались шуточные премии.
Если шел на прогулку Макс, то все население его домов — человек пятьдесят, и стар и млад, подымались на ноги. Максимилиан Александрович шагал впереди с высокой палкой. Его могучая, тучная фигура живописно рисовалась на фоне неба и степи. Быстроногие его друзья шли рядом с ним, и все остальные поспевали кто как мог. Шествие растягивалось на большое расстояние. В степи упоительно пахла голубая полынь, сверкали огоньки маков, и из-под ног брызгали фонтаны кузнечиков.
Ездили в Старый Крым, в Голубые горы, в Кизильташский монастырь.
Очень запомнилась мне прогулка, затеянная Волошиным, — через Северный перевал пройти на Карадагскую биологическую станцию. Отойдя версты три и поднявшись на крутые глинистые холмы, мы были неожиданно застигнуты грозой и сильным ливнем. Небо обрушилось потоками воды. Все бросились кто куда. Среди грохота грома и падающей воды Максимилиан Александрович усиленно кричал нам, чтоб мы спрятались в пастуший шалаш. Через несколько минут мы вместе с шалашом и пластом земли поплыли вниз по скату холма.
Незаметные ручьи на глазах превратились в бурные реки. В их пенистых, стремительно мчащихся водах вертелись камни, оторванные комья глины и дерна.
Все это мчалось к морю. Картина была грандиозная. Библейский пейзаж бушующей стихии. Идти было невозможно, приходилось сползать вместе с пластами глины и земли.
Волошин не потерял присутствия духа. Просил всех переждать натиск воды. Организовал переправу через воду цепью, и, таким образом, никто не пострадал. Все шли босиком, сняв свою обувь. Помню то чувство необыкновенной бодрости и подъема, когда мы вернулись домой по уши мокрые, в глине и песке.
Со стороны моря смотрели на скалы Карадага, Львиные ворота и Разбойничью бухту. Величественное зрелище!
Максимилиан Александрович с глубокой любовью рассказывал истории и предания каждой бухточки, объяснял строение скал, их геологическое происхождение. Он сидел на корме. Затем он читал стихи. Валерий Брюсов слушал, смотрел очарованный. Иногда и он начинал декламировать по-латыни отрывки из «Энеиды».
В этот вечер было затмение луны.
* * *
Не могу не упомянуть еще одну прекрасную прогулку, очень памятную мне. В ней участвовали Сергей Васильевич, наш друг В.Н. Верховский, А.О. Якубчик и я. Нам захотелось посмотреть зеленый луч, о котором мы так много наслышались. Знаменитый писатель Жюль Верн об этом замечательном явлении природы написал целый роман.
Зеленый луч можно наблюдать и при закате, и при восходе солнца. При вечерней заре нам не удалось поймать его. Все что-нибудь мешало. И мы решили его ловить во время утренней зари. Наняли с вечера большую лодку и снесли в нее мой художественный материал, кое-что теплое из одежды, приспособления для ловли рыбы, еду и фрукты.
Было почти совсем темно, и Коктебель спал, когда мы во втором часу ночи тихонько спустились и расположились в лодке.
Воздух был неподвижен и тих. Небо ясное и темное, и на нем сверкали звезды, отражаясь в воде. Мужчины сели на весла, и лодка медленно пошла в открытое море. Мы напряженно ждали появления зари, не зная точно место горизонта, где всходит солнце. Но через несколько времени мы заметили, как небо в одном месте над горизонтом начало светлеть. Нам стало ясно, откуда надо ждать зеленый луч.
Отдаленный берег, горы и спящий Коктебель были еще в полумраке, когда небо над горизонтом уже сильно посветлело. Мы с затаенным дыханием и напряжением смотрели туда. Вдруг из-за горизонта сверкнул ярко-зеленый луч. Он, как меч, пронзил небо и трепетно отразился в воде.
Мы молча смотрели, не отрываясь. Но это чудное явление продолжалось секунду, не больше, уступив место следующим за ним красно-желтым лучам. И одновременно с ними мы увидели узенький, но ослепительно яркий край солнечного диска.
Торжественно, медленно подымалось солнце. Рождался новый день…
Мы повернули к берегу. Я торопливо рисовала, расставляя на рисунках для памяти мои «иероглифные» пометки.
Пейзаж был волшебно хорош. Он быстро менялся. Горы, скалы, берег горели ярко-розовым золотистым светом, а тени по контрасту казались зелено-голубыми.
Мы проплыли мимо Коктебеля, дальше к Разбойничьей бухте через Львиные ворота. Так назывался огромный одинокий утес, стоящий в море. Середина его была когда-то промыта водой и являла собой грандиозные ворота, через которые проходили суда, даже оснащенные большими парусами.
Сам утес, его поверхность, вымытая дождем, выветренная бурями, была странной. Линии ее граней напоминали то перья и крылья грандиозных небывалых птиц, то чешую чудовищных рыб или кожу мамонтов и крокодилов…
Все было тихо кругом. Ни одной живой души. Только испуганные дикие голуби вдруг стаями взлетали вверх. Вода была удивительно прозрачна. Несмотря на большую глубину, дно было видно до мельчайших подробностей. Рыба проплывала мимо и бросала на него движущиеся тени.
Мы высадились в пустынной крошечной бухте и занялись приготовлением утреннего завтрака.
Еще упомяну о нашей поездке в Судак и Новый Свет. Мы ехали весь путь на линейке туда и обратно. Трясло нас ужасно, так как мы не догадались поинтересоваться, есть ли рессоры у линейки. Рисовать было мучительно, но я все-таки сделала двадцать семь набросков, которые потом подкрасила акварелью.
Пейзаж был суров, обожжен солнцем, без растительности, характерной для древней Киммерии. Рисунок и профиль гор постоянно менялся, соответственно нашему продвижению. То горы подходили совсем близко к дороге, то отступали, показывая новые вершины и долины, которые тоже куда-то передвигались, пропадали и появлялись в новых комбинациях.
Но когда мы проезжали Судак, направляясь к Новому Свету, пейзаж стал особенно интересен. Высокие башни Судакской старой крепости были очень живописны. При поворотах дороги казалось, что они все время передвигаются, то собираясь в группы, то разбегаясь по склонам крутых глинистых холмов. Иногда через окно какой-нибудь башни светилось небо. Точно одноглазый циклоп сторожил Судакскую крепость. Возвращались мы уже в темноте, при свете луны.
Максимилиан Александрович все время следил за тем, чтобы дни проходили продуктивно, полные духовного интереса.
Два раза были состязания поэтов. Я хорошо помню первое состязание. Все живущие там поэты и не поэты принимали в нем участие. Намечали темы, голосовали их и выбирали жюри. Все происходило на террасе, при большом количестве людей. Было выбрано специальное жюри из четырех человек. В него вошли Андрей Белый, который не участвовал в состязании, мой муж, художник Богаевский и еще кто-то.
Остановились на двух темах: 1. «Портрет женщины». 2. «Соломон». Участвовали в состязании Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Сергей Шервинский, Адалис, Леонид Гроссман.
По звуку гонга (рельса) они разошлись в разные стороны, а мы пошли сидеть на песок к морю.
Через полчаса прозвучал опять гонг, и все побежали на террасу. Поэты стали читать еще не остывшие свои произведения. На первую тему — «Портрет женщины» — первенство было признано за стихами Шервинского. Так много было грации в них и в образе, который они создавали, в образе Симонетты. На вторую тему — «Соломон» — лучшими стихами были стихи Адалис. В них ярко проявился блеск молодого таланта. Интересно, что мнение публики совпало с мнением специального жюри и с приговором самих поэтов.
Часто по вечерам бывали музыка, пение, танцы. Максимилиан Александрович и Мария Степановна всегда присутствовали, подзадоривая общее веселье.
Очень много блеска, выдумки, фантазии вносила в нашу жизнь группа молодых ученых. Сочинялись либретто комических опереток, кинофильмы.
Увлеченная красотою природы, я много, просто запоем, работала. Располагалась на берегу моря. Уходила в степь или поднималась на соседние горы, откуда открывался широкий вид на море, на круглую, как чаша, бухту, на причудливый рисунок берегов.
Сделала целый ряд портретов. Исполняла их акварелью. Написала столь любимую всеми хозяйку, Марию Степановну Волошину. Желая подчеркнуть и выделить ее светлые глаза с удивительно острым взглядом, как у ласточки, на бледном, болезненном лице, я покрыла ее темные волосы белым шарфом, как чалмой. И я считаю его лучшим моим портретом.
Написала портреты писательницы Софии Захаровны Федорченко, художника Константина Федоровича Богаевского, Дарьи Николаевны Часовитиной и сделала однодневный набросок поэтессы Адалис. Написала портрет поэта-символиста Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева)
[54]. У него оригинальная наружность. Жарясь на солнце, он так загорел, что походил на индейца, с темной, красно-коричневой кожей. И тем ярче выделялись на лице его голубые светлые глаза, среди черных густых и коротких ресниц. Взгляд его был чрезвычайно острый и необычный. Большой облысевший лоб и по бокам завитки седых волос. Он большей частью ходил в ярко-красном одеянии.

Сделала портрет Валерия Яковлевича Брюсова. Отдохнув после дороги, Валерий Яковлевич помягчел и вошел в общие интересы окружающих. Он был корректен, сдержан и ни с кем особенно не сближался, хотя общения с окружающими не избегал.
По просьбе Волошина и многих других Брюсов устроил чтение своих новых стихов, не напечатанных еще. Чтение затянулось. Сделали перерыв, во время которого я незаметно сбежала. Не могла понять таких стихов. Мне казалось, в них было мало поэзии и много надуманности, что-то мертвое и ненужное, несмотря на тонко обработанную форму.
Валерий Яковлевич охотно согласился позировать и был очень аккуратен и точен.
Вспоминаю, как во время первых сеансов, при его живости и нервности, приходилось прибегать к помощи друзей. Они читали ему вслух, причем загораживали собою дверь комнаты, чтобы он в рассеянности не убежал.
Вскоре он увлекся беседой и стал рассказывать о своем путешествии в Африку и о своей жизни там. Говорил он блестяще: тонко, увлекательно и образно. И к счастью, не впадал в свою обычную многоречивость. Он в нее заворачивался, как в плащ, когда не хотел своему собеседнику ничего сказать. В своей африканской импровизации он сыпал искрами гениального остроумия и неисчерпаемой фантазии. В эти дни, работая и слушая его, я гораздо лучше поняла, какой замечательно одаренный и блестящий писатель и поэт сидит передо мной.
В начале первого сеанса у нас вышла маленькая стычка. Избегая делать портреты лиц «позирующих», держащих известную позу, я старалась всегда, чтобы они забыли о том, что сидят перед художником, и чувствовали бы себя свободно и просто. Предложила ему сесть, как он хочет, в наиболее свободную для него позу. Много раз я замечала, что такая свободная поза была часто и наиболее характерной для данного лица.
— Зачем мне садиться, как я хочу. Я сяду так, как вы меня посадите, — заметил он.
Тогда я предложила ему курить и сесть, как ему будет удобнее.
— Я знаю, что во время сеанса нельзя курить и нельзя двигаться. Курить я не буду и жду от вас указаний, как мне сесть, — заявил он решительно.
Я не стала с ним пререкаться, усадила его в первую попавшуюся позу, надеясь, что в разговоре он забудет позировать, станет шевелиться и жестяная поза пропадет.
Сеансы наши для меня были очень интересны. Мы оживленно все время о многом говорили.
Над портретом я работала уже четыре сеанса и была недовольна своей работой. В эти дни, что бы я ни делала, чем бы ни занималась, мысль о портрете занозой сидела в моем сознании. Последние дни перед своим отъездом Валерий Яковлевич позировал мне по два раза в день.
Портрет меня не удовлетворял. Но я не понимала, чего же не хватает в нем?
На портрете был изображен пожилой человек с лицом Валерия Брюсова, но это не был Валерий Брюсов. Что выпало из моего наблюдения? Что-то очень существенное и основное, без чего не было Валерия Брюсова.
И вот когда он позировал в последний раз, во время сеанса вошел Сергей Васильевич и вступил с ним в беседу. У них сейчас же возник спор. Во время спора он позабыл, что позирует, и вскочил со стула. В нем были и раздражение и порыв.
И вдруг я поняла, хотя я изображала его с глазами, смотрящими на меня, они были закрыты внутренней заслонкой, и как я ни билась над портретом, не смогла бы изобразить внутренней сущности Брюсова. Он тщательно забронировался и показывал мне только свою внешнюю оболочку. Но если бы он был более откровенен, распахнулся бы и я поняла, что в нем кроется, каков он есть на самом деле, смогла бы я изобразить его? — это еще вопрос. Может быть, его внутренняя сущность была так чужда мне, что у меня в душе не нашлось бы соответствующих струн передать ее моими художественными возможностями?
Одним словом, когда он на другой день пришел позировать, услышав его шаги, я схватила мокрую губку и смыла портрет. По какому импульсу я это сделала, до сих пор не могу объяснить. За минуту я еще не знала, что уничтожу его.
Вошел Валерий Яковлевич. Сконфуженно, молча показала ему на смытую вещь. Он посмотрел на меня, на остатки портрета и пожал плечами. «Почему вы это сделали? Он был похож. Но не огорчайтесь, не волнуйтесь, — снисходительно сказал он, — это ничего, это бывает. Вот эту осень я собираюсь приехать в Ленинград и даю вам обещание, что буду вам там позировать».
Мы попрощались. Я его больше никогда не видела, а через месяц-полтора пришло известие, что Валерий Яковлевич умер
[55].
Я была очень огорчена известием о смерти Брюсова и еще больше стала сожалеть об уничтоженном портрете. Ведь это был последний его портрет!
Четыре лета подряд мы ездили в Коктебель. И я вспоминаю со светлым чувством время, проведенное там.
Я и Сергей Васильевич, работавшие упорно и много, с полной отдачей своих сил, рисковали стать узкими профессионалами.
Нам приходилось ради работы беречь свои силы и время, мы жили поэтому очень уединенно, довольствуясь обществом нескольких близких друзей.
А здесь, в Коктебеле, во время отдыха, где-нибудь на берегу, на пляже, или во время прогулок по горам, мы участвовали в беседах с людьми других вкусов, других профессий, черпая из общения с ними знания и расширяя свой кругозор.
Не имея никаких бытовых забот, я свободно и радостно работала в Коктебеле. Хочу подвести некоторый итог. Я написала, кроме уже упомянутых, портреты
В.В. Вересаева, М.А. Булгакова (он во время сеансов диктовал своей жене на память будущую пьесу «Дни Турбиных»), С.В. Шервинского, моего мужа. Написала маслом портрет Максимилиана Александровича. Я считаю его неудачным. Волошин, может быть, на портрете и похож, но выражение лица не характерно для него. Он в те дни хворал, был вял, молчалив и грустен. И живопись портрета тяжела и скучна.
Написала очаровательную Наташу Габричевскую. Она сидит на берегу, на камне, в купальном костюме, загорелая, цветущая, на фоне моря и скал Карадага
[56].
Сделала за это время более шестидесяти акварелей и приблизительно столько же рисунков. В конце концов не очень уж много за четыре лета…
Так богато духовными впечатлениями и от людей, и от чудесной природы проходило время в Коктебеле. И каждый новый день казался прекраснее предыдущего.
Приходила осень. Надо было уезжать. Волошин и многие из гостей провожали нас, по установленному обычаю, хоровой песней:
В гавани, в далекой гавани
Маяки огонь зажгли.
В гавани уходят в плаванье
Каждый вечер корабли.
В гавани, в далекой гавани
Раздается то и знай:
«Кто уходит нынче в плаванье,
Через год встречай».
А мы, стоя на линейке, обернувшись, бросаем в шутку на дорогу монеты и разные мелкие предметы, чтобы опять туда вернуться.
1945 г.
IV.
1924–1925 годы
В начале 1924 года художники СССР решили организовать в Америке выставку своих картин. Много собраний состоялось у нас в Ленинграде, на которых мы подробно обсуждали все обстоятельства, условия и возможности этой выставки.
Представителем от ленинградских художников был выбран Константин Андреевич Сомов, от московских художников И.Э. Грабарь, С.А. Виноградов, Ф.И. Захаров, скульптор С.Т. Коненков и другие, всего восемь человек.
На эту выставку я дала акварели — «Италия. Сан-Джиминьяно» и пять видов Ленинграда: «Вид на школьный дом Петра I», «Красные столбы», «Ледоход», «Туман на Неве», «Пасхальная ночь около Исаакия» и двадцать шесть гравюр и литографий
[57].

Сомов нам долго не писал, и мы ничего не знали о наших делах в Америке. Тогда я обратилась к Михаилу Васильевичу Нестерову с просьбой сообщить нам, что он знает о выставке.
«Глубокоуважаемая Анна Петровна!
В ответ на Ваше письмо сообщаю Вам следующее о нашей выставке в Нью-Йорке. Вести за эти первые три недели, следовательно, далеко не последние. Успех выставки в Нью-Йорке большой, но „моральный“, материальный — это более чем скромный. Мне известно, что на первых же днях по открытии были проданы две малых Ваших вещи. Что было позднее — не знаю. Повешены Ваши вещи и выглядят прекрасно. В той же комнате висят картины Виноградова (нашего представителя) и Степанова[58].
Вы, Серебрякова, Кустодиев и Рылов представлены превосходно — это, кажется, общий голос. „Девочка“ Серебряковой, как и вещи Кустодиева, расходятся во множестве репродукций.
Вещи Кустодиева „очень русские“, как пишет Виноградов, очень нравятся, но тем не менее назначенные цены высоки — картины не покупаются.
Из москвичей наибольший успех имеет Поленов — 12 картинами евангельского цикла. Четыре из них проданы. Поленов — гвоздь выставки. Остальные москвичи продали две, три вещи[59].
Посещают выставку слабо. Одновременно в Нью-Йорке открыто тридцать шесть выставок — Сарджента, Боннара[60] и других более или менее известных европейцев.
В общем до сих пор продано мало, едва ли более 30 вещей на небольшую сравнительно сумму. Долг выставки велик — до 25 тысяч долларов. Изыскивают пути для покрытия долгов… Наша беда произошла от неправильной информации: господа Рерихи осведомляли Питер и Москву о своих якобы из ряда вон выходящих успехах, на проверку же таких успехов или вовсе не было, или они были ничтожны…»[61]
После Нью-Йорка наша выставка в продолжение двух лет путешествовала по городам Америки.
Зимою увлекалась портретами, которые исполняла акварелью. Сделала портрет В.Н. Вознесенской: смеющаяся, веселая головка.
Александра Николаевича Бенуа писала в Эрмитаже, во время его служебных занятий. Это очень затрудняло мою работу. Я попросила его снять круглые очки в черной оправе, которые закрывали его умные, добрые, прекрасные глаза. Он слегка запротестовал, но, когда мы решили, что второй его портрет я сделаю в очках, — примирился. Он вышел очень похож.
Написала портрет премилого мальчика Миши Гнучева. Он терпеливо позировал, а во время перерывов облегчал свою душу пугачом, из которого стрелял на нашей кухонной лестнице. Дома ему это запрещалось. Сделала портрет бурной непоседы В. Шапошниковой, с разметавшимися прядями волос. Мою племянницу — Тусеньку Григорьеву. Нину Викторовну Воячек написала маслом
[62].
Собирала веши на Венецианскую выставку. Послала на нее десять гравюр и ни одной живописной вещи, так как приберегала их для выставки «Мира искусства», которая открылась в бывшем Аничковом дворце в 1924 году
[63].
Дала на выставку «Мира искусства» 23 вещи. Из них шесть портретов, сделанных мною за эту зиму, картину «Кавказский пейзаж», этюды Кисловодска и его окрестностей и четыре акварели Павловска.

На этой выставке, как мне помнится, был богато представлен Добужинский. Он выставил этюды Парижа, Дрездена, Копенгагена. Бенуа дал тонко исполненные виды Ленинграда и Старого Петергофа.
Еще вспоминаются мне талантливые иллюстрации А.И. Кравченко к произведениям Диккенса, Гоголя, Гофмана.
У Браза были, как всегда, великолепные натюрморты. А.Я. Головин выставил декорации к балету «Жар-птица»
[64].
Это была последняя выставка общества «Мир искусства». Она носила название «Выставка группы членов „Мира искусства“».
* * *
Ни одна из художественных школ не перенесла столько экспериментов, как моя alma mater — Академия художеств.
Она была реорганизована. Научные предметы: анатомия, перспектива, рисунок и история искусств были изгнаны как ненужные знания для художников. Был объявлен свободный прием без экзаменов для всех желающих в ней учиться.
Структура академии была изменена: организовали около пятнадцати индивидуальных мастерских разнообразнейших художников. Мастерские имели художники крайне формалистического направления: Пуни, Матюшин, Татлин, Анненков
[65], а также художники-реалисты: Рылов, Бобровский, Савинов, Кардовский, Браз, Бенуа и Добужинский. Академию художеств переименовали в Высшие художественно-технические мастерские. Несколько позднее я тоже была приглашена там преподавать. Тогда деканом художественного факультета был Г.М. Бобровский. Я согласилась, но вскоре ушла из академии.
Для меня и моих учеников было отведено место в большом помещении с верхним светом (в мою бытность ученицей академии — наш этюдный класс). В том же классе помещался А.А. Рылов со своими учениками и третий профессор. У нас, у каждого, была поставлена своя группа. Помещение было полутемное, так как стеклянный потолок был завален снегом, и никто не заботился его счищать. Помещение не отапливалось. Все работали в пальто.
Я не вынесла тягостных бытовых условий преподавания в академии. Особенно трудно мне было ходить пешком с Выборгской стороны на Васильевский остров. Я выбивалась из сил, и мне пришлось отказаться от преподавательской работы.
Позже в академии стало еще сложнее работать. Профессора никак не могли выработать общую программу, которая бы всех удовлетворила. Слишком велико было их разногласие. Борьба шла долго. Наконец, художник К.С. Петров-Водкин провел свою программу, к сожалению, образец ненужного заумничанья. Ему помогал в то время комиссар академии художник Карев
[66]. По их программе на первых курсах были организованы упражнения по живописи. Давали три основные краски: красную, желтую и синюю. Ученики не имели права смешивать эти краски или прибавлять к ним белила
[67].
На старшем курсе студенты писали огромные гипсовые головы и живую натуру. При этом выбиралась натура с наиболее аляповатым, нескладным телом. Это для того, чтобы отучить учеников от «красоты». Понятие «красоты» абсолютно изгонялось. Мне в те дни стало ясно, что руководители академии смешивали воедино два понятия: «красота» и «красивость».
Вспоминаю, как, обходя мастерские художников, я вошла в класс художника Карева. Там стояла обнаженная модель, очень нескладная по своим формам. Узкие плечи, отвислый живот, грузные короткие ноги. Но самое неприятное было то, что за нею вплотную был протянут фон. Он состоял из широких горизонтальных полос, выкрашенных в чрезвычайно яркие, режущие глаза тона: красный, желтый, синий. Тело натурщицы казалось серым. Удивленная такой постановкой натуры, которая казалась мне очень безвкусной, я спросила сопровождавшего меня ученика: «В чем дело? Зачем эти кричащие поперечные полосы?» — «А это профессор хочет наглядно показать рефлексы, отражающиеся на натурщице, и приучить учеников их видеть».
А я подумала: «Может быть, это и очень наглядно, но как грубо и нехудожественно дано и как примитивно. Ведь для объяснения рефлексов можно было бы найти более культурный и не менее наглядный пример».
Меня всегда удивляла педагогическая эволюция Петрова-Водкина. За несколько лет до этого он преподавал живопись и рисунок в частной мастерской Е.Н. Званцевой
[68], в которой преподавали раньше Валентин Александрович Серов, Л.С. Бакст и несколько позднее М.В. Добужинский.
Преподавал в этой мастерской Петров-Водкин отлично, особенно рисунок. Его ученики отличались тогда четким твердым рисунком и пониманием формы. И вдруг придумать такую программу — непонятную, ненужную, которая только сбивала с толку учащихся. И самое главное, уводила их от окружающей реальной природы.
Программа Петрова-Водкина стала обязательной для всех профессоров.
Понятно, что оставаться и преподавать по такой программе многим профессорам оказалось невозможным. Бенуа и Добужинский из академии ушли.
Никогда не забуду последнего вечера перед отъездом Добужинского в Литву (он оптировался, так как по рождению был литовец). Уже совсем поздно, после 12 часов ночи (на следующее утро они уезжали), он еще раз приехал с нами попрощаться. Всем было тяжело. Мы прощались навсегда.
Я и Сергей Васильевич оставались. Представить себе не могли — уехать из России, покинуть нашу Родину.
Сергей Васильевич имел право на оптацию (он родился в Польше и в Варшаве окончил гимназию). Но он был непреклонен. «Наш труд должен принадлежать нашему народу и нашей стране» — так говорил он, зная мое такое же непреклонное решение. И мы работали. И с каким увлечением, с какой душевной радостью! Я в те годы много написала портретов. Сделала портрет моего друга — художника Е.С. Кругликовой, — один акварелью, другой маслом. Акварельный портрет хотя и похож, но сух и жесток и без подъема. Это был «Портрет Портретович», как мы в старое время в Академии художеств называли подобные портреты. Масляный я написала в каких-нибудь три часа. Он неокончен. Мало внешне похож, но мне удалось в нем показать внутреннюю сущность энергичного, целеустремленного художника. Она стоит у колеса печатного станка в синем переднике, с папиросой в руках.

Написала несколько женских портретов: Е.Н. Николаи, О.Д. Зигель. Сделала еще портрет Г.В. Хлопина. Общение со многими из моих моделей мне было очень приятно. Но особенное чувство теплоты и преклонения у меня осталось от личности президента Академии наук Александра Петровича Карпинского, замечательного ученого и гражданина нашей Родины
[69]. Он был маленького роста, толстенький, с длинными белыми волосами, с ласковым, милым лицом. Я сделала с него акварельный портрет. В начале первого нашего сеанса он мне сказал: «Анна Петровна, напишите меня без улыбки. Меня все изображают улыбающимся, а я совсем не такой весельчак, как все кругом думают!» Я исполнила его просьбу.
Когда я в первый раз приехала к Карпинскому, я не сразу нашла его квартиру. В моем затруднении обратилась к какому-то пожилому не то сторожу, не то дворнику, который встретился мне внизу у лестницы. «Ищете квартиру нашего Александра Петровича? Вот она. Идите к нему, идите. Он душа-человек!»
* * *
Написала портрет начальника и дирижера Государственной певческой капеллы Михаила Георгиевича Климова
[70]. Очень выразительное лицо с прекрасными серо-голубыми глазами, с крупными чертами. Лицо на редкость асимметричное.
Он мне рассказал во время сеансов, как ездил в Германию на гастроли с хором Певческой капеллы в 100 человек. Между ними было около половины детей. Их передвижение по Германии и остановки были хорошо организованы и проходили без всяких зацепок.
Михаил Георгиевич вспоминал, как он первый раз в Германии исполнял обедню Чайковского. Хор пел очень хорошо. Он был доволен. После ее окончания зал загремел от восторга.
Написала портрет Вячеслава Гавриловича Каратыгина — композитора и музыкального критика
[71]. Он был выдающийся человек по своим дарованиям и по своему всестороннему образованию. Учась в Ленинградском университете на естественном отделении физико-математического факультета, он в то же время усиленно занимался музыкой, которую в конце концов избрал как свой жизненный путь.
В сношениях с людьми Вячеслав Гаврилович был исключительно обаятелен. В разговорах он увлекал и покорял своего собеседника острым, объективно анализирующим умом в сочетании с обостренной, художественной чуткостью. (О Вячеславе Гавриловиче Каратыгине я упоминаю во втором томе моих «Автобиографических записок».)
Как сейчас, вспоминаю его уютную квартиру в Ленинграде, на Петроградской стороне. Его большой рояль. На окне коллекция кактусов. Он их особенно любил. Великолепное собрание бабочек, и им самим собранный гербарий, и музыка. Музыка преобладала.
Сколько интересных и талантливых людей мы встречали у него!
Во время наших сеансов мы много и оживленно беседовали на разные темы.
Каратыгин чрезвычайно рассеян. Ольга Никандровна, его жена, мне рассказывала, как на почве рассеянности с ним случались неожиданные и смешные эпизоды. Один из них такой: однажды он ехал на трамвае. Когда ему надо было выходить, он стал по очереди со всеми пассажирами трамвая прощаться, всем любезно пожимая руки. И только когда вокруг него раздался общий смех, он понял, где он, и сконфуженно стал извиняться. Работая над его портретом, я не предчувствовала, что через несколько месяцев мы его потеряем.
Нагружая себя непосильной работой, как научной, так и общественной, Вячеслав Гаврилович переутомился. На почве переутомления у него развилась сердечная болезнь, от которой он и умер в полном расцвете своего творчества.
Написала портрет В.А. Зеленко
[72]. Я много раз замечала, что некоторые люди, позируя для портрета, пытаются спрятаться от внимательных глаз художника, опуская на лицо какую-то заслонку. Художнику остается изображать наружную оболочку модели, не имея возможности проникнуть во внутреннюю сущность сидящего перед ним человека. Так случилось и с В.А. Зеленко. У него были прекрасные выразительные глаза. Когда я его начала работать, то неожиданно для себя самой удивленно воскликнула: «А куда же вы дели глаза? Их нет на лице!» Он рассмеялся, и напряжение в позе постепенно прошло. Портрет Зеленко я считаю одним из лучших по выразительности, экспрессии и острой характеристике.
А вот портрет писателя Вересаева (Викентия Викентьевича Смидовича) мне не удался. Не могла ни разговорами, ни шутками преодолеть в нем замкнутость и напряженность и заставить его забыть, что он позирует. Не создалась дружеская близость в нашем общении, которая хоть немного раскрыла бы его внутреннюю сущность. Он оставался непроницаем.
Кстати, упомяну о том, как однажды во время сеанса я спросила его, какие он считает лучшими из написанных им произведений. «Пушкин в жизни», — кратко ответил он. Я промолчала, так как отрицательно относилась к этой книге. Она по тону и по общей окраске, даваемой подобранным им материалом, была для меня неприятна.
Гораздо больше мне нравились его «Записки врача» и многие из его повестей, которые увлекали, помимо таланта, своей благородной правдой и искренностью.
Портрет Димы Верховского (по выставочному каталогу «Лыжник») я писала с огромным увлечением. Это был милый и привлекательный юноша, сын наших близких друзей Верховских. Он был талантлив. Обладал хорошим голосом, играл на сцене. Был смелым спортсменом, лыжником, пловцом. Не раз бросался с моста Лейтенанта Шмидта головой вниз в Неву. Каждый свободный день зимой уезжал в Юкки бегать на лыжах.

Таким я и решила его изобразить — бегущим зимой по полям и перелескам, озаренным светом, разрумяненным морозом. Мы ездили в Юкки, и я делала с него наброски. Смотрела, как он с трамплина летел по воздуху вниз и, достигнув земли, плавно бежал дальше. Заходила с ним в скромное помещение, где собиралась молодежь отдохнуть, закусить и подсушить свою обувь и платье. Оживленные, веселые лица. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза.
На портрете Дима изображен бегущим на лыжах. Он взят в почти натуральную величину (до колен). На нем темно-лиловый вязаный джемпер, на голове шапочка из серой мерлушки, на шее коричневый шарф, концы которого развеваются по ветру. Руки в малиновых вязаных рукавицах держат палки, которыми лыжники во время бега отталкиваются от земли. Портрет мне удался. Я старалась передать впечатление пленэра. Бегущий лыжник со всех сторон облит светом. Нет сильных теней, и в то же время он реален и убедителен в своей материальной сущности.
С выставки он был приобретен Наркомпросом для одного из московских музеев, а через несколько лет, посредством каких-то обменов, был передан в собрание Государственного Русского музея.
После ранней гибели Димы (на Клухорском перевале) я сделала повторение этого портрета его родителям
[73].
Весною 1925 года мы переехали на другую квартиру, оставив прежнюю, очень холодную и затененную большими деревьями. От их густой листвы свет в комнатах был зеленоватый, и мне всегда казалось, что мыс мужем живем в подводном царстве. Последние два года мне пришлось портреты, да и все остальное, работать в маленькой ванной комнате. Из ее окна было видно небо, и в комнату вливался чистый дневной свет, без темных зеленых рефлексов.

Здесь я написала портрет моей маленькой племянницы Мумы Филоненко (по выставочному каталогу «Девочка с кошкой») и набросок маслом моего бульдога Бобби.
Еще хочу упомянуть, хотя это было давно, в 1918 году, как я пыталась написать перспективу комнат квартиры, которую мы собирались покинуть. Взяла задачу передать солнечные пятна, игравшие на дверях, мебели, на стенах
[74]. Написала эту вещь маслом на лаковой эмульсии. Приготовлял ее молодой художник А.А. Зилоти
[75]. Он увлекся задачей расшифровать тайну связующих веществ старинных мастеров, особенно братьев Ван Эйк
[76]. Работая над этим вопросом, он сам составил эмульсию для масляной живописи, которую и предложил мне испробовать. Она состояла из эфирных масел и смол. Картина эта сделана мною неплохо. Поверхность живописи приятная, а свежесть и прозрачность красок сохранилась, несмотря на прошедшие уже тридцать лет.
На ней я изобразила перспективу трех комнат. На переднем плане, на стуле, сидит спиной ко мне Бобби. Когда я начала работать, он сидел и смотрел на меня, положив морду на верхнюю перекладину спинки стула. Но, увидев, что я стала на него пристально смотреть и рисовать его, он, недовольно фыркнув, демонстративно повернулся ко мне спиной, выражая всем видом резкий протест моему намерению.
Надо сказать, что вообще Бобби много раз позировал. Он был умный, верный и очень добрый пес. Имея бульдожьи челюсти и пасть, полную зубов, он никого не кусал — ни человека, ни зверя, ни птицу.
Мы были к нему очень привязаны и, потеряв его, скучали. С годами у меня создалась привычка, обдумывая какую-нибудь гравюру или живописную вещь, забираться на мой низкий диван. Бобби немедленно прыгал и садился рядом. Я машинально крутила его теплое, атласное, большое ухо, сворачивая его в трубочку и разворачивая. В то же время мысли бежали своей чередой.
Гравюра Бобби исполнена грубовато, упрощенно. Она вырезана на одной деревянной доске и двух линолеумных. Вскоре эта гравюра была воспроизведена как украшение школьного календаря.
Еще сделала линогравюру «Фейерверк в Париже», повторение той, которую я вырезала в 1908 году и доску ее уничтожила. Вырезала два книжных знака и гравюру «Смольный»
[77]. Исполнила вид Ленинграда — на первом плане Прачечный мост и деревья Летнего сада, вдали Нева и госпиталь Военно-медицинской академии. Картина приобретена Государственным Русским музеем. Работала я ее из окна музея в домике Петра I в Летнем саду.

* * *
На зимние каникулы 1925 года и в последующие годы я и Сергей Васильевич уезжали в Детское Село, в Дом ученых. Там мы отдыхали. Одновременно с нами жили наши друзья — профессор Г.В. Хлопин с женой, профессор В.Н. Верховский с женой и сыновьями.
Часто целой компанией нанимали розвальни. Положив поверх сена ковер, мы удобно располагались на них. Таким образом объездили все Детское Село и его окрестности. Иногда полозья нашего примитивного экипажа закапывались в глубоком снегу. Тогда приходилось выбираться из розвальней и самим помогать лошади вытянуть их на более крепкую дорогу. Ездили не раз к Баболовскому дворцу, в Павловск. В Павловском парке проезжали мимо «Старой Сильвии». Бронзовые статуи «Аполлон и музы» в тот год стояли без деревянных чехлов. Их живописно и мягко покрывал снег, придавая им причудливые формы. Чудесное по тонам сочетание бронзы, темно-зеленой хвои елок и белых пятен снега на бледно-зеленом зимнем небе. Я поспешила их зарисовать.
Май 1947 г.
V.
1925–1928 годы
Хочу рассказать о научной работе Сергея Васильевича, хотя я в ней сама не участвовала. Я не могу обойти молчанием то, что его в те дни так увлекало.
В октябре 1925 года к Сергею Васильевичу неожиданно приехал из Москвы инженер В.П. Кравец и рассказал ему об организации конкурса по изобретению способа приготовления синтетического каучука. Он стал уговаривать мужа принять в нем участие.
Сергей Васильевич решил участвовать в этом конкурсе и собрал группу из пяти энергичных и увлеченных этой задачей своих учеников и сотрудников. К ним присоединил чету двух московских химиков. Я всех их лично знала, это были молодые ученые-энтузиасты.
Работа шла главным образом после трудового дня по вечерам, до поздней ночи, и по праздникам.

Относительно себя я откровенно скажу, что всю жизнь оставалась невеждой в области химии. Очень давно, в начале нашего брака, я решила ознакомиться с этой трудной, но увлекательной наукой, которой Сергей Васильевич отдавал так много внимания и сил. Ничего ему не говоря, в его отсутствие я взялась за книгу «Основы химии» Менделеева
[78] и стала ее изучать, но мое намерение познакомиться с химией продолжалось недолго. Однажды Сергей Васильевич застал меня за этой книгой. Он немедленно ее отобрал и взял с меня слово оставить навсегда эти попытки, а мое внимание, силы и время тратить только на искусство. А про себя он так сказал и потом не раз говорил: «Мне химии в лаборатории довольно. Когда я прихожу домой, я хочу отдохнуть. А отдыхаю я, когда смотрю красивые вещи». И он брал какое-нибудь художественное издание или какую-нибудь из моих папок или альбомов, говоря: «А теперь я проедусь по Норвегии…»
Он любил искусство. Даже несмотря на особенно напряженную работу в 1926-м и 1927 годах, он находил время посещать выставки и бывать на концертах.
* * *
В ноябре и декабре я несколько раз ездила на хлопчатобумажную фабрику «Равенство», директором которой был мой двоюродный брат М.А. Мигулин. Там я сделала шесть этюдов разных цехов этой фабрики, но этюды получились вялые, без необходимого подъема. Дала их на Октябрьскую юбилейную выставку 1927 года, к ним еще две очень большие масляные вещи — виды Ленинграда
[79].
Выставка была устроена в залах Поощрения художеств. Увидев их на выставке и поняв, насколько они нехороши, я уничтожила их, как слабые, неинтересные, ниже многих других моих вещей. Впрочем, один из этюдов я сохранила, а другой был взят для обложки журнала «Красная панорама» № 18, 1928 года. Но от этого он не стал лучше.
Сделала обложку и шесть книжных украшений для монографии о так рано скончавшемся музыканте Вячеславе Гавриловиче Каратыгине
[80].
Написала целый ряд акварельных женских портретов: Н.Н. Евреиновой, Асиньки Верховской и Н.М. Михайловой
[81]. Работала много.
Кроме всего прочего, чертила для научных статей Сергея Васильевича «кривые». На больших листах рисовала тушью переплетающиеся между собой линии. Каждая линия имела свой особый характер или рисунок. Это для того, чтобы можно было проследить ее ход до конца среди других линий. Делала я их очень много, судя по дневнику того времени. Даже когда ездила в дом отдыха ученых в Детское Село, чертила их там.
Осенью 1926 года председатель ЦЕКУБУ назначил меня, невзирая на мой сильный протест, членом квалификационной комиссии по секции «Изо». Членами этой же комиссии были П.С. Наумов и С.К. Исаков. Собирались мы в бывшем особняке Юсуповых, в одном из роскошных его зал. Не раз видела на общих заседаниях академиков Марра, Ольденбурга, Державина
[82] и других.
Вспоминаю, как при работе в этой комиссии мне пришлось давать письменную характеристику о творчестве художников К.С. Петрова-Водкина, А.А. Рылова, З.Е. Серебряковой для назначения им персональной пенсии. Оба художника получили, а также и Серебрякова, но она с условием возвращения в
Россию.
Сделала из окна лаборатории акварель «Осенний ледоход». Вырезала четыре гравюры Версаля для Советской энциклопедии и гравюру «Вид с моста Равенства на Неву и Биржу» (две доски, одна линолеум)
[83].
* * *
Получила из Берлина от одного сотрудника Фридрихского музея сообщение о приобретении для этого музея восьми моих гравюр, из тех, которые я временно оставила в музее
[84].
Таким образом, количество моих гравюр с находящимися там ранее удвоилось.
Неожиданно получила из Лондона английское художественное издание «The voodeunt of to day at home and abroad» («Деревянная современная гравюра у нас и за границей»). Издательство Studio, 1927. В числе многих иностранных гравюр в этой книге были помещены гравюры следующих русских художников: Н. Купреянова — «Ломовой», А. Кравченко — «Сбор яблок» и моя «Фьезоле»
[85]. Все три снимка сделаны с представленных Британским музеем оригиналов.
* * *
Когда я и Сергей Васильевич чувствовали, что дорабатывались до полной усталости, мы садились на трамвай, чаще всего поздно вечером, и ехали в сторону Лесного, до Озерков и Шувалова. Походив там немного, подышав свежим воздухом, мы возвращались домой освеженные, как бы сбросив с плеч дневную тяжесть.
А по выходным дням мы ездили днем, и надолго, туда же. Нередко захватывали с собой английский учебник и, сидя в трамвае, экзаменовали друг друга (мы учились в те годы этому языку) и много смеялись, поправляя друг другу произношение.
Гуляя, Сергей Васильевич мне рассказывал о своем детстве, о разных забавных эпизодах. Во время этих прогулок я сделала акварель «Вид с Поклонной горы» (находится в собрании В.А. Успенского).
Вспоминается мне один забавный случай по поводу наших прогулок. Как-то в воскресенье вечером звонит нам по телефону наша знакомая, живущая с мужем в Политехническом институте. Она спросила:
— Не ехали ли вы сегодня в трамвае в сторону Шувалова?
— Да, а что? — спросила я.
— Сегодня был у нас, — продолжала она, — один знакомый и рассказывал, что по дороге к нам в трамвае видел среди пассажиров одну парочку, которая привлекла его внимание, и он неотступно за нею наблюдал. Они все время разговаривали между собою, большей частью по-английски (это мы учили на завтра урок для англичанки) и смеялись. Я сразу сообразил, что это иностранцы. Но странно — они довольно хорошо говорили по-русски, добавил он. Я попросила описать наружность заинтересовавших его пассажиров трамвая и, конечно, узнала вас, не правда ли?
— Да, это были мы, — смеясь от души, ответила я ей.
В марте в Ленинград приехали Максимилиан Александрович и Мария Степановна Волошины. Немедленно у них собралась большая группа их друзей-«коктебельцев», спаянных между собою дружеским чувством и любовью к Коктебелю.
Каждый день мы где-нибудь собирались. 14 апреля Максимилиан Александрович Волошин в Литературно-художественном обществе читал свои стихи. Собралось много народу. Все слушали с напряженным вниманием. После чтения развернулась оживленная беседа.
Кроме того, Волошин привез много своих акварелей, навеянных ему прекрасной древней Киммерией, и из них была устроена интересная выставка
[86].
19 апреля закантовывала мои вещи, которые я собиралась дать на выставку «16-ти». Я торопилась, так как на следующий день я и Сергей Васильевич уезжали в дом отдыха ученых в Детское Село.
Вспоминаю, как вечером накануне нашего отъезда за моими картинами приехали два энергичных и талантливых художника, два друга — С.А. Павлов и Н.И. Дормидонтов и увезли их на выставку, взяв на себя заботу их там повесить. На эту выставку я дала восемь портретов и три пейзажа Коктебеля
[87].
Зимой неожиданно к нам пришли ленинградские молодые писатели со своими женами: Юрий Либединский и Михаил Чумандрин
[88]. Приехали познакомиться, посмотреть мои работы и предложили мне делать гравюры видов Ленинграда для вновь организуемого журнала «Ленинград».
На обложке каждого выпускаемого журнала они хотели иметь черные гравюры, которые бы изображали новое рабочее строительство Ленинграда. Я сделала: 1) Вид на Смольный, 2) Рабочие дома Выборгского района, 3) Вид с Сампсониевского моста на фабрики Выборгской стороны, 4) Рабочие дома Московско-Нарвского района, 5) Арка завода «Треугольник» и 6) Школа Московско-Нарвского района
[89].
На этом окончились мои гравюры, так как этот журнал был вскоре закрыт. Я могу ошибиться, но мне вспоминается, что только и вышло шесть номеров. В те дни в стране была нехватка бумаги, и поэтому было решено сократить число печатаемых изданий. В это число попал и журнал «Ленинград».
* * *
26 мая 1927 года умер Борис Михайлович Кустодиев, чудесный, талантливый художник и наш товарищ по «Миру искусства». Умер очень большой художник-реалист и как человек — герой, который вызывал удивление и преклонение у всех, кто его видел и знал, как он живет и работает.
Скончался он в 11 часов вечера от воспаления легких. Во время болезни много дней ничего не ел и не спал. В день смерти почувствовал себя лучше, но к вечеру стал задыхаться. Похоронили его на Никольском кладбище.
Он много лет страдал параличом ног, приковавшим его навсегда к креслу или кровати, но он продолжал энергично, со страстью работать. Только в последнюю зиму он стал заметно слабеть и жаловаться на слабость рук. Его вещи, выставленные на выставке «16-ти», носили на себе явные следы утомления.
Но он за этот год сделал около 25 отличных линогравюр…
К осени 1927 года надо отнести мое первое заочное знакомство с Петром Евгеньевичем Корниловым, но пока еще только в письмах
[90].
Он писал мне, не соглашусь ли я на устройство им в Казани моей выставки гравюр, литографий и живописных вещей. Я ничего не имела против, так как уже неоднократно слышала об организованных П.Е. Корниловым выставках в Казани: Е.С. Кругликовой, П.А. Шиллинговского, В.А. Фаворского и др. Каталоги этих выставок производили на меня своей культурной внешностью и изяществом хорошее впечатление
[91].
Я написала о моем согласии и предложила Корнилову ее устроить в конце июня, когда Сергей Васильевич и я собирались быть в Казани на Менделеевском съезде химиков. Конечно, если этот срок не нарушал его выставочных планов
[92].
У нас началась деловая переписка, из которой я скоро сделала вывод, что имею дело с человеком на редкость аккуратным, точным и целеустремленным.
* * *
Теперь подошло время, когда я должна рассказать об успешном окончании работ Сергея Васильевича на конкурсе по нахождению способов приготовления искусственного каучука.
В двухгодичном процессе этой работы не всегда все шло гладко и ровно. Сергею Васильевичу и его сотрудникам приходилось преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия. Но все в конце концов пришло к счастливому концу.
По условиям конкурса надо было приготовить два килограмма искусственного каучука и передать его в жюри конкурса к 1 января 1928 года.
Только вечером 30 декабря 1927 года работа по получению каучука была окончена, и его собирались отослать в Москву.
Вечером, при отправке каучука в Москву, я была в лаборатории. В ней царило необыкновенное оживление. На сияющих лицах сотрудников были написаны радость и удовлетворение. Сергей Васильевич, по обыкновению, был сдержан и молчалив, но по тому, как он смотрел и слегка улыбался, чувствовалось, что он доволен.
Работа шла полным ходом до последней минуты. Сергей Васильевич торопился окончить описание процесса получения каучука. Его листочки передавали А.И. Якубчик, которая спешила их переписывать. И. Волжинский и Я. Слободин хлопотали над упаковкой каучука
[93].
Это был большой, толстый кусок, формою напоминавший коврижку, цветом похожий на липовый мед. Он был упругий и не очень липкий. Имел довольно неприятный запах.
Наконец описание способа получения каучука окончено. Каучук упакован в небольшой ящик, и один из сотрудников Сергея Васильевича в последнюю минуту, с риском опоздать на поезд, повез его в Москву.

Все еще долго не расходились. Весело и возбужденно вспоминали и обсуждали разные моменты своей работы. Радостно было сознавать, что самоотверженная и напряженная работа Сергея Васильевича и его учеников увенчалась таким успехом.
Когда эта работа впоследствии развернулась до заводского масштаба, Сергей Васильевич много раз говорил: «Ни одна страна, ни одно правительство не дали бы мне такой возможности развернуть работу, как наша советская власть».
Наступило лето. Впереди был отдых, а для меня летняя интенсивная работа. 14 июня 1928 года, вечером, мы выехали поездом в Рыбинск, чтобы сесть там на пароход и ехать в Казань на Менделеевский съезд и на мою персональную выставку, которая приблизительно в то же время должна была открыться. А там дальше нам мерещилась поездка по Волге. Оба здоровые и веселые, мы не предчувствовали ожидавшего нас в ближайшие дни тяжкого испытания.

На следующий день, подъезжая к Рыбинску, Сергей Васильевич внезапно заболел. У него появились сильные внутренние боли, которые с каждой минутой нарастали. С величайшим трудом погрузились мы с вещами на извозчика. Сергей Васильевич во время езды все время стонал и сползал с сиденья. Я его крепко обнимала, чтобы он не упал с дрожек. Нас направили в аптеке в поликлинику, но там старшие врачи были в отпуску, а младшие, малоопытные, не могли определить болезни и посоветовали мне свезти больного в районную больницу, где был отличный врач-хирург Рафаил Рафаилович Сыромятников.
Пришлось опять ехать на дрожках почти через весь город по ужасной мостовой, выложенной булыжниками. Сергей Васильевич невыносимо страдал. Когда мы подъехали к больнице и его сняли с дрожек, он был в глубоком обмороке.

Его положили в приемной на деревянный желтый диван, а я побежала вверх по лестнице, отыскивая докторов, прося о немедленной помощи. Его на носилках подняли наверх и унесли в палату.
Когда я увидела его, окруженного врачами, не теряя ни минуты, бросилась на пристань, которая, к счастью, была совсем близко.
Пароход каждую минуту мог отойти и увезти наши вещи, которые там находились. Я попросила их вынести с парохода на пристань, сдала на хранение и вернула ключ от нашей каюты.
Когда вернулась в больницу и поднялась наверх, меня уже ожидал Сыромятников, который коротко и сурово мне сказал: «Диагноз — непроходимость кишечника. Требуется немедленная операция, иначе через полчаса наступит смерть. Но я должен вас предупредить, что ваш муж вряд ли перенесет операцию. У него очень плохо работает сердце. Даете вы согласие на операцию?» — «У меня нет выхода. Я вверяю вам его жизнь», — ответила я. «Тогда попрощайтесь с ним и уходите».

Я молча поцеловала мужа, который был уже под наркозом, и вышла в коридор. Не найдя стула, чтобы сесть, я встала около стены и, повернувшись к ней лицом, приложила лоб к ее холодным стенам. От горя я не умею плакать.
Кто-то из врачей подошел ко мне и, тронув меня за плечо, сказал: «Вам надо послать телеграмму его родным о случившемся». — «У него нет родных в Ленинграде, а его единственная сестра живет очень далеко», — отвечала я. «Это нужно для вас, а не для него», — настаивал он.
Меня удивило, почему для меня? Да, они думают, что Сергей Васильевич не перенесет операции.
Я послала телеграмму моему другу Клавдии Петровне с просьбой немедленно к нам приехать и профессору В.И. Воячеку
[94] в Военно-медицинскую академию о постигшем Сергея Васильевича несчастье.
Никогда не забуду минуты, когда оперированный Сергей Васильевич был подвезен на высоком подвижном столе, снят с него и осторожно перенесен и уложен на приготовленную ему кровать.
Немедленно Сыромятников и другой врач, сев по обеим сторонам кровати, взяли руки Сергея Васильевича, чтобы узнать, каков у него пульс, и я заметила, как они удивленно переглянулись — сердце билось ровно и нормально.
Врачи, ожидая, когда проснется от наркоза Сергей Васильевич, просили меня непременно быть в эти минуты около него, в поле его зрения.
С этого дня началась героическая борьба врачей за жизнь Сергея Васильевича. Рафаил Рафаилович Сыромятников с другими врачами больницы, которых он просил вернуться из летних отпусков, прилагали величайшие усилия, чтобы спасти Сергея Васильевича. В продолжение восьми дней почти не было надежды на счастливый исход, так он был слаб, такие непредвиденные осложнения появились у него.
Только 22 июня, на восьмой день после операции, врачи рискнули дать чайную ложку стерляжьей ухи, которую я влила ему в рот. Много раз после этого неслышно открывалась к нам дверь и тихим шепотом кто-нибудь из врачей спрашивал: «Усвоил?» — «Да, да, усвоил», — подходя к двери, шептала я. «Еще дайте ложку».
С этого момента появилась надежда на жизнь Сергея Васильевича, отвоеванную с таким трудом, которая с каждым днем крепла и превращалась в уверенность. Росла и радость кругом. С первых до последних дней мы встречали в больнице исключительное внимание и горячую заботу.
А о героической борьбе и неустанном напряжении спасти жизнь Сергея Васильевича всего коллектива врачей, во главе с Сыромятниковым и старшим врачом Бронниковым, я не могу вспоминать без сердечного волнения и глубокой благодарности. Особенно доктор Сыромятников показал поистине неистощимую энергию и заботу.

Живя довольно далеко от больницы, он часто ночью, беспокоясь о больном, входил вдруг в палату посмотреть, все ли благополучно с Сергеем Васильевичем, который очень медленно, почти незаметно, но определенно стал поправляться.
Возвращаясь с Менделеевского съезда, зашли в больницу навестить больного химики-профессора Залькинд, Бызов, Тидеман и Гребенщиков
[95]. Но Сыромятников их не пустил к больному. Он никого к нему не пускал.
26 июня я решилась первый раз оставить мужа на попечение медсестры и вышла погулять. От всего пережитого, и пережитого мною, надо признаться, мужественно и сдержанно, я пришла в очень плохое состояние. Появилась сердечная слабость, глубокое нервное расстройство и сильный отек ног. Перемогалась, как могла.
Врачи разрешили мне понемногу читать мужу вслух. Все, что могла найти в Рыбинске о Заполярье и о полетах к Северному полюсу, чем интересовался тогда Сергей Васильевич, я достала. Самому ему читать не позволяли.
11 июля мы уехали из Рыбинска. Приехав в Ленинград, я занялась хлопотами об устройстве Сергея Васильевича в санаторий. Несмотря на мою убедительную просьбу к начальнику академии не разлучать с мужем и устроить в тот же санаторий, моя просьба почему-то не была уважена, и, приехав в Кисловодск, я осталась внезапно одна перед дверью, которая закрылась за моим еще очень слабым мужем. С трудом нашла комнату, но, к сожалению, далеко от санатория.
Разлученная с мужем, я немедленно стала испытывать ужасную душевную тоску и нестерпимую тревогу — все ли с ним благополучно?
Когда просыпалась утром, моя первая мысль была: «Что с Сергеем Васильевичем? Не случилось ли чего?» И я тотчас же плелась к нему. Санаторий находился на высокой горе, куда подымалась бесконечная лестница, да, кроме того, надо было еще взбираться на третий этаж в самом санатории, где лежал Сергей Васильевич. Каждый раз приходила к нему измученная невыносимой болью в моих отекших ногах.
Придя к нему и видя мужа под хорошим присмотром врача и сестер, несколько успокоенная, я медленно тащилась домой. Но, вернувшись в свою комнату, через несколько минут, против всякого здравого смысла, снова испытывала нестерпимое волнение и беспокойство — что с ним? Это было сильнее меня. И я опять плелась к нему, физически невыносимо страдая.
Иногда в день ходила к нему три-четыре раза. Отеки в ногах не проходили, мое нервное состояние не улучшалось. И так проходили дни за днями. Я не спала. Ничего не могла делать, не могла работать. Наконец, пришла к заключению, что дальше так продолжаться не может и я могу окончательно потерять равновесие. Надо было что-то предпринимать. Никто мне помочь не мог. Обратилась к врачу за помощью. Осмотрев меня, он сказал: «Нервная система у вас в очень плохом состоянии. Никакое лекарство на вас сейчас не подействует. Надо сначала отдохнуть и поправиться».
Моя верная опора — Сергей Васильевич — лежал бессильный, апатичный, почти всегда в дремоте.
Думала — что делать? Долго думала, и пришла к заключению, что только сама я себе должна помочь. Трудная задача! Как бы самого себя вытащить за уши из пучины пережитых впечатлений. Решила отвлечь свое внимание, свои мысли и чувства от только что пережитого потрясения силою воли.
Заниматься живописью, делать этюды Кисловодска я не могла из-за отекших ног. Но я сознавала, что надо свои мысли и чувства направить на что-то радостное и светлое, пережитое мною. А что могло быть лучше и ближе, чем воспоминания о моем далеком детстве, таком счастливом, полном теплоты и света. И я заставила себя уйти мыслями и душой туда, в далекое пережитое прошлое.
«Сегодня начала писать свои воспоминания. Пишу первую главу: „Пожар и моя мама — героиня“». Такая запись в моем дневнике от 18 августа 1928 года. Так родились мои «Автобиографические записки».
Предпринятая мною мера против разгулявшихся нервов и сильной душевной депрессии спасла меня. Когда я напрасно беспокоилась о муже, бывало, вскакивала идти к нему, я тотчас заставляла себя взять перо, сесть за стол и писать. Благодаря тому что я стала больше сидеть дома, ноги мои понемногу начали приходить в порядок, отеки их постепенно уменьшились.
В начале сентября Сергей Васильевич настолько поправился, что мог покинуть санаторий и поселиться со мной в пансионе на Красной улице, где мы прожили весь сентябрь и начало октября.
Успокоенная восстановлением здоровья моего мужа, я почувствовала опять неудержимое желание работать. А что может быть лучше искусства, дающего художнику в процессе работы так много радости, тишины и удовлетворения!
Мы много ездили по окрестностям Кисловодска. Были на Медовом водопаде, где я сделала несколько этюдов. Любовались Замком коварства и любви. Эта скала, живописная и причудливая своими очертаниями и обрывистыми плоскостями, напоминала развалины какого-то средневекового замка.
У подножия мчится стремительный поток. Русло его загромождено камнями. Но это не останавливает бурливого, пенистого бега. Сделала акварель с этого дикого, но прекрасного уголка.
Ездила на Седло-гору, откуда видны Эльбрус и вся цепь Кавказских гор. Дивная картина! Ходили пешком к Лермонтовской скале, в Березовую балку. Я с увлечением работала
[96].
Пережитые тяжелые впечатления померкли, отошли вдаль. Появилась радость жизни. Сергей Васильевич был сравнительно здоров, бодр и с удовольствием думал о своей будущей работе.
В пансионе, где мы жили, встречались интересные люди. Вспоминаю талантливого писателя Валентина Катаева и его хорошенькую белокурую жену. Он очень увлекательно и весело рассказывал, как по утрам ходит, поднимаясь по зигзагам длинной дороги к Красному солнышку, и слушает разговоры толстых женщин, которые, лечась от ожирения, по предписаниям врачей каждое утро манежат себя этой дорогой. Подслушанные им дамские разговоры вызывали у всех неудержимый хохот и иронические замечания слушателей.
В начале октября мы вернулись в Ленинград. Приехав домой, нашла у себя приглашение участвовать на выставках в Америке, Лондоне, Лейпциге, Афинах. Немедленно занялась печатанием гравюр и подбором их
[97].
* * *
Когда я вспоминаю те годы и дружески расположенных к нам людей, которые чаще других навещали нас, передо мною сразу встает образ моего преданнейшего друга — Клавдии Петровны, бывавшей у нас почти каждый день. Ее присутствие и общение с нею приносили мне большую радость.
Еще вспоминаю, и как живой встает передо мною пленительно-благородный образ академика Матвея Никаноровича Розанова — ученого-литературоведа. Приезжая из Москвы на заседания сессии Академии наук, он почти все свободное от заседаний время проводил у нас. Много часов проходило в интересной беседе с ним и увлекательных рассказах.
Матвею Никаноровичу первому рассказала о том, что пишу воспоминания. Он мне дал хорошие советы. Во-первых, придерживаться хронологического порядка, и, во-вторых, через все написанное должен проходить стержень, связующий воедино все части воспоминаний, одна доминирующая мысль или чувство. Я много думала о его словах, а потом поняла, что мне это нетрудно сделать, так как вся моя жизнь проходила в глубокой и неутомимой любви к искусству и в непрестанной работе в этой области. Удалось ли мне это в моих «Записках»? Не мне судить.
Еще вспоминаю чудесного юношу, часто навещавшего нас в те годы Юрия Михайловича Бенедиктова
[98]. Он был совершенно необыкновенным как по своей одаренности, так и по духовной красоте и прекрасен внешним обликом. Пришел он ко мне познакомиться и попросить показать ему технику деревянной гравюры.
Это был юноша, блестяще одаренный многими талантами. Прекрасно окончил Академию художеств по архитектурному факультету. Еще будучи студентом, он сочинил проекты, по которым были выстроены некоторые специальные здания Окуловской писчебумажной фабрики. Он любил и понимал красоту архитектурного искусства. Очень увлекался живописью. Благодаря своей одаренности и кипучей жажде творчества много работал в этой области. Работал оригинально, самобытно и целеустремленно. Просматривая его живописные этюды и эскизы, я удивлялась горячей фантазии создаваемых им образов. Они ярко отражали его молодые бурные внутренние переживания, сомнения и порывы.
Он был поэт. После него остались прекрасные стихи. Кроме того, он хорошо умел читать не только свои стихи, но и стихи своих любимых поэтов, которых знал на память бесконечное количество.
Когда он начинал декламировать стихи своим молодым, приятным баритоном Клавдии Петровне и мне, каждый раз Сергей Васильевич выходил из кабинета, оставляя свою работу, и где-нибудь молча пристраивался послушать его.
Юноше этому, так необыкновенно щедро наделенному судьбою разнообразными и богатыми дарами, не суждено было долго жить.
К величайшему несчастью его родителей и ко всеобщему глубокому горю людей, знавших этого необыкновенного юношу, он умер совсем молодым, 23 лет, промелькнув между ними, как блестящий метеор.
11 ноября 1928 года мы встречали Надежду Васильевну Зубовскую — единственную сестру Сергея Васильевича. Шестнадцать лет мы с ней не виделись — значит, постарели и боялись смотреть друг на друга, чтобы не огорчиться. Она обрадована хорошим видом любимого брата. Надя постарела, но не сильно. Очень похожа на Сергея Васильевича, но маленького роста. Такие же пепельного цвета вьющиеся волосы, серо-голубые глаза и розово-золотистая окраска кожи.
Были мы с ней в симфоническом концерте. Слушали «Экстаз» Скрябина и «Эгмонта» Бетховена. Меня радовало, что ей нравилось. Она сама была очень музыкальна. Имела приятное сопрано, хорошо пела и даже сочиняла хоровые песни.
Были все втроем на опере «Джонни» Кшенека
[99]. Постановка была оригинальна, стильна. Многое умно придумано. Не было оперной поддельно-реалистической декорации, хотя были и ненужные вещи. Музыка? К ней надо было привыкнуть. Но большое дарование всегда производит впечатление.
16 ноября Надежда Васильевна уехала домой, пробыв у нас, к сожалению, только пять дней.
В 1928 году исполнилось тридцать лет моей дружбы с Александром Николаевичем и Анной Карловной Бенуа. К этому дню я написала Александру Николаевичу письмо следующего содержания:
«Дорогой Александр Николаевич!
На днях исполнилось тридцать лет, как мы познакомились. Вы пришли ко мне в Париже в 1898 году, 25 декабря, после Вашей поездки в Петербург… С этого началось наше знакомство и дружба. Для меня Ваше знакомство и дружба, Ваше внимание ко мне было большим, выпавшим на мою долю счастьем в жизни. Я всегда это так понимала и благодарила и благодарю до сих пор судьбу за это.
Вы как раз пришли ко мне в период моих тяжелых внутренних переживаний и сомнений. Когда из ученика, я чувствовала, пришло время стать художником, когда он должен знать, что ему делать и как делать. Вы меня поддержали, Вы помогли мне найти себя как художника. Вы на многое прекрасное открыли мне глаза, Вы, надо признаться, просто сделали из меня художника. И как это было сделано! Деликатно, без всякого давления и с энтузиазмом ко всему прекрасному.
Это время для меня было самое счастливое в жизни, и еще раз оно повторилось, когда я с Вами и Анной Карловной жила в Риме.
В эти дни меня сильно потянуло выразить Вам и Анне Карловне мою любовь и признательность за все, что Вы оба для меня сделали в жизни, хотя я уверена, что и без этого письма в глубине души Вы оба знаете, как я Вас люблю и ценю…»
Это мое письмо к Александру Николаевичу Бенуа было последним, кроме одной краткой и спешной просьбы прислать мне красок.
* * *
В 1926 году я поехала в Париж. Я не была за границей с 1914 года. Не знала, что делается в области европейских искусств. Мне очень хотелось ознакомиться с их новыми течениями, особенно с развитием за последние годы художественной гравюры.
Кроме того, я решила устроить в Париже свою выставку гравюр и акварелей (как оказалось потом, довольно наивное желание). Везла около двухсот пятидесяти оттисков своих гравюр и 16 акварелей.
При отъезде за границу у меня вышло большое осложнение. Французская виза, которую я просила прислать в Берлин в советское или французское консульство, была отправлена в Москву. Телеграфное сообщение об этом я получила в день отъезда, когда билет уже был взят и отменить отъезд было затруднительно. После долгих обсуждений мы с мужем решили, что я не должна откладывать отъезд, а он должен поехать в Москву с моей доверенностью, получить визу и мне ее переслать в Берлин.
24 апреля приехала в Берлин и стала ждать, когда разъяснится мое недоразумение с французской визой. Пришлось пожить в Берлине больше, чем я рассчитывала.
Этот город я никогда не любила и не восхищалась его парадными, великолепными зданиями. Он мне всегда напоминал разбогатевшего мещанина и вызывал уныние и скуку.
На следующий день по приезде я прочла в газете об открывшейся выставке Добужинского. Тотчас отправилась на нее.
Помещение выставки было комфортабельно и красиво. Выставка производила превосходное впечатление, так как на ней было много отличных вещей. Но посетителей было мало. Я побывала у Добужинского. Он материально очень нуждался, да просто бедствовал… Когда я пошла на другие выставки, то увидела, что там та же картина — полное безлюдье, а кафе, кабаре, кино были переполнены народом.
Ездила несколько раз во Фридрихсмузеум, в Купферштих-кабинет
[100] посмотреть немецких современных граверов. Приведу из моей записной книжки краткие замечания о виденных мной гравюрах во Фридрихском музее.
Вальтер Клемм — цветные деревянные гравюры, похожие на мои.
Эмиль Нольде — офорты и линолеум. Грубо, пятнисто, но часто красиво.
Эрнст Барлах — гравюры в черном. Много мелких штрихов, но без обобщения.
Карл Шмидт-Роттлуф — чрезвычайно грубые, прямые штрихи по линейке.
Эмиль Орлик (Emil Orlik) — офортные портреты.
Гравюры — подражание японцам. Много гравюр, похожих на мои или Валлотона.
Кэте Кольвиц (Käthe Kollwitz) — оригинально, грубо.
Темы — мать, младенец, материнство. Прославленная художница.
Эдуард Мюнх — много офортных портретов. Великолепна была папка со зверями и птицами — все литографии
[101].
Видела превосходнейшие офорты Джеймса Уистлера. Пейзажи, фигуры, снасти. Любовалась ими и гордилась моим учителем, который мне так много дал.
Познакомилась в музее с профессором Фридлендером — директором Фридрихского музея. Важный и чопорный немец. Ко мне он был сравнительно внимателен, так как в музее имелось довольно много моих вещей и мое имя ему было знакомо.
2 мая ездила с одним знакомым в Потсдам. Осмотрели дворец, комнаты, где жил и умер Фридрих II и где жил Вольтер. Комната Вольтера светло-шоколадного цвета и украшена деревянной скульптурой зверей, птиц и листвы, выкрашенных в пестрые тона
[102].
Гуляли по парку Сан-Суси. Били фонтаны. Особенно мне понравился фонтан, где на центральной вазе были посажены желтые и синие цветы, которые росли под водяным колпаком.
За это время выяснилось, что из Москвы мне французской визы не получить, и я послала телеграмму в Париж моим друзьям с просьбой прислать мне другую, что они и исполнили. Я с радостью уехала из Берлина и 7 мая была уже в Париже. Я любила его. Училась в нем. Потом несколько раз туда приезжала и всегда с сожалением его покидала.
Пробыла я в Париже пять недель. Это очень мало для подробного ознакомления с его современной художественной жизнью.
Первое время по приезде в Париж я потеряла немало дней на то, чтобы привыкнуть к темпу парижской жизни. Грохот, шум несущихся автомобилей оглушали и дурманили меня. Шумы эти удваивались, утраивались, резонировали в узких улицах и среди высоких стен домов.
Воздух был насыщен запахами большого и переполненного людьми города. К ним примешивался еще угарный и терпкий запах тысяч автомобилей и грузовиков. Надо прибавить к этому многочисленные яркие, резкие огни. Мелькающие фонари автомобилей. Внезапно вспыхивавшие и также внезапно тухнувшие огни реклам, казалось, просто били по глазам.
Становилось понятно, отчего после десятиминутного пребывания на улицах Парижа у меня начиналась тягостная головная боль. Я переставала что-либо соображать. Цель моего пребывания на улице терялась из виду, и получалось чувство полной растерянности.
Только неделю спустя я немного привыкла ко всей этой обстановке и стала понемногу ориентироваться в городе. Но труднее всего было выдерживать темп жизни Парижа, который, на мой взгляд, за последние годы чрезвычайно переменился. Все неслось с какой-то головокружительной быстротой. Это просто был какой-то вихрь, стремительный и бешеный. Все торопились. Все бежали. Трамваи и автобусы мчались сломя голову. На короткий миг останавливались, чтобы сменить пассажиров, и потом опять, сорвавшись с места, мчались дальше.
Под землей, в метрополитене, было не лучше. Там люди бежали со всех ног. Особенно в тех станциях, где были пересадки и станции были связаны между собой длинными подземными коридорами, выложенными белым кирпичом или кафелем. Там люди просто бежали вперегонки. К счастью, для них везде при выходах на платформы были устроены автоматические дверцы, которые вдруг сами перед носом бегущих захлопывались, если поезд уже подходил к платформе.
Французы, с которыми я встречалась, служащие в разных учреждениях, жаловались на то, что их все время торопят: «plus vite, plus vite»
{2} — обычный припев в учреждениях. Людей везде заставляли работать темпом, от которого очень скоро изнашивалась нервная система.
И вот во всем этом стремительном движении мне было очень трудно устоять перед его увлекающей силой. Выдерживать свой собственный темп, не бежать, давать себя обгонять — было очень трудно. Надо было выработать в себе умение сосредоточиться на своем собственном задании во всем этом столпотворении. Не увлекаться в сторону блестящих магазинов с веселыми окнами, выставленными книгами, журналами и всякими увеселительными зрелищами, не увлекаться, а стараться не терять цели своего пребывания на улице.
Май и июнь — два месяца в году, когда в Париже открывалось бесчисленное количество выставок. Любитель искусства бывал буквально ошеломлен их количеством и разнообразием. Чувствовал себя как бы на волнах бушующего моря, которые подхватывали и трепали его из стороны в сторону. В эти две недели между 15 июня и 1 июля бывало открыто по крайней мере (без преувеличения) сто маленьких выставок, 10 больших и 20 художественных аукционов.
Большинство выставок было раскидано по разным районам Парижа. Устраивались они большей частью в эстампных или художественных магазинах, где имелось сравнительно большое помещение. Вход свободный, почти всегда даром. Выставки устраивались низко, в rez-de-chaussée
{3}, и не приходилось снимать верхнего платья.
Бывало, иду по своим делам, вижу аншлаг, возвещающий о выставке, осматриваю ее и дальше бегу по своим делам. А если по дороге встречалась еще одна-другая выставка, то также на бегу и их осматривала.
Таких выставок я посетила множество. Точно и определенно описать каждую виденную мною я не могу. Они ложились в моей памяти одна на другую, и точного представления о каждой из них я не сохранила.
По своему направлению, по методам, по подходу к изображаемой натуре они представляли бесконечное разнообразие. Были художники, которые ошеломляли. Другие сердили своим нарочитым кривляньем, неискренностью своего искусства. Третьи оставляли равнодушной. А были и такие, которые мне давали большую радость. Были выставки крайнего искусства, резкого и малопонятного, а также и чисто академического характера.
Очень много последователей импрессионистов: Мане, Писсарро и Клода Моне. Но большинство молодых художников, работавших и искавших оценки на художественном рынке, находились под влиянием Поля Сезанна.
Были между выставлявшими художниками ученики, последователи Пикассо, но их гораздо меньше, чем последователей Сезанна.
В Париже я увидела среди всех этих бесконечных выставок персональные, очень полные выставки трех наиболее характерных мастеров: художника Александра Яковлева — члена общества «Мир искусства», выставку Сезанна, выставку Пикассо
[103].
Александр Евгеньевич Яковлев имел тогда огромный успех. Самый большой успех из всех художников Парижа. Во время его выставки не было ни одного периодического журнала или газеты, где бы не были помещены статьи и снимки с его произведений. Авторы статей высоко оценивали его дарование. Я была на выставке на второй день открытия, и из его многочисленных картин и этюдов, не менее двухсот пятидесяти, все, кроме двух, были проданы. Такой ошеломляющий успех они имели.
Надо заметить, что обстоятельства, сопровождавшие эту выставку, были благоприятны для Яковлева в смысле его популярности.
За границей существовало тогда (а может, существует и теперь) автомобильное общество «Ситроен». Это акционерное общество очень богато и много средств тратило на рекламу. Сотни тысяч расходовались на нее.
Всем известна величина и ширина Эйфелевой башни (высота 300 м). Так вот, когда темнело небо над Парижем и в городе зажигались фонари, Эйфелева башня вся ярко освещалась огнями и вырисовывалась на небе каким-то странным светящимся иероглифом. Все ее ребра, все ее железо унизано было тысячами лампочек, а во всех ее пролетах, которые по размерам очень велики (сквозь них пролетали аэропланы), занимая все пространство их, вырисовывалось имя «Ситроен». При этом все огни ежеминутно меняли свой цвет. То Эйфелева башня была кроваво-красная, то желтая, то зеленая. Каждый день такого освещения стоил огромную сумму этому обществу.
Акционеры задумали устроить экспедицию на своих автомобилях через всю Африку. Это было сделано для испытания машин, так называемых автомобилей-гусениц, их ходкости, выносливости при разных грунтах, при подъемах, спусках и так далее, а также и для рекламы.
Между прочим, об этой экспедиции был сделан фильм длиною в 27 тысяч метров. Он показывался в Opéra и возбудил колоссальный интерес.
Экспедиция была выполнена под управлением двух инженеров — М. Хаарда и Одуина Дюбревилля. Кроме этих инженеров, ехали геологи, ботаники, энтомологи — всего семнадцать человек, и был приглашен художник А.Е. Яковлев. Выбор был сделан чрезвычайно удачно. При его энергии, работоспособности он наиболее всех других художников отвечал задачам экспедиции.
Они пересекли Африку с северо-запада, выехав из провинции Коломб, направляясь на юго-восток. Достигнув южной оконечности Африки, поднялись по восточным провинциям до Мадагаскара. Переправились на остров и проехали весь Мадагаскар до северной его конечности.
Эта экспедиция была разбита на четыре группы. Яковлев находился в третьей группе. Путешествие продолжалось девять месяцев. Они выехали 28 октября 1924 года, а вернулись в августе 1925 года. Яковлев привез из экспедиции около трехсот больших рисунков и около ста живописных вещей.
Он мне рассказывал, как ему трудно было работать. Вставали они в четыре часа утра и сразу выезжали. Проехав несколько часов, делали остановку на два часа, потом опять ехали и так далее. Он мог работать только во время остановок и, конечно, без всяких удобств. Его «модели» при виде экспедиции разбегались во все стороны, и иногда очень трудно было заставить туземцев позировать. Он много видел. Он видел разнообразнейшие пейзажи. Пустыни, поросшие кустарником. Пустыни, покрытые песком. Потом оазисы, с роскошной, сказочной растительностью. Он говорил, как красиво было наблюдать издали сверху течение какой-нибудь реки в пустыне. Вдоль ее берегов узкой полоской тянулся чрезвычайно густой лес, следуя извивам реки, и так был тенист и густ, что напоминал туннель. В этих лесах им встречались дикие звери: газели, буйволы, слоны, обезьяны.
Выставка его была устроена в красивом особняке, в галерее Шарпантье, и производила сильное впечатление. Там был целый ряд портретов вождей африканских племен, их военачальников, жен, детей, женщин, девушек, юношей. Коричневые, серые фигуры — странные и очень непривычные для нас.
Вообще там женщины и мужчины поражают своей худобой и чрезмерно вытянутым костяком. Ноги, руки длинные. Но сколько типов и какое разнообразие!
Были у него картины, изображавшие домашнюю жизнь племен: женщины, готовящие обед, отдыхающие в тени деревьев с ползающими вокруг детьми. Воины в перьях, с орлиным взглядом и с гордо откинутой головой.
На одной картине был изображен балет какого-то черного короля, танцующий свой страшный танец. При этом тела всех танцоров были выкрашены белой краской, и только ладони и лицо оставлены черными. Главное украшение и одежда у танцоров — перья.
Много холстов на выставке большой величины. Одна картина была громадная. Я думаю, не меньше, чем картина Репина «Государственный совет». Она изображала пустыню. На фоне песков и неба расположилась привалом экспедиция — все ее участники, автомобили, сопровождавшие негры, и тут же поместил себя художник. Фигуры на первом плане почти в натуральную величину, и все имели портретное сходство. По композиции картина хорошо задумана и исполнена блестящей техникой.
Потребовалась огромная энергия и напряжение, чтобы ее довести до полного конца. Но меня она оставила холодной. Глядя на нее, чувствуешь, что картина заказная, официальная, что, если бы только воля художника, он бы ее не задумал делать.
Смотрела на его вещи и удивлялась этому блестящему, колоссальному таланту. Его многогранное творчество, включая все современные направления, было тем не менее классично в лучшем смысле этого слова.
Его пейзажи, изображающие пустыню с ее блеклыми тонами, с голубовато-серой растительностью, желтоватыми песками, были великолепны. Зной такой, что все подернуто дымкой, даже небо — не ярко-синего цвета. Эти пейзажи дали мне понять, что творчество Сезанна было им когда-то пережито, а упрощенная, схематическая форма изображенных предметов была близка геометрическим проблемам Пикассо.
Александр Яковлев, вмещая современное искусство, также был тесно связан с великими старыми мастерами. Его рисунки сангиной положительно мне напоминали Леонардо да Винчи, Тинторетто и других великих художников.
Когда я смотрела портреты на выставке, сделанные сангиной, акварелью или темперой, я поражалась этой необыкновенной концентрации волевых импульсов художника. Острота наблюдения, глубокое проникновение в натуру, интуитивные переживания — все собиралось, как в фокусе. Каким-нибудь небольшим движением послушной руки, какой-нибудь одной чертой или мазком он передавал все — характер модели, остроту ее жеста и свои художественные переживания.
Рисунок у него был точный, мощный, упрощенный. Все его творчество производило впечатление глубокой правды, искренности и серьезности. Ни одного штриха или жеста лишнего.
Собираясь пойти на выставку, я боялась, что увижу этнографию. Но я ошиблась. У него, в его произведениях, сочеталась острота и точность восприятия предмета и преображения его. Вы верите. Он вас убеждает, что все, что он изобразил, было именно так, а не иначе. И в то же время его подход к натуре глубоко индивидуален, а исполнение в высшей степени художественно. Есть вещи, исполненные гениально. Он сконцентрировал в своем искусстве все достижения художников XIX и XX веков, и я считаю его Рафаэлем нашего времени. Его внешность соответствовала его творчеству: среднего роста, сильный, крепкий, отличный гимнаст. Сдержанный и внешне холодный при наличии огромного художественного темперамента. Его лицо напоминало камею. Он был очень красив. Характерные черты рта выражали замкнутость и сдержанность: темные глаза, взгляд острый, наблюдательный и сторожкий, как у птицы. С прежнего времени и до моей с ним встречи в Париже прошло около десяти лет. За это время он мало внешне изменился. Весь его облик был, как и прежде, человека сдержанного, крепкого, культурного, темпераментного и в общении с людьми — благородного. Вот это Яковлев.
Хочу поместить здесь несколько биографических данных о нем. Родился А.Е. Яковлев в мае 1887 года. Умер в возрасте около пятидесяти лет, в Бостоне. Первоначальное образование получил в гимназии Мая. Окончил Академию художеств в 1912 году по мастерской Кардовского картинами: «Баня» и «Купание», за которые получил заграничную
поездку. Еще до окончания академии он выставил картину — коллективный портрет своих товарищей — общество «Мир искусства». В 1914 году он уехал за границу.
Война застала его в Италии. Он главным образом жил в Риме, потом ездил на Майорку, побывал в Испании. Привез в Россию картины: «Скрипач», «Виолончелист» и портрет американского художника. В 1915 году ездил в Китай, где много работал. В 1916 году опять вернулся в Россию, но вскоре уехал в Шанхай, откуда привез работы: «Рыбаки», «Китайский театр» и др. В 1917 году он уехал за границу, где работал и умер…
На выставке Сезанна было очень много народу. Интерес к ней, видимо, и среди широкой публики, и среди художников был очень большой. Глядя на его натюрморты, пейзажи, портреты и композиции, я думала о том, как странно, что одно время его считали импрессионистом. Какое это было недоразумение. Он резко отвергал академическое искусство и искусство импрессионистов, прокладывая собственный, но для идейного реалистического искусства неприемлемый путь.
Сезанн признавал только локальный тон предмета.
В то же время Сезанн сосредоточивал свое внимание на передаче интенсивного, наиболее полнозвучного тона, старался связать его со светом, с тенями и рефлексами. Он часто употреблял синий цвет, считая его наиболее подходящим для передачи игры света на изображаемых предметах. Отыскивая и давая самую сущность предмета, он проводил широкое обобщение, отбрасывая все случайное, второстепенное.
Французы считают его продолжателем великих реалистов прошлого: Тинторетто, Тициана. А я нахожу, что в области цвета и тона живописи и созвучия ее он шагнул дальше этих венецианцев. Богатство его красок напомнило мне испанского художника Теотокопули (прозванного Эль Греко). У него совсем другая была гамма живописных созвучий, красок, не в этом их сходство. Сходство — в неисчерпаемом богатстве живописи, в ее силе и мощности. Они оба умели глубоко проникать в тайные законы краски и колорита, понимая их каждый по-своему.
Но живопись Сезанна монолитнее, чем у Эль Греко. Все части его картины связаны между собой и образуют удивительную гармонию в передаче сущности материи.
У Сезанна при жизни было много врагов среди художественных критиков, среди товарищей. Его часто упрекали в неумении рисовать. И вот на выставке, среди собранных его вещей, взятых из разных частных собраний, я наслаждалась многими, отлично нарисованными и хорошо построенными. Но конечно, глядя на его творчество, можно прийти к заключению, что он был главным образом колорист. Проблемы графического рисунка его не интересовали.
Эта выставка доставила мне огромное удовольствие, тем более что к нему присоединилась радостная мысль, что, вернувшись в Россию, я, как и прежде, не раз смогу доставить себе наслаждение искусством Сезанна. Ведь мы, русские, имеем в Москве великолепные образцы его искусства. А среди русских художников есть многие, которые испытали на себе влияние Сезанна…
Относительно третьего выдающегося мастера, выставку которого я видела, буду более кратка.
Художник Пикассо имел, как и Сезанн, большое влияние на поколение молодых художников. Я говорю это на основании мною виденных многочисленных маленьких выставок.
Уже несколько лет слышала я разговоры о том, что Пикассо круто повернул курс своего искусства и стал писать реалистические вещи. Он как бы отказался от своих прежних догматов, чем вызвал крупное неудовольствие среди своих учеников и последователей.
На выставке его произведений картин с реалистическим направлением я не видела, хотя там были работы начиная с 1918-го по 1926 год включительно. Были выставлены главным образом натюрморты и композиции из женских фигур: женщина у окна, женщина-скульптор, женщина с мандолиной. Геометризм в его творчестве перешел в законченную систему кубизма.
Искусство Пикассо умозрительно, догматично и надуманно. В искании геометрических форм он нарушает все законы логики и создает свой мир нереальных, искалеченных и не могущих жить людей.
Его искусство озадачивает, ошеломляет, бьет обухом по голове, но и только. Например, картина: большая ровная поверхность, посыпанная крупой или грубым песком. Крупа покрыта черным каретным лаком. Немного сбоку проходит вертикально неширокая голубая полоса и под углом к ней — белая. Это все.
Определенно чувствуется, что у художника одна цель — удивить зрителя.
В дни выставки Пикассо ежедневная пресса его очень бранила, и были авторы, которые восклицали: «Как, выставка Пикассо! Он, значит, жив, а мы думали, что он давно уже умер!»
Когда я была на выставке, кроме меня, никого не было. Только один гражданин, очевидно заведующий выставкой, показывал двум американцам произведения Пикассо.
У нас в Москве Пикассо хорошо и обильно представлен в бывшей Щукинской галерее. Есть там его ранние работы, когда он писал просто и реально, и потом — целый ряд его картин, показывающих постепенный ход его развития в сторону кубизма. Занятные, талантливые вещи.
Вообще, любопытный и одаренный художник, но за последнее десятилетие ничего нового не давший.
Вот эти три персональные выставки, которые остались у меня в памяти.
* * *
Будучи в Париже, я большое внимание обратила на французскую современную гравюру на дереве и линолеуме. Выставок гравюры в мое пребывание в Париже не было. Приходилось знакомиться по разный источникам.
Гравюрой на дереве или линолеуме в то время увлекались многие. Огромное количество художников работало в области этого искусства. Но эстампной гравюры почти совсем не было, а все гравюры как украшение книги и как иллюстрации. Сотни, сотни книг издавались тогда в Париже, и все они были украшены гравюрой на дереве или на линолеуме. И книги были сравнительно дешевы. Между ними много было, как говорится, «халтуры», но встречались и прекрасные работы.
Отмечу: Максим Вокс (Maxime Vox). Иллюстрации к книге Бальзака «Les gens du monde». Ловко нарисовано, с известной грацией, может быть, скорее с манерностью. Хорошо вырезано.
Симеон (Siméon). Иллюстрации к «Le magasine Auréoles-Rebell es». Это большой мастер. Гравюра у него штрихованная, суховатая, но очень хорошего стиля.
Клеман Серво (Clément Serveau). Иллюстрации к книге «La maison de Claudine», автор — Colett. Хорошие гравюры грубого, примитивного характера, но имевшие большие достоинства
[104].
Можно перечислять без конца граверов и книги, украшенные ими.
В общем скажу — французская деревянная гравюра (и линолеумная) сделала огромные шаги за то время, как я не была во Франции. Она развивалась в сторону упрощения, раскрепощения от ее оков рисунка карандашом, пером, кистью.
Художники начали искать новые пути в технике, наиболее присущие гравюре. Резец — выразитель воли художника и материал — дерево, металл, линолеум. Резцу возвращено огромное самостоятельное значение. Его характерные черты, его сущность в то время особенно подчеркивались французскими граверами. Из этого не следует, что в гравюрах преобладала белая линия, белая штриховка резцом. Такая гравюра напоминала негатив. Черные линии, черной штриховке и черному пятну оставлено прежнее место, но трактовка их другая.
Кроме книг, которые я просматривала в большом количестве (в Париже принято часами сидеть в книжном магазине и просматривать книги), я заходила во многие эстампные магазины. Там мне любезно предлагали целый ряд папок, наполненных гравюрами разных художников.
Особенно мне понравился гравер Лабурер
[105]. Он пользовался крупной известностью. Большею частью он резал на меди, но не травил. Его искусство немногословно. Линия почти везде одинаковой толщины напоминала тонкую проволоку. Штрихи сухи и остры, он редко прибегает к штриховке. Но все его гравюры — верх совершенства. По стилю, по изысканности, по грации — ему не было равного. Для него творчество Пикассо не прошло даром. Его рисунок геометричен, упрощен, смел, остроумен, но нигде он не переходит границ нелепого. Его искусство меня волновало и радовало. Темы его большею частью — фигуры людей на фоне пейзажа. Все больше нежные парочки, сидящие, гуляющие. Видела гравюру, изображающую двух мужчин, удящих рыбу. Эта гравюра была верх остроумия и совершенно своеобразного миросозерцания.
Жак Буллер делал чудесные пейзажи
[106]. У него великолепно чередовались в гравюре черные и белые пятна и между ними полутона, исполненные посредством инструмента грубой штриховкой вперемежку с тонкой. Я не нахожу слов передать красоту его гравюр.
Еще остановил мое внимание интересный гравер Галани
[107]. Он делал обнаженные женские фигуры: техника грубая. Грубые контуры, черные тени, а свет и полусвет исполнены штриховкой с помощью инструмента vélo. Вообще vélo в большом ходу у французов. Они им пользуются с большим совершенством. Я могла бы еще много перечислить французских граверов, более или менее интересных, но, я думаю, этого будет довольно.
Из русских граверов наиболее известен среди французских собратьев Иван Лебедев. Он иллюстрировал «Короля Лира», «Гамлета», сказки Пушкина. Он хорошо чувствовал возможности резца и дерева и пользовался ими смело и просто
[108]. Его гравюры для книги «Когда дрожит земля» (не помню автора) исполнены были в русском стиле, остроумно и забавно.
Другой русский гравер — Белобородов
[109] — совсем иного уклона. Он делал тоновую гравюру в духе camaïeu в три-четыре доски. По специальности и образованию он архитектор. Мотивы его гравюр архитектурного характера. Большей частью Рим, окрестные виллы, храмы, мосты. Гравюры его ни по технике, ни по приемам не давали ничего нового. На него не влияли новые явления в области гравюры (да и жизнь вокруг). Он замкнулся в самом себе и жил прежними великими эпохами в искусстве. Эпохи Средневековья и Возрождения его привлекали главным образом. Гравюры его были стильны, тона подобраны с тактом и вкусом, но пульса жизни в них не было. В прошлом году он устроил в галерее Шарпантье свою выставку и имел успех.

Из русских художников я многих видела в Париже. Успешно работал Александр Бенуа. Скоро должна была открыться его выставка
[110]. Потом я видела Николая Бенуа, который работал по театральному искусству. Сомов делал портреты американок и кончал иллюстрировать книгу «Манон Леско». Встречалась с Шухаевым, Борисом Григорьевым
[111], Билибиным, Серебряковой, Александром Яковлевым. К русскому искусству во всех его проявлениях за границей относились с большим вниманием и уважением. Все художники работали и находили заказы, кто успешно, кто — менее. Это зависело, кроме таланта, и от характера художника. Но все работали много.
* * *
Когда я стала выяснять условия и возможности устройства своей выставки в Париже, то увидела, что я не смогу этого сделать. Во-первых, все лучшие выставочные помещения были заняты вперед на целый год, а во-вторых, я узнала, что на прессу надо при устройстве выставки потратить большие деньги, которых у меня не было. Иначе выставка не будет замечена. Пришлось отказаться от этой затеи.
Но я не теряла даром времени: упросила композитора Сергея Сергеевича Прокофьева мне позировать. Он ведь некрасив, но лицо характерно и выразительно. Его многие зовут «белым негром». Мне хотелось его портрет прибавить в собрание сделанных мною портретов.
Он позировал раз шесть, семь. Я его изобразила с приподнятой рукой, в которой папироса в длинном мундштуке. Еще я сделала в Париже портрет его жены — певицы Льюбера
[112].
Эти портреты задерживали меня в Париже, а то бы я скорее вернулась домой. Самое большое удовольствие для меня было в те дни бродить по Парижу. Все очень доступно. Повсюду рассыпаны драгоценные алмазы творчества человека. В самых глухих закоулках Парижа, в самых маленьких лавчонках, заваленных всяким старым хламом, можно увидеть в окне интересную картину, или акварель, или какую-нибудь фарфоровую или майоликовую вещь. Иногда просто приклеенную к оконному стеклу чудесную гравюру или рисунок старого мастера.
Но больше всего я любила бродить по набережной Сены, где в тени каштанов тянулись сплошной полосой от моста Каруссель до бульвара Сен-Мишель ящики букинистов, прикрепленные на гранитном парапете набережной. И чего в этих ящиках не было! Старые книги, учебники, трактаты по разным отраслям науки, нередко украшенные недурными гравюрами и часто в старинных кожаных переплетах с золотым тиснением. Классики, поэты, современные беллетристы. Здесь же нередко можно было встретить литографии, подцвеченные акварелью неизвестным автором и часто с большим совершенством. Старинные модные картинки, ноты, песенки, всего не перечислишь. К счастью, я не страдала страстью к коллекционерству, а то могла бы совсем разориться. Хозяева этих ящиков, большей частью сгорбленные старые люди, здесь же сидели на складных стульях и дремали в тени деревьев. В просветы между ящиками мелькали и играли струи светло-зеленой Сены. Напротив, на другом берегу, высились стены Лувра, а там, вдали, виднелись башни собора Парижской Богоматери. Еще я любила ранним утром бродить по рынку цветов. Он был расположен на живописном месте, в Ситэ, недалеко от собора. Такой праздник для глаз! Цветы расставлялись по сортам и по краскам, с известным подбором и с большим вкусом. Какие сочетания, какая яркость тонов! Они вдохновляли художника на новые красочные созвучия.
Центральные кварталы Парижа, его магазины, рестораны, кафе меня не интересовали. Мне была внутренне чужда эта нарядная суетящаяся и пестрая толпа. Деловая рабочая публика только в известные часы дня наполняла улицы и быстро растекалась по разным направлениям.
Глядя на множество фланирующих, незанятых людей, я думала о том, что они всегда были чужды мне, а теперь в особенности. После нашей Великой Октябрьской социалистической революции я приехала в Париж с совсем другой психологией. Многие отрицательные стороны и явления парижской жизни, которых я прежде не замечала, стали бросаться мне в глаза.
Ежедневная пресса, казалось мне, слишком была наполнена мелкими житейскими событиями, банальна и как-то без перспективы, без будущего. Ведь я приехала из страны, где с величайшим революционным размахом строилась новая, социалистическая жизнь. Контраст был огромный.
Мои товарищи по «Миру искусства» относились ко мне излишне осторожно, недоверчиво и отчужденно. Я в Париже чувствовала себя чужой. И очень скоро, несмотря на всю яркость и красоту жизни в Париже, стала стремиться домой. Считала дни, когда опять попаду в мой родной прекрасный город, в мой дом, к моему мужу.
После моего возвращения из Парижа мы уехали на летние месяцы в Коктебель. О прекрасной и интересной жизни там я уже писала…
Осенью в Ленинграде мне пришлось три раза читать отчет о моей поездке за границу: на заседании комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ) на Мойке, в бывшем особняке Юсупова, потом в «Ассоциации современных течений в искусстве» и в «Общине художников».
Январь 1945 г.
VI.
Поездка по Волге, военно-грузинской дороге и жизнь в Аджаристане
Наконец мы приступили к осуществлению нашей заветной мечты — поездке по Волге и Военно-Грузинской дороге, конечная цель которой было местечко Цихис-Дзири, около Батума.
Последние дни пребывания в городе принесли Сергею Васильевичу и мне много хлопот и утомления. Надо было заканчивать наши дела. Наступил июль, а мы еще не начали нашего отдыха.
Решили ехать через Рыбинск, где так тяжело год тому назад болел Сергей Васильевич. Хотели еще раз повидать спасителя его, доктора Р.Р. Сыромятникова.
2 июля мы приехали в Рыбинск и прямо с вокзала отправились к нему на дом, но Рафаил Рафаилович был уже на работе в больнице. Поехали туда, и нам удалось только несколько мгновений его повидать и кратко обменяться сердечными приветствиями. Работа его, как хирурга, была на полном ходу, и нам нельзя было у него отнимать драгоценное время.
В четыре часа отошел наш пароход. Ощущение покоя, комфорта, тишины и еще чего-то, что пока не осознано. Все это путешествие по Волге представляется мне теперь, да и тогда, каким-то прекрасным сновидением.
Пароход легко скользил по водному пространству мимо таких родных и ласковых берегов.
Города и села, как в сказке, вереницей проплывали мимо, не давая нам ощущения реального. Дождь, который не переставая шел все дни нашего путешествия, тоже способствовал этому впечатлению, как бы отделяя нас своей пеленой от внешнего реального мира.
В первый же день, в сумерках, в Ярославле промелькнул силуэт старинного собора на золотом фоне неба.
Утром следующего дня издали любовались на Плес, исключительное место по своей красоте. Туда ездил на этюды наш знаменитый художник-пейзажист И.И. Левитан.
За потоками непрерывного дождя прошли мимо нас старинные городки: Кинешма, Решма, Юрьевец, Пучеж. Это все старинная костромская Русь, с родным для нашего русского сердца пейзажем, со своими бесконечными горизонтами и бесчисленными церквами и монастырями.
Но как ни живописны, как ни ласковы были берега, все-таки наша матушка-Волга была лучше всего! Даже берегов не надо! Необъятная ширь ее водного пространства прекрасна! Она так ярко воплощает широкую удаль и вольность русского человека, его величественную красоту, его гостеприимную и неиссякаемую щедрость. Дни были жаркие. Несколько раз налетали грозы. Восхитительно облачное небо, отдаленные и близкие полосы дождей! Все это было несравненно, незабываемо.
В легкой дымке уже издали стал показываться Нижний Новгород, ныне город Горький. Все яснее и яснее вырисовывались террасы домов, церкви, сады, кремль, весь красивейший амфитеатр Нижнего, живописно спускающийся к Волге и Оке.
Здесь у нас была пересадка, на другой, большего размера пароход. Имея некоторое количество времени до отхода парохода, мы сели на извозчика и объехали город. Вид из Нижнего на Волгу и Оку замечателен. Дух захватывало от впечатления широты и размаха пейзажа, его бесконечных горизонтов с синеющими вдали лесами. Когда-то в юности я была проездом в Нижнем Новгороде, и о нем я говорю в первом томе моих записок.
Стоя на палубе отходящего от пристани парохода и любуясь великолепной панорамой города, мы с Сергеем Васильевичем припоминали знаменитых уроженцев его: Мельникова-Печерского, Максима Горького, Н.А. Добролюбова, композитора М.А. Балакирева и многих других.
На протяжении нашего упоительного путешествия по Волге Нижний Новгород был единственный город, который нам удалось хоть наскоро объехать, реально его почувствовать. Но посетить его музеи мы не смогли, так как нам пришлось быть в нем очень рано утром, когда город еще спал.
На следующий день подъехали к Казани, к столице Татарской республики. С Волги город виден хорошо, хотя он и далеко. Можно различить кремль, Спасскую башню и башню Сумбеки, бывшую когда-то минаретом главной мечети. За неимением достаточного времени не смогли съездить в город.
Поздно вечером, в тот же день, проехали Тетюши. Местность красива. Высокий холмистый берег, покрытый лесом, круто сбегает к Волге.
Ночью прошли мимо Ульяновска. Утром очень рано встали, чтобы не пропустить Жигулевы горы. Они красивы. Но признаюсь, Жигули интересовали меня более теми полными романтизма легендами, которые связаны с именами Емельяна Пугачева, Степана Разина и других.
За Жигулями — Самара. И после Самарской дуги Волга становится еще шире и полноводнее. У Саратова и далее она грандиозна. Часто покрыта островами. То оба берега низкие, то правый в меловых холмах.
Я безудержно рисовала. Если на носу парохода было ветрено, то уходила работать на корму. Позади парохода, от его винтов, поверхность реки была покрыта крупной рябью. И это жаль — нет отражения в воде ни неба, ни берегов.
Нас забавляли чайки — красивые смелые птички. Все время вьются около кормы, сопровождая пароход. Ловят на лету кусочки хлеба (только белого), подлетая совсем близко к борту, не боясь людей.
Проплыли мимо Ставрополя и Царева кургана. Здесь когда-то два замечательных художника — Илья Ефимович Репин и Федор Александрович Васильев — писали этюды, и Репин зарисовал типы бурлаков для своей будущей знаменитой картины «Бурлаки»
[113].
Волга величественна и благожелательна, как любящая мать. В блаженном созерцании мы плывем все дальше и дальше. Пароход точно висит в розово-голубом пространстве. Но скоро, слишком скоро приходит конец нашему путешествию. Шесть упоительных дней промелькнули, как благостный сон, наполненный прекрасными видениями. Я и наслаждалась, и все время усиленно работала. Сделала в альбоме сорок шесть акварельных набросков, которые остались реальным воплощением пережитых нами волжских впечатлений
[114].
8 июля утром мы прибыли в Сталинград, где сели на поезд, и на следующий день вечером приехали во Владикавказ.
По дороге узнали, что здесь десять дней подряд шли сильные дожди и Терек натворил массу бед. Все дни во Владикавказе мы терпели неудобства благодаря сумасшедшему Тереку. В лучшей гостинице, где мы остановились, не было воды и вечером не было света, так как повреждены водопровод и электрическая станция. Все только и говорят о бедствиях, причиненных Тереком. Два дня тому назад он едва не снес в городе мост. Рабочие его спешно укрепляют.
Под вечер ходили в городской парк, на Стрелку, откуда открывается панорама на главный Кавказский хребет, Казбек и Столовую гору. Снежная вершина Казбека сияла, освещенная заходящим солнцем.
Наняли фаэтон с тройкой лошадей до Тифлиса за сто рублей. В экскурсионной базе отказались нас везти из-за серьезных повреждений на Военно-Грузинской дороге, причиненных неистовым, безумным Тереком. Нам это было неплохо — ехать самостоятельно и одним. Мы могли останавливаться где нам понравится.
Выехали 11 июля в пять часов утра. Настроение бодрое, чудесная погода и, что большая редкость, — отсутствие пыли. Возница — симпатичный, красивый молоканин.
Фаэтон — старый рыдван, но мягкий, поместительный и на хороших шинах. Лошади — порядочные клячи, и одна из них хромает.
Едем вдоль Терека по левому берегу, по зеленой долине. Терек — мутно-коричневый, с седыми гребнями, беснуется как одержимый. Клокочет, ревет и воет, словно дикий зверь. Дорога все дальше и дальше проникает в ущелье, которое постепенно сужается. Горы надвигаются все ближе. Склоны их покрыты лесом и травой. Постепенный, незаметный подъем. На гребнях гор видны остатки башен каких-то укреплений. Лепятся аулы ингушей и осетин.
Чудесная прогулка! Останавливаемся очень часто, как только мне захочется что-нибудь зарисовать.
Сергей Васильевич очень наслаждается и терпеливо относится к частым остановкам. Иногда уходит вперед, пока я рисую, и потом мы его догоняем.
В девяти километрах от Владикавказа мы проехали мимо развалин бывшего укрепления «Редант» и видели группу скал, сорвавшихся с гор.
Долина все сужается, и по сторонам начинают нависать обнаженные остроконечные скалы. Они тут, близко. Я трогаю их острые края. Все очень величественно и грандиозно, и трудно передать в маленьком альбоме торопливыми штрихами громадный масштаб этих гор. Проезжаем станцию Балта. Дорога лепится по неширокому карнизу, вырубленному в скале. Глубоко внизу ревет и воет Терек. Во многих местах потоки дождя смыли с дороги каменный барьер, ограждавший путников от падения вниз, да и дорога сама сильно пострадала. Лошади пугливо озираются и невольно жмутся друг к другу.
Приехали в Ларе. Около крепости и горы, на которой виднеются остатки замка Тамары, мы делаем отдых. У загорелой статной грузинки в ее скромном жилище пьем чай, закусываем. Лошади отдыхают. Ямщик засыпает непробудным сном, забравшись в фаэтон и подняв верх. Мы бродим кругом. Мрачно, дико, обнаженно. Вдали громадный, так называемый «Ермолаевский» камень, принесенный лавиной, сорвавшейся с Девдоракского ледника в 1832 году.
Часа два спустя отправились дальше. Начинается Дарьяльское ущелье. Это самая узкая теснина, в глубине которой воет и бьется бунтующий Терек. Огромной вышины гранитные скалы почти отвесно обрываются вниз, разделенные между собой узкой, глубокой щелью.
Необыкновенно красиво, величаво и сурово.
Перед грандиозностью окружающей природы человек невольно испытывает чувство ничтожества и своей малости. Но когда едешь над огромной глубиной по узкой дороге, высеченной в отвесных скалах человеком же, то думаешь: да нет же! Ведь как могуч человек, умеющий покорять такие чудовищные преграды суровой, недоступной природы. Человеческая воля оказывается тверже гранита!
Едем дальше. Да, забыла сказать, что после станции Ларе два раза переезжали Терек. Сначала переправлялись по железному мосту на правый его берег, а потом, по Гвилетскому мосту, на левый.
К четырем часам мы приехали на станцию Казбек и остановились в гостинице «Европа».
От Казбека мы были в восторге. Благодаря ясному, прозрачному воздуху Казбек светлым силуэтом выделялся на вечернем небе. И ласковое, розовое облако лежало на его плече. Он производил незабываемое впечатление спокойной, величавой красотой, несмотря на то что по высоте он среди гигантов Кавказских гор занимает шестое место. Но он своими линиями, очертаниями, такими широкими и грандиозными, производит не передаваемое словами впечатление.
Слева от него, по крутой горе (его отроге), почти черным силуэтом выделялась старинная грузинская церковь Цминда-Самеба (Святая Троица).
На следующий день, рано утром, первым моим движением было побежать на террасу и посмотреть, виден ли Казбек. И какое счастье! Тумана нет. Он здесь, большой, реальный, блестит белой ризой на ярко-синем небе. Жадно смотрю на него.
В пять часов утра мы выезжаем, проглотив наскоро по стакану простокваши. Очень свежо. Чудный прозрачный воздух. Дорога поднимается все выше и выше по Хевскому ущелью, по правому берегу Терека. Это ущелье хотя и шире Дарьяльского, но такое же мрачное, с огромными гранитными и порфировыми скалами. Они подернуты утренним туманом и чем больше уходят вдаль, тем воздушнее их очертание.
Очень красива была дорога около старинной крепости Сиони, расположенной на выступе крутой скалы. У подножия ее рассыпался аул. Башня и старинный грузинский храм характерной кавказской архитектуры. Сзади аула видна лиственная роща (большая редкость для здешних суровых мест).
Все время встречаются разрушения, произведенные неистовым Тереком. В одном месте шоссе метров на восемьдесят все обвалилось, до последнего камня. Мы много раз выходили из фаэтона и пешком пробирались по разрушенной дороге, в то время как рабочие, чинившие ее, помогали нашему вознице переправить фаэтон и лошадей через поврежденный путь. Они удивлялись нашей смелости ехать по такой испорченной дороге, но, смеясь, одобрительно похлопывали Сергея Васильевича по плечу.
Кроме рабочих, на дороге — ни души. Автомобили нас не обгоняют, встречных тоже нет. Мы в полном уединении, и ничто не нарушает нашего наслаждения природой.
Около станции Коби, в последний раз оглядываясь назад, видим Казбек и прощаемся с ним надолго: «Прощай, прощай, дорогой наш великан, чудный Казбек! Благодарим тебя! Ты показался нам во всей красе, и вечером, и утром!»
Здесь мы наблюдали впадение реки Байдары в Терек и прощались с ним. Дорога наша шла уже по долине реки Байдары, по Байдарскому ущелью.
К полудню, перед тем как подняться на перевал, до высшей его точки на горе Крестовой, мы проезжали опасный участок дороги, подвергающийся снежным завалам. На ней созданы укрепления, спасающие путников от этого несчастья. Видели каменные галереи, валы и рвы по обе стороны дороги. Проезжали траншеи с каменными сводами и железобетонными крышами. Ехали точно в тоннеле.
Но наконец мы на перевале. Горный пустынный пейзаж вокруг нас. Золотисто-рыжая трава горных лугов перемежается со снежными равнинами. Хрустально-чистый воздух легко вливается в грудь. Над головой голубая, бездонная высь. Тишина. И мы в этой тишине, отрешенные от всего земного…
Делаем несколько шагов вперед, и неожиданно перед нами открывается пейзаж неописуемой красоты. По яркости и силе впечатления это превосходит все, что мы до сих пор видели и пережили.
Представьте себе: обширная долина, глубокая, как бездна, вдруг открылась под нашими ногами. За ней, прямо перед нами, кажется, совсем близко, можно рукой дотронуться, цепь Кавказских гор со снежными вершинами: Гуд-гора, Красная гора и группа из семи вершин, называемая Семь братьев. Далеко и глубоко, на дне долины, течет Белая Арагва, пробираясь из ущелья тонкой вьющейся серебристой лентой. Все дали внизу, в глубине, подернуты голубой, нежной дымкой. Нельзя словами передать такую красоту! В безмолвии стоим и смотрим. Все так величественно. Вершины гор ослепительно белы и до странности кажутся близкими. Каждый штрих, каждая впадина на горах четко и ясно видна благодаря чистому, прозрачному воздуху. Стоим и смотрим, не в силах оторваться…
Но надо ехать дальше. Бросаем последний взгляд на эту незабываемую панораму и трогаемся в путь.
Дорога спускается довольно полого, но в некоторых местах идет по карнизу на самом краю бездны. Страшно смотреть вниз. Доезжаем до станции Гудаур, которая расположена на таком же карнизе над обрывом (высота его больше двух километров над уровнем моря).
После Гудаура начался стремительный головоломный спуск к Млетам. Я жестоко страдала. Вид такой глубокой пропасти под ногами вызывал у меня сердцебиение. Пришлось оставить экипаж и пешком тихонько проделать всю дорогу вниз. Спуск этот носит название Земомлетского и проложен в отвесных скалах левого берега Арагвы. Идя пешком по дороге спуска, мы проделали все зигзаги этой головокружительной каменной спирали, причем сосчитали на ней восемнадцать крутых поворотов. Только гений человека мог создать эту дорогу, покорив такую недоступную, суровую природу.
Но наконец мы внизу, в Кайшаурской долине. С облегчением вздохнула, когда спустилась к Млетам. В Млетах мы напоили лошадей около каменного моста и поехали дальше вдоль Арагвы. Везде на горах и холмах лепятся аулы, церкви, башни. Все это чрезвычайно оживляет пейзаж. Он становится более веселым, радостным, приветливым. Ограды из камня пропадают, и вдоль полей и огородов вьются жгуты из сухих веток, которые на солнце принимают очень красивый, сине-стальной цвет. Одно из самых очаровательных явлений Военно-Грузинской дороги — это многочисленные ручьи, которые низвергаются с гор. Куда ни взглянешь на горы — высоко-высоко, — везде блестят серебряные нити, они необыкновенно сверкают на солнце, пропадают и потом ниже опять появляются, пенятся, бегут и часто падают с высоты восхитительными водопадами. И около них летает облако брызг. При нашем проезде было их особенно много после продолжительных и сильных дождей, о которых я уже упоминала…
В Пассанаури мы ночевали. Гостиница утопала в цветах. Огромное дерево — куст роз, сплошь покрыто ярко-красными цветами. Розы висели гроздьями по четыре, по пять цветов вместе. Большой медвежонок ходил на цепи, становился дыбом и рычал.
Ужинали на воздухе, в виноградной беседке. Подали яйца и вареную мелкую форель. Вечером, почти в темноте, ходили на берег Арагвы и полоскались в ее пене. Светила полная луна.
Утром выехали очень рано. Вознице нашему нездоровилось, он на станции Казбек выкупался в Тереке, и его знобило.
Недалеко возле Пассанаури в Белую Арагву впадает Черная Арагва, и светлая вода первой на некотором протяжении не сливается с темной водой Черной Арагвы. Вскоре наша дорога покидает долину реки Арагвы. Наконец, Ананур.
Будучи в Пассанаури, мы вечером разговорились с одним местным жителем. Он, узнав, что мы едем в Тифлис, рассказал нам про исторические события, совершавшиеся когда-то в Анануре, мимо развалин которого мы должны были завтра проезжать.
Это была когда-то сильная крепость, богатый дворец и каменная церковь. Во дворце жили арагвские эриставы — наследственные правители окружающей области. Они оберегали границы Грузии от набегов враждебных племен. Здесь происходили частые нападения, битвы и резня.
В 1739 году на крепость напал ксанский эристав Шанше, живший на реке Ксане. Он осадил крепость, в которой заперся эристав Бардзим, решивший не сдаваться. Осада продолжалась долго и, может быть, окончилась бы отступлением врага, если бы не предательство одной женщины. Она указала неприятелю, где находится скрытый водопровод, питающий осажденных. Водопровод был разрушен, и через некоторое время гарнизон крепости сдался и был весь уничтожен. Эристав Бардзим с семьей заперся в церкви и там был сожжен. Крепость и замок разрушены, и род арагвских эриставов весь, до последнего человека, истреблен.
Зарисовала развалины крепости с зубчатыми стенами, с башнями, сложенными из грубого булыжника. Церковь — характерный образец грузинской архитектуры с очень красивым орнаментом, высеченным из камня.
От Ананура мы свернули в другую долину и покинули Арагву.
Очень красив подъем к Душету. Он все время идет зигзагами. Горы возделаны под злаки и овощи и играют разными оттенками зеленых тонов. Они обнесены плетнями из перевитых прутьев.
А какая, должно быть, радостная и благословенная страна Грузия весной, когда все цветет!
Местечко Душет остается в стороне. Делаем привал на краю дороги под большим платаном.
К четырем часам приехали в Мцхет. Мы уже устали от путешествия. Мне не хочется работать. Сказывается третий день большого напряжения в работе и от пережитых сильных впечатлений. Гостиницы близко не было, а городок лежал в нескольких километрах. Доехав до железнодорожной станции, мы покинули нашего возницу и решили ехать в Тифлис поездом.
Вечером приехали в Тифлис. Окончилось наше дивное путешествие. Прожито три чудесных, прекраснейших дня.
Все, что я нарисовала на Военно-Грузинской дороге, мало передает то величие, которое нас окружало и к которому мы приобщились. Человек и велик, и немощен. Велик, когда он проводил и прорубал дорогу через толщу Кавказского хребта, и как бессилен передать на бумаге все грандиозное величие природы. Горы и пропасти никак не хотели укладываться на листках моего альбома. Сделала я пятьдесят восемь рисунков карандашом. Не все из них меня удовлетворяют.
В Тифлисе мы уже бывали не раз, но всегда проездом, от поезда до поезда. Пробыли в нем два дня. В первый же день отправились к моему товарищу и другу художнику Е.Е. Лансере. Застали его дома, но он очень торопился окончить какой-то заказ перед своим отправлением в экскурсию в Сванетию
[115]. Были мы недолго, обещав прийти на следующий день.
Навестили также ученицу Сергея Васильевича, химика, Русудану Николаевну Николадзе. У нее мы познакомились с ее сестрой Тамарой Николаевной и с их матерью, очаровательной старушкой, Ольгой Александровной. У них обедали. Они угощали нас национальными грузинскими кушаньями.
У них уютно и тепло. Под вечер, вместе с сестрами Николадзе, ходили смотреть старые кварталы Тифлиса. Ходили на мост через Куру. Видели бывшую крепость Метех. Потом со второго моста я сделала рисунок старой мечети и домов, висящих над водами Куры.
Вечером были у Лансере. Евгений Евгеньевич показывал свои работы: натюрморты, одно большое декоративное панно и много этюдов Сванетии. Он советовался со мной, устраивать ли ему выставку своих работ в Русском музее в Ленинграде. Я, конечно, советовала, так как выставка, без всякого сомнения, была бы интересна.
Утром целой компанией, во главе с Тамарой Николаевной, отправились бродить по старому Тифлису.
Сначала пошли в ботанический сад по длинному холодному тоннелю. При выходе из него я сделала рисунок. Нагромождение домов с открытыми террасами на высокой скале, у подножия которой, глубоко в ущелье, течет какая-то речонка. Старые кварталы быстро исчезают в Тифлисе. Их уничтожают, расширяя улицы. Сделала еще два рисунка карандашом. Мои провожатые необыкновенно были милы со мной, терпеливо ожидали, пока я рисовала, стараясь мне не мешать, а быть чем-нибудь полезными. Особенно мила, очаровательна была Тамара Николаевна. Она меня обворожила совершенно.
17 июля мы покинули Тифлис, направляясь в Аджаристан. На следующий день приехали в Цихис-Дзири, к Ростовцевым.
За полчаса до нашей станции я стояла у окна и думала: «Ничто не напоминает тропики. Совсем Украина. Кукуруза, пирамидальные тополя, ограда из сухой лозы, спеющая ежевика. И плоская, плоская равнина».
Но вот поезд делает неожиданный поворот, и откуда ни возьмись выскакивают горы. Они с каждым мгновением растут и растут. Потом еще поворот — и поезд совсем близко подбегает к морю и начинает извиваться по узкой полоске между морем и горами. Горы совсем придвигаются к морю и крутыми изломами как бы валятся вниз, на узкий серый пляж. Слышен прибой. Еще два-три изгиба — и поезд останавливается на несколько секунд у маленького домика. Это полустанок Цихис-Дзири (что значит «У подножия крепости»). Дом Ростовцевых стоит на высоком крутом холме, посреди небольшой площадки. Вокруг него магнолии, пальмы, кипарисы. У крыльца две лавровишни. В двух местах, под огромными платанами, — столы и скамейки, а с другой стороны — большая виноградная беседка с обеденным столом.
По склонам холма растут апельсины, мандарины, груши, миндаль. Две большие магнолии сторожат дорожку к дому. Бамбук, как сорная трава, растет везде. Внизу, у лесенки, группа бананов. Их громадные листья, как светло-зеленые паруса, торчат в небе, толкая друг друга. Впоследствии мы постоянно захаживали к ним. У одного из них, под парусом-листом, совершалась зеленая мистерия. Исполнение ее мы тихонько наблюдали, отгибая лист. Под листом выбросило толстый ствол и на конце его огромную шишку, состоящую из туго и плотно облекающих ее лепестков-листьев. Один такой лист-лепесток вдруг отгибается от шишки, и под ним оказывается несколько рядов будущих плодов. Они имеют вид крошечных огурчиков на тонких и коротких стеблях. Эти огурчики тесно прижаты друг к другу и винтообразно расположены на стволе. Через день отгибается другой лист-лепесток, и под ним опять сидят огурчики и т. д. Потом эти лепестки желтеют и опадают, плоды растут и зреют. Таким образом, из ствола с шишкой развивается грандиозная гроздь плодов, винтообразно сидящих на ней. Мы часто хаживали к ней, посмотреть на все это действо, пока какой-то злодей не срезал всю мистерию, не дав ей развиться до конца.
Вечером в тот же день отправились по шоссе к нашим большим друзьям — профессору Григорию Витальевичу Хлопину и его жене, но не дошли. Шоссе вертится, как одурелое, петлит без конца. Вместо одного километра по рельсам, надо по шоссе пройти четыре. Так и не дошли. Повернули обратно, чтобы вернуться до темноты.
На следующий день ходили вниз, на пляж. Море шелковое, бледно-голубое, с муаровыми разводами. Легкий прибой. Серебрится на солнце песок, а камни, темные и большие, облизанные волнами, кажутся мягкими.
Я села делать рисунок.
После обеда ходили к Хлопиным, но уже не по шоссе, а по рельсам, как бы по коридору ярко-зеленой, сине-зеленой чрезвычайно буйной растительности. Справа иногда открывался вид на море, а вдали, на длинном, вынесенном потоками в море узком мысу, — Батум. За ним турецкие горы.
Поднялись около маленького духана по очень крутой тропе. Посмотреть вниз — весь в зелени обрыв и под ногами рельсы, полустанок и бегущий поезд с бесконечными цистернами.
Все поднимались выше и выше, мимо разных построек. Вдруг поняли, что проскочили слишком высоко. Спустились вниз. Наконец, нашли домик, где живут Хлопины. Радостно встретились. Но недолго пришлось нам пробыть на гостеприимном балконе у ласковых хозяев. Мы и не заметили, как на небе накопились, накрутились тучи, вдруг потемнело и немедленно, с необыкновенной готовностью, полил тропический ливень. Это было так неожиданно. Решили переждать. Долго ждали. Но, боясь темноты, отправились домой, заметив, что ливень ослабел.
Хлюпали по лужам, скользили по камням, ноги расползались на жидкой земле. Но было прекрасно. Зелень казалась еще крепче в своем цвете, сине-зеленая и вся усыпанная сверкающими стекляшками.
Дождь перестал. Иногда струя воды, соскользнув с листа, обдавала лицо или затекала за воротник. Но нам было весело, было бодряще.
Каждый день сбегаем по тропинке утром к морю. Очень круто, и мне страшно. С одной стороны — отвесная стена, с другой — крутой обрыв, покрытый зеленью. В глубине ручей. Вверху он бежит по желобу на колесо маленькой, игрушечной мельницы и потом падает каскадом, как расплавленное серебро среди изумрудов. Но овраг глубок и опасен. Тропа по краю имеет ряд тонких цементных столбиков метра три друг от друга. Между ними когда-то была проволока, сейчас она отсутствует, и столбики служат декорацией. Тропа извилистая, и мне с непривычки страшновато по ней ходить. Но делать нечего — надо привыкать.
Сидим на пляже и смотрим на прибой. Дует мягкий морской ветер. Волны набегают и разливаются около наших ног. Пахнет морем…
Выше на берегу земля кирпично-красная, или оранжевая, или малиновато-бурая. Необыкновенно красиво сочетание красной земли с темно-зелеными круглыми кустиками чая. Издали кажется, что какие-то темные пупочки бегут по оранжево-красному полю. Терпкое и острое сочетание красок…
Последние дни прохладны, и часто идут дожди. Мы с Сережей находим, что в Ленинграде лучше.
Работать на воздухе я не могу. Просматриваю свои путевые наброски. Как будто много работала, но мало сделала.
Сегодня 26 июля — день рождения моего драгоценного Сереженьки.
Я ничего пока не работаю и провожу день в ничегонеделании. Вечером мы сидели у столика под платаном, на краю сада, смотрели и наслаждались.
Перед глазами прелестная картина. Крутыми террасами вниз спускается сад. За ним, прямо перед нами, холм. На нем развалины старой турецкой крепости. Камни совсем заросли зеленым, пышным покровом. Этот холм частью закрывает море, берег, но вся линия горизонта ничем не нарушается. Справа виден берег и бухта местечка Кобулеты. Бухта красивая, круглая, протяжением в семь километров. Дальний берег бухты длинной полоской выбегает в море. За ним виднеется снеговая цепь Кавказских гор. Небо покрыто
нежнейшими серебристыми облачками, они, как барашки, толпятся по всему небу. И мы сидим и смотрим. И кажется нам, что мы присутствуем при исполнении великолепной симфонии, где краски заменяют звуки.
Все в ней — движение и постоянная смена.
Солнце постепенно опускается за тонкими сиреневыми тучками. Между ними, через блестящие щели, стрелой бегут его лучи — нежного золотисто-розового цвета. Они все время меняют направление. Море жемчужно-серое, играет сиреневым и золотистым, оно темнее неба. Вдруг где-то вверху пронзают воздух два ярких солнечных меча. Они бросают на воду серебристые, бегущие к берегу пятна. А там, левее, еще выше, на фоне пушистых облачков, образуется дымчато-коричневое облако. Оно растет и скоро заполняет все небо. Совсем голова Черномора с длинной, разметанной бородой. Внизу, между деревьями, ползет «сороконожка» — поезд.
Вдоль берега непрерывно набегают волны, и курчавая пена рассыпается на камешках. Кузнечики около нас стрекочут мелодично.
Тишина и радость опускаются на душу.
Вечером, в первый раз, Алексей Николаевич Грибов (артист Московского Художественного театра)
[116], живший также у Ростовцевых, исполнял на память драму «Дни Турбиных». Он один передавал все роли, и при этом очень хорошо…

Но скоро наш отдых был нарушен неожиданным тяжелым событием. Скоропостижно умер Григорий Витальевич Хлопин. Еще накануне вечером мы были у них в гостях, справляли день рождения его младшего сына, и ничто не предвещало его близкого конца.
Неожиданность и внезапность смерти вызвала особенно тяжелое чувство. Под влиянием его все кругом нас как будто потускнело…
Первую акварель я сделала 3 августа
[117]. Долго присматривалась к незнакомой и такой своеобразно красивой природе Аджаристана. Около дома, на обработанных участках все слишком культурно, красиво красивостью, а нет характера страны. Поэтому мы с Сергеем Васильевичем пошли подальше от береговой полосы, все выше и выше в горы. Местность своеобразна, красива и сурова. Везде пятна красной, сизо-красной, желто-красной земли и на ней яркого интенсивно зеленого цвета зелень. Это сочетание так богато, могуче, упоительно, что хочется кричать от восторга.
Местность, вся пересеченная глубокими узкими долинами, расходящимися по разным направлениям, и между ними высятся крутые, обрывистые холмы, а дальше, за ними, громоздятся горы. Холмы эти, хотя очень круты и обрывисты, возделаны. На них растут табак, кукуруза и раскинуты чайные плантации. Темные, круглые чайные кустики бегут стройными рядами по крутым склонам холмов в разных направлениях.
Жилые постройки малозаметны. Изредка стоят на тонких жердях зерновые кладовки — по-аджаристански «сасиминдэ». Их длинные ноги спасают запасы от тропических ливней и сырости.
Воздух чрезвычайно влажен, вода висит в воздухе, и акварель с нанесенными по ней мазками краски никак не может подсохнуть. Положишь мазок и ждешь, когда подсохнет, чтобы можно было рядом положить другой так, чтобы они не слились вместе. Ждешь бесконечно, и все не высыхает. Тогда я сообразила: стала между всеми мазками оставлять сухую бумагу. Получилась живопись вроде китайской клуазонне (cloisonné). Там вокруг кусочка эмали делаются контуры из тонких пластинок металла. Здесь эту роль раздела между мазками исполняет узенькая, шириною в волосок, полоска сухой бумаги. Вернувшись домой, все эти белые черточки я прикрываю подходящими тонами.
Дневник от 5 августа 1929 года
«…Под вечер ходила делать акварель
[118] одна. Сережа меня не сопровождал. Видела шакала. Он, встретив меня, бросился в сторону. Каждый вечер они, как только стемнеет, начинают кругом выть и скулить.
Удивительно красив пейзаж!
Тяжелые тучи ползут по горам, обрезая их верх своими нижними, рваными краями. Туман большими клубами движется по узким ущельям, точно какое-то чудовище в саване. Все меняется. Каждое мгновение новая картина. Иногда яркий луч озаряет какой-нибудь холм, и его зелень сверкает, как изумруды, на красной земле. Совсем как драгоценный камень александрит. Работала с упоением, со страстью».
Дневник от 9 августа 1929 года
«…C утра сидела дома, даже не спускалась к морю, чтобы не истратить сил на вечер, когда я поплетусь вверх, в горы. Дорога очень трудна. Надо спуститься с нашего крутого холма в густой перелесок, очень заросший разными субтропическими растениями, пройти глубокий ров и потом опять подниматься по открытому, очень крутому холму, который весь засажен кустиками чая. Тропа, которая карабкается вверх, камениста, а после дождя — очень скользкая. Потом надо перелезть чужой забор, и тогда выбираешься на сельскую дорогу, глинистую, красную, всю заросшую по сторонам бамбуком, мимозой, бананами и всякими другими растениями. По ней надо идти километра полтора, и тогда открывается вид на горы, на страну Аджаристан. Это сокращенная дорога. А если идти с самого начала по сельской, то приходится пройти не один лишний километр, так как она крутится и вертится между холмами.
Но когда я пришла на место, то все забыла — такая была красота. С увлечением работала сегодня. И так же приходилось работать по системе „cloisonné“».
Дневник от 10 августа 1929 года
«…Только что вернулась из своей живописной экспедиции. Попала под такой чудовищный тропический ливень, что думала, потоки унесут меня в море.
Когда я начинала работать, то сердитые тучи ходили по небу, цепляясь за горы и там скопляясь. Я надеялась, что все обойдется, так как обыкновенно дождь бывал днем, и под вечер всегда как будто разъяснялось. И потому я уселась работать и быстро стала делать акварель, не замечая, что происходило на небе, у меня за спиной. Показались на дороге два местных крестьянина, которые гнали перед собой буйвола (по-местному — „камбеч“), они остановились передо мной и что-то стали мне объяснять на своем языке. Я продолжала работать, не обращая на них внимания. Тогда один из них взял меня за рукав и заставил обернуться. Я в ужасе разинула рот. Полнеба было покрыто почти черной тучей, и по краям ее зловещая желтоватая кайма. Они усиленно махали мне руками по направлению уходящей дороги, давая понять, что мне надо уходить. Я поняла, поблагодарила их и стала собирать свои художественные принадлежности. Они не ушли, пока я не направилась к дому. Но идти было далеко. Стало быстро темнеть. Еще я сделала большую ошибку, выбрав по рассеянности не ту дорогу. Когда я это заметила, то уже отошла довольно далеко. Пришлось вернуться почти к тому месту, где я работала.
Было утеряно драгоценное время. И вдруг я услышала какое-то гудение при полной тишине и неподвижности в воздухе. Сразу хлынул дождь. В одно мгновение я промокла до костей. Но этого мало. Дождь был так плотен и тяжел, что давил, пригибал меня к земле. Трудно было дышать, передвигать ногами. Дорога из красной глины сразу размокла и превратилась в бегущий стремительный ручей. Что было под ногами — нельзя было рассмотреть. Я по колена вязла в глине, жестоко спотыкаясь о камни. Поток, бежавший по дороге, был настолько силен, что на моих глазах переворачивал довольно большие камни. Два раза я упала. Один раз на колени, прямо в грязь, другой раз на спину, в то время как мои ноги безудержно ползли вниз со слоем глины. Я была в ужасном виде. Но дождь через несколько минут смыл с моей спины всю глину. Шляпа от тяжести воды повисла и закрывала мне глаза. Сорвав ее с головы, заткнула ее за пояс. Я побоялась спускаться с крутого открытого холма, который отделялся от того, на котором стоял наш дом, глубоким рвом, а решила идти по более длинной, но менее крутой дороге. И вдруг я увидела моего Сереженьку, который шел мне навстречу с калошами и запасным зонтиком. Он совершенно промок. Калоши и зонтик — атрибуты городской дождливой погоды — в его руках казались какой-то насмешкой. При таком потоке они были ни к чему. Потом мне было совестно, но я рассердилась на него, сказав, что вместо одного будут мокры двое. Почти в темноте мы добрались домой».
Дневник от 13 августа 1929 года
«…Отправились гулять к Кобулетам. Дошли до группы больших эвкалиптов. Собирали пахучие шишки. Смотрели, как в небольшом водоеме плавал буйвол, с наслаждением ныряя с головой в грязной воде. Ходили на соседнюю чайную плантацию и сами собирали чайные листочки. Удивительно уютные кустики. Чем ближе листочки к концу ветки, тем чай по сорту считается лучше. Сереженька молча и сосредоточенно, как все, что он делает, срывал маленькие листочки, пахучие и нежные.
Эти листочки потом перетирают руками, провяливают и сушат на солнце».
Дневник от 15 августа 1929 года
«…Сегодня утром кончила акварель-протокол: пальмы около террасы дома и через них дальний залив моря, Кобулеты и гребень гор. На площадке перед домом, кроме пальмы, дерево бледно-розовых роз и огромный куст голубой гортензии, но такой высокой, что Сереженька с головой туда уходил.
Справа большие деревья олеандры, все усыпанные цветами. Акварель вышла слащавая, как природа перед глазами. Вот почему я ухожу далеко в горы. Но какое чудесное, какое ясное утро было сегодня!
Вечером ходили на верхнюю дорогу к Аджарским горам, и Сергей Васильевич нес мою большую деревянную доску с наклеенной на ней бумагой. Эту доску дала бабушка, которая на ней месит тесто.
Я с восторгом работала, а мой терпеливый спутник сидел возле и вырезал из клиптомерии ножик для разрезания бумаги. Акварель хороша, только далеко не окончена».
Дневник от 17 августа 1929 года
«…Вчера ходила одна в горы. Начала этюд, и такая была жуткая красота в небе, что я сгорала от желания сидеть и все смотреть на нее, или бежать домой, от страха опять вымокнуть.
Хорошо, что не испугалась. Грозные тучи куда-то уползли, и небо покрылось серыми, более светлыми, через них проглядывало солнце. Тучи двигались, и с ними двигались солнечные пятна и темные тени. Трудно описать такую дивную солнечную красоту! То освещались холмы, которые начинали гореть блеском зеленых, красных, черноватых пятен. Белые, вымазанные стволы фруктовых деревьев нежно белели. То холмы покрывались тенью, точно черным вуалем, и лучи солнца падали в мрачные ущелья и рвы, пронизывая своими лучами темную их глубину. Картина природы все время менялась: где сейчас был яркий свет, через мгновение на этом месте была тень. И какой яркий, сильный свет, и какая глубокая тень!
Преобладали сочетания всех оттенков зеленого цвета и всевозможные градации синих. Совсем перья павлиньего хвоста.
Ближе всего, на переднем плане, простирались чайные плантации. Темные кустики четко выделялись на кирпично-красной земле. Между ними мелькали люди, которые торопились окончить свою дневную работу перед наступающим дождем.
Все-таки, хотя кое-как, а успела окончить этюд и засухо прийти домой».
Дневник от 18 августа 1929 года
«…Днем Сережа ездил за билетами в Батум. Проводив его на поезд, пошла обратно не по рельсам (кратчайшая к нам дорога), а по шоссе вокруг.
Я сделала чудесную прогулку, но шоссе напетлило не менее четырех километров. Богатая, роскошная растительность. Мимозы свешивали свои ажурные, изрезанные, как тонкие ланцеты, длинные листья. Я дотрагивалась до них рукой, и они тотчас же начинали сворачиваться в трубочку.
Победно, высоко вздымали бананы свои ярко-зеленые листья. Точно огромные паруса, раскинулись они на солнце. Во рвах журчали ручейки. Изредка попадалась калитка среди проволочной ограды. От нее подымалась в тени густых деревьев обыкновенно каменная лестница. Но построек не было видно. Мне было немного жутко. Уж очень уединенно было на этом шоссе. Ни человека, ни повозки. Кроме пения и крика птиц и журчания капель воды, никакой шум не заглушал моих шагов. Присела на край водоема и заглянула в него. Оттуда выглянуло мое оживленное, веселое лицо, в широкой шляпе, с раскрасневшимися щеками.
Вечером А.Н. Грибов читал „Квадратуру круга“
[119]. Пришли его слушать и Фаворские
[120] и Ростовцевы. Ростовцев играл на скрипке, но мне грустно было его слушать. Долго не упражняясь, он технику утерял, фальшивил, но видно, что когда-то играл хорошо».
Дневник, от 19 августа 1929 года
«…Сегодня я не работала. Сидели с Сережей с книжками недалеко от дома, на склоне холма. Было чудесное небо с вуалями дождя над морем. Иногда ветерок приносил, нагоняя на нас, легкий дождь, и теплые, мелкие капли обдавали наши лица нежной лаской».
Дневник от 20 августа 1929 года
«…Утром делала акварель для Алексея Николаевича Грибова — скала, где он каждый день жарился на солнце.
Вечером я не работала. Вместе с Сережей на верхнем шоссе собирали образцы земли и глины. Все эти глины положили в ящик и отправили в Ленинград. Этот материал нужен был мужу для его научных исследований. Вечером Грибов читал „Универмаг“ — пьесу Валентина Катаева».
Дневник от 21 августа 1929 года
«…Ходили в Чакву. Я рисовала купающихся буйволов. Трудно было их рисовать. Это спокойное, грузное животное очень оживляется в воде.
Видно, как они наслаждаются в освежающей их влаге. Они плавают, ныряют, фыркают. Иногда совсем погружаются в воду, только огромные раздутые ноздри торчат из нее. Друг друга толкают лбами. Ложатся на бок, смешно мотая головой.
Чудный был день!
Вечером отправилась в горы и сделала новую акварель
[121]. Вообще здесь акварель надо делать в один сеанс — настолько все меняется. Небо, освещение так непохожи на вчерашнее, что трудно продолжать начатую акварель. Я стараюсь начать и окончить сразу».
Дневник от 22 августа 1929 года
«…Утром был дивный свежий день!
Вечером делала в горах акварель. Неудачна. Не удалось передать то, что происходило перед глазами.
Облака, окрашенные вечерним солнцем, гуляли за горами. Горы темным силуэтом выделялись на их светлой золотисто-розовой окраске.
Световые пятна и пятна теней плыли по горам и ущельям. Редкие длинноногие на сваях постройки кое-где торчали на холмах. Темные перелески покрывали рвы. В одном из них, должно быть, горел костер, огня не было видно, но легкий дымок вился над ним, поднимаясь вверх и окутывая холмы.
На природе лежал отпечаток покоя и ласки.
И на душе было покойно.
Я медленно шла, останавливаясь и любуясь окружающим.
Уже чувствуется осень. Листья мимозы приняли удивительно красивые оттенки, начиная от серовато-зеленого, золотисто-ржавого и кончая темно-коричнево-малиновым цветом бархатистого тона. Дни становятся короче. Темнота вдруг спускается без сумерек.
Скоро мы уедем».
Ноябрь 1946 г.
VII.
1929–1932 годы
Годы 1929—1932-й были для меня довольно плодотворны, судя по количеству моих работ. Кроме альбомов Волги (46 акварельных набросков) и Военно-Грузинской дороги (59 карандашных рисунков, из них некоторые — подкрашены), о которых уже упоминала, я сделала 12 акварелей и 5 больших рисунков Аджаристана, 3 вида Казбека (один из них приобретен Третьяковской галереей), акварели и рисунки Тифлиса. Это было немало
[122].
После возвращения с Кавказа, осенью и зимой, работала на улицах Ленинграда. Сделала акварели: «Фонтанка и Летний сад в инее» (приобретена Третьяковской галереей), «Инженерный замок и иней», «Барки. Вечер» (обе приобретены Русским музеем), натюрморт — «Шляпа, рояль, раскрытые ноты и роза на клавиатуре»
[123]. Эта вещь у многих, видевших ее, вызывала интерес, и не раз спрашивали меня, что я хотела сказать, изображая эти предметы.
А я ничего не собиралась говорить. Просто увлеклась сочетанием глубоких и прозрачных черных пятен рояля с матовой поверхностью фетровой шляпы и шелковой пестротой шарфа. Ну а роза? Это дар автора. Кому или чему? Пусть каждый думает как хочет.

Делала акварели из окон Смольного на окружающие сады и виднеющуюся за ними Неву. Зарисовала разбираемую церковь Благовещения, что была на площади у моста Лейтенанта Шмидта. Она была нехороша по своим архитектурным формам, и мне было не жаль ее уничтожения. Еще сделала черную гравюру с сердитого манджура — «Джо»
[124].

Несколько раз ездила в Институт экспериментальной медицины имени Максима Горького (ВИЭМ). Сотрудники Ивана Петровича Павлова просили меня сделать для их библиотеки книжный знак
[125] и изобразить на нем здание института, которое частью помещалось в загородном старинном особняке.
Вспоминаю, какую я сделала невольную, но большую оплошность при моем втором посещении ВИЭМ. В первый раз, когда я была, мне показывали помещение, где сотрудники проводят опыты на собаках. Рассказывали про опыты, которые они проделывают, показывали комнату, абсолютно изолированную от малейших звуков, и собак, у которых было вынуто одно полушарие головного мозга. Сторож при мне приводил этих собак для опытов. Мы сговорились, что на следующий день к такому-то часу я приду в определенную комнату и оттуда меня проводят в помещение, откуда я смогу рисовать. Была зима, и работать на воздухе не было возможности. На следующий день я приехала вовремя, разделась внизу и прошла в назначенную комнату. В ней я никого не встретила и потому решила подождать. Прошло полчаса — никого. Прошел час. Мне надоело ждать, и я решила тихонько постучать в соседнюю дверь, предполагая, что обо мне забыли. Какой же от этого произошел переполох! Научные сотрудники стали выходить один за другим в комнату, где я была, говоря мне, что, постучав и нарушив тишину, я испортила им все опыты за целый день. Я не знала, куда мне деваться от огорчения и смущения, видя у всех недовольные лица…
Книжный знак этот я вырезала на четырех досках. Еще сделала гравюрой портрет Льва Николаевича Толстого в характере «кьяроскуро», в две доски.
Повторила мою старую гравюру «Фейерверк в Париже 14 июля», доски которой я когда-то уничтожила. Вырезала ее на трех линолеумных досках. В сравнении с прежней сделала ее немного выше и прибавила в ней дождь падающих белых огоньков. Вырезала на линолеуме в черном гравюру «Два дождя». По дороге идет женщина, погода бурная, сильный ветер и дождь, падающий из двух туч
[126].

Когда я окончила гравюру и отпечатала, то увидела, что на гравюре верхушки деревьев гнутся от ветра в одну сторону, а дождевые струи падают в другую, навстречу ветру. Это было нелогично и недостаточно мною продумано. Что мне оставалось делать? Вырезать гравюру второй раз, уже не нарушая законов природы… Я так и сделала.
Вспоминаю, как в одно из воскресений я и Сергей Васильевич поехали на Острова. Был декабрь месяц. Солнечный день, и все покрыто густым инеем. Деревянный Елагинский мост, его сваи, устои, перила, весь его рисунок, все его линии были не темные, а серебристо-белые. Это было очень странно и красиво. Сейчас же принялась рисовать, а Сергей Васильевич терпеливо прохаживался по берегу реки.
Из встреч и знакомств в те годы хорошо запомнился мне вечер, проведенный у художника Вениамина Павловича Белкина. Там я встретилась в первый раз с писателем К.А. Фединым, его женой и с поэтом Анной Андреевной Ахматовой. Федин привлекательный человек. Умное симпатичное лицо, серые хорошие глаза. Ахматова произвела на меня приятное впечатление, даже чарующее. Она в натуре гораздо лучше всех своих портретов. Форма головы прекрасна и посадка ее. Линия шеи тоже очень красива. «Хорошо бы сделать ее портрет», — думала я, но не посмела ее об этом попросить.
Очень приятны для меня были парочка Радловых — Надежда Константиновна и Николай Эрнестович. Пианистка Сарра Семеновна Полоцкая превосходно играла Шопена, Листа и Вагнера. Мила и ласкова была хозяйка дома Вера Александровна. У них нам было уютно и тепло…
[127]
* * *
В последние годы Сергей Васильевич при усиленной, напряженной работе нуждался в регулярном отдыхе на свежем воздухе, и потому мы часто ездили в наше любимое Детское Село. Мы проводили там каждое воскресенье, а иногда, хотя и очень редко, прихватывали соседний день — понедельник или субботу. Ездили, невзирая ни на какую погоду.
Такое было счастье попадать на лоно природы, которую мы оба страстно любили.
Дневник от 20 января 1929 года
«…Сегодня с Сережей уехали в Детское Село. Вагон был переполнен, и все проходы были забиты народом. Когда мы вышли из душного вагона на площадь перед вокзалом и оглянулись вокруг, мы были восхищены природой, встретившей нас в этот день.
Деревья в городке и парке были в густом инее. Они казались воздушными облаками, спустившимися с неба и зацепившимися за крыши домов, за трубы. И все кругом так спокойно, молчаливо, величаво.
Так бело, так чисто.
Внутреннее напряжение и утомление, с которым мы приехали, как-то смягчается, сглаживается, пропадает.
Постепенно забываешь, что оставил за собой, и только смотришь, смотришь с раскрытой душой. Сплошная везде феерия…»
Мы провели тогда три прекрасных дня, глубоко наслаждаясь. Нас так и тянуло на воздух. Даже ночью ходили гулять в Екатерининский парк. Прошли вдоль фасада Екатерининского дворца. Обошли чудесную, такую легкую по своим архитектурным формам Камеронову галерею, покоящуюся на тяжелом нижнем этаже. Ее изящные колонны наверху были освещены луной. Сверху сбегала причудливая, с кружевными перилами лестница к подножию высоких пьедесталов, на которых стояли запушенные инеем бронзовые статуи Геркулеса и Флоры. Дальше виднелся замерзший пруд и за ним в лунном свете — темное здание Адмиралтейства.
Прошли к Эрмитажу под опушенными деревьями, точно под белым сводом, а там через Орловские ворота домой.
Кругом никого. Тишина…
* * *
Осенью в 1930 году мы случайно узнали, что в доме 26 по улице Революции освободилась квартира. Осмотрев ее, мы поспешили закрепить ее за собой. Была она во втором этаже, имела три комнаты. Квартира производила приятное впечатление уютом, благоустройством и оригинальностью. Со всех четырех ее сторон были окна, и в ясные дни солнышко обходило все комнаты. К этой квартире примыкал большой светлый чердак с деревянным полом. Я в нем мечтала сделать себе летнюю мастерскую, тем более что дверь одной из комнат прямо открывалась на чердак. Мы очень полюбили эту уютную квартиру, и Сергей Васильевич с большой охотой, даже с увлечением устраивал ее. Эта квартира имела огромный открытый балкон, выходивший в большой сад. Мы часто обедали, отдыхали, читали, вообще много времени проводили на нем.

Близко от перил балкона подымались вверх черные стволы двух раскидистых ясеней, которые зеленым шатром из мелких узких листьев осеняли балкон. Здесь же росла старая липа, а дальше шли разлапистые клены.
В 1931 году правительство подарило Сергею Васильевичу автомобиль. Помимо удобства и сохранения сил и времени, машина предоставляла ему возможность в каких-нибудь полчаса перенестись куда угодно за город. Сергей Васильевич научился управлять автомобилем, выдержал экзамен на водителя и нередко сам правил машиной, когда мы ездили в Детское Село. Это ему доставляло большое удовольствие, а мне это было немного утомительно. Я не могла не следить за его управлением, иногда, не выдержав, ему спешно говорила: «Сережа, давай сигнал. Что же ты не даешь сигнала! Не так круто поворачивай!» и т. д. Сергей Васильевич и Иван Емельянович (шофер), сидевший всегда рядом с ним, только отшучивались и трунили надо мною.
 Дневник от 9 марта 1932 года
Дневник от 9 марта 1932 года
«…B четыре часа выехали в Детское Село. Температура -12°. Сильно метет. Налетают порывы бешеного ветра. Меня укутывают с ног до головы. Иван Емельянович сразу заявляет, что Сергею Васильевичу не придется сегодня править. По городу ехать было еще сносно. Мостовая — голые камни. Снег смело на одну сторону, и даже завалило местами тротуар.
Выехав за город — вот когда мы попали в переделку.
Ветер, как сорвавшийся с цепи зверь, дул с северо-востока и перегонял через дорогу потоки сухого мелкого снега, который с шуршанием перекатывался в поле. Ничего не было видно впереди.
Возы, автобусы, грузовики выскакивали неожиданно перед самой нашей машиной, и каждую минуту на нас кто-нибудь мог налететь и раздавить, или мы могли наскочить на кого-нибудь. Было опасно. Я сидела, притаившись, и только одного боялась, как бы Сергей Васильевич или Иван Емельянович не решили повернуть обратно. Уж очень люблю, когда природа проявляет темперамент.
Грозу, ливень, град, метель — все я люблю, и находиться в этом люблю, а не только смотреть из окна.
Иногда целая туча снега неслась нам навстречу и яростно обдавала машину. Несколько мгновений ничего не было видно, а потом вдруг перед нами ветер оголял дорогу, унося порывами снег. Закрытая машина внутри была засыпана снегом: с такой силой ветер загонял его в малейшие щелки.
Какое-то бешенство происходило вокруг. „Ву…ву…ву“ — а иногда — „…и…и…и“ (тогда становилось страшно) — так выла, визжала и стонала буря. Телеграфная проволока резко звенела, прибавляя к вою бури свою высокозвенящую ноту.
Иногда мелькала одинокая, угрюмая фигура человека со спрятанной в плечи головой, с одеждой, прильнувшей от ветра к ногам. Иногда взлохмаченные лошаденки понуро тащили кладь. Такая была густая белая муть в воздухе, что избы деревень по обеим сторонам дороги не были видны, и казалось, что едешь где-то в бесконечном пространстве. Приходилось все время подавать сигнал, а он, как нарочно, терял голос — в него набился снег.
Особенно было и скучно и неприятно, когда приходилось ждать у шлагбаума прохода двух встречных поездов. Снег бешено кружился, и все кругом было одинаково бело. Мы молча сидели, ожидая поднятия шлагбаума, и казалось, что мне все это снится, так все было нереально вокруг. Только вой и визг бури вызывал в сознании чувство реального.
Не доезжая Египетских ворот, мы застряли в сугробе. Пришлось откапываться лопатой, да и в Детском Селе, по улицам, с трудом мы пробирались между наметанными сугробами. В конце концов приехали…»
Дорога от Ленинграда до Детского Села доставляла нам огромное удовольствие. Мы видели окружающий пейзаж в разное время дня и в разные месяцы года. Вся природа кругом была такая родная и близкая. Приходила весна. Мы наблюдали, как шла борьба между зимой и весной, весна одолевала, яркое солнце ей помогало. Кругом журчали ручейки, пробираясь между прошлогодней белесоватой травой. Стройные деревца с еще оголенными ветками рисовались тонко на бледно-голубом небе и отражались в ручейках. И как неожиданно и странно издали нам показалось, что на фоне еще бледной, едва проснувшейся природы цветут пышные кусты розовых и белых гортензий, красных пионов и других великолепных цветов.
Подъехав ближе, мы увидели, что это просто-напросто выстиранное разноцветное белье, которое сушится, надетое на окружающие кусты, а вдоль бегущего ручья женщины, стоя на коленях, усердно стирают белье. За их спинами виднелся темный ряд деревенских домиков. Я просила остановить машину и сделала довольно подробный и точный рисунок, который по приезде в Детское я доработала красками…
Однажды, проезжая по дороге, идущей по высокому косогору, между Нижним Пулковом и поселком Большое Кузьмино, увидели на дороге, в снегу, видимо, заблудившегося крота. Мы взяли его на руки, чтобы хорошенько рассмотреть. Он был в густой бархатной шубке темного, почти черного цвета. Лапки его очень напоминали человеческую кисть руки с крепкими пальцами ярко-розового цвета. Такого же цвета была его вытянутая мордочка, напоминавшая поросячий нос. Глаза были почти незаметны. Отыскав на косогоре сухое место без снега, пустили его на свободу.
Редко проезжали мы по этому косогору не останавливаясь. Часто выходили из машины, чтобы или полюбоваться сверху видом на Ленинград, широко раскинувший свои улицы и площади, или располагались на траве, на солнышке, и слушали жаворонков, которые звенели высоко над землей.
Живя в Детском, мы много гуляли. У нас были любимые места, любимые деревья и дорожки.

Сергей Васильевич порой останавливался, восхищаясь то оттенком листвы на деревьях, то рисунком веток березы или перилами какого-нибудь мостика. Он говорил мне: «Да зарисуй ты мне это, посмотри, какая красота».
* * *
Мы очень любили Пушкина — нашего великого поэта, и поклонялись ему. Когда приезжали в Детское Село, первым делом Сергей Васильевич говорил: «А теперь мы пойдем поздороваться с Александром Сергеевичем», и мы шли в Лицейский сад к памятнику Пушкину. Обходили его кругом, громко читая стихи, начертанные на сторонах гранитного пьедестала. Последними всегда читали:
Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье.
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье.
[128]
Каждый раз Сергей Васильевич был душевно тронут и долго повторял на прогулке незабываемые слова и говорил: «Как это глубоко и верно, как мне это близко и понятно…»
Однажды, это было в 1930 году, будучи в Детском Селе, Сергей Васильевич принес мне купленную им в антикварном магазине большую литографию — рисунок лошади, вправленную в прелестную золотую раму стиля рокайль и с отличным стеклом. Я с удивлением посмотрела на это приобретение. «Не смейся, — сказал мне Сергей Васильевич, вынимая литографию из рамы, — вот тебе рама, и я очень прошу, сделай в эту раму мне какую-нибудь акварель». Я тут же взяла большой лист ватмана, положила на него раму, обчертила внутреннюю ее границу и стала быстро набрасывать на память знакомый мне и давно любимый пейзаж Павловска — «Вид на перспективу от Константиновского дворца». Работала я с большим подъемом, с полной уверенностью, все время имея в виду построение пейзажа и равновесие форм и пятен, и сразу закончила ее. Так родилась эта акварель, которую я считаю одной из лучших, сделанных мною
[129].
В 1925 году мы взяли к себе жить милую восемнадцатилетнюю девушку Танечку Остроумову, дочку моего покойного двоюродного брата Михаила Александровича Остроумова
[130]. Она поступила на сельскохозяйственные курсы, но их не кончила и стала работать в библиотеке.
* * *
В марте 1928 года членами экспертной комиссии, приехавшей из Москвы, был проверен способ получения синтетического каучука, изобретенный Сергеем Васильевичем, и признан весьма ценным, после чего началось строительство Опытного завода и при нем исследовательской лаборатории.
Сергей Миронович Киров был очень заинтересован постройкой этого завода и будущим развитием каучуковой промышленности.
Он много раз энергично и существенно помогал при затруднениях, возникавших во время стройки. Начальником строительства и будущим директором этого завода был назначен Григорий Васильевич Пеков — волевой энергичный работник, ставший для Сергея Васильевича незаменимым помощником
[131].
К январю 1931 года завод и лаборатория были уже готовы, оборудованы, и везде велась энергичная работа. Сергей Васильевич и меня приобщил к этому делу, настаивая на том, чтобы я зарисовала некоторые цеха и комнаты исследовательской лаборатории. Впоследствии эти установки будут коренным образом изменены, а ему хотелось сохранить их первоначальный вид.
Я сделала пять небольших акварелей исследовательской лаборатории и четыре акварели завода: «Печи», «Перегонное отделение», «Полимеризационное отделение», «Нефтяная топка» и рисунок «Большая печь».
Сейчас моих акварелей, находившихся на заводе, не узнать. Видимо, от воздуха, наполненного вредными испарениями, все краски на них потемнели, и они приобрели темно-коричневый цвет.
В феврале 1931 года был получен первый блок каучука в заводском масштабе. Я была свидетельницей этого события.
К этому моменту в цех собралось много народу: все рабочие завода, инженеры-строители, химики, служащие.
Ждали Сергея Васильевича, которого кто-то задержал в лаборатории. Он вошел внешне спокойный и сдержанный, прошел по мосткам к висящему вверху аппарату и дал знак открыть его. Рабочие принялись вертеть рычаг, и вдруг медленно-медленно от висящего высоко аппарата стало бесшумно отделяться его дно. Оно постепенно опускалось, и на нем, как на подносе, стоял из светлого металла огромный круглый бак и в нем — каучук.
Когда дно аппарата с блоком достигло уровня мостков, на которых стояли люди, его остановили. Затем сдвинули блок на салазки, стоявшие на мостках на уровне спустившегося блока.
Все бросились к каучуку. Металлическая тонкая оболочка, покрывавшая блок, легко снималась. Каучук имел вид огромного круглого пирога довольно светлого цвета. Всем хотелось на память от первого блока синтетического каучука взять маленький кусочек. Но не тут-то было. Отщипнуть от него было трудно. Отрезать ножом, как это многие пытались сделать, — не резалось. Нож в твердом, но вязком каучуке безнадежно застревал. Потом догадались — резали проволокой.
Итак, каучук в заводском масштабе получен. Завод об этом тотчас рапортовал правительству и С.М. Кирову.
Сергей Миронович Киров лично приехал на завод и поздравил всех с победой…
* * *
За эту зиму, кроме акварелей цехов Опытного завода и лабораторий, я написала портрет писателя Михаила Федоровича Чумандрина, который, как он мне рассказывал, из заброшенного мальчика-беспризорника своим усилием и волей стал советским писателем. Потом еще сделала акварелью портрет поэта Юрия Никандровича Верховского, моего большого друга. Оба этих портрета исполнены неплохо, а скорее хорошо. Портрет Верховского приобретен Русским музеем. Написала акварелью портрет художника Аркадия Александровича Рылова, но он мне не удался
[132].
* * *
Перед тем как уехать на Кавказ, мы целый месяц провели в Детском Селе. Вспоминаю, как в конце июня были в концерте в Китайском театре… Любовались причудливой и живописной внутренней отделкой этого очаровательного маленького театра, безвозвратно погибшего в последнюю войну
[133].
5 июля 1931 года мы уехали в Железноводск, где прожили два лета подряд.
Железноводск довольно живописен. Он расположен на склоне горы Железной, покрытой густым лесом. Гору эту опоясывает отличная тенистая дорога, с которой по временам открываются виды на живописные долины и на крутые зеленые или скалистые горы: Кабан, Медовая, Развалка.
Доктор, у которого я стала лечить мое всегдашнее слабое место — вегетативный невроз, — посоветовал мне избегать людской толчеи, не принимать никаких процедур и уходить куда-нибудь в дальние прогулки. Я охотно последовала его совету, тем более что в самом Железноводске ничего, как художник, не находила для себя интересного.
Дневник от 7 августа 1931 года
«…Прекратился сумасшедший ветер, который бушевал двое суток. Сегодня сияющий день. Свежесть и прозрачность воздуха необычайные. Решила пойти одна на дальние луга. Шла два с половиной часа по густому лесу. Задалась целью из него выбраться. Гора Бештау оставалась с левой руки. Всю дорогу рой золотисто-коричневых бабочек вился вокруг меня. Пения птиц не слышно. Лес темный, глухой. Дорога мокро-черная, взрытая. Я шла долго, не встретив ни одной души. Тишина, уединение, отдаленность от жилья создали обстановку для сосредоточенности и самоуглубления. Меня переполняло, захлестывало чувство какой-то силы, подъема, душевных порывов, чувство неистраченных сил. Мне казалось, что я могу двигать горами, совсем как в молодости. Наконец, вдали показался просвет. Деревья стали реже. Поперек дороги бежал ручей. Перепрыгнув через него, я выбежала из леса. О, какое великолепие! Передо мной луга, а за ними, вдали, блестел от вершины до подножия великолепный белосахарный Эльбрус.
Слева и справа от него виднелась цепь Кавказских гор со снежными вершинами. Небо было нежно-голубое, воздух прозрачен, и все так прекрасно чертилось на этом фоне. Села отдохнуть. Кругом цветы. Масса кустов отцветающего шиповника. Только на одном светился цветок белой звездой. Сделала два рисунка для акварели. Вот было хорошо! Не хотелось уходить».
Потом, чтобы не ходить одной так далеко (Сергей Васильевич не хотел нарушать своего режима), я брала с собой хозяйских детей, Нину десяти и Ванюшу восьми лет.
Дневник от 25 августа 1931 года
«…Встала рано, до восхода солнца. Я, Нина и Ванюшка ходили к подножию Бештау. Утро было ясное, дул легкий ветер. Идти было приятно, свежо и безлюдно. Природа спокойна. Тоже как будто додремывала свои ночные часы. Солнце начало освещать верхушки гор.
Дети рассказывали о вчерашнем празднике на детской площадке. Их особенно поразила трехлетняя девочка из колхоза, которая громко, на всю площадку, стоя на стуле, говорила стихи о Ленине.
Я наслаждалась ходьбой, лесом, игрой света и тени. Когда пришли к караулке на лугах, нас встретил сильный вихрь, холодный и пронзительный. С трудом натянув на себя все, что было, сделала карандашом два этюда. Наблюдала, как в долине за Железной горой рождался и двигался туман. Точно длинное белое войско шло между горами.
У караулки на нас накинулись две собаки — одна черная, легавая, другая рыжая с черными подпалинами, совсем лев из „Simplicissimus’a“. Мы их обезоружили, угостив цыплячьими костями.
По дороге набрали мешок яблок. Ванюшка влез на яблоню, тряс ветки, и яблоки били нас по головам. Вернувшись, сейчас же стала заканчивать этюды.
Несмотря на то что климат Железноводска считается хорошим, он характерно горный, с неожиданными переменами, непривычными для жителей равнины. То тихо, то начинается сильный сквозной ветер, то вдруг неожиданно падает ливень или гремит гром. Иногда откуда-то появлялся туман, но такой густоты и плотности, что ничего не было видно. Казалось, что его можно было резать ножом на куски. Один раз во время тумана я открыла дверь на балкон, и вдруг с огромным удивлением увидела, как в дверь стал влезать плотный туман. Он похож был на белый тюфяк, ввалившийся в комнату…»
Из знакомых, которых мы встречали в первый год в Железноводске, был только милейший Аркадий Александрович Рылов. Он часто заходил к нам, принося всегда с собой уют и теплоту.
Во второй наш приезд мы познакомились с талантливой артисткой Надеждой Ивановной Комаровской. Она неотразимо привлекала к себе живостью, оптимизмом в сочетании с большим умом и врожденной добротой
[134].
Никогда не забуду, как она энергично нам помогала при нашем отъезде из Железноводска. Я вдруг внезапно заболела острым припадком ревматизма, попав во время прогулки на сильный ветер и дождь. Билеты на выезд из Железноводска с большим трудом нами были получены, и через два дня надо было ехать. Я лежала, распростертая на кровати, не имея возможности пошевелиться. Была в отчаянии и думала: «Как же нам быть? Что делать? Как нам собраться?» Вдруг Надежда Ивановна, видимо прослышав о моей болезни, бодрая, энергичная, пришла к нам и сказала: «Не волнуйтесь, лежите и лечитесь. Я вас обоих соберу». И действительно, все собрала и уложила — белье, книги, мои этюды и только что оконченный акварельный портрет Сергея Васильевича
[135]. Даже приготовила нам в дорогу корзиночку с едой. Разве можно это забыть? А на вокзал меня повели под руки, с одной стороны Аркадий Александрович, с другой — доктор Штернберг, тоже добрая душа.
В дороге я понемногу стала поправляться и настолько, что мы рискнули, покинув наш поезд в Рязани, переночевать в городе и утром, сев на пароход, проехать по Оке до местечка Гусь-Завод Железный, чтобы погостить немного у матери нашей Танечки — Полины Дмитриевны Остроумовой. Местечко Гусь-Завод Железный нам очень приглянулось. На следующий год мы провели там все лето.
* * *
Из встреч в те годы вспоминаются наши посещения художника К.С. Петрова-Водкина, жившего в те годы в Детском Селе, в здании бывшего Лицея.
Особенно ярко мне запомнился день 14 ноября 1931 года. В этот день из Москвы приехал Сергей Васильевич, ездивший получать правительственную награду — орден Ленина. Я его встретила на вокзале и уже издали увидела его веселое, оживленное лицо. В этот день мы были приглашены к Петровым-Водкиным, и потому Сергей Васильевич, быстро ознакомившись с текущими делами, уехал со мною в Детское Село.
У Козьмы Сергеевича в этот вечер было очень оживленно. Совершенно неожиданно мы там встретили писателя Андрея Белого и его милейшую жену, Клавдию Николаевну. У меня было такое к ним чувство, как будто мы недавно видались. Наша взаимная симпатия и связь не порвалась за семь лет, как мы жили вместе в Коктебеле. Пребывание их в Пушкине нам было приятно. Борис Николаевич по-прежнему был живой, нервный, вспыльчивый, говорил скороговоркой, не оканчивая фраз. Клавдия Николаевна — тиха и прелестна.
Говорили много о Блоке и Валерии Брюсове. О его спиритизме, оккультных науках, о всяких таких чертовщинах.
Борис Николаевич однажды прочел нам письмо Брюсова, ему написанное в 1904 году, ответ на его письмо. Очень интересное. Прочел два стихотворения, написанные на Брюсова. Стихи очень хороши. Мы слушали с громадным интересом.
Они (т. е. А. Белый с женой) жили в Детском Селе, но, к сожалению, недолго и вернулись в Москву.
Еще вспоминаю с теплым чувством милейшего Ивана Михайловича Степанова.
Чистой воды энтузиаст. Любя безгранично искусство, Иван Михайлович Степанов всю жизнь посвятил ему. Был инициатором и главным деятелем изданий «Евгеньевской общины», преобразованной потом в Комитет популяризации художественных изданий. Эти издания в свое время сыграли огромную культурную роль в нашей стране. С какими только художниками Иван Михайлович не имел дела! Тысячи открытых писем, иллюстрированных произведениями всевозможных русских художников, распространялись в народе. Он с неутомимой энергией и энтузиазмом работал в области популяризации художественных изданий свыше тридцати лет. И все, кто с ним имел дело, его
любили, уважали и ценили. Как сейчас вижу его: бледный, очень худой, с большими, выразительными, очень печальными глазами. С ним у нас, художников, многое было связано в прошлом.
Еще ярко вспоминаю в эти годы Григория Алексеевича Рачинского. Это был на редкость талантливый и всесторонне образованный человек, обладавший замечательной памятью и блестящим даром слова. В каком бы он обществе ни был, он своей эрудицией, блеском своего ума завоевывал всеобщее внимание. Он приходился дядей моему другу Александре Николаевне Верховской и гостил у них. Он очень одряхлел, был почти слепой, но память и ясность ума сохранились. Я с большим увлечением беседовала с ним. Много было у меня о чем с ним поговорить. Читала ему свои записки I тома «Как я стала гравером» и другие главы. Я очень волновалась, но Григорию Алексеевичу они понравились, и он меня похвалил…
* * *
8 января, по дороге к Верховским, около их подъезда, я поскользнулась и сломала левую руку. Испытывая сильную боль, поднялась с помощью прохожих и еле добралась к Верховским.
Приехал ко мне вызванный Верховским профессор С.А. Новотельнов, который предположил перелом руки. На следующий день Сергей Васильевич отвез меня в клинику, где после просвечивания был удостоверен перелом и мне наложили гипсовую лонгетку.
Заниматься живописью одной правой рукой было неудобно, пришлось ее оставить на некоторое время и заняться продолжением записок.
Однажды, это было уже в марте, вечером, я была у Верховских, где собралось довольно много народу, чтобы послушать писателя Скалдина
[136], который собирался читать по рукописи свой роман. Его наружность: среднего роста, бородач. Из усов и бороды вырублен красивый рот. Маленькие, умные, внимательные черные глазки и румянец на щеках.
Действие романа происходит на острове Ява. Написан он хорошим, простым языком. Впечатление такое, что автор романа там много лет жил и хорошо знаком с бытом явайцев, флорой и фауной. Прочел он несколько глав…
Начала читать его другой роман — «Странствие и приключение Никодима Старшего». Фантастично.
Несколько дней спустя, утром, по дороге в парк в Детском встретила Скалдина. Я его остановила. Мы поговорили о его книге «Приключение Никодима Старшего», о странностях этого романа. Должны были выйти вторая и третья части, но не вышли и не выйдут. Писан этот роман, когда ему было 22 года. Случайностями судьбы остался за границей, так как все издание в свое время находилось за границей. Скалдин говорил, что существует только два сорта людей, его читающих: одни, начиная, бросают сейчас же, говоря «чепуха», другие, начиная читать, не отрываясь, читают его до конца.
Я отношу себя к последним, так как не могла остановиться, не прочитав его весь. На меня он произвел очень странное впечатление, и это впечатление оставалось у меня много дней.
Я спросила название вещи, которую он читал у Верховских. Точно я не помню, приблизительно — «Земля Каанам».
Вспоминаю, как в конце декабря 1931 года Евгений Евгеньевич Лансере приехал в Ленинград. Он в те годы постоянно жил в Тифлисе. Приехав, он бывал у нас каждый день, чему я была очень рада.
Очень давно, в 1898 году, я увидела на выставке его первые работы — иллюстрации к книге Балабановой «Легенды о старинных замках Бретани». Они привлекли мое внимание к не известному мне тогда художнику. Через год я с ним познакомилась в Париже. Мы подружились, и с тех пор наши дружеские отношения не изменялись. Я гордилась им. На моих глазах развертывалось его блестящее дарование огромного диапазона. Он был отличным графиком, глубоко понимавшим законы художественного оформления книги, и достиг в этом большого совершенства. Он писал исторические картины. Для многих театральных пьес он создал эскизы декораций и исполнил ряд работ монументального характера.
Все творчество Евгения Евгеньевича Лансере носит черты большого радостного вдохновения, характерного своим бодрым реализмом, блестящим мастерством и огромной культурой. Евгений Евгеньевич редко приезжал в Ленинград. Его приезд всегда был для меня праздником. Смотрел мои вещи. Я просила критиковать. Многое ему нравилось, и я верила в его искренность. Показала ему неоконченный портрет (маслом) Сергея Васильевича в лаборатории. Он указал недостатки его. Это меня ободрило продолжать работу, тем более что я чувствовала силу и охоту добиться хороших результатов. Этот портрет сейчас находится в клинической лаборатории в бывшем кабинете Сергея Васильевича, в Военно-медицинской академии
[137].
Однажды, заехав за Евгением Евгеньевичем Лансере, я увидела в квартире Николая Евгеньевича портрет Елены Казимировны, жены его, работы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой
[138]. Портрет превосходен. Очень хороша поза. Она стоит на что-то облокотившись правым локтем. Рука висит вниз и соприкасается с пальцами левой руки. Фигура в черном, без украшений и какого бы то ни было яркого пятна. В портрете много грации, художественного творческого откровения… И почти никакого сходства. Вообще ее портреты часто бывают не похожи. Все изображаемые ею женщины напоминают саму художницу.
И нужно ли сходство?!
Я когда-то этот вопрос предложила Сомову. Он отвечал утвердительно, считая сходство в портрете необходимым.
Невероятно трудно связать эти два элемента — сходство с моделью и художественную цельность работы…
* * *
Получила как-то от П.Е. Корнилова письмо с вложением листа переводных картинок, купленного им в ларьке. Картинки изображали виды Ленинграда. Это просто была вольная передача моих гравюр, вполне их искажающая.
Был и такой случай: какой-то предприимчивый художник взял мою гравюру, немного удлинив снасти вверх. Выскреб мое имя и поставил свое. И был он так невежествен, что повторил в точности мои ошибки, которые были в этой гравюре. Когда я резала эту гравюру «Барка и крепость», то позабыла перевернуть рисунок справа налево. Получилась такая нелепица: выступы крепости с башенками оказались с левой стороны главного собора крепости, а это совершенно невозможно. И вот моя гравюра с чужим именем и моей ошибкой красовалась за окном на обложке книги о Петре Великом
[139].
* * *
В конце 1932 года в Ленинграде открылась юбилейная выставка картин и графики. Сначала я не хотела в ней участвовать, но мысль, что смогу мои вещи увидеть рядом с другими, проверить себя, подтянуться, очень меня соблазнила
[140].
Картин было огромное количество, около двух тысяч, и художников участвовало больше трехсот пятидесяти. Весь низ Русского музея был занят выставкой.
Из ленинградских художников Тырса, Владимир Лебедев, Головин, Кустодиев, Малевич, Филонов
[141] и я имели отдельные комнаты. Я часто заходила на устраиваемую выставку. Первый раз видела Филонова и Малевича. У Филонова мне бросился в глаза непомерно большой лоб, крутой и круглый.
Комната, отведенная Малевичу, была загромождена пьедесталами, на которых художник распределял группы белых кубиков. Он много раз их переставлял, точно играл в игрушки.
Хочу упомянуть тех художников, картины которых на меня произвели наибольшее впечатление, в то же время не претендуя на верность моих впечатлений и суждений. Натюрморты И.И. Машкова сначала мне понравились своей свежестью и как бы бодрым реализмом. Первый раз я их видела вечером, но, когда посмотрела их днем, они мне менее понравились, а через несколько дней — еще меньше. Резкие, яркие краски, которыми художник писал натюрморты, не были согласованы между собой. Каждая кричала по-своему, составляя разноголосый хор. И несмотря на яркость красок, колорита в вещах Машкова не было, не было и воздушной перспективы, а также общего объединяющего тона.
Хороши сильные, сочные картины А.А. Рылова.
Еще нравился художник Лентулов со своими акварелями. Свободный широкий мазок и приятный тон вещей.
Творчество П.П. Кончаловского я ценю и люблю. Но его большая вещь, изображавшая купание красноармейцами коней, мне совсем не понравилась. После Микеланджело и Леонардо да Винчи неосторожно и рискованно брать такую тему
[142].
Конечно, ценнее всех на выставке был, по-моему, Александр Яковлевич Головин. Он огромный мастер. Сильный, тонкий, без малейшей слащавости и выверта. Вот живопись его портретов я нахожу несколько графичной. Так хочется для его портретов свободного, легкого мазка. После Головина второе место, по моему мнению, надо отдать Петрову-Водкину. Он занимал огромную стену в большом зале, и вполне заслуженно. Есть вещи превосходные. Прежде у него вместо колорита была простая раскраска и часто безвкусная. Сейчас этот розовый тон, который был ему присущ, потемнел, стал полнозвучнее, мягче и убедительнее. Были отличные натюрморты.
Если быть откровенной, то я должна признаться, что творчество Петрова-Водкина никогда не было мне близко, но я признаю за ним его большое дарование
[143]. Я не знаю из наших художников никого, кто бы так тонко и глубоко мог передать материнство. Это был художник, которого увлекала декоративная, стенная, церковная живопись. Жаль, что его художественный путь так сложился, что не дал ему возможности творчески проявить себя во всю широту и глубину.
Художник Дейнека меня заинтересовал. Его «Оборона Петрограда» хорошая вещь. Есть в ней ритм, движение. Еще его недурная вещь «Кросс». Хорошо переданы бегущие спортсменки. Но фон непонятен: вертикально поставленная земля и дорога, и с обеих сторон голубовато-серые полосы. Что они изображают — не знаю. Остальные его вещи нехороши. Но в общем, художник сильный и даровитый
[144]. Еще многое мне на выставке нравилось, но ведь всего не перескажешь.
Познакомилась с художником-гравером Владимиром Андреевичем Фаворским
[145]. Он высокий, с длинной седеющей бородой. Какая-то нежность, искренность и доброта проглядывают в каждой его черте.
Он как-то вечером собрался ко мне. Пришли с ним вместе Андрей Дмитриевич Чегодаев
[146], Петр Евгеньевич Корнилов, Константин Евтихиевич Костенко и Елизавета Сергеевна Кругликова. Смотрели мои альбомы гравюр. Я подарила на память В.А. Фаворскому «Павловский пейзаж» и «Вид с Троицкого моста», Чегодаеву — «Фьезоле». Фаворский мне подарил книжку Льва Толстого «Рассказы о животных» с его гравюрами, которые превосходны — первый сорт…
[147]
Для меня эта выставка имела огромное значение. С одной стороны, такой художник, как Головин, давал образцы мастерских вещей. В то же время ряд художников слабых, но с каким-то, хотя порой и необоснованным, дерзанием. И вот это дерзание, молодое и даже неудачное, очень полезно старым, установившимся художникам. Оно их теребит, не дает стоять на месте, как-то помогает находить дальше свой путь, помогает говорить новые слова. Да просто молодит!
VIII.
1933–1937 годы
Лето 1933 года мы провели в Рязанской области в местечке Гусь-Завод Железный у нашей родственницы, Полины Дмитриевны Остроумовой, вдовы моего двоюродного брата. В прошлом году, возвращаясь из Железноводска, мы проездом пробыли там несколько дней.
Поселок этот нам нравился чисто русским, родным пейзажем и заинтересовал нас своей историей. Кратко передам ее.
Очень давно, при Петре I, прославились в Туле два слесаря особенной выделкой ружей. О них узнал Петр I и дал им большой и ответственный заказ, который они выполнили успешно. Мастеров этих звали Демидов и Баташев. В награду Петр I подарил им земли, но в разных местах. Баташев получил обширные земли по реке Гусь, среди муромских лесов, недалеко от Оки. Здесь он построил большой железоделательный завод. Вокруг завода поселились рабочие, и таким образом вырос рабочий поселок Гусь-Завод Железный.
Первые Баташевы быстро и сказочно разбогатели. Кроме того, они прославились своей безграничной жестокостью, став грозой для ближних областей.
Размах у разбогатевших Баташевых был широкий, судя по сохранившемуся огромному дворцу (иначе эту постройку назвать нельзя) и по каменным развалинам оранжерей, которые тянулись чуть ли не полкилометра.
Один из первых Баташевых запрудил реку Гусь. Образовалось большое озеро, на берегу которого был построен дворец с великолепной чугунной решеткой. Предание говорит, что Баташев для постройки огромной подлине и великолепной плотины выписал каменщиков итальянцев.
Сейчас в местечке все в большом запустении. Громадный дом и каменная церковь сохранились, но плотина, так же как и решетка перед домом, очень пострадала. Плотину весной прорвало, и озеро ушло, затопив остатки бывшего завода.
Но все местечко очень живописно со старыми вербами, растущими по краям плотины, с озером, не вполне ушедшим, с окружающими его муромскими лесами.
Еще по-другому интересовало меня это местечко. В нашей семье существует предание, что наш прапрадед был рабочим-кузнецом на Баташевском заводе в Гусь-Завод Железном. Мой отец не раз говорил нам, что наш предок был простой кузнец.
Может быть, сын этого кузнеца был тот дьякон Остроумов, могилу которого нам там показывали.
В те времена не было другого пути для человека из народа получить образование. Так, должно быть, и потянулся от этого дьякона род Остроумовых. Они осели в губернском городе Владимире. Мой дед, священник Иван Петрович Остроумов, жил во Владимире, когда туда приехал опальный Герцен. Он часто проводил вечера у моего деда, который и венчал его в 1838 году с Натальей Александровной Захарьиной
[148]. Моему отцу было два года, когда умер Иван Петрович.

Ехали мы в Гусь-Завод Железный на пароходе до пристани Забелино, где нас уже ждала Полина Дмитриевна.
Погрузились с вещами в тележку. Рядом с нашей лошадью бежал жеребенок. Был прекрасный день. Легкие облака бежали по небу. Кругом поля и пашни. Пахло разогретой землей. Длинноногий жеребенок иногда совсем близко заглядывал к нам в тележку.
Сергей Васильевич несколько раз пытался схватить его за гриву, и, когда ему это не удалось, выпрыгнул из тележки, бросил в нее пальто, кинул мне на колени шляпу и стал ловить жеребенка. Тот, видимо, понял игру. Подпуская Сергея Васильевича совсем к себе близко, он потом, вскинув высоко задние ноги, делал в сторону гигантский прыжок. Приятно было смотреть на оживленное лицо Сергея Васильевича, бегавшего по полю за жеребенком, в то время как мы медленно подвигались вперед.
Тихо и спокойно прожили мы лето в деревенской обстановке. Я довольно много работала. Одна из моих акварелей, изображающая озеро в Гусь-Завод Железном, была впоследствии приобретена Третьяковской галереей
[149]. Мы много гуляли. Ходили по лесу, собирали грибы. Сергей Васильевич немедленно организовал разумное грибное хозяйство. Найдя гнездо грибов, он снимал большие, оставляя маленькие расти, прикрыв их ветками или мхом. Когда он замечал в моей корзине маленький гриб, он с укоризной говорил: «Ну, какая тебе охота губить такого малыша».
Это было его последнее лето. Возвращались мы на пароходе до самой Москвы.
На следующее же по приезде в Москву утро мы собрались на выставку картин ленинградских и московских художников. Там меня ожидало большое огорчение. Я не могла сразу найти моих, небольших по размеру вещей
[150]. Они были повешены в трех разных местах огромного помещения выставки. Особенно я огорчилась за свою большую картину — натюрморт «Овощи», которую я считала хорошей живописной вещью. Она, нуждавшаяся в большом отходе, была повешена в очень узком проходе между двумя щитами, и настолько низко, что стоявшая публика закрывала ее. Так была сведена на нет хорошая вещь. Я молча стояла, совершенно растерянная от московского «приема». Сергей Васильевич, переживавший то же самое, вдруг ласково положил мне руку на плечо и тихо проговорил: «Асинька, не огорчайся, это пустяки».
В тот же день вечером мы уехали из Москвы.
Несмотря на то что я внешне спокойно перенесла мое огорчение, я сразу по приезде заболела нервным расстройством, проболев весь сентябрь. Нам не повезло. Только я встала с постели, как в октябре заболел Сергей Васильевич. И только с ноября наша жизнь стала постепенно входить в обычное русло — работа, главным образом работа.
В 1932 году Сергей Васильевич был избран в действительные члены Академии наук. Открылись новые возможности, новые обязанности. Ему, как и другим академикам-химикам, начали постройку специальной лаборатории.
Много раз Григорий Васильевич Пеков — первый директор Опытного завода — и другие сотрудники и ученики Сергея Васильевича говорили мне, что мой гражданский долг беречь и охранять его. Конечно, все бытовые дела и заботы я взяла на себя, как делала и раньше.
Еженедельные поездки в Детское Село, несмотря на радость, которую он и давали, приносили мне много хлопот. Теперь они как бы удвоились.
Все это разбивало мое внимание, а также и время для личной творческой работы. Частенько я подходила и с тоской смотрела на свой рабочий стол, не имея возможности сесть за работу. Если просмотреть мою папку того времени, то можно заметить, что ее содержание состоит из беглых и часто незаконченных набросков, не объединенных каким-нибудь общим планом.
Сергей Васильевич хорошо понимал мои переживания и старался мне чем-нибудь помочь. Но он сам был очень занят.
Нередко по дороге на завод он завозил меня в Летний сад, где я работала. А иногда я проезжала и дальше, в конец набережной, откуда шла домой пешком. По дороге любовалась родным городом, которым не уставала восхищаться.
Вспоминается мне один особенный день. Вид Невы был совсем необычный. Несколько времени тому назад она стала, потом, под влиянием оттепели, опять вскрылась. Ветер с Ладожского озера нагнал много льда. Образовались у мостов заторы, и лед стал дыбиться в виде торосов. Между льдом торчали бревна, целые плоты, и четыре застрявших парохода. Вызванный ледокол «Силач» пробивал для них дорогу, чтобы помочь пароходам выйти из сжимавшего их льда.
Над рекой стоял туман. Весь противоположный берег рисовался нежным силуэтом. Над ним простиралась серая ровная пелена, а выше виднелось зимнее желтоватое небо. Темные силуэты пароходов и ледокола живописно выделялись среди взъерошенного льда.
Задумала на эту тему сделать законченную вещь, но условия жизни не дали мне сосредоточиться. И мое намерение осталось только намерением. А этому грош цена…
* * *
Однажды вечером к нам пришли наши друзья Успенские, Неонила Васильевна и Владимир Александрович. Узнав, что я пишу «Автобиографические записки», почти их кончила, они уговорили меня что-нибудь им прочесть. Им понравилось, и Владимир Александрович заявил, что мои «Записки» должны быть напечатаны и что он возьмет на себя переговоры с заведующим] издательством ЛОССХа Иваном Филипповичем Титовым об их издании.
И.Ф. Титов передал мою рукопись для ознакомления в редколлегию издательства ЛОССХа, членами которой были, насколько я помню, Н.Э. Радлов, И.Ф. Титов, Е.Р. Малкина, Веселов и др.
[151] Николай Николаевич Лунин, которого просили дать отзыв о моих «Записках», дал вполне благоприятный. Решено было издавать, и редактором от издательства была назначена Малкина Екатерина Романовна.
В феврале 1934 года пошел в печать I том моих «Записок»…
[152]
* * *
Несмотря на загруженность Сергея Васильевича, мы продолжали ездить для отдыха в Детское Село. Много там гуляли. Часто ходили в Екатерининский парк к Катальной горке и смотрели подолгу на лыжников, которые стремительно сбегали вниз к озеру. Кругом смех, румяные от мороза лица. Весело было смотреть на молодежь.
Сделала акварель «Лыжники»
[153]. Очень ярко вспоминаю всю обстановку моей работы. Была зима. Однажды мы проходили в Екатерининском парке мимо поляны, покато спускающейся от дворца к прудам. Мне понравилось сочетание тонов серого обелиска с темно-зеленой хвоей сосны и лиловатой сеткой ветвей огромной вербы.

Поляна была покрыта глубоким снегом, доходившим до пояса. Сергей Васильевич решил (он был в валенках) протоптать мне дорожку до того места, откуда я хотела рисовать. Я быстро принялась за работу, а Сергей Васильевич стоял рядом, оберегая меня от пробегавших мимо лыжников.
Это была последняя работа, сделанная мною при ласковой заботе моего мужа…
Надвигалось ужасное событие…
В начале апреля 1934 года Сергей Васильевич был командирован на завод синтетического каучука. Видимо, во время поездки подхватил заразу и, вернувшись домой, слег, чтобы больше не встать.
Сергей Васильевич умер 2 мая 1934 года в 9 часов 15 минут вечера, во время грозы…
С ним я похоронила мою лучшую половину. Несчастье мое до сих пор мне так тяжко, что я не могу спокойно о нем говорить…
Чтобы заглушить душевную боль, я старалась завалить себя работой, главным образом по приведению в порядок дел Сергея Васильевича. Его ученики, Г.В. Пеков, мои родные и друзья старались поддержать меня. Была организована комиссия во главе с А.Е. Фаворским, которая разбирала бумаги Сергея Васильевича.
В посмертном сборнике работ Сергея Васильевича мне пришлось принять близкое участие, так как я взяла на себя оформление и иллюстрации этой обширной книги. В сношениях с типографией и в решении технических вопросов помогал мне Иосиф Александрович Пастернак. В комиссии, работавшей по созданию сборника, приняли участие академик А.Е. Фаворский, профессор В.Я. Курбатов и др. Но энергичнее, целеустремленнее всех была Анастасия Осиповна. Она неутомимо и с огромным упорством и мужеством преодолевала бесчисленные препятствия, выраставшие на пути этого сборника.
Сергей Васильевич незадолго до своей смерти решил просить Сергея Мироновича Кирова принять его. Он хотел поделиться с ним своими мыслями о каучуковой промышленности, просить его совета, рассказать ему о своих затруднениях. Но преждевременная смерть помешала исполнить это намерение.
С самого начала выступления моего мужа на конкурсе по изобретению каучука Сергей Миронович самым пристальным образом следил за этими работами.
Я считала своим долгом перед памятью Сергея Васильевича осуществить его последнее желание, зная, о чем он хотел говорить с Сергеем Мироновичем.
Сергей Миронович не отказал в моей просьбе принять меня. В один из дней конца мая 1934 года мне позвонили из Смольного, что Сергей Миронович меня ждет к трем часам.
Показав свой документ внизу здания, я получила пропуск и поднялась по широкой лестнице на самый верх и вошла в приемную. Мне не пришлось долго ждать. Вскоре мне сказали, что Сергей Миронович меня ожидает.
Я открыла дверь и вошла. Передо мной была обширная комната, у противоположной стены которой стоял большой письменный стол. За ним сидел Сергей Миронович Киров. Увидев меня, он поднялся и пошел навстречу. Мы очень внимательно, серьезно и молча посмотрели друг другу в глаза. Его наружность: среднего роста, широкоплечая фигура могучего сложения. Лицо широкое, скуластое. Прямой короткий нос. Энергично и резко очерченный рот. Небольшие, глубоко сидящие черные глаза. Кожа на лице огрубевшая, красноватая, как у матроса или воина, который много дней провел на воздухе, и в ветер, и в мороз, и на пекле солнца. Лицо чрезвычайно умное. Взгляд проницательный и наблюдательный. Вся фигура отважная, стремительная, со скованным до нужного момента темпераментом.
Он молча указал мне на кресло. Мы сразу стали говорить о делах. У меня была бумажка, на которой я записала то, что мне надо было сказать, я ее положила на стол и, справляясь с ней, стала говорить. Он молча внимательно слушал, потом пододвинул записную книжку и стал в нее записывать, иногда переспрашивая, когда хотел подробнее узнать о том или другом.
При окончании разговора, который продолжался около часа, он мне сказал, что придает большое значение науке, ученым, которые участвуют в росте страны. И между прочим, спросил меня, получил ли что-нибудь Сергей Васильевич за свое изобретение. «Нет, — ответила я, — он ничего не получал. Ни он, ни его сотрудники». Сергей Миронович спросил меня: «Как же это так вышло?»
Тогда я рассказала ему, что Сергей Васильевич еще в 1929 году заключил договор с Резинотрестом о получении за свое изобретение им и его сотрудниками известного процента с производства, и до сих пор, до 1934 года, не предпринял ничего для осуществления этого договора. И только за несколько месяцев до смерти, по предложению своего ближайшего начальника, он договорился на единовременную сумму в миллион рублей для себя и для своих сотрудников, совсем отказываясь получать ежегодный доход с производства, так как получалась очень большая сумма. Причем свою долю, как он мне не раз говорил, Сергей Васильевич хотел отдать на оборудование своей будущей лаборатории в Академии наук. Тогда я прочла Сергею Мироновичу письмо, мною написанное и приготовленное к отсылке в Москву ближайшему начальнику Сергея Васильевича. В этом письме я писала, что, являясь законной наследницей имущества и прав Сергея Васильевича и зная его желание, я отказываюсь от этих денег в пользу постройки химической лаборатории имени Сергея Васильевича Лебедева, в которой продолжались бы работы по намеченному им плану. На это Сергей Миронович спросил меня, окончательно ли я это решила. «Да», — ответила я. Тогда Сергей Миронович, взяв мое письмо, предложил мне сам передать его по назначению.
При этом Сергей Миронович рассказал, как он ценил и как верил Сергею Васильевичу и его объективности и что он не ошибся в нем. Он вспомнил, как однажды пришли к нему химики и сообщили, что ими получен каучук нового, ранее не известного состава. Сергей Миронович предложил организовать комиссию для оценки и рассмотрения его качества и пригласить в эту комиссию Лебедева. Ему ответили: «Да зачем Лебедева! У него свой каучук, он наш захает». Но Сергей Миронович настоял на своем. И что же? Сергей Васильевич был в комиссии и высказал такое мнение: каучук хорош и в некоторых своих особенностях лучше изобретенного им. И чем больше будет разных каучуков, тем лучше будет для государства. Сергей Миронович Киров оказался прав, веря объективности и справедливости Сергея Васильевича.
Через несколько времени началась постройка лаборатории высокомолекулярных соединений имени Сергея Васильевича Лебедева.
* * *
Первая книжка моих «Автобиографических записок» появилась в свет после смерти Сергея Васильевича. Он ее не дождался. Видимо, она многим понравилась, так как со всех сторон я слышала пожелания о написании второго тома «Записок». Но я знала, что это не скоро будет. Смерть моего мужа совершенно пришибла мои творческие силы. Только через одиннадцать лет вышел второй том моих «Записок».
* * *
В последние годы, когда я встречалась с Исааком Израилевичем Бродским, он каждый раз просил меня согласиться преподавать в Академии художеств. Я все отказывалась. Но в 1934 году И.И. Бродский, убеждая меня, говорил, что общение с молодежью даст мне внутреннюю бодрость и выведет меня из моей апатии. Я дала согласие
[154].
Руководителем мастерской будет Е.Е. Лансере, намеревавшийся два раза в месяц приезжать из Москвы, а я буду его заместителем.
Я шла в академию с открытой душой, доверяя молодежи, как в прежнее время, хотя сознавала, что опыта как преподавателя у меня мало (я только три с половиной года была профессором в Высшем фототехническом институте, с 1918-го по 1922 год), но при доброй воле и внимании я смогу принести пользу молодежи.
Но как я ошиблась! Среди многих трудностей, которые я там встретила, самой тяжелой оказалось недоверие учеников к тем указаниям и советам, которые им давал преподаватель. Сначала студенты на меня производили впечатление каких-то «порченых». Они и сами мне признавались, что не верят моим указаниям, так как у них много было преподавателей с такими противоречивыми требованиями, что они совершенно изверились в ком-либо.
Когда они об этом рассказывали, мне их было жаль от души, так как чувствовалось, что они совершенно сбиты с толку и не знают, за кем идти. Но факт остается фактом — студенты первые месяцы мне не доверяли.
Их никак нельзя было приучить смотреть на натуру просто реально, изображать правдиво то, что видит глаз, не мудрствуя, не следуя каким-то неясным заумным теориям, а выбирая в натуре и подчеркивая существенное, опускать излишние подробности и случайные мелочи. Им казалось это слишком просто и легко, и они не понимали, что простота-то и есть самое трудное.
Иногда студент живую модель изображал зелеными красками, и, когда я ему говорила: «Почему вы не передаете ее такой, какая она есть?», он отвечал: «Я так вижу». Что скажешь против этого? Но это была неправда, так как рядом с натурщицей он верно по тонам передавал фон и другие предметы.
Но постепенно они ко мне привыкли и бодро и усердно принялись за работу.
Е.Е. Лансере приезжал из Москвы довольно редко, раз или два в месяц. Мы подробно с ним выяснили и выработали те пути, то направление, по которому решили вести преподавание. Фактически все преподавание в мастерской вела я. И ученики, которых другие профессора считали «трудными», старательно работали, чтобы подвинуться по живописи и рисунку. К весне они сделали очень большие успехи, чем удивили других преподавателей, знавших их ранее. Весной мы очень тепло расстались со студентами на лето.
Осенью я почувствовала со стороны дирекции академии предвзятое, невнимательное и недоброжелательное ко мне отношение. Часы рисунка и живописи мастерской были уменьшены чуть ли не вдвое, но главное, что меня огорчало, — это перемена в отношениях ко мне студентов, которую я сразу заметила. Кто на них так повлиял, мне осталось неясным. Они стали невнимательно, небрежно работать. Дисциплина среди них очень упала. Иногда я, приехав на занятия, не находила в мастерской ни одной души.
Видя все это, я несколько раз просила устроить производственное совещание, но оно под разными предлогами не собиралось.
Не находя поддержки в дирекции академии, я решила из академии уйти. Довела занятия до конца декабря и в январе 1936 года подала просьбу об освобождении меня от преподавания, потеряв всякий интерес к работе в академии. Вслед за мной ушел Е.Е. Лансере, Н.Э. Раддов и несколько раньше — художники К.Ф. Юон и М.С. Федоров — все те, кто был приглашен И.И. Бродским.
* * *
В октябре 1934 года начала писать маслом посмертный портрет Сергея Васильевича, на котором он изображен в лаборатории сидящим перед столом с химическим прибором. Это был мой первый портрет, писанный по фотографии.
Лицо почти в профиль. Писала портрет довольно долго. Окончив, передала его на Опытный завод, ныне преобразованный во Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева (ВНИИСК).
* * *
Первое лето без Сергея Васильевича я провела в Детском Селе, в нашей квартире, но мне жить там было тяжело.
Работала мало.
Сделала только одну более или менее значительную акварель «Вид на Александровский дворец и пруд», приобретенную впоследствии Русским музеем.
До конца лета я не дожила и уехала с моим другом Клавдией Петровной в Коктебель к Марии Степановне Волошиной, рассчитывая, что там я найду какое-нибудь душевное успокоение. Но и там не нашла его…
* * *
В память Сергея Васильевича были намечены следующие мероприятия: 1. Сооружение памятника на его могиле. 2. Установка бюста в лаборатории. 3. Издание сборника всех его трудов. 4. Постройка лаборатории его имени. Не говорить об этом я не могу, так как во всех этих мероприятиях принимала самое горячее участие.
Я стремилась первым делом поставить надгробный памятник, исполнение которого было поручено Матвею Генриховичу Манизеру. Мне много раз приходилось встречаться с ним. Беседуя и обсуждая дела, волнуясь от возникавших затруднений и помех, я всегда встречала в нем энергичного, целеустремленного художника и доброго, умного человека. Только благодаря его энергии памятник и бюст его работы были исполнены в первый же год после смерти Сергея Васильевича.
Бывая в мастерской М.Г. Манизера, я часто заставала его в рабочем облинявшем комбинезоне, который по окраске приятно сочетался с тоном лица и фоном стен и со скульптурными произведениями. И я написала маслом поколенный портрет Матвея Генриховича на фоне его мастерской
[155].
* * *
15 июля 1935 года я и Клавдия Петровна уехали на лето в колхоз «Тревога», недалеко от городка Невель. Там поселилась моя сестра Софья Петровна с мужем, дочерью и внуками.
Из новизны впечатлений я решила ночевать на сеновале.
Вся окружающая обстановка была для меня необычна. Большой сарай с высокой соломенной крышей шатром. Кругом волны душистого сена. Я укладывалась в глубокую ямку, как в люльку, мягкую, теплую и душистую.
Лежа в ямке, старалась не двигаться, иначе веточки сена падали с краев моей душистой люльки и кололи меня.
Смотрела наверх, на балки крыши, на перекладины, по которым слоями уложена солома. Она нежно поблескивала золотом в сумерках сарая. Между ее рядами были небольшие прорывы. В них виднелось небо.
Вокруг сарая понемногу заканчивался трудовой день. Старуха привела домой черную корову. Закрыла ворота рядом с сараем на задвижку.
Старый пес с поседевшей мордой и умными карими глазами, с видом исполненного долга (он только что обошел оберегаемую им усадьбу, где нужно, полаяв), улегся калачиком здесь же на сене.
Старик Никиша распряг молодую лошадку. Воз с сеном оставил на открытом дворе, а сам ушел в избу. Лошадь вкусно жевала сено, громко хрустя.
Понемногу все стихло. Кузнечики начали стрекотать. Темнело все больше. Свет луны пробирался сквозь щели крыши и бросал на сено бледные лучи. Аромат скошенных цветов наполнял воздух и, как дыхание матери-природы, убаюкивал своей лаской мою израненную душу. Наступала тишина… Спускались сон и забвение…
31 июля вернулась в Ленинград. Оканчивать лето уехала в Детское Село.
Надо признаться, что в то время я безудержно металась, наваливая на себя всевозможную работу. Так я однажды решила вылепить бюст Сергея Васильевича — большая наивность с моей стороны.
В последних числах декабря 1935 года я привезла из Академии художеств два ведра глины и станок. Один из студентов-скульпторов сделал для моей будущей работы каркас, и я стала лепить дома дорогие черты моего покойного мужа.
Первым делом я хотела передать манеру Сергея Васильевича держать голову сильно откинутой назад. Мне это удалось.
Через несколько дней приехала посмотреть мою работу скульптор Елена Владимировна Тонкова
[156]. Войдя в комнату, она уже издали стала говорить: «Похож, похож». Бюст стоял в профиль. Но когда она посмотрела на него en face, то рассмеялась и сказала: «Ведь вы же нарисовали его на плоскости, это не скульптура. Плоско. Все плоско».
Она стала мне объяснять, в чем состоит разница между изображением на плоскости и изображением в скульптуре. Она была очень мила в своем желании мне помочь. Я старалась понять, усвоить то, что она говорила, и следовать ее советам. И вот я снова начала лепить. Помогала мне фотография, но только как толчок моей памяти. Я так много раз писала и рисовала Сергея Васильевича, что помнила каждую черточку. Долго работала над бюстом. Но не зная и не соблюдая основных правил и законов скульптурного искусства, я сделала в конце концов слабую вещь с большими ошибками.
Лицо Сергея Васильевича мне удалось сделать очень похожим. Но его манера держать голову вышла у меня утрированной. Я не принимала в расчет, что работаю бюст на низком и потому неправильном станке.
Поместив после окончания его на должную высоту, я только тогда увидела свою ошибку.
Сделать, как мне советовал профессор В.В. Лишев
[157], второй бюст меньшего размера, соблюдая правила скульптуры и анатомии, мне не хватило уже энергии. Я была очень подавлена моей неудачей. Но все-таки через несколько времени, в 1938 году, опять попробовала вылепить голову шестилетнего внука моей сестры. Смеющаяся курносая мордочка. Эта скульптурная попытка была более удачна
[158].
* * *
В феврале 1936 года умер наш замечательный ученый Иван Петрович Павлов. Академия художеств обратилась ко мне с просьбой зарисовать И.П. Павлова в гробу, так как ни Бродского, ни других художников-портретистов случайно не было в городе. Как ни тяжело мне это было, я согласилась, уж слишком все кругом напоминало недавно мною пережитое.
Пришлось работать ночью, так как днем гроб был окружен почетным караулом и беспрерывно движущейся толпой. Здесь же делали снимки кинооператоры.
Работала я акварелью три ночи. Она в данное время находится в музее Института экспериментальной медицины. Копия с нее, заказанная мне Сельскохозяйственной академией имени К.А. Тимирязева, находится в музее академии в Москве.
* * *
Как-то в апреле 1936 года неожиданно пришла ко мне познакомиться Ксения Алексеевна Морозова, жена Николая Александровича Морозова — знаменитого шлиссельбуржца. Мне она очень понравилась
[159]. Через несколько дней я навестила их. Они были ко мне очень ласковы и настойчиво приглашали приехать к ним на лето в «Борок». Николай Александрович для своих восьмидесяти двух лет выглядел бодро и свежо. Взгляд его глаз был живой и блестящий. Приветливая улыбка под большими белыми усами. Быстрые движения, стройная фигура. Держался он прямо, и ничего старческого в его облике не было.
В ту зиму, когда я познакомилась с ними, я писала два портрета: Наталии Александровны Габричевской и Ольги Владимировны Гирголав
[160]. Я их работала с большим трудом и напряжением, не оправившись еще от моего ужасного несчастья.
Через месяц, попав к Морозовым, в совершенно новую для меня обстановку, я понемногу стала бодрее, и с этим пришла свобода и легкость творчества. Вокруг была такая родная, близкая мне природа.
Много новых людей, много новых впечатлений.
За два лета, 1936-го и 1938 годов, которые я там прожила, я сделала много. Написала два акварельных портрета Ксении Алексеевны и Николая Александровича. С его портретом во время работы случилась беда. Возвращаясь сверху, где позировал Николай Александрович, я нечаянно по дороге прорвала бумагу, да как раз на лице. Портрет был уже довольно подвинут. Никому не рассказала я о моей неудаче, а, запершись в моей комнате, перенесла на новую бумагу все, что мною было уже сделано. На следующее утро я продолжала работу как ни в чем не бывало. Во второе мое пребывание в «Борке» еще написала поколенный портрет Николая Александровича маслом. Он сидит в большом кресле перед круглым столом. На столе старые книги. Фон — темно-малиновая драпировка. Портрет неплох. Скорее хорош. Лицо Николая Александровича почти в профиль, и он похож. Живопись сильная, но сдержанная, и сыроватости в ней нет
[161].
Много сделала акварельных этюдов «Борка» и его окрестного пейзажа
[162].
Но лучше и милее всего были хозяева «Борка». Они окружали меня лаской и вниманием. Очень скоро я почувствовала себя с ними уютно и спокойно.
Жили они во флигеле, а большой старый дом отдали Академии наук, где был дом отдыха для академиков.
Флигель тоже был старой постройки. В нем было четыре комнаты и наверху две светелки. В одной из них каждый день работал Николай Александрович часов восемь. иногда и больше. У правой наружной стены дома (если смотреть на крыльцо) росла огромная, с большими разлапистыми ветками елка, посаженная Николаем Александровичем, когда ему было пять лет. К фасаду этого дома, обращенному к саду, примыкала обширная и длинная терраса. Внизу, перед ней, пестрела большая клумба цветов, из центра которой стремились вверх семь гладких серебристых стволов чудесных берез. Кругом росли кусты шиповника, сирени, жасмина.
Николай Александрович охотно беседовал и рассказывал о разных приключениях своей, такой насыщенной событиями жизни.
Однажды я как-то спросила Николая Александровича, что поддерживало в нем уверенность во время заточения, что он не будет сидеть в крепости всю жизнь, согласно приговору. Он мне ответил: «Математический расчет. Девяносто девять шансов из ста были за то, что я умру в заточении, и только один из ста был за благополучный исход. Так вот на этот счастливый шанс я и рассчитывал. И мой расчет оказался верен. Я остался жив и был освобожден».
Ничего не сказала я на это, но подумала: странный математический расчет. Расчет показывал так мало шансов, что ожидать счастливого исхода логически нельзя было. По-моему, главная причина, почему он мог так долго просидеть в шлиссельбургском заточении и не умереть, и не сойти с ума, — это его неисчерпаемая жизнеспособность, жажда знаний, сила и богатство фантазии и, главное, удивительно здоровая, уравновешенная нервная система, и еще перевес ума и разума над сердцем.
Как-то вечером Николай Александрович показал мне свой альбом-гербарий, куда он наклеивал, будучи в крепости в продолжение семи лет (если не ошибаюсь, с 1888-го до 1895 года), все те растения, которые он находил в тюремном дворе.
Двор был величиной с небольшую комнату. Я совершенно была потрясена фактом создания этого гербария. Какая необыкновенная жизнеспособность, неугасимая энергия и острая, животворящая наблюдательность царили в его уме!
Как любовно, нежно, заботливо высушивал он маленькие, часто хилые растения. Как аккуратно и красиво он их располагал на странице, приклеивая их узкими бумажными полосками разжеванным мякишем черного хлеба.
Второе, что меня поразило, это количество собранных растений на таком крошечном пространстве. Оно достигало числом до трехсот. Среди них есть болотные, лесные, полевые и даже садовые растения: фуксия, черная смородина, жасмин и т. д.
Никто эти растения там не сажал, неизвестно, откуда и как они были занесены на этот
клочок земли. Много заносилось с дровами, на подошвах сторожей, по воздуху с ветром.
Еще Николай Александрович рассказывал, как его товарищ по заключению — Новорусский однажды в книге заметил одно крошечное зернышко земляники. Он его посадил. Оно принялось, и вырос кустик земляники. А через несколько лет Новорусский собрал с него горсть земляники, и она была преподнесена Вере Николаевне Фигнер
[163].
Во время прогулок Николай Александрович любил, как говорил сам, «помечтать, пофантазировать». 8 июля праздновали день его рождения. Когда я утром, поздравляя его, высказала ему мои пожелания, он, улыбаясь, сказал: «Пожелайте мне прожить 15 лет. За это время я успею окончить мою астрономическую работу, но только, конечно, надо будет с нею поторопиться, и если… не появятся новые мысли к новой работе».
Замечательный он был человек. О смерти он так говорил: «Когда она придет, то я скажу: „Ну, нечего делать, надо умирать“». Но смерти он не хотел и не думал о ней.
Николай Александрович страстно любил астрономию, больше всех других наук. Не раз по его предложению мы ходили смотреть звезды. Мы шли из «Борка» в открытое поле. Небо темное, ясное, глубокое. Кругом нас царили безмолвие и тишина. Только звезды трепетно мерцали.
Было пленительно кругом. Но прекраснее всего был Николай Александрович в своей любви и увлечении к этой грандиозной в своей бесконечности небесной науке.
Несмотря на свою старость, он с таким увлечением, по-юношески бодро и энергично рассказывал про небесные светила.
Ксения Алексеевна и я, обнявшись, стояли и смотрели на небо. Я молчала и слушала, а Ксения Алексеевна под эгидой своего замечательного мужа и учителя быстро называла созвездия и отдельные звезды.
Чем больше я узнавала Ксению Алексеевну, тем больше к ней привязывалась. Она была человеком большого темперамента, умная, энергичная, совершенно та женщина и тот человек, который необходим был для Николая Александровича.
Много раз я думала, каким образом, какой для меня непонятной судьбой я попала сюда, в «Борок», к этим выдающимся людям?
Пребывание в «Борке» очень благодетельно подействовало на меня после моей тяжелой утраты. Новые впечатления, незнакомая обстановка и другие люди помогли моей душе и творчеству несколько освободиться от тяжких оков моей печали, и, не умаляя ее глубины, они дали мне возможность снова творчески плодотворно работать.
В начале октября я вернулась домой… Вскоре после приезда посетила выставку Кипренского. Прекрасный художник! Он понимал, что такое стиль в искусстве.
Весь 1936 год и часть 1937 года я проболела.
Здесь я должна сделать небольшое отступление к давно прошедшим годам и рассказать о болезни, которая повлияла на все мое творчество.
В 1902 году (вот какая этому давность) я проводила лето с родителями в Крыму. Очень много работала, несмотря на сильные припадки астмы, которыми я тогда страдала.
Вернувшись домой, я на стенах своей комнаты развесила мои полусырые этюды для их просушки.
Через несколько дней я сильно заболела. Призванный врач определил у меня свинцовое отравление и потребовал удаления из комнаты моих масляных этюдов, красок, скипидара и всяких других художественных химикалиев.
Я долго болела. После выздоровления у меня появилась идиосинкразия — я перестала выносить запах масляных красок, сразу заболевала, и очень тяжело. И это странное болезненное свойство моего организма решило дальнейший характер моего искусства.
Врач мне запретил работать маслом. Если впоследствии я работала иногда маслом, то принимала всевозможные предосторожности: работала на воздухе или у кого-нибудь вне моего дома, высушивала вещи не у себя и т. д.
И вот почему мне против воли пришлось перейти на акварельную живопись.
Вначале мне казалось это огромным несчастьем, но с этим пришлось примириться.
Когда в 1934 году Исаак Израилевич Бродский уговорил меня преподавать в Академии художеств, я была здорова и совсем забыла о своей идиосинкразии.
Надо было представить себе, как мне было вредно проводить по нескольку часов в мастерской, насыщенной запахами масляной краски, скипидара, керосина и других пахучих веществ. Принимала всевозможные меры, чтобы не заболеть. Шла пешком по свежему воздуху после занятий, придя домой, меняла платье. Но все-таки я чувствовала себя больной. И самое тяжелое среди проявлений моей болезни — припадков удушья, сильных отеков и экземы — были мои глаза, которые от беспрерывно текущих слез сильно раздражались, и я временами плохо видела…
После выхода I тома моих «Записок» я стала получать много писем от знакомых и незнакомых мне лиц. Завязалась большая переписка, которая при состоянии моего зрения была для меня довольно затруднительна. Получила письма от писателей П.А. Павленко и М.Ф. Чумандрина, от Н.Э. Радлова, С.В. Шервинского, П.М. Маренина и многих других
[164].
Познакомившись с Петром Андреевичем Павленко, я просила его позировать для портрета. Петр Андреевич добросовестно исполнил мою просьбу, но портрет, я должна сознаться, получился неудачный, и настолько, что я не могла Петру Андреевичу его дать и впоследствии его уничтожила.
Надо откровенно сказать, что мое душевное состояние было в то время очень подавленное. Только одно могло меня захватить и успокоить — это искусство. К счастью, я могла работать и хотела работать. А окружающим людям старалась не показывать моих внутренних переживаний.
Весной 1936 года была объявлена организация выставки «Индустрия социализма». Приезжала комиссия из Москвы для распределения заказов между художниками. Мне предложили написать портрет моего покойного мужа.
У меня был сделан еще раньше, при жизни Сергея Васильевича, в 1928 году, большой портрет в натуральную величину. Он в своей лаборатории Военно-медицинской академии, в обычной своей позе, с полотенцем на плече, смотрит прямо вперед, как бы с кем-то разговаривая. Фон портрета — пестрые по цвету банки и склянки и маленькая печь. Этот портрет был удачен, свежо написан, с большим сходством. Но он остался незаконченным. Хотелось бы больше проработать складки пиджака и брюк.
Используя этот хотя и неоконченный портрет, но сделанный с натуры, я и написала портрет Сергея Васильевича для выставки «Индустрия социализма», жюри его приняло, и он был отправлен в Москву на выставку.
С тех пор я его не видела и судьбу его не знаю, так как после окончания выставки он мне не был возвращен. Я несколько раз пыталась найти его, но все было напрасно…
[165]
* * *
В конце мая 1936 года я окончила портрет Наташи Габричевской. Мне очень хотелось передать ее молодость и красоту, но моя работа меня не удовлетворила. Я делала величайшее усилие, и все мне казалось не то, нехорошо, неубедительно.
Неужели пришел предел моему творчеству, думала я. Тогда надо остановиться и прекратить работу — провести последнюю черту! Если бы жив был Сергей Васильевич, он помог бы мне разобраться в этом. Он всегда был строг и требователен к моему искусству. Он так хорошо меня понимал. Он был правдив и беспощаден, и у него хватило бы мужества сказать мне: «Больше не работай!»
Так я думала, работая портрет Наташи Габричевской. Она сидит в белом платье, в маленькой светлой шляпе, с темной узенькой лентой. Портрет получился свежий и яркий, и все-таки он меня не удовлетворял…
Во время пребывания Габричевских в Ленинграде много времени я проводила в их обществе. Помню, как несколько раз ездила с ними на Острова, которые так любила.
Когда-то, очень давно, я и Сергей Васильевич посадили несколько дубков на Каменном острове, недалеко от Каменноостровского театра. Здесь на открытой травяной площадке, под взрослыми дубами, мы посадили несколько проросших желудей. В последующие годы нам казалось, что они принялись, но, когда я хотела показать их Габричевским, я ничего не нашла, дубков наших не было.
В ноябре месяце 1936 года тяжко заболел мой большой друг Владимир Яковлевич Курбатов. Я всегда считала его человеком очень одаренным, хорошим химиком и образованным искусствоведом. Его замечательные два томика «Путеводителя по Петербургу — Ленинграду» никогда не потеряют своего интереса.
Когда организовался редакционный комитет по изданию научных трудов Сергея Васильевича, то Владимир Яковлевич был приглашен в члены этого комитета. Он принял большое участие в издании научного сборника и помогал также мне советом в обсуждении иллюстраций этого издания.
Заболев, он был помещен в клинику для усовершенствования врачей, где ему была произведена тяжелая операция. Когда он стал немного поправляться, побывав у него, я решила в клинике написать его портрет. Получив разрешение от заведующего клиникой, я привезла подрамник с натянутым холстом и ящик с красками и в несколько сеансов сделала его портрет.
Портрет, кажется, удался
[166].
Несмотря на осень, я стремилась каждый день погулять и, конечно, шла на набережную полюбоваться простором воды и неба.
Помню, как однажды был мрачный день. Дул сильный ветер. Вода поднялась и залила нижнюю площадку набережной, где часто сушатся сети и рыбаки-любители удят рыбу. Смотрела выгрузку с барж. Набросала этюд с натуры «Выгрузка на Неве кирпича» и мечтала с этого этюда сделать законченную вещь. Мне очень нравилось сочетание сизо-серого воздуха, лиловатых туч, рыжекрасных тонов кирпича. И я исполнила мое намерение, но только через несколько лет. В данное время она находится в Художественной картинной галерее города Калинина.
Участвовала на выставке видов Испании. Для этого приводила в порядок мои старые этюды Испании. Дала четыре этюда Сеговии и три этюда окрестностей Толедо.
По просьбе Союза художников дала на выставку-аукцион в помощь испанцам две акварели: «Голландия. Лейден» и «Вольер в Павловске». В момент открытия выставки мои обе вещи были проданы
[167].
* * *
В ноябре месяце Николай Александрович Морозов долго хворал, лежал в постели. Я его часто навещала.
Возила ему несколько химических книг из библиотеки Сергея Васильевича. И вот по какому поводу: мне не раз Сергей Васильевич указывал на несколько научных книг своей библиотеки, говоря, что эти книги переплетали ему шлиссельбургские узники очень давно, в 90-х годах прошлого столетия, когда он был еще студентом. Тюремный врач Безродный, сочувствовавший узникам, привозил им книги, собирая их под предлогом сдачи в переплет.
Я об этом как-то рассказала Морозову, и он мне ответил, весело воскликнув: «Если это были химические книги, то, наверное, переплетал их я, никто, кроме меня, не интересовался химией». Я свезла ему эти книги. И действительно, три из них были переплетены собственноручно Николаем Александровичем, когда он сидел в крепости. С ласковой улыбкой, лежа в постели, он долго держал их в руках, вспоминая прошлое.
Зимою 1937 года опять приезжал из Москвы Евгений Евгеньевич Лансере, мой старинный друг. Тотчас по приезде он звонил мне. Меня всегда трогало его внимательное и ласковое отношение. Видимо, жалея меня в моем одиночестве, он всегда старался расшевелить меня и развлечь в моей апатии и депрессии.
Мы посетили Русский музей. Полюбовались на произведения Валентина Александровича Серова, на его серовато-серебристые краски, такие тонкие и гармоничные…
Были на генеральной репетиции оперы «Царь Салтан» в постановке художников И.Я. Билибина и А.В. Щекатихиной. Постановка талантлива и красочна. Костюмы в стиле иконописного лубка. Много позолоты. Царь Салтан показан несколько карикатурно, но типично и остро. Публика, переполнявшая театр, с большим интересом и одобрением слушала и смотрела
[168].
В марте 1937 года я ездила с Морозовыми в Пулково (в первый раз). Николай Александрович хотел мне показать обсерваторию. Познакомилась с их большими друзьями — профессором-астрономом Тиховым и его женой. Он показал нам обширную библиотеку обсерватории
[169] (37 тысяч томов и 50 тысяч брошюр астрономического содержания). Она была расположена чрезвычайно живописно вокруг центральной круглой башни. Видели старинную печатную книгу (1504 г.). Водили нас в комнату, которая называлась «Служба времени», и мы слушали тиканье и туканье находившегося там множества разнообразных часов, которые не имели завода, а их, не переставая, питал электрический ток. Видели огромный знаменитый телескоп. Все кругом так интересно и ново для меня.
Была ранняя весна. Снег почти везде уже стаял. Только в лощинках виднелись его голубоватые пятна. На пригорках, нагретых солнцем, трава уже чуть-чуть пробивалась, зеленела.
Профессор Тихов сообщил Николаю Александровичу, что его планета Морозовия ведет себя прекрасно, проделывая свой путь, как ей полагается. Эту планету советские астрономы открыли незадолго до празднования восьмидесятилетнего юбилея Николая Александровича и в честь его назвали ее «Морозовия».
Все эти годы два мероприятия, связанные со смертью Сергея Васильевича, чрезвычайно заботили и огорчали меня: издание сборника научных трудов Сергея Васильевича, постройка лаборатории его имени, в которой должны были вестись работы по намеченному им плану. Оба эти дела с их затяжками и затруднениями легли главным образом на плечи ближайшей ученицы С[ергея] В[асильевича] — Анастасии Осиповны Якубчик, я с ней вместе переживала все огорчения и могла ей помочь только моей моральной поддержкой.

В издании сборника его научных трудов я принимала большое участие, так как всю художественную сторону этого издания я взяла на себя. Это был большой труд, отнимавший у меня много внимания и времени…
В 1937 г[оду] Евг[ений] Евг[еньевич] Лансере уговорил меня поехать с ним в Москву и там написать портреты его и Ольги Константиновны Лансере. Он несколько раз уже просил меня исполнить его просьбу и напоминал мне об этом.
Кроме того, у меня была задача, находясь в Москве, как-нибудь ускорить печатание посмертного сборника научных трудов Сергея Васильевича или, по крайней мере, узнать причины остановки издания.
К моему большому огорчению, портрет Евгения Ев[геньеви]ча мне совершенно не удался. Если бы это была масляная живопись, то я бы добилась хоть приличного конца, но акварельная живопись не терпит переделок: бумага скоро утомляется, краски теряют свою свежесть, а техника — легкость и свободу.
Никогда так напряженно и усиленно я не работала, и, кажется, никогда так не хотела сделать хорошо! И какая неудача! И в то же время портрет (тоже акварельный) Ольги Константиновны Лансере я исполнила успешно
[170]. Ее оригинальная красота меня очень увлекла.
Вместе с Е.Е. Лансере посетила в Москве Михаила Васильевича Нестерова. Он совсем не переменился с тех пор, как я его видела. Совсем не постарел и такой же худенький, как всегда. Он показывал свои работы. Делалось это по определенному ритуалу. Нас просили уйти из первой комнаты, где он обыкновенно работал, в маленькую спальню, и за нами закрыли дверь. Через несколько минут ее открыли. Мы вошли. Напротив двери, в большой комнате, стоял мольберт, на нем картина, освещенная лампой из люстры, свет которой от нас был прикрыт картонным козырьком. Полюбовавшись картиной, мы опять уходили в спальню, чтобы в таком же порядке смотреть следующую.
Он показал нам целый ряд великолепных портретов. Особенно мне понравились два портрета-этюда его сына. На одном он был своеобразно одет, мы решили, что контрабандистом, на другом — с красной повязкой на голове и с красным кушаком. Оба портрета исполнены очень хорошо в холодной гамме, в зелено-серых тонах. На одном из показанных нам портретов изображена молодая женщина в черном платье. За нею на полке — скульптурный женский бюст. Видели портрет певицы К.Г. Держинской
[171] и многие другие.
Мих[аил] Вас[ильевич] в те дни писал статью о Левитане. Он мне когда-то много рассказывал о нем, очень тонко, остро и любовно характеризуя своего покойного друга
[172].
Сам Мих[аил] Вас[ильевич] произвел на меня сильное впечатление тонким умом, неподкупностью своих художественных идеалов, горячим сердцем и пылким темпераментом художника…
Познакомилась с двумя дочерьми Валентина Александровича Серова, с Ольгой и Натальей
[173]. Наталья Валентиновна, самая младшая в семье, незадолго перед этим приехала из Парижа.
Чарующее впечатление произвела она на меня. Небольшого роста, стройная фигура. Темно-русые волосы, спереди гладко зачесанные. Открытый выпуклый лоб (отцовский). Большие, глубоко сидящие серые глаза, с очень внимательным серьезным взглядом, нос с горбинкой (от бабушки Серовой), маленький хорошенький рот и жемчужные зубки.
Много рассказывала о наших художниках, живущих за границей. Говорила про Константина Коровина, как он работает, как живет. Французы его как художника знают и ценят.
Рассказывала про дружбу Коровина с Шаляпиным, как они постоянно при этом ссорятся, как Коровин подсмеивается над Шаляпиным…
Видела в этот приезд многих своих друзей по Коктебелю.
Но самое главное, зачем я приехала — написать портрет Евгения Евгеньевича, — я не исполнила, и ускорить дела со сборником мне тоже не удалось, несмотря на обещания, полученные в Москве.
Во время моего пребывания в Москве одни мои знакомые передали мне, что Бакушинский, заведующий отделом акварели и графики Третьяковской галереи, узнав о моем приезде, просил их устроить ему свидание со мной
[174]. Потом он позвонил к Е.Е. Лансере и просил его мне передать о том же.
Я его раньше не знала.
Вместе с Евгением Евгеньевичем я поехала в Третьяковскую галерею и там неожиданно услышала, что моя персональная выставка назначена на май месяц 1937 года. А я приехала в Москву 17 марта!
Ясно, что за такой короткий срок устроить ее нельзя. Многие вещи находятся в музеях, в разных концах Родины.
За последние годы мне несколько раз предлагали устроить мою персональную выставку, но я каждый раз отклоняла это предложение, так как находилась в очень подавленном состоянии после смерти моего мужа. Познакомилась с директором Третьяковской галереи Кристи
[175]. Он согласился со мной, что лучше срок назначить на октябрь 1937 года, а потом, не помню почему, пришлось ее перенести на первую половину 1938 года. И на этом все окончилось.
Когда мы приехали в Третьяковскую галерею, нас провели в кабинет рисунка и акварели, где показали мне мои работы, находящиеся у них не выставленными. Сотрудницы галереи окружили меня и начали подробно расспрашивать о процессе моей работы и о разных технических приемах. Это было для меня неожиданно, тем более что сотрудницы все мои слова записывали. Это еще более заставляло меня быть точной и взвешивать каждое слово
[176].
При рассматривании моих вещей я выслушала от Бакушинского замечание, что им «неудобно держать в папках акварели, наклеенные на картон». В ответ на это я ему сказала, что я всю жизнь стремилась это делать и очень жалею, что не все акварели мне удалось наклеить.
Пуская их в жизнь, в незнакомые руки, я этим ограждала акварели от случайных сгибов, разрывов, от следов пальцев, пока они, наконец, не попадали под оберегавшее их стекло.
При этом должна заметить, что картон я обрезала по самому краю акварели, не оставляя вокруг нее белого паспарту.
Искусствоведы, да часто и сами художники, стремятся положить акварель на белое бумажное паспарту. Эти белые пятна, по моему мнению, совершенно убивают живопись. По сравнению с белой бумагой живопись, конечно, всегда кажется тусклой и глухой, и какой смысл в белом паспарту, я никогда не могла понять.
Если акварель имеет вид подкрашенного рисунка, то паспарту ей не поможет, но если она отвечает всем требованиям настоящей полноценной живописи, зачем же ее распинать на белом бумажном поле, тем самым ее уничтожая.
Такой чудесный художник, как А.А. Рылов, мне не раз говорил: «Акварель должна быть по фактуре легкой и прозрачной и небольшого размера».
Почему так? Размер ее, конечно, ограничен размером бумаги — с этим я согласна. Но почему она не может быть плотной, насыщенной и яркой, если художник к этому стремится? Почему ей ставить какие-то пределы?
Художник может дерзать на все, в любом материале, в любой технике, но с условием быть искренним, правдивым в своем восприятии натуры!
Вернулась я в Ленинград вместе с Марией Степановной Волошиной, которая погостила у меня. Была ранняя весна. Мы часто ездили на Острова, где я с большим увлечением изображала окружающие виды. И это сказалось на работе. Они были удачны.

Лето 1937 года я прожила в Детском Селе, ныне город Пушкин. Татьяна Руфовна Златогорова делила со мной и время, и заботы. В сущности, заботу о хозяйстве она полностью взяла на себя. Но мне тяжело было там жить. Все вокруг напоминало о Сергее Васильевиче. Куда бы я здесь ни пошла, на всем лежала его печать.
Проходила ли я мимо знакомой большой лиственницы в Александровском парке, я вспоминала, как он прозвал ее «десятисвечником» и любовался ею во всякое время года. И летом, когда она стояла пушистая, в зеленых, мягких иглах, и осенью, когда она, усеяв всю землю вокруг себя лимонно-желтыми нежными иглами, стояла обнаженная, еще яснее показывая свои десять причудливых ветвей, а несколько шагов дальше, по этой же дороге мы проходили когда-то мимо изящной плакучей березы. Он мне не раз говорил: «Сделай же ты мне когда-нибудь гравюру или рисунок, ну, совсем маленький — ветви плакучей березы без листьев на фоне дубовых веток, ну, прошу тебя, сделай!»
За очаровательной березой по обе стороны дороги простирались изумрудные луга с купами деревьев. Затем мы подходили к Арсеналу. Кирпичное здание в стиле английской архитектуры. Мы много раз стояли здесь и смотрели, как сверху, с крыши его, с маленького мостика, спортсмены бросались вниз с большими парашютами.
А дальше очаровательный мост между прудами. По сторонам его серебристые вербы. Это был наш конечный пункт. Мы долго обыкновенно стояли здесь, любуясь пейзажем и тихо беседуя… Что-то не работается. Забрала с собою много книг. Письма В.А. Серова. Эта книжка не вполне меня удовлетворила, нет объективности у автора…
Только что прочла Гете «Поездку по Италии». Превосходно. Как жаль, что он, путешествуя, мало находил времени для дневника. В некоторых местах книги чувствуются большие провалы, особенно во время его пребывания в Риме, и такая досада берет. О Риме он, собственно, пишет довольно мало. Несмотря на это, книга мне доставила огромное удовольствие. Ясно представляла себе широко раскрытые глаза Гете, которые жадно на все смотрели. Какой замечательный человек! Потом читала Дени Дидро — письма к Гримму — очень хорошо
[177]!
Взяв с собою и книги и работу, мы с Татьяной Руфовной утром отправлялись в Екатерининский парк, садились сзади павильона, который прежде назывался Музыкальным салоном. Взяв плетеные кресла, мы уютно усаживались в тени под громадным раскидистым кленом. С правой стороны зеленой ширмой росли густые кусты сирени, за ними блестел узкий длинный пруд. Место это было уединенно. Клен бросал чудесную тень и сохранял утреннюю прохладу. Разлапистые его листья горели светлым изумрудом и колебались от легкого ветерка.
Это был наш любимый уголок, где мы проводили много времени.
Так прошло лето 1937 года.
* * *
Надо готовиться к юбилейной выставке двадцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции
[178].
Как мне грустно, что я пейзажист! С каким бы я восторгом изобразила окружающую жизнь! Меня чрезвычайно привлекают физкультурники: лыжники, конькобежцы, футболисты. А летом в Пушкине я много раз любовалась импровизированными танцами на зеленых лужайках, под тенистыми деревьями. Как это было все красочно.
В октябре я сильно расхворалась, опять отекли лицо и глаза. Льются беспрерывно слезы, которые разъедают веки и щеки и вызывают экзему.
Ничего не могу работать, так все предметы вокруг двоятся и троятся в моих глазах.
По совету врачей мне необходимо было быть как можно больше на воздухе. Часто ездила на Елагин остров. Это был конец октября, и сильно холодало. Помню, как я однажды долго сидела на скамейке и наблюдала, как под лучами солнца лед в дальнем конце пруда оттаивал и в воде, освободившейся от сковавшего ее покрова, стали постепенно отражаться белые стволы деревьев и яркое оперение прибрежных кустов. И медленно, и неизменно блестящее пространство свободной воды все увеличивалось, отражая дальние деревья и приближаясь к моему берегу. А ночью, когда не будет солнца, опять все замерзнет. Напрасная борьба с неизбежным.
По вечерам меня, больную, навещают мои друзья: Клавдия Петровна, Анастасия Осиповна.
Анастасия Осиповна рассказала мне о состоянии строящейся лаборатории имени моего покойного мужа, да я и сама на днях туда приезжала и порадовалась, как продвинулось строительство.
В лаборатории шесть или семь довольно больших комнат с огромными окнами, выходящими в палисадник, и две комнаты с окнами, смотрящими во двор. Широкий коридор. Окраска стен приятна — почти цвета слоновой кости. Уже везде паркет. Проведены водопровод и газ. Много мебели, вся одного цвета — немореного дуба, светлая. Но мебель еще громоздится одна на другой. Пришло пять рулонов линолеума.
IX.
1938–1941 годы
В феврале 1938 года перевезла домой бронзовый бюст Сергея Васильевича, отлитый в Академии художеств известным литейщиком Василием Захаровичем Гавриловым. Отлит бюст очень хорошо. Патинирован тоже приятно. В этом бюсте допущены мною ошибки, но мне удалось запечатлеть одухотворенный и живой облик Сергея Васильевича. И это, хочу думать, искупает мои промахи…
Всю эту зиму я проболела. Появились прежние недомогания, вызванные моей работой над портретами маслом, о которых я уже упоминала. Не раз прибегала за помощью к профессору Мгеброву, который пытался избавить меня от отеков, экземы и припадков астмы.
Он всегда мне говорил, что всякое обострение моего заболевания вызвано каким-нибудь запахом, который я могу даже и не заметить. Я ему горячо возражала, что ведь так жить нельзя. До чего же это дошло. Натирать пол мастикой нельзя, так как в нее входит скипидар. Чистить обувь нельзя, так как в сапожную мазь входит скипидар. Не могу же, говорила я, просить гостей обувь оставлять за дверью. Свою обувь я могу не чистить, а того же требовать от людей, бывающих у меня, я не могу. Входить в чужую квартиру и спрашивать: «А нет ли у вас скипидара?!»
Он смеялся и говорил: «Но все-таки таково положение вещей. Вам надо избегать запахов, да и вообще вы трудный и сложный пациент». Так он выразил свое мнение о моей болезни и обо мне.
Из этого я заключила, что эта болезнь у меня неизлечима.
Вспоминаю, как однажды он долго сидел и мы беседовали. Пришла Анастасия Осиповна. Мы говорили о папанинцах, радовались их возвращению, говорили о возможности войны и о том, что, несмотря на окружение капиталистических, враждебных стран, коммунизм у нас восторжествует. Восторжествует он и во всем мире. Говорили, что наш народ принесет обновление всему миру, что, кроме силы оружия, еще крепче сила идеи, сила мысли, которые восторжествуют, возьмут в конечном итоге верх.
Рассказывала им о моем путешествии в 1926 году в Париж, и как мне там все было далеко, неинтересно, и я чувствовала себя каким-то чуждым, нерастворимым элементом. Что-то застывшее и глухое было вокруг меня, точно каменная стена, в которую уперлись европейские народы.
Нет! У нас свежий воздух! У нас вихри, обновляющие жизнь человечества. У нас надежды на прекрасное будущее, не только для русских, но и для всех людей на земле!
Так мы сидели и беседовали. Химик, врач и художник понимали друг друга. Сходились на одном — надо и дальше бороться за наши идеи, отдавая все силы. Каждый должен выполнить свой гражданский долг перед Родиной.
В начале апреля доктор Мгебров настоял на том, чтобы я уехала в город Пушкин на свежий воздух. И так совпало, что с 1 апреля в Пушкин переехали в дом отдыха Морозовы. Мы каждый день видались и много вместе гуляли.
Когда я однажды пришла к Морозовым пообедать с ними в доме отдыха, я после обеда тихонько сбежала, заметив во дворе машину со всей аппаратурой для съемки звукового кинофильма.
Николай Александрович должен был сделать после обеда сообщение о Карле Марксе, и он, и все слушатели должны были быть засняты. Николай Александрович знал лично Карла Маркса
[179].
Я, как всегда, когда попадала в большой круг людей, начинала томиться и скучать и при малейшей возможности сбегала.
Так и здесь, несмотря на настояния Ксении Алексеевны, я выбрала удобный момент и скрылась. Черта с детства — уходить от людей. В отдельности я каждого люблю, а как только людей много — мне утомительно, и я ухожу в одиночество.
28 апреля мне привезли из города сигнальный номер сборника научных трудов Сергея Васильевича.
Наконец-то осуществилось мое горячее желание. В большом волнении держала в руках я эту книгу и думала: «Вся его жизнь улеглась в эту книгу, и какая жизнь! Полная страстью к науке, смелых дерзаний и безудержной работы…»
Сегодня, 5 мая, в лаборатории имени Сергея Васильевича в моем присутствии был установлен его бронзовый бюст моей работы. Гранит на пьедестале очень красив. По серому, с мелкой рябью, фону крупные, наискось проходящие темные, черноватые разводы. Пьедёстал был сделан по моим чертежам.
Я очень опасалась, как выйдет пьедестал и как подойдет бюст к этому помещению по своим размерам и стилю. Вышло все очень красиво, изящно и просто. Я довольна, верно угадав в своих расчетах соотношение размера комнаты к величине пьедестала и бюста.
* * *
Наступило лето.
В начале июня уехала с Морозовыми в «Борок». С нами поехала молодой врач, очаровательная Серафима Михайловна Капица
[180]. Я уже многое писала о своем пребывании в «Борке». Второй год был похож на первый. Только на второй год в большом их доме поселилась группа московских зоологов, которые приехали с детьми и всеми домочадцами. Мы познакомились, они мне были очень приятны. Часто по вечерам они приходили к нам, в наш дом. Это были всесторонне образованные люди. Нашлось много общих интересов, и, как только мы встречались, затевались оживленные, бесконечные беседы. Я мало работала.
Погода в то лето стояла чрезвычайно жаркая, и этим я объясняла мою нетрудоспособность,-
В доме душно и жарко, так как он окружен высокими деревьями, в комнатах темно, и трудно в них работать. Только в одном окне из спальни видно было свободное небо, и перед этим окном я устроилась писать большой портрет Николая Александровича, о котором я уже говорила.

Часто по вечерам я делала одинокие прогулки, что очень любила. Шла обыкновенно по дороге, ведущей к месту бывших каменных ворот (они сейчас разобраны). Вдоль дороги, в 4 ряда, росли березы, которые при заходящем солнце бросали на нее тени. Дорога заросла травой, и бесчисленные цветы пестрели в ней. Я любовалась красавицей дремой, аграфеной-купальщицей, иван-да-марьей, клевером, куколем и сотнями других.
Дорога тянулась по лугам и пашням не меньше километра. Возвращаясь назад, я поворачивала налево, на другую дорогу, идущую между полями клевера, картофеля и спеющей ржи. По краю дороги росли большие рябины с ярко-красными спеющими гроздьями ягод. Два раза дорога опускалась в короткие низины, и деревня Григорово, которая была передо мною, два раза исчезала из виду, точно сквозь землю проваливалась, а потом опять, когда дорога подымалась, постепенно деревня вырастала.
Я часто садилась на траву. Совсем близко перед моими глазами шевелились стебли овса на фоне вечернего неба. Своим нежным, темным силуэтом они казались какими-то неведомыми большими растениями. Колосинки на тонких нитях непрестанно колебались от дуновения теплого, ласкового ветра. Вдали виднелись дома деревушки и группа деревьев старого «Борка». Изредка мягко доносилось мычание коров, блеяние овец и голоса возвращавшихся с сенокоса. Но это не нарушало близкой тишины, она была еще глубже на фоне смягченных, отдаленных звуков.
Запомнилась мне одна встреча, которая оставила во мне живое впечатление.
Однажды утром, встав раньше Морозовых и проходя тихонько через столовую, я неожиданно встретила незнакомого пожилого человека, который при виде меня подошел и назвал себя. Он был большого роста, лицо по чертам выразительное, свежее, загорелое. На нем была русская рубаха и сапоги до колен. Когда я назвала свою фамилию, он спросил, не являюсь ли я родственницей автору одной небольшой книжки, которую он незадолго до этого прочел. Когда он узнал, что я автор этой книжки, он меня ласково обнял, а книжку стал очень хвалить. Это был старый литератор, работавший много лет в периодических журналах, — Золотарев Алексей Алексеевич
[181]. Он был старинным другом Николая Александровича и пришел пешком из города Мологи, где постоянно жил. Был он живой, интересный человек, и с ним приятно было побеседовать. Он прожил несколько дней и так же внезапно ушел пешком домой…
Однажды, уже в августе, мы всей компанией отправились на Волгу. Был жаркий день. 5 километров прошли незаметно. Когда пришли на Волгу, быстро спустились вниз, вброд перешли затоны и перебрались на ее чудесный светлый песчаный бережок. Там дул такой упоительный свежий ветер.
Мужчины развели огонь, вскипятили воду и, сидя по-турецки, пили чай и закусывали. Когда я легла на песок, то легкий ветерок, срывая на ходу мелкие песчинки, щекотал мне шею, лицо и руки. Еще несколько раз мы проделывали эту упоительную прогулку…
В августе я вернулась домой.
* * *
17 мая 1938 года была на отчетном вечере Аркадия Александровича Рылова. Он не умеет говорить отвлеченно об искусстве. Он реалист и, не мудрствуя лукаво, всю жизнь посвятил изображению природы, любя ее страстно и беззаветно. Среди членов ЛОССХа было много его прежних учеников, выступавших после него. Они обращались к нему и говорили о нем с большой теплотой. Между прочим, кто-то из присутствующих спросил Рылова, кого он считает лучшим пейзажистом СССР. Он ответил: «Анну Петровну Остроумову. В ее пейзажах много правды, чувства и остроты». В зале в ответ было гробовое молчание. Мне приятна была похвала Рылова, так как я его считаю человеком искренним и правдивым.
В сентябре 1938 года Михаил Васильевич Нестеров приезжал в Ленинград. Я его видела у Аркадия Александровича Рылова. Первый раз я была у моего друга после его недавнего брака. Встретила его жена, и с первого взгляда она мне очень понравилась.
…Аркадий Александрович цвел улыбками на розовом круглом лице. Блестели ясные, лучистые глаза.
Михаил Васильевич был тоже бодр и неплохо выглядел.
В комнате стояла на мольберте большая картина, только что оконченная Аркадием Александровичем и сделанная по старому этюду. Она была очень хороша.
Работ этого года я не видела, но по дороге к Павловым, где остановился Михаил Васильевич, он мне сказал, что летние этюды Рылова нашел слабыми, вялыми, однообразными. И это его огорчило и взволновало. И он прибавил: «Это все хорошо: и милая, заботливая жена, и свежее его лицо, и его упитанность. Но ведь нам, художникам, важнее кое-что другое, что делает нас художниками. Что-то помимо всякого благополучия. Вот утерять то самое, „безымянное“, для нас — страшнее всего!» Между прочим, в разговоре я упомянула, что собираюсь будущее лето провести в Тарусе. Услышав мои слова, Мих[аил] Вас[ильевич] возмущенно воскликнул: «Что вы, Анна Петровна, как можно туда ехать! Там, куда ни повернись, так красиво, что даже противно! Нет! Таруса не для вас, слишком там сладко!»
Но я все-таки на будущее лето решила ехать в Тарусу, тем более что мой друг Клавдия Петровна тоже ехала туда…
Сделала новую гравюру «Вид на Елагин мост», тот мост, который ведет на остров Кирова. Я когда-то сделала с моста рисунок, увидев его сплошь покрытым инеем
[182].
Не резала я гравюру восемь лет, и вдруг потянуло резать. Этого желания у меня давно не было, и я поспешила его удовлетворить. Наблюдала за собой, как будут работать глаза и руки? По-прежнему ли? И не нашла никакой перемены, точно вчера резала гравюру. Я рада. Что-то для меня родное и близкое в этой работе.
Относительно сосредоточенности и внимания резать сейчас гравюру мне труднее. В живописи можно и так и этак, а в гравюре — нет! Здесь все заранее надо обдумать, взвесить, сосредоточить в одном фокусе, и только тогда резать. Вот это мне труднее сейчас, а глаза и руки пока слушаются.
Задумала сделать повторение с моего портрета Николая Александровича Морозова. Работала каждый день с утра и до трех часов дня. Окончила и неудачно наклеила довольно большую акварель «Мельница в Голландии» и начала подготовлять рисунок для будущей акварели «Старые склады в Амстердаме». Обе акварели делала по своим старым этюдам.
Сделала для альбома, посвященного памяти Владимира Ильича Ленина, литографию «Вид на Смольный и на новый его портик»…
[183]
* * *
Много раз я слышала от различных докладчиков, особенно из числа представителей Комитета по делам искусств, что ИЗОфронт отстает.
Изобразительное искусство, по моим понятиям, самое трудное из всех искусств. Художник должен найти идею для своего произведения и объединить воедино сюжет и исполнение, должен приложить знания истории, эпохи. Да просто он должен быть всесторонне образованным, с развитым вкусом. Кроме того, художник должен исполнить свое произведение с наибольшим мастерством.
Какое сложное, трудное, чрезвычайно трудное искусство! Художник, кроме знаний истории, эпохи, должен быть психологом, понимать душу человека, знать окружающую жизнь, жить ею, жить в ней. Кроме того, художник должен уметь изобразить человека во всех его движениях, положениях, поворотах. Найти для всей картины ей присущий тон, окраску для всех предметов, взаимоотношения света и тени, перспективу, глубину. Трудное, трудное искусство!..
21 ноября 1938 года были у меня сестра с мужем, Клавдия Петровна, Е.С. Кругликова, П.Е. Корнилов,
В.А. и Н.В. Успенские. Читала по рукописи главу «1901–1903 годы» из II тома моих «Автобиографических записок». Читала первый раз и очень волновалась. Просила делать замечания, но существенных замечаний и возражений не было. И это жаль, так как я сама не чувствую, хорошо ли то, что я написала, или нет?
1 декабря я выступила в театре «Эрмитаж» и прочла мои воспоминания о Сергее Мироновиче Кирове.
Публики в театре было довольно много. Было тепло и ласково, как всегда, когда вспоминается Сергей Миронович Киров…
II декабря получила от директора Гос[ударственного] ленинградского университета профессора К.И. Лукашева пакет, в котором была газета «Ленинградский университет» от 1 декабря 1938 года, посвященная памяти Сергея Мироновича Кирова. В ней же была напечатана небольшая статья «Памяти академика С.В. Лебедева». Кончается статья предложением мне почетного шефства над лабораторией имени Сергея Васильевича Лебедева. Мне было очень приятно сознание, что я тоже как-то буду полезна и связана с лабораторией моего покойного мужа.
В эту зиму была выставка Н.Н. Дубовского
[184]. Сорок лет тому назад я пренебрежительно относилась к произведениям этого художника. Махала на них рукой и на выставке проходила мимо. Теперь же я с большим удовольствием просмотрела его выставку. Особенно интересны его этюды. На них видно, с какой любовью, усидчивостью и целеустремленностью изучал природу художник, как он ее любил! Как благоговел! В его искусстве нет обобщения и нет яркой индивидуальности. Из-за этого Н.Н. Дубовского нельзя поставить в разряд первоклассных художников. Но он сейчас ценен для нашей молодежи, так как дает пример необыкновенно искреннего, любящего и правдивого отношения к природе. Этому у него поучиться можно и нужно.
В январе 1939 года открылась выставка Левитана
[185]. Как я ее ждала! Это для нас, пейзажистов, большой праздник! Он прекрасен в своих вещах! Замечательный вкус, художественный такт! Его вещи полны чувства, проникнуты любовью к природе, глубоким лиризмом, и нигде никакой слащавости, красивости. Дивный, замечательный мастер.
На открытие собралось много народу. Было тесно и, к сожалению, очень холодно. Кроме того, выставка показывалась при искусственном освещении. Было жаль смотреть при этом такие тонкие по своим живописным гаммам произведения.
Много раз я ходила на выставку учиться и наслаждаться.
В те же дни, в январе, была в филармонии на концерте, который произвел на меня сильное впечатление и до сих пор звучит в моей душе. Дирижировал Гаук. Исполнялась увертюра Моцарта к опере «Волшебная флейта». Она доставила мне наслаждение. Я очень люблю Моцарта. Потом был 5-й концерт Бетховена. Оркестр и рояль. Исполнителем была Юдина — великолепная пианистка с большим чувством и замечательной техникой
[186]. Но самое лучшее в концерте был Бах — «Magnificat».
Исполняли его хор певческой капеллы, оркестр, орган и оперные артисты.
Это было прекрасно и проникало до глубины души. Дивно звучал хор, и, когда он сливался с оркестром и органом, получалось нечто величественное и непередаваемое простыми словами. А как бы это все звучало, если бы исполнялось в каком-нибудь готическом соборе с высокими арками, с громадными сводами!
Весь февраль усиленно работала — писала главу «1903–1906 годы» для II тома. Очень было трудно писать, и рукопись подвигалась медленно.
Приезжал в Ленинград Сергей Васильевич Шервинский, мой давнишний и хороший друг. Читал свой превосходный перевод некоторых «Метаморфоз» Овидия Назона. Читал очень хорошо.
«Метаморфозы» Овидия с ранней моей юности были моей любимой книгой. Я имела перевод Фета
[187], но его я не любила и предпочитала гимназический подстрочник, где под каждым латинским словом был точный перевод по-русски. В нем отсутствовал стихотворный русский
перевод, но при известном усилии и воображении я, читая, имела свободу творить в области родного языка. Эту книгу всюду на лето я брала с собой…
* * *
Весною, до отъезда в Тарусу, я часто ездила на Кировские острова. Особенно любила сидеть на берегу большого пруда, в той части острова, которая обращена к Старой Деревне. Здесь остров не так застроен киосками и павильонами, и они не нарушают изумрудную красоту полянок.
Несмотря на раннее время, остров был заполнен детьми, школьниками и молодежью. Везде мелькали легкие фигуры девушек и юношей в трусиках и майках, хотя было еще не так тепло. Радостно было смотреть на оживленные и смеющиеся их физиономии. Какая разница с прежним временем! Физкультура, всевозможный спорт, игры, танцы процветают сейчас, и всегда под наблюдением специальных руководителей. Пруды покрыты лодками. Гребцы из кожи лезут, перегоняя друг друга. На острове устроены специальные пляжи и площадки для метания копья, диска, для игры в футбол, для занятия гимнастикой. Вокруг острова — беговые дорожки. Зимой на острове — конькобежцы, горы для катания и лыжники. Это прекрасно. Все это радует и глаз, и душу.
Сама я сейчас сижу на дуплистом стволе вербы, растущей над самой водой. Ствол ее протянулся почти горизонтально на земле и представляет удобное сиденье. Сижу и наслаждаюсь.
* * *
13 мая 1939 года был организован вечер, посвященный памяти Сергея Васильевича, по случаю пятой годовщины со дня его смерти. Вечер этот был устроен в Доме культуры имени М. Горького, что у Нарвских ворот. Концертный зал на 500 человек был полон. Вечер прошел хорошо и устроен был с большим вниманием.
Прекрасный доклад сделал Николай Иванович Смирнов
[188]. Он, кроме оценки заслуг Сергея Васильевича и его исключительного значения, как создателя синтетического каучука, в своем докладе дал подробное историческое развитие каучуковой промышленности (с 1884 года, когда впервые получили каучукообразное вещество). Все у него было построено на фактах и на цифрах, и доклад получился серьезно обоснованным. Кроме того, большое достоинство доклада Смирнова еще заключалось в его форме, которая была проста, понятна и вполне доступна всем. Ни на одну минуту внимание к его докладу не ослабевало, и такие далекие к химии люди, как художница Кругликова, художник Белкин, сестра моя Соня и я, прослушали его с величайшим интересом.
Потом сделали доклады академик А. Байков
[189], профессор В.Я. Курбатов, Пеков, Якубчик и Корчагин. Всех особенно растрогал Григорий Васильевич Пеков. Он был душевно прост, глубоко искренен и ласков в своем докладе, вспоминая о первых днях знакомства с Сергеем Васильевичем.
* * *
Уже несколько недель, как я в Тарусе. В первые же дни посетила могилу художника Борисова-Мусатова. Кладбище расположено на высоком берегу Оки, который крутым обрывом падает вниз. Могила Борисова-Мусатова (гранитный пьедестал и на нем лежащий мальчик)
[190] находится почти на самом его краю и рисуется на фоне открытого далекого горизонта с лесами, зеленеющими лугами и бодро текущей Окой. Удивительно хорошо выбрано место покоя. Прекрасный, чарующий художник, который так тонко, с такой грацией наносил на холст свои видения. И так рано умер.
25 июня 1939 года, к своему глубокому горю, будучи в Тарусе, прочла в «Известиях» о смерти Аркадия Александровича Рылова. Еще потеряла друга. Видела я Аркадия Александровича незадолго до моего отъезда, 5 июня, когда я провела у него вечер. Он был уже нездоров. Говорил, что при малейшем движении чувствует жжение в груди. Он смотрел своими большими, добрыми голубыми глазами на собеседника, прижимая к груди свою небольшую худенькую руку.
В лице Аркадия Александровича мы потеряли очень большого художника, чрезвычайно одаренного, искреннего и правдивого.
Это был пейзажист чистой воды. Живопись его крепкая, сильная, несколько терпкая. От его этюдов и картин веет бодростью, свежестью живого чувства. В его произведениях, какое бы время дня он ни изображал — вечер ли, раннее утро или сумерки, серенький день или солнечный, нет сентиментальности, печали, уныния. Все моменты природы им воспринимались бодрым, ясным чувством. Энергия его была неиссякаема, трудолюбие безгранично. Техника его живописи приятна, проста, легка. Без крупных мазков, без ненужного размаха, без форса.
По духовному складу это был замечательный человек. Ясный ум, доброта безграничная, общительность, незлобивость привлекали к нему всех, кто только его знал. Он пользовался всеобщей заслуженной симпатией и любовью.
Я подавлена. Какие смерти! Рылов, Сомов, Петров-Водкин.
Сомов мой давнишний друг и товарищ. Мы рядом шли так долго вместе, в самую лучшую пору нашей жизни. В пору исканий, в пору своего утверждения и борьбы.
Петров-Водкин. Трудно говорить о нем. Очень сложный человек. Несомненно, богато одаренный, и при этом разнообразными дарами. Раньше всего он стал выступать как автор драматических вещей, из них некоторые исполнялись на сцене. Потом он стал живописцем. В последние годы он написал свою автобиографию в двух томах: «Город Хвалынск» и «Пространство Эвклида». В них он показал свое большое литературное дарование, хотя с некоторыми чертами его я не могу согласиться. Он любил говорить об искусстве, но часто совершенно непонятно
[191].
В его личности — преобладание ума над чувством, ума холодного, часто отвлеченного, философствующего и скептического.
Больше всего из его вещей я любила те, в которых он изображал материнство. Всегда превосходны его натюрморты. Он их исполнял в совершенстве. В его искусстве — глубокое понимание формы в ущерб колориту.
Относительно живописности и красоты Тарусы Михаил Васильевич Нестеров был прав. Маленький, чрезвычайно живописный городок, расположенный по крутым холмам и оврагам, заросшим старыми чудесными вербами. Я работала много, но сделала мало. Вербы, которые здесь так живописны, мне почему-то не удавались. Я не сумела выработать приема, как выражать наиболее просто их характерные и отличительные черты среди других деревьев. Одним словом, я не овладела окружающей природой, не поняв стиля ее.
Кроме того, меня утомляла жара. Я плохо с годами стала ее переносить. Но все-таки привезла из Тарусы 25 больших и среднего размера акварелей и десяток рисунков.
* * *
В Тарусе я познакомилась с художником Василием Алексеевичем Ватагиным
[192]. Его дом расположен высоко на холме, на краю Тарусы, и доминирует почти над всем пейзажем. Ока широко и далеко видна с его обширной террасы. Художник производит приятное впечатление. Небольшого роста, худенький, с мелкими чертами лица, с небольшими карими внимательными глазами. Он прекрасный, талантливый скульптор. Я видела у него отличный бюст знаменитого художника Вас[илия] Дмитр[иевича] Поленова, сделанный им года за два до смерти, когда В.Д. Поленову было уже за восемьдесят лет. Художник удивительно передал в глазах Поленова глубокую старость с ее спокойствием и мудростью.
Ватагин много работает. Он показал мне целый ряд скульптур из глины, из дерева, из клыка моржа. Мне очень понравились его очаровательные фигурки из цветной глины: темно-коричневой, черноватой, красноватой и совсем светлой.
При этом глина эта, по словам художника, высыхая, не давала трещин, а просто каменела.
Последнее, что он тогда работал, — женская фигура с повязанным вокруг головы платком. Левой рукой она обнимает маленького козленка, а справа к ней прижимается и поднимает голову коза. Группа эта прелестна. В ней есть грация, пластичность и стиль…
В конце сентября я вернулась домой.
* * *
В октябре окончила 3-ю главу II тома моих «Автобиографических записок». Главу «1903–1906 годы» оканчиваю описанием жизни нашей в Тироле, в самые счастливые годы моей жизни. Такие солнечные и такие блаженные!
В ноябре 1939 года написала краткую характеристику Аркадия Александровича Рылова для книги «Воспоминания»
[193].
29 ноября 1939 года мы узнали о большом тяжелом событии — началась война с Финляндией. Какое огромное несчастье! В 6 часов был сильный орудийный огонь. Лежа в постели, я проснулась, и мне казалось, что кто-то стучит со всей силой в нашу входную дверь, внизу лестницы, и я все удивлялась, что же это никто не открывает и не впускает того, кто так страшно стучит. Уже собиралась будить Нюшу и вместе с нею спуститься вниз. Потом я поняла, что это были орудийные залпы.
Город был погружен в глубокий мрак. Жутко было смотреть из окна.
Днем я отвезла в ЛОССХ 8 акварелей и портрет маслом Николая Александровича Морозова для отправки в Москву на выставку «Декада ленинградских художников».
Также отвезла на хранение в Гос[ударственный] Русский музей доски трех моих гравюр: «Персей и Андромеда», «Павел I», «Вилла Боргезе» — все большого размера. Мне тяжело было с ними расставаться, точно со своими детьми. Доски ведь требуют заботливого к себе отношения. Они боятся сквозняков, натопленных печей и должны вертикально стоять на ребре, не прикасаясь друг к другу, чтобы одинаковой температуры воздух обтекал их кругом. 40 лет я хранила доски «Персея и Андромеды». Гладила их иногда руками. Как я люблю поверхность доски! Испытываешь особое чувство наслаждения, когда проводишь пальцами по ее отшлифованной поверхности.
Когда я проезжала, возвращаясь из музея, около мостов, то с обеих сторон их стояли на грузовиках и высоких постаментах батареи из четырех пулеметов, направленных в небо. Рядом с каждой из них — красноармейцы, а в двух шагах — командир батареи, смотрящий в бинокль на небо. Все это производило тяжелое впечатление.
Положение в городе продолжало быть напряженным. Очень короткие декабрьские дни. В 4 часа уже в домах тем но, надо зажигать свет и перед этим тщательно затемнять окна. На улице темно-темно. Тишина. Изредка проезжает машина с потушенными фарами, без гудков. Невольно прислушивалась к каждому звуку в городе, и это не страх, а какая-то настороженность.
Почти каждый день ездила заниматься в рукописный отдел библиотеки Гос[ударственного] Русского музея. Хотела ознакомиться с архивом Бенуа, чтобы проверить кое-какие даты, в которых я сомневалась. Между прочим, в архиве прочла письма Е.Е. Лансере к Бенуа.
Какой Евг[ений] Евг[еньевич] был интересный человек, умный, наблюдательный, с огнем, с объективным, критическим чувством, с большим темпераментом и искренней непритворной скромностью. Многое в письмах его прекрасно. Как он верно понимал и чувствовал события 1905 года. Он смело писал обо всем Бенуа, который в то время жил за границей.
Письма Евг[ения] Евг[еньевича] очень интересны. В них сочетание ума, смелости, даже задора и огромной одаренности.
В его письмах я ознакомилась подробнее с возникновением журнала «Жупел». Я не знала или забыла, что мысль о создании журнала появилась у художников еще в самом начале 1905 года, после расстрела рабочих. Художники собирались у Юрицина — издателя и редактора газеты «Сын Отечества», или у Добужинского, иногда у Билибина. Деятельное участие в этом принимали Гржебин и художник Замирайло. Денежные паи согласились внести Юрицин, Яблоновский, Грабарь, Добужинский, Замирайло, Сомов, Остроумова, Билибин, Бакст, Лансере и Яремич. Но об этом журнале и его судьбе я уже писала во II томе моих «Записок».
Очень хорошо пишет Лансере о революции, и как он прямо и решительно, трезво и умно упрекает Бенуа за его страх перед социализмом…
Сейчас в домах окна так тщательно завешивают, что город кажется мертвым. Нигде ни огонька. Все сплошь черные массы, которые громоздятся во все стороны. Страшно. И еще страшнее, что небо безоблачно, сверкают звезды и луна обливает эти темные массы зеленоватым мертвенным светом. И среди этих громад черные группы людей, ожидающих редкого трамвая, который идет, освещенный тусклыми синими фонарями.
Темные силуэты автомобилей и грузовиков проносятся мимо, на мгновение осветив фарами стоящих людей и тотчас же исчезая.
23 декабря я была радостно взволнована. Утром поехала в Гос[ударственный] Русский музей. Взяла пропуск и отправилась в графический отдел к Петру Евгеньевичу Корнилову. Там узнала, что шкаф, предназначенный для моих досок, освобожден. Доски мои были сотрудниками музея очень бережно приняты. И вот это меня сильно порадовало.
Шкаф не высокий, но глубокий, из карельской березы, красивый. Сама ставила доски в шкаф, и еще раз гладили и трогали их мои пальцы. Еще раз скажу и в последний, как мне было тяжело расставаться с ними. Успокаивает меня мысль, что после моей смерти они будут на своем месте и, может быть, заживут дальше, давая молодежи возможность на них учиться прекрасному (это относится не ко мне, а к граверному искусству). Итак, начало этому положено.
Я никак не могла привыкнуть к моему любимому городу, лишенному света, я никогда его таким не видела.
Мне очень хотелось пройти ночью по его темным улицам и площадям. Помогла осуществить мое желание Анастасия Осиповна. Я днем приехала в университет и, отпустив машину, прошла в лабораторию имени Сергея Васильевича, где и решила ждать вечера, темноты, когда Ан[астасия] Осип[овна] и Мих[аил] Арк[адьевич] Хохловкин освободятся от занятий, так как они решили меня сопровождать.
Когда совсем стемнело, мы вышли в бесконечный университетский коридор, который тянется вдоль узкого и длинного двора. В нем было темно, как в печной трубе, и, признаюсь, неприятно идти. Когда мы вышли из здания университета, то, несмотря на то что в городе были потушены огни, стало светлее: так ясное небо и сверкающие звезды освещали землю. Когда мы пошли по Республиканскому мосту, то увидели в перспективе Невы, на востоке, огромную красновато-желтую луну. Она висела на небе, как китайский фонарь, не озаряя города. Он тонул во мраке.
Перейдя мост, мы пошли вдоль Адмиралтейства, мимо Зимнего дворца и Александровского сада. Было очень красиво. Громады Зимнего дворца, Александровская колонна и за нею перспектива Певческого моста, а вдали ряд домов, идущих по загибу Мойки. Луна была не видна, но небо было удивительно красивого цвета. Какое-то лимонное с синеватыми тонами, которые чувствовались в зените.
Мы обошли кругом Дворцовую площадь, постояли под аркой Главного штаба, любуясь гениальной постройкой архитектора Росси. На первом плане громады зданий рисовались темными массивами. Чем больше удалялись дома, тем слабее виднелись их силуэты, и совсем вдали они нежно сливались в какой-то трудно определимой по цвету дымке. Перейдя через Певческий мост, мы пошли по берегу Мойки, мимо квартиры, где жил Пушкин
[194].
Пройдя мостик через Мойку и Мошков переулок, вышли на набережную. В переулке нам в лицо дул сильный ветер, и щеки и носы сразу защипало. Постояли здесь, любуясь дивным пейзажем. С правой стороны Мойки тянулись постройки бывших царских конюшен, с левой — дома и здания Круглого рынка, а затем вдали мерещился Инженерный замок. Луна на небе забралась повыше и начала уже бросать свет на здания, на землю. Воздух был морозный, пахло озоном. Было непередаваемо прекрасно, когда мы переходили бесконечный Кировский мост. Петропавловская крепость и ее бастионы темнели сплошной массой.
Дойдя до моста Свободы, мы на нем постояли. Потом перешли на Выборгскую сторону. Луна высоко и ясно сияла. На освещенных ею домах лежали тени противоположных домов. Тени, пересекая улицу, поднимались по светлым домам, кончаясь ломаной линией дымовых труб. Тени от дыма шевелились и двигались на освещенных стенах. Было странно, немного жутко, но и прекрасно.
Весь декабрь месяц почти ежедневно работала в архиве Государственного Русского музея.
2 января 1940 года отвезла на хранение в Гос[ударственный] Русский музей, по любезному предложению администрации музея, еще 24 доски моих гравюр. Я никак не думала, что мне будет так тяжело отдавать их. С некоторыми я просто не могла расстаться. Упакую их, а потом опять разверну и поставлю в шкаф. Так было несколько раз с моей доской «Зимка».
Окончила гравюру — книжный знак «Похищение Прозерпины» для Дмитрия Исидоровича Митрохина, гравюра в две доски
[195]. Понемногу работаю. Привела в порядок папки и, разбирая их содержимое, кое-какой материал, не имеющий никакой ценности, уничтожила.
А надо здорово перед смертью почистить папки и выбросить нестоящий хлам. Я этим как-нибудь займусь. Но часто случается, что какой-нибудь плохонький рисунок нужен как материал, и приходится его терпеть.
В начале февраля был отпразднован юбилей талантливого художника Елизаветы Сергеевны Кругликовой по случаю ее семидесятипятилетия. Отбирая вещи для ее персональной выставки, я видела все ее искусство. Она талантлива, полна жизни, наблюдательности, движения. Ее творчество легко, свободно, иногда очень остро. В нем чувствуется зоркий глаз художника. Свои моментальные впечатления она часто выражала смелой линией, удачным штрихом. Не надо в ее искусстве искать сильного чувства, особой углубленности — это не в характере ее творчества. Ее интересовала жизнь. Из ее кармана всегда торчал карандаш и маленький альбомчик, в который она незаметно вносила все, что происходило кругом.
Движение, порыв, страстный и напряженный, чувствуются в ней, когда она хочет отразить то, что зацепило ее внимание.
То она идет за кулисы театра и там рисует балерин, то сидит среди писателей и делает их портретные силуэты, часто очень удачно, а то ей понравится букет цветов, и она торопится сделать монотипию, техника которой требует от художника большой сосредоточенности, ловкости и быстроты. Есть между ними прекрасные листы. Она была общительного характера, легко сходилась с людьми; была очень добра, благожелательна и старалась своим советом и указаниями помогать начинающим художникам.
* * *
На днях был у меня поэт Юрий Никандрович Верховский, мой большой друг. Он обедал, а после читал сонеты итальянского поэта Франческо Петрарки, переводом которых он тогда занимался. Сидели, беседовали, говорили о многих писателях, но больше всего о Стендале и его литературном даре, его философии, убеждениях и о его мироощущении.
Я всегда любила беседовать с Юрием Никандровичем. Он талантлив, высокообразован. Искренний и правдивый, умный, смотрящий в глубь и в сущность вещей.

Между прочим, он уговорил меня сделать автопортрет к моей будущей выставке
[196]. Меня эта мысль увлекла, и я на следующий же день принялась за работу. Решила сделать его во весь размер листа ватмана. Наметила лицо и фигуру в натуральную величину. В одной руке я держу кисть, в другой акварельный ящик. Сразу начала набрасывать рисунок кистью легким нейтральным тоном, не прибегая к карандашу. Начала работать с большим увлечением, но сразу увидела безрассудство затевать такую большую акварель. Размер настолько был велик, что доску положить в нормальное для акварели положение — с легким наклоном — нельзя. И рука при этом не достает до верха, и рисунок получается в сильном ракурсе. Пришлось доску с бумагой поставить почти вертикально, другого выхода не было, и здесь получилась непредвиденная беда: нельзя работать большими мазками, большими планами. Мазки сразу превращаются в струи окрашенной воды, которые стремительно стекают вниз. Это настоящее бедствие. Приходилось работать мелкими мазками (как я говорю, «тяпать») и полусухой кистью, чтобы вода не скоплялась внизу каждого мазка. По моим понятиям, такая трактовка натуры была мало художественна и выразительна, но, несмотря на все, я работала с большим увлечением и подъемом. К моему сожалению, условия этой работы предопределяли заранее прием и технику, которые были не в моем характере.
Чтобы несколько освежить живопись портрета, я в некоторых местах, особенно в складках одежды, тронула пастелью. В конце концов портрет вышел похож и неплохо сделан…
* * *
Директор Государственного Русского музея Николай Алексеевич Цыганов
[197] определенно решил устроить мою персональную выставку в мае 1940 года. Мне пришлось всю зиму работать для этой выставки.

12 мая она была открыта. Меня встретила администрация музея во главе с Николаем Алексеевичем и публика ласково и внимательно. Выставка была устроена заботливо, с большим умом и вкусом. Бригада, работавшая над экспозицией выставки, состояла из четырех научных сотрудников музея и одной младшей служащей: бригадир П.Е. Корнилов, К.Е. Костенко, Н.В. Петошина, И.О. Могилевская и Женя. Все были терпеливы, энергичны, неутомимы и благожелательны. Работали с энтузиазмом и подъемом. Пришлось очень много работать над усвоением материала, который я представила на выставку. Он был очень разнообразный и по технике исполнения и по темам
[198]. Ориентироваться в нем и построить нечто цельное и стройное было нелегко. (Всех вещей было 642. Из них — 43 портрета, живописи и рисунка — 415, гравюр — 200, литографий — 25.) Но бригада с экспозицией справилась отлично, и я им глубоко благодарна за то, что они следовали моим советам и желаниям. Выставка была построена в историческом аспекте и расположена в хронологическом порядке.
Мы решили выделить в первом зале живопись маслом (50 вещей), так как мои ранние работы проходили в масляной живописи. Мы хотели показать весь пройденный мною путь в этой области, кончая портретом академика Н.А. Морозова 1938 года. Маслом я вообще работала мало, о причинах этого я уже говорила…
Что мне самой больше всего нравилось на выставке, если мне посмотреть на нее глазами постороннего зрителя? Я бы сказала: «Испания» по колориту и красочной насыщенности, по стилю — «Пункахариу», а по лирике — «Павловски», «Острова» и многие «Ленин-грады».

Мне хочется думать, что моя выставка была полезна в смысле изучения техники, приемов, рисунка и общей культуры. Со всех сторон я слышала благоприятные отзывы о ней: от искусствоведов, от всевозможных знакомых и незнакомых людей и, что меня очень радовало, от юных художников. 30 июня выставка закрылась, и жаль было думать, что от нее ничего не осталось, как и от многих других выставок, кроме книги записи посетителей, как реальное доказательство, что она была и ее видели… В то же время я довольна, что она окончилась. Ничем заняться серьезно и вплотную я не могла. Она держала меня на веревочке. Все время надо было исполнять какие-то дела, связанные с этой выставкой. Дни проходили зря, бесплодно и бесследно…
Хочу приняться за работу, а для этого мне опять надо спрятаться, «нырнуть под воду», где бьют свежие, живительные ключи, и к ним прильнуть устами… Я жажду одиночества…
24 июня ездила на открытие «Пенат», в Куоккала
[199], где жил последние 30 лет и умер Илья Ефимович Репин. Был жаркий, знойный день. Дорога утомительна — с ухабами и ямами.
Дом Репина был немаленький, но состоял из небольших комнат, часто прорезанных дверями, окнами, и все разной вышины. Комнаты были довольно темные, так как вокруг центральной части дома шли крытые застекленные террасы, которые отнимали свет. Крыша дома состояла из стеклянных пирамид, очень крутых и заостренных (ввиду частых дождей и больших снегопадов).
Собралось на открытие огромное количество народу. Дом был набит до отказа. В него пускали по очереди, и нам пришлось часа полтора прождать на воздухе. В доме было так тесно, что ничего нельзя было рассмотреть, и я, долго не задерживаясь, вернулась в Ленинград. Но мне пришлось вскоре еще раз там побывать. Я согласилась участвовать, как ученица Ильи Ефимовича Репина, в радиомонтаже, устроенном по случаю 10-летия со дня его смерти. Кроме меня, из учеников Репина были приглашены Александр Иванович Кудрявцев
[200] и Митрофан Семенович Федоров. Передача должна была происходить в «Пенатах» 29 сентября.
Когда мы приехали, «Пенаты» были пусты. Мы были одни, не считая двух дикторов и радиомехаников, занятых своими техническими приготовлениями.
У нас было много времени впереди, так как выступать мы должны были в половине девятого вечера.
Мы тихо и с чувством благоговения обошли весь дом. Внизу самые большие комнаты были — столовая и кабинет. В столовой стоял знаменитый круглый вертящийся стол. Он был накрыт скатертью. Стояли приборы, посуда, большие вазы с цветами. Это создавало иллюзию жизни в доме. Нам казалось, что вот-вот сейчас мы увидим входящего хозяина дома.
Наружная стена столовой была застеклена до потолка. Это огромное окно закрывалось на ночь плотными деревянными ставнями. У внутренней стены находилась небольшая кафедра, с которой «провинившийся» гость должен был в «наказание» выступать с речью. Вина гостя большей частью состояла в нарушении правил этикета, установленного хозяевами за круглым столом.
Очень уютное впечатление производил кабинет Ильи Ефимовича. Он передней своей стороной напоминал корму большого парохода. Стена была вся стеклянная, и под ее подоконниками помещались полки с книгами. Посередине комнаты стоял большой письменный стол. В глубине, около двери, две невысокие кафельные печки.
Лестница наверх, в мастерскую, была неприятно крута, с высокими и узкими в глубину ступенями. Поднимаясь по ней, я думала: «Как тяжело было нашему старенькому Илье Ефимовичу в последние годы подниматься по ней».
Вошли в мастерскую. Огромное квадратное окно, и под ним большая мягкая оттоманка. Много гостей Ильи Ефимовича посидело на ней. В мастерской стояло несколько мольбертов. На стенах висели работы последних лет художника, те, которые его домашние не успели увезти. Рядом с мастерской — обширная крытая терраса. На ней Илья Ефимович всегда ночевал.
Но самое сильное впечатление у меня осталось от портрета, на котором в последний раз был изображен Илья Ефимович. Портрет был написан сыном его — Юрием Ильичом Репиным через 8 лет после смерти отца.
На этом портрете Илья Ефимович был изображен в натуральную величину, во весь свой небольшой рост, работающим в мастерской. Он в темном, узком пальто или халате. Худенький, легкий и… весь порыв, движение. Лицо бледное, одухотворенное, такое, какое мы видели у него, когда он работал среди нас. Глаза темные, пристальные, что-то видящие. Парализованная рука висит вдоль туловища, другая, с кистью, протянута вперед. Большая закругленная палитра горизонтально пересекала его в талии. Она была прикреплена к широкому поясу ремнями, спускающимися с плеч. Около самого туловища, на палитре, коробочки с красками.
Фоном на портрете служила стена мастерской и кафельная печь, освещенная лучами солнца, и широкое светлое пятно окружало, как бы ореолом, голову и легкие, пушистые волосы Ильи Ефимовича.
Портрет отчасти производил впечатление нереального. Я не знаю, может, это было намерение автора — дать почувствовать нереальность изображенного им Ильи Ефимовича, а может, это само собой вышло у него. Но портрет в то же время давал зрителю очень убедительный, возвышенный и глубокий образ
[201]. И в этом образе много характерно репинского. Сущность его почувствовали мы, его ученики.
Долго стояли перед портретом. Сумерки постепенно сгущались. Окна потемнели. В доме была тишина. Только часы в передней куковали мелодично, напоминая нам о проходящем времени, и тем острее, и тем ярче вырастал перед нами, как живой, образ нашего гениального русского художника, нашего великого учителя…
Мы услышали шаги дикторов, искавших нас. Быстро спустились вниз. В столовой застекленная стена была уже закрыта ставнями. На круглом обеденном столе горели свечи, преодолевая мрак кругом, и нам предложили приступить к радиопередаче…
[202]
После мы еще раз, с фонарем, обошли весь дом, прощаясь с ним. И нам вспомнились в те минуты наши давние беседы с Ильей Ефимовичем, когда мы с ним решали вопрос: «Какие же произведения останутся вечно молодыми?» Ответ ясен: «Те вещи, в которых заключаются жизнь, правда и чувство художника». И все это мы находим в произведениях Ильи Ефимовича, произведениях времени его расцвета. И как это было для нас, старых художников, в юности, так и для молодых художников будущего Илья Ефимович останется навсегда учителем жизни и правды в искусстве…
* * *
Лето 1940 года я прожила в Пушкине. Мне было спокойно в моей уютной квартире. Она была хорошо обставлена, в ней было небольшое собрание хороших, интересных книг. Отдохнула от зимы, от выставки, от себя самой. Никаких у меня не было работ, ни крупных, ни мелких. Бытовые мелочи опять взяла на себя мой друг, добрая, прелестная Татьяна Руфовна. Живописью я не занималась. После моей выставки я чувствовала, что безгранично надоела себе своим искусством. Немного писала пером. Окончила 7-ю главу II тома моих «Записок»: «Поездка в Италию в 1911 году и Всемирная выставка в Риме».
* * *
Как-то зимой я собралась в горком художников на просмотр работ молодых художников, не состоявших членами ЛОССХа.
На обязанности жюри было (жюри состояло из Е.С. Кругликовой, К.И. Рудакова
[203], меня и еще мне незнакомого художника): 1) критика и характеристика молодых художников, 2) решение вопроса о подготовленности того или иного художника для вступления в члены ЛОССХа, 3) отбор акварелей и рисунков для женской выставки, 4) принятие шефства над молодыми художниками.
Из просмотренных работ много было неплохих, исполненных все больше художниками, работающими для заработка по оформлению книг, иллюстрирующих ботанические и географические атласы и т. д. Много нужно любви к искусству и целеустремленности, чтобы находить время и душевные силы еще творчески работать «для себя».
Три художницы из присутствующих пожелали, чтобы я была их шефом и направляла их в будущих работах. Я с удовольствием согласилась.

Просматривая работы молодых художников, мы обратили внимание на большое количество акварельной живописи, а когда поднялся вопрос о принятии акварелистов в ЛОССХ, то выяснилось, что им надо идти в графическую секцию, так как акварельная живопись у искусствоведов и музееведов считается графикой.
Какое странное заблуждение!
* * *
8-е Марта — Международный женский день. Дала на женскую выставку три акварели. Была на ее открытии. Общий уровень картин довольно высок. У многих хороший рисунок, а это я ставлю главным в нашем искусстве.
«Устроительница выставки» — Вера Дмитриевна Семенова-Тяншанская. Она уже давно работает, и вещи ее сильны по цвету
[204].
Торжественного открытия выставки не было, но после осмотра был организован летучий митинг, где несколько человек выступило с приветствиями.

Все прошло тепло, приятно и не длинно.
Вечером, по приглашению Союза архитекторов, присутствовала на их торжественном заседании.
* * *
Зимою была на лакокрасочном заводе, где готовились акварельные краски. Познакомилась с администрацией завода. Мне показали все производство и уговорили заняться проверкой красок и сравнить их с красками лучших заграничных заводов. Я им это обещала.
Взяла большие листы бумаги и на них наложила мазки наших русских красок и с каждой рядом такую же краску английской фабрики Винзора и Ньютона. Эти листы я долго держала на свету.
Через несколько месяцев испытания я увидела, что акварельные краски нашего завода оставались яркими, чистыми, то есть оказались прочными от выгорания. Они были так же хороши, как и заграничные, но в них один был существенный недостаток — они плохо шли на кисть. В чашечках, освобожденные от оболочки, они скоро сохли и твердели. Приходилось долго тереть по краске кистью, а это очень затрудняет работу акварелиста. Да и кисть не захватывала достаточное количество краски, какое надо для широкого, обильного мазка.
* * *
15 июня 1941 года была на открытии двух выставок: на персональной выставке художника Н.А. Тырсы и на выставке «История русской деревянной гравюры»
[205].
Обе выставки осматривала бегло.
Н.А. Тырса очень талантливый, блестящий художник. Великолепные букеты цветов. Прекрасные акварели пейзажей, часто с блеском исполненные. Трактовка пейзажа у него беглая, незаконченная, часто одни намеки, но намеки красиво сделанные.
Масляная живопись менее приятна. В ней есть грубость и сыроватость.
Часто встречаются повторения одного и того же мотива. Например: открыто окно и в нем виден пейзаж — сочетание лимонно-желтого цвета с холодным зеленым, или этюды женщин в одних и тех же позах и т. д.
Глубины в его искусстве, по моему первому впечатлению, мало. Оно скользит по поверхности. Легко, широко, бравурно, блестяще.
Самое лучшее, что у него есть на выставке, — это прекрасные иллюстрации. Особенно хорошо, прямо великолепно, он изображает зверей и птиц. По моему впечатлению — блестящий мастер.
Выставка «Русское граверное искусство» (ксилография) тоже очень интересна. Особенно выразительны и своеобразны старинные русские гравюры. Есть образцы большой редкости, начала XVII века. И очень резок переход от этой своеобразной, выразительной творческой гравюры к периоду, когда она становится служебной, репродукционной, когда она теряет свое самодовлеющее значение.
Я очень восхищалась на выставке этими старинными гравюрами. Как сейчас помню, одна из них изображала Георгия Победоносца, другая — архистратига Михаила. Узнав, что в музее находятся доски этих гравюр, я просила разрешения там же, в музее, мне отпечатать, конечно, ручным способом, гравюру архистратига Михаила. Доска эта была сильно покороблена, кое-где трухлявая и проточенная жучком-точильщиком.
Я ее с большим трудом отпечатала. Потом на оттиске осторожно уничтожила все изъяны доски, которые на нем отразились.
Я люблю эту гравюру. Она производит очень сильное впечатление своим размахом, мощью и творческой силой. Автор этой гравюры неизвестен. Можно только предположить, зная, что в те времена грамотность была сосредоточена главным образом в монастырях, что эта гравюра делалась каким-нибудь монахом-гравером. Да и содержание самой гравюры показывает ее происхождение и назначение…
Это были мои последние художественные впечатления перед наступающей грозой. Через неделю началась война.
Ленинград в блокаде
X.
1941 год
Трудно писать о годах, проведенных мною в Ленинграде, когда он был окружен кольцом врага.
Трудно потому, что все пережитое еще слишком близко, не в перспективе, «без отхода», как говорят художники.
Трудно отделить главное от мелочей, существенное от случайного. Записи дневника мешают создать общую картину. Они отражают слишком много бытовых мелочей. Кроме того, они вызывают неулегшееся чувство негодования, возмущения и боли. А главное, я должна предупредить читателя, что мои воспоминания будут воспоминаниями старого человека, который по своему возрасту и малым силам не мог участвовать в энергичной защите своего родного города. Много раз я переживала горечь и боль от этого сознания.
После объявления войны и внезапного чувства ужасного несчастья, свалившегося на Родину, у жителей Ленинграда наступили дни сравнительного спокойствия. Жизнь в городе, казалось, как будто шла по прежнему руслу. Люди сновали по улицам, магазины торговали, трамваи ходили. И в то же время другая, более интенсивная жизнь города шла. глубоко скрытая и малозаметная для жителей Ленинграда.
Большинству учреждений и предприятий предписано было эвакуироваться из Ленинграда. Оборудование фабрик, заводов увозили далеко на восток, с тем чтобы в тылу продолжать усиленно и напряженно работать для неотложных нужд войны. Все чаще и чаще шли по городу вооруженные военные отряды. По ночам было слышно, как проходили тяжелые громыхающие орудия, от которых сотрясались дома. По радио не раз объявляли тревоги, но бомбить враг еще не начинал.
По предложению Русского музея перевезла на хранение в музей 4 акварели К.А. Сомова, довольно много моих работ, три альбома гравюр моего печатания, часть архива, и все-таки еще многое из художественных ценностей оставалось дома.
Разобраться во всем этом было довольно трудно. Мне надо было отобрать для хранения в музее самое значительное, и в то же время необходимо было оставить себе материал, который мог понадобиться в процессе моей работы над вторым томом «Записок», которые я в то время писала.
* * *
Город стал быстро менять свой облик: окна запестрели всевозможными бумажными узорами. Объявлена неукоснительная светомаскировка. Улицы погрузились в полную темноту, прорезаемую синими, сильно притушенными фарами проезжающих машин. Прежде, бывало, вечером заглянешь в окно, а там на улице блестящие, ярко освещенные окна домов, фары машин пробегают, как лучи, по освещенным улицам города. Везде жизнь, движение. А теперь стоишь в темной комнате, а в окне ни одного-то огонька, и как-то жутко становится на душе.
Я иногда по целым дням не знала, что делается на свете, так как у меня тогда не было репродуктора, а получение газет было очень стеснено.
Некоторые мои близкие друзья, знакомые, Нюша — моя домработница и друг, с рынка приносили всякие непроверенные слухи. Их приходилось старательно просеивать и многие совсем отвергать. У нас с моей сестрой Елизаветой Петровной, которая тогда временно жила у меня, появилась новая обязанность — утешать и успокаивать таких, которые с большим душевным страданием уезжали из Ленинграда, так как учреждения, где они служили, эвакуировались, или утешать матерей, расстававшихся с детьми, увозимыми из Ленинграда.
Эвакуировался из Ленинграда и Опытный завод синтетического каучука имени моего покойного мужа. После его смерти сотрудники и ученики Сергея Васильевича внимательно и ласково относились ко мне. И оставаться без них было как-то страшно. Они мне часто помогали в моих бытовых затруднениях.
Но я оставалась спокойной. Что будет, то будет.
Дневник от 3 июля 1941 года
«…Сегодня слушала с сердечным волнением мудрую речь товарища Сталина. Слова его вливают в душу спокойствие, бодрость и надежду.
У нас организовали круглосуточную охрану дома. Сестре и мне назначили дежурить по три часа. Хорошо, что не ночью, а днем. Надо было сидеть на соседней лестнице и сторожить чердак. Если упадет зажигательная бомба — немедленно сообщить пожарному звену, куда, между прочим, вошла Нюша».
Дневник от 21 июля 1941 года
«…До сих пор ни одна бомба не упала на Ленинград, хотя тревоги бывают часто. Сегодня ночью тревога была половина первого, вторая — половина пятого. Я проснулась, и так как сильно стреляли зенитные орудия, то заснуть снова уже не могла. Оделась и вышла во двор посидеть на скамеечке. Было очень рано, часов пять утра. Небо ясное. Солнце еще не освещало зданий города, но ярко блестело на аэростатах, которые в огромном количестве усеивали небо. Они, как серебряные корабли, плавали в нежно-голубом эфире. Тросы не были видны, и казалось, аэростаты свободно парят в небе…»
Как только начиналась тревога, из корпусов клиники инфекционных болезней, которая напротив моих окон, тянулись больные, кто на своих ногах, а кого несли на носилках в бомбоубежище, находившееся в подвале здания кафедры анатомии.
И каждый раз при тревогах студенты Военно-медицинской академии вылезали из слуховых окон здания кафедры анатомии и сторожили крышу, чтобы немедленно тушить упавшие зажигательные бомбы…
Умерла известный художник Елизавета Сергеевна Кругликова
[206] — мой друг дорогой и верный. Какая для меня потеря! 22 июля мы хоронили ее на Волховом кладбище. Собралось много народу. Говорили прощальные слова В.П. Белкин, А.А. Брянцев
[207] и др. И вдруг раздалась воздушная тревога. И было так странно: открытый гроб с покойницей, освещенный заходящим солнцем. Вокруг большая группа народу. Кругом зелено, ярко. Прозрачное небо. И надо всем этим завывание сирен и тревожные, громкие гудки заводов и фабрик. Над головою шум моторов летающих самолетов. Было грустно и тяжело.
* * *
Большинство садов закрыто для жителей города. В них выкопаны земляные щели для военных целей.
Выхлопотала себе и моей сестре у директора ботанического сада разрешение в нем бывать. Сад пока не запущен, только не так наряден, как обыкновенно. Очень любовалась великолепными гортензиями. Они росли в больших вазах гроздьями белых, розовых и голубых цветов, образуя огромные шары необыкновенной красоты. В саду — ни души.
Летнее солнце играло на траве, просвечивало сквозь листву деревьев. Световые кружки бегали по скамье, по нашим платьям, по страницам книги. Прохладный ветерок веял от реки. Я переживала минуты тихого спокойствия и на мгновение забывала, что у нас война, гибнут люди, горят города. А потом действительность властно напоминала о себе.
Дневник от 4 августа 1941 года
«…Александровская колонна стоит в лесах, но они пока не достигают верха. Ангел не укрыт и резко чернеет на светлом небе.
Исаакий, его купола (один большой и четыре маленьких на угловых башнях) выкрашены в темно-серую, защитного цвета краску. Со всех четырех сторон собора выстроены высокие глухие заборы. Они вплотную прилегают к нижним ступеням. Все пространство от нижних ступеней и до самых верхних, до входных дверей, засыпано песком.
Памятник Петру Великому упаковывается. Это большая постройка. Всадник и лошадь заключены в двухэтажный деревянный ящик, который своим основанием стоит на верхней площадке гранитного пьедестала. Вверху на ящике имеются два горизонтальных перекрытия. И это жаль, так как на их плоскости могут задерживаться зажигательные бомбы. Вероятно, и эта площадка будет покрыта мешками с песком.
Много песку нанесено к низу основания гранитной скалы. У набережной, около Сената, стояла огромная барка с песком. Непрерывная вереница людей: мужчины возили в тачках, женщины вдвоем на небольших носилках переносили песок к основанию памятника. Было жарко, палило
солнце. Постояла, посмотрела. В душе было стыдно от сознания, что сама не работаешь, не помогаешь людям укрывать родной город. Зарисовать побоялась — город на военном положении.
Пришла домой и набросала по памяти вид закрытого Петра Великого. Через два дня я поехала к памятнику проверить мой рисунок. Но деревянные укрепления так изменились, что мой рисунок уже устарел.
Памятник Николаю I был закрыт иначе. Статую Николая и коня по их формам обложили гибкими мешками с песком, можно было догадаться, где голова и плечи статуи, где начинались линии шеи и головы лошади. Ясно выделялась уродливо утолщенная выступающая вперед согнутая конская нога.
Вверху прилажены были несколько редких деревянных перекладин, поддерживавших мешки с песком. Памятник производил впечатление бесконечного потока мешков. Они лежали горизонтальными мягкими гибкими линиями. И такие ряды мешков шли до самой земли, и только в четырех местах высовывались верхние концы светильников…»
Дневник от 16 августа 1941 года
«…Напряжение в городе растет. Решено было эвакуировать из города женщин и детей, так как Ленинград будут защищать до последних сил, и что при этом будет происходить — никому неизвестно…
Всех волнует один и тот же вопрос: уезжать ли? куда и как? с какой перспективой на будущее? как в неизвестном месте вновь налаживать свою жизнь, бросив свои насиженные, обжитые квартиры? Бедные ленинградцы! Я хочу остаться. Твердо хочу остаться на все страшное впереди.
Прощаюсь с близкими людьми. Уехала моя сестра Софья Петровна с мужем и внуками на Урал. Мои племянницы Морозовы со своими дочерьми также покинули город.
Уехала Алекс[андра] Ник[олаевна] Верховская — мой близкий друг. Ее спокойствие, мудрость и кротость, с которыми она переносила свои несчастья, обнаруживали в ней человека высокого благородства и душевной глубины
[208].
Она в последний день перед отъездом уговаривала меня куда-нибудь уехать, но у меня твердое и определенное решение не уезжать.
Многое переполняет душу, но всего не перескажешь!!»
Дневник от 31 августа 1941 года
«…Тяжело переживаю несчастье моей Родины и моего народа. Остро болею душой. Так и полетела бы в самую гущу, чтобы принять удары и на себя. Кажется, мне легче было бы тогда. А то сидишь копной немощной и никуда не годной. Физическая оболочка уже износилась, а душа жаждет подвига, работы.
Жуткое время сейчас. Страшно жить и в то же время хочется жить».
Дневник от 9 сентября 1941 года
«…Четвертый день враг бомбит Ленинград. Началось с того, что тяжелый снаряд ударил в дом на Глазовой улице около Лиговки. На следующий день самолеты бомбили Московский вокзал. Попали на вокзальный двор и в несколько домов на Старо-Невском проспекте. Дома очень пострадали. Один совсем провалился.
…Сегодня было очень страшно. Тревога началась вечером. И как раз над нами, в зените, произошел воздушный бой между нашими и вражескими самолетами. Во дворе у нас собрался народ. Все смотрели на небо и оживленно обменивались мнениями. Вдруг внезапно с большой быстротой поднялось над строениями огромное белое кучистое облако дыма и пара, которое постепенно окрашивалось в красный цвет. Оно росло необыкновенно быстро, все вверх, вверх, чрезвычайно красиво освещенное заходящим солнцем. Его верхний край выпукло выделялся на голубо-зеленом вечернем небе. По мере потухания неба и захода солнца краски облака темнели, принимая очень грозный и зловещий вид. <…> Как нам потом стало известно, горели Бадаевские продуктовые склады…
Только кончилась эта тревога, как началась вторая. Бомбы падали во все районы города.
Я не могла оставаться в квартире: она прямо под крышей, и так как в нашем двухэтажном домишке нет газоубежища, нет подвала или подворотни, то я и мой сосед, проф[ессор] С.С. Гирголав, стояли внизу на лестнице между входными дверями, открытыми настежь (чтобы их не вырвало воздушной волной), и смотрели на всю окружающую картину. Было жутко. Особенно было противно, когда падали воющие фугасные бомбы. Немцы — наивные люди, думали этими ревущими бомбами вызвать у ленинградцев панику. Уже далеко сверху был слышен их вой. Он быстро нарастал с приближением к земле, а потом раздавался оглушительный грохот. Вот это ожидание и вопрос — куда она упадет — тяжело действовали на нервы. Хотелось втиснуться в землю…
Вечером 10 сентября я была на дворе, тихонько гуляя. Раздалась тревога. Тотчас же я направилась к нашей входной двери. Но не успела сделать нескольких шагов, как обрушилась одна бомба, потом другая, с невероятной силой. Земля, казалось, колебалась подо мной. Воздушная горячая волна бросила и прижала меня к стене моего дома. Страшный раздался треск и грохот. Посыпались дождем осколки оконных стекол нашего дома. Не успела я добежать до входной двери, как грохнули еще две бомбы, но несколько дальше.
Эти бомбы упали на клинику нервных болезней. Здание очень пострадало. Были человеческие жертвы.
Шла интенсивная бомбежка нашего района. В доме оставаться нельзя было, и мы вместе с нашими соседями забрались в земляную щель, вырытую на дворе, где и просидели до трех часов утра, когда стало светать и бомбежка прекратилась. В траншее была невообразимая теснота, так как, кроме жильцов наших трех небольших домиков, туда забрались люди, ехавшие по Лесному проспекту на трамвае. В щели было тяжко, душно и сыро. Зато удары и разрывы бомб звучали под землей глуше. Еще угнетала там полная темнота…»
* * *
Огромные стаи птиц, ворон, как только началась бомбежка, с громкими резкими криками перепуганно метались в воздухе то туда, то сюда. Несколько времени спустя их совсем не стало в городе. Они его покинули.
Дневник от 11 сентября 1941 года.
«…Все ожидали, что пайки на продуктовые карточки будут уменьшены с 1 сентября. Но этого не случилось. Зато коммерческие магазины, где продавались товары без карточек, закрыты; в них отпускаются продукты только по карточкам.
Тяжело бывать на тех улицах и в тех районах, особенно около вокзалов, где скопляются тысячами беженцы из окрестностей города. Вся душа перевертывается от этого тяжелого зрелища. Дети в повозках или на узлах, женщины с грудными младенцами, коровы, козы. Все шевелится, дышит, страдает. Все выбиты из колеи …Решила уехать из дома. Ни одного целого стекла нет в моей квартире. Уж очень обстреливается Выборгский район.
Мой шофер Иван Емельянович забил мои окна фанерой. Стекол не достали. В квартире стало темно. Я и Нюша несколько ночей не спали, и Иван Емельянович уговорил нас переночевать у него, уверяя, что их Приморский район очень спокоен и до сих пор не бомбился. Он жил в шестиэтажном доме, в самом низу. (У нас тогда еще было наивное представление, что бомба пробить шесть этажей не может.)
Я и Нюша мечтали провести хоть одну спокойную ночь.
Но это не вышло. Только я улеглась в комнате, отведенной мне гостеприимной семьей Ивана Емельяновича, как началась ужасная бомбежка. Совсем рядом с нами были разбиты в мелкий щебень три дома. Подбежав к окну, я увидела ужасную картину: от четырехэтажного дома вдруг отделилась и рухнула фасадная стена, и с грохотом падения послышался многоголосый человеческий вопль. Потом все стихло. Это было тяжко пережить. У нас вылетели все стекла. Громадный дом, в котором мы были, качался и содрогался, как при землетрясении. По воздуху летели кирпичи, куски балконов, чугунных решеток. Это был кромешный дантовский ад. Электричество потухло, и мы сидели в полной темноте…»
Там мы провели два дня и 14 сентября переехали на улицу Марата, к моей родственнице Ольге Анатольевне Остроумовой, вдове моего брата, — семья состояла из нее, двух мальчиков, ее сыновей, и матери. Там мы прожили три с половиной месяца.
* * *
Город все более производит тяжелое впечатление. Окна магазинов забиваются досками, щитами. Между ними насыпается песок. Строят доты, баррикады.
Несмотря на бомбежку, улицы переполнены людьми. Огромное количество народу вливается со всех окрестностей Ленинграда. Как-то в сентябре, живя на улице Марата, я вышла на Невский. По мостовой без конца тянулись вереницы деревенских повозок со всевозможным людским скарбом. Среди узлов, вещей и домашней утвари выглядывали в повозках маленькие дети, стояли корзины с кудахтающими курами и утками. Сзади шли привязанные коровы, овцы, козы. Это беженцы из окрестностей Ленинграда, Луги, Вырицы, Павловска, г. Пушкина, Кингисеппа и т. д. вливались в наш окруженный город.
И все-таки было заметно, как жизнь в городе постепенно замирала. Остановились трамваи, выключили телефоны. С потерей радиоприемников, телефонов, не имея газет, я все больше и больше чувствовала свое одиночество. Магазины закрывались. В них ничего не было, а если и появлялось что-либо, то моментально выстраивалась чудовищная очередь.
Все чаще стали встречаться покойники, везомые на кладбище на скромных повозках.
 Дневник от 16 сентября 1941 года
Дневник от 16 сентября 1941 года
«…Утром приходила моя милая Таня. Она сегодня ночью пешком ушла из Пушкина, бросив нашу квартиру на произвол судьбы. Она была на службе (секретарем Селекционной станции), когда пришел директор этого учреждения и сказал, что надо немедленно уходить из Пушкина. Вышла ночью в три часа. Города Пушкин и Павловск подвергались жестокому обстрелу. Она несла хлеб и смену белья в рюкзаке.
Шла по шпалам на станцию Шушары (11 километров от Пушкина). Несмотря на ночь, обстрел путей продолжался, и снаряды все время падали впереди нее. Но кое-как добралась до Шушар, а там села в поезд, идущий в Ленинград. Таня совсем растеряна. Алексей Иванович — муж ее — на фронте, о нем ничего не слышно. Маленький сын Сережа давно уже отвезен к бабушке в Рязанскую область.
Вчера стало известно, что жителей Кировского района милиция, по требованию военных властей, выселяет из их жилищ в центр города. Последние дни происходила ожесточенная бомбардировка Кировского завода. Там вблизи завода находится около тридцати деревянных жилых домов. Некоторые из них уже горят, и все они связывают действия армии. Бедные люди. Они оказались силою событий на линии фронта».
Дневник от 17 сентября 1941 года
«…Вражеские войска заняли половину Пулкова, а наши войска отступили к Средней Рогатке. Там сейчас происходят стычки и пальба из орудий с обеих сторон. Жители этого района, которых на днях оттуда выселили в центр города, несмотря на стрельбу и всякие страсти, возвращаются к своим жилищам. Кто за вещами, а большей частью копаются на огородах, собирая в мешки свой картофель, капусту и всякие другие овощи. Все стараются запастись продуктами, так как приближается неотвратимый голод. Некоторые из жителей здесь же погибают от снарядов на глазах у всех. И несмотря на это, они непрерывной цепью идут на свои насиженные места, на свои огороды. Мне говорили, если взглянуть на поля, то люди, как бесчисленные муравьи, копошатся на них. Другие, мертвые, неподвижно лежат…»
Дневник от 25 сентября 1941 года
«…Сегодня было за день 12 тревог. Они очень разбивают время, внимание, мысли. Мы редко во время тревоги уходим в бомбоубежище.
Но в последнюю тревогу не выдержали. Мирно сидели при свечке. Петя около нас читал, а я и Ольга Анатольевна в полумраке молча сидели. И вдруг как ахнет. Одна, другая, третья. Дом заколебался, мы бросились одеваться и кинулись врассыпную вниз, по чрезвычайно крутой лестнице в бомбоубежище. Петя тащил меня за руку. Была полная темнота. Благополучно пробежали по двору в бомбоубежище. В него ведет очень узкий с заворотами коридор и приводит в 4 большие, очень низкие комнаты подвала. Они обыкновенно набиты людьми и их вещами. Многие в них живут. Трудно найти место, чтобы сесть. Петя, зная это, захватил для меня мой складной для работы стул. Люди располагаются в убежище, как дома. Приносят с собой постели с перинами, тюфяками и подушками.
Лучше стоять где-нибудь на лестнице. Но на ней все очень слышно — вой и свист стремительно падающих бомб, их удары и взрывы, грохот разрушаемых домов. А это очень действует на нервы. Невольная дрожь охватывает человека.
В убежище удары и шум бомбежки заглушены и человеческим шумом вокруг, и подвальным этажом.
Со вчерашнего дня у нас в квартире введен лимит электричества, и такой малый, что почти им нельзя пользоваться.
Мальчики с утра делали маленькие керосиновые коптилки, вроде ночников.
Поставила сегодня для племянников натюрморт: книги, вазочка сухих осенних листьев на фоне аквариума. Мальчики очень способны к живописи, особенно старший. Они заметно с каждым днем становятся все более вялыми и апатичными».
Октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года сплошь были заполнены сигналами тревоги и частыми налетами врага.
Администрации домов настойчиво предлагали жителям спускаться в бомбоубежище, но мне было очень утомительно ночью по крутым и абсолютно темным лестницам пробираться вниз. Я предпочитала одетой в шубу (в комнатах было холодно, t +4°) напролет всю ночь просиживать где-нибудь в передней или в ванной комнате, оберегая глаза от осколков оконных стекол. Но самое тяжелое — хроническое недосыпание… Привожу выписку дневника об одной из ночей, проведенных мною на улице Марата и очень похожей на бесконечный ряд ночей трех последних месяцев этого года.
«…Кошмарная ночь. Утомленные предыдущей ночью и хождением по темным крутым лестницам в бомбоубежище, мы эту ночь провели до 5 часов утра сидя, одетые в шубах, в ванной комнате, прислушиваясь к падению бомб.
Боба, младший мой племянник, 12 лет, разложив ковер, здесь же спал на полу, потом к нему прилегла моя невестка, вконец утомленная.
Бомбы падали то в одиночку, то целыми пачками, то близко, то далеко, почему-то моторов вражеских самолетов не было слышно, и падение бомб было неожиданно и тем страшнее. Дом несколько раз сотрясался до основания и даже в бомбоубежище вызвал всеобщее волнение.
А потом мне не раз казалось, что все вокруг меня качается и колеблется, но я думаю, что моя голова в этом была виновата. Состояние засыпания на ногах, походя, вызывало это ощущение. Человек до такой степени выматывался от отсутствия сна, что под конец становился равнодушен к собственной судьбе.
Итак, я в пять часов утра, после окончания одной тревоги и перед началом другой, решительно легла на диван, накрывшись шубой. Перестав обращать внимание на тревоги и исполнившись полным равнодушием к своей участи, заснула. В восемь часов нас всех подняла теперь уже артиллерийская стрельба.
В наш дом в эту ночь попали три зажигательные бомбы. Они пробили крышу, прожгли пол на чердаке и вызвали пожар в верхней квартире. Его удалось быстро потушить. Кроме фугасных и зажигательных бомб, фашисты бросали осветительные ракеты, которые чрезвычайно ярко вспыхивали и освещали улицы. Мы с болью в сердце смотрели из окон наших темных комнат на безоблачное небо, яркие звезды и беспощадную луну. Дома были ею очень ярко освещены и представляли отличную мишень…
[209]»
Мне для моей машины на октябрь не дали бензина, а 21 октября взяли ее на нужды войны.
Вспоминаю одну маленькую, но характерную подробность. Мы иногда с другими жителями нашего дома собирались вместе в какой-нибудь нижней квартире, пережидая бомбежку. Прислушиваясь к падению бомб, мы дремали, одолеваемые сном и утомлением, а иногда и разговаривали. И странно, часто разговоры сводились к еде, к кушаньям, к поваренным книгам… Вспоминали разные вкусные вещи.
Мы начинали голодать.
* * *
Я ужасно томилась от безделья, живя на улице Марата, не имея около себя нужного мне материала для моей художественной работы, да и места для работы не было. Особенно мне не хватало привычного для меня одиночества. Еще и холод, царивший в квартире, сковывал руки для работы. Было холодно, голодно и темно.
Иногда я ездила, пока у меня была машина, на свою квартиру, такую для меня когда-то уютную и милую. Окна были без стекол, забиты фанерой, войлоком, моими негодными этюдами. Достать стекол мне не удавалось.
Картины, как всегда, висели на стенах, мне не хотелось их снимать
[210]. Портреты Сергея Васильевича были тоже на своих местах. Папирус, стремясь вверх зеленым фонтаном, по-прежнему усердно пил воду. Серьезничал Рембрандт, и балерина Серебрякова все так же показывала свой очаровательный профиль. Мой дивный березовый стол звал меня к работе. Он гостеприимно показывал свою гладкую обширную поверхность: «Иди, работай». Но в квартире темно, холодно. Надо привести ее в порядок. А где взять стекло? И я, опечаленная, возвращалась на улицу Марата.
В конце ноября в городе начался настоящий голод. В магазинах и на складах жителям отпускали по карточкам так мало, что существовать на это было нельзя. С большими затруднениями мне выхлопотали на один месяц право получать один раз в сутки тарелку супу — вода с плавающими в ней черными листьями капусты, которую я делила с Нюшей. Хлеба нам давали 125 г очень плохого качества, просто суррогат.
* * *
Какой чудесный наш русский народ! Живя в осажденном городе, я оценила его: мужественный, стойкий, жизнеспособный народ. А наша молодежь! Наши храбрые женщины!
Я поражалась девушкам, которые оставались в городе. Ведь надо признать, что наибольшие тяготы осажденного города легли на их плечи. Где какое случалось несчастье — рушился ли дом во время бомбежки, завалило ли бомбоубежище, вспыхнул ли пожар, через несколько минут приезжали бригады женщин с ломами, кирками, тачками и, не теряя лишнего мгновения, начинали очень опасную работу — расчистку обвалившихся стен и извлечение погребенных людей из-под обломков. Несмотря на то что город за зиму был очень загрязнен, женщины Ленинграда, слабые, изголодавшиеся, тысячами работали над его очищением и добились того, что к первым дням весны город был в полном порядке. Можно без конца рассказывать о бесчисленных случаях, когда ленинградские женщины показали свою смелость, находчивость, терпение и полное самопожертвование — все характерные черты русского народа.
Дневник от 29 октября 1941 года
«…Вчера, после спокойных дней, опять была тревога, а за нею бомбежка. Вражеские самолеты нас не бомбили с 19 октября по сегодняшний день. Девять суток мы могли спокойно спать, если не обращать внимания на артиллерийский обстрел.
Девять спокойных ночей! А вчера, когда мы услышали завывание сирен, то, по словам Пети, „холодная, ледяная струя обдала горячее сердце“.
Голод, страшный голод надвигается на нас совсем вплотную. И кажется, нет выхода! Откуда ждать спасения? Город обложен. Никакие эшелоны с продуктами не могут к нам проникнуть. И все-таки надежда меня не покидает».
 Дневник от 2 ноября 1941 года
Дневник от 2 ноября 1941 года
«…Я встала сегодня около четырех часов ночи. Разбудила Нюшу, и она отправилась в город искать продуктов. Еще не было пяти часов. Позволяют ходить по улицам только с половины шестого, а магазины открываются в восемь часов утра. Но когда она вышла на улицу, везде уже были длиннейшие очереди, которые стояли у закрытых пустых магазинов, совершенно не зная, будут ли привезены какие-нибудь продукты…»
* * *
Я почти совсем не пишу о наших военных событиях, так как по-настоящему ничего не знала, что творится на фронтах. Но в общем мы знали, что, несмотря на героизм Красной армии, ей приходится отступать, отдавая город за городом, область за областью. В то же время мы были глубоко убеждены, что настанет счастливый момент, когда советские войска решительно погонят фашистские полчища. Это будет, только надо терпеливо ждать. Мы победим!
И одновременно в душе горькое сознание: «А ведь ты сама ничем не можешь помочь. Годы большие, силы ушли». Стараюсь быть спокойной и ободрять других, упавших духом людей.
Фашистские полчища вокруг Ленинграда чрезвычайно укрепились. Все сидят в земле. Настроили дотов и разных подземных укреплений, и их приходится, по словам одного военного, с величайшим трудом из этих укреплений «выковыривать».
Дневник от 5 ноября 1941 года
«…Сегодня ночью была особенно сильная канонада.
Я хотя лежала, но не спала. Было страшно. А вдруг ударит в наш дом? Ведь падали же снаряды, перелетая наш дом, на Ямскую, сразу за нами. Надо было идти в газоубежище, но так не хотелось вставать из нагретой кровати. Лежала и делала расчеты: может ли снаряд, выпущенный с южной стороны Ленинградского фронта, то есть со стороны Шушар (откуда, я предполагала, сейчас стреляют), попасть в наш дом? И решила, что этого не может быть. Удар придется по нашему дому под острым углом и не принесет существенного вреда, так как стены дома большой толщины. Снаряды их не пробьют и в окна тоже не попадут. А прямо, через улицу, стоит семиэтажный дом, который, как щит, прикрывает нас. (Очень неправильные и наивные расчеты, как я потом поняла.) Одним словом, я осталась в постели, и ночь для меня прошла благополучно.
Оказывается, по телефону из соответствующей организации ночью дано было распоряжение некоторым жактам, и нашему тоже, спустить жителей верхних этажей в бомбоубежища, так как наш дом и некоторые соседние находились под обстрелом. Наш этаж третий, и потому нас не потревожили… Вот такие дни и ночи, полные потрясений и тревог, проходили нескончаемой вереницей, изнашивая силы и нервы людей.
Сколько кругом страданий!»
Дневник от 16 ноября 1941 года
«…Я всем существом своим, умом, душой и сердцем сознаю, что нам сдавать Ленинград нельзя. Погибнуть, но не сдаваться!
Голод. Ведь подумать только, что заключается в этом слове, сколько драм, сколько страданий, сколько безвестных смертей!
Мне жаль смотреть на моих племянников Петю и Бобу. Они, как бумага, бледные, худые. День ото дня становятся апатичнее и угнетеннее.
Поражает количество покойников, которых везут по городу по всем направлениям, на телегах или просто на детских салазках. Не видно за ними провожающих: редко один, два человека.
Приходила сегодня моя милая Адя, такая мужественная, твердая, сильная. Она очень страдает от голода и холода, а главное, от холода. Громадное окно в ее комнате все разбито. Дров нет.
В комнате все вещи промерзли, ни до чего нельзя дотронуться. И при этом она несет большую работу. Работает по ночам в больнице, ухаживая за ранеными. Утром идет на Невский и там становится в очередь перед кондитерской „Норд“, чтобы выпить стакан сладкого горячего суррогатного кофе. В эту очередь набираются тысячи людей, так как ни у кого нет керосина, нет дров, чтобы вскипятить чайник воды. Бедная моя Адя!»
Дневник от 28 ноября 1941 года
«…Сегодня по радио сообщили: „Сегодня идут горячие бои за сердце нашей Родины — Москву…“ Волнение охватывает душу.
Пришли мои племянницы — Танечка и Ляля Остроумовы. Они очень настойчиво уговаривали меня уехать из Ленинграда. Но я отказалась.
Уехать из него и, может быть, никогда его не увидеть?!
Нет, это сильнее меня. Если мне суждено погибнуть здесь от бомбы, артиллерийского снаряда или голода, то мой прах будет лежать в его земле. Но зачем такие мысли? Хочу пережить конец осады Ленинграда и хоть одним глазком хочу увидеть его свободным, выздоравливающим, залечивающим свои тяжелые раны…»
Дневник, от 9 декабря 1941 года
«…Мы сидим без электричества вот уже пятый день. Сейчас самые короткие дни в году. Только около десяти часов появляется дневной свет, а в половине третьего уже начинает темнеть. Даже коптилки нельзя употреблять — в них нечего наливать. Мы иногда много часов подряд сидим все вместе в темноте, а то и в одиночку, кто лежит, кто ходит по темной комнате.
Это невероятно угнетающе действует на настроение, на психику человека.
В душе я угнетена, но считаю своим долгом всех ободрять и поддерживать надежду на лучшее, на светлое. Я тогда чувствую, что недаром живу. Мое убеждение, что наша чудесная армия отстоит наш город. У меня нет никаких данных в ту или другую сторону, и все-таки я убеждена, что будет все благополучно. Ах! Как бы мне этого хотелось!..»
Дневник от 10 декабря 1941 года
«…Сегодня для нас неожиданные (или, наоборот, так долго и терпеливо ожидаемые) радостные сведения из Информбюро.
Такие бодрые, радостные сведения! И на Юго-Западном фронте, и вокруг Москвы, и около Ленинграда потеснили врага. Как я рада! Узнала более подробно о наших военных успехах. Наступление фашистов на Москву началось 16 ноября. Но на подступах к Москве они встретили непреодолеваемую преграду в лице Красной армии.
6 декабря 1941 года наши войска перешли в наступление: вражеские войска, не выдержав удара, в панике стали отступать.
В те же приблизительно дни советские войска приступом взяли обратно Ростов-на-Дону, на Северном фронте заняли город Тихвин. Какое это счастье!
Душа немного отдыхает. За последнее время все, кого я видела, как-то стали, я бы не сказала спокойно, а скорее, пассивно относиться к мысли — погибнуть от фугасной бомбы. Ленинградцам некуда укрыться. Многие перестали ходить в бомбоубежища после неоднократных случаев, когда бомба, пронизав дом, проваливалась вниз и там взрывалась. При этом сразу погибало много народу. Сейчас люди от голода и слабости больше остаются по своим углам.
И как хорошо, что у нас сейчас успехи. Это ободряюще действует на ленинградцев».
Дневник от 15 декабря 1941 года
«…Мы гоним во многих местах фашистские войска. Все это вселяет бодрость в душу, и является уверенность, что мы и остальное, занятое врагом, отберем обратно. Какое это будет счастье!»
Дневник от 17 декабря 1941 года
«…Сегодня опять большая радость: наши войска отбили у врага г. Калинин и несколько других городов.
Теперь уж, наверное, мы отстоим Ленинград. Может, я до этого и не доживу, но об этом не горюю. Мысль, что в Ленинград фашисты не войдут, что его улицы и площади не будут осквернены их присутствием, что они не будут грабить наш Эрмитаж и музеи, эта мысль мне дает такую радость, которую трудно передать словами».
Дневник от 18 декабря 1941 года
«…Успехи. Наша Красная армия теснит врага, гонит его от сердца страны, с нашей земли. Как хочется жить, чтобы увидеть наш город освобожденным от тисков!
Хочется жить!»
Июль 1947 г. Левашево
XI.
1942 год
В конце декабря 1941 года я вернулась домой. Пришла к заключению, что помочь моим родственникам я ничем не могу, а если мне предстоит умереть, то лучше умереть дома. К этому времени в одно окно моей спальни было вставлено несколько маленьких стекол, и таким образом я кое-как могла жить у себя и работать.
Водопровод был разрушен, и воды в доме не было. Фановые трубы не действовали. Электрического света не было. Нюша достала немного керосина. Я работала при маленькой коптилке, сделанной из аптечного пузырька. И как же я радовалась, глядя на ее так легко гаснущий огонек! Все такие мелочи в нашей жизни имели для нас огромное значение. Ободряли и утешали нас.
Главное — я была у себя. Перебиралась домой пешком. Трамваи не ходили. Нюша и Иван Емельянович перевозили на двух салазках мое имущество.
По дороге мы видели чудовищные разрушения от бомб и снарядов. Шли мы по улице Маяковского. Несколько домов на ней лежали в развалинах. Около них дыбом поднимались панельные плиты. Колоссальные ямы виднелись на мостовой с вывороченными водосточными и канализационными трубами. Взъерошенные крыши с торчащими во все стороны балками и листами железа. Между ними проглядывало серое небо. Квартиры во всех этажах были разрушены. Потолки провалились. Кое-где около стен сохранились остатки мебели. Висели полуоторванные балконы. Но самое печальное и вызывавшее в душе ужас были колоссальные кучи щебня и обломков камня, лежавшие внутри домов и иногда доходившие своей высотой до третьего этажа…

В те дни, когда я жила еще на улице Марата, меня очень заботила Клавдия Петровна, мой любимый, близкий друг. Если бы я была дома, я, конечно, взяла бы ее к себе, и мы пережили бы вместе все беды.
Стремясь в тяжкие годы быть чем-нибудь полезной своей Родине, Клавдия Петровна поступила, несмотря на свой возраст, на краткосрочные курсы медсестер. Ей приходилось, при всем ее истощении, много заниматься и держать экзамены. Как только я переехала к себе домой, Клавдия Петровна тотчас же поселилась у меня. Она была в тяжелом состоянии истощения и слабости, чудовищно худа, с потухшим взглядом. Говорила задыхаясь и все время мерзла.
В первый же вечер после моего возвращения домой ко мне зашла мой друг и врач Екатерина Николаевна Розанова, которая и до блокады, и во время нее внимательно, с любовью следила за моим здоровьем. И с исключительным бесстрашием и энергией она, кроме своих прямых обязанностей в детской клинике имени Филатова, все свое время тратила на помощь, поддержку и спасение многочисленных своих друзей.
…Ее поступки были проявлением высокого героизма, любви к людям, с полной отдачей себя им.
Дневник от 1 января 1942 года
«…Страшный голод, неотвратимый, беспощадный, как клещами, зажал Ленинград. Огромное количество покойников скопилось на всех кладбищах. Некоторые несчастные, измученные граждане привозят своих умерших к больницам.
Вчера я вышла погулять, но была потрясена всем виденным. Пройдя мимо окон нашего дома и мимо так жестоко пострадавшего соседнего, я увидела на тротуаре лежащего мертвого мужчину, хорошо и тепло одетого. От неожиданности я оторопела, остановилась, и такая жгучая жалость охватила меня. Никак я не решалась пройти мимо, не из страха, а из чувства — нельзя ли ему что-нибудь сделать?
Едим столярный клей. Ничего. Схватывает иногда нервная судорога от отвращения, но я думаю, что это от излишнего воображения. Он, этот студень, не противен, если положить в него корицу или лавровый лист. Едим рыбий клей и варим щи из лечебной беломорской капусты. Посетил меня сегодня мой друг Петр Евгеньевич. Принес горсть овсяной муки для киселя, а Иван Емельянович принес три кильки…
Советский человек даже в страшных условиях блокады находил силы бороться со всеми невзгодами. Его бесстрашие, отвага, способность к сопротивлению — поразительные…»
Дневник от 17 января 1942 года
«…Часто ночью, а иногда и днем, мне вдруг покажется, что окружающая меня действительная, реальная жизнь есть только страшный сон, наполненный кошмарными видениями. Так неприемлема действительность!
Какой нормальный, не сумасшедший человек за несколько лет до этого мог предположить, что когда-нибудь Ленинград будет переживать такие тяжелые испытания, будет в непроницаемой блокаде, многие дома и здания будут уничтожены бомбами и снарядами, жители его тысячами будут искалечены и убиты, будут умирать от голода, что в городе не будет дров, воды и электричества. Кто мог предположить, что наш прекрасный город будет претерпевать такие ужасы? Но безумие Гитлера не имеет границ. Он посягнул на наш прекрасный город, а мы не можем отдать его. Не можем и не должны!
…Очень сильный артобстрел. Все время свистят пролетающие над нашим домом снаряды. И какой неприятный свист! Словно тонкое шило вонзается в душу. Продолжалось это около часу. Наш домишко весь сотрясался. Я в то время мыла окно. Пришлось на время оставить это занятие и уйти в темную переднюю. Но вообще в это время обстрелы редки…»
* * *
Мои племянницы Таня и Ляля Остроумовы собираются уехать с группой служащих Института растениеводства числом в 150 человек. Из Ленинграда они поедут до Новой Ладоги в поезде, оттуда 70 километров на грузовиках, а дальше, с Войболова, уже свободный путь. Шьют себе ватные сапоги, шаровары, фуфайки. Мороз 20–25°. Доедут ли мои милые девочки благополучно к своей матери, к своим ребятам?
Дневник от 18 января 1942 года
«…Вчера вечером было уже совсем темно, когда к нам прибежала Ляля с Финляндского вокзала, где весь их эшелон погрузили в поезд. Она прибежала за кипятком, чтобы вместе с Таней попить его с хлебом, который им раздали в поезде. Через час должны были прицепить паровоз. Я рада за них.
Последние дни питаемся я, Клавдия Петровна и Нюша исключительно суррогатами, не считая некоторого количества муки с дурандой, которую нам выдали на январь. Лепешки из нее с трудом глотаешь, так отвратительна мука.
На улицах города около стен домов расставлены повсюду ящики с песком. Воды в городе нет, и эти ящики с песком являются единственным способом борьбы с пожаром.
Сегодня, идя по нашей улице, я увидела старенькую женщину, сидящую на таком ящике с песком. Она была мертва. Через несколько домов, на другом ящике, полулежал мертвый мальчик. Он шел по улице, устал, присел и умер…
Вечером была Анастасия Осиповна. Бодрится, хотя у нее большое горе. Умер от голода и истощения ее ассистент, ее лучший помощник, молодой человек 25 лет».
Дневник от 20 января 1942 года
«…Сейчас в каждом районе организованы сборные пункты, куда близкие свозят своих умерших. Оттуда на грузовиках отвозят их на кладбище и хоронят в братской могиле. Теперь меньше можно встретить на улице умерших от голода людей, лежащих на тротуарах. Организованы специальные бригады, которые ходят по домам и подбирают покойников.
Под вечер стук во входную дверь. Входит женщина в белом халате поверх шубы и вносит ящик, наполненный продуктами. Она их выложила на стол. Это были сливочное масло — 400 г, мясо — 500 г, мука — 2 кг, горох — 400 г и сахар — 400 г. Можете себе представить, как мы все были этим довольны, как обрадованы. Нам можно будет немного отдохнуть от наших суррогатов.
Это товарищ Жданов принял во внимание мой возраст и распорядился прислать продукты на дом. Вероятно, это количество продуктов равняется количеству продуктов, получаемых в месяц по рабочей продуктовой карточке…»
Дневник от 29 января 1942 года
«…Когда окончатся мучения и разрушения Ленинграда и неописуемые страдания его жителей? Больше двух недель держатся очень большие морозы — до 35°. Каждый день пожары во всех концах города. Это обычная история во время сильных морозов. Но величайшее несчастье для жителей — отсутствие в домах воды, так как городской водопровод вышел из строя.
Когда начинается пожар, то нечем тушить огонь, и он свободно распространяется по всему дому. Так горит уже третьи сутки большой шестиэтажный дом на Нижегородской улице. Приезжали пожарные, но огонь не потушили. Я ходила на него смотреть. Через выгоревшее окно видно, как горят потолки. Даже балкон сейчас в огне. И что там горит? Каменный дом, а сгорел дотла. Просто непонятно…
Приходится ходить за водой на Неву, где пробито несколько прорубей, куда тысячи людей собираются в очереди. Люди измучены, раздражены…
Вчера нам не дали хлеба, так как в пекарнях и хлебозаводах не было воды. Выдали муку. Но ведь у многих жителей нет дров, чтобы печь хлеб.
Сейчас уже немного светлее, особенно вечером — долго тянутся сумерки. И хотя нельзя читать и работать, но все-таки в комнате есть возможность не натыкаться на мебель, и можно попадать в необходимую дверь. В этом есть маленькое утешение.
Ничего не знаем, что делается у нас на фронте и вообще на свете. То ли газеты совсем не издаются, то ли мы никак не можем их уловить и купить, но, во всяком случае, газет я не имею.
Весь январь был сравнительно тих от бомбежек. Видимо, Гитлер решил не тратить даром бомб и снарядов на Ленинград, рассчитывая, что жители его все вымрут от голода и он возьмет город голыми руками.
Вчера я почувствовала тяжелые признаки истощения. Мои мысли как-то плохо стали двигаться в голове, и надо было употреблять большое усилие, чтобы их сосредоточить. Под черепом стало щемить.
Слабости никакой до этого у себя не замечала. А сейчас я чувствую истощение, и когда кончится у нас морская капуста, то я не знаю, из чего мы будем делать суп. Паек, который мне прислали по распоряжению А.А. Жданова, съели в 10 дней.
Вчера у одного магазина в Финском переулке стоял ломовой с телегой и лошадью, привезший ящики с какими-то товарами. Когда он пошел в дом отнести последние ящики и вернулся обратно, то не нашел своей лошади. Ее успели распрячь и увести в соседний двор, где убили на мясо. Страшно и жутко…
Стоят исключительно сильные морозы. Они больше, чем голод, убивают людей.
Клавдия Петровна целыми днями в шубе, в шапке, в валенках стоит вплотную около нетопленой печки. Прикладывает к ней свое лицо, руки, прижимается к ней и жалуется мне, что она совсем замерзает, несмотря на то что комната натоплена. Я понимаю, что это уже болезненные явления и последствия сильной дистрофии».
Дневник, от 13 февраля 1942 года
«…Сегодня пришел Петр Евгеньевич. Он принес мне крошечный кусочек мяса, четыре сушеных белых грибка и четыре мороженые картофелины. (Картофеля мы не видели с осени.) В те дни это были неоценимые сокровища. И я очень была ему за это благодарна, так как последнюю неделю питалась только супом из морской капусты и черным хлебом.
Еще зашел Иван Емельянович, который тоже принес кое-что нам на пропитание: сушеной зелени в суп (мы овощей не имели с лета), сушеного лука, порошок горчицы, чуть сливочного масла, 200 г хлеба. В минимальных количествах, но все-таки эти мелочи прибавят в нашу еду нечто вкусное и ароматное.
Неожиданно выдали в магазине крупу, так что мы сегодня делаем суп с сушеным луком, а вечером гречневую кашу. Это праздник. Крупы нам не выдавали месяца три. Обещают скоро дать сахар и мясо. Какое счастье, что стали выдавать продукты! Но так мало! Мы знаем, с какими трудностями нам везут их по ледяной трассе, по льду Ладожского озера — по Дороге жизни. И много людей при этом погибает.
Вчера увеличили паек хлеба. Я получаю 400 г, а Нюша и Клавдия Петровна по 300 г. Это нас очень порадовало. Неужели поворот к лучшему? Но как только потеплеет, на нас посыплются фугасные бомбы.
Очень страдаем без света. Окончательно светает в половине десятого утра, а темнеет в пять часов вечера. Семь часов в сутки света, да и то какого! Проходит он через четвертушку окна, так как все остальное окно забито фанерой. 17 часов изволь сидеть с коптилками, да и то если есть керосин.
Отсутствие света и воды очень удручает. По-настоящему помыться нельзя. Физиономии, руки закопченные. Парикмахерские закрыты, бани не действуют».
Дневник, от 20 февраля 1942 года
«Вчера вечером после долгого перерыва была воздушная тревога. Завыла сирена. И такая тоска охватила мою душу, и сердце замерло. К этому привыкнуть нельзя. Воздушная бомбежка так случайно, так бессмысленно приносит гибель людям, разрушает и давит постройки.
Умер от истощения Иван Яковлевич Билибин
[211], наш замечательный график, иллюстратор и стилист. Ни один из художников не сумел так почувствовать и воспринять русское народное искусство, которое широко распространялось и цвело среди нашего русского народа. Иван Яковлевич его любил, изучал, претворял его в своих прекрасных графических произведениях.
Подробностей его смерти не знаю, только слышала, что последнее время он жил в подвале Академии художеств, так как его квартира от бомбежки стала нежилой…
Беспокоюсь ужасно — доехали ли до Гусь-Завод Железный Таня и Ляля! Неужели по дороге погибли?!
Благодаря тому что последнее время — в январе и феврале — мало бомбежек и артиллерийских обстрелов, можно было выходить на воздух».
Дневник от 22 февраля 1942 года
«…Вчера и сегодня гуляла. Стоит сильный мороз. Яркое солнце блестит на выпавшем снегу, сверкает тысячами искр на оградах, на заборах, на малейших выступах. Деревья, покрытые инеем, удивительно нежно рисуются на ярко-голубом небе, необыкновенной чистоты и прозрачности. Иногда деревья своими вершинами в инее, освещенные солнцем, очень выпукло выделяются на синем небесном фоне. А когда ветви деревьев в тени, тогда они серебристо-холодными тонами почти сливаются с небесной синевой.
Я шла и думала: „Если бы мне сейчас надо было в красках передать всю эту нежную красоту — деревья в инее, небо и снежное пространство Невы, то какие трудные живописные задачи пришлось бы мне решать!“
Как хочется работать! Во мне еще действует заряд, с которым я родилась, который так безостановочно всю жизнь толкал меня на работу. Но в городе на улицах работать нельзя.
Я повернула с проспекта Карла Маркса на Боткинскую улицу и была неожиданно и болезненно удивлена. В конце ее я не увидела очаровательного особняка, который стоял в ряду домов на Нижегородской улице, как раз напротив Боткинской. Серенький домик с белыми скульптурными украшениями тридцатых годов прошлого столетия. Это был премиленький особняк по своим архитектурным гармоничным формам. Сейчас на его месте куча щебня. Фугасная шальная бомба его уничтожила. Никаких следов от постройки. Точно он никогда и не существовал. В „Путеводителе по Петербургу“ проф[ессора] В.Я. Курбатова он упоминается как чудесный образец александровского стиля»
[212].
Дневник от 1 марта 1942 года
«…Говорят, что прилетели жаворонки. Итак, мы с Нюшей благополучно прожили февраль… Пока живы…
Вчера, когда ложились спать, был сильный артобстрел. Где-то рушились стены домов. Снаряды со свистом пролетали над нами. Как было неприятно! Невольно думала: вот сейчас полетят из окон стекла, хлынет ветер и снег закружится по комнате. Ложиться ли спать? Или одетой дождаться конца обстрела? Или полуодетой лечь, чтобы в критический момент можно было быстро выйти из квартиры. В конце концов легла и моментально заснула, согревая руки о теплую грелку».
Дневник от 17 марта 1942 года
«…Погибла моя Танечка. Не перенесла тягостей и страданий, встреченных ею по дороге домой. Ляля выжила, она более цепкая к жизни, более бодрая и энергичная. В ней был сильнее тонус жизни. Какое это для меня горе! Я ее очень любила».
Дневник от 19 марта 1942 года
«…Вот уже пятый день, как моя дорогая Клавдия Петровна болеет расстройством кишечника. Она совершенно обессилена, и я боюсь за нее. Хотя сегодня ей как будто лучше. На мою беду, она лечится гомеопатией, и я никак не могу найти ей врача-гомеопата и ее успокоить. Она очень слаба и без посторонней помощи не может сделать двух шагов».
Мне удалось поместить ее в госпиталь Военно-медицинской академии, где она, проболев десять дней, 12 апреля умерла. Я потеряла в ней безгранично любящего меня самоотверженного друга… Она всегда была моей опорой, нежной, любящей опорой…
«…Кругом меня потери… Умер от голода мой товарищ по мастерской И.Е. Репина — Митрофан Семенович Федоров…
Сейчас город, несмотря на бомбардировки, обстрелы и продолжающуюся осаду, переводят на восстановление его прежнего, довоенного состояния. Будут чинить водопровод, разрушенную световую линию, канализацию и многое другое.
Решение это меня обрадовало, ободрило. Я увидела в этом волю, целеустремленность, энергию нашего правительства и народа, а следовательно, уверенность в победе. Это дает веру в будущее, которое восторжествует»
[213].
Из целого ряда тягостных дней 1942 года мне особенно тяжело вспоминается один. Это была суббота, 4 апреля 1942 года.
Несмотря на то что наши летчики самоотверженно защищали город, врагу удалось во всех частях его сбросить фугасные и осколочные бомбы.
На дворе, около угла нашего дома, разорвалась осколочная бомба, исковеркала глубокими рваными ямами кирпичную стену и вышибла у нас во всех квартирах оконные стекла. Температура была —10°, был вечер, и надо было как-нибудь устраиваться на ночь.
Но не прошло и нескольких минут (бомбежка все еще продолжалась), как со всех сторон послышались удары молотков людей, забивающих чем попало разбитые окна. Этот невинный, но настойчивый звук: тук, тук, тук… произвел на меня глубоко ободряющее впечатление. Как люди борются за жизнь! И как они мужественны, упорны, бодры и вместе с тем бесконечно терпеливы!
Сегодня они забивают чем попало выбитые стекла, работая в полной темноте, а завтра повторится то же самое, и они опять будут стучать молотками (и я с ними). Люди хотят жить!
Дневник от 17 апреля 1942 года
«…Какой сумбурный и странный день! Неожиданно приехали ко мне два незнакомых гражданина. Они были в полушубках и валенках. Апрель в том году был очень холодный, и стояли морозы. Это были Борис Ив[анович] Загурский и Андрей Андр[еевич] Бартошевич
[214]. Они приехали посмотреть, как я живу, что работаю и чем они могли бы мне быть полезны.
Я сидела в спальне за моим большим столом. Окна после бомбежки 4 апреля были забиты кусками фанеры, тюфяком и моими старыми этюдами. Маленькая коптилка светлым сердечком освещала бумагу. Я писала мои „Записки“.
Они узнали от меня, что я понемногу работаю живописью и гравюрой, пишу II том моих „Записок“, собираюсь участвовать весной на выставке, посвященной героическому Ленинграду
[215]. „Только, — сказала я, — меня надо подкормить, иначе я скоро выйду из строя здоровых людей“.
„Да, да, за этим мы и приехали к вам“, — в один голос сказали они и предложили мне, если я сегодня дам им согласие, послезавтра на самолете отправить меня в Москву и там устроить в хороший санаторий. Я отказалась, сказав: „Что я там буду делать без архива, без необходимого материала для продолжения моих „Записок“. Так долго жить и страдать в Ленинграде, чтобы перед самым его освобождением покинуть его! Я не могу жить и не работать!“
Они сообщили мне о выдаче мне продуктовой рабочей карточки и ежемесячного академического пайка, а также о том, что на мое имя в Союзе художников есть продуктовая посылка от московских художников…
Точно из рога изобилия, посыпались на меня блага…»
С этого дня началось мое физическое возрождение. Я, хотя и очень медленно, стала восстанавливать свои ослабевшие силы. Академический паек был невелик. Он строго был рассчитан на одного едока. А нас было двое, и потому продуктов хватало только на две недели. Да и сам паек выдавался с задержками больше чем на месяц, и потому все-таки частенько приходилось голодать.
Бывали такие обеды: щи из крапивы, в которые были брошены полторы чайные ложки манной крупы (последние). второе блюдо — салат из листьев одуванчиков и третье — чай без сахара.
* * *
Это был конец мая. Всю ночь неприятель летал над городом. Бомбы падали. Трещали зенитки то близко, то далеко. Иногда стихали. Тогда я неудержимо погружалась в сон, несмотря на неудобство совершенно одетой спать в передней, сидя на садовом складном стуле. Нюша спала здесь же на сундуке. Мы стремились уберечь наши глаза от осколков и от летящих по воздуху оконных битых стекол.
Прошла ночь. Бомбежка затихла, и, как всегда после этого, чувство жизни и бодрости запело в душе. Доживу, доживу и увижу счастливый конец! Меня потянуло на улицу. Я стремилась к Неве. Мне всегда первым делом хотелось удостовериться, цел ли шпиль Петропавловской крепости. Почему-то увидеть его сброшенным мне было бы очень тяжело.
Я шла по Ломанскому переулку, вдоль которого тянулся ряд молодых деревьев. Газон между деревьями был обработан под огороды жильцами соседних домов. И несмотря на раннее утро и ночную тревогу, среди гряд уже спокойно копошились люди. Кто поливал, кто полол, кто окапывал гряды. Деловито, сосредоточенно, упорно.
Но как город сейчас изменился! Его характер, его стиль. В его величии, в его пленительной суровости остро чувствовалась напряженность, большая настороженность и больше… страстная ненависть к врагу. Он весь ощетинился и как бы говорил: «Ну, попробуй меня взять! Только попробуй!»
Окна нижних этажей были заложены кирпичом, но с амбразурами. Из них в любую минуту могла вылететь огневая пулеметная очередь.
Под деревьями, из-под земляного холма выглядывали жерла орудий, могущих при надобности стрелять вдоль всего проспекта. А несколько дальше высокая баррикада перегораживала дорогу на Клиническую аллею с ее чудесными липами. Баррикада состояла из толстых бревен, из кусков стальных рельс, железных кроватей, садовых решеток и всякого железного лома.
Она угрожающе дыбилась вверх. На многих стенах домов надпись синей краской: «Граждане, при артобстрелах эта сторона улицы наиболее опасна!»
Улицы были пустынны до странности, до жути. Не было прохожих, не было видно детей. Только несколько женщин с бледными, истощенными лицами, пригнувшись к земле, рвали зеленые побеги молодой крапивы. Такая радость после тяжелой зимы собирать эту нежную травку и варить из нее вкусные щи!
Вышла на набережную. Первый взгляд направо — виден ли шпиль крепости? Он есть, он цел и по-прежнему тонким лезвием устремляется в небо. Нева спокойно и быстро, как всегда, несет свои воды. Мелкая рябь играет на воде, точно тысяча серебряных рыбок резвится на ее поверхности.
Чудесный прохладный ветерок несет запах с моря. Светлое, весеннее небо отражается в воде. Множество чаек летает над рекой. Они описывают в воздухе большие плавные круги, то совсем низко летя над поверхностью, то подымаясь в вышину. Их крылья, освещенные солнцем, иногда ярким белым штрихом блеснут на фоне неба и воды.
Недалеко от набережной тихонько качалось на воде громадное судно. Его, видимо, не успели окончить, помешала война. Оно было пришвартовано толстыми канатами к тяжелым кольцам набережной. Судно бросало на воду темную тень. Светлая рябь набегала на нее, но, не преодолев ее темноты, потухала. Нос судна высоко дыбился к небу.
Но скоро тишина и покой были нарушены. Завыла сирена, начали стрелять зенитки. Налет происходил в районе Невы, но далеко, за Литейным мостом. Видно было, как иногда бомбы падали в воду, и тогда внезапно взлетал фонтан брызг.
Я подошла к гранитному парапету набережной, рассчитывая хоть немножко, несмотря на налет, посидеть в углу ее, на скамейке. Скоро какой-то тихий шум привлек мое внимание. Заглянув за перила, я неожиданно увидела внизу у основания набережной, на гранитной дорожке, идущей у самой воды, большую группу ребят. Было их очень много и разного возраста. Они удили рыбу. Их удилища и лесы шли длинной вереницей, и даже когда из-за поворота набережной самих рыболовов не было уже видно, то удочки и лесы выглядывали далеко на фоне воды.
Было воскресенье — день свободный от работы. Они сосредоточенно и тихо сидели, кто на корточках, кто по-турецки, и смотрели не отрываясь на свои поплавки. Два мальчугана поменьше, лет восьми, вертелись около ведерок, где плескалась пойманная рыба.
А налет все усиливался. Чаще и ближе падали бомбы. Ребята, казалось, ничего не видели и не слышали, так спокойно и сосредоточенно продолжали они сидеть и удить.
Наконец, я не выдержала и крикнула им сверху: «Ребята! Что вы там сидите?! Слышите — налет! Сейчас же уходите!»
«Слы-ы-ши-м! Не в нашем ква-адра-ате!» — крикнули они мне в ответ и продолжали удить.

Но не прошло и пяти минут, как они, забрав свои удочки и ведерки, смеясь бежали и я с ними к широким дверям Военно-медицинского госпиталя* Там мы укрылись, пережидая налет.
У меня было время их хорошенько рассмотреть. Славные, простые, хорошие лица. Широкие, вихрастые, с темными, серьезными, не по годам, глазами. И к сожалению надо сказать, мальчуганы были бледные, худые, истощенные. Между ними чувствовалось старшинство двух мальчиков, которые держали всех в порядке. Распорядились сложить удочки в одно место, в сторону прибрать ведерки и что-то стали им говорить, собрав их в кружок. Никакой паники, никакого страха. А ведь над нами бушевал сильнейший налет. Бомбы падали совсем близко, на набережной, перед госпиталем, оконные стекла которого засыпали панель.
Но наконец, огневая буря пронеслась. Зазвучал райской музыкой отбой. Рожи у ребят расплылись в улыбки, и, схватив свои удочки и ведра, они весело помчались по набережной, потом вниз, на свои прежние места. А я думала: «Вот какая смена нашим героям растет у нас! В них мужество, терпение и геройство заложено с рождения».
Еще приведу пример, когда мальчик показал редкий для ребенка высокий духовный подъем, любовь и заботу к страдающему человеку.
Шла я по Ломанскому переулку. Началась тревога. Быстро налетела эскадрилья вражеских самолетов и стала бомбить. Я вбежала в подъезд ближайшего дома и попала на полутемную лестницу. Там уже в уголке стояла трепеща очень слабенькая и тощая старушка. За мной вбежал мальчик лет 12, бедно одетый и несший какой-то тяжелый сверток. Положив его бережно на ступени, он стал рядом и принялся внимательно оглядываться.
При каждом ударе старушка вздрагивала, крестилась, иногда стонала и что-то тихонько шептала. Видно было, как она болезненно переживала вражеский налет. Мальчик несколько раз взглянул на нее, а потом ласково и убедительно стал ее успокаивать, говоря: «Бабушка, ты не бойся, не огорчайся, обстрел далеко, не в нашем районе. А что так громко грохочет, так это от каменных стен так сильно раздается. Вот и сейчас удар. Это ничего — от нас далеко!» — уговаривал он старушку.
Мы остались невредимы. Налет кончился, зазвучал отбой. Когда старушка первая вышла на улицу, мальчуган, лукаво подмигнув мне глазом и смеясь, сказал: «Знаешь, я ей нарочно все врал. Налет был здесь, над нами. Чтобы успокоить, я обманывал ее!» И он выбежал на улицу.
Когда я вышла на улицу, то была поражена. Семь огромных воронок зияли на таком небольшом пространстве, как Ломанский переулок между проспектами Лесным и Карла Маркса. В них видны были развороченные канализационные и водопроводные трубы, вскопан асфальт на мостовой и тротуарах. Немцы, видимо, стремились бить по клиникам Военно-медицинской академии и по Выборгскому дому культуры.
Все это для меня забываемо. Но забыть мальчика, который, несмотря на опасность и возможную собственную гибель, хладнокровно, с душевной тонкостью и добротой поддерживал и ободрял другого человека, я не могу до конца своей жизни.
Дневник от 24 мая 1942 года
«…Был у меня сегодня мой племянник Петюнчик Остроумов. Ему 15 лет. Бледен, как покойник, волочит ноги, худ невозможно. Опирается на палку. Темно-русые волосы вылезли, и голова покрыта каким-то беловатым пухом. Бедный мальчик! Когда он уходил, я послала с ним Нюшу, чтобы она помогла ему сесть в трамвай».
Дневник от 27 мая 1942 года
«…Опять был у меня Петюнчик. На какую-то крошечную долю, очень микроскопическую, ему лучше. Сидел у открытого окна, смотрел на прекрасное небо, весенние облака и зеленеющие деревья и тихонько говорил: „Как хорошо!“
Он очень слаб и вял. Смотрит бледными, печальными глазами. Скучает один дома — бабушка умерла. Боба умер, мама уходит на работу…
Всеобщее увлечение огородами. Очень многие уезжают за город на Всеволжскую и другие места, где Ленсовет отвел большие участки под огороды. Даже здесь, на улицах и скверах Ленинграда, люди копают грядки и засевают их.
Нюша тоже заразилась общим настроением и копает две грядки на нашем маленьком дворе. Посеяла укроп, салат, редис».
Дневник от 29 мая 1942 года
«…Я очень быстро и сильно ослабела после двадцати дней плохого и скудного питания, которое продолжается и до сегодняшнего дня. Задерживают выдачу академического пайка. За последние три месяца я больше похудела, чем за весь прошлый год. Вчера я вышла погулять, но меня качало во все стороны от слабости. Голова кружилась, ноги, точно из ваты, нетвердо ступали. Вернулась домой. Была Анастасия Осиповна. Ужасно похудела, так как только вчера получила академический паек, который должны были выдать месяц тому назад».
Дневник от 30 мая 1942 года
«…Был опять Петюнчик. Бледен. Слаб, двигается очень медленно, еле передвигая ноги. Сделал из моего окна акварелью хороший этюд деревьев, неба и части здания кафедры анатомии».
Дневник от 4 июня 1942 года
«…Вчера мне передали копию следующей телеграммы: „Комитет искусств считает необходимым вывезти следующих художников: Лишева, Остроумову-Лебедеву, Боголюбова, Верейского, Пинчука, Катонина
[216] город Ярославль базу Академии художеств возможный срок вывоза телеграфируйте“». Телеграмма была прислана в Управление по делам искусств Б.И. Загурскому.
Привожу выдержки из моего ответного письма Борису Ивановичу Загурскому:
«Уважаемый Борис Иванович, вчера Петр Евгеньевич ознакомил меня с содержанием телеграммы, присланной Вам из Москвы Комитетом искусств. Борис Иванович! Я не могу и не хочу уезжать из Ленинграда.
Сейчас я много работаю. Заканчиваю главы II тома моих „Записок“ и подбираю необходимый материал для III тома на случай отъезда. Бесконечно благодарю Вас за заботу обо мне и за все. Мне это дает бодрость работать и жить…»
Дневник от 7 июня 1942 года
«…Как мне хочется нашей победы! Нашего освобождения! Так хочется дожить до этого времени, когда наш город перестанет страдать и начнет возрождаться. А что это будет, я верю этому, глубоко верю, убеждена».
Наши летчики — красота! Самоотверженные, бесстрашные герои! Они спасают город, жертвуя своей жизнью, бросаясь в бой с вражескими самолетами, уничтожая или отгоняя их. Как жаль эту чудесную молодежь! В каком напряжении они живут все время! И наши зенитчики тоже замечательны. Сегодня было несколько сильных выстрелов по городу, но наши зенитчики-артиллеристы, видимо, очень быстро их «засекли».
Моя бедная Нюша узнала о гибели своего единственного сына. Он был моряк-связист. На суше, в Туапсе, погиб от бомбы. Нельзя словами передать ее отчаяние. Самые тяжелые, незабываемые слезы — это слезы матерей. Как утешить, как поддержать мать, горюющую о своем погибшем ребенке?!
Несмотря на то что мне приходилось плохо, или, точнее сказать, недостаточно питаться, жажда к творческой работе не утихала. Вот что я пишу в дневнике об этом:
Дневник от 13 июня 1942 года
«…Вчера начала семейный портрет Корниловых. Удивляюсь их доверчивости ко мне как к художнику. Чувствую себя сейчас такой бездарной, такой неумелой перед натурой… Кажусь себе обманщицей. Они будут терять со мной время, уставать позируя, а у меня, я уже вижу, ничего хорошего не выйдет. Прямо стыд и провал! Но я не показываю вида, что так плохо обстоит дело, и вот этим обманываю их…
Сегодня у меня был очень занятой и потому утомительный день. Встала, как всегда, около семи. Начала писать продолжение 10-й главы моих „Записок“. В 12 часов прогревала на солнце кисть левой руки, у которой некоторые пальцы в суставах распухли.
Неожиданно приехал А.А. Бартошевич. Он повез меня в горком партии, чтобы проконсультироваться по поводу альбома, который решили послать от имени ленинградских женщин — женщинам Шотландии в ответ на присланный ими приветственный альбом с несколькими тысячами женских подписей.
„Конечно, — думала я, — в нашем альбоме должен быть отражен наш прекраснейший и пленительный город“.
В горкоме партии беседовала с работником горкома, которому было поручено организовать все это дело.
Видела там альбом шотландских женщин городов Котбриджа, Эйдри и Уирсайда, присланный женщинам Ленинграда. Альбом довольно большого размера, в холщовом переплете с красивой вышивкой. На страницах написаны приветствия от разных обществ и конгрегаций этих городов (пять тысяч подписей), а страницы украшены скромными рисунками. Альбом производил приятное впечатление своей простотой и теплым, искренним чувством.
Утомленная, вернулась домой, и только успела поесть, как пришли Корниловы позировать. Ну что может выйти из такой работы! Голова кружится от истощения и слабости. Но я скрываю мое состояние и усердно пишу, внутренне терзая себя за плохое качество работы. Никакого нет подъема. По окончании сеанса выношу портрет, краски и всякий художественный материал в соседнее, нежилое помещение. Старательно проветриваю комнату, чтобы не заболеть от запаха масляных красок, который всю жизнь не переносила. Потом ко мне зашла моя дорогая Анастасия Иосифовна Якубчик и неожиданно пришел Адриан Владимирович Каплун — талантливый художник. Он приносил мне для просмотра свои произведения, им недавно сделанные. День был насыщен».
Теперь вернусь к нашему альбому, который был создан за моим рабочим столом. Хочу, насколько помню, описать его. Особенно еще и потому, что, к сожалению, после окончания не догадались его сфотографировать или сделать подробное его описание, страницу за страницей.
После пяти дней напряженного труда альбом был окончен 19 июня. Он нам удался.
Размер его был довольно большой — 30 см х 44 см. Для него была сделана коробка, обтянутая чудесной старинной золотой парчой. Переплет из тонкого сурового полотна был украшен старинной вышивкой шелками. На форзацах — два больших герба с флагами советским и шотландским, исполнены были художницей В.В. Милютиной
[217] в ярких тонах, с преобладанием красного, бирюзового и вызывали в зрителе бодрое чувство.
На титульном листе была моя акварель, изображающая статую Ленина, что стоит перед Смольным. Наверху этого листа надписи: «Женщинам Котбриджа, Эйдри и Уирсайда».
Первая страница имела мою гравюру «Смольный и пропилеи» и надпись художественным шрифтом — «Смольный», а ниже, крупными буквами — «Ленинград».
На всех остальных страницах альбома были помещены мои подкрашенные литографии, цветные и черные гравюры — все виды Ленинграда, и на каждой приветствия от разных женских ленинградских организаций. Весь текст был написан художественным, графическим шрифтом. Если я не ошибаюсь, всех моих гравюр было — 12 и 4 подкрашенные литографии. Гравюры в альбоме выглядели очень хорошо, тем более что художница В.В. Милютина сделала вокруг них графические рамки, и это их связывало воедино со страницами текста.
На левой стороне страниц были приклеены карманы для помещения в них листов с подписями нескольких тысяч русских женщин.

В конце альбома вместо форзаца были нарисованы два больших флага — русский и шотландский, сделанные в красках. Они очень красиво заканчивали альбом, который производил впечатление гармонии, единого художественного стиля и давал сильное и яркое представление о Ленинграде.
Над альбомом работало несколько человек: А.А. Бартошевич — как организатор, я — своими гравюрами, а Вера Влад[имировна] Милютина, Як[ов] Ос[ипович] Рубанчик и Борис Пав[лович] Светлицкий работали как графики. Работали с большим напряжением и усилием, так как нас торопили, а главное, все мы были голодные дистрофики.
Милютина была бледна, как бумага. У Светлицкого от истощения умирала жена. Он сам был очень слаб и даже одну ночь провел у меня, чтобы не тратить сил на ходьбу. Были белые ночи, и он, встав в половину пятого утра, успел окончить свою работу.
Здесь же за столом трудились два лучших в городе переплетчика. Они были суровы (женщина и мужчина), молчаливы, но работали сосредоточенно и хорошо.

Как был принят наш альбом у нас и за границей, мы узнали только много времени спустя. Альбом, как у нас, так и за границей, был весьма одобрен и в Англии помещен в музей. В Ленинграде альбома почти никто не видел. И это жаль, так как он был очень хорош.
* * *
Как приятно для глаз, да и для сердца, входить с улицы в наш дворик и сразу после стены, раненной осколочной бомбой, мимо которой проходишь, видеть две огородные гряды, засаженные Нюшей. Ярко-зеленый салат, укроп, редис и морковь блещут своей свежестью. Они представляют резкий контраст со всем окружающим. Шестиэтажный флигель соседнего огромного дома, непосредственно примыкающий к нашему двору, был до фундамента сокрушен двумя фугасными бомбами еще 5 ноября 1941 года. Вместо него лежала огромная куча щебня. На отломах стен этого флигеля висели остатки лестниц шести этажей. Сохранились площадки перед разрушенными квартирами со входными дверьми и почтовыми ящиками. В другом месте висели в воздухе две ванны, за что-то зацепившиеся, длинные трубы и железные балки. На развороченных крышах торчали доски. Огромные листы кровельного железа свободно висели, раскачиваясь от ветра и надоедливо скрипя.

И на таком фоне, среди такой обстановки, эта нежная, молодая, яркая зелень являлась резким, но радостным контрастом и как бы символом новой, неиссякаемой жизни всепобеждающей природы.
За последние три недели я потеряла в весе три килограмма. Сильно худею. После бесконечных моих хлопот выяснилось, что меня по ошибке вычеркнули из списка получающих академический паек, но это все равно, так как пайка не давали уже два месяца. Трудно с продуктами. Ладожская трасса не действует, так как она растаяла.
Мы уже второй месяц не видим мяса. Дают ржавую воблу или скверные кильки.
Чувствую себя чрезвычайно слабой. Вялость у меня непобедимая к какому-либо действию или движению.
А кругом идет напряженнейшая жизнь осажденного города.
Друзья неоднократно уговаривали меня выступить публично и прочесть некоторые главы и отрывки из II тома моих «Записок», правда еще неоконченных. Они это считали как бы моим общественным долгом, отвлечь людей от их бытовых дел и огорчений. Я согласилась. Читала я, как это ни странно, не в Академии художеств, не в ЛОССХе, а в Музыкальном обществе, в зале камерной музыки. Председательница этого общества Зоя Петровна Лодий
[218] была на моем выступлении.
Публики было довольно много, и слушали внимательно. Петр Евгеньевич выступил с характеристикой моего творчества. Сказал хорошо. Выставку из моих вещей сделал с большим вниманием и любовью
[219]. После чтения, когда я прошла на выставку, многие просили объяснить им технику гравюры, литографии, акварели и тепло благодарили меня.
Во время чтения, когда я говорила о Ленинграде, я всеми силами удерживалась, чтобы не заплакать. Причиной был недавний разговор с Борисом Ивановичем Загурским, который был у меня и настаивал на необходимости мне выехать из Ленинграда. Я отказалась. Я думаю, уехать из него было бы для меня самым тяжелым несчастьем. Ведь я кожей моей приросла к его стенам! Ни за что не поеду!
Это все страхи из-за дров. В городе нет дров. Нигде купить их нельзя. Многие учреждения запасаются каким-нибудь деревянным домом, ломают его и раздают деревянный лом своим служащим. Наш управдом мне объяснила, что так как я нигде не служу, то и рассчитывать на такие дрова я не могу. Это меня не страшит. Сейчас лето, и до морозов еще далеко.
Дневник, от 9 августа 1942 года
«…Слушала в филармонии 7-ю симфонию Шостаковича. Зал был полон. Обстрела и бомбежки не было, и концерт прошел благополучно. Встретила там Веру Влад[имировну] Милютину, и она познакомила меня со своей знакомой Юлией Васильевной Волковой…
Последнее время хворала. В начале августа я в продолжение недели приводила в порядок библиотеку Сергея Васильевича, переутомилась, и со мной сделался сердечный припадок и припадок печени (первый раз в жизни). Сейчас я уже поправилась, только сердце мое не спешит вернуться в свое прежнее состояние…»
* * *
21 августа ездила на трамвае на Васильевский остров на заседание в память умершего 5 апреля талантливого художника Павла Александровича Шиллинговского. Собралось много народу (крепкий народ ленинградцы!). Конечно, организатором этого заседания был наш энтузиаст Петр Евгеньевич, который и выступил с докладом о жизни и творческом пути художника. Потом говорил Доброклонский — о графическом наследии художника. Было много тепла выражено по адресу умершего художника
[220].
На стенах висели его великолепные офорты и многие другие произведения.
Налетов в этот день, к счастью, не было.
Многих из знакомых художников и искусствоведов я не узнавала, так они от голодовки наружно изменились, так же как я сама.
Дневник от 24 сентября 1942 года
«…Был у меня Б.И. Загурский. Он очень внимателен и озабочен моим положением. Обсуждали возможные выходы из моего тяжелого положения. Первое предложение — оставаться здесь. Но никто не может мне гарантировать дров на зиму, а купить их нельзя. Если я останусь здесь и в случае невозможности продолжать жить на своей квартире, переехать в Русский музей — в центр города. Но там нет самых примитивных санитарно-бытовых условий, так же как сейчас и в моей квартире. Второе предложение — уехать в Москву и там поселиться. Где? У кого? Обещают устроить на самолет, но предупреждают, что вещей придется взять очень мало. А что я буду делать без инструментов, граверных досок, моих рукописей, моего художественного материала?
Третий вариант — ехать в Казань к матушке и сестре Петра Евгеньевича. И когда я представила себя в Казани, в тепле, в сытости, в безопасности от бомбежек и голода, в роли не то приживалки, не то квартирантки, вообще никому не нужной старухи, то я решила никуда не ехать. Никуда!»
Дневник от 1 октября 1942 года
«…Сегодня я окончила новую маленькую гравюру — памятник Петру Великому Фальконета. Сделала ее в три дня. Работала с упоением, с восторгом. Чувствовать, как управляемый мною инструмент бежит по блестящей доске — да ведь это чувство ни с чем не сравнимо. Гравер что скрипач: его штихель — смычок, вырезанная линия — поющая струна.
Очень боялась начинать. Прошло четыре года, как я резала последний раз книжный знак для художника Д.И. Митрохина. С тех пор много воды утекло. Сил убавилось, сердце не так работает, рука дрожит. Но как только взяла инструмент, тотчас же почувствовала прежнюю уверенность, гибкость и послушание руки. Начала с самого опасного и ответственного места. Решила, если здесь сорвется, то не буду продолжать гравюру. Резала очень осторожно, в рискованных местах оставляла запасы. Но первый же оттиск меня успокоил. В общем гравюра резана довольно грубо. К сожалению, дерево на доске во многих местах было хрупко и крошилось.
Дни были темные, хотя солнечные. Электрического освещения не было, и я, когда бывало солнце, старалась досочку держать в солнечном луче, падавшем на мой стол, и вместе с лучом передвигалась по столу.
Вырезала другую гравюру: мальчики удят рыбу. Набережная Невы, справа край судна, вдали Литейный мост и внизу, у воды, группа ребят — рыболовов.
Написала две акварели: „Окрестности Невеля“ и „Летний сад в инее“ (обе приобретены Русским музеем).
Сделала еще 9 цветных литографий — видов Ленинграда, размером в почтовое письмо, и другие литографии…»
Дневник, от 15 октября 1942 года
«…До крайности нуждаюсь в дровах и керосине. Разобрала свой дровяной сарай, который, между прочим, кем-то уже раньше начал разбираться. Но на сколько его может хватить? На месяц, на полтора — не больше. А дальше что?
Жестокая кругом идет борьба за жизнь, за существование. Голод, холод и темнота. Настоящего голода нет, так как еще не съедены овощи».
Дневник от 19 октября 1942 года
«…Сегодня у меня был второй уже раз проф[ессор] Мстислав Влад[имирович] Фармаковский. Принес для прочтения следующие страницы своего обширного труда „Технология акварельной живописи“. Он просит меня написать что-нибудь для его книги. Нечто вроде предисловия. Я предложила ему то, что написано мною об акварельной живописи в моих „Записках“ II тома, еще не законченных.
Его будущая книга представляет очень солидный научный и полезный труд не только для искусствоведов, но и для молодых художников»
[221].
Дневник от 21 октября 1942 года
«…Вчера окончательно устроилась на зиму, выбрав для своего зимнего житья спальню. Она самая малая комната, имеет только одну дверь и три капитальных стены. Я рассчитываю, что она будет сохранять тепло лучше, чем другие. Свой большой стол я перетащила в спальню, и потому смогу работать, к чему я стремлюсь.
Жаль, что эта комната темнее других. Одно из двух окон совсем заколочено фанерой, а другое наполовину.
Первый раз вчера вытопила печь после осенних холодов. И давно пора было это сделать: в комнатах стало очень сыро, акварели начали фалдить, как говорят, „отволгли“. Сегодня у меня в комнате тепло.
Как сейчас становятся ценными самые простые, обыденные вещи, о которых прежде очень мало думал, заботился и ценил. Петр Евгеньевич принес мне пять литров керосина (по распоряжению Бориса Ивановича Загурского), я этому так обрадовалась, что чуть-чуть не заплакала от счастья. Радуешься каждой щепочке, дощечке, которую Нюша где-нибудь подберет на улице или обменяет на какую-нибудь тряпку. Говорит с радостью: „Это для печурки!..“
Сегодня заходила ко мне Екатерина Николаевна. Бодра, интересно рассказывала, как они последние дни украшали палаты детской больницы, чтобы создать детям впечатление уюта, теплоты и ласки.
Не иссякают у ленинградцев душевные источники!
Все эти дни мы утепляли на зиму мою комнату. Обили дверь войлоком, забили щели валиками. Заделывали на потолке трещины гипсом, чтобы тепло не уходило на чердак».
Дневник от 28 октября 1942 года
«…Чудесные осенние дни. Гуляя по проспекту Карла Маркса, зашла на место целого ряда разрушенных построек. Одни развалились от снарядов и бомб, другие разобраны на дрова. Груды исковерканных железных балок, рельс. Земля блестит от толстого слоя мелко битого стекла. Кучи ломаного кирпича. Глубокие ямы, наполненные водой и всяким мусором. Везде торчат исковерканные железные кровати, чаще ножками вверх.
Зачем я туда забрела? Да нарвать цветов! Трудно поверить, что в конце октября цветут полевые цветы. Но это так. Ни разу не было мороза. Странно было видеть среди этого городского запустения, хлама и железа свежие густые кустики полевой ромашки. На зеленых высоких стеблях — целые созвездия белых цветов с желтыми середками. Они мне говорили, что природа, пока земля существует, — вечна, возрождаясь беспрерывно, неустанно, принося в дар красоту и умиротворение…»
4 ноября неожиданно узнала, что мне присвоено правительством звание заслуженного деятеля искусств. Я не страдаю честолюбием и никогда не страдала, но, узнав об этом, я была очень тронута, но еще более радостно мне было, когда я прочла в телеграмме обращение ко мне как к «ленинградскому патриоту». Мне было это очень дорого.
Дневник, от 13 ноября 1942 года
«…Холодно… Болят руки, кончики пальцев, подушечки покраснели, припухли, точно подпеклись. На каждой образовалось нечто вроде нарыва. И все это чрезвычайно болезненно при прикосновении. От холода страдала моя левая рука. Третий палец сильно распух, еле сгибается и вся рука ноет, как зуб. У меня всегда было очень развито чувство осязания. Оно, так же как и слух, часто помогало моему близорукому зрению.
Как я переживу эту зиму? Ведь дров у меня хватит только до середины или, в лучшем случае, до конца декабря. А потом?..»
* * *
Дрова! Дрова! Два последних дня рисовала портрет соседки, молодой санитарки. Она обещала мне при разборке одного деревянного дома уделить из своей доли несколько досок. Портрет сделала свинцовым карандашом, подкрасив его красным карандашом. Голова в натуральную величину, и только голова. Она вышла похожа, но как искусство портрет нехорош.
Последние дни отвечала телеграммами на поздравления меня с новым званием.
Настроение у меня не приподнятое. Угнетает темнота. Живописью работать нельзя.
Последние два дня у нас поспокойнее, хотя и есть бомбежка, и артобстрелы, но не так надоедливо…
Дневник от 27 ноября 1942 года
«…Все эти дни живем под впечатлением наших военных успехов в районе Сталинграда. Все возбужденно об этом говорят, радуются и ждут скорого окончания войны».
Дневник от 3 декабря 1942 года
«…Вчерашний день и ночь прошли спокойно. Была артиллерийская стрельба, но далеко.
Сегодня чудный солнечный день. Вчера была метель, а сегодня везде свежий, ослепительный снег. Воздух мягкий, слегка морозит…»
Дневник от 14 декабря 1942 года
«…Оттепель. Город сегодня обстреливался из тяжелых орудий. Слышно было, как разрывались снаряды и рушились дома. Горько и тяжело…»
Дневник от 27 декабря 1942 года
«…Стоят пасмурные дни, и все кругом тает. Сыро, туманно и особенно темно. Это самые темные дни в году, и темнота этих дней усиливается пасмурной погодой.
Ничего не хочется делать. Да просто невозможно работать по своему искусству. Электрического света нет, только крошечная лампа…»
Август 1947 г.
XII.
1943 год
Дневник от 1 января 1943 года
«…Новый год я не встречала.
Среди ночи я и Нюша одновременно проснулись от громкой музыки по радио. Услышали, что часы бьют два, и поздравили друг друга с тем, что благополучно перебрались в 1943 год.
Днем прибежала перепуганная Вера Владимировна Милютина, которой сообщили поздно вечером, в канун Нового года, что ей надо куда-то немедленно переселиться (но куда, не указали), так как ее дом, где она живет, решено ломать на дрова.
Заходила сестра Елизавета Петровна с дочерью. У сестры в ужасном состоянии руки. Все в глубоких трещинах, очень болезненных. Отсутствие жиров так сказывается на ней».
Дневник от 9 января 1943 года
«…Был у меня Петр Евгеньевич. Он собирается с женой улететь в Казань. Я рада за него, что он уедет отдохнуть… И очень желаю ему счастливой поездки, но мне как-то страшно оставаться без него. Он все время был моей опорой, всегда готовый мне помочь, чем только мог.
Он, между прочим, сообщил мне, что 30 декабря умер Николай Эрнестович Радлов. Его смерть меня глубоко огорчила своей преждевременностью. Ему было только 53 года. Николай Эрнестович был образован, культурен, обладал блестящим критическим умом и был хорошим художником.
Он и внешне был заметен: очень высокий, изящно худой, с крючковатым носом. Держался всегда прямо, строго, даже надменно. Весь точно чеканный из металла. Его женою была худенькая, изящная женщина — художница Надежда Константиновна Шведе.
Его смерть — большая потеря для современной нашей культуры.
Получила поздравления с Новым годом от коллектива сотрудников Графического отделения Государственного Русского музея, от работников полиграфической мастерской ЛОССХа и от секции графиков Союза советских художников. Благодарила эти организации, бесконечно тронутая их вниманием, памятью обо мне и добрыми пожеланиями…»
Дневник от 14 января 1943 года
«…Каждую ночь мы переживали кошмар. Завывает сирена, и начинают бить зенитки. Сегодня всю ночь над Выборгской стороной жужжат вражеские самолеты.
Бомбят. Обстреливают. Слышен грохот падающих стен и разрывы снарядов. Тяжело! А главное — за что?..»
Все эти дни заходил Петр Евгеньевич. Часами беседовали о многом, особенно в области для обоих близкой — искусстве.
Помещаю отрывки из моего письма к нему, как одно из последствий наших разговоров. (От 24 января 1943 года.)
«…Мне хотелось вернуться к нашему вчерашнему разговору относительно Вашего определения меня как гравера.
Я была бы удовлетворена, если бы Вы так думали и писали обо мне: „А.П. Остроумова-Лебедева
возродила художественную творческую черную гравюру и
создала новую отрасль гравюры — цветную гравюру“.
Если Вы не упоминаете о моем революционном отношении к черной репродукционной гравюре 18 и 19-го веков, именно к черной гравюре, то Вы наполовину говорите обо мне… Граверов: Галактионова, Алексеева и других русских граверов такого характера я в молодости, да и теперь считаю „сладкой водой“. Я ни одной точкой не соприкасаюсь с ними. Клода, Брандамура, Матэ и многих других превосходных ксилографов я считала и считаю только хорошими художественными ремесленниками, так как они не являлись в них (т. е. в гравюрах. —
Н. П.) творцами-художниками. Я их уважала, но отвергала. Никакой связи у меня с ними не было. Я являюсь в черной гравюре —
революционером-возродителем, а в цветной —
создателем новой отрасли гравюры. Вот это определение будет исторически верно.
Если Вы не упоминаете о том, что я начала и утвердила художественную черную гравюру, тем самым, как мой историк. Вы даете ошибочное право другим искусствоведам говорить и писать такие вещи, как „Фаворский был основателем художественной черной гравюры“
{4} и тому подобное. Он появился после меня через несколько лет, так же как и другие граверы, начавшие работать художественную творческую гравюру…»
Дневник от 24 января 1943 года
«…Враг бомбит и обстреливает жестоко наш бедный город вот уже который день. Много человеческих жертв. Но часто бомбы падают и в землю или на лед рек и каналов. На днях две бомбы упали в Фонтанку, вблизи Чернышева моста, и стекла окон на большом протяжении вылетели вон по обеим сторонам Фонтанки.
Управление по делам искусств и типография Володарского остались без стекол. Это было поздно вечером, и люди бежали, кто куда мог. Мороз был — 20°. Половина улицы Росси стоит без стекол.
Выбитое стекло сейчас, в мороз, большое несчастье для каждого…»
Дневник от 27 января 1943 года
«…Вражеский самолет низко летел вдоль улиц и стрелял по идущему народу, как раз в то время, когда все кончают службу. А утром стрелял шрапнелью по рынкам, где шла торговля. Просто, видно, задался целью без всякой пользы для войны расстреливать мирных жителей.
На фронтах успехи: взят обратно Майкоп, занята нами Тихорецкая.
Зато враг нам нервы треплет. Два дня было чуть потише, сегодня же опять длительный артобстрел. В каком районе города, трудно еще определить. Через несколько времени это станет известно. А сейчас объявлена воздушная тревога. Опять зенитки потрясают воздух. Опять нервный трепет охватывает душу. Сейчас я слышу отбой…
Забегала очаровательная Юлия Васильевна Волкова. Принесла мне свой керосин, да еще по дороге купила талон на пол-литра. Очень она добрая душа. Без таких людей трудно было бы и горько жить. Как такие люди умеют нежно и осторожно уничтожать шипы из жизни ближнего!»
Дневник от 29 января 1943 года
«…Прорыв блокады! Прорыв блокады! Какое счастье, какая радость! Всю эту ночь в городе никто не спал. Кто от радости плакал, кто целовался, кто просто громко кричал. Город ликовал!..
Мы уже не оторваны от Родины! У нас общая пульсация!»
* * *
«…Сделала альбом литографий видов Ленинграда. Раскрасила их
[222]. Провозилась с ними все светлое время.
Звонила к Михаилу Васильевичу Черноруцкому
[223]. Просила его устроить мою сестру в свою клинику, так как она страдает повышенным давлением крови.
С какой радостью я бы взяла ее к себе. Но как я прокормлю ее, когда я и Нюша голодаем.
Работа моя идет нудно. Сегодня в комнате +6°. Стынут руки, и опять стали набухать кончики пальцев, и больно ими до чего-нибудь дотрагиваться…»
[224]
Дневник от 3 февраля 1943 года
«…Какой колоссальный размах приобретают события на нашем фронте! Беспримерную отвагу и самопожертвование показывают наши воины всему миру!
Грандиозная картина событий, совершающихся сейчас около Сталинграда, рисуется моему воображению так: двухсоттысячная немецкая армия окружена кольцом наших войск.
Города, в сущности, не существует. Отдельные полуразвалившиеся обгорелые дома, остатки подвалов, разрушенные заборы, поваленные деревья. Картина полного разгрома. Везде во дворах, в подвалах, на огородах, в садах, за обвалившимися стенами прячутся немцы. Они врылись в землю, как кроты, чтобы спастись от наших бомб и снарядов.
Их высшее командование не согласилось на наши условия капитуляции, и окруженную армию ожидает один конец — истребление.
Какая человеческая драма, какая трагедия! Наши воины защищают свою землю. Они отнимают ее обратно у захватчиков, погибают, но погибают за честь своей Родины.
А немцы, итальянцы, румыны, испанцы, венгры! За что они воюют?
Какой грандиозный пожар зажег по всему миру Гитлер и его приспешники!
Миллионы людей погибли. А сколько страдает! Сколько искалечено. А наш героический город и жители в нем! Блокада его — одна из деталей чудовищной по своему размаху войны, но одна из самых болезненных, острых деталей!
Как мы истощены!
…Двадцать четыре вражеских генерала, две с половиной тысячи командного состава и 91 тысяча солдат взяты в плен. Какой разгром! Как глубоко верили гитлеровцы в свою непобедимость! И вдруг Красная армия разбила их наголову со всей их „передовой“
техникой, со всеми их военными ухищрениями и обманами.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Ф. Тютчев».
Дневник, от 5 февраля 1943 года
«…Что делается опять с моими глазами? Распухли веки, налились кровью белки, точно крупным песком засыпаны глаза. Льются беспрерывно слезы. Не могу работать. Теперь выяснилась причина моего заболевания. Третьего дня была у меня В.В. Милютина. Она вернулась с ледовой трассы, где делала зарисовки. Она мне привезла свежую сосновую ветку, издававшую прекрасный аромат соснового леса. Ветка эти дни стояла в вазе, на моем рабочем столе, передо мной. Я без перерыва чихала, у меня сделался сильнейший насморк. Приняла хинин, думая, что у меня простуда. А виновата во всем была эта невинная прехорошенькая ветка голубоватой сосны со смолянистыми шишками. Теперь она удалена, и я медленно начинаю поправляться…»
Дневник от 7 февраля 1943 года
«…Вечером пришел художник Адриан Владимирович Каплун. Он принес мне показать свой художественный материал, по которому он собирается сделать более значительное и законченное на выставку Красной армии. Материала для этого у него много, и есть очень хорошие рисунки Ленинграда, все больше рисованные по памяти, по впечатлению, дома. Он — талантливый художник. У него есть хорошие вещи — пейзажи Сванетии, городские пейзажи Кавказа и многое другое…»
Дневник от 9 февраля 1943 года
«…B шесть часов утра начался обстрел. Сначала Петроградской стороны, а потом объявили по радио, что обстрел идет Выборгской стороны. Он продолжался более трех часов. Много раз падали снаряды, разрывались, и рушились дома. Отвратителен свист пролетающего снаряда. Говорят, что если слышишь свист, то этот снаряд уже не опасен… Вскоре началась бомбардировка. Был воздушный бой между нашими и вражескими самолетами.
Русский народ жив, он будет жить, процветать и развиваться! Никакие гитлеры его не уничтожат!..»
Дневник от 12 февраля 1943 года
«…Идет мокрый снег, дует порывами ветер — нелетная погода. День прошел сравнительно спокойно. Где-то бахают пушки, разрываются снаряды, но далеко. Вероятно, где-нибудь за Ленинградом.
Я каждый день после обеда хожу по Нижегородской улице к Лесному проспекту и читаю наклеенные на заборах газеты. (Мне не удалось подписаться на газету.)»
Дневник от 15 февраля 1943 года
«…Сегодня Красная армия взяла Ростов…
По случаю моего дня рождения получила много поздравлений. Несмотря на обстрел, приходили племянницы, друзья, которых в городе осталось немного.

Получила подарки, хотя их было немного, но мне кажется, они характерны для нынешнего времени. Нюша подарила кусок кухонного мыла. Юлия Васильевна преподнесла стеариновую свечку и пол-литра молока, за которым ходила пешком к Мечниковской больнице. А это составляет не менее пяти километров в один конец. Моя племянница принесла восьмушку чаю, а В.В. Милютина — коллективный подарок — три конфетки и две столовые ложки кофе. Все подарки приятные и полезные.
Я была в этот день очень счастлива. Волкова и Милютина не говорили со мной об еде, о пайках, о хлебе, о дистрофии и т. д., а говорили о литературе, о творчестве, об искусстве, о том, что так близко моей душе, чем я живу. Как я в те дни, в дни тяжелые и иногда труднопереносимые, глубоко оценила близость людей, дружески ко мне расположенных, особенно после смерти Клавдии Петровны, моего самого близкого друга!
Они создали вокруг меня атмосферу любви, ласки, взаимного понимания и поддержали в трудные минуты. С благодарностью хочу их назвать: Петр Евгеньевич Корнилов, потративший много энергии, чтобы спасти меня от голодной смерти, Любовь Васильевна Шапорина
[225], со своим спокойствием, умом и равновесием. Анастасия Осиповна Якубчик, с присущей ей энергией и непоколебимым убеждением в нашей окончательной победе, поддерживала во мне бодрость. Они часто навещали меня.
Тамара Ал[ександровна] Колпакова — серьезный ученый и врач — всегда приносила с собой большой заряд жизненной энергии, неистраченных сил и неисчерпаемой бодрости. Ее посещения всегда подымали во мне тонус жизни и способность к сопротивляемости.
Екатерина Николаевна бывала очень часто и не могла прийти и чего-нибудь не принести: то это была бутылка витаминов, то какой-нибудь укрепляющий препарат или рыбий жир…
Юлия Васильевна Волкова и Вера Владимировна Милютина, живя очень близко, часто меня навещали, и мы вместе переносили наши общие невзгоды.
Вот это был кружок моих друзей, который поддерживал и помогал мне жить…»
Дневник от 23 февраля 1943 года
«…Очень сильный обстрел города… Болезненно действует на нервы. Так хочется покоя и тишины, а их как раз и нет. Сегодня день празднования двадцатипятилетия Красной армии. Фашисты, как нарочно, в такой день не дают покоя нашим защитникам Ленинграда…»
Дневник от 24 февраля 1943 года
«…Скоро весна. Блестящие лучи уже сверкают по краям облаков. Тяжелые капли падают с крыш, и вода блестит под ногами. Снег потемнел, и следы от ног почернели и полны водой. А рядом обледенелая дорожка. Уходящая зима 1943 года была, как говорится, „сиротская“: без долгих и больших морозов. И теперь не бушует, не протестует, а мягко и ласково готова уступить свое место нарождающейся светлой весне. Хорошо!

Если бы не бомбежка и артиллерийский обстрел! Нам не сообщают (да это и правильно), какие районы пострадали. Но эти дни по радио несколько раз сообщалось, что Выборгский район подвержен обстрелу.
Вот эти ежедневные потрясения — к ним привыкнуть нельзя. Можно внешне оставаться спокойной, даже продолжать делать свое дело, но человек переживает нервный шок. Вероятно, это служит причиной моего чрезмерного похудания — таково мнение врача.
На днях наш летчик в своем докладе по радио о воздушных боях на подступах к Ленинграду употребил выражение, которое мне понравилось и тронуло меня. Он сказал: „Мы любим наш дорогой город! Мы наш Ленинград и жителей его держим под нашими крыла-ми, мы их ими укрываем“. Хорошо сказано, образно. Они осеняют город и жителей его своими крылами, как птица, которая прячет своих птенцов от воздушных хищников под теплыми любящими крыльями. Да будет вам успех, бесстрашные герои!»
Дневник от 6 марта 1943 года
«…На днях я и Нюша ездили по делам к Чернышеву мосту. Поездка наша была сложна и рискованна. Когда мы подошли к трамвайной остановке, вдруг затрещали зенитки, зажужжали самолеты, посыпались осколки. Собравшийся народ разбежался кто куда. Много было испуганных лиц, а рядом с ними и совсем спокойные, хладнокровные. Мы решили спокойно ждать трамвая, никуда не убегая. И к нашему счастью, так же внезапно прекратилась, как и началась, стрельба зениток. Кругом говорили, что сбит вражеский самолет. Это подтвердилось сегодняшним сообщением по радио.
На обратном пути, на углу Невского и Литейного, опять нас застала тревога. Опять люди бросились прятаться. Трамваи остановились. Мы шли по Литейному проспекту, вдоль ограды Куйбышевской больницы, где совершенно некуда было укрыться. Шли медленно, чтобы не утомить мое старое сердце. Кругом падали бомбы. Дальше, на Литейном, милиционеры на каждом шагу нас перехватывали и загоняли в подворотни, где от сырости и холода стоять долго нельзя. Перебегая от ворот до ворот, добрались до Литейного моста. Но здесь окончательно застряли. Через мост пропускали только военных и их машины. Что нам делать? Укрыться негде. И мы решили невзирая на бомбежку идти на Выборгскую сторону по льду Невы. Справа от моста скатились кое-как с откоса берега, заваленного горами грязного снега, и пошли по льду. Людей почти не встречали. Большие круглые темные пятна, затянутые тонким льдом, нам приходилось обходить из-за возможности проваливаться в воду. Мороз был только в этот день, а перед этим четыре дня была оттепель. Легко можно было заметить, что лед во многих местах был пробит бомбами, и эти места были опасны. Мы шли медленно и осторожно, обходя подозрительные темные пятна. Когда подошли к берегу Выборгской стороны, нам пришлось карабкаться вверх на мостовую по горам свезенного с улиц грязного снега. Ну, чего не бывает?! Кое-как взобрались. И хотя бомбежка продолжалась, но мы были почти дома, а быть дома казалось нам всего безопаснее.
Мне приходилось редко совершать такие путешествия. Для меня это было целым событием. Далеко я никуда не ходила. А каково людям, которым каждый день надо идти на работу и подвергаться в дороге всевозможным случайностям и опасностям, даже смерти. Бедные люди!..»
Дневник от 30 апреля 1943 года
«…Ездила, несмотря на дальность расстояния, в Некрополь, на родную могилу, посмотреть — не случилось ли что с нею. Кладбище трудно узнать. Вся скульптура снята и глубоко укрыта, дабы уберечь ее от снарядов.
Тяжелое впечатление производит огромная и глубокая воронка на месте, где была вновь перехоронена в Некрополе погребенная когда-то на Смоленском кладбище знаменитая актриса Варвара Николаевна Асенкова
[226] — современница Пушкина. Она оставила блестящий след в памяти ее современников. Снаряд был так велик и беспощаден, что от ее могилы и памятника ничего не осталось, кроме мелких кусков серого мрамора, кирпича, щебня и известки. На дне воронки — вода. Итак, прелестная Асенкова похоронена в третий раз.
Желая посмотреть, цел ли памятник на могиле художника Александра Иванова
[227], я пошла по дорожке дальше. И вдруг вдали мне померещилось какое-то странное видение, как будто два огромных животных стояли в конце кладбища около запасных широких ворот. Их издали трудно было рассмотреть, так как они были светло-серого цвета и очень незаметно сливались с туманным серым днем и с моросящим дождем. Как странно, что они в стенах Некрополя! Подошла поближе. И что же? Точно, это оказались два громадных быка. К их ногам с тупыми копытами были прикреплены деревянные узкие полозья, на которых зимой их перетащили сюда.
Широкие морды, растопыренные по сторонам короткие острые рога, торчащие уши и свирепо выпученные круглые глаза с висящей кожей. Круглые бока, как горы, дыбились вверх. Я сразу не узнала их. Это были статуи быков, находившиеся всегда перед скотобойней. Их творцом был скульптор Демут-Малиновский
[228]. Мимо них я много раз проезжала. Но я привыкла их видеть темно-бронзовыми, на высоких пьедесталах, в ракурсе, а здесь они были выкрашены в белую краску, под защитный цвет зимы.
Невдалеке была вырыта огромная глубокая яма, куда их предполагали зарыть, как сделано со многими скульптурными памятниками города…
Петр Евгеньевич уже несколько дней как вернулся в Ленинград. Совершенно неожиданно для меня он привез от учеников и сотрудников Сергея Васильевича, которые эвакуировались вместе с Опытным заводом синтетического каучука его имени, три кило топленого масла. Я была бесконечно этому рада. ПР и вожу здесь выдержки из моего ответного письма и с ним мою благодарность Юрию Александровичу Горину и всему коллективу Опытного завода:
„Спешу Вам сообщить, что топленое масло я получила все, небольшое количество я передала Анастасии Осиповне. Вы не можете себе представить, как я в то время нуждалась в жирах, и в каком я была плохом состоянии, и как Ваша помощь была вовремя. И я Вам всем бесконечно за это благодарна.
Сегодня мне неожиданно привезли два кубометра дров. Не нахожу слов, как мне благодарить, так как я узнала, что это Вы послали начальнику Главкаучука И.А. Никифорову просьбу помочь мне дровами. У нас это тяжелый и трудный вопрос…
Здоровье мое сейчас несколько лучше. Нет той слабости и чувства постоянного утомления, которые я испытывала в начале этого года…“»
* * *
Дневник от 1 мая 1943 года
«…Обстреляли весь город, все районы, но больше всего центр города. Двести тридцать семь снарядов было сброшено на Ленинград. Сейчас фашисты стреляют из более тяжелых орудий. Прежде снаряд редко пробивал кирпичную стену, а сейчас он сносит целые дома. Если же падает сверху (что сейчас бывает очень часто), пробивает, как фугасная бомба, крышу и все этажи донизу.
За эти дни погибло очень много граждан, так как фашисты стреляли в идущие переполненные трамваи, в людей на трамвайных остановках…»
Дневник от 4 мая 1943 года
«…Ходила гулять с маленьким Вовой (шестилетний воспитанник нашего дворника). Дошли до Невы, до Литейного моста, но повернуть направо и пойти по набережной нас не пустили. Шли вдоль госпиталя. Он сильно разрушен. Во многих местах нет крыши и сводов, а также задней стенки госпиталя и некоторых поперечных стен. Фасадная стена стоит. Одним словом, он очень пострадал, так же как и Инженерный замок.
Слезы кипят на душе! Зачем? Почему? Когда конец нашим страданиям?! Когда были у госпиталя, начался обстрел. Пришлось прибавить шагу, тем более что со мной не было документов…»
Дневник от 7 мая 1943 года
«…Сегодня я уже работаю в своей мастерской. Зимнее заточение окончилось. Мой стол, диван переехали на свои обычные места. Стало не так душно в спальне. В мастерской я могу больше и свободнее двигаться. Это хорошо…
Вчера ездила в банк. Наблюдала по дороге за народом. Восхищалась, гордилась и удивлялась внутренней и внешней дисциплине ленинградцев… Когда мы, возвращаясь, ехали по Литейному мосту и были почти на середине Невы, мы вдруг услышали, как на наш трамвай внезапно посыпался свинцовый дождь, точно горох трещал по крыше и по стенкам. Не то шрапнель, не то зенитные осколки падали на нас. За шумом трамвая мы не слышали летящих самолетов. В трамвае было человек десять, не больше. Все как-то съежились и скорчились, но никто не сказал ни слова, не издал ни звука. Все держали себя стойко и выдержанно, хотя, я думаю, на душе у всех было неприятно и жутко.
Мало смеющихся лиц. Только дети, бегущие по улицам, беззаботно хохочут, перегоняя друг друга.
Две ночи подряд были воздушные тревоги. Силою воли я заставляю себя оставаться в кровати.
Слышала, как над нами крутился вражеский бомбардировщик. Иногда он переставал шуметь, выключая свой мотор. Но по зениткам, хлопающим по нему, можно было судить приблизительно, где он.
Вчера тревога продолжалась с семи часов утра и до трех часов дня. Все магазины и все булочные были закрыты, хлеба нельзя было купить до трех часов дня. Ходить по улицам тоже не позволялось. Кроме того, все должны носить с собой противогазы, которые довольно тяжелы. И сейчас тревога. У меня в квартире нет воды. Я в верхнем этаже, надо мной чердак и пробитая осколками крыша. И в обоих этажах я одна. Соседей рядом со мной и подо мной — нет. Они давно улетели. И если зажигательная бомба пробьет нашу крышу и потолок и вызовет пожар, то я не смогу потушить его. Нечем! Голыми руками не потушишь!
Враг, видимо, стремится измотать наших летчиков, зенитчиков и артиллеристов, так как обстреливает днем и ночью, без передышки. Гражданское население очень утомлено.
Да вот сейчас — день. В небе — буря. Моторы наших самолетов и шипение немецких перемешиваются между собой. В небе пулеметная и пушечная стрельба. Идет бой между нашими и немецкими самолетами, так как зенитки не стреляют. И одновременно идет обстрел.
Несмотря на смерть, которая стережет человека со всех сторон, люди не обращают внимания на окружающий кошмар. В окно я вижу, как напротив, за решеткой, около здания кафедры анатомии Военно-медицинской академии четыре раненых пилят дрова, бегают санитарки, проходят больные, врачи… А бомбы где-то падают одна за другой.
Я тоже, беря пример с окружающих, сижу за столом и работаю. Окно настежь открыто. Небо синее, весеннее. Ярко-зеленая трава. Деревья покрыты молодыми листьями. А мы в таком аду!»
Дневник от 24 июня 1943 года
«…Три недели пролежала больная. Плеврит после воспаления легких. Плоховато работало сердце. Ну, конечно, магическое средство — сульфидин — прервало воспаление легких, но не справилось с плевритом. Остатки его и теперь еще дают себя знать. Не работаю. Все валится из рук.
Последние дни, начиная с 21 июня, у нас очень неспокойно. Постоянные налеты днем и ночью изматывают наших летчиков и зенитчиков. А сегодня был обстрел из тяжелых орудий центра города и продолжался довольно долго».
Дневник от 29 июня 1943 года
«…Сегодня у меня собралась небольшая группа знакомых мне и незнакомых лиц, объединенных между собою любовью к искусству
[229]. Меня очень растрогало их посещение — прийти, несмотря на постоянный обстрел и бомбежку, на так жестоко обстреливаемую Выборгскую сторону, чтобы посмотреть мои работы и повидаться со мной. Хочу перечислить этих бесстрашных и мне милых людей: В.П. Белкин, В.А. Успенский, П.Е. Корнилов, Л.В. Шапорина, М.С. Федоров, А.И. Якубчик, Ю.В. Волкова, В.В. Милютина, М.В. Фармаковский, Б.И. Загурский, А.А. Бартошевич, И.К. Соколов, Н.Т. Яглова, О.Д. и М.В. Доброклонские, Н.В. Толстая
[230].
Я прочла им еще не напечатанную первую главу II тома моих „Записок“ и показала гравюры раннего периода. Мне было грустно, когда они собрались уходить. Но они, к моей радости, решили собраться еще раз…»
Дневник от 2 июля 1943 года
«…Почти нет обстрелов вот уже несколько дней. И налетов нет. Что это значит? Ослабел ли враг, или наши летчики и артиллеристы так наловчились подавлять их огневые точки и уничтожать самолеты? В городе тихо, а на нашем конце Нижегородской — почти безлюдно. Только проходят врачи, санитары и сестры в окружающие нас госпитали.
На нашей улице, вдоль тротуаров, на их склонах, растет трава. Кустики белого или розового клевера, желтый лютик, курослеп — радуют глаза. Можно нарвать целый букет. И высокая трава колышется от ветра. Всегда стремлюсь идти между тротуаром и мостовой. Здесь есть немного земли, и кажется мне, идя рядом с тротуаром, что я иду по свободной земле, где-то в поле. Под ногами мягкая земля, без камней и асфальта. Только… только не надо смотреть вверх и в стороны, иначе кошмар нашей действительной жизни уничтожает все иллюзии.
Но эти скромные цветы, такие нежные и краткосрочные, дают моей душе мгновения отдыха и радости. Они ведь робкие проявления вечной природы, всегда жаждущей жить и творить из неисчерпаемого своего источника. Но мгновения эти кратки.
Природа — моя мать, и как я тоскую без нее. Мне бы так хотелось, чтобы она обвеяла, обняла меня.
Четвертое лето я, пейзажист, провожу среди камней».
Дневник от 10 июля 1943 года
«…Как бы мне хотелось дожить до нашей победы над Гитлером! А что эта победа будет, и полная победа — я не сомневаюсь…»
Дневник от 11 июля 1943 года
«…C 5 июля идут тяжелые бои около Орла и Курска и в районе Белгорода. Гитлер начал наступление…»
Дневник от 11 июля 1943 года
«…Все эти дни Красная армия твердо стоит и не отступает перед давлением противника… Итак, наступление Гитлера, начатое 5 июля, не удалось!..»
Дневник от 17 июля 1943 года
«…Чудовищно кошмарный провели день. Обстрел начался в половине шестого утра. Обстреливали наш район. Это уже много раз замечено, что когда фашисты терпят неудачи на фронте, то они вымещают свою злобу и раздражение на нашем городе. Обстрел был беспощадный.
Батареи противника где-то очень далеко, так как выстрелы орудий почти не слышны, а сразу, неожиданно, грохотал снаряд совсем близко около нас. Я побежала и открыла все окна, чтобы воздушной волной их не вышибло. Предпринятые мною меры были правильны, так как от одного близкого удара все стекла в нашем доме со стороны улицы вылетели вон, кроме моих. Между налетами были перерывы в 10–15 минут. Когда гражданам надоело стоять в укрытии и ничего не делать и они понемножку выходили на улицы, вот тогда-то вновь их встречали неожиданными ударами.
На днях снаряд попал в барак на территории клиники инфекционных болезней, что напротив нас. Расстояние между тем бараком и нами было не менее ста метров.
В это мгновение я стояла у моего стола перед раскрытым окном. Удар был неожидан. Мне показалось, что рушится наш дом. Деревянный барак, в нем помещалась контора, сразу загорелся. К несчастью, там собралось довольно много народу для получения заработной платы. Убиты были две женщины, две смертельно ранены и много не так тяжело.
Но какие замечательные ленинградцы! Не прошло и одной минуты, как со всех сторон, несмотря на продолжающийся обстрел, бежали люди к месту пожара и разрушения. Бежали врачи, сестры, санитары, ходячие больные и раненые из клиники. Несли носилки, ведра воды. Через три минуты, самое большое, примчалась пожарная команда. Пожар был быстро потушен, раненые разнесены или разведены по госпиталям, мертвые убраны, и через 10 минут как будто ничего и не случилось. Сбежавшиеся люди разошлись, возвращаясь к своей работе. А что у них на душе было и что они пережили, того ленинградцы не скажут — выдержанный и мужественный народ!
Они в те минуты мне напоминали трудолюбивых, упорных, настойчивых и волевых муравьев, таких маленьких и таких великих в своем трудолюбии, своей бодрости и жизнеспособности.
Обстрел 17 июля, как выясняется, вызвал много жертв среди мирного трудящегося населения Ленинграда. Гибли люди бессмысленно, не принося своей смертью нашим врагам ничего, кроме позора, и совершенно не влияя своей гибелью на окончательный исход войны…
Надолго ли хватит нервов на такую жизнь? А работать хочется. Я делаю так: если слышу выстрел вражеской батареи, то быстро убегаю в переднюю до обрушивающегося на город снаряда (моральное успокоение, не больше). Только уберегаюсь от осколков. И сейчас же возвращаюсь к своей работе, к своему столу… до следующего выстрела».
Дневник от 18 июля 1943 года
«…Ночь прошла спокойно и день также. Гуляла в запущенном саду психиатрической клиники. Его не узнаешь, так он исковеркан. Много пней деревьев, погибших от обстрела. Прежние прекрасные газоны раскопаны в грядки, взрыты земляными щелями. Стоял жаркий день. Небо было покрыто широкими тучами. Было душно и томительно. Я сидела поддеревом и читала книжку.
Вечером налетела сильная гроза — не хуже артобстрела. Сейчас слышна какая-то глухая возня. Не то в небе воздушный бой, не то ожесточенный бой на фронте…»
Дневник от 19 июля 1943 года
«…Целый день наклеивала на паспарту мои акварели и рисунки, сделанные давно, в Италии. Готовлюсь ко второму посещению молодежи. Собираюсь им прочесть забытую мною и не помещенную в первом томе „Записок“ главу о поездке в Италию в 1899 году и другую главу тоже о поездке в Италию в 1903 году.
Состоится ли собрание — неизвестно. Если будет обстрел, то никто не придет. Я живу от центра далеко, отделенная от него Невой и мостами.
Но я готовлюсь. Считаю это моей общественной работой и моим приятным долгом перед людьми, любящими искусство…»
Дневник от 20 июля 1943 года
«…Опять была в клиническом саду, сидела под деревом и писала черновик письма Владимиру Яковлевичу Курбатову, моему и Сергея Васильевича старому другу. Проходили мимо раненые, любопытно поглядывая на меня, не зная, откуда я взялась».
Дневник от 23 июля 1943 года
«…Только что ушли мои посетители. Сегодня их было меньше — только десять человек. Характерно для нашего времени — были все женщины, кроме М.В. Доброклонского. Мне было приятно узнать, что он и его жена были несколько раз за границей, в Венеции, в Риме. У нас нашлись общие приятные воспоминания. Из присутствующих еще Любовь Васильевна Шапорина живала много за границей.
Как реагировали слушатели на прочитанную мною главу „Поездка в Италию в 1903 году“ — мне было неясно.
От чтения очень устала…»
Дневник от 24 июля 1943 года
«Вчера вечером я только что разделась на ночь, как поднялся артиллерийский обстрел. Не только по нашему району, но и по нашему квадрату. Выстрелы орудий были слабо слышны, зато удары по ближайшим зданиям тем резче и сокрушительнее, особенно по своей неожиданности. Наш маленький домишко дрожал, трясся, подпрыгивал. Его как-то поводило в сторону.
Я выскочила в темноте из кровати и стала одеваться. Ничего не находила из вещей и пошла к окнам, чтобы отдернуть занавес. И окон в темноте не сразу могла найти. Пришлось совсем одеться и выйти в коридор, укрываясь не от снарядов, от них укрыться некуда, а от осколков и шрапнелей. Удары сыпались пачками, с довольно длинными перерывами. Томилась в коридоре ужасно. Было час ночи. Решила лечь в постель совсем одетой.
Заснула. В половине пятого проснулась. Мне было жарко, неудобно, стеснительно спать одетой. Я быстро в темноте разделась со страстным желанием заснуть.
И вдруг, не прошло минуты, как ахнет неожиданно снаряд, другой, третий. Да все около нас! Где уж здесь до сна. Опять оделась с ног до головы и ушла в переднюю. Нюша тоже вышла. Воздух вокруг нашего дома был наполнен пылью, известкой, землей, так что соседние дома не были ясно видны. Как мы уцелели, мне непонятно!
Упали снаряды рядом с нами в три дома: № 12, 14, 16. Снаряд попал в многострадальную клинику нервных болезней. Все эти здания совсем близко от нас…»
Дневник от 25 июля 1943 года
«…Вчера под вечер, когда шел обстрел, раздался громкий стук. Открываю — Петр Евгеньевич. Я испугалась и накинулась на него с упреками, как он ходит по улицам во время обстрела, и такого ужасного. Он сказал, что у них было тихо, то же самое он предполагал у нас. Приехал он сделать доклад в клинике имени Соловьева, что на Боткинской улице. Когда он подходил к зданию, послышался над его головой свист, и снаряд упал на эту самую клинику. Доклад был отменен, больные отправлены в подвал, а Петр Евгеньевич решил переждать обстрел у меня.
Не жизнь, а кошмар! И днем и ночью — жесточайший обстрел. Бьют по соседнему району, осколками снарядов вскапывая землю на нашем дворе и подымая в воздух известковую пыль, землю и мелкий кирпич. Да и по госпиталям стреляют, которые вокруг нас.
А радио каждые 10 минут говорит: „Внимание, внимание. Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Обстрел района продолжается. Движение на улицах прекратить, населению укрыться“».
Дневник от 26 июля 1943 года
«…Сегодня день кончился чудовищным обстрелом. Он начался около 6 часов вечера и продолжался до 12 часов. Обстреливался только наш район, точнее, наш квадрат. Бьют по одному и тому же месту, веером. Один край веера — Нижегородская улица, другой — Финляндский вокзал. Размах веера не шире. И бьют по одному месту много раз.
Было около девяти часов вечера, когда я после отдаленного выстрела вражеской батареи побежала в переднюю и не успела еще за собой закрыть дверь, как грохнул удар с чрезвычайной силой. Дом наш зашатался, была секунда, когда я подумала, что он обваливается. И одновременно под моими окнами послышались стоны и мольбы раненых прохожих: „Спасите, спасите!“
Снаряд пробил крышу дома через две комнаты от меня, пронизал оба этажа и взорвался в комнате нижнего этажа. Все вещи, мебель превращены были в пыль и мелкие щепки. Кроме того, снаряд пробил огромную дыру в капитальной, фасадной стене дома и осколками тяжело ранил прохожих. Тротуар и подъезд были залиты кровью. Раненых быстро унесли.
Уже много ночей, как мы уходим в соседний дом, в убежище. Это трехэтажный дом, совсем как наш, только этажом выше, но в его одной комнате окна заложены двумя рядами кирпича и двойной потолок подпирается столбами. Вот и все. Вдоль стен протянуты доски для сидения и ничего больше. Я приношу с собой складное кресло. Там ночует много народу, и потому там душно. Воздух спертый, тяжелый».
С тяжелым чувством и большой грустью услышала о том, как был разобран на дрова дом, в котором несколько лет жила моя сестра Софья Петровна Зенгер со своим мужем, дочерью, зятем и внуками…
…Мне только соседи этого дома и свидетели разрушения нарисовали следующую картину. Дом был уже без крыши. Рабочие отрывали балку за балкой, колебля весь дом. И они видели на стене этого дома большой масляный портрет моей сестры, писанный мною, когда я была ученицей И.Е. Репина, и выставленный на Весенней выставке в 1898 году. Это было мое первое художествен но-общественное выступление, и он вызвал в печати похвальные отзывы… Я пишу об этом в первом томе моих «Записок».
Во время разбора дома портрет болтался на стене, как маятник, сотрясаемый молотками и отрываемыми балками, под дождем и снегом. Также погиб большой портрет дяди Коли моей работы, две копии с картин Ендогурова и Крыжицкого
[231] и много моих гравюр…
След моего портрета остался в иллюстрированном каталоге Весенней выставки 1898 года и в одной из моих гравюр, сделанных с него.
Дневник от 21 июля 1943 года
«…Целый день обстрел…
Был у меня по делу В.А. Успенский. Он с женой не выехал из Ленинграда. Выглядит очень плохо. Принес отпечатанные мои литографии — открытки — виды Ленинграда. Они плохо напечатаны…
Две уже ночи спим в темной, узенькой передней. Я на складном садовом кресле, Нюша — на сундуке. Эта мера убережет, может быть, нас от осколков. Живешь и делаешь что надо, и все время думаешь: „А вот сейчас, каждую минуту у меня могут быть оторваны ноги, руки и порезаны глаза стеклами. И в лучшем случае можешь быть убита…“ Не весело…
Вынесла из моей мастерской гипсовый бюст Сергея Васильевича и положила его в кабинет на мягкое кресло, так же как и большие акварели со стеклами. В передней сняла со стены огромную раму со стеклом (гравюра Иордана „Преображение“ Рафаэля
[232]) и большое зеркало в тяжелой золотой раме — отправила туда же. Этой комнатой я не могу воспользоваться — она темная, так как окна в ней наглухо забиты фанерой. Кастрюли и сковороды, и тяжелые предметы, как медная ступка, тазы и большой котел для стирки белья — все вынесено из кухни. Не раз при сотрясении дома утварь с полок валилась нам на головы.
Обстрел продолжался. Кончила обед в передней на сундуке.
День теплый, солнечный! А приходится сидеть дома. Газет нет, так как сегодня понедельник…»
Дневник от 28 июля 1943 года
«…Утром, около пяти часов, начался артобстрел и с перерывами продолжался до трех часов дня. Штаб противовоздушной обороны то объявлял нам, что идет обстрел нашего района, то, что обстрел продолжается, и так все время, до трех часов. С трех часов до шести утихло, а сейчас опять грохочет совсем близко.
Из моих друзей никто и не подозревает, в какой я нахожусь опасности. Забегала сегодня Юлия Васильевна Волкова, которая в таком же положении. Знают еще Любовь Васильевна Шапорина и Наталья Васильевна Толстая. Они звали меня к себе ночевать, но я боюсь и ту и другую стеснить. Ведь я не одна, а Нюша со мной, с которой я не хочу расстаться, так как она моя главная поддержка…
Несмотря на грохот кругом, пишу свои „Записки“. Работаю над главой, где я рассказываю о своей жизни в Лугано и о переходе через Симплонский перевал. Хотя и трудно работать в такой обстановке, но выхода нет. Из-за этого главным образом и сижу в городе… Надо работать…
Сегодня днем, когда у нас падали снаряды, звонила Любовь Васильевна, спрашивала: „Живы ли вы? Мы слышим, у вас идет жестокий обстрел Выборгской?“ Между ударами и свистом пролетающих снарядов кричу ей: „Живы, живы!“ И, вспомнив, что она много путешествовала и может мне помочь, кричу ей: „Ради бога, назовите мне цветы, которые растут среди снегов альпийских перевалов, высоко в горах. Целый день мучаюсь и никак не могу вспомнить их названия. Кончаю главу о нашем переходе через Симплонский перевал, пишу о красоте цветов, а названия их не помню! Еще так чудно пахнут! Ну скорее! Я стою у открытого окна!“ — „Цикламен!“ — кричит она. „Да, да, цикламен“, — в восторге повторяю я.
Ночь пережили. Утром перебежали из убежища к себе, в наш дом. В спальне и в кухне часть стекол выбита. Что мне делать? Где взять стекол? Хорошо, что сейчас еще тепло.
Болит сердце, болят легкие и большая слабость в ногах — все от ненормального сна…
На днях ночью фашисты сбросили массу осветительных ракет, которые, прикрепленные к парашютам, медленно спускались, чрезвычайно ярко освещая город во всех его деталях красным светом. И наш дом, может, это только нам казалось, находился в центре этой жуткой и страшной картины».
Дневник от 1 августа 1943 года
«…Решили эту ночь провести дома. Уж очень тяжко в так называемом убежище. Сегодня днем стреляли мало. Легли полуодетые, но в 3 часа ночи начался жестокий обстрел. Мы быстро оделись и, рискуя попасть под удары, пробежали по двору в убежище. Обстрел продолжался до утра. Дребезжали и сыпались стекла. Осколки, куски кирпича, булыжники грохотали о стены дома, где мы ночевали. Около восьми часов утра счастливо перебежали по двору домой. Падали где-то снаряды.
Только мы поднялись по лестнице и стали ключом отпирать входную дверь, как раздался потрясающий удар. Дом зашатался. Мы быстро вошли в квартиру. В моей рабочей комнате воздух был наполнен известковой пылью, песком и мелким кирпичом.
Мы сразу увидели, что напротив нас здание кафедры анатомии сильно пострадало. Посередине крыша пробита снарядом. Тяжелые кирпичные трубы разбиты. На крыше все взъерошено. И какая неприятность! Два моих окна пробиты осколками. Мы стали искать место, куда они попали. Нашли. Один вонзился в круглую железную печь и завяз в ее кирпичах. Когда я сунула туда руку, желая его вытащить, он был настолько горячий, что обжег руку. Другие два осколка — один поцарапал диван, другой лежал на моем кресле. Оба тоже совсем раскаленные.
Если бы мы вернулись раньше домой на несколько мгновений, я не сомневаюсь, что какой-нибудь из осколков попал бы в меня или Нюшу! Судьба! Сейчас же позвонила Любови Васильевне Шапориной и просила ее принять меня и Нюшу на несколько дней к себе, пока не уляжется вражеская ярость к Выборгской стороне. Жажду выспаться. Теперь мы у нее».
Дневник от 2 августа 1943 года
«…Ночь спала, подумайте, раздетая, да еще в кровати. Какое наслаждение! Обстрел Выборгской продолжается.
Предложили мне переехать в комнату уехавшего В.В. Воинова в здании Русского музея
[233]. Это все очень сложно, да там, так же как и у меня, нет воды, нет света, испорчены фановые трубы. Но мы дома ко всему приноровились. Нет, не перееду».
Дневник, от 3 августа 1943 года
«…Ночью был обстрел и воздушная тревога, но где-то далеко, не у нас. Я с наслаждением спала. Вчера прошла вдоль улицы Петра Лаврова до конца. Только с одной правой стороны я насчитала шесть домов, разрушенных фугасными бомбами, и посередине улицы две или три огромные круглые воронки.
Везде разгром и разрушение.
Сейчас Нюша отправилась на Выборгскую сторону, и я волнуюсь за ее жизнь. Все время идет обстрел нашей стороны…»
Дневник от 7 августа 1943 года
«…Сегодня вернулась домой, на Выборгскую сторону. Во время нашей дороги там был объявлен обстрел. Никого на улицах не было — пустыня. Больше всего боялись милиционера, который мог нас задержать. Дошли благополучно, а обстрел нашего квадрата продолжался все по-прежнему. В каких-нибудь десять минут на территории клиники инфекционных болезней упало одиннадцать снарядов, но ни один не попал в ее здания, а все зарывались в землю, не долетая. Я сидела в темном коридоре. Дом трещал, шатался. Во многих местах стала протекать крыша. Потолки дали глубокие трещины.
Вечером пришел Петр Евгеньевич. Я была не в духе и все время ворчала. Передала ему папку с моими дневниками на хранение…
Был обстрелян город по разным районам. Два снаряда попали в Русский музей, в ту его часть, где находится квартира Воинова и которую предлагали мне занять ввиду жестокого обстрела Выборгской стороны».
Дневник от 8 августа 1943 года
«…Продолжала писать мои „Автобиографические записки“. Сейчас это мне тяжело дается. Очень трудно свои мысли держать в узде и направлять их по определенной дороге, именно в данное время, когда все внутреннее существо и нервы так напряжены.
Постоянно приходится узнавать о разных потрясающих случаях, неожиданных, страшных и жестоких. Я стараюсь на них не останавливаться. Достаточно наших газет и помещенных в них сведений о зверствах гитлеровцев. Душа переворачивается от ужаса. Зверства их мы испытали и на нашей шкуре.
Под вечер зашла ко мне Вера Александровна Белкина. Борется за жизнь свою и мужа. Очень осунулась, глаза стали мудрые. Она бодра и энергична. Ведет себя эти два года героиней. Вениамин Павлович слабее жены.
Большинство мужчин, если их жены эвакуировались и они оставались одни, очень слабо сопротивлялись трудностям нашей жизни и погибали скорее, чем женщины».
Дневник от 13 августа 1943 года
«…Пишу акварелью и себе удивляюсь — такое я испытываю удовольствие: нет больше счастья, чем работа. Я влюблена в натуру, которую сейчас изображаю. Это просто открытое окно в моей комнате. Около него письменный стол, на нем лампа. Большое стоячее зеркало и стул у окна. На подоконнике книга. За окном ветви деревьев. Блики вечернего солнца светятся на полу, на подоконнике и отражаются в зеркале
[234].
Желание работать проснулось, наконец, во мне после долгого времени апатии. Вероятно, причина в моем физическом истощении. Это та страсть, которая всю жизнь владела мной, с самого детства и до теперешних дней. Иногда литературная работа на некоторое время вытесняла кисти и краски, но только на время. А потом влечение к моему любимому искусству всегда брало верх…»
Дневник от 16 августа 1943 года
«…Впереди радость — мне обещали электричество! Неужели я дождусь того мгновения, когда на моем столе загорится светлая лампа, при которой можно будет работать и читать. Два года сидеть и работать при коптилке! Или, в лучшем случае, при маленькой кухонной лампе…»
Дневник, от 24 августа 1943 года
«…Вчера сообщили по радио, что Красная армия освободила Харьков. Какая для нас радость! Мы всеми мыслями и сердцем связаны с нашими героями. Но к сожалению, уже не раз мы замечали, что после нашего успеха обозленные фашисты будут мстить бедному городу… Так и вышло. Я угадала. В 11 час[ов] 30 мин[ут] начался очень сильный обстрел Ленинграда.
Я не говорю и не пишу о всех кошмарных случаях, о которых мне рассказывали близкие люди — свидетели их, и в правдивости которых я не сомневаюсь. Эти случаи так ужасны, что человеческая фантазия не могла бы их придумать. И при этом жизнь вечно творящая, несмотря ни на что, пробивается повсюду. Люди, не глядя на обстрелы и бомбы, работают, творят, двигают культуру, и это дает право думать о бессмертии нашего народа.
Открылась выставка картин В.М. Конашевича, чудесного художника
[235]. Собралось много народу. Было празднично и оживленно. Все любовались и наслаждались прекрасными вещами. Многие забыли, что они в осажденном городе, что кругом горе и несчастье! Вот такие чудеса творит искусство. Оно дает радость и покой.
Окончила II том моих „Записок“. Не могу судить, как он вышел. Писала я его в трудное время. Писала часто в ванной комнате. Положу на умывальник чертежную доску, на нее поставлю чернильницу. Впереди, на полочке, коптилка. Здесь глуше звучат удары, не так слышен свист летящих снарядов, и потому легче собрать разбегающиеся мысли и направить их по должному пути.
Окружающие тяжелые события и мои страдания были полным контрастом той счастливой полосе моей жизни, которую я в то время описывала и которая так давно была мною пережита. Тем труднее было писать. Надо было свои теперешние чувства и мысли держать на строгой узде».
Дневник от 15 октября 1943 года
«…Сегодня утром, до начала обстрела, успела отвезти Загурскому в Управление по делам искусств рукопись второго тома моих „Автобиографических записок“.
Вчера получила письмо с фронта от совершенно незнакомого мне лица. Письмо человека образованного и, видимо, впечатлительного и тонкого.
Письмо приятное, трогательное и дающее мне глубокое удовлетворение. Если верить этому письму и правдивости переживаемых этим человеком чувств, вызванных моим искусством, то приходишь к сознанию, что задачу, которую я поставила перед собой, — приносить народу радость своим искусством, — я разрешила. А не верить этому письму нет никакого основания. Я убеждена, что оно правдиво! Мне так этого хочется, оно меня трогает до глубины души.
Пришло еще письмо из Иркутска, такое же ласковое и трогательное, от совсем незнакомой мне гражданки. Пишет, как она любит мое творчество.
На днях несколько членов Центрального дома работников искусств прислали мне из Москвы приветствие, которое меня глубоко взволновало и порадовало. Привожу его дословно:
„Милая Анна Петровна!
Сегодня вечером, 21 октября 1943 года, собравшись на очередную „среду“ в Центральном доме работников искусств, мы слушали замечательные стихи Натальи Васильевны Крандиевской о славном героическом Ленинграде.
С особым чувством слушали мы слова о Вас. Мы были мыслями и сердцем с Вами, наша замечательная художница, мужественная женщина, подлинная патриотка.
Мы шлем Вам наши самые горячие пожелания успеха в работе, здоровья, бодрости, твердо уверенные в нашей скорой счастливой встрече.
Подписи: А. Герасимов, М. Манизер, С. Мигай, П. Кончаловский, Ник[олай] Асеев, Ник[олай] Сокольский“
[236].
Начала писать книжку о моем замечательном муже, Сергее Васильевиче Лебедеве. Мне хочется показать всю чистоту и бескорыстие его души, его страстную любовь к науке, скромность, благородную волю и энергию к достижению намеченных научных целей. Пишу и не знаю, напечатают ли? Кто и когда? Может, она никому не нужна? Но мне все равно, я пишу, а там — что будет! Я ведь знаю о многом в его жизни с его слов, о чем после меня никто не сможет сказать»
[237].
Дневник от 6 ноября 1943 года
«…Сегодня на рассвете Красная армия пошла штурмом на Киев и взяла его! Какое это счастье для всей страны! Близится конец войны. Русский народ непобедим!»
Дневник от 7 ноября 1943 года
«…Слушали речь товарища Сталина с
напряженным вниманием. Хорошо было слышно. Как она глубоко успокаивает человека, вселяет в него бодрость и уверенность в победе!..»
Дневник от 17 ноября 1943 года
«…После затишья сейчас начался, в который уже раз, обстрел города и нашего района. Зверь еще кусается! Неужели опять придется прятаться в темной передней и в ванной комнате?! Наши воины творят чудеса. Идут вперед, на запад. Взят Гомель…
Много времени провожу над картой после сообщения Информбюро, отмечаю вновь возвращенные наши города и земли. Как передать эту радость!..»
Дневник от 28 ноября 1943 года
«…Сегодня ночью над нами кружились вражеские самолеты. Стреляют зенитки. Лежишь и слушаешь. По звукам можно определить, где находится вражеский самолет и в каком направлении он летит. Если зенитки хлопают не очень близко, то самолет, его жужжание слышно над нами или близко от нас. Осколки снарядов от зениток сыплются, как горох, на крышу нашего дома.
Если зенитки ревут и хлопают совсем рядом с нами, „наши зенитки“, то мы знаем, что враг уже пролетел мимо и осколков от зенитных снарядов не будет. Эти все мои соображения (верные или нет) я вывожу из того, что зенитки стреляют под углом, а не прямо вверх…
Вчера решила оставить мастерскую и закупориться в спальне. Не хватает дров отапливать две комнаты.
На этот раз мне как-то особенно грустно оставлять мастерскую, с которой связано так много воспоминаний о Сергее Васильевиче. Мы в ней проводили вечера. Я работала, Сергей Васильевич смотрел содержимое моих папок. Здесь мы принимали наших друзей…»
Дневник от 31 декабря 1943 года
«… Последние дни этого месяца принесли мне много горя. 20 декабря умер мой милый, благородный зять Н.В. Зенгер — муж моей сестры Сони, а 28 декабря умерла моя сестра Елизавета Петровна Филоненко, моя дорогая, милая Лилинька, на десять лет меня моложе, которую, когда она была крошкой, я часто носила на руках. Окончив Бестужевские курсы (физико-математический факультет, по химии), она всю жизнь трудилась в этой области. В 1915 году, будучи уже замужем, вместе с Сергеем Васильевичем она работала по получению толуола для военных нужд страны, а с 1917 года была одним из первых ассистентов Сергея Васильевича по кафедре общей химии в Военно-медицинской академии. Она рано овдовела.
Сегодня ее похоронили. Смерть пришла к ней внезапно, неожиданно (кровоизлияние в мозг)…
Я не встречала Новый год. После похорон сестры ко мне приехала ее дочка, Мария Евгеньевна Владимирская, со своей крошкой Наташенькой. Они у меня ночевали. Их пребывание, особенно присутствие ребенка (6 лет), меня отвлекало от тяжелых дум.
Как становится пусто вокруг! Где все? Куда ушли? Сергей Васильевич, Адя, Нина Викторовна Хлебникова, мои милые, талантливые ученицы — А.Д. Чернова, Е.С. Иоаниди?! Где они? Грустно и хочется плакать. Но не надо себя жалеть. Это пустое дело. Надо работать…»
Дневник от 2 января 1944 года
«…Сегодня, в 7 часов утра, начался обстрел города. Наша артиллерия его моментально подавила. В 11 часов начался опять обстрел из других батарей и продолжался больше часа, но тоже был подавлен. Один снаряд упал на тротуар около сада напротив нашего дома. Был сильный грохот. В это время по этому тротуару шли две девочки — Люся Перлова и Светлана Курочкина, возвращаясь из школы. Светлана упала, и рядом с ней упал большой осколок. Она осталась невредима, и Люся тоже. Какое счастье! Такие милые девочки. Люся живет на нашей лестнице, а Светлана рядом в доме.
За время блокады я познакомилась со многими детьми нашего и соседнего домов. Люся и Юра Перловы, Светлана и Алик Курочкины, Вова Куркин и некоторые другие — от 6 до 9 лет. От времени до времени они посещали меня, декламировали мне стихи, пели хором песни, танцевали… Чтобы их позабавить, я написала для них рассказ „Ласточка“ и прочла им. Он очень им понравился. Они выпросили его у меня, чтобы снести в детский очаг, куда они уходили на целый день. Руководительница всем детям прочла его, после чего вся детвора приходила меня благодарить. Так как я не могла всех их принять у себя в моей маленькой комнате, встреча наша и знакомство произошли, несмотря на мороз, на воздухе, около нашего дома. Детвора была трогательно мила. Так они меня целовали, обнимали, ластились ко мне. Такие были у них ясные, милые рожицы. Долгое время потом, когда я шла по улице в своем районе, часто какие-то мальчики и девочки здоровались со мной. Я догадывалась, что это мои новые маленькие друзья».
Дневник от 4 января 1944 года
«…Сегодня вскочила утром с кровати, будто кто меня сорвал с нее. Удар! Один, другой, третий! Совсем близко. По звуку можно заключить, что снаряд во что-то попал и совсем близко! На дворе было еще темно. Кое-как торопливо оделась и бросилась в холодную переднюю. Там надела шапку, шубу и стояла ошеломленная этим натиском обстрела и летящими снарядами.
Через полчаса он прекратился. Первый удар был без двадцати минут восемь утра.
И какой потрясающий кошмар! Второй снаряд попал в трамвай из трех вагонов, переполненных до отказа, так как он вез рабочих после ночной смены. Что только было! И все это происходило через два дома от нас, на углу Нижегородской улицы и Лесного проспекта. Огромное количество убитых и раненых.
А около 10 часов утра фашисты пустили снаряд в другой трамвай и тоже все превратили в кашу. Это произошло на Выборгской стороне, около Гренадерского моста. Фашистские варвары сознательно уничтожают гражданское население города…»
Дневник от 14 января 1944 года
«…Мы догадываемся, что войска Ленинградского фронта перешли в решительное наступление. Все мы переживаем чрезвычайное душевное напряжение. Кругом города без перерыва сверкают и вспыхивают огни от выстрелов нашей артиллерии.
Я, Юлия Васильевна и Нюша выходили ночью во двор и смотрели на эту величественную и волнующую картину.
Небо над головой было темное, глубокое, усыпанное сверкающими звездами. Спокойное и радостное. А в сторону Лигова, ниже к горизонту, оно было сплошь в огне. Бушевали языки пламени. Взлетали и падали яркие ракеты. Бегали и шныряли длинные лучи прожекторов. Иногда они медленно проходили по всему небу, иногда нервно и трепетно упирались в одну точку и потом вдруг быстро убегали в другую сторону.
Грохот и гул наших орудий сотрясал воздух. Стекла звенели и дребезжали. Дрожали и тряслись дома…»
Дневник от 18 января 1944 года
«…Все последние ночи и дни продолжается артиллерийская канонада. Даже днем, при ярком свете, дома с западной стороны освещались отблесками выстрелов. Вспышки пламени озаряли небо, заставляя бледнеть дневной свет. Было жутко. Всю ночь 16 и 17 января падали вражеские снаряды и разрывались в центре города. Снаряды падали на Невском и Садовой. Госпитали переполнены ранеными военными. От них идет молва, что наши дела хороши».
Дневник от 19 января 1944 года
«…Идет обстрел Выборгского района. Снаряды падают совсем близко. По радио запрещено выходить на улицу. Трамваи стоят, так как выключают электрический ток. Так теперь это делают. А прежде вагоновожатые должны были, услышав обстрел, сами останавливать вагоны. Но за шумом трамвая они, не слыша выстрелов, продолжали ехать, при попадании в него снаряда происходила массовая гибель людей.
Опять сижу в ванной комнате. Доска на умывальнике, и я работаю. Признаться сказать, беспорядочно и невразумительно. Обстрелы очень выбивают из колеи мои намерения и мысли. Все сбивается в голове в какой-то запутанный клубок. К этому нельзя привыкнуть. Невольная дрожь охватывает меня. Щемит сердце. Ждешь каждую секунду снаряда, который окончит твою жизнь.
Благодаря закупоренным окнам свиста снарядов не слышно, а ведь слышать свист снаряда ужасно омерзительно. Зато удар совершенно неожидан, так как противник стреляет дальнобойными орудиями, выстрелы которых, за дальностью расстояния, не слышны.
Обстрел продолжался от 10 час[ов] 40 мин[ут] утра до половины третьего. А в три опять начался, но было только четыре выстрела.
Утренний обстрел нашего района сосредоточился на территории Военно-медицинской академии. Там много повреждений, но жертв нет, так как те помещения, которые разрушены, были пусты.
Сейчас идет обстрел. Уже спускаются сумерки, а я и не видела дня, сидя в ванной комнате.
Вечернее сообщение Информбюро: прорыв фронта около Ленинграда.
Какое счастье! Я плакала от радости.
Мы угадали: наше наступление началось в 9 час[ов] 30 мин[ут] утра 14 января 1944 года. Движение и наступление ленинградских войск началось с „пятачка“, то есть от Ораниенбаума, куда задолго переправлялись, незаметно для фашистов, наши войска, орудия и припасы. Собрав крепкий кулак, они неожиданно ударили по врагу. Одновременно с Пулковских высот их поддерживали наши артиллеристы, а потом выступила и пехота, переправленная туда на самолетах.
Через пять дней наши герои взяли Красное Село и Ропшу.
Одновременно разорван фронт на железнодорожной линии Новгород — Ленинград и Новгород — Шимск. На этом, Волховском фронте прорыв произошел на 50 километров и взято 80 населенных пунктов…»
Дневник от 20 января 1944 года
«…На Волховском фронте нашими войсками занят Новгород, а также Стрельна и Лигово.
Да будет свята память о наших погибших героях. Они отдали самое дорогое для человека — свою жизнь за Родину, за наш Ленинград.
Неужели вчера, 19 января 1944 года, был последний обстрел нашего города!
Сегодня узнала, что вчера из дальнобойных вражеских орудий обстреливался Московский район — Международный проспект и Московское шоссе, по которому шли наши подкрепления на фронт. Но это последние судороги умирающего хищного зверя.
Взята неприступная Мга, которая противником так старательно укреплялась в продолжение более двух лет. Сейчас она наша…»
* * *
С 20 января обстрелов не было. Но ленинградцы так потрясены обстрелами и бомбардировками за прошедшие два с половиной года, что не могут еще вполне уверовать в то, что это страшное и кошмарное время уже миновало. Наши воины освободили измученных ленинградцев от блокады.
Дневник от 26 января 1944 года
«…Пришли замечательные дни. Красная армия беспощадно громит врага и стремительно двигается вперед, на запад, на Берлин…»
Дневник от 27 января 1944 года
«…Великий день всей нашей страны! 27 января наш героический Ленинград совсем освобожден от тисков фашистских разбойников. Весь фронт на 65—100 километров в глубину очищен.
Сегодня по радио сообщили приказ войскам Ленинградского фронта. Что после этого было! Все обнимались, целовались, кричали, плакали. Потом начался салют ленинградским войскам, освободившим Ленинград.

Какое грандиозное зрелище мы пережили! 24 залпа из 324 орудий. Орудия стреляли с военных судов и с разных концов Ленинграда — орудия у Смольного, на Марсовом поле, на Дворцовой площади и во многих других местах. Это было в 8 часов вечера. Ночь была темная. Огненные фонтаны красных, зеленых, голубых и белых ракет высоко взлетали в небо. Кругом раздавались крики „ура“ обезумевших от радости людей…»
* * *
Этим незабываемым радостным днем я заканчиваю свои «Автобиографические записки». Мой путь подходит к концу. Я счастлива, что была свидетельницей героической, победоносной борьбы и победы нашего великого народа, великого в своем терпении, мудрости и героизме.
Декабрь 1947 г.
Послесловие автора
Оканчивая свое жизнеописание, я хочу сказать несколько слов своему будущему читателю. Он может встретить у меня неточности, ошибки, будет иногда не согласен с характеристикой и оценкой мною событий и людей. Все это неизбежно. Я только хочу, чтобы мой читатель поверил моей искренности и правдивости, так как я писала и говорила то, что в то время думала и чувствовала…
Многие из молодежи меня часто спрашивают, показывая свои работы: «Есть ли у меня талант? Стоит ли мне учиться? Выйдет ли из меня художник?»
Я всегда отвечаю: «Кроме таланта, который может со временем расшириться и углубиться, необходимы и другие качества начинающему художнику — глубокая, неиссякаемая любовь к искусству, целеустремленность и способность к самоанализу. Если эти качества у вас есть — то успех вам обеспечен».
Отдаться искусству — это все равно что взять на себя подвиг, и молодой человек, посвятивший себя ему, должен от многого в жизни отказаться, чтобы сохранить свежесть ума и чувства для творческой работы. Он должен себя развить и воспитать. Приучить себя внимательно и чутко относиться к окружающей жизни, к ее проявлениям. Стараться понять непреложные законы окружающей природы, человека, животного, родного пейзажа.

Молодой художник должен изображать природу искренне, правдиво, реально, учась рисунку, форме, светотени и колориту, то есть учась грамоте искусства.
Вырабатывая свои собственные приемы, молодой художник дает своему творчеству качества непосредственности и самобытности, олицетворяющие художника как личность.
Это я говорю по собственному опыту, так как прошла тяжелый путь становления себя как художника. Приходилось преодолевать большие трудности и, казалось, непроходимые преграды и в бытовом отношении, и в области искусства.
Искусство мое шло по двум путям. Один путь — гравюра, другой — живопись, и главным образом акварельная, так как масляной живописи я не могла переносить, после того как однажды от свежих этюдов маслом заболела свинцовым отравлением. Не имея возможности работать масляной живописью, я перешла на акварель.
Первый путь, путь деревянной гравюры и ее техника, мне дался легко, несмотря на то что в оригинальной черной и цветной гравюре я была новатором, совершенно отрицавшим хотя и художественную, но репродукционную тоновую гравюру, передававшую чужое творчество.
Путь же акварельного искусства был для меня более труден, так как приходилось преодолевать в нем своеобразную и незнакомую технику, постепенно отходя от подкрашенного рисунка к самодовлеющей, полноценной акварельной живописи.
И в ней я шла по пути широких обобщений, не отходя от реального понимания окружающего мира. И хотя в некоторой степени я и достигла намеченной цели, но теперь, подходя к концу моего жизненного пути, я ясно вижу, что многого еще не знаю. Но я глубоко поняла, что художник должен учиться до конца своей жизни, совершенствоваться и двигаться вперед.
Приложения
Приложение I.
Фрагменты из рукописи А.П. Остроумовой-Лебедевой «ПУТИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА»
Поездка из Парижа в Италию в 1899 году
Хочу рассказать, как в конце марта — в начале апреля месяца я, Анна Евгеньевна Писарева, и Евгений Евгеньевич Лансере уехали в трехнедельное путешествие по Италии. Об этом первом путешествии в Италию из Парижа я упоминаю потому, что оно одарило меня бездной новых прекрасных впечатлений, которые я увезла с собою на родину.
С огромным напряжением ждали мы отъезда в Италию. Уистлер отпустил меня в это путешествие с условием, что оно будет непродолжительным. Я готовилась в первый раз увидеть Италию и море, настоящее море.
Ехали: Анюта Писарева, Евгений Евгеньевич Лансере и я. Прибегали к строжайшей экономии, урезывая себя во всем, чтобы осуществить поездку. Распределили между собою города, которые решили заранее изучить. Рим взял на себя Евгений Евгеньевич, Геную — Анюта, а я — Флоренцию. Изучали план города, его достопримечательности, галереи, музеи, чтобы исполнять в этих городах роль гидов.
Билет стоил 63 франка от Парижа до Рима, с правом езды по всей Италии в продолжение трех недель. Этот поезд отходил раз в год, в страстную католическую среду, с тем чтобы в Риме быть в пятницу. Он вез главным образом паломников и небольшое число таких молодых и неимущих туристов, какими были мы в то время.
Поезд отходил вечером. Он был очень длинный и состоял из старых вагонов с отделениями и боковыми дверцами и был набит до отказа. Мы попали в отделение, наполненное итальянцами, главным образом натурщиками и натурщицами. Некоторые были одеты в свои национальные костюмы.
Живая, хохочущая молодежь. Они тотчас же подняли веселую возню. Щипки и дружеские шлепки так и сыпались со всех сторон. В воздухе повис запах чеснока и пота. Затиснутые в переполненном купе, ошеломленные шумом, гамом и ярким светом, который, ничем не заслоненный, резал нам глаза, мы рядышком смирно сидели и тихо переговаривались. В таких условиях надо было провести всю ночь.
Но вот нам явилась удачная мысль: мы прикрепили к краю верхней полки раскрытые газеты. Они, спускаясь вниз перед нашими лицами, скрывали нас от света и надоедливых соседей, и хотя газеты шуршали и хлопали по носам, они давали иллюзию «отдельного» купе.
Утром, на одной из остановок, все пассажиры высыпали из поезда, окружили цистерны с водой и стали мыться, плескаться, брызгать друг на друга и весело смеяться. Изредка между ними мелькала фигура молодого англичанина или американца с мисс, которые тоже стремились помыться, избегая попасть в веселую перестрелку.
Кондукторы итальянцы добродушно уговаривали сесть на свои места, отечески брали за рукава расшалившихся пассажиров и вели их в вагоны, запирая двери. Но как только они отходили и собирались пустить поезд, снова отворялась дверь и кто-нибудь выпрыгивал. Кондукторы без устали кричали: «Партенца, партенца!» — бегали и закрывали все время отпираемые двери. Наконец поезд удалось отправить в путь.
На пограничной станции (Модана) — осмотр багажа. Там мы пили кофе — «кофе лато»
{5} — по правде сказать, невкусное.
Поезд почти нигде не останавливался, только чтобы забрать воду и топливо, и не принимал новых пассажиров.
Ночью перевалив через горы, утром мы начали зигзагами спускаться в Италию. Перед нами открывались, постоянно меняясь, дивные, поразительные пейзажи.
Мы ярче стали чувствовать весну. Нам казалось, что с каждой сотней километров она быстро бежит нам навстречу.
Никакие слова, самые восторженные и горячие, не смогут передать того чувства восхищения и возбуждения, которое охватило нас, когда поезд, круто повернув, поехал по берегу Средиземного моря. Мы ни на одно мгновение не могли оторваться от окна, боялись что-нибудь пропустить из волшебного мира, который простирался перед нашими глазами.
Голубое, лазурное море, тихое и благожелательное. Над ним — небесный купол с легкими, пушистыми облачками.
А по берегу — рассыпанные домики вилл, деревушек и ферм. Все тонуло в фруктовых садах. Персики, миндаль были в полном цвету. Скоро в руках у нас появились миндальные ветки. Я с восторгом рассматривала нежные, незнакомые цветы. Ароматный воздух врывался в наш душный вагон. Почти весь день поезд шел по берегу моря, и иногда так близко от воды, что запах его доносился до нас и прибой волн мешал нам слышать друг друга.
В пятницу, 26 марта, мы приехали в Рим. Рим, о котором я так много мечтала! И эта мечта осуществилась.
Поезд пришел очень рано. Высадил нас где-то на окраине города, и нам пришлось довольно долго идти и нести наши вещи. Я кряхтела и конфузилась. Анюта меня подбадривала, говоря: «Ты только делай веселое лицо, делай вид, что тебе легко, приятно и весело нести. Тогда все будет прилично».
Поселились мы в скромной гостинице, делили все расходы между собой поровну. С первого дня необычайная жажда видеть и боязнь что-либо упустить всецело овладели нами.
Мы с утра уходили из дому и возвращались только поздно вечером, до конца утомленные физически и отягощенные бесконечным количеством художественных впечатлений. Ложились быстро спать, чтобы с утра продолжать нашу упоительную жизнь.
Мы очень торопились. Неисчерпаемый, всеобъемлющий город надо было нам осмотреть в каких-нибудь 9—10 дней. Мы тонули в калейдоскопе разнообразных впечатлений. Без остановки новые образы перегоняли только что воспринятые, и не было времени в них разобраться и глубоко обдумать. Это откладывалось на будущее, более спокойное время, когда явится возможность вызвать из недр памяти и спокойно все пережить и углубить.
Мы не выходили из состояния крайнего возбуждения и экстаза — так сильно действовали и самый город, и бесчисленные произведения искусства, переполнявшие его. С первого же дня Рим стал неуклонно простирать на нас свое очарование. Из-за сложности города мы не могли скоро получить ясное и отчетливое представление о нем. Нарастание разных эпох и истории его бытия очень сбивало и запутывало ознакомление с ним. Трудно было представить цельную картину античного Рима. Памятники того времени были вкраплены в позднейшие эпохи. Мы видели Форум, Пантеон, термы Каракаллы, Колизей и развалины Палатина. Творческий архитектурный размах в этих сооружениях был грандиозен и тесно, органически связан с величием окружающей природы.
* * *
Приехав в Рим на Страстной неделе, мы первым делом направились в собор Св. Петра, чтобы видеть пасхальную католическую службу. Пришли к собору рано. Двери были еще заперты, но обширная площадь перед ним была заполнена ожидавшей толпой. Мы хотели подойти к обелиску, но не могли туда протолкаться, так тесно стояли люди.
Наконец, высокие двери распахнулись, и в несколько минут громадная площадь опустела. Она вся вошла в собор.
Собор внутри произвел на меня очень величественное и гармоничное впечатление соразмерностью своих частей и соотношением высоты к величине занимаемой площади.
Присутствующие в соборе люди, как я заметила, не очень были сосредоточены в молитве. Все больше смотрели по сторонам, и только при звуке колокольчика спешили наклонить голову и торопливо крестились. К нам подошел причетчик и предложил показать достопримечательности собора, часовен его и, конечно, не пропустить бронзовой статуи апостола Петра, у которого благочестивые люди слизали поцелуями большой палец ноги.
Папу мы так и не увидали, но имели возможность смотреть на длинную процессию кардиналов, которая вошла в собор и обошла его вокруг.
Наружность кардиналов особенно привлекла мое внимание. Среди них было много толстых, с обрюзгшими лицами, с большими животами. Они шли попарно… Их белые пелеринки с обшитыми вокруг кружевами, облегавшие их плечи, еще резче выделяли полнокровные, упитанные лица. Кстати, упомяну здесь, как нас удивляло в Риме то количество духовенства, монахов и семинаристов, которое мы встречали на улицах.
Повсюду мелькали черные рясы католических патеров и разноцветные — семинаристов. Семинаристы были одеты по странам: немцы и венгры имели ярко-красные сутаны, французы и англичане — черные, шотландцы — лиловые с красными поясами и т. д.
Приведу здесь коротенькое письмо домой, моему отцу, от 27 марта 1899 года, написанное непосредственно после посещения Св. Петра.
«Здравствуйте!
Я второй день в Риме. Пишу на площади перед Св. Петром, где завтракала вместе с Анютой и Лансере. Только что поднимались на самый купол собора! Смотрели на весь Рим! Воздух необыкновенный! Пахнет пальмами, апельсинами и кипарисами. Вчера были в Колизеуме, на Форуме и… в парадном кафе на Корсо. Сейчас идем в Ватикан. Мой привет всем».
После мессы в соборе мы решили осмотреть Сикстинскую капеллу и станцы Рафаэля. Когда подошли к лестнице, ведущей в покои Ватикана, мы увидели стражу, стоящую у ее подножия. Четыре статных молодца, одетых в старинную одежду швейцарских ландскнехтов. Их казакины и свободные короткие шаровары состояли из желтых и черных крупных полос. Рукава и штаны — с раструбами. У запястья рук — кружевные манжеты, на шее — такие же воротники. Большие шляпы с широкими полями, украшенные страусовыми перьями, довольно низко опускались на их лица… Если бы я себя спросила, что больше всего меня поразило и что наиболее ярко осталось в памяти из моей первой поездки в Рим, то я затруднилась бы ответить. Многое потрясло до глубины души, и я чувствовала, что эти впечатления останутся незабываемыми на всю жизнь.
Два художника встали передо мной как недосягаемые вершины человеческого духа: Микеланджело и Рафаэль.
«Страшный суд» и плафоны Сикстинской капеллы Микеланджело совершенно ошеломили меня величием и могучим темпераментом, которыми дышали эти вещи. «Страшный суд» вызвал во мне ужас.
Статуя пророка Моисея врезывалась в память своим библейским величавым обликом, мы приходили на нее смотреть несколько раз, пока были в Риме.
Рафаэля я созерцала с искренним чувством преклонения и восхищения. Глубина, грация и что-то неизъяснимо прекрасное и благоухающее было разлито во всех его произведениях. Особенно мне нравилась «Афинская школа» и некоторые его мадонны.
Из архитектурных памятников наиболее сильное чувство вызывал во мне Колизей. Мы были в нем днем, но также посетили его и ночью, при свете луны. Когда мы пришли поздно вечером, было полное безмолвие. Он казался необъятным и таинственным. Устои и арки нижней, наружной, галереи бросали на освещенный луной каменный пол резкие полосы теней, и казалось, что идешь по какой-то фантастической, бесконечной лестнице.
Внутренность Колизея — арена, где погибали христиане от диких зверей, и возвышающиеся вокруг нее открытые галереи с одной стороны были ярко освещены луной. Тем темнее и глубже, по контрасту, казались их неосвещенные места.
Мы решили подняться на самый верх. Это было небезопасно ночью. Взяли проводника. Он дал нам зажженные факелы и повел по галереям и аркадам. Мы шли по обломанным лестницам с недостающими и обсыпающимися ступенями. С обеих сторон лестниц зияли темные провалы. Проводник на ломаном французском языке просил следовать за ним гуськом, не отступая в сторону.
Наконец мы достигли верхней галереи. Она была без крыши и ярко освещалась полной луной. Низенький, полуразрушенный барьер ограждал ее наружный край. Мы на него уселись, свесив над бездной ноги. Анюта, испуганная необъятным пространством, открывшимся перед нами, огромной вышиной, бросилась ничком на каменный пол, закрывая лицо руками.
Перед нами, внизу, виднелись арки Константина и Тита, за ними — Палатин, несколько правее рисовались развалины Форума, а дальше, еще правее, — базилика Константина. За спиной виднелась старинная церковь Св. Климента. Мы днем любовались в ней мозаиками XII века. А дальше вокруг светились огни и легкими чертами рисовались здания Рима.
Долго сидели мы наверху и смотрели, как ночь расстилалась над древним городом. Думали о его истории, о событиях, потрясавших Рим.
Мысли и чувства нас захватили, и мы все сидели, пока ветерок и предутренняя прохлада не прогнали нас домой.
Посещать и осматривать все церкви, украшенные художественными произведениями, у нас не было времени. Не помню, почему, вероятно случайно, мы попали в одну подземную церковь монахов ордена капуцинов. Мы спустились в нее в сопровождении одного из них. Перед нами открылся ряд часовен без дневного света. Вдоль их стен земляной пол был разделен на отдельные места длиною в человеческий рост. По словам монаха, здесь была насыпана иерусалимская земля. В ней хоронились капуцины. Когда умирал один из них, то вынимали кости предыдущего, чтобы дать место вновь умершему. Стены и потолки были выложены причудливым орнаментом из этих костей. Люстры из черепов и тазовых костей спускались с потолков на длинных бедреных костях. Вдоль стен лежали или стояли скелеты монахов. На некоторых из них кое-где еще сохранились полуистлевшие куски коричневых ряс, а на черепах местами висела иссохшая кожа и виднелись клочья волос.
Монах хвастливо показывал эти кости, говоря, что уже четыре тысячи монахов здесь похоронено. Он, не торопясь, собирался вести нас дальше, но мне было довольно. Все окружающее не возбуждало во мне ничего, кроме отвращения и даже негодования. Я резко высказала это монаху и просила его разрешить мне одной уйти из этого подземелья, так как оба мои товарища хотели продолжать осмотр.
* * *
Мы ездили и за город. Посетили виллу Адриана, виллу Мадама, виллу д’Эсте. Вот выдержка из моего дневника от 28 марта 1899 года:
«…Наконец мы выбрали свободный день для поездки в окрестности Рима. Решили сначала отправиться в Тиволи и по дороге заехать в виллу Адриана. Она замечательна не только тем, что есть остаток древнего мира, но и своей живописностью, кипарисовыми аллеями и оливковыми рощами. Утро было теплое, даже почти жаркое. Отправились мы на паровичке, который шел почти со скоростью поезда. Вагоны очень удобные, чистенькие, с большими окнами. Быстро промелькнули мимо нас окраины Рима с шумом, криком и пылью, и мы понеслись по Кампанье, по зеленой равнине, с кое-где одиноко стоящими кипарисами, с маленькими редкими каменными домиками…»
Подъезжая к вилле, мы увидели, что небо покрылось темно-синими дождевыми тучами. Каждую минуту мог пойти дождь. Быстро, торопясь, осмотрели прекрасные мраморные, но невнятные обломки когда-то чудной виллы. Помню изящный бассейн, где купался император Адриан. Возле лежали обломки мраморных капителей, орнаментов, ступеней, между ними виднелись остатки прекрасной мозаики.
Тучи совсем низко надвинулись на нас, и стал накрапывать дождь. Мы сначала спрятались в полуразрушенные мраморные ниши. Воспользовавшись остановкой, я пыталась на крошечных кусочках холста набросать этюды
{6}.
Дождь затягивался, и мы решили не оставаться в вилле, а ехать в Тиволи, как у нас заранее было решено. У ворот виллы нашли виттурино с поднятым верхом, под который мы и забрались все втроем, спасаясь от лившего сильно дождя. Помню, как мы медленно поднимались вверх по проселочной каменистой дороге между обширными посадками олив. Кривые, золотисто-рыжие стволы были очень красивы в сочетании с голубовато-серой листвой. Узкие, мокрые листья блестели от дождя, и на остром конце каждого висела тяжелая капля.
Не останавливаясь в городке Тиволи, мы прямо подъехали к воротам виллы д’Эсте. Пройдя пустые залы дворца, быстро вышли в отворенную дверь и неожиданно оказались на верхнем балконе, откуда две лестницы спускались в сад. О, какой дивный вид! Аллеи парка террасами тянулись вдоль крутого холма, соединяясь между собой живописными лестницами. Аллеи были засажены густыми шпалерами тиса, лавра и вечнозеленых растений. Многочисленные фонтаны выбрасывали обильные струи воды в изумрудные бассейны. Темные, величественные кипарисы сгруппировались в центре, в самом низу.
Мы быстро сбежали вниз и бросились в мокрые благоухающие аллеи. К нашему счастью, дождь прекратился.
Весь парк стоял омытый дождем, и густой, терпкий аромат исходил от него. Пахло землей, мокрой зеленью, розами, жасмином и лавром.
Незабываемые минуты провели мы в этой вилле, и мне кажется, что человек не может не стать лучше среди такой упоительной природы. Насладившись виллой, бегло осмотрели древний маленький городок Тиволи, прелестный храм Весты и знаменитые каскады. В этот день вернулись домой вконец утомленные, но в полном блаженстве от созерцания такой волшебной природы.
На следующий день, 7 апреля, мы с сожалением уехали из Рима во Флоренцию, заехав по дороге в Сиену. В Сиене пробыли от утра до вечера. Помню, какое сильное впечатление произвел на меня Сиенский собор. Красоты совершенно изумительной. Особенно внутри. Сочетание белого мрамора, который от времени приобрел теплый оттенок желтовато-розового цвета, с чередующимися полосами черного, бархатистого, было неожиданно и прекрасно. Когда смотрели на странные полосатые пилястры, колонны и столбы, казалось, что по ним течет жизнь, что они дышат. Бег черных полос мрамора вызывал это впечатление. Много времени мы провели там. Без конца любовались на его «граффити» — пол, покрытый белым мрамором, на котором знаменитыми мастерами был начертан рисунок композиций из священной истории. Линии его были вырезаны и выложены черным мрамором. Необыкновенно и очень красиво.
В библиотеке собора видели чудесные фрески Пинтуриккьо
[238]. Потом бегали по городу и сидели на знаменитой Пьяцца-дель-Кампо. Эта площадь напоминает античный театр, который со всех сторон к центру круто понижается.
Во Флоренции опять новые впечатления нахлынули на нас. Город был заполнен цветами. Во дворцах, садах, свисая с каменных оград фонтаном розовых, белых, бледно-желтых цветов, везде-везде цвели и благоухали розы.
Флоренция казалась мне драгоценной чашей, наполненной до краев великолепными произведениями искусства. Сравнительно небольшой город давал очень яркое и внушительное впечатление былого величия и могущества. Его многочисленные дворцы родовитых и богатых фамилий, часто затиснутые в узкие улицы, оставались блестящими памятниками эпохи Возрождения. Построенные из больших, частью снаружи необтесанных камней, с очень толстыми стенами, глубокими нишами окон, некоторые из них скорее напоминали крепости, а не жилые дома. Замечательно выдержанная пропорция их частей в целом, дивно обработанные детали украшений окон и входов, карнизов и барельефов делали эти дворцы великолепными архитектурными произведениями.
Какая красота — площадь Синьории! По ней проходил Данте. Здесь Савонарола
[239] жег и уничтожал книги и произведения искусства и сам на ней был сожжен на костре.
С одной ее стороны — палаццо Веккио, такое суровое и внушительное, и рядом — лоджия Ланци. Под ее аркадами — изумительные скульптуры выдающихся мастеров, и среди них такие, как Верроккио, Донателло и Бенвенуто Челлини
[240]. Здесь, во Флоренции, особенно Донателло произвел на меня впечатление дивного мастера. Его простота и тонкость, острота и глубина чувства и понимание человеческого лица и фигуры — изумительны. Что может быть выше его Св. Георгия в большом шлеме, статуи Гаттамелаты или терракотового бюста мужчины? А от его Иоанна Крестителя мальчиком (Джованнино) я была в совершенном восторге
[241].
Посетили мы собор и баптистерий с великолепными дверями, на которых барельефы Гиберти и Пизано — красоты и тонкости удивительной. Были в Академии искусств, где видели произведения Микеланджело, любовались его знаменитым Давидом. Дивная вещь. По моим понятиям — лучшая из всех его произведений. Посетили собрания Уффици и галерею Питти
[242].
Среди живописцев — целая плеяда звезд первой величины сияла когда-то на небосклоне Флоренции. Кроме Рафаэля и Леонардо, блистали Боттичелли, Филиппино и Филиппо Липпи, Гирландайо, Поллайоло, Мазаччо, Фра Анджелико да Фьезоле, Перуджино, Джорджоне и многие другие
[243].
Я увидела картины такой драгоценности и совершенства, что была совсем подавлена. Чрезвычайно остро чувствовала свое ничтожество. Я казалась себе маленькой соринкой перед большими вершинами. Я думала: «Какие же должны были быть люди, чтобы создать такие вещи!» Я вспоминала при этом слова моего учителя Уистлера. Он говорил, что, кроме всех совершенств композиции, красоты колорита, форм и рисунка, кроме фантазии и мысли, громадное значение в картине имеет ремесло. Каким высоким ремеслом в своих произведениях обладали эти художники! Какая поверхность картин! Какой гибкой кистью для изображения своих образов владели художники.
Не могу передать всего того, что я там пережила и перечувствовала, находясь постоянно в приподнятом настроении от созерцания всех красот этого города и его собраний. Мы здесь тоже очень торопились, так как этому городу определили только пять дней.
Еще один неприятный случай отнял у нас драгоценное время. На второй день пребывания во Флоренции мы как-то остановились на перекрестке и все втроем стали рассматривать карту города. Анюта держала книжку Бедекера с картой и свой и мой паспорта. К нам подошел какой-то молодой человек. Он заговорил по-русски и стал объяснять, как нам пройти, показывая по карте, и потом поспешно ушел. Когда мы двинулись дальше, мы увидели, что оба паспорта исчезли. Мы сразу сообразили, что он их украл, бросились вдогонку, но он уже исчез. Проделано это было очень ловко, да и мы были большие простофили. Пришлось несколько раз ходить в посольство.
Несмотря на такой короткий срок, мы успели осмотреть главнейшие галереи и достопримечательности города. Проходили много раз по Понте-Веккио, по набережной Арно, ездили по Виале деи Колли и любовались видом на Флоренцию. Ездили во Фьезоле. Из бытовых явлений я упомяну об одном, которое осталось у меня в памяти мрачной картиной. Мы довольно поздно бродили по городу, когда встретили чьи-то похороны. Процессия тихо двигалась по темной улице, лошади были в черных попонах, гроб и балдахин над ним были тоже темных цветов, вокруг гроба шли люди в черных балахонах, с черными масками и в руках несли фонари на высоких палках.
Очень мрачное и жуткое чувство охватило меня.
12 апреля мы выехали из Флоренции, направляясь на север, в обратный путь. По дороге на день остановились в Пизе. Видели беломраморный собор и баптистерий. Поднимались на верх круглой башни (Кампаниллы), известной тем, что она отклонена на 4 метра и 30 сантиметров от вертикальной линии. Знаменитый Галилей всходил наверх и оттуда бросал предметы, делая наблюдения над притяжением земли. Очень странное впечатление производит она.
Посетили Кампо-Санто, знаменитое кладбище
{7}. Любовались фресками Беноццо Гоццоли
[244]. Великолепный мастер. Интересно было посмотреть подробно его произведения во всех их деталях. Тогда встает во весь рост художник. Он умиляет своей наивностью и удивляет необыкновенной наблюдательностью. Фреска неизвестного художника, изображающая «Триумф смерти», мне не понравилась.
К вечеру отправились дальше и утром приехали в сверкающую Геную. Город раскинулся амфитеатром, постепенно поднимаясь вверх. Многочисленные мраморные дворцы, лестницы, балюстрады были ослепительны на солнце, ярко выделяясь на темной растительности садов. Перед многими окнами высоких домов находились рамы с натянутым белым холстом. Они отражали дневной свет в темные комнаты.
После Рима и Флоренции нам не хотелось смотреть картинные собрания Генуи. Нас больше влекла пышная природа: весна была в полном блеске, а главное, море, которое я видела впервые в жизни (я не считаю Финский залив).
Пройдя город по его узким и темным улицам, мы быстрыми шагами направились в порт. Здесь шум, движение, мелькание людей разных рас и племен. Но нас тянуло к себе море, живое море, волны которого с силой набегали на мол и, ударяясь об него, разбивались пеной и брызгами, взлетая высоко в воздух. Мы бросились искать кого-нибудь, кто бы взялся на лодке вывезти нас в открытое море. Мы хотели еще ближе, осязательнее почувствовать незнакомую великую стихию, ее силу и могущество.
Старый матрос в маленькой клеенчатой шапочке, из-под которой выбивались со всех сторон седые, упрямые кудри — старый морской волк, — взялся прокатить нас в открытое море. Он помог нам перебраться в свою старую лодку, пахнувшую рыбой и морскими водорослями и кое-где блестевшую рыбьей чешуей, и направил ее к выходу из порта.
Не успела я оглянуться, как нас стало сильно качать. И чем дальше, тем больше. Я очень испугалась, когда наша лодка стала прыгать по крутым волнам, темно-зеленым в глубине и с белыми гребешками пены наверху.
Ничего не говоря, я в ужасе уцепилась руками за борт, стараясь не сползти со скамьи, и только взглядывая на лицо старика, я успокаивалась: столько в нем выражено было спокойствия и уверенности. Его светлые, глубоко сидящие глаза сурово и прямо смотрели перед собой, он изредка оглядывался назад, чтобы направить ладью к выходу в море. Анюта заболела и легла на дно лодки. Я очень старалась не показать на моем лице малодушного страха, которым я была охвачена, а Евгений Евгеньевич все просил матроса ехать дальше и дальше. Впереди я видела только пугавшую меня вздымавшуюся массу воды, в которую мы то сваливались вниз, то взбирались наверх, и, когда Евгений Евгеньевич предложил мне обернуться и взглянуть на ослепительную красавицу Геную, я ответила: «Мне некогда». — «А чем вы заняты?» — «Я боюсь», — был мой не очень разумный ответ.
Наконец, матрос сам решил повернуть лодку обратно, сказав короткое «баста».
Когда мы подъехали к пристани и пришлось выходить из лодки, мне надо было сделать усилие, чтобы разжать пальцы, так крепко и конвульсивно во время поездки держалась я за борт лодки и рукав Евгения Евгеньевича.
Генуя была последним городом, откуда мы, не останавливаясь нигде, прямо ехали в Париж. Трехнедельный срок кончался 14 апреля.
«…Только что вернулась из путешествия по Италии. Боже мой, как я была счастлива все это время. Боюсь, что мне придется расплачиваться в будущем за мою счастливую жизнь этой зимы. Ведь не заслужила я этого ничем, а пользуюсь счастьем, наслаждаюсь, живу и дышу. Такое дивное путешествие трудно себе представить: спокойна душой, совсем свободна; страстное желание все видеть и прекрасные, добрые товарищи делали путешествие мое какой-то радостной прогулкой. Помню я, как мы в Генуе, выйдя поздно вечером из ресторана, пошли бродить по городу, который, незнакомый для нас вообще, ночью казался особенно причудливым и странным. Очень узкие улицы с высокими-высокими домами переплетались, путались и пропадали в темноте. Фонари тускло горели, и только какими-то гигантскими крыльями неведомых птиц таинственно белели и шевелились холсты, натянутые перед окнами домов. Вот подходим под темную арку, откуда спускаются кривые ступени в глубокую, молчаливую улицу. Все спит, нигде ни огонька. Осторожно сходим мы неверными шагами по крутой узенькой лестнице и бредем по улице. Она так узка, что мы, прижавшись друг к другу, боимся прикоснуться к холодным, темным камням ее стен.
Вот какая-то запоздалая пара пожилых итальянцев плетется домой: старуха ведет под руку дряхлого, сгорбленного мужа и мельком, равнодушно взглядывает на нас. А мы медленно идем все дальше и дальше… Мы даже не говорим между собой, а молча, знаком или движением, показываем друг другу то какой-нибудь оригинальный барельеф над грязной дверью, то статую, то открывающуюся перспективу какой-то незнакомой улицы, то полуразвалившуюся
арку.
Дивно хорошо! Вот какие-то оригинальные ворота — мы входим в них, и перед нами открывается заброшенный итальянский двор. Вокруг него идет колоннада, а над нею возвышается дом с темными заколоченными окнами, с вывалившимися камнями, весь облупившийся, покинутый. На земле лежат громадные обломки колонн, капителей, громоздясь один над другим и свидетельствуя о старом, дряхлом состоянии всей этой постройки. Над ней расстилается южное небо, и вся эта развалина с темными аркадами, уходящими вниз ступенями, с таинственно белеющими обломками, с блуждающими голодными котами навевает на нас мысли о том старом времени, когда дом этот и двор сверкали белоснежным мрамором, на дворе был фонтан, а на галереях ходили красиво и пышно одетые дамы и кавалеры…
Жутко становится на душе, и мы спешим уйти. Я еще несколько раз до выхода со страхом оглядываюсь назад, как будто жду за собой погони. Дальше… Дальше…
А вот перед нами открывается большая площадь, и тоненький серп луны блестит над домами. Вокруг нас носится запах смолы, канатов, масляной краски, и мы догадываемся, что вышли к самому порту. Да вот, направо, идет железная решетка, запирающая мол, таможню и казенные здания, а за ней блестит мирное, сияющее, тихое море. Местами на площади громоздятся целые горы ящиков, груды соломы и всякого сора. Где дневное оживление? Где жизнь портового, бойкого города? Люд весь спит, с тем чтобы завтра опять начать свою трудовую тяжелую жизнь.
Вот несколько освещенных окон портовой, последнеразрядной харчевни, из которой несутся громкие крики бурного спора. Любопытство нас тянет к окну: в нем движутся оживленные фигуры заигравшихся матросов, мелькают раскрасневшиеся лица, руки в стремительных движениях. И слова, и звуки незнакомого для нас языка разносятся по воздуху…»
[245]
Август 1937 г.
Дальнейшая работа по гравюре
Лето перед конкурсом, первую его половину, я с моей сестрой Лилей и. товарищем по Академии художеств — Лебедевой Александрой Семеновной, провела в Области Войска Донского, в имении Е.П. Ефремовой.
Очень много и с упоением работала. Помню, как часами сидела на горушке над прудом и рисовала ветки, красиво висевшие над водой. Рисовала со всеми деталями, а придя домой, старалась рисунок упростить, обобщить, сохраняя характерные черты вербы, не отходя от реализма. Наблюдала по вечерам, сквозь ветки, восход луны.
Так родилась цветная гравюра «Луна». Она резана на пяти досках, но не по способу «кьяроскуро», а по моим новым живописным принципам, которые я применяла во всех последующих гравюрах.
Сейчас расскажу.
Способ «кьяроскуро» основан на том, что передаваемая натура изображена светотенью. Большей частью гравюры «кьяроскуро» режутся на трех или четырех досках, самое большее.
1-я доска, наиболее вырезанная, дает свет.
2-я доска передает полутеневые массы.
3-я доска дает наиболее темные, сильные удары.
Доски печатаются условными тонами, далекими от реализма.
Мою гравюру «Персей и Андромеда» я пробовала печатать разными тонами. Была она у меня напечатана тонами цвета сангины, потом условными зелеными или под цвет сепии. Я предпочитала «Персея и Андромеду», печатанную тонами сангины на светло-желтой бумаге.
Весь этот способ «кьяроскуро» основан на условности, а мне хотелось делать гравюры, построенные на реальном восприятии окружающего мира.
Я хотела, чтобы в гравюрах была не условность, а реализм.
В новом способе я применяла упрощение к тому, что я изображала, выбрасывая детали и все мало характерное для передаваемой природы.
С упрощением и краткостью появился стиль, который не уничтожал впечатления реализма, а создавал особенную остроту и выразительность. Беру как пример гравюру «Луна» и хочу рассказать весь процесс ее рождения.
После нескольких детальных и реалистических рисунков, когда я чувствовала, что освоила сущность и характер изображаемой природы, что как будто бы держу ее в руках, я начала упрощать этот рисунок — листву верб, кустов, стволов, дороги. Потом этот рисунок покрывала акварелью, передавая сумеречный тон всего пейзажа и характерные тона каждого предмета. Тонам этим я дала определенный рисунок, форму и контур, и тогда сняла с этого акварельного рисунка кальку, которую перевела на все пять досок, вырезая из каждой доски все, что не должно печататься.
Первая доска гравюры «Луна» печатает тон неба на всю бумагу, то есть на всю будущую гравюру. На доске только вырезана луна, которую можно оставить белой или от руки подкрасить желтоватым тоном.
Вторая доска так вырезана, что печатает только дорогу коричневым тоном.
Третья доска дает зеленый общий тон для листьев верб, травы, кустов, а все остальное должно быть вырезано.
Четвертая доска самая существенная.
Она печатает рисунок, рельеф и характер. И хотя тон ее тоже зеленый, но он гораздо темнее третьей доски.
Пятая доска печатает самым темным тоном стволы деревьев и кустов. <…>
Рисунок, акварель, акварельные краски, портреты
Возвращаюсь опять к рисунку, который, как я уже говорила, является основой всякого художественного произведения.
Я много раз думала: что такое рисунок? Какая условность: передавать предметы и их форму линией! Откуда у ребенка, в его детском возрасте, является эта способность именно так изображать предметы? Например, рисуя яблоко, ребенок передает его линией, а ведь ее, как таковой, он не видит.
Рисунок есть сочетание линий на плоскости, то есть на бумаге, на камне, на земле и т. д.
Предание говорит, что начало рисунка идет от человека, который обрисовал углем контур своей тени, упавшей рядом на стену.
Когда я собиралась зарисовать пейзаж, городской вид или какой-нибудь предмет, то первым делом карандашом в протянутой руке я в воздухе очерчивала контур приблизительно того, что намеревалась передать; при этом внимательно определяла, где приходится центр или середина намеченного мною вида. Это для того, чтобы композиционно правильно поместить рисунок на странице альбома. Точно так же намечала линию горизонта.
Этот прием, определявший охват изображаемого предмета и линию горизонта, примененный мною много раз, вошел у меня в привычку. Кроме того, этим движением я как бы отделяла себя от окружающей жизни, сосредоточивая все внимание на своей работе.
При выборе мотива в городском или сельском пейзаже для меня имела большое значение композиция, то есть равновесие и форма масс, световых и красочных пятен.
Первое правило при изображении предмета — надо стоять или находиться перед ним на расстоянии двух-или трехкратной его вышины. Начиная работу, я всегда первыми рисовала предметы переднего плана и, только установив их взаимоотношения, не вдаваясь в детали, переходила ко второму и третьему планам. Когда рисовала, то старалась одновременно смотреть не только на передаваемую часть, но на весь предмет или на весь пейзаж, как бы держа его в своем охвате.
Художник, который собирается изобразить какой-нибудь предмет, заинтересовавший его, должен, перед тем как приступить к работе, выяснить, какую задачу в ней ставит для разрешения.
Я говорю не о художнике-мастере, а о молодом художнике, ищущем своего определения.
Может быть, не «разрешать задачу» — это громко сказано, а просто выяснить для себя, что в этом предмете больше всего затронуло твое внимание, и это постараться передать художественными средствами.
* * *
Я очень счастлива, что родилась в Петербурге и что вся моя жизнь прошла в нем. Будучи ребенком, я его уже любила (Летний сад, Цепной мост — я о них говорю в I томе моих «Записок») и бессознательно чувствовала его красоту. <…>
Когда я училась в академии, мне приходилось каждый день делать большую дорогу домой через Неву, мимо великолепных зданий и памятников.
Адмиралтейство, построенное Захаровым, здание Сената и Триумфальная арка Росси, Александровская колонна, памятник Петру I — все это создавало ансамбль чрезвычайной выразительности и законченности.
И с первых моих самостоятельных шагов как художника образ родного города был уже близок и ясен моему художественному восприятию, и я стала безудержно его изображать. Величавость, строгость и в то же время простота и пленительность покоряли меня, и не только покоряли, а учили честно, точно и с любовью передавать его сущность.
Какая чарующая модель была передо мною! Никуда не уходила, а позировала художнику столько времени, сколько он хотел.
Передавая правдиво гениальные создания великих зодчих, рисунок мой становился тверже, увереннее и смелее. Изображая обширные площади с великолепными зданиями вокруг, гениальными ансамблями, уходящие вдаль набережные, я училась законам перспективы. Колонны Биржи или Адмиралтейства заставляли меня безошибочными вертикальными линиями подчеркивать стройность этих чудесных построек.
Стремилась в рисунке к точности и законченности, глубоко сознавая, что одна из характернейших черт Петербурга — Ленинграда — строгость, стройность и четкость линий. Беглый набросок, неоконченная акварель не передают его характер.
Я не уставала второй, третий раз пойти на прежнее место, чтобы с натуры проверить то, в чем сомневалась.
Фотографией не пользовалась, инстинктивно чувствуя ее скрытое коварство. Однажды я попробовала воспользоваться фотографией. Но когда я начала делать рисунок, то у меня почему-то пропала охота его продолжать. Что-то сковывающее, мертвенное шло от фотографии. Я просто инстинктивно почувствовала механичность передачи натуры и перестала работать этот мотив.
Впоследствии, поступив преподавателем в Высший институт фотографии и фототехники, я ближе познакомилась с этим искусством и его продукцией и в конце концов пришла к заключению, что фотографическое ремесло можно сделать большим искусством, но совершенно самостоятельным, служащим только иногда и очень осторожно подмогой для художников.
Фотография построена, надо сознаться, на слепом механизме. Конечно, большую роль в снимке играет вкус фотографа в выборе точки зрения на модель, освещения ее, подходящего момента — это все очень важно. Но настоящего творчества художника в ней нет.
Нельзя забывать об искажениях, которые дает объектив, нарушая соотношение предметов на первом и втором планах, правильность вертикальных линий. <…>
* * *
Несмотря на запрещение врачей, я все-таки делала портреты и пейзажи маслом, кроме тех, о которых я уже говорила.
Так, например, в 1908 году, живя в Бобровке у Анны Алексеевны Рачинской, я написала портрет ее, потом портрет Александры Николаевны Верховской, большой пейзаж с лошадью (широко писанная вещь) и вывеску для деревенской чайной. <…>
Все эти попытки работать маслом прошли для меня благополучно, так как это было в летнее время и я писала на воздухе.
Еще из работ маслом я должна упомянуть портрет Марии Евгеньевны Филоненко («Девочка с кошкой»), портрет Н.В. Воячек, портрет Наталии Евгеньевны Морозовой.
В 1912 году я задумала написать большую картину «Вид с Тучкова моста», и, так как это была зима и, очевидно, комнаты недостаточно проветривались, я тяжело заболела. Успела только сделать общий беглый подмалевок, на котором и окончилась моя работа над картиной. Но должна сказать, что она производит на зрителя цельное художественное впечатление, и я не боялась ее выставлять.
Мне было ясно, что работать маслом я не могу. Но попыток я делала много, и почти каждая кончалась болезнью.
Прошло несколько лет. Воспользовавшись летом, я решила написать маслом большой портрет Сергея Васильевича на фоне лаборатории, этюд которой сделала зимой акварелью. Еще исполнила этюд акварелью, в котором выискала отношение силы тона лица к фону, к темному пятну одежды, стремясь закрепить все эти важные детали.
Изобразила я Сергея Васильевича в натуральную величину, с полотенцем на плече, и взяла тот момент, когда он, сидя на круглой табуретке, оборачивается к вошедшему посетителю.
К большому моему огорчению, Сергей Васильевич позировал только два раза. Приехав отдохнуть в деревню, он провел со мной два дня и вернулся в город, так как в то лето (1915 г.) он усиленно работал для получения толуола на нужды войны.
Портрет пролежал свернутым до будущего лета. Потом, уезжая на Кавказ, я его захватила с собой и там окончила. Условия были тяжелы и сложны: мало помещение для работы, отсутствие достаточного света, и потом рефлексы от зелени, которые врывались в окна. Да и сама модель сильно изменилась под южным солнцем.
Писала я с большим напряжением, но портрет был окончен, и неплохо окончен. Живопись сдержанная, строгая, спокойная, без технических и световых эффектов. Но самое главное — С[ергей] Вас[ильевич] на нем похож. Сейчас этот портрет находится в Ленинградском университете, в лаборатории имени Сергея Васильевича.
Портретов Сергея Васильевича, созданных мною, — несколько. Хочу их отметить.
Портрет 1930 года написан мною с натуры в лаборатории Военно-медицинской академии. Я сделала повторение с него, причем мне для фигуры Сергея Васильевича позировал В.В. Верховский. Этот портрет был взят на выставку «Индустрия социализма» в Москву и мне не возвращен. Судьба его неизвестна. Я несколько раз делала попытки найти его в Москве, но они остались безуспешны.
Еще я написала портрет Сергея Васильевича маслом, пользуясь моей акварелью с него, сделанной в 1932 году. На акварели он позирует летом, в белой рубашке с черным галстуком. На масляном портрете я его одела в черный пиджак. Покойный президент Академии наук, Сергей Иванович Вавилов
[246], просил меня этот портрет отдать Академии наук, что я и исполнила.
Забыла упомянуть о портрете Сергея Васильевича, написанном в 1923 году, на воздухе, в саду города Пушкина. Он сидит в кресле, в пальто и в фетровой шляпе, с книжкой в руках. Несмотря на сходство, я этот портрет не люблю, так как благодаря солнечному свету, который освещал Сергея Васильевича, он сильно морщил нос и щурил глаза.
Еще перечислю мои другие портреты маслом. Из них я вспоминаю портрет художницы Кругликовой Елизаветы Сергеевны. Она стоит около печатного станка, энергичная, волевая, с папиросой в руке. Работа сделана мною в два сеанса, и от сходства можно желать большего, но характерные черты я передала.
Портрет Матвея Генриховича Манизера писала с большим увлечением. Меня захватило сочетание красок: золотистый цвет лица, темные глаза и волосы, вылинявший лиловатый комбинезон на фоне рыжеватой стены мастерской с развешанными скульптурными произведениями. Манизера я изобразила в натуральную величину, по колено. Он стоит и держит в руках рабочий инструмент.
Упомяну еще портрет изящной и красивой О.В. Гирголав.
Еще скажу о последнем портрете маслом Николая Александровича Морозова (шлиссельбуржца), который сделала в их имении «Борок». Я его подарила Морозовым.
Вот это почти все мои портреты, писанные маслом.
* * *
В 1903 году я, Клавдия Петровна и Александр Николаевич Бенуа уехали в Рим, где жили уже несколько месяцев его жена и дети.
В Италии я очень много работала, с упоением и восторгом. Была в Риме, Флоренции, Венеции, Пизе, Перуджи и.
В своих работах я старалась отразить ту дивную природу, которая окружала меня. Фонтаны, виллы, парки, архитектурные мотивы — все, чем я в то время любовалась.
Целый ряд гениальных живописцев прошел перед моими глазами.
Вернувшись на родину, я чувствовала себя обогащенной, переполненной художественными впечатлениями от произведений величайших мастеров. Еще больше поняла свою малость, но это не убавило стремления дальше учиться, развиваться, совершенствоваться. Образцы высокого искусства были свежи в памяти.
Сознавала, что рисунок мой стал тверже, свободнее и художественнее. Я больше и тоньше научилась понимать прекрасное. Глаз стал изощренней. Ненасытное желание работать меня переполняло, и в то же время я думала: «Какое трудное наше искусство! Сколько надо учиться, наблюдать, анализировать и смотреть без конца! И как медлен путь к совершенству! Какими черепашьими шагами двигаешься вперед! И сколько усилий! Сколько работы!»
Акварель я особенно ценила во время путешествий. Она гораздо удобнее масляной живописи, так как быстро высыхает. Кроме того, рисунки, которые делала во множестве, я покрывала легким акварельным тоном, для того чтобы клей, который всегда содержится в бумаге, под влиянием воды распустился и прикрепил карандашные штрихи к бумаге.
Но несмотря на усиленную работу акварелью, вещь с живописной, колоритной задачей все-таки я сделать не могла. Вырабатывая технику, я безжалостно уничтожала многое, не показывая никому, потому что получались вещи заработанные, несвежие. Билась без конца, но это было ничего: я любила преодолевать трудности.
* * *
Прошло несколько лет. Я побывала во многих местах, но уже не одна, а с Сергеем Васильевичем, моим мужем. Жили мы в Париже, в Тироле, в Крыму, в Финляндии, в Аджаристане. Везде я работала со страстью, увлеченная окружающей природой.
В Париже главным образом без конца рисовала городские пейзажи. По рисункам, подкрашенным акварелью, вернувшись на родину, я вырезала четыре гравюры, о которых уже упоминала.
Акварели живописного характера я еще не делала. Но иногда рисунки с легкой подкраской близко и удачно передавали природу, ее главную сущность, ее характер и стиль. <…>
* * *
Лето 1909 года мы проводили в имении Анны Алексеевны Рачинской, в Бобровке Ржевского уезда. Там собралось большое и интересное общество людей разных профессий: химики, поэты, музыканты и философы. В доме была обширная библиотека.
Несмотря на частые увлекательные беседы, которые затевались между гостями, я их покидала, сберегая драгоценное время для своей работы. Там я сделала портрет Каратыгиной О.Н., по технике — подкрашенный рисунок. Она сидит в профиль, в сумерках, на фоне окна, завернутая в пестрый шарф. В окне виднеется пейзаж.
Что-то неуловимое в те дни открылось в моей душе художника. Появилось такое чувство, как будто я всю окружающую природу держу в своих руках. Принимая и постигая ее сущность, я творю свою.
Я впервые начала делать акварели живописного достоинства: «Парк и ограда» (в собрании Высоцкого) и «Костры ночью», гуашь (в собрании Третьяковской галереи).
В это лето решила обратить большое внимание на изучение и передачу неба, заметив, что в моих прежних вещах оно имело какой-то условный, безразличный характер.
В определенный час я старалась быть у окна с открытым видом неба, с далекой линией леса на горизонте, чтобы сделать акварелью этюд неба, какое бы оно ни было. Этюдов его я сделала много. И так как небо редко оставалось неизменным, а все время менялось в колорите и рисунке, полное движения, то поневоле приходилось торопиться и вырабатывать большую быстроту в работе. <…>
Моя палитра акварельной живописи состояла из следующих красок: 1) светлая желтая охра, 2) сырая сиенская земля, 3) красная охра, 4) желтый кадмий оранжевый, 5) желтый кадмий средний, 6) желтый кадмий светлый, 7) кобальт синий, 8) ультрамарин, 9) прусская синяя, иначе — берлинская лазурь, 10) зеленая изумрудная, 11) пурпуровый краплак, 12) черная слоновая кость, 13) цинковые белила.
Хочу рассказать о некоторых особенностях этих красок по моим наблюдениям, сделанным во время работы.
Желтую светлую охру и другие охры нельзя смешивать с кадмиями. Получается через некоторое время серовато-черноватое пятно. Эти два класса красок не могут находиться в одной смеси.
Кадмии я очень люблю, так как они в других смесях дают хорошие зеленые тона, яркие и прозрачные.
Зеленая изумрудная — прекрасная краска. К сожалению, ее редко можно найти в подходящем состоянии. Она от не известных мне причин быстро твердеет и не хочет идти на кисть.
Кобальт синий — чудесная краска. Она дает прекрасные бархатистые тона. В смесях же она легко в мазке осаживается в виде порошка.
Ультрамарин синий имеет великолепный синий цвет и прекрасно кроется по бумаге. В смеси с кадмием дает яркие зеленые тона, очень разные по интенсивности, смотря по тому, сколько его находится в смеси.
Прусскую синюю, иначе берлинскую лазурь, я держу на палитре против многих предостережений, которые я имела за время моей работы. Несколько лет тому назад, в закупочной комиссии, мне показали мою акварель (если я не ошибаюсь, это был пейзаж Испании, окрестности городка Сеговии). На первом плане, у подножия горы, простирались обширные огороды, покрытые зеленью и овощами. И что я увидела: в некоторых частях акварели зелень была ярко-синего цвета, без малейшего признака зеленой или желтой краски. А в другой половине картины — зелень имела свой натуральный цвет. Я сразу решила, что это мне устроила прусская синяя.
Но почему именно в этом этюде? А не в других моих вещах? Рассматривая его внимательно, я обнаружила, что край выцветшей краски шел вертикально через всю картину, посредине ее. Из этого можно было заключить, что акварель, повешенная на стену, в продолжение многих лет освещалась одной своей частью солнечным светом. Видимо, под влиянием ультрафиолетовых лучей кадмии исчезали, выцветая до конца. И я пришла к заключению, что в этом случае прусская синяя не виновата.
Эта краска обладает великолепным кроющим качеством при чрезвычайной прозрачности. Несмотря на все ее недостатки и опасения, которые она всегда вызывала у меня, я ее употребляла, и только что описанный мною случай был единственный.
Встреча ее с охрой дает глухие и неприятные тона.
Пурпуровый краплак (гарансовый лак). Положение художника с красными красками — сложное и серьезное. Такая прекрасная краска, как кармин, совершенно дотла выцветает даже без помощи ультрафиолетовых лучей. В одном из первых моих портретов, а именно в портрете моей сестры Софьи Петровны, который мною был написан маслом, когда я еще была в академии, и о котором я уже говорила раньше, я употребляла кармин. Много лет я наблюдала портрет и замечала, как цвет лица на портрете менялся — становился все бледнее и бледнее.
Кармин употреблять нельзя.
Остается для художника краплак, который имеет разные оттенки красного тона. Я предпочитаю пурпуровый. По моим наблюдениям, краплак — стойкая краска и без влияния ультрафиолетовых лучей трудно выгорает.
Есть прекрасная красная краска — киноварь — красивого тона, но она может быть употребляема только в полном одиночестве. В смеси она дает вместо красного тона черноватое пятно.
Черная слоновая кость — хорошая краска, но она не любит густых мазков, и дать тон в полную его силу сразу нельзя, надо наращивать. Помню, как я должна была передать глубокий, черный цвет рояля. Взять краску во всю силу я не могла: получался густой мазок, непрозрачный и глухой. Пришлось смыть все, что сделала, и потом, в несколько приемов покрывая тоном, добиваться глубины и прозрачности.
Точно в таком же положении я бывала, когда мне приходилось в акварельных портретах передавать черную одежду модели.
Цинковые белила. Предпочитая легкую, прозрачную акварель, я очень редко, в крайности, употребляла белила, так как всегда рассчитывала для самых светлых мест оставлять чистую бумагу.
Русские краски ленинградской фабрики мне, по просьбе директора, пришлось проверять. Сила наших красок оказалась не меньше заграничных, и даже лучше, но у них большой недостаток: они открытые скоро сохнут и очень туго идут на кисть.
Бумага играет ответственную роль в акварельной живописи. <…>
Надо сказать, что бумага имеет свойство от воды набухать, расширяться и фалдить, конечно, на нее в таком состоянии накладывать краски нельзя, так как они будут стекаться в складки ее. Из этого следует — бумага должна быть натянута. Есть несколько способов для этого. Расскажу о тех, к которым прибегала я.
Всю бумагу со сделанным уже рисунком я сильно намачивала губкой, полной воды, и ждала, когда бумага через несколько минут начнет разбухать и фалдить. Тогда, не теряя минуты, надо часто по краям прикалывать кнопками мокрую бумагу к тому картону или доске, на которую она должна натягиваться. Недостаток этого приема заключается в том, что бумага, высыхая и сжимаясь, почти около каждой кнопки немного рвется. Но этого можно не бояться, если взять для картины бумагу несколько большего размера, чем требуется.
Другой способ следующий: смочить всю бумагу с рисунком так, чтобы края бумаги были менее смочены, чем середина ее. Не мешает края осторожно растянуть руками и тут же, отвернув, намазать их клеем и приклеить к доске или картону. Или еще иначе — вместо того чтобы приклеивать края, взять узкую полоску бумаги, намазанную клеем, и приклеить ее так, чтобы она. ложилась на акварельную бумагу и одновременно на доску или на картон.
Оконченную акварель я вплотную наклеивала на бристоль или картон. Это делала для того, чтобы уберечь акварели от всяких случайностей, сгибов, разрывов, пятен от пальцев. Операция эта была довольно сложной. Сначала на левой стороне бристоля наклеивала вплотную такого же размера лист бумаги, как акварель. Потом всю акварель смазывала жидким клеем и осторожно накладывала на другую сторону бристоля, стараясь, чтобы она легла без малейших складок. После этого, покрыв ее чистым листом бумаги, прокатывала валиком, стараясь водить его от центра к краю акварели, чтобы выдавить из-под акварели оставшиеся пузырьки воздуха. Дав акварели чуть просохнуть, клала ее под ровный пресс и держала до полного высыхания. Такая акварель никогда не коробилась, так как противодействием служила бумага, находящаяся с левой стороны бристоли.
Для этих наклеиваний я употребляла всегда осетровый клей, который покупала тонкими пластинами и готовила сама: сначала настригала его мелкими кусочками, покрывала небольшим количеством воды, давала ему намокнуть некоторое время. Когда он разбухал, я подбавляла воды и грела это все на огне, помешивая щепочкой, стараясь, чтобы в нем исчезли все осадки, и не давая ему закипеть.
За все годы моей работы я не заметила, чтобы этот клей дал какие-нибудь неприятности в виде пятен, пожелтения бумаги, особенно в светлых ее местах.
Мне как-то всегда хотелось защитить мое детище от случайностей жизни, и потому я стремилась наклеивать акварели. <…>
Самое для них лучшее положение — это находиться в папках, но я говорю о тех акварелях, которые покидают своего создателя и попадают в жизненный водоворот.
Для акварелей наиболее опасный враг — солнечный свет. Краски, освещенные ультрафиолетовыми лучами, постепенно бледнеют и, наконец, совсем выцветают. Даже простой свет, без солнца, и тот действует вредно на нее.
Также акварель, освещенная электрическим светом, страдает от него, особенно если она недалеко находится от источника света. Из этого следует, что, когда наступают весна и лето с яркими солнечными лучами, необходимо акварели прикрывать темными занавесками или совсем снимать со стен.
Еще очень вредна для акварелей пыль, которая носится в воздухе, особенно тогда, когда щели между рамой и картоном сзади акварели не заклеены полосками бумаги. Это только отчасти спасает ее от пыли, так как остается еще возможность воздуху проникать между стеклом и акварелью. Конечно, самым лучшим средством было бы приклеивать стекло узкой полоской бумаги, но эта мера имеет неудобства: например, при передвижении акварели по выставкам, когда стекло упаковывается отдельно от нее.
Все-таки я должна сказать, что стекло очень предохраняет акварель от выцветания и всякой порчи. Самые лучшие стекла, которые мне приходилось употреблять, были финляндские. Они вырабатывались на больших стекольных заводах. Но даже и такие стекла притушивали краски.
* * *
<…> Когда я работала с натуры акварелью, то брала, кроме картона или большого альбома, складной стульчик. Потом нечто вроде легкого пюпитра, на который я могла положить верхний край альбома, в то время как нижний его край лежал на моих коленях. Третье приспособление, которое я носила с собой, это был низенький круглый столик, у которого три ножки вынимались, а при необходимости — ввинчивались. На него я ставила кружку с водой, палитру с красками, кисти и все необходимое для работы.
Это был мой выход с полной амуницией.
Обставленная таким образом удобно и комфортабельно, когда мне никто не мешал, главным образом любопытные люди, я доводила свою работу до конца.
Но очень часто мне не удавалось спокойно работать, особенно в городах за границей. Тогда я прибегала к следующему приему, меняя весь характер работы. Я делала тщательный, подробный рисунок карандашом, например пейзажа, обозначая архитектурные формы, планы деревьев, перспективы далей, контуры теневых пятен. Потом, рассматривая мною нарисованный пейзаж, я отмечала на нем самые темные места одинаковой силы, будь то деревья, здания или горы, и на этих местах на рисунке ставила цифру 1. Потом следующие, более светлые, одинаковые тона — и ставила цифру 2. Далее, предметы еще светлее я отмечала цифрой 3 и доходила до самых светлых мест в пейзаже, и это были 5-й или 6-й номера. Получалась схема градации силы тонов от темных до светлых.
Кроме того, чтобы запомнить оттенок какого-нибудь цвета, я в некоторых местах писала словами: «зеленовато-голубой, лимонно-желтый, синеватый» и т. д.
Вернувшись домой, я внимательно рассматривала цифры, дававшие мне градацию тонов, прочитывала надписи, стараясь вспомнить все мною виденное, потом вытирала карандашные следы, цифры и записи и, внутренне собрав весь образ виденного, как в фокусе, начинала уверенно, по памяти, изображать его, и так реально, как будто я натуру видела перед собой.
И я думаю, что половина, а может быть, и больше моих акварелей сделана по этому способу.
Надо вообще сказать, что при каждой новой работе я по-разному подходила к природе, желая выразить в ней характер и самое существенное. Потому и приемы у меня были разные.
Сейчас расскажу о моем другом методе работы: наметив то, что мне хотелось изобразить, я тщательно и правдиво передавала то, что видела перед собой. Работая карандашом и красками подробно, детально, я старалась близко и честно воссоздать натуру. Таким образом, получался до конца реалистичный этюд с натуры, по которому я рассчитывала создать большую законченную вещь.
Набросав рисунок, полагаясь на свой этюд, я начинала работать, но неожиданно для себя отходила от него и делала акварель по тонам, да и по манере непохожей на мой реалистический этюд. И создавая вещь, такую далекую от него, я чувствовала, что творю художественную правду, отойдя от правды передаваемой природы.
И какая правда была выше?
Правда ли точно передаваемой природы или правда творца-художника, то есть художественная правда?
Какая из них выше, я до сих пор не решила.
И потому предписывать правила или методы, как сделать законченную акварель, — очень трудно, так как изображаемая натура каждый раз является для художника новой, интересной задачей.
У меня, например, есть большого размера акварель 1932 года, которая начата и совсем закончена без всякого этюда и без натуры, только по памяти. И она производит впечатление вполне реалистичной.
* * *
Хочу рассказать о процессе работы в акварельном портрете.
Для первого моего портрета акварелью позировал Иван Васильевич Ершов, наш знаменитый артист.
Это было в 1923 году, когда я с мужем жила в Кисловодске, в доме отдыха ученых.
Иван Васильевич выделялся среди ученых и своим внешним обликом, и шумным, живым темпераментом. Он, по обыкновению, рано вставал, когда весь дом еще спал, и уходил в горы. Оттуда возвращался всегда с большим букетом ярких цветов, растущих по склонам соседних гор. Он был оживлен и весел. Я наблюдала за ним, и мне очень захотелось сделать его портрет.
У меня бывало несколько раз в жизни, когда настойчиво хотелось изобразить интересное для меня лицо. С этим желанием трудно было бороться, и бывали случаи, когда я подходила к совершенно незнакомому лицу и просила «его» или «ее» мне позировать.
В данном случае я обратилась за помощью к профессору Семену Ивановичу Златогорову. Он передал мою просьбу Ершову, и тот с большой охотой дал свое согласие.
Первый раз, когда он пришел ко мне позировать, он тотчас сел, приняв театральную и живописную позу, но неестественную и ненатуральную. Мне надо было непременно отвлечь его интересной беседой, чтобы он забыл о позировании, о задуманной позе и изменил бы ей.
Художник в такие минуты испытывает большое затруднение, ему приходится раздваивать свое внимание: развлекать позирующую модель и в то же время сосредоточивать себя на верной передаче характерных линий и форм изображаемого лица. Я сейчас не помню тему нашего разговора, но помню, что Иван Васильевич не сразу забыл, что он позирует. Надо было незаметно заставить его самого говорить, и в конце концов мне это удалось. Он оживился, появилась улыбка, появились разнообразные выражения на лице, и, наконец, я была свободна.
Начиная портрет и в процессе работы я никогда не делала рисунка карандашом, а просто кистью с легким тоном, подходящим к натуре, не линиями, а пятнами. Всегда первым делом намечала оба глаза, потом — основание носа и линию подбородка. Когда я это устанавливала и чувствовала, что не делаю ошибки, кистью, с полной силой краски, начинала передавать формы и характер лица, то, что мне было нужно, чтобы выявить его внутреннюю сущность, как я ее понимала. Исполняя портреты акварелью, а не маслом, я была стеснена в размерах. Приходилось брать только голову в натуральную величину и намечать плечи и платье. Завершив удачно портрет Ивана Васильевича (он был приобретен Третьяковской галереей), я увлеклась этой работой.
В 1924 году я сделала 12 портретов. Перечислю некоторые из них: портрет Александра Николаевича Бенуа, Марии Степановны Волошиной, художника Константина Федоровича Богаевского (Третьяковская галерея), писателя Андрея Белого (Русский музей), Валентины Васильевны Шапошниковой, Сергея Васильевича Лебедева. <…>
* * *
Я думаю, что писание портретов есть одна из труднейших задач в изобразительном искусстве.
Я и мои товарищи, особенно Сомов, часто обсуждали вопрос: важно ли сходство в портрете? Что считать в портрете ценнее, совершенство живописи или сходство? Если возьмем в пример Рембрандта и других старых мастеров, то их портреты через несколько веков мы ценим не за сходство с моделями, которых мы никогда не видели, а за высокое совершенство исполнения. Мы много раз поднимали этот вопрос и к окончательному решению не приходили.
Кроме того, мы замечали, что часто, да почти всегда, родные, мужья, жены, дети не находили сходства в портрете своего близкого и бывали недовольны. Я думаю, что это происходило оттого, что, глядя на изображенное художником родное лицо, муж или родственник невольно вспоминал прежний, ранний образ, который и мешал принять сделанное в поздние годы изображение. Ведь художник, создавая портрет, изображает человека с характерными чертами, как он понимает его внутреннюю сущность. Художник и родственники по-разному видели одну и ту же модель.
Я уже упоминала о трудности написания портретов, заключавшейся в том, что художнику приходилось очень сосредоточиваться на своей работе и в то же время занимать модель и разговаривать с нею.
После двухчасового сеанса я чувствовала сильное физическое и душевное переутомление, несмотря на то что до этого я старалась час-другой полежать, чтобы накопить силы.
Фотографией я никогда не пользовалась, только сделала исключение для одного портрета Сергея Васильевича, после его смерти.
Много лет тому назад приезжала из Москвы комиссия, чтобы ознакомиться с деятельностью ленинградских художников. Мы все были приглашены в союз и проходили через эту комиссию. Когда подошла моя очередь, приезжие члены комиссии спросили, хочу ли я писать портреты. Я ответила, что портреты буду с радостью работать, только… с одним условием — писать с живой модели, но не с фотографий. На мои слова разговаривавший со мной член комиссии взял перо и молча вычеркнул меня из списка.
Я сделала 102 портрета: 32 портрета маслом, 53 акварелью, 3 подкрашенных рисунка и 14 портретов карандашом.
Большею частью изображены были только головы в натуральную величину.
Хочу перечислить акварельные портреты, которые находятся в музеях и официальных местах:
Ершов И.В. — в Гос. Третьяковской галерее
Богаевский К.Ф. — в Гос. Третьяковской галерее
Андрей Белый — в Гос. Русском музее
Карпинский А.П. — в Академии наук
Вересаев В.В. — в Гос. Третьяковской галерее
Чумандрин М.Ф. — в Гос. Русском музее Академик
Иван Павлов в гробу — в музее института ВИЭМ
Академик Иван Павлов в гробу (повторение) — в Москве, в Академии им. Тимирязева
Автопортрет — в Гос. Русском музее
Дима Верховский («Лыжник») — в Гос. Русском музее
Каратыгина О.Н. — в музее им. Н.А. Морозова (шлиссельбуржца)
Морозов Н.А. — в музее его имени
Морозова К.А. — в музее им. Н.А. Морозова
[247].
<…> Кроме упомянутых уже, я сделала портреты писателей: Михаила Булгакова, Софии Федорченко, поэта С.В. Ширвинского, композитора В.Г. Каратыгина, капельмейстера Певческой капеллы — М.Г. Климова, пианиста С.С. Прокофьева; художников Александра Бенуа, А. Рылова, Макс[имилиана] Волошина, его жены М.С. Волошиной, Е.С. Кругликовой, юриста Н.М. Михайловой и много портретов молодежи.
Хочу повиниться и сказать, что не всегда мои портреты были удачны. Большую неудачу я потерпела с портретом моего многолетнего друга Евг[ения] Евг[еньевича] Лансере. Он очень хотел, чтобы я написала его портрет, и уговорил меня приехать в Москву и поселиться у них, чтобы исполнить эту просьбу. Но портрет совершенно не удался. Передо мной сидел мой друг с хорошим, красивым лицом, в чертах которого проглядывала его благородная натура. Может быть, я волновалась от окружающей незнакомой обстановки, но, начиная портрет, я уже знала, что он у меня не выйдет. Так и было.
Я потратила огромное количество терпения и настойчивости, добиваясь сходства, но оно от меня ускользало. Ах! Если б это было масло! Но акварель не терпит переписки, бумага приобретает вялый вид, и в конце концов я должна была сознаться, что побеждена. Мы оба были огорчены. И так странно, я немедленно принялась за портрет его жены, который в несколько дней сделала свежо, остро, да просто хорошо.
Дети Лансере находили портрет матери непохожим, но это зависит от разности восприятия мною и ими. Но я передала ее характер, и сравнивать этот портрет с портретом Евг[ения] Евг[еньевича] нельзя, настолько он был лучше. Первый мне пришлось уничтожить.
* * *
Современные искусствоведы и музееведы относят акварельную живопись и гуашь к графическому искусству, утверждая, что акварель и гуашь не живопись.
Хочу на этом немного остановиться. Понятие «графика, графический» означает, по моему мнению, рисунок, изображенный линией или пятном на плоскости.
К графическому искусству я отношу рисунок карандашом, пером, гравюру, офорт и, если шире взять, рисунок кистью. Я говорю о рисунке кистью тушью, краской.
Но акварель или гуашь есть живопись, исполненная водяными, прозрачными или с примесью белил красками, и они с графикой не имеют ничего общего. Краски в акварельной живописи или гуаши могут быть яркими, полнозвучными и создавать вещи с глубоким колоритом.
Мне приходилось много раз со знакомыми искусствоведами говорить и спорить по этому вопросу.
В доказательство того, что акварель есть живопись, я делала акварели глубоких тонов, по силе не уступающих масляной живописи, как, например, натюрморт «Рояль, шляпа и ноты», «Яблоки и мандарины», «Мой рабочий стол, освещенный лампой» и многие другие.
Они по силе, колориту не уступают масляной живописи, но искусствоведы и люди, ведающие современным искусством, упрямо относят их к графике.
Неужели акварель и гуашь надо считать графикой!
Неужели гений акварели — Тернер — тоже должен быть отнесен к числу графиков? Ведь это же бессмысленно!
Когда я по этому поводу говорила с искусствоведами, то они не имели убедительных доводов, ссылались на то, что акварель и гуашь относят в графический отдел музея по способу хранения (их вынимают из рам и стекол и складывают в папки).
Еще у искусствоведов и устроителей выставок есть обыкновение акварель класть на белое бумажное паспарту, чем они в корне убивают все ее живописное значение.
Какая краска, какой цвет могут выдержать и не потускнеть от соседства белого пятна бумаги.
Я всегда, когда видела свою вещь, положенную на белую бумагу или висящую в графическом отделе рядом с каким-нибудь чужим белым паспарту, внутренне страдала душой.
Понятно, что висеть вместе акварели и масляной живописи нельзя. Теряет последняя — ее масляные краски кажутся тусклыми, тяжелыми и глухими в сравнении с красками акварели, такими легкими и яркими.
В книге Тернера, о которой я уже говорила, находятся 30 красочных, очень хороших воспроизведений с его акварелей, и они положены на паспарту темносерого цвета. Это вполне приемлемо.
Я не уловила момента, когда акварель у искусствоведов попала в графику, но, когда создавалось графическое искусство группой художников «Мира искусства», не было и речи о том, что акварель есть графика.
В акварельной живописи есть присущие ей недостатки: 1) ее размер не может быть велик, он ограничен величиною ватманского листа бумаги, 2) она не терпит многих изменений, переделок, ее свежесть от этого теряется, хотя в гуаши, при густом мазке, это не так неприятно, 3) она легко выгорает от солнца.
Вот эти недостатки в сравнении с масляной живописью ее умаляют, несмотря на то что наши художники создали великолепные образцы акварели, например наш знаменитый Федотов, талантливый П.П. Соколов, пейзажист Премацци
[248], Серов, Врубель и многие другие.
«МИР ИСКУССТВА»
Рассказывая о моем формировании как художника и о путях, по которым шло мое творчество, я не могу не выразить благодарность судьбе за то, что она столкнула меня с группой художников, моих однолеток, которые до самозабвения любили искусство и зажигали в других такую же любовь к нему. Они были гораздо образованнее и культурнее в области искусства и имели
на меня влияние, несмотря на то что я шла одна, по самостоятельно выбранной дороге. Эта группа моих новых друзей сформировала общество «Мир искусства», состоявшее вначале большею частью из петербургских художников.

Организовалось это общество в сложное и путаное время в искусстве. <…> Среди молодых передвижников мало кто выдвигался. Они сохраняли старые традиции общества без стремления завоевать новые позиции, открыть новые пути в искусстве.
Почти одновременно с «Миром искусства» появилось много разных группировок среди художников: «Голубая роза», «Ослиный хвост»
[249] и другие с очень заумными туманными задачами.
Мирискусники выбирали и приглашали в свое общество молодых художников, когда замечали в них, кроме таланта, искреннее и серьезное отношение к искусству и к своей работе.
Приглашены были, как я помню, Анисфельд, Кустодиев, Александр Яковлев и другие.
А.Н. Бенуа говорил, что, для того чтобы общество могло долго жить, оно не должно строго замыкаться в определенные рамки. И в нем необходимо признавать все новые направления в искусстве. Внимательно следить за появлением молодых художников, если даже они будут крайне новаторского характера. Лишь бы в них была настоящая любовь к искусству и одаренность.
Рассказ, содержание в картине общество «Мир искусства» не отрицало, но они не должны были подчинять себе живописные задачи. Искусство живописи должно было стоять на первом месте.
Нам вменялось в обязанность посещать выставки и отмечать, что появилось в них талантливого и искреннего.
Кроме того, группа художников и организаторов, как Дягилев и Философов, основали и стали издавать художественно-литературный журнал «Мир искусства». В нем принимали участие и такие литераторы, как Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Мережковский, Андрей Белый и многие другие писатели-символисты и эстеты.
Их обильные выступления в этом журнале сыграли для художников «Мира искусства» печальную роль. Они заполнили собою страницы журнала и были впоследствии главной причиной решения художников закрыть этот журнал.
Этому небольшому коллективу молодых людей, образованных и развитых, страстно преданных искусству и горячих энтузиастов всего талантливого, издавая журнал «Мир искусства», приходилось преодолевать всевозможные трудности.
Теперь нельзя себе представить тот низкий уровень вкуса, знания стиля, степени неумения владеть техническими способами, какие царили тогда в лучших типографиях.
Отсутствовало понимание шрифтов, достоинства бумаги, украшений и иллюстраций, что составляет графическое искусство, то есть искусство, как сделать хорошую книгу, чтобы в ней обложка, заглавный лист имели свое архитектурное и декоративное построение, чтобы иллюстрации были органически связаны с книгой, с данной страницей, со шрифтом.
Я много раз присутствовала при разговорах о технических затруднениях в процессе издания журнала. Дягилев, Бакст и Философов много времени проводили в типографии. Спорили там, доказывали, учили, натаскивали. Вспоминаю, как они не раз приходили в отчаяние от приготовленных «Голике и Вильборгом» клише. Затруднения происходили и с бумагой.
В первый год издания, 1899-й, журнал был очень боевой и задорный, но со второго года его направление стало более глубоким и широким. Все истинно художественное и даровитое нашло место на страницах этого журнала. Он откликался на все события, на все проявления художественной культуры нашей страны.
Сомов, Бенуа, Лансере, Билибин и Бакст украшали журнал «Мир искусства», исполняя для него обложки, заглавные листы, заголовки, концовки. Этими превосходными работами они положили начало графическому искусству, которое довели до большого совершенства. Более молодое поколение графиков: Митрохин, Чехонин, Нарбут, Фалилеев, Белкин, продолжало впоследствии принципы «Мира искусства».
Появления каждого нового номера журнала мы ждали с нетерпением. Издавался он в течение шести лет и прекратил свое существование по желанию Дягилева, у которого появились в жизни более широкие задачи. С огорчением встретили мы это известие.
Меня всегда поражало в членах нашего кружка необычайное, страстное увлечение искусством. Сколько было споров, диспутов, дискуссий. Произносились целые речи, полные блеска, знания и проникновения. Иногда кончалось ссорой, но не надолго. Все любили и уважали друг друга. И вот что замечательно: среди нас, художников этого коллектива, в то время существовало глубокое взаимное доверие. Никому не приходило в голову и мысли о зависти, ревности. Вещи на выставку принимались без жюри, по принципу доверия к художнику, но сам художник, чтобы себя проверить, показывал перед выставкой товарищам свои работы, зная, что критика будет, может быть, и беспощадная, но справедливая. Иногда случалось, что Дягилев, как наш организатор и устроитель выставок, определенно заявлял, что такую-то вещь он не выставит, и приходилось художнику подчиняться, так как он сознавал, что это вытекает не из личных отношений к нему.
А иногда, наоборот, Дягилев забирался к художнику в мастерскую и почти насильно уносил от него забракованные автором произведения. И Дягилев не ошибался, так как обладал большим художественным чутьем. Вещи оказывались прекрасными и достойными быть на выставке.
Бывало, на выставке идет большая спешка. Дягилев как вихрь носится по ней, поспевая всюду. Ночью не ложится, а сняв пиджак, наравне с рабочими таскает картины, раскупоривает ящики, развешивает, перевешивает — в пыли, в поту, но весело, всех вокруг себя заражает энтузиазмом. Рабочие, артельщики беспрекословно ему повиновались, и, когда он обращался к ним с шутливыми словами, широко во весь рот ему улыбались, иногда громко хохотали. И все поспевало вовремя. Сергей Павлович утром уезжал домой, брал ванну и, изящно одетый, являлся первый, чтобы открыть выставку. Ночная работа на нем не отражалась. Темные гладкие волосы разделял очень тщательно сделанный пробор. Спереди, надо лбом, выделялась белая прядь волос. Полное румяное лицо с большими карими глазами сияло умом, самоудовлетворением и энергией…
Мирискусники настойчиво выдвигали принцип «ремесла в искусстве», то есть они хотели, чтобы художники делали картины с полным, детальным знанием материалов, которыми они работали, и доводили технику до совершенства. Перед их глазами были примеры, когда отличные произведения великолепных мастеров темнели, чернели, теряли свой первоначальный облик. Видимо, в данном случае художник не знал законов смешения красок и их дальнейшую жизнь на холсте.
Кроме того, они все толковали о необходимости повышения культуры и вкуса среди художников, и никогда не отрицали в картинах тематики и, следовательно, не лишали изобразительное искусство ему присущих свойств агитации и пропаганды.
Через несколько лет после основания общества произошло объединение московских художников с петербургскими членами «Мира искусства», и было организовано общество «Союз русских художников».
Объединение с москвичами было недолговечно.
В 1910 году мы разделились с ними и организовали новое общество художников, взяв наше прежнее название «Мир искусства». В члены нашего вновь образовавшегося общества вошли: Б. Анисфельд, Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, К. Богаевский, О. Браз, А. Гауш, A. Головин, И. Грабарь, М. Добужинский, И. Жолтовский, В. Замирайло, Е. Кругликова, Е. Лансере, Н. Лансере, Е. Лукш-Маковская, А. Матвеев, Н. Милиоти, А. Обер, А. Остроумова, К. Петров-Водкин, B. Пурвит, В. Покровский, Н. Рерих, М. Сарьян, З. Серебрякова, К. Сомов, С. Судейкин, Д. Стеллецкий, А. Таманов, Н. Тархов, И. Фомин, В. Щуко, А. Щусев, Я. Ционглинский, А. Яковлев, С. Яремич. Всего 37 человек.
Формирование общества и устройство выставок чло у нас медленно, с большими трениями и задержками. Причина этого главным образом была та, что среди нас не было художника, который бы с охотой и увлечением взял на себя организацию выставок и всякие хлопоты и заботы. Дягилев к этому времени уже уехал, увлеченный желанием пропагандировать оперное и балетное искусство за границей. Несколько лет нашими делами согласился заниматься энергичный и даровитый архитектор Мирон Ильич Рославлев.
В первый же год, и потом почти всегда, несмотря на некоторый холодок и отчужденность, которые мы испытывали к Н. Рериху (несомненно, и он к нам), мы его выбирали председателем общества. Он любил исполнять представительные роли и, надо сознаться, проделывал это недурно.
Между нами определилась группа художников-графиков: Бенуа, Бакст, Билибин, Сомов, Лансере, которые положили начало графическому искусству, привлекая к работе художников: Нарбута, Фалилеева, Митрохина, Чехонина, уча их иллюстрировать и создавать художественно украшенную и хорошо построенную книгу.
Высокие культурные традиции «Мира искусства» до сих пор сохраняются среди графиков теперешних дней. <…>
Я не могу не рассказать об обществе «Мир искусства», потому что была его членом и [была] в дружеских отношениях с Бенуа, Сомовым, Лансере и другими.
Скажу несколько слов о некоторых из них.
Руководящую роль среди этого кружка играл Александр Николаевич Бенуа. Все к нему прислушивались, ценили его мнение, и это делалось само собой. Александр Николаевич никогда не поучал, не оказывал давления. Не навязывал своего вкуса или мнения. Бесценно было то, что он знакомил меня и других с искусством во всех его проявлениях, и делал это с большим энтузиазмом. Обладая феноменальной памятью, он все знания претворял своим исключительным умом. Ум его был творящий, и творческое начало было неистощимо. Все. что он воспринимал от внешнего мира, подвергалось обработке этого блестящего ума. его отличали редкая способность ориентации в незнакомой для него области и умение углубиться в нее до конца. Жизнеспособность его была безгранична. Неутомимость удивительна.
Между художниками «Мира искусства» было много великолепных театральных декораторов. Бенуа интересовался театром и, как во всех областях культурной жизни страны, стал принимать и в театральном искусстве самое близкое участие. Его музыкальность, абсолютный слух, огромный творческий темперамент давали ему возможность в этой области проявить свою богатую, тонкую, художественную культуру.
В конце января 1903 года шла опера Вагнера «Гибель богов». Эскизы декораций и костюмов делал Бенуа. И в постановке оперы принимал живейшее участие. Я помню, как вся наша компания была на первом представлении. В партере виднелось много знакомых и выдающихся художников, литераторов, артистов. Я была в ложе с Анной Карловной, женой Бенуа, и с нами сидели Сомов, Лансере, Нувель… Александр Николаевич то и дело убегал из ложи за кулисы, когда замечал какие-нибудь неполадки. Мы все волновались. Но декорации были очень красивы и живописны, костюмы характерны и выразительны.
Исполняя эскизы к этой опере, Бенуа стремился преодолеть рутину и шаблон постановок в Байрейте и за границей. Его декорации, исполненные таким мастером живописи, как Коровин, производили впечатление большой убедительности, красоты и правды. Моментами зритель совсем забывал, что это театральное «действо». Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами.
Сцена, когда убитого Зигфрида несут в лес под звуки погребального величественного марша, вызывала мурашки в спине, и слезы закипали на глазах. Сцена гибели богов и Валгаллы была сделана ярко и сильно.
Кроме этой оперы, Александр Николаевич в последующие годы оформил целую серию блестящих спектаклей: балеты «Павильон Армиды», «Жизель», «Петрушка»; комедии Мольера: «Тартюф», «Брак поневоле»; и Гольдони: «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы», оперу «Пиковая дама» и т. д.
По этому разнообразному репертуару можно судить, как велик был диапазон его творчества, какой колоссальный источник фантазии был в душе этого замечательного художника!
Кроме декоративного таланта, А.Н. Бенуа обладал большим живописным даром и фантазией. В Третьяковской галерее и в других музеях находится целый ряд его живописных произведений.
Кроме того, он проявил себя как иллюстратор и график. Создал замечательный альбом «Медный всадник», в котором запечатлел образ пушкинского Петербурга и показал себя выдающимся рисовальщиком. Иллюстрировал «Горе от ума» и «Пиковую даму»
[250].
Он обладал большим литературным даром и выступал как тонкий и глубокий историк искусства. Первым его литературным трудом была история русского искусства, заказанная ему Мутером для «Всеобщей истории искусства». Позже появилась в двух томах его «Всеобщая история живописи»
[251].
Хочу описать наружность А.Н. Бенуа. Он был среднего роста. Довольно плотного сложения. Лицо с бледной, матовой кожей. Прямой, довольно крупный нос с горбинкой. Глаза темно-карие, умные, внимательные и добрые. Волосы черные, свисали на лоб плоскими прядями. Черные усы и бородка, коротко подстриженные.
Несмотря на живость и даже вспыльчивость характера, он производил впечатление спокойного, уравновешенного и вдумчивого собеседника.
Не в пример своим товарищам, щеголям и франтам, он не занимался своею внешностью. Любил внимательно слушать своего посетителя.
Он умел слушать. Особенно говорливым его назвать было нельзя, но то, что он говорил, было всегда умно, находчиво и обоснованно…
* * *
Другие члены общества «Мир искусства» также участвовали в театральной жизни страны, доводя оформление пьес до высокого совершенства. Бакст дал «Фею кукол», «Ипполита» и «Эдипа в Колонне». Балет «Фея кукол» я особенно любила. С необыкновенным вкусом и с неисчерпаемой живописной фантазией исполнены декорации этого балета и особенно костюмы кукол. Они были верхом красоты и грации. Каждая балерина казалась очаровательной. В их костюмах чувствовалась любовная забота художника, проявлявшаяся даже в мелочах.
В античных трагедиях Бакст был прост, величествен и тонко, стильно давал картину античной жизни.
Он еще создал чудесное оформление для балетов «Карнавал» и «Вакханалия» и оперы «Саломея».
* * *
Другой член общества «Мир искусства», А.Я. Головин, был в своем роде неподражаем. Декорации для «Псковитянки» Римского-Корсакова вызывали у публики неудержимые возгласы восторга. Назову его главные постановки: «Золото Рейна», «Руслан и Людмила», «Кармен», «Борис Годунов», «Каменный гость», «Маскарад», «Дон Жуан» Мольера и многие другие. Трудно сказать, какие из этих вещей самые лучшие. Декорации Головина очень колоритны, прекрасно и остроумно задуманы, широко и свободно исполнены. Спектакли с его декорациями были блестящи и доставляли наслаждение глазу и чувству зрителя.
Кроме того, Головин выступал как живописец-портретист в целом ряде отличных работ. Его портреты были написаны всегда свежо, выразительно, в них он ярко передавал характерными чертами внутренний облик позирующей ему модели. Он умел как-то понять самую сущность человека и не стеснялся при этом показать отрицательные черты, которые часто модель старается скрыть от острых и проницательных глаз художника.
Александр Яковлевич обыкновенно не пропускал заседаний «Мира искусства», но редко на них выступал.
* * *
Теперь я хочу сказать несколько слов о другом члене «Мира искусства», Иване Яковлевиче Билибине, нашем известном графике, живописце и декораторе.
Познакомилась я с ним давно, еще до окончания академии, когда я училась и работала на конкурс в мастерской В.В. Матэ. Его появления были внезапны. Он был очень красив. При бледно-матовой, смуглой коже у него были синевато-черные волосы и красивые темные глаза. Билибин знал, что он хорош, и своими неожиданными нарядами удивлял товарищей. Он мне очень запомнился, когда приходил в ярко-синем сюртуке.
В то время Иван Яковлевич учился в мастерской у Репина, а к Матэ забегал, так как тогда уже интересовался гравюрой, офортом и вообще графикой.
Билибин один из немногих наших художников, который черпал свое вдохновение в безграничном источнике народного творчества. Он с неудержимой страстью собирал всякие предметы, в которых проявлялось народное творчество: крестьянские вышивки на полотенцах и рубашках, кружева, кокошники, вышитые жемчугом, деревянную резьбу, лубочные картинки, старинные костюмы.
Никто из наших художников так близко не подходил к народному творчеству, как Билибин. Он вдохновлялся им без конца.
Иван Яковлевич очень любил русскую северную природу. В 1902, 1903 и 1904 годах он посетил Вологодскую, Олонецкую и Архангельскую губернии и привез оттуда большое количество всевозможных предметов народного творчества. Он с необыкновенным интересом и оживлением показывал привезенные им сокровища.
Наиболее ярко проявилось у него тяготение к народным сказкам и былинам. Он иллюстрировал в 1907 году «Сказку о царе Салтане», а в 1910 году «Сказку о золотом петушке». Была издана целая серия иллюстрированных им былин и сказок
[252].
Талант его был разнообразен. Он удивительно ярко и просто оформлял театральные постановки, в которых отражалось глубокое знание народного духа.
Билибин был исключительно одаренным графиком. Его книжные украшения, заставки, концовки, обложки часто встречались и встречаются в художественных изданиях того времени. В его таланте чувствовался иногда юмор и сатира, особенно когда он участвовал в сатирических журналах «Жупел», «Адская почта» и «Сатирикон».
На собраниях, среди друзей, он отличался своей живостью, остроумием и веселостью. Здесь же, среди общего оживления, он сочинял сатирическую оду на своих товарищей и громко ее декламировал под взрывы хохота присутствующих. Его энергия и трудолюбие были безграничны, а техника графических вещей была доведена до совершенства.
В искусстве его последних лет не чувствовалось никакого снижения, и характерные черты его творчества, которые делали его особенным и своеобразным художником среди других, сохранились до конца…
* * *
Первый раз я увидела Константина Андреевича Сомова на одной из «сред», устраиваемых студентами Академии художеств каждую неделю. Эти «среды» были очень оживленными. На них выступали театральные артисты, певцы, поэты. Здесь же стояла модель, с которой делали наброски.
Я попросила показать мне Сомова, о котором много рассказывали мои товарищи, восхищаясь его классными этюдами.
Я увидела полного, бледного молодого человека, который в ту минуту на кого-то пристально смотрел. По направлению его взора я увидела мою подругу по академии, замечательной красоты девушку, Елизавету Михайловну Мартынову. Она была маленького роста, изящно и пропорционально сложена. В ее лице был оттенок грусти, даже трагедии, что вызывало мысль о хрупкости этой девушки. Через несколько лет Сомов написал с нее чудный портрет. Он ныне находится в Третьяковской галерее под названием «Дама в голубом».
Перейдя из классов в мастерскую Репина, я ближе познакомилась и даже подружилась с Сомовым. Стала бывать у его родителей. Его отец, Андрей Иванович, был директором Эрмитажа. Это был высокий, сухощавый старик, строгого молчаливого характера.
Константин Андреевич с раннего возраста рос в среде высокой художественной культуры, которая не могла не повлиять на его творчество. Он производил впечатление своеобразного, оригинального человека. Много внимания уделял своей наружности. Носил сюртуки особого покроя, чрезвычайно изысканные галстуки.
При всех причудах и странностях, он вызывал у товарищей удивление и признание его большого таланта.
Ясно помню чувство изумления от неожиданности и восхищения, когда он принес на заданную Репиным тему свой эскиз. Эта вещь потом была известна под названием «Около пруда». Дама в прическе и платье XVIII века стоит спиной к зрителю перед ажурной решеткой канала и кормит лебедей. Впечатление большой свежести и тонкости в сочетании красок.
Вторая вещь, принесенная им в мастерскую, была «Людмила в саду Черномора».
Все толпились вокруг, удивлялись, кто бранил, кто восхищался, но равнодушного к ней среди нас не было.
Сомов выделялся своим подходом к живописи, какой-то до жути, до странности художественной искренностью. Я много раз замечала, как исключительно правдивые и искренние люди вызывают у других впечатление обратное — неискренности и притворства. Так и здесь. Его неумение, беспомощность, недостатки в рисунке принимались многими за выверт и ломание, а он иначе не умел. Видел свои ошибки, а не мог исправить, просто не умел.
Вся его живопись в целом — краски, рисунок и форма, в то время шла совершенно вразрез с академическим искусством, таким застоявшимся. И работы Сомова являлись каким-то ярким, гармоничным диссонансом среди современного искусства, в этом диссонансе был трепет жизни… И никакой черноты…
Позже я еще ближе подошла к его творчеству в Париже, когда оканчивала там свое художественное образование. Он жил в одном доме со мной и с моей подругой, Еленой Евгеньевной Владимирской.
Его углубленность и усидчивость в работе меня тогда поражали. Я за ним наблюдала. Он в то время исполнял заказ — иллюстрации к «Графу Нулину» Пушкина, и, завершая их, он с работой часто приходил к нам по вечерам. Эти рисунки радовали своей законченностью и мастерством.
Еще он работал маслом небольшую картину «Отдых в лесу». Две дамы в лесу, одна сидит, а другая стоит и, приложив руку к уху, видимо, прислушивается к окружающему лесному шуму, а может, к далеким голосам. У ног стоит собачка, на ближайшей сосне скачет белка. Вся вещь проникнута весенним чувством. Она очень тщательно закончена. Меня удивляла эта точность и тщательность в сравнении с тем, как работали в нашей Академии художеств.
Еще два раза мне приходилось близко наблюдать Константина Андреевича за работой. Это — когда он писал мои портреты…
Первый — в 1901 году. Писал он меня очень долго, каждый день в продолжение трех месяцев, и эта «совместная работа», как я называла писание им моего портрета и мое позирование, еще больше духовно сблизила нас. Все, что совершалось вокруг нас в области изобразительного искусства, в театральном мире, в литературе, в событиях страны, — горячо обсуждалось нами. Его большая культура, острота глаза и изощренность вкуса, огромная требовательность к самой работе, технике ее — все это влияло на мой внутренний рост.
Второй раз он писал мой портрет акварелью, если не ошибаюсь, в 1907 году. Писал долго, с большим напряжением, но неудачно, и он его уничтожил.
В награду за мое позирование он сделал с меня однодневный акварельный набросок. Только голову в натуральную величину. Во время блокады я подарила его П.Е. Корнилову, где он ныне и находится.
Нет среди русских художников художника, как Сомов, который умел бы так ярко, непонятным способом для зрителя передавать то неуловимое, то ускользающее, что не имеет определенной формы, не имеет слов и тем не менее передается зрителю, захватывает, чарует его.
Иногда чарует, иногда возмущает, но никогда зритель не остается равнодушным перед его картинами.
(Я здесь делаю оговорку — говорю о Сомове, о его творчестве до 1923 года, когда он уехал с нашей выставкой в Америку и остался в Париже. Между мною и им порвалось привычное общение.)
Острота наблюдения окружающей жизни, очень своеобразное восприятие, способность реагировать на всевозможные проявления делают его то страстным певцом женской красоты, то ее памфлетистом. Ирония, насмешка, издевательство по адресу человека чувствуются в его произведениях; и в то же время никто так не умел любовно передать грацию, молодость с ее прелестью.
Я считаю, что Сомов при жизни не был оценен и понят в полной мере. Его своеобразие, оригинальность принимали за кривлянье. Глубина его вещей была непонятна многим.
Я особенно любила ранние вещи, сделанные приблизительно до 1912 года, с их неуловимым весенним ароматом. Мои самые любимые из них: «Конфиденция», «Прогулка» (две дамы идут на фоне зимнего пейзажа), «Поэт» (два молодых человека сидят под развесистым дубом). Еще: «Радуга», «Белые ночи», да вообще сейчас и трудно перечислить все чудесные его вещи.
Некоторые из ценителей искусства считали как раз расцветом его творчества последний период, который я меньше ценю.
6 мая 1939 года в Париже умер Константин Андреевич Сомов — мой давнишний близкий друг и товарищ. Мы рядом шли так долго вместе: в самую лучшую пору нашей жизни. В пору исканий, в пору своего утверждения и борьбы.
Благодаря самобытности его таланта творчество Сомова должно оцениваться нами как блестящее художественное наследие, вошедшее в историю культуры русского народа.
* * *
Членом нашего общества также была замечательная художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова, урожденная Лансере. Она, живя несколько лет в деревне, в небольшом имении «Нескучное» своего покойного отца, Евгения Александровича Лансере
[253], знаменитого скульптора, близко подошла к жизни окружающего ее русского народа, его полюбила, его приняла, его восприняла полной душой. Ее вещи, как большая картина «Беление холстов» (Третьяковская галерея), «Отдыхающие жницы» (Русский музей), «Спящая крестьянка» и многие другие, поражают зрителя своим широким письмом, силой и хорошим рисунком.
Она немного напоминает Венецианова своим подходом к русской жизни и красотой композиции.
В 1915 году Серебрякова получила заказ, позволивший ей вполне развернуть свои декоративные наклонности. Ей было поручено исполнить четыре круглых панно, аллегорически изображающих Индию, Японию, Турцию и Сиам, для большого зала строившегося тогда в Москве вокзала Московско-Казанской железной дороги, но вскоре его постройка была приостановлена.
В самый расцвет и подъем ее творчества над ней разразилась неожиданная буря. В начале революции внезапно умер ее муж, и она, молоденькая женщина с четырьмя детьми, покинула против своей воли «Нескучное», переехала в Петроград, где очень нуждалась. <…>
Она бедствовала, и ее положением воспользовались некоторые коллекционеры. Они задаром, за продукты и поношенные вещи обильно брали ее произведения, и вскоре ей стало так трудно жить и работать, оторванной от любимой ею природы и близкого ей народа; она решила уехать за границу, оставив двух детей и мать на попечение своих братьев, а двух других — взяла с собой.
* * *
Ее брат, Евгений Евгеньевич Лансере, был несколько другого склада. Более стойкий и энергичный.
Это был мой большой друг, верный и постоянный. К сожалению, многие годы мы жили с ним далеко друг от друга. Он почти все время прожил в Тбилиси и в других кавказских городах, где преподавал. Воздух Кавказа был ему приятен и вдохновлял его на изображение окружающей природы, людей и животных. Особенно он любил лошадей, как бы унаследовав от своего знаменитого отца пристрастие к этим животным. Он отлично их рисовал.
Это был художник очень богато одаренный, с на редкость широким диапазоном. Его крошечные графические украшения на многих книгах так же высокоталантливы, как его картины и огромные композиции, которыми он украсил панно Казанского вокзала и плафоны в других зданиях Москвы. По характеру своему это был очень скромный человек, редкого благородства. Он сознавал в себе огромную силу, и в жизни своей выше всего ставил работу и результаты ее, а не достижение наград и похвал.

Я не буду о нем подробно говорить, так как после его смерти было несколько попыток дать его биографический очерк (В. Лобанов, К. Кравченко, Н. Шантыко)
[254], но этого всего далеко не достаточно, чтобы воссоздать цельный образ этого замечательного художника. Я уверена, что в недалеком будущем издадут полную и исчерпывающую монографию о его творчестве.
Последний раз я его видела, когда была в Москве в 1944 году. Прошло сорок шесть лет, как мы с ним подружились, и наша дружба до конца была неизменна. Я его тогда, в Москве, нашла бодрым, веселым и энергичным.
Никогда не думала и не ожидала, что он так скоро уйдет от нас.
* * *
Еще вспоминаю о Добужинском.
Мстислав Валерианович Добужинский не сразу примкнул к обществу «Мир искусства». Он в то время жил и учился в Мюнхене. Но вскоре, приехав в Россию, стал участвовать в выставках этого общества и сразу привлек всеобщее внимание своей одаренностью. Широта его творчества была очень велика. Он был хорошим графиком, делал отличные иллюстрации для книг — «Белые ночи» Достоевского, «Станционный смотритель» Пушкина и многие другие.
Он дал целый ряд отличных акварелей городов родины и заграницы. Он создал альбом видов Ленинграда, нашего прекрасного города. Он не пленился красотой его зданий, величием Невы, перспектив и площадей, а старался изобразить его изнанку. В его литографиях были изображены то дворы с огромными штабелями дров, то закоулки с высокими заборами, то ряды скромных домиков.
Он славился между художниками легкостью, с которой делал изображения на любые темы.
У Бенуа бывала одна игра: когда собирались к нему его близкие друзья-художники, то предлагалось им здесь же, на заданные темы отвечать своими рисунками или акварелью под секретным псевдонимом. Так, например, давались задачи изобразить эмоции человека: смех, испуг, ужас, горе, восторг или другое что-либо, связанное с движением: драку, бегство, танец и т. п.
Художники садились кругом и тайно друг от друга делали рисунки на заданную тему. При этом каждый художник подписывал свой рисунок псевдонимом, взятым им на этот вечер. Иногда занятие это длилось долго, так как увлеченные художники старались как можно лучше ответить на предложенную тему. Иногда выбиралось жюри, чаще всего из присутствующих членов редакции журнала «Мир искусства», за лучший рисунок и акварель ставились отметки, а затем открывался псевдоним и назывался автор лучшего рисунка. Очень мне запомнилось одно такое собрание, когда я сама не работала, а наблюдала за всем происходившим.
Недалеко от меня, на углу стола, примостился Кока Бенуа, которому тогда было лет десять. Он решил тоже заняться этой игрой. Когда жюри, в котором я тоже участвовала, выбрало рисунки и вскрыло псевдонимы, то лучшие оказались сделанными Кокой Бенуа, а следующим по качеству своих рисунков был Добужинский.
Меня всегда поражала у Добужинского легкость, с которой он рисовал на заданную тему. В эти минуты мне казалось, что карандаш его — живой инструмент, полный энергии, изящества и точности.
Добужинский среди художников был очень популярен и пользовался общей любовью.
Он участвовал в театральной жизни: много работал в Московском Художественном театре, у В.Ф. Комиссаржевской. Сделал декорации для пьесы Тургенева «Месяц в деревне», «Где тонко, там и рвется», к «Франческе да Римини» Габриеля д’Аннунцио и др.
[255]
Большого размера картин он не делал, но есть исключение. Им создана была отличная вещь, очень большого размера, изображающая Петра I, работающего на верфи в Голландии, в Саардаме. Она была исполнена для нового здания школы имени Петра I. Где она находится сейчас, я точно не знаю…
* * *
Трудно говорить о художнике Петрове-Водкине. Это была очень сложная натура, широко одаренная многими талантами. <…>
Его часто условная живопись, как, например, женские портреты, в два-три раза больше натуральной величины, его условные композиции, как «Купание красного коня», ярко говорят о том, что молодого художника влекло к росписи широких пространств и больших плоскостей, иначе говоря — к монументальной живописи. Глядя на его произведения, я воображала их написанными в каком-нибудь куполе храма, овеянными волнами ладана, смягченными большим воздушным пространством. Размеры голов и фигур благодаря большому расстоянию казались бы вполне нормальными.
Мне становилось ясно, что судьба не дала Петрову-Водкину счастливого случая показать себя как талантливого монументального живописца, какими удалось быть Нестерову и Врубелю.
Я не знаю среди наших художников никого, кто бы так глубоко, тонко и нежно передавал на холсте впечатления и чувства материнства. Этого отнять от него нельзя.
Петров-Водкин блестяще изображал мертвую натуру. Живопись его из условной становилась реалистической, технику он доводил до совершенства, и нельзя было налюбоваться на его натюрморты. Я надеюсь, что он получит настоящую верную оценку своему творчеству от современных искусствоведов.
Кроме живописного, он обладал литературным даром, написав две книжки своей автобиографии: «Хвалынск» и «Пространство Эвклида».
Он был очень музыкален, и в своих музыкальных импровизациях талантлив и неистощим…
* * *
Я должна назвать двух замечательных художников — В.А. Серова и М.А. Врубеля, которые, не состоя членами «Мира искусства», всегда участвовали на выставках этого общества. Их симпатии к группе художников «Мира искусства» были глубоки и искренни. Они вполне понимали и ценили ум и дарования А.Н. Бенуа и его товарищей, цели общества и их неиссякаемую преданность искусству.
Серов после дня работы и дружеского обеда у А.Н. Бенуа забирался глубоко на диван и, держа в губах толстую сигару, тихо покуривал, наблюдая за всем окружающим. Он упорно молчал, и только по поблескивающим, суженным глазам видно было, что он не спит, а бодрствует. Через час, через два, отдохнув, он вступал в разговор метким словом, острой насмешкой. Иногда принимался рисовать кого-нибудь из присутствующих. Так и меня он однажды приковал к креслу и сделал литографическим карандашом на корнпапире легкий набросок. Рисовал он больше двух часов, причем, что ему не нравилось, энергично соскабливал ножом.
Валентин Александрович очень сблизился с кружком «Мира искусства» и даже «изменил» своему другу Василию Васильевичу Матэ, у которого прежде всегда останавливался, когда приезжал работать в Петербург.
Теперь интересы журнала «Мир искусства» стали ему очень близки. Он, так же как и члены редакции, нелегко переживал тяжелые затруднения. Когда надо — существенно помогал.
Для легкости общения с новыми друзьями он останавливался у Дягилева, где помещалась редакция журнала. Я часто от Бенуа возвращалась вместе с ним домой, так как жила недалеко от редакции.
Несколько раз видела в те годы Михаила Александровича Врубеля — у Бенуа и на выставках. Он вызывал среди нас всеобщее поклонение своему огромному таланту и глубокий интерес к своей богатой и исключительно одаренной личности художника. Я была страстной поклонницей его вещей и с неослабным вниманием наблюдала за ним. Он был неразговорчив, молчалив и по наружности непримечателен, но его живописные работы вызывали во мне восторг и непонятное волнение. Его сочетания красок были неожиданны, терпки и необыкновенно полнозвучны. Сочетание холодного зеленого цвета со всеми оттенками синего или лилового он первый ввел в живопись. И как его живопись звучала! Какая насыщенность! Его росписи в церкви Кирилловского монастыря я предпочитала васнецовским во Владимирском соборе в Киеве.
Во время устройства выставок «Мира искусства» я прежде всего шла смотреть вещи Врубеля. Он всегда присутствовал при развеске своих произведений, сосредоточенно и молча приводя их в порядок. Помню, как он, незадолго до своей болезни, заканчивал на выставке «Демона». Картина была уже повешена, а он все-таки каждый лень приходил и в ней что-то переписывал. Даже в день открытия, когда уже ходил народ, он, взобравшись на лестницу, вновь ее переписал, все в ней изменив. Чувствовалось, как он стремился с величайшим напряжением уловить то. что ему так хотелось реально, в красках, в ней выразить.
Теперь, когда я пишу, многое из его великолепной живописи за прошедшие годы вошло в нашу художественную культуру, а в то время его вещи, как «Демон», «Раковина», «Тридцать три богатыря», «Пан» и многие другие, были неожиданным, прекрасным, гениальным откровением.
* * *
Я смотрю на появление и существование общества «Мир искусства» как на очень яркое, блестящее явление. <…>
Надо помнить, что общество «Мир искусства» формировалось и росло в чрезвычайно тяжелую эпоху царствования Александра III и Николая II. Действительность кругом была кошмарна. Расстрелы рабочих и крестьян. Все чувствовали себя живущими под тяжелой плитой, которая давит на мозг и на грудь. Иногда страстно хотелось уйти к какой-то свободе, к какому-то свету.
«Восемнадцатый век» у Бенуа, «Арлекинаду» Сомова можно рассматривать как желание художника уйти от окружающей жизни. Тем более, что художники «Мира искусства», не в пример другим обществам художников, не могли не реагировать на действия и поступки правительства и свое негодование и возмущение выразили в 1905 году созданием сатирического журнала «Жупел».
Чтобы выразить протест и солидарность с угнетенными, художники «Мира искусства» и некоторые из писателей решили издавать журнал политической и художественной сатиры.
В продолжение лета 1905 года будущие участники этого журнала собирались у Максима Горького в Куоккала, а потом у Добужинского, у Билибина. Одно из таких собраний состоялось и у нас на квартире, на 13-й линии Васильевского острова. Пришло много художников: Браз, Серов, Кустодиев, Лансере, Билибин, Чемберс, Добужинский, Анисфельд, Гржебин, Сомов, Бакст. Бенуа отсутствовал, так как был за границей, где лечил своего маленького сына.
Из писателей обещали свое участие Максим Горький, Леонид Андреев, Куприн, Гусев-Оренбургский, Амфитеатров, Щеголев
[256], Нурок и многие другие. Гржебин был выдвинут как главный организатор и как будущий редактор. На этом собрании детально вырабатывалась программа, главным образом лицо будущего журнала. Было решено, что журнал должен бичевать царскую власть за ее двуличие, ничтожество и жестокость. Быстро был набросан план первого номера, да и для следующих набралось довольно много материала.
Потом обсуждались и разрешались вопросы технического и организационного характера. На расходы между присутствующими было собрано 220 рублей. Довольно долго подыскивали название этому журналу. В конце концов остановились на названии «Жупел».
Первый номер имел огромный успех. Он весь разошелся в несколько часов. На первой странице был помещен рисунок Анисфельда «1905 год, кровавые кошмары казней», на последней странице рисунок Гржебина — «Орел-оборотень, или Политика внешняя и внутренняя».
Серов поместил в этом номере свой знаменитый рисунок «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?».
Добужинский дал рисунок «Октябрьская идиллия». Безлюдная улица. Висят национальные флаги. На углу дома прибита кружка Красного Креста и рядом, на стене, наклеен знаменитый манифест. Под ним стена и панель залиты кровью. На краю панели лежит кукла, дальше — очки. Рисунок, полный трагизма.
Второй номер был сделан под влиянием ужасных событий в Москве. Трилогия: «Вступление» Кустодиева, «Бой» Лансере, «Умиротворение» Добужинского, — производила сильное впечатление. Вообще этот номер был полон талантливых иллюстраций. На 12 страницах — шесть крупных рисунков, кроме десяти мелких. На первой странице — акварель Билибина «Царь Дадон с сыном своим, славным и могучим богатырем, и с дворцовой камарильей», на последней, в виде народной картинки — «Как наш славный генерал нашу крепость покорял».
Третий номер был посвящен Новому году и памяти погибших.
На первой странице рисунок Добужинского «1905–1906», как всегда очень сильный по внутреннему чувству. На следующей странице, в траурной раме «9 января» — прекрасные стихи Гусева-Оренбургского. Над этим стихотворением была помещена моя небольшая гравюра. Мысль моя в ней: из погребального праха возрастает новая, молодая жизнь, олицетворенная в маленьком деревце, упрямо тянущемся из тяжелого каменного саркофага.
Дальше был рассказ Максима Горького «Собака». Из иллюстраций акварель Гржебина «Крепись, еще один последний шаг» и графическая вещь Билибина — осел среди царских, геральдических украшений: «Апофеоз глупости». Очень хорошая вещь Д.Н. Кардонского «Ну, тащися, Сивко!». На ней были изображены крестьяне, которые пашут землю в сопровождении казаков, понукаемые ими.
Это был последний номер. К Билибину на квартиру явились жандармы и после тщательного обыска арестовали его. В тюрьме сидел уже Гржебин. Редакция была разгромлена, и весь материал увезен. Так кончил свои дни «Жупел».
* * *
<…> Еще я считаю необходимым рассказать про отношение моих товарищей по «Миру искусства» лично ко мне.
С самого начала и в первые годы существования этого общества я являлась среди художников единственной женщиной-художницей. Через несколько лет вошли в общество членами Елизавета Сергеевна Кругликова и Зинаида Евгеньевна Серебрякова.
Я всегда встречала среди моих товарищей и друзей серьезное отношение, без тени флирта и ухаживаний, но с огромной бережливостью к моему хрупкому здоровью. К моим работам они относились всегда с большим вниманием, с горячей, всегда резкой критикой и с требованиями высокой художественной культуры.
Я никогда среди них не чувствовала снисходительности, как тогда бывало часто у мужчин к женщине той же профессии.
Теперь это непонятно, так как в наше революционнее время равноправие женщин вошло глубоко в нашу обыденную жизнь. Тогда была другая эпоха, и я очень ценила их требовательное и серьезное отношение ко мне. И я не боялась выступать во время наших собраний и совещаний с моими возражениями и критикой, так как я знала, что к ним отнесутся с должным вниманием.
Перечисляю имена членов общества «Мир искусства», напечатанные в каталоге выставки 1918 года:
Н.И. Альтман, Б.И. Анисфельд, А.А. Арапов
[257], Л.С. Бакст, Алекс. Ник. Бенуа, И.Я. Билибин, К.Ф. Богаевский, О.Э. Браз, А.Э. Гауш, А.Я. Головин, А.С. Голубкина, H.С. Гончарова, Б.Д. Григорьев, М.В. Добужинский, И.В. Жолтовский, В.Д. Замирайло, А.Е. Карев, С.Т. Коненков, П.П. Кончаловский, Е.С. Кругликова, В.В. Кузнецов
[258], П.В. Кузнецов, А.В. Куприн, Б.М. Кустодиев, Е.Е. Лансере, Н.Е. Лансере, А.В. Лентулов, Е.К. Лукш-Маковская, А.Т. Матвеев, И.И. Машков, Н.Д. Милиоти, А.И. Мильман
[259], Д.И. Митрохин, Г.И. Нарбут, А.П.
Остроумова-Лебедева, К.С. Петров-Водкин, В.А. Покровский, В. Пурвит, М.С. Пырин
[260], Н.К. Рерих, В.В. Рождественский, А.И. Савинов, М.С. Сарьян, З.Е. Серебрякова, Л.Р. Сологуб
[261]. К.А. Сомов, Д.С. Стеллецкий, С.Ю. Судейкин, A. И. Таманов, Н.А. Тархов, Н.П.Ульянов, П.С. Уткин
[262], В.Д. Фалилеев, Р.Р. Фальк
[263], И.А. Фомин, С.В. Чехонин, А.К. кн. Шервашидзе
[264], В.И. Шухаев, B. А. Щуко, А.В. Щусев, А.Е. Яковлев, Г.Б. Якулов
[265], С. П. Яремич, Н.П. Феофилактов.
Позднее вступили в члены «Мира искусства» многие молодые талантливые художники: В.П. Белкин, К.Е. Костенко, В.В. Воинов и др.
* * *
<…> Последняя выставка «Мира искусства» была в 1924 году, и, несмотря на то что в данное время большинства художников — членов общества «Мир искусства» нет в живых, их произведения в большом количестве находятся во многих музеях нашего Союза: в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее и в др. <…>
Приложение II.
Болезнь и смерть академика Сергея Васильевича Лебедева (изобретателя синтетического каучука и основоположника каучуковой промышленности){8}
В 1934 году Сергей Васильевич был очень озабочен состоянием каучуковой промышленности. На больших заводах не получался хороший каучук. Добиться хорошего каучука — это была главная задача, которая стояла перед ним.
Вторая задача, которую он стремился разрешить, состояла в следующем: Опытный завод давал каучук очень хорошего качества, из которого без примеси натурального делали покрышки, калоши и разные изделия. Но Сергей Васильевич хотел выработать в нем некоторые свойства, которых в нем недоставало, так сказать, усовершенствовать его, тем более что он знал, что этого можно достичь.
Еще задача, которую он ставил перед собой для разрешения, — это использование и обработка отходов.
С 1931-го и до 1934 года и дальше начальником СК был О.И. Осипов-Шмидт. Тяжела была власть Осипова, и трудно было с ним ладить. Только необыкновенная выдержка и спокойствие Сергея Васильевича сохраняли равновесие.
Я первый раз его увидела на Опытном заводе, в кабинете Сергея Васильевича. Сергей Васильевич мне его представил. Осипов, сделав два шага навстречу и протягивая руку, громко и резко засмеялся. При звуке этого смеха мне стало жутко, и я подумала: «С какими страшными людьми приходится Сергею Васильевичу иметь дело».
Я много слышала от Сергея Васильевича и от Пекова о его самонадеянности, самоуправстве и чрезвычайном властолюбии; но самая яркая черта его характера была — его сатанинское честолюбие. Для его удовлетворения он топтал людей без жалости. Он не терпел ничьего авторитета. Он заставил уйти из правления СК химика Лурье, которого Сергей Васильевич считал знающим и опытным химиком-резинщиком.
Только Сергея Васильевича Осипов никак не мог свалить, как бы ему этого ни хотелось. Слишком большим авторитетом пользовался Сергей Васильевич.
Осипов с первых шагов своей деятельности как председатель СК начал попытки понизить значение Опытного завода; против всякой очевидности стремился показать его ненужность.
Он поспешил снять с работы Пекова, который был не только строителем и организатором этого завода, но и его директором. Пеков был очень энергичен, напорист в деле и самоотверженно, не менее Сергея Васильевича, предан всему делу СК. Он был мало образован, но отлично справлялся со своим директорством, рабочие, служащие, инженерный персонал его любили, и он в них умел вызывать энтузиазм в работе.
Под предлогом, что ему надо повысить квалификацию, Осипов велел организовать его учебу и снял его с работы, как Пеков ни упирался. Краузе мог бы его поддержать и защитить, но он этого не сделал. Вообще все эти годы Краузе держал себя очень уклончиво и спокойно смотрел, как Кроль, а потом Дорн разваливали завод; он боялся защитой завода не угодить Осипову.
Осипов назначил на место Пекова своего родственника Кроля, который оказался совершенно негодным директором, но он имел точные директивы, как в дальнейшем вести завод. Работу на заводе он стал сокращать; многие опыты были сняты с этого завода и против всякого здравого смысла перенесены на большие заводы, без проверки на Опытном заводе.
Стали на Опытном заводе готовить какие-то резиновые подошвы, отводя завод от своего прямого назначения, — передавать уже проверенные Опытным заводом процессы, приборы на большие каучуковые заводы.
После переезда Кроля в Ленинград мы с Сергеем Васильевичем, гуляя вечером перед сном, постоянно видели заводскую машину на проспекте Володарского, у дома НКВД. Кроль, будучи земляком Медведю, постоянно по вечерам у него бывал и поддерживал с ним близкую связь. Только исследовательскую лабораторию, во главе которой стоял Сергей Васильевич, Кроль пока не трогал.
Осипов старался отмежеваться от Опытного завода. Стал на больших каучуковых заводах, отходя от данных Опытного завода, делать на свой риск опыты и пробы на больших аппаратах, часто заглазно диктуя распоряжения, касающиеся технологических процессов, в которых он плохо разбирался. Он не исполнял требований Сергея Васильевича об организации разделочных цехов на больших заводах, в которых каучук, полученный на этих заводах, превращали бы там в товарный каучук с определенным качеством.
Получались провалы. Получались человеческие жертвы. Получался такой скверный каучук, что Резинотрест теперь решительно отказывался из него что-либо вырабатывать.
Происходил конфуз и скандал.
Такое положение вещей очень угнетало Сергея Васильевича, так как дискредитировало им изобретенный способ приготовления каучука.
Только получение на Опытном заводе целого ряда блоков каучука отличного качества могло немного успокоить тревогу за свое изобретение Сергея Васильевича.
Но этот каучук получался сравнительно в небольшом количестве и главным образом шел в исследовательскую лабораторию и на те изделия, которые требовали проверки здесь же, на Опытном заводе.
Из этого каучука без примеси натурального были сделаны покрышки, которые блестяще показали необыкновенную устойчивость против трения (экспедиция в Каракумы).
Сергей Васильевич много раз говорил, что Осипов своей «отсебятиной» на больших каучуковых заводах может сильно задержать развитие этого дела и понизить качество каучука, дискредитируя имя изобретателя.
Стучаться к Орджоникидзе было напрасно. Осипов зорко следил, чтобы не допускать Сергея Васильевича к более близкому общению с Орджоникидзе, в чем ему помогал секретарь Орджоникидзе, близкий приятель Осипова. Пятаков совершенно определенно выражал недоверие к способу Сергея Васильевича.
Но самое худшее было то, что, несмотря на сильный протест Сергея Васильевича, Осипов сообщил многим химикам на заводе секрет катализатора синтетического каучука.
Пеков и я просили Сергея Васильевича принять против этого какие-нибудь меры. Сергей Васильевич с нами соглашался, но при этом не раз говорил: «Мне трудно с ним бороться. Я погибну в этой борьбе. Осипов молод, я стар. У Осипова громадные связи, и ему безусловно верит Орджоникизде, а за мною такого нет. Потом Осипов способен употреблять такие приемы борьбы, которые для меня недопустимы и которые я даже и предвидеть не могу. Он на все способен! Я погибну в этой борьбе!»
Но в необходимости принимать какие-то меры соглашался и Сергей Васильевич, и он решил действовать.
Будучи в Москве, он, чтобы помочь делу и обуздать «отсебятину» Осипова, на одном из заседаний открыто заявил о необходимости создать комитет или совет при правлении СК из лучших химиков и инженеров-технологов. Сергей Васильевич мотивировал причины организации такого совета новизною этого дела, его размахом и величайшими трудностями.
К этому мероприятию склонялся и инженер Юшкевич, который стоял во главе Технического комитета по секции химии, контролировавшего всю химическую промышленность, в том числе и каучуковую. Но поведение его во всем этом мероприятии и в отношении его к Сергею Васильевичу, как мне при жизни рассказывал Сергей Васильевич, было последнему не ясно, а на меня производило впечатление двуличного и провокационного.
На совещаниях Осипов горячо протестовал, сердился и был решительно против этого комитета. Он напряженно наблюдал за Сергеем Васильевичем.
Когда Сергей Васильевич с кем-нибудь говорил отдельно, он подходил к нему и, ласково его обнимая, прислушивался к их разговору.
К Сергею Васильевичу на дом стал приходить инженер Воловик, будто бы по поручению Юшкевича, по делам создания этого комитета, и в это же время, как я потом узнала, поддерживал тесную связь с Осиповым. Он, по-видимому, по отношению к Сергею Васильевичу сыграл темную, предательскую роль.
Итак, Сергей Васильевич, человек честный, простой и правдивый, был окружен группою лиц беспринципных и способных на все.
Своими энергичными попытками создать комитет он восстановил против себя Осипова. Взаимоотношения Юшкевича и Осипова были ему неясны. Они все напряженно следили за ним. В Москве — Осипов. Юшкевич, Пятаков, все Правление СК, в Ленинграде — Воловик, Кроль и за его спиной начальник НКВД — Медведь.
С этого времени началось небрежное и невнимательное отношение Осипова к Сергею Васильевичу, когда он приезжал в Москву. Ему никогда не была забронирована комната в гостинице, как это было раньше. Приехав в Москву, Сергей Васильевич первым делом принимался искать себе ночлег и почти никогда ничего не находил. В общежитиях Академии наук, секции Дома ученых он отказывался останавливаться, так как отдельной комнаты приезжающему не полагалось, а в комнате, где несколько человек помещалось, он не мог заниматься, да и ночевать и отдохнуть в такой комнате, где все ночующие приходят в разное время, зажигают электричество, разговаривают, храпят, было невозможно.
Трудно этому поверить, чтобы Сергей Васильевич, академик, орденоносец, изобретатель искусственного каучука, не мог достать себе в любой гостинице свободной комнаты или настоять, чтобы ему ее дали.
Но таков был его характер. Необыкновенная, болезненная застенчивость и скромность. Нельзя было ожидать от него, чтобы он когда-нибудь упомянул про свой орден или говорил бы о заслугах своих, добиваясь в гостинице комнаты. Это было бы так не похоже на него! Это был бы не он!
В одну из своих поездок, в последнюю зиму, когда он, изъездив всю Москву и не найдя ночлега и места, где бы он мог отдохнуть, он приехал в Правление СК, и секретарь сказал, что все-таки Правление СК могло бы ему помочь в отыскании ночлега, этот секретарь отправил Сергея Васильевича в общежитие СК.
Сергей Васильевич поехал туда. Что же это оказалось?! Длинный деревянный барак, оставшийся после сезонных рабочих во дворе каких-то деревянных домов. Одной своей стороной и односкатной крышей этот барак прилегал к высокой стене соседнего дома. Внутри маленькие комнаты, очень скудно обставленные. В уборной и умывальнике грязь и отсутствие примитивного комфорта: некуда повесить полотенце и поставить мыльницу. Но самое возмутительное, что было в этом общежитии, — это то, что, когда входил в этот барак человек, он оттуда уже самостоятельно не мог выйти, надо было звонить, и тогда сторож, где-то живший на дворе, приходил и отмыкал снаружи входную дверь. А если случится пожар! Просто трудно поверить, чтобы такая небрежность могла быть проявлена к человеку, который так много сделал для страны и который, если б не дал своего изобретения, то и не было бы самого Правления и вообще всего СК.
Сергей Васильевич не решился ночевать в таком общежитии, а предпочел уехать в Ленинград.
19 апреля 1934 года, в день, когда Сергея Васильевича, заболевшего сыпным тифом, на носилках перенесли в госпиталь, вечером, глядя на меня, сидевшую на табуретке напротив его постели и ждавшую, когда мне устроят возможность лечь и отдохнуть, он, поглядев на меня внимательно, спросил:
— Ведь ты очень устала?
— Так устала, что даже не могу тебе и передать!
— Вот, ты теперь имеешь представление, как я утомлялся каждый раз в Москве. Иногда, вместо того чтобы отдохнуть в тишине после заседания перед отъездом в Ленинград, приходилось сидеть шесть, семь часов в душном вокзальном буфете и ждать отхода поезда. Трудно тебе передать, как мне это было тяжело!..
Летом, 26 июля 1934 года, должно было исполниться Сергею Васильевичу 60 лет. Сергей Миронович Киров хотел торжественно отпраздновать этот день, связав его с развитием каучуковой промышленности, сделав из него большой общественный праздник. Об этом шли разговоры: как это будет, где? И когда? Сотрудники и ученики больше говорили со мной, а Сергей Васильевич не участвовал в этих разговорах. Осипов же упорно об этом молчал.
Но всему этому не суждено было сбыться. Тою же весною Сергею Васильевичу было предложено объединить большие заводы в Ефремове, Воронеже и Ярославле. Особенно на этом настаивал Пятаков и инженер Юшкевич. Мер, чтобы обставить для него эти поездки более или менее комфортабельно, со стороны СК не были приняты.
Правление СК в то время имело свой собственный аэроплан и, конечно, несколько машин.
28 марта Сергей Васильевич уехал в Москву. Уехал он на поезде «Стрела».
Перед отъездом его я очень беспокоилась, видя, что никаких забот со стороны Осипова и Опытного завода не было проявлено, чтобы сберечь его силы и обставить сколько-нибудь удобно его поездки.
Когда я высказала Сергею Васильевичу мое беспокойство и желание с ним ехать, он меня успокоил, сказав, что ему сообщили, что у Правления СК есть специальный вагон для своих служащих, в котором он и поедет в Ефремов. Но такого вагона в Москве не существовало. Кем и зачем был введен в заблуждение Сергей Васильевич? Я не знаю.
Из Москвы я получила от него письмо, в котором он между прочим пишет, что секретарь, г. Тадорская, к его удивлению, устроила ему ночлег в какой-то частной квартире, в незнакомой для него семье. Он доверчиво принял это предложение и провел там две ночи — с 29-го по 30-е и с 30 по 1 апреля. По приезде домой он говорил, что семья состояла из дамы и ее дочери, муж ее будто бы был в отъезде.
Он, смеясь, рассказал, что ему устроили хорошую, как он выразился, «парадную» постель. Фамилию и адрес этой дамы я забыла, когда Сергей Васильевич мне говорил.
1 апреля он выехал с директором Ефремовского завода Матвеевым в Ефремов. Ехали они в жестком вагоне, Сергей Васильевич в вагоне вымазался предохранительной жидкостью от вшей, 3 апреля в ночь он обратно выехал в Москву и, не останавливаясь, на «Стреле» приехал в Ленинград.
13 апреля доктора считают началом его болезни, хотя в этот день он был на ногах, на заводе и вечером в театре.
14-го он неожиданно вернулся рано, оставя в кабинете портфель, прошел в спальню, сам раскрыл кровать и лег, чтобы больше уже не встать.
Я сразу почувствовала что-то особенное в его заболевании и тотчас же пригласила проф. Черноруцкого.
Через два дня я просила приехать врача Рафаила Рафаиловича Сыромятникова, который в 1928 году в Рыбинске спас Сергея Васильевича от смерти.
Просмотрев запись температур, Рафаил Рафаилович внимательно исследовал кожу у больного на груди и руках, и я заметила, как слезы навернулись на глаза старика.
Он вышел и сказал мне, что у Сергея Васильевича сыпной тиф и что при возрасте Сергея Васильевича мало надежды на выздоровление. Он возмущался той небрежностью, проявленной со стороны СК. То же самое чувство выражал и заведующий острозаразной клиникой. Он не находил достаточно слов, чтобы выразить свое негодование, особенно еще и потому, что никакой эпидемии сыпного тифа в то время не было.
В день переноса Сергея Васильевича в острозаразную клинику, куда я тоже ходила, 19 апреля, я написала письмо тов. Орджоникидзе, ища в нем опору и поддержку.
Вот оно:
«Уважаемый тов. Орджоникидзе. Пишет Вам жена Сергея Вас. Лебедева, изобретателя синтетического каучука. Сергей Васильевич заболел сыпным тифом, и сегодня его переносят в острозаразную клинику. Я давно уже с большой тревогой следила за его поездками в Москву. Он не был окружен достаточным вниманием и заботой. Правление СК не имеет для него забронированной комнаты в Москве, в гостинице. Он, приезжая в Москву, каждый раз ищет пристанища для ночлега и отдыха и часто ничего не находит. В последний раз, когда он, не найдя ночлега, обратился за помощью в Правление СК, его направили в общежитие СК. Это оказался деревянный барак, выстроенный для сезонников, внутри — грязь и отсутствие комфорта.
Особенность этого помещения совершенно дикая, та, что находящиеся внутри могут выйти из барака только с помощью сторожа, живущего где-то во дворе, и только тогда, когда он отомкнет снаружи дверь.
Заболел Сергей Васильевич сыпным тифом, потому что ехал в грязном вагоне из Москвы в Ефремов. Из-за такой позорной причины ставится на карту такая жизнь. Он мне очень дорог, и я убеждена, и Вам и стране. Помогите его спасти и, если он останется жив, подумайте, каким наилучшим способом восстановить его потрясенное здоровье.
Я с надеждой обращаюсь к Вам за помощью и за опорой…»
Ответа на это письмо я не получила. Видимо, это письмо не было передано Орджоникидзе. Его секретарь был близким другом Осипову.
Когда Сергея Васильевича перенесли в клинику, уложили и раздели, подошел ко мне доктор Пименов и, пристально глядя на меня, сказал: «А знаете ли вы, что сыпнотифозные вши продаются на рынке?»
При его внезапно сказанных словах у меня как молния цепь неожиданных мыслей и сопоставлений пронизала мозг, и я почувствовала такое сильное потрясение и глубокий ужас, что ясно ощутила, как на моей голове поднялись и зашевелились волосы!..
Сергей Васильевич погиб. Так было отпраздновано шестидесятилетие человека, которым должна была гордиться страна и который по своему происхождению и по крови всецело вышел из народа.
Человек с гениальным умом, с бескорыстным и благородным сердцем, отдавший все — свой ум, знание и труд всей жизни — своему народу.
О том, что Сергей Васильевич умер от сыпного тифа, никто не знал. После смерти Сергея Васильевича, в конце мая, я была у Сергея Мироновича Кирова. В разговоре с ним я между прочим говорила ему, какое большое значение Сергей Васильевич придавал Опытному заводу и тем пробам и опытам, которые там должны были проводиться и не проводились. Какое значение придавал Сергей Васильевич организации мастерских на Опытном заводе, где бы из его каучука готовили покрышки, калоши и резиновые изделия под наблюдением его и его учеников, чтобы доказать «Треугольнику», который саботировал, что из этого каучука очень хорошо можно было приготовлять изделия.
Говорила тов. Кирову, что Сергей Васильевич решил, когда получит за свое изобретение один миллион рублей, то 500 тысяч отдать своим сотрудникам, а свои 500 тысяч отдать на постройку своей лаборатории в Академии наук. Сказала Сергею Мироновичу, что, следуя воле мужа, после смерти я эти деньги не возьму, а прошу их потратить на лабораторию имени Сергея Васильевича. Еще говорила, как ценил Сергей Васильевич Г.В. Пекова за его честность и преданность делу СК и как Сергей Васильевич не переставал жалеть, что Осипов, желая развалить Опытный завод, взял оттуда Пекова.
К общему несчастью, через 6 месяцев не стало Сергея Мироновича Кирова.
Линия поведения Осипова по отношению к Сергею Васильевичу, взятая еще при его жизни, яснее и резче определилась после его смерти.
При жизни Сергея Васильевича была выпущена книга «Одно из многих», автор Зорич. Она поражает своим односторонним, предвзятым направлением — восхвалением Осипова, его заслуг в каучуковой промышленности. О Сергее Васильевиче в ней говорится вскользь, между прочим.
Сергей Васильевич посмеивался, читая эту книгу, а во многих местах, где она была научно невежественна, он делал многочисленные пометки.
Так было при его жизни. После его смерти у Осипова были развязаны руки. Около него не стоял большой человек с громадным авторитетом, с которым надо было считаться.
Теперь в статьях и докладах о нашем каучуке, помещаемых в наших и заграничных журналах, не упоминается даже имя Сергея Васильевича — изобретателя и основоположника каучуковой промышленности.
Пройдет несколько лет, и молодежь не будет знать его имени.
Честолюбие Осипова сейчас удовлетворено. Он в декабре 1936 года назначен заместителем Орджоникизде.
Февраль 1937 г.
А. Остроумова-Лебедева

Примечания
1
Романов Николай Ильич (1867–1948) — искусствовед, был хранителем отделения изящных искусств и классических древностей Московского Румянцевского музея, а не директором его. Речь идет о выставке «Гравюры на дереве А.П. Остроумовой-Лебедевой», организованной кабинетом гравюр Московского Румянцевского музея. Произведения, экспонировавшиеся на открытой 27 ноября 1916 года выставке, были собственностью художницы и музея.
(обратно)
2
А.П. Остроумова-Лебедева допустила неточность: ее персональная выставка состоялась осенью 1913 года в бюро Н.Е. Добычиной в Петербурге (см. архив ГМИИ, ф. 14, оп. III, ед. 151, л. 1).
(обратно)
3
Переписка между А.П. Остроумовой-Лебедевой и Н.И. Романовым началась весной 1913 года. Она хранится ныне в архиве ГМИИ, ф. 14, оп. III, ед. 147–180. Письмо, о котором упоминает автор, написано 2 ноября 1916 года (см. архив ГМИИ, ф. 14, оп. III, ед. 151). На персональной выставке А.П. Остроумовой-Лебедевой были показаны 34 оттиска с работ английских, французских, итальянских и японских ксилографов Угода Карпи, Занетти, Хиросиге, Утамаро, Лепера, Никольсона и др.
(обратно)
4
В 1915 году Академией художеств впервые была приобретена гравюра А.П. Остроумовой-Лебедевой «Венеция ночью», кроме того, в собрании хранилось три ее акварели: «Вид из Петровского парка» (1912), «Венеция. Столбы» (1911) и «Сеговия» (1914). С 1925 года они находятся в ГРМ. В музее Александра III (ныне — ГРМ), кроме гравюр, имелась в эти годы акварель А.П. Остроумовой-Лебедевой «Колоннада Св. Петра» (1911). В.А. Серов был с 1899 года членом совета Московской городской художественной галереи братьев П.М. и С.М. Третьяковых, организованного для ее управления после смерти П.М. Третьякова.
(обратно)
5
Толстой Дмитрий Иванович (1860 — ок. 1942), граф, товарищ управляющего музеем Александра III (с 1901 года), позже — управляющий Эрмитажем, действительный член Академии художеств (с 1909 года).
Тевяшев Евгений Николаевич (1846–1914) — коллекционер, собиратель гравюр и литографий, офортист-любитель. Знаток русской книги и библиофил, автор нескольких трудов в этой области. Товарищ председателя «Кружка русских изящных изданий» в Петербурге.
Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) — художник, историк искусства, музеевед и общественный деятель, действительный член Академии художеств с 1914 года. Автор книги воспоминаний «Из жизни художника» (Л., 1965). С 1909-го по 1933 год — сотрудник Русского музея. В 1916 году у А.П. Остроумовой-Лебедевой для Графического отдела Русского музея было куплено «несколько гравюр и рисунки к ним» (см. архив ГМИИ, ф. 14, оп. III, ед. 152, л. I об.).
(обратно)
6
В книге В.Я. Курбатова «Сады и парки» (П… 1916) было воспроизведено семь акварелей и рисунков А.П. Остроумовой-Лебедевой, изображающих пейзажи Италии (1903–1911), четыре цветные ксилографии и одна литография (1903–1907).
(обратно)
7
На выставке «Мира искусства» в Москве, в декабре 1916 года, А.П. Остроумовой-Лебедевой были показаны работы: «Баку. Промыслы Биби-Эйбат. Две вышки» и «Старые вышки», «Улица в Баку», «Баку. Раманы. Генуэзская башня», «Баку. Раманы. Промыслы», «Улица в Баку. Цистерны», «Баку. Биби-Хибат. Сумерки», «Баку. Задворки. Промыслы», «Баку. Биби-Хибат. Ночью», «Сеговия ночью», «Развалины монастыря», «Бургос», На выставке в Петербурге были: «Тахо у Толедо», «Развалины монастыря в Сеговии», «Вид на Сеговию и акведук», «Маленькая площадь в Сеговии». Кроме того, в 1916 году в Петербурге была организована выставка этюдов, эскизов и рисунков «Мира искусства». в которой А.П. Остроумова-Лебедева участвовала работами: «Этюды. Баку», «Баку. Промыслы Биби-Эйбат», «Баку. Балаханы». «Улица в Баку», «Баку. Раманы», «Улица в Баку» и «Баку. Биби-Эйбат».
(обратно)
8
А.П. Остроумова-Лебедева ошиблась, следует читать «1915 году», что подтверждается фактами, изложенными ниже. На выставке «Мира искусства» в Петербурге в 1915 году А.П. Остроумова-Лебедева показала акварели и гравюры: «Вид на Алькасар в Сеговии». «Вид на собор в Сеговии», «Серый день. Сеговия», «Улица в Сеговии», «Бургос», «Улица в Бургосе», «Каркассонн. Франция», «Развалины замка», «Венеция ночью», «Венеция. Санта Мария делла Салюта», «По небу полуночи ангел летел…», «Вилла д’Эсте», «Лунный пейзаж».
(обратно)
9
Имеется в виду статья А.Н. Бенуа «Выставка „Мира искусства“» (Речь. 1916. 28 октября). Одобряя в целом акварели художницы, Бенуа указывал, что в них «смелость приемов местами переходит в виртуозничанье», и напоминал «о прелести известной сдержанности… О более вдумчивом отношении к основной задаче».
(обратно)
10
А.П. Остроумова-Лебедева поселилась по адресу: Васильевский остров, 3-я линия, д. 46, кв. 21.
(обратно)
11
К 1915 году относится только цветная ксилография. «Вышки» (3 доски).
(обратно)
12
«Гебен» и «Бреслау» — германские военные суда, входившие в состав турецкого флота в начале Первой мировой войны, обстреливали русское Черноморское побережье.
(обратно)
13
В своих акварельных работах и гравюрах художница часто использовала этюды и эскизы, сделанные ранее. Возможно, речь идет об акварелях «Ольгинское. Закат в горах» (1917, ГРМ), «Кавказский пейзаж весной» (1922, ГРМ), гравюрах «Петроград. Снасти» (1917, 2 доски), «Декоративный пейзаж» (1916, 3 доски).
(обратно)
14
Две из акварелей «Петроград. Похороны жертв революции 23 марта 1917 г.» находятся в собраниях ГТГ и ГРМ; акварель «Петроград. Демонстрация на стрелке Васильевского острова 1 мая 1917 г.» — ныне в ГРМ.
(обратно)
15
Лобойков Валериан Порфирьевич (р. 1861) — конференц-секретарь Академии художеств с 1894-го по 1917 год.
(обратно)
16
Шнейдер А.П. — художница, училась в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (класс живописи по фарфору и акварели) и в Париже. Активно участвовала в изданиях Общины Св. Евгении. После Октябрьской революции жила и работала в Саратове.
(обратно)
17
На выставке «Мира искусства» в Петрограде, в 1917 году, кроме перечисленных работ, были показаны акварели: «Раманы. Баку», «Вид на Васильевский остров. Петроград» и гравюры: «Дворец Бирона и барки», «Венеция», «Декоративный пейзаж». Из видов Каркассонна были экспонированы: «Вечер», «Вид на Пиренеи», «Башни с внутренней стороны», «Развалины», «Каркассонн».
(обратно)
18
Выставка этюдов и рисунков, упомянутая автором, была организована комитетом общества «Мир искусства» с 19 февраля по 26 марта 1917 года в Петрограде по адресу: Марсово поле, 7.
(обратно)
19
Купреянов Николай Николаевич (1894–1933) — рисовальщик и гравер, много работал как иллюстратор и литограф. В 1918–1920 годах преподавал в графической мастерской Ленинградских государственных художественных мастерских, с 1918-го по 1920 год вел класс рисунка в Высшем институте фотографии и фототехники. С 1923-го — преподаватель Вхутемаса. Как установили Н.С. Изнар и М.З. Холодовская, Н.Н. Купреянов познакомился с А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1915 году, а не в 1917-м.
(обратно)
20
Речь идет о юбилейной выставке «Художники РСФСР за 15 лет. 1917–1932 гг.», открытой 13 ноября 1932 года в Ленинграде, в залах Русского музея. Н.Н. Купреяновым, жившим тогда в Москве, на выставке было показано 12 работ, исполненных ламповой копотью и в технике литографии.
(обратно)
21
«Натюрморт» (1925) — экспонировался на выставке «Художники РСФСР за 15 лет» в Москве (1933–1934). в залах Исторического музея.
(обратно)
22
Персональная выставка произведений А.П. Остроумовой-Лебедевой открылась в залах Русского музея 12 мая 1940 года. На ней было показано 642 работы художницы: живопись, рисунки, ксилографии и литографии.
(обратно)
23
Большой Охтинский мост был построен по проекту инженеров Г.Г. Кривошеина, В.П. Апышкова и архитектора Л.Н. Бенуа в 1908–1911 годах.
Осипов Николай Михайлович (1881–1941) — архитектор, участвовал в разработке его архитектурной части. Н.М. Осипов был дальним родственником Марии Петровны Морозовой.
(обратно)
24
А.П. Остроумова-Лебедева допустила неточность: акварель «Петроград. Марсово поле и памятник Суворову» (ныне — в ГТГ) была написана в 1922 году и приобретена, в отличие от первых двух, купленных в 1920-м, позже — в 1934 году.
(обратно)
25
Г. Брусу принадлежала акварель А.П. Остроумовой-Лебедевой — «Вид с Биржевого моста на Васильевский остров» (1912).
(обратно)
26
Газета «Искусство Коммуны» (1919, 19 января и 9 марта) сообщала, что при фотографическом институте учрежден класс живописи, руководителем которого стала А.П. Остроумова-Лебедева. В качестве ее ассистентов были приглашены художники Г.С. Верейский, Н.Н. Купреянов, В.П. Белкин и О.Н. Каратыгина. Мастерская начала функционировать в марте 1919 года.
(обратно)
27
Автор вспоминает фотографов, окончивших институт: Черновых Якова Моисеевича (ум. 1921) и его жену Августину Давыдовну, Иоаниди Екатерину Семеновну, которая поддерживала связь с А.П. Остроумовой-Лебедевой до конца своей жизни. К.Г. Бессонов, К.Н. Фролов и А.А. Хотеновский, ставшие профессионалами-фотографами, погибли в годы блокады. Г.К. Кириллов после Великой Отечественной войны жил и работал в Пскове.
(обратно)
28
Верейский Георгий Семенович (1886–1962) — художник, график, литограф и педагог, действительный член Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Белкин Вениамин Павлович (1884–1951) — живописец и график. Работал как иллюстратор, был декоратором в Мариинском театре и в драматических театрах (с 1909-го по 1916-й). С 1917 года преподавал в Академии художеств. В Институте фотографии и фототехники вел класс живой модели и масляной живописи. После 1945 года — декан и преподаватель факультета живописи Института имени И.Е. Репина в Ленинграде.
(обратно)
29
Вероятно, автор имеет в виду Снетогорский монастырь и церковь Рождества Богородицы в нем.
(обратно)
30
Несколько акварелей, сделанных А.П. Остроумовой-Лебедевой в Пскове, хранятся в собрании ГРМ.
(обратно)
31
Серия портретов, экспонировавшихся на выставке в Институте фотографии и фототехники в 1921 году, была дипломной работой Я.М. и А.Д. Черновых и Г.К. Кириллова. Дипломом Е.С. Иоаниди были фотографии Павловска, А.А. Хотеновский подготовил цикл «Пейзажи старого Петергофа», Н.Е. Морозова — «Детали памятников Лазаревского кладбища».
(обратно)
32
Выставка открылась в Петрограде 13 апреля и закрылась 26 июня 1919 года. Кроме перечисленных автором объединений, в ней принимали участие 134 художника, не принадлежавших ни к каким обществам. Выставка была организована Отделом изобразительных искусств при Наркомпросе. Произведения принимались без жюри, и участники были освобождены от материальных затрат по ее устройству. В выставке мог участвовать «…каждый, отдающий искусству свой досуг», «без всяких ограничений». А.П. Остроумовой-Лебедевой было экспонировано 13 работ. Две акварели приобрел Государственный музейный фонд: «Вид из окон Военно-медицинской академии» и «Статуи Летнего сада» (ныне — в ГРМ).
(обратно)
33
Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) — художник. Представитель конструктивизма в изобразительном искусстве. Автор проекта памятника III Интернационалу, ряда контррельефов. Работал в области театральной декорации и костюма.
(обратно)
34
Собрание московского купца
Сергея Ивановича Щукина (1854–1937) состояло из произведений новой французской живописи, в нем были работы П. Гогена, К. Моне, Э. Мане, Э. Дега, А. Марке, М. Дени, П. Сезанна, А. Матисса и др. Вместе с коллекцией И.А. Морозова оно легло в основу Музея новой западной живописи, созданного в 1923 году. Ныне произведения французских художников из собрания С.И. Щукина находятся в ГМИИ и Эрмитаже.
(обратно)
35
Шагал Марк Захарович (1887–1985) — живописец и график. Один из представителей экспрессионизма.
(обратно)
36
Речь идет о
Михаиле Васильевиче Матюшине (1861–1934) — художнике и педагоге, создателе теории «расширенного смотрения» в живописи, приведшей его к абстракции и формализму. В последние годы жизни М.В. Матюшин работал над книгой «Творческий опыт художника».
(обратно)
37
Радлов Николай Эрнестович (1889–1942) — живописец и график. Портретист, иллюстратор детских книг, плакатист, карикатурист и театральный художник. Художественный критик и автор ряда работ по методике преподавания рисунка и истории советского искусства.
Бродский Исаак Израилевич (1883–1939) — художник, работал в области портрета, пейзажа, исторической живописи. Педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Директор Всероссийской Академии художеств с 1934 года.
(обратно)
38
Кроме перечисленных гравюр, в книге «Душа Петербурга» (П., 1922) были воспроизведены работы А.П. Остроумовой-Лебедевой: «Голова Петра I» и «Вид на Ростральную колонну и вазу». Обложку книги сделала Н.Е. Морозова, племянница А.П. Остроумовой-Лебедевой, использовавшая гравюру А.П. Остроумовой-Лебедевой «Сфинкс».
(обратно)
39
Речь идет о выставке работ петроградских художников в Порховском музее в 1921 году и о выставке группы русских художников, участников выставок «Мира искусства», организованной весной 1921 года в Париже Г.К. Лукомским. Кроме произведений А.П. Остроумовой-Лебедевой, здесь были представлены работы художников Б.Д. Григорьева, А.И. Мильмана, А.К. Шервашидзе, Н.В. Ремизова, К.К. Рауша, С.А. Сорина, С.Ю. Судейкина, В.И. Шухаева, А.Е. Яковлева и др.
(обратно)
40
Издание было отпечатано в типографии имени Ивана Федорова в июле 1923 года под наблюдением В.И. Анисимова. Текст написан А.П. Остроумовой-Лебедевой в мае 1923 года.
(обратно)
41
Речь идет об альбоме литографий А.П. Остроумовой-Лебедевой — «Петербург», 1922 год, в котором ею, кроме перечисленных работ, были сделаны титульный лист и оглавление.
(обратно)
42
Автор упоминает монографии: А. Эфрос и Н. Пунин. «С. Чехонин» (М.; П., б/г.); М. Кузмин и Всеволод Воинов. «Д.И. Митрохин» (М., 1922); Н.И. Романов. «В. Фалилеев» (М.; П., 1923); А. Бенуа и С. Эрнст. «Остроумова-Лебедева» (М.; П., 1923).
(обратно)
43
Муратов Павел Павлович (1881–1950) — искусствовед, беллетрист, переводчик. Автор книги «Образы Италии», статей о древнерусском искусстве и античности. Редактор журнала «София». После Октябрьской революции стоял во главе Отдела по делам музеев при Наркомпросе. В 1925 году уехал за границу, жил в Италии и Англии.
Эфрос Абрам Маркович (1888–1954) — искусствовед, театровед и переводчик, музейный деятель. Автор книг «Профили» (М., 1930), «Рисунки поэта» (М., 1930) и др.
(обратно)
44
Имеется в виду монография А. Бенуа и С. Эрнста «Остроумова-Лебедева» (М.; П., 1923). А.Н. Бенуа, характеризуя творчество А.П. Остроумовой-Лебедевой, писал: «…искусство Остроумовой, при всей кажущейся его скромности, может быть поставлено в образец, разумеется, не в том смысле, что его следует имитировать, а в том, что оно являет некую сущность художественности, и являет оно ее в несравненно более определенном виде, нежели иные, более эффектного и торжественного порядка произведения…» И далее: «…искусство Остроумовой можно назвать красивым, умным и вдохновенным потому, что глазу и уму художницы присущ великий дар обобщения, что она с необычайной последовательностью способна свести любую поставленную себе задачу (как в отношении формы и красок, так и в отношении психологического момента) к основным элементам, что у нее достаточно твердый характер, чтобы затем систематически произвести процесс художественного выявления».
(обратно)
45
Речь идет о книге В.Я. Адарюкова «А.П. Остроумова-Лебедева» (М.: Дом Печати, б/г). В ней были воспроизведены 13 черно-белых и 3 цветные гравюры художницы. На обложке помещена гравюра «Ростральная колонна».
(обратно)
46
Полонский Вячеслав Павлович (настоящая фамилия — Гусин, 1886–1932) — критик, публицист, историк. С 1919 года занимал ряд руководящих должностей в Наркомпросе, редактор и член редколлегий журналов и изданий «Красный архив», «Историк-марксист», «Большая советская энциклопедия» и т. п. Автор монографии о М.А. Бакунине, книги «Сознание и творчество».
(обратно)
47
«Портрет С.В. Лебедева» (х., м., 1923. Ленинград, частное собрание).
(обратно)
48
Розанов Матвей Никанорович (1858–1936) — историк западноевропейской литературы, академик. Занимался переводами.
Златогоров Семен Иванович (1873–1931) — микробиолог к эпидемиолог, член-корреспондент Академии наук СССР. С 1920 года — профессор кафедры инфекционных болезней при Военно-медицинской академии, где работал и С.В. Лебедев. Профессор кафедры микробиологии Ленинградского университета.
Златогорова Татьяна Руфовна — его жена.
Белый Александр Федорович (1874–1934) — живописец-пейзажист. Окончил Академию художеств в 1900 году, одновременно с А.П. Остроумовой-Лебедевой.
(обратно)
49
«Портрет И.В. Ершова» был исполнен А.П. Остроумовой-Лебедевой в четыре сеанса (см. Секция рукописей ГРМ, ф. 117, ед. хр. 72, л. 10). В собрании ГТГ хранится вариант этой работы.
(обратно)
50
«Натюрморт. Душистый горошек» (б., акв., 1923. Ленинград, частное собрание).
(обратно)
51
Лухманов Дмитрий Афанасьевич (1867–1946) — капитан дальнего плавания, педагог и писатель. Герой Социалистического Труда. Автор книг «На палубе», «Под парусами» и др.
(обратно)
52
Речь идет о портретах М.А. Волошина — работы A.П. Остроумовой-Лебедевой (акв., 1924, частное собрание) и Б.М. Кустодиева (х., м., 1924, ныне — в собрании Государственного литературного музея в Москве).
(обратно)
53
Шервинский Сергей Васильевич (р. 1892) — историк искусства, литературовед, поэт, переводчик латинских, французских и армянских поэтов, автор книг для детей. Впервые выступил в печати в 1913 году.
Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956) — поэт, близкий к акмеизму, переводчик и теоретик стихосложения. Автор поэмы «Броненосец „Потемкин“», переводов стихов Верхарна, Гейне, Гюго, «Трактата о русском стихе».
Гроссман Леонид Петрович (1888–1966) — писатель, литературовед, занимался библиографией и текстологией, педагог. Печатался с 1903 года.
Шкапская Мария Михайловна (1891–1952) — поэтесса и писательница.
Адалис (настоящая фамилия Эфрон)
Аделина Ефимовна (1900–1969) — поэтесса, переводчица стихотворений поэтов среднеазиатских и закавказских республик. Начала печататься в 1918 году.
Габричевский Александр Егорович (1891–1968) — историк искусства и педагог, автор ряда научных трудов и переводов в области искусствознания.
Ярхо Борис Исаакович (р. 1889) — литературовед и переводчик.
Шаронов Михаил Андреевич (1881–1957) — художник, заслуженный деятель искусств УССР, директор Киевского художественного института. Работал как портретист.
Кандауров Константин Васильевич (1865–1930) — художник, учредитель общества «Жар-цвет», в 1910-х годах был уполномоченным общества «Мир искусства» и организатором его выставок в Москве.
Костенко Константин Евтихиевич (1879–1956) — художник и гравер, специального образования не получил. Испытал влияние работ Е.С. Кругликовой и B.Д. Фалилеева. С 1923 года — сотрудник Государственного Русского музея.
(обратно)
54
«Портрет М.С. Волошиной» (акв., 1924). Находится в частном собрании. Портрет писательницы
Софьи Захаровны Федорченко (1888–1959). Находится ныне в
собрании ГРМ. «Портрет художника К.Ф. Богаевского» был написан А.П. Остроумовой-Лебедевой в августе 1924 года (акв.). Ныне — в собрании ГМИИ. «Портрет Дарьи Николаевны Часовитиной» (акв., 1924). Ныне — в частном собрании в Москве. «Портрет поэтессы Адалис» (акв., набросок) и «Портрет писателя Андрея Белого» (акв., 1924). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
55
В.Я. Брюсов скончался 9 октября 1924 года.
(обратно)
56
Акварельный портрет
Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) — писателя, автора историко-литературных работ, был написан А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1926 году. Ныне — в собрании ГТГ. Портрет
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), драматурга и беллетриста, находится в частном собрании. Работы художницы «Портрет поэта и писателя С.В. Шервинского» (акв., 1926), «Портрет академика С.В. Лебедева» (акв., 1924), «Портрет поэта М.А. Волошина» (х., м., 1927) находятся ныне в собрании ГРМ. «Портрет Наталии Алексеевны Габричевской» (акв., 1926) — в частном собрании.
(обратно)
57
Мысль об устройстве выставки произведений русских художников в Америке возникла у москвичей, по-видимому, еще в 1922 году, так как первоначально предполагалось открыть ее в феврале — июне 1923 года. В президиум выставочного комитета были избраны И.Д. Сытин, В.В. фон Мекк. И.Э. Грабарь, К.Ф. Юон, И.И. Трояновский, И.И. Машков. Председателем был утвержден С.А. Виноградов. Каждый участник имел право экспонировать 20 живописных произведений, количество графических работ не ограничивалось. Выставка организовывалась без жюри. Была открыта в Нью-Йорке с 8 марта по 15 апреля 1924 года, затем разделена на две части (Южная и Северная выставки) и, как передвижная, побывала во многих городах Америки. Кроме перечисленных акварелей А.П. Остроумовой-Лебедевой, в Нью-Йорке были показаны 25 ксилографий, среди них: «Крюков канал», «Перспектива Невы», «Вид на Неву сквозь колонны Биржи», «Ночь в Венеции», «Кипарисы в Крыму», «Финляндия с голубым небом», «Снасти», «Перспектива Царского Села», «Персей и Андромеда» и 12 литографированных видов Петербурга, раскрашенных автором.
(обратно)
58
В архиве И.Э. Грабаря сохранились сведения о продаже произведений русского искусства на выставке в марте 1924 года, подтверждающие сообщение М.В. Нестерова. По черновому плану экспозиции выставки работы А.П. Остроумовой-Лебедевой были экспонированы рядом с произведениями С.А. Виноградова, А.С. Степанова и Е.Е. Лансере (см. Отдел рукописей ГТГ, ф. 106).
(обратно)
59
Творчество З.Е. Серебряковой было представлено на выставке 14 работами. Три ее картины изображали девочек: «Спящая девочка», «Девочка с яблоком» и «Девушка»: Б.М. Кустодиев экспонировал 19 живописных работ («Портрет Ф.И. Шаляпина», «Купчиха за чаем», «Кучер» и пр.). три рисунка и бюст певца И.В. Ершова. На выставке было показано семь пейзажей А.А. Рылова: «Морские чайки», «Собирающиеся тучи», «На реке Вятке» и др. М.В. Нестеров ошибся: на выставке экспонировалось 13 картин из цикла, посвященного жизни Христа, работу над которым В.Д Поленов (1844–1927) начал еще в 80-х годах XIX века. В этих картинах художник трактовал евангельскую легенду как реальное историческое событие.
(обратно)
60
Сарджент Джон Сингер (1856–1925) — американский художник-портретист. Картины Сарджента привлекали зрителей правдивостью и яркостью колорита. Позднее его работы приобрели налет манерности.
Боннар Пьер (1867–1947) — французский художник. Работал в области пейзажа, жанра, театральной декорации, цветной литографии и плаката.
(обратно)
61
Письмо М.В. Нестерова к А.П. Остроумовой-Лебедевой от 21 апреля 1924 года.
(обратно)
62
«Портрет Варвары Николаевны Вознесенской» (акв., 1924, ГРМ); «Портрет А.Н. Бенуа» (акв., 1924. Москва, частное собрание); «Портрет Миши Гнучева» (акв., 1924); «Портрет Валентины Васильевны Шапошниковой» (акв., 1924); «Портрет Наталии Евгеньевны Григорьевой» (х., м., 1924); «Портрет Нины Викторовны Воячек» (х., м., 1923) находятся в частных собраниях Петербурга.
(обратно)
63
Имеется в виду XIV Международная художественная выставка в Венеции, открытая в 1924 году. На ней, впервые после революции, экспонировали свои произведения советские художники. А.П. Остроумова-Лебедева показала здесь 10 гравюр: «Дворец Бирона», «Вилла д’Эсте», «Фьезоле», «Весенний мотив», «Перспектива Невы», «Версаль», «Снасти», «Памятник Павлу I», «Крюков канал», «Колонны Биржи и крепость». На выставке «Мира искусства» в 1924 году были представлены 24, а не 23, как указывает автор, гравюры и акварели. Среди них портреты А.Н. Бенуа, М.А. Волошина, И.В. Ершова, пейзажи Кисловодска и Павловска, книжные знаки С.В. Лебедева и З.Е. Морозовой.
(обратно)
64
М.В. Добужинским на выставке «Мира искусства» в 1924 году было экспонировано 37 работ. Кроме упомянутых в тексте этюдов, здесь были показаны: «Портрет Т.П. Карсавиной», декорации к опере «Евгений Онегин» для Дрезденской оперы, несколько литографий, иллюстрации к книге художника «Воспоминания об Италии», к книге М. Кузмина «Лесок», к «Петербургу Достоевского» Н.П. Анциферова. A.H. Бенуа было показано всего 6 работ: «У Литовского замка», «Никольский рынок» (два варианта), «Екатерининский канал», «В Английском парке» и «Марли в Петергофе». А.И. Кравченко представил иллюстрации к рассказу Ч. Диккенса «Сверчок на печи», к повести Т. Гофмана «Повелитель блох», к «Портрету» Н.В. Гоголя, иллюстрации к «Путеводителю по Москве» и книжные знаки К.С. Кравченко, профессора В.Ф. Плетнева, В.Я. Адарюкова. Все работы, кроме экслибрисов Кравченко и Адарюкова (резцовые гравюры на меди), были исполнены в технике ксилографии. О.Э. Бразом. кроме натюрмортов, были выставлены: «Автопортрет», «Портрет И.А. Фомина», «Этюд натурщицы» и «Пейзаж»; А.Я. Головиным, помимо эскизов декораций, — «Портрет Э.Ф. Голлербаха» и «Танец плащей в Аранхуэце».
(обратно)
65
Пуни Ивин Альбертович (1894–1956) — живописец, учился у И.Е. Репина и в Академии Жюльена в Париже. Примыкал к футуризму.
Анненков Юрий Павлович (1889–1974) — живописец, театральный художник и график. Пользовался в своем творчестве приемами кубизма и футуризма. Автор известных иллюстраций к поэме А.А. Блока «Двенадцать» (1918). После Октябрьской революции уехал за границу.
(обратно)
66
Карев Алексей Еремеевич (1879–1942) — живописец и педагог. Одно время в творчестве и педагогической деятельности стоял на формалистических позициях.
(обратно)
67
К началу 1920-х годов К.С. Петров-Петров-Водкин разработал педагогическую систему, цель которой состояла в обучении студентов «способам видеть и фиксировать виденное». Считая ограниченными принципы классической перспективы. К.С. Петров-Водкин разработал положения о «сферической» перспективе, допускавшей возможность передать на двухмерной плоскости холста в единой композиции то, что может увидеть человек с нескольких точек зрения. Картина должна, учил Петров-Водкин, состоять в определенном, каждый раз особом, равновесии трех основных цветов, не обязательно чистых, но ясно воспринимаемых как красный, желтый и синий. Смешение контрастных цветов на палитре и в глазу, как делали импрессионисты, рождает «ложный цвет». Осуществляя на практике свои принципы, К.С. Петров-Водкин предлагал ученикам писать натюрморты одной краской, почти без применения белил. В своей преподавательской деятельности К.С. Петров-Водкин добивался осознанного вдумчивого отношения к труду художника, подчеркивал необходимость широкой образованности, высокой культуры искусства.
(обратно)
68
К.С. Петров-Водкин преподавал в школе Е.Н. Званцевой в Петербурге с 1910 года.
(обратно)
69
Портреты Е.С. Кругликовой, исполненные А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1925 году, хранятся ныне в собрании ГРМ. Акварельные портреты Елизаветы Николаевны Николаи (1925), Ольги Дмитриевны Зигель (1925),
Григория Витальевича Хлопина (1863–1929), заслуженного деятеля науки РСФСР, автора многих трудов по вопросам гигиены жилища, школ, профессиональной гигиены (1925), находятся ныне в частных собраниях.
Карпинский Александр Петрович (1846–1936) — ученый-геолог, первый президент Академии наук СССР. Акварельный портрет Карпинского был написан автором в 1926 году, находится в частном собрании.
(обратно)
70
Климов Михаил Георгиевич (1881–1937) — хормейстер, педагог, профессор и дирижер Ленинградской академической капеллы. Акварельный портрет М.Г. Климова был написан автором в 1928 году (ныне — в собрании ГРМ).
(обратно)
71
«Портрет В.Г. Каратыгина» (акв., 1925) находится ныне в собрании ГРМ.
(обратно)
72
Зеленко Василий Адамович (р. 1880) — педагог, автор ряда работ по вопросам народного образования, общественный деятель, один из организаторов секции научных работников союза Рабпрос. Акварельный портрет В.А. Зеленко был написан автором в 1926 году, находится ныне в частном собрании.
(обратно)
73
Портрет Вадима Вадимовича Верховского — «Лыжник» (акв., 1926). Повторение этого портрета А.П. Остроумова-Лебедева сделала в 1940 году. Оба — в собрании ГРМ.
(обратно)
74
«Портрет М.Е. Филоненко. Девочка с кошкой» (х., м., 1923). находится в частном собрании. Местонахождение наброска маслом бульдога Бобби — неизвестно. «Интерьер с собакой» (х., м., 1919) хранится в частном собрании.
(обратно)
75
Зилоти Александр Александрович (1887–1950) — художник, участник выставок «Мира искусства».
(обратно)
76
Автор упоминает нидерландских художников Яна и Губерта ван Эйков. Первым была усовершенствована техника масляной живописи, ранее ему приписывали ее изобретение.
(обратно)
77
Гравюры: «Бобби», 1925, 3 доски; «Фейерверк 14 июля в Париже», 1925, 3 доски; «Смольный». 1924; «Книжный знак С.В. Лебедева», 1924; «Книжный знак Зины Морозовой». 1924 (на 1-й доске каждая).
(обратно)
78
Речь идет о классическом труде
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907) — «Основы химии», первое издание которого вышло в свет в 1869–1871 годах.
(обратно)
79
Имеется в виду «Юбилейная выставка изобразительных искусств. 1917–1927 гг.», открывшаяся 6 ноября 1927 года. В ней участвовало 148 художников и экспонировались произведения живописи, скульптуры и графики. А.П. Остроумова-Лебедева упоминает о картинах: «Ленинград. Траурная процессия у Академии наук» (х., м., 1927) и «Ленинград. Вид на Неву и Адмиралтейство» (х., м., 1927). Ныне — обе в собрании ГРМ. Там же хранится этюд «Хлопчатобумажное производство. В цеху» (акв., 1927).
(обратно)
80
Речь идет о книге «В.Г. Каратыгин. Жизнь и деятельность. Статьи и материалы» (Л.: Academia, 1927). В ней воспроизведены работы А.П. Остроумовой-Лебедевой: «Портрет В.Г. Каратыгина», заставки и концовки («Рояль», «Письменный стол», «Библиотечные полки и книги», три пейзажа).
(обратно)
81
Автор упоминает акварельные портреты Н.Н. Евреиновой (ныне — в собрании Музея Академии художеств), А.В. Верховской и Н.М. Михайловой (оба — в частных собраниях), исполненные в 1927 году.
(обратно)
82
Наумов Павел Семенович (1884–1942) — живописец — жанрист и пейзажист, педагог.
Исаков Сергей Константинович (1875–1953) — историк искусства и музейный деятель. Профессор Всероссийской Академии художеств, с 1947 года — Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Марр Николай Яковлевич (1864–1934) — филолог и археолог, профессор Петербургского университета, действительный член и президент Академии истории материальной культуры.
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) — востоковед, академик и непременный секретарь Академии наук с 1904-го по 1929 год. Автор трудов по фольклору, этнографии и искусству народов России, Западной Европы и Востока.
Державин Николай Севастьянович (1877–1953) — филолог, славяновед. Академик, профессор Ленинградского университета. Почетный член Болгарской академии наук.
(обратно)
83
Автор имеет в виду акварель, известную ныне под названием «Ленинград. Ледоход» (1926, ГРМ); гравюры Версаля: «Бассейн Аполлона», «Бассейн с амурами», «Лестница», «Бассейн» (доска у каждой, 1927) и гравюру, называющуюся ныне «Ленинград. Вид с Троицкого моста» (2 доски, дерево, линолеум, 1926).
(обратно)
84
А.П. Остроумова-Лебедева, вероятно, ошиблась: характер коллекций Музея короля Фридриха в Берлине исключает возможность наличия в нем собрания гравюр. Очевидно, ее работы были в собрании Кабинета гравюр Нового музея.
(обратно)
85
Речь идет о ксилографиях Н.Н. Купреянова «Битюг. Петроград» (1918), А.И. Кравченко «Сбор яблок» (1924), и А.П. Остроумовой-Лебедевой — «Фьезоле» (1904).
(обратно)
86
Выставка «Акварели М.А. Волошина» была организована обществом «Литературно-художественный кружок» и открыта в Ленинграде с 14 по 21 апреля 1927 года. На ней экспонировалось 168 акварелей и 9 графических работ, составлявших 26 различных по тематике циклов. К выставке в издательстве «Аквилон» был издан каталог с вступительной статьей Э.Ф. Голлербаха. В нем были помещены также стихотворения М.А. Волошина, Э.Ф. Голлербаха и С.В. Шервинского, посвященные Коктебелю и Волошину.
(обратно)
87
Выставка картин группы художников «Шестнадцать» открылась 20 апреля 1927 года в Аничковом дворце в Ленинграде. В ней участвовало 22 художника, среди которых были: Б.М. Кустодиев, И.И. Бродский, А.А. Рылов, А.Я. Головин, В.М. Конашевич, Г.С. Верейский, Н.Э. Раддов, Е.Е. Лансере, Н.И. Дормидонтов, С.В. Чехонин и др. А.П. Остроумова-Лебедева показала на ней портреты В.Г. Каратыгина, М.А. Булгакова, Н.М. Михайловой, В.А. Зеленко, В.В. Верховского, В.В. Вересаева, С.В. Шервинского, Н.Н. Евреиновой, пейзажи Коктебеля и несколько гравюр, среди которых была гравюра «Вид с Троицкого моста».
Павлов Семен Андреевич (1893–1942) — живописец и график, много работавший как иллюстратор. Педагог.
Дормидонтов Николай Иванович (1898–1962) — живописец, график. Работал как иллюстратор.
(обратно)
88
Либединский Юрий Николаевич (1898–1959) — писатель, один из основателей журнала «Октябрь». В 1923–1932 годах занимал ряд руководящих постов в ВАПП и РАПП.
Чумандрин Михаил Федорович (1905–1940) — писатель, один из руководителей ВАПП.
(обратно)
89
1930 год, 1 доска у каждой.
(обратно)
90
Корнилов Петр Евгеньевич (р. 1896) — искусствовед, музейный деятель, многолетний сотрудник Государственного Русского музея. Автор ряда исследований по истории русской графики и работ о творчестве А.П. Остроумовой-Лебедевой.
(обратно)
91
Имеются в виду каталоги: «Гравюры и силуэты Е.С. Кругликовой, 1902–1925» (Казань, 1925) со статьями П. Дульского и П. Корнилова; «Каталог выставки офортов и гравюр П.А. Шиллинговского» (Казань, 1924) с вступительной статьей П. Дульского и биографическим очерком П. Корнилова, каталог «В.А. Фаворский» (Казань, 1926) с вступительной статьей П. Эттингера. Все три издания иллюстрированы.
(обратно)
92
Выставка произведений А.П. Остроумовой-Лебедевой в Казани была открыта в помещении Центрального музея в мае-июне 1927 года. На ней экспонировались 94 гравюры и акварели. Был издан каталог «Анна Петровна Остроумова-Лебедева» (Казань, 1928) с вступительной статьей П.Е. Корнилова. Автор упоминает об одном из съездов по чистой и прикладной химии, которые были учреждены в память Д.И. Менделеева в 1907 году. Организовывались до 1934 года.
(обратно)
93
Волжинский Иван Алексеевич — химик, в конце 1920-х годов преподавал в Ленинградском университете.
Слободин Яков Михайлович (р. 1904) — химик, работал в лаборатории Ленинградского университета. В 1930–1934 годах заведовал лабораторией на заводе синтетического каучука, организованном по инициативе С.В. Лебедева. Оба были учениками последнего.
(обратно)
94
Воячек Владимир Игнатьевич (р. 1876) — ученый, врач-отоларинголог. Профессор Военно-медицинской академии в Ленинграде, Герой Социалистического Труда.
(обратно)
95
Залькинд Юлий Сигизмундович (1875–1948) — химик-органик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Педагог.
Бызов Борис Васильевич (1880–1934) — химик, специалист в области химии каучука и резины. Педагог, первый русский исследователь, занявшийся систематическим изучением технологических процессов производства резины.
Тидеман Б.Г. (ум. 1942) — химик, профессор Ленинградского государственного университета.
Гребенщиков Илья Васильевич (1887–1953) — химик, профессор Петроградского электротехнического института, академик. Автор ряда работ в области неорганической химии и технологии стекла, химической теории шлифования и полировки стекла.
(обратно)
96
В 1928 году А.П. Остроумовой-Лебедевой на Кавказе был написан ряд акварелей, большинство из которых находится в собрании Государственного Русского музея, среди них наиболее интересны: «Кисловодск. Горный пейзаж». «Кисловодск. Храм воздуха», «Кисловодск. Долина Медового водопада».
(обратно)
97
Речь идет о выставках: «Всемирная выставка графических работ» в Лос-Анджелесе, 1928; «Графика в СССР», Лондон. 1928: «Искусство советской графики». Афины, 1928. и Международная выставка «Искусство книги», открывшейся в Лейпциге в 1927 году.
(обратно)
98
Бенедиктов Юрий Михайлович (1906–1929) — архитектор, живописец и поэт, окончил в 1928 году Академию художеств.
(обратно)
99
Кшенек Эрнст (1900 — после 1998) — австрийский композитор, писатель и педагог; с 1938 года живет и работает в США. Джазовая опера «Джонни наигрывает» (1926) — одно из наиболее известных его произведений. Впервые поставлена в СССР в 1928 году на сцене Ленинградского Малого оперного театра.
(обратно)
100
Музей короля Фридриха в Берлине основан в начале 1830-х годов, его коллекции состоят из произведений искусства Передней и Центральной Азии, старого немецкого искусства и искусства христианских народов в ранние периоды. Музей гордится работами Боттичелли, Синьорелли, Тициана, Джорджоне, Сурбарана, Пуссена, Ватто, Лоррена, братьев ван Эйков, ван лер Вейдена, ван лер Гуса, Кранаха, Рембрандта и др. Кабинет гравюр (Kupferstich-Kabinett) находится в Новом музее в Берлине. В нем хранится значительная коллекция редких гравюр на меди, на дереве, миниатюр, тиснений на коже, рисунков. Особенно ценны принадлежащие кабинету коллекции работ Дюрера, Рембрандта, лучших итальянских мастеров.
(обратно)
101
Клемм Вальтер (1883–1957) — художник, график, изучал историю искусств. Педагог. В его работах преобладают изображения зверей, пейзажи и архитектурные мотивы. В 1900-х годах жил под Прагой, позже — в Германии, где преподавал в Высшей школе изобразительных искусств в Веймаре.
Нольде (или Ханзен)
Эмиль (1867–1956) — немецкий художник-экспрессионист, скульптор и писатель, с 1947 года занимался преимущественно педагогической деятельностью.
Барлах Эрнст (1870–1938) — немецкий скульптор и график. С 1906 гола выставлял свои работы, в которых часто изображал русских крестьян, упрощая и стилизуя формы. Особенной известностью пользовались его рисунки.
Шмидт-Роттлуф Карл (1884–1976) — немецкий живописец и гравер.
Орлик Эмиль (1870–1932) — немецко-богемский художник-график. Много работал в области прикладного искусства.
Кольвиц Кэте (1867–1945) — немецкая художница-график. Свое творчество, проникнутое протестом против социальной несправедливости, посвятила изображению жизни народа и его борьбы.
Мунк Эдвард (Мюнх Эдуард. 1863–1944) — норвежский художник-экспрессионист, живописец, гравер, литограф и ксилограф. Большую часть жизни провел в Германии, Франции, Италии и Швейцарии.
(обратно)
102
Имеется в виду дворец Сан-Суси короля Фридриха II в Потсдаме. Французский поэт и философ Вольтер жил в Сан-Суси в 1750–1753 голах. Доныне здесь сохраняется «Комната Вольтера».
(обратно)
103
Выставка работ А.Е. Яковлева была открыта в Париже с 7 по 23 мая 1926 года в галерее Жана Шарпантье. Сохранился пригласительный билет на выставку, на обложке которого воспроизведен рисунок художника — «Голова негра», а на ее обороте — карта путешествия экспедиции «Ситроен» по Африке и Мадагаскару, в которой участвовал А.Е. Яковлев. Возможно, автор имеет в виду небольшую выставку П. Сезанна в Париже в 1926 году, на которой экспонировалось 33 работы художника из частных собраний Дюран-Рюэля, Бернхейма, Войяра, Синьяка, Бло и Хасселя.
Пикассо Пабло (1881–1973) — живописец, график, скульптор и керамист. Испанец по происхождению. С 1904 года жил и работал во Франции. Один из основоположников кубизма и ряда других направлений в европейском изобразительном искусстве XX века. Лауреат Международной премии мира. Не установлено, о какой выставке его работ идет речь.
(обратно)
104
Вокс Максимилиан (р. 1894) — французский рисовальщик. ксилограф, плакатист и журналист. Автор упоминает его иллюстрации к циклу романов и повестей Бальзака «Человеческая комедия».
Симеон Фернанд (1884–1928) — французский ксилограф, иллюстратор и акварелист.
Серво Клеман (р. 1886) — французский живописец, гравер и иллюстратор. Педагог.
(обратно)
105
Лабурер Жан-Эмиль (1877–1943) — французский гравер и живописец. Основатель Общества независимых художников-граверов. Особенно известен как иллюстратор.
(обратно)
106
Буллер Жак, по-видимому, речь идет о
Буллере Хансе-Адольфе (1877–1951) — немецком живописце и графике, участнике ряда выставок в Париже, Риме и т. д.
(обратно)
107
Галани Деметриус (1882–1966) — греческий художник, гравер и рисовальщик, учившийся и работавший в Париже.
(обратно)
108
Лебедев Иван Константинович (1884–1972) — график и иллюстратор, учился в Париже. Упомянутые автором иллюстрации И. Лебедева к сказкам А.С. Пушкина исполнены им в 1917 году.
(обратно)
109
Белобородов Андрей Яковлевич (1886–1965) — архитектор, акварелист и график. Эмигрировал в 1920 году во Францию.
(обратно)
110
Выставка произведений А.Н. Бенуа открылась в 1926 году в Париже, в помещении галереи Ж. Шарпантье. К ней был издан каталог: «Exposition d’oeuvres de A. Benois» (Paris, 1926).
(обратно)
111
Шухаев Василий Иванович (1887–1973) — живописец. В 1912–1914 годах жил и работал в Италии, в 1919-м — эмигрировал. В 1930-х — возвратился в Россию.
Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) — живописец, с 1918 года — профессор Строгановского училища в Москве. В 1919-м — уехал за границу.
(обратно)
112
Акварельные портреты композитора С.С. Прокофьева (1891–1953). исполненные А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1926 году, находятся в частном собрании в Москве.
Льюбера Лина Ивановна — певица, первая жена композитора С.С. Прокофьева.
(обратно)
113
И.Е. Репин вместе со своими товарищами по Академии художеств Ф.А. Васильевым и Е.К. Макаровым путешествовал по Волге в 1870 году. В 1871-м он еще раз побывал на Волге. Результатом этих путешествий была его знаменитая картина «Бурлаки на Волге» (1871–1873, ныне в собрании ГРМ).
(обратно)
114
Альбом «Волга» хранится ныне в ГРМ.
(обратно)
115
Экскурсия Е.Е. Лансере в Верхнюю Сванетию, о которой упоминает автор, была одной из многочисленных поездок художника по Кавказу в 1921–1924 годах, когда он побывал в Кахетии, Имеретин, Дагестане, Карабахе и других местах.
(обратно)
116
Грибов Алексей Николаевич (1902–1977) — народный артист СССР, член труппы Московского Художественного академического театра с 1924 года.
(обратно)
117
По-видимому, это акварель «Аджаристан. Чайная плантация» (1929). Находится ныне в собрании ГРМ.
(обратно)
118
«Аджаристан. Цихис-Дзири. Собирается дождь» (акв., 5 августа 1929). Находится ныне в собрании ГРМ.
(обратно)
119
«Квадратура круга» — комедия В.П. Катаева, написанная им в 1928 году.
(обратно)
120
Фаворский Алексей Евграфович (1860–1945) — химик-органик, академик. Герой Социалистического Труда. Занимался педагогической деятельностью. Учитель С.В. Лебедева и многих советских ученых-химиков. Один из организаторов Института органической химии в Ленинграде.
(обратно)
121
Возможно, речь идет об акварели «Аджиристан. Вечер» (1929). Ныне — и собрании ГРМ.
(обратно)
122
Кроме интенсивной творческой работы, в эти годы A. П. Остроумова-Лебедева участвовала в ряде выставок: в Германии, в Америке, в Латвии и в СССР. В собрание ГТТ в 1934 голу была приобретена акварель «Казбек вечером» (1930).
(обратно)
123
Натюрморт «Шляпа, перчатки и шарф на рояле» (акв… 1929). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
124
Гравюра «Джо». 1929, 1 лоска, линолеум.
(обратно)
125
Павлов Иван Петрович (1849–1936) — ученый-физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности животных и человека. Академик, руководитель Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде. Речь идет о книжном знаке «Наша библиотека». 1929. 4 доски.
(обратно)
126
Речь идет о работах: «Портрет А.Н. Толстого». 1926. 2 доски: «Фейерверк в Париже 14 июля 1910 г.». 1925. 3 доски, линолеум: «Два дождя». 1927, 1 лоска, линолеум.
(обратно)
127
Федин Константин Александрович (1892–1977) — писатель-романист, впервые выступил в печати в 1910 голу.
Ахматова Анна Андреевна (урожд.
Горенко, по первому мужу —
Гумилева. 1889–1966) — поэтесса и переводчица.
Радлова-Шведе Надежда Константиновна (1895–1944) — художница, работала как портретист и жанрист. Жена Н.Э. Радлова.
Белкина (урожд.
Попова)
Вера Александровна — пианистка и педагог. Жена художника B. П. Белкина.
(обратно)
128
А.П. Остроумова-Лебедева цитирует строки из стихотворения А.С. Пушкина «В.Ф. Раевскому» (1822).
(обратно)
129
«Павловск. Перспектива от Константиновского дворца» (акв., 1930). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
130
Остроумова Татьяна Михаиловна (ок. 1907-1942) — племянница автора.
(обратно)
131
Пеков Григорий Васильевич (р. 1889) был до 1936 года директором Опытного завода по производству синтетического каучука. В 1936-м А.П. Остроумовой-Лебедевой исполнен акварельный портрет Г.В. Пекова (принадлежит Институту синтетического каучука).
(обратно)
132
Акварельный портрет писателя М.Ф. Чумандрина, написанный автором в 1930 году, находится ныне в собрании ГМИИ. Акварельные портреты поэта Ю.Н. Верховского (1932) и художника А.А. Рылова (1932) хранятся ныне в собрании ГРМ.
(обратно)
133
Интерьер Китайского театра (1777–1779) был украшен подлинными китайскими лаковыми панно. В годы Великой Отечественной войны театр был сожжен фашистами.
(обратно)
134
Комаровская Надежда Ивановна (1889-1967) — драматическая актриса, режиссер и педагог. Заслуженная артистка РСФСР. Автор воспоминаний о К.А. Коровине, А.А. Блоке, Б.М. Кустодиеве, А.Н. Бенуа и др.
(обратно)
135
Портрет академика С.В. Лебедева (акв., 1932). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
136
Скалдин Алексей Дмитриевич (1885–1943) — прозаик и поэт.
(обратно)
137
«Портрет С.В. Лебедева в лаборатории Военно-медицинской академии» (х., м., 1930). Находится на кафедре общей химии Военно-медицинской академии.
(обратно)
138
Речь идет о портрете Елены Казимировны Лансере, исполненном З.Е. Серебряковой в 1911 году (х., м., частное собрание).
(обратно)
139
В архиве А.П. Остроумовой-Лебедевой сохранилась запись об этой обложке к книге О.Ф. Берггольц (см. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 1015. ед. 310. л. 25 об.).
(обратно)
140
Юбилейная выставка «Художники РСФСР за XV лет. 1917–1932 гг.» открылась в Ленинграде 13 ноября 1932 года в залах Русского музея. В ней принимали участие 357 художников. На выставке экспонировалось 82 произведения А.П. Остроумовой-Лебедевой: акварельная и масляная живопись. цветные и черно-белые гравюры. Среди них был «Портрет Е.С. Кругликовой» (х., м.); акварели — «Портрет дирижера М.Г. Климова», «Лыжник», «Летний сад в инее», пейзажи Кисловодска, Железноводска и Аджаристана; гравюры — «Туман», «Смольный», «Вид с Троицкого моста» и несколько раскрашенных автором литографий из альбома «Петербург».
(обратно)
141
Тырса Николай Андреевич (1887–1942) — живописец и график, много работал в технике акварели. Педагог (с 1918 года). Один из инициаторов создания «Боевого карандаша». Автор иллюстраций к произведениям Пушкина. Лермонтова, Толстого. На выставке им были показаны 40 работ.
Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967) — живописец и график. Заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный член Академии художеств СССР. Иллюстратор и плакатист. На выставке экспонировалось 78 произведений В.В. Лебедева. А.Я. Головин выставил 26 работ, среди них: «Автопортрет», портреты И. И. Рыбакова, В.Э. Мейерхольда, Э.Ф. Голлербаха, натюрморты, эскизы декораций к «Севильскому цирюльнику», к «Евгению Онегину», к балету «Сольвейг». Б.М. Кустодиев — 54 произведения, среди них: «Лето», «Купчиха за чаем», «Портрет Ю.Е. Кустодиевой», «Большевик», «Праздник по случаю II конгресса III Интернационала», «Демонстрация на площади Урицкого», эскизы декораций.
Малевич Казимир Северинович (1878–1935). Представитель «левого» беспредметного искусства. На выставке экспонировалось 30 его работ: пространственные супрематизмы, архитектоны, «Красный квадрат», «Черный квадрат» и др.
Филонов Павел Николаевич (1886–1941) — живописец. На выставке было показано 74 работы художника: акварели, рисунки, масляная живопись, инкрустации.
(обратно)
142
Машков Илья Иванович (1881–1944) — живописец и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1917 года — профессор Вхутемаса; с 1924-го — руководитель студии АХРР. Член-учредитель общества «Бубновый валет». На выставке было представлено 9 его произведений, среди них: «Хлебы» (1924), «Мясо» (1924), «Вид на гору Кабарджак» (1927). А.В. Лентуловым было показано 17 работ: «Две фигуры» (1919), «Молодая грузинка» (1920), «Ай-Петри» (1926), «После полдня» (1929) и др.; А.А. Рыловым — 26 картин: «Тревожная ночь» (1917), «Чайки» (1918) и др.
Кончаловский Петр Петрович (1876–1956). Живописец и педагог. Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР. На выставке было экспонировано 16 его работ. Автор упоминает картину «Купание конницы» (1928), находящуюся ныне в собрании Музея Вооруженных Сил.
(обратно)
143
На выставке «Художники РСФСР за XV лет» К.С. Петровым-Водкиным было показано 24 произведения. Среди них: «Селедка. 1918», «1918 г. в Петрограде», «Портрет А.А. Ахматовой», «Смерть комиссара», «Яблоко и лимон».
(обратно)
144
Дейнека Александр Александрович (1899–1969) — живописец, монументалист, график. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, действительный член Академии искусств в Берлине, Герой Социалистического Труда, профессор. Автор упоминает его картины: «Оборона Петрограда» (1927) и «Кросс» (1931). Кроме них, на выставке экспонировались работы Дейнеки: «Лыжники», «Безработные на Западе», «Мальчик», «Кто — кого?».
(обратно)
145
Фаворский Владимир Андреевич (1886–1964) — гравер, скульптор и живописец. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, профессор.
(обратно)
146
Чегодаев Андрей Дмитриевич (1905–1994) — доктор искусствоведения, автор многих трудов по зарубежному и советскому искусству.
(обратно)
147
Иллюстрации В.А. Фаворского к книге Л.Н. Толстого «Рассказы о животных» (М., 1932) исполнены в технике ксилографии.
(обратно)
148
Александр Иванович Герцен в 1835–1839 годах был арестован и сослан в Пермь, Вятку и Владимир. Он венчался с
Натальей Александровной Захарьиной (1817–1852) во Владимире 9 мая 1838 года.
(обратно)
149
Акварель «Озеро. Гусь-Завод Железный» (1932) была приобретена Государственной Третьяковской галереей в 1934 году.
(обратно)
150
На выставке «Художники РСФСР за XV лет», открывшейся в Москве в июне 1933 года, экспонировались акварели А.П. Остроумовой-Лебедевой: «Портрет художницы Е С. Кругликовой» (1925), «Лыжник» (1926) и «Натюрморт. Овощи» (1919).
(обратно)
151
Успенский Владимир Александрович (1892–1956) график офортист и живописец, много работал в технике акварели. С 1913 года преподавал литографию и офорт в графической мастерской Академии художеств.
Титов Иван Филиппович (р. 1902) — живописец и график. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Малкина Екатерина Романовна — ответственный редактор 1 тома «Автобиографических записок» А.П. Остроумовой-Лебедевой. Возможно, речь идет о живописце и иллюстраторе
Геннадии Николаевиче Веселове (р. 1905).
Пунин Николай Николаевич (1888–1953) — искусствовед, автор трудов по истории русского и западноевропейского искусства.
(обратно)
152
Первый том «Автобиографических записок» был издан в 1935 году.
(обратно)
153
Акварель «Детское Село. Лыжники» и два рисунка на эту же тему находятся ныне в ГРМ.
(обратно)
154
А.П. Остроумова-Лебедева преподавала в Академии художеств с 1934-го по 1936 год. Особенное внимание уделяла она передаче ученикам основ техники деревянной гравюры (см. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени M.Е. Салтыкова-Щедрина).
(обратно)
155
Манизер Матвей Генрихович (1891–1966) — скульптор и педагог, народный художник СССР, заслуженный деятель искусств БССР и УССР, действительный член Академии художеств СССР, вице-президент Академии художеств с 1947 года. Портрет Манизера, исполненный А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1935 году, находится ныне в частном собрании в Москве.
(обратно)
156
Тонкова Елена Владимировна (р. 1899) — скульптор. В 1919 году училась в Институте фотографии и фототехники, в классе рисунка у Н.Н. Купреянова, позже перешла в Академию художеств.
(обратно)
157
Лишев Всеволод Всеволодович (1877–1960) — скульптор и педагог. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР.
(обратно)
158
Речь идет о скульптуре «Бюст мальчика» (гипс, 1939).
(обратно)
159
Морозов Николай Александрович (1854–1946) — активный участник революционного движения в России в 70-х годах XIX века. Член организаций «Земля и воля», «Народная воля». В 1888 году, по «процессу 20-ти», был присужден к пожизненному заключению, которое отбывал сначала в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а затем — в Шлиссельбургской крепости. Освобожден в 1905 году. Ученый — астроном и химик, почетный член Академии наук СССР, педагог.
Морозова Ксения Алексеевна — жена шлиссельбуржца Н.А. Морозова с 1907 года.
(обратно)
160
Речь идет о портретах Н.А. Габричевской (акв., 1936. Ныне — в собрании ГРМ) и О.В. Гирголав (х., м., 1937. Петербург, частное собрание).
(обратно)
161
Автор упоминает об акварельных портретах К.А. и Н.А. Морозовых, исполненных в 1936 году, и «Портрете Н.А. Морозова» (х., м., 1938). Принадлежат ныне, по завещанию К.А. Морозовой, санаторию «Узкое». Повторение последнего, исполненное в том же году, находится в собрании ГРМ.
(обратно)
162
Многие из этих акварелей хранятся в собрании ГРМ и в санатории «Узкое».
(обратно)
163
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — революционерка-народница. В течение 20 лет находилась в заключении в Шлиссельбургской крепости, автор книги «Запечатленный труд. Воспоминания». Т. 1–2 (М., 1964).
(обратно)
164
Павленко Петр Андреевич (1899–1951) — писатель, автор романов, рассказов и очерков.
Маренин П.М. — писатель.
(обратно)
165
Всесоюзная художественная выставка «Индустрия социализма» открылась 18 марта 1939 года в Москве. На ней экспонировался «Портрет изобретателя синтетического каучука академика С.В. Лебедева» (х., м., 1937) работы А.П. Остроумовой-Лебедевой. Местонахождение его ныне — неизвестно.
(обратно)
166
«Портрет В.Я. Курбатова» (х., м., 1935). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
167
Имеются в виду организованные в Москве в 1937 году выставки: «Пейзаж Испании» и «Аукцион».
(обратно)
168
В сентябре — октябре 1936 гола, по заказу Ленинградского государственного театра оперы и балета имени С.М. Кирова. И.Я. Билибин исполнил эскизы декораций и костюмов к опере Н.А. Римского-Корсакова «Царь Салтан». Эскиз костюма царевича Гвидона был выполнен женой И.Я. Билибина, художницей А.В. Щекатихиной-Потоцкой.
(обратно)
169
Пулковская обсерватория под Ленинградом — главная астрономическая лаборатория Академии наук СССР — была основана в 1839 году.
Тихов Гавриил Адрианович (1875–1960) — астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР, действительный член Академии наук Казахской ССР. В 1906–1941 голах работал в Пулковской обсерватории.
Людмила Евграфовна Тихова — его жена.
(обратно)
170
«Портрет Ольги Константиновны Лансере» (акв., 1937) принадлежит О.К. Лансере. В мае 1937 года А.П. Остроумова-Лебедева писала Е.Е. Лансере, что находит этот портрет «неплохим, но только неплохим» (см. ЦГАЛИ, ф. 1982. оп. 1, ед. 14, л. 4).
(обратно)
171
Речь идет о «Портрете А.М. Нестерова в испанском костюме» (х., м., 1933. Собрание Н.М. Нестеровой), «Портрете А.М. Нестерова в испанском костюме» (х., м., 1937. Государственная картинная галерея Армении), «Портрете Е.И. Таль» (х., м., 1936. Ныне — в собрании ГРМ) и
«Портрете певицы К.Г. Держинской» (х., м., 1937. Ныне — в собрании ГТГ).
(обратно)
172
Первый набросок воспоминаний М.В. Нестерова о И.И. Левитане относится к 1903 году, тогда же он был опубликован в журнале «Мир искусства» (№ 7–8. С. 41–44). В 1938-м — в газете «Советское искусство» (от 8 апреля) и в журнале «Огонек» (№ 10/267. С. 18–20) были напечатаны более подробные воспоминания художника. В 1942-м в книге «Давние дни» помешен еще один, расширенный вариант этих воспоминаний (М.: Искусство, 1959. С. 115–126).
(обратно)
173
Серовы Ольга Валентиновна (1890–1946) и
Наталья Валентиновна (1908–1950).
(обратно)
174
Бакушинский Анатолии Васильевич (1883–1939) — историк искусства и музейный деятель. Директор Цветковской галереи, создатель отдела акварели и графики Государственной Третьяковской галереи.
(обратно)
175
Кристи Михаил Петрович (1875–1956) — директор Государственной Третьяковской галереи с 1927-го по 1937 год. В молодости принимал активное участие в революционной борьбе. С 1918-го по 1926 год руководил ленинградскими научными учреждениями, высшими учебными заведениями, музеями, театрами и другими культурно-просветительными учреждениями по линии Наркомпроса.
(обратно)
176
Эта запись, датированная 4 апреля 1937 года: «Приемы в акварельной технике Остроумовой-Лебедевой, изложенные самой художницей в беседе с коллективом научных сотрудников Отдела графики ГТГ» — хранится в Отделе рукописей ГТГ (ф. 15, ед. хр. 502, л. 1–3).
(обратно)
177
Речь идет о книгах: «В.А. Серов. Переписка, 1884–1911» (Л.; М.: Искусство, 1937); «Итальянское путешествие» Иоганна-Вольфганга Гёте и «Письма к Гримму» Дени Дидро.
(обратно)
178
Имеется в виду выставка советской гравюры к 20-летию Октябрьской революции, открывшаяся 13 ноября 1937 года в залах Государственного музея нового западного искусства в Москве. А.П. Остроумовой-Лебедевой были показаны на ней семь черно-белых гравюр на дереве, изображающих пейзажи Павловска (1922), и цветная ксилография «Нева» (1927).
(обратно)
179
Встреча Н.А. Морозова с К. Марксом произошла в декабре 1880 года в Лондоне (см. сб. «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Госполитиздат, 1956).
(обратно)
180
В 1938 году А.П. Остроумовой-Лебедевой был написан «Портрет С.М. Капицы» (х., м.).
(обратно)
181
Золотарев Алексей Алексеевич (1879–1950) — писатель, печатался в изданиях товарищества «Знание», организованного М. Горьким. Иногда под псевдонимом «3-в. А.».
(обратно)
182
«Ленинград. Елагин мост», 4 доски. 1938.
(обратно)
183
Акварели «Мельницы в Голландии», «Амстердам. Старые склады» (1938) находятся ныне в собрании ГРМ. Литография, упомянутая автором, исполнена в 1938 году и ныне называется «Смольный».
(обратно)
184
Дубовской Николай Никанорович (1859–1918) — живописец, пейзажист. Выставка его произведений была организована в залах Государственного Русского музея в 1938 году. На ней экспонировалось 435 произведений художника.
(обратно)
185
Выставка работ И.И. Левитана была организована в залах Государственного Русского музея в 1939 году. На ней экспонировалось 334 произведения художника (живопись, рисунки, акварели, литографии).
(обратно)
186
Гаук Александр Васильевич (1893–1963) — дирижер, народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории. До 1934 года работал в Ленинграде.
Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970) — пианистка и педагог.
(обратно)
187
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — поэт и переводчик. Впервые переводы А.А. Фета из Овидия были изданы в 1887 году.
(обратно)
188
Смирнов Николай Иванович (р. 1903) — сменный инженер, позже главный инженер завода «Литер Б», организованного по инициативе С.В. Лебедева. Профессор Химикотехнологического института имени Ленсовета в Ленинграде.
(обратно)
189
Байков Александр Александрович (1870–1946) — металлург и химик, педагог. Академик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда. С 1942 года был вице-президентом Академии наук СССР.
(обратно)
190
Надгробие В.Э. Борисова-Мусатова в Тарусе исполнено в 1910 году скульптором
Александром Терентьевичем Матвеевым (1878–1960).
(обратно)
191
К.А. Сомов умер 6 мая 1939 года, К.С. Петров-Водкин — 15 февраля того же года. Речь идет о книгах К.С. Петрова-Водкина «Хвалынск. Моя повесть» (Л., 1930) и «Пространство Эвклида. Моя повесть», кн. 2-я (Л., 1932). Иллюстрации были исполнены им же.
(обратно)
192
Ватагин Василий Алексеевич (1883–1969) — скульптор, живописец, график. Анималист. Заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный член Академии художеств СССР.
(обратно)
193
Эта статья А.П. Остроумовой-Лебедевой была опубликована в первом издании «Воспоминаний» А.А. Рылова в 1940 году.
(обратно)
194
Квартира, в которой 29 января (10 февраля) 1837 года скончался А.С. Пушкин, находится на набережной р. Мойки, д. 12. Ныне здесь размещается мемориальный музей.
(обратно)
195
Книжный знак Д.И. Митрохина был исполнен А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1940 году.
(обратно)
196
«Автопортрет» (акв., пастель, 1940). Ныне — в собрании ГРМ.
(обратно)
197
Цыганов Николай Алексеевич (1898–1955) — директор Государственного Русского музея в 1938–1941 годах, после Великой Отечественной войны был директором Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова.
(обратно)
198
На персональной выставке А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1940 году экспонировалось 10 акварелей и гуашей из серии «Испания»: «Сеговия. Улица», «Сеговия. Вид на Алькасар», «Тахо у Толедо», «Бургос. Лестница» и др., а также «Бургос» (х., м.). Здесь же было показано 13 акварелей из серии «Пун кахариу»; 15 акварелей, изображающих пейзажи Павловска, среди них: «Елки», «Чугунный мостик», «Розовопавильонный пруд», «Статуя Ниобеи». Кроме того, было выставлено 33 цветные и черно-белые гравюры; из серии «Острова»: «Остров Кирова ранней весной. Развесистое дерево», «Остров Кирова. Старые деревья» и др.; из серии «Ленинград» — 14 работ, среди них: «Ледоход осенью», «Фонтанка и Летний сад в инее», «Инженерный замок в инее», «Барки. Вечер», «Статуи в Летнем саду». На ту же тему на выставке было представлено 10 цветных и черно-белых гравюр.
(обратно)
199
«Пенаты» — усадьба в Куоккала (ныне Репино), где Репин жил с 1900-го по 1930 год. Ныне — музей-филиал Научно-исследовательского музея Академии художеств. В годы Великой Отечественной войны дом художника сгорел. В настоящее время восстановлен полностью.
(обратно)
200
Кудрявцев Александр Иванович (1873–1942) — живописец-жанрист.
(обратно)
201
Ныне местонахождение этого портрета И.Е. Репина неизвестно.
(обратно)
202
Текст выступления А.П. Остроумовой-Лебедевой 29 сентября 1940 года с воспоминаниями о ее учителе — И.Е. Репине сохранился (см. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 1015, ед. хр. 213).
(обратно)
203
Рудаков Константин Иванович (1891–1949) — живописец, график и театральный художник. Работал как иллюстратор. С 1929 года до конца жизни преподавал в Академии художеств.
(обратно)
204
Имеется в виду «Выставка работ ленинградских художниц», организованная в честь Международного женского дня в марте 1941 года в малом зале Дома культуры промкооперации. В ней участвовали художницы Кругликова, Бруни, Жирмунская и др. Экспонировалось около 300 произведений живописи, скульптуры и графики.
Семенова-Тяншанская (Болдырева) Вера Дмитриевна (р. 1888) — художница, окончила Институт истории искусств в 1931 году, член правления «Общины художников», участница ряда выставок.
(обратно)
205
На выставке работ художника Н.А. Тырсы, подготовленной им самим, экспонировались произведения, относящиеся к 1926–1940 годам. Среди них были иллюстрации к книгам Б. Житкова — «Про обезьянку» (1928), «Про слона» (1929); В. Бианки — «Лесная газета» (1930); В. Каверина «Страус Фома» (1935); живописные работы Н.А. Тырсы и эстампы. Выставка «Русская ксилография XVI–XX веков» была открыта в залах Русского музея. На пригласительном билете была воспроизведена гравюра А.П. Остроумовой-Лебедевой «Ростральная колонна».
(обратно)
206
Е.С. Кругликова скончалась 19 июля 1941 года.
(обратно)
207
Брянцев Александр Александрович (1883–1961) — режиссер, народный артист СССР, Автор ряда статей по вопросам детского театра. Создатель и руководитель ленинградского ТЮЗа.
(обратно)
208
Верховская Александра Николаевна (1900–1961) — специалистка по технике и драпировке тканей.
(обратно)
209
Дневник от 5 октября 1941 года.
(обратно)
210
В квартире А.П. Остроумовой-Лебедевой находилось 52 ее работы разных лет и произведения других художников.
(обратно)
211
И.Я. Билибин скончался 7 февраля 1942 года (по другим сведениям — 8 февраля 1942 года).
(обратно)
212
А.П. Остроумова-Лебедева имеет в виду книгу В.Я. Курбатова «Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественного богатства столицы» (Изд. Общины Св. Евгении, 1913), в которой на странице 592 имеются приведенные ею сведения.
(обратно)
213
Дневник от 20 марта 1942 года.
(обратно)
214
Загурский Борис Иванович (1901–1968) — музыковед, автор ряда работ по истории русской музыки. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1938 года — начальник управления по делам искусств Ленгорисполкома. Был директором Ленинградской консерватории. Малого оперного театра.
Бартошевич Андрей Андреевич (1899–1947) — искусствовед, художественный критик, специалист в области театрально-декорационного искусства.
(обратно)
215
В 1942 году А.П. Остроумовой-Лебедевой были исполнены литографии: «Мальчики удят рыбу», «Петр Великий», «Калинкин мост», «Вазы», «Лебяжья канавка», «Ростральная колонна и шар», «Летний сад», «Лев на набережной», «Смольный», «Памятник на могиле художника В.Э. Борисова-Мусатова в Тарусе», «Похищение Прозерпины»; гравюры: «Мальчики удят рыбу», «Памятник Петру I»; акварели: «Летний сад в инее», «Окрестности Не-веля»; «Портрет Е.Г. и П.Е. Корниловых» (х., м.). А.П. Остроумова-Лебедева предполагала участвовать в выставке «Город Ленина в дни войны», которая открылась в мае 1942 года в помещении Дома архитекторов Ленинграда как подготовительная к выставке «Великая Отечественная война».
(обратно)
216
Боголюбов Вениамин Яковлевич (1895–1954) — скульптор, занимался также живописью и рисунком. С 1929 года работал вместе с В.И. Ингалом.
Пинчук Бениамин Борисович (р. 1908) — скульптор, народный художник СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный член Академии художеств, профессор. В годы Великой Отечественной войны работал как плакатист. Профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Катонин Евгений Иванович (1889–1984) — архитектор, график и педагог. Действительный член Академии строительства и архитектуры Украинской ССР. С 1948 года жил и работал в Киеве.
(обратно)
217
Милютина Вера Владимировна (ум. 1967) — художница.
(обратно)
218
Лодий Зоя Петровна (1886–1957) — камерная певица, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ленинградской консерватории.
(обратно)
219
Выставка произведений А.П. Остроумовой-Лебедевой в помещении Общества камерных концертов была открыта с 5 по 25 июля 1942 года. На ней экспонировалось 43 работы художницы (масло, акварель, гравюры, литографии), относящиеся к 1896–1942 годам (см. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 1015, ед. хр. 71, л. 34).
(обратно)
220
Заседание в память П.А. Шиллинговского состоялось в его квартире, где был организован филиал Русского музея, ныне не существующий.
Доброклонский Михаил Васильевич (1886–1967) — искусствовед, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, сотрудник Эрмитажа, много сделавший для разработки научных методов изучения его собрания западноевропейской графики. Автор ряда научных трудов и каталогов.
(обратно)
221
Фармаковский Мстислав Владимирович (1873–1946) — художник и искусствовед, специалист-реставратор, известный исследованиями в области восстановления и сохранения музейных экспонатов. Автор упоминает о его книге «Акварель, ее техника, реставрация и консервация», изданной в Ленинграде в 1950 году. В ней были напечатаны предисловия А.П. Остроумовой-Лебедевой и В.Я. Курбатова.
(обратно)
222
Вероятно, альбом был составлен из литографий, исполненных А.П. Остроумовой-Лебедевой в 1942 году.
(обратно)
223
Черноруцкий Михаил Васильевич — профессор Военно-медицинской академии в Ленинграде.
(обратно)
224
Дневник от 25 января 1943 года.
(обратно)
225
Яковлева-Шапорина Любовь Васильевна (1880–1967) — художница и переводчица, организатор 1-го Государственного театра марионеток.
(обратно)
226
Асенкова Варвара Николаевна (1817–1841) — драматическая актриса, дебютировала на сцене Александрийского театра 21 января 1835 года.
(обратно)
227
А.А. Иванов был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. Ныне его могила находится на территории Некрополя мастеров искусств. Барельеф на памятнике был создан скульптором Н.А. Лаверецким в 1860-х годах.
(обратно)
228
Демут-Малиновский Василий Иванович (1779–1846) — скульптор и педагог, профессор, а с 1836 года — ректор Академии художеств (по скульптуре). Статуи быков у Скотопригонного двора (ныне Мясокомбинат имени С.М. Кирова) созданы В.И. Демут-Малиновским в 1824 году, отлиты — в 1827-м.
(обратно)
229
Встреча художников и искусствоведов, о которой упоминает автор, состоялась 28 июня 1943 года. Она была организована Управлением по делам изобразительных искусств и Всероссийской Академией художеств.
(обратно)
230
Яглова Нина Тимофеевна (р. 1905) — искусствовед, специалист в области прикладного и народного искусства. Педагог.
Толстая Наталья Васильевна (урожд. Крандиевская) (1887–1963) — жена писателя А.Н. Толстого. А.П. Остроумова-Лебедева ошиблась: М.С. Федоров скончался в 1942 году.
(обратно)
231
Ендогуров Иван Иванович (1861–1898) — живописец-пейзажист. Не установлено, о какой копии с работы И.И. Ендогурова идет речь.
Крыжицкий Константин Яковлевич (1858–1911) — живописец-пейзажист. Не установлено, о какой копии с его работы идет речь.
(обратно)
232
Иордан Федор Иванович (1800–1883) — гравер на меди и стали. В 1844 году Ф.И. Иордан получил звание профессора за гравюру «Преображение Господне» (с картины Рафаэля), над которой он работал с 1835-го по 1850 год.
(обратно)
233
Воинов Всеволод Владимирович (1880–1945) — график, театральный художник, искусствовед, музейный работник.
(обратно)
234
Акварель «Сумерки. Окно» (Ленинград, частное собрание) в книге В.А. Суслова «А.П. Остроумова-Лебедева» (А., 1967) датирована 1944 годом.
(обратно)
235
Конашевич Владимир Михайлович (1888–1963) — живописец и график, заслуженный деятель искусств РСФСР, много работал над иллюстрированием детских книг. На упомянутой автором выставке, организованной ЛОССХом, экспонировались работы военных лет, пейзажи Павловска, иллюстрации к рассказам Чехова и др.
(обратно)
236
Герасимов Александр Михайлович (1881–1963) — живописец, автор тематических картин, пейзажей, портретов, натюрмортов. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР.
Мигай Сергей Иванович (1888–1959) — оперный артист. Народный артист РСФСР, с 1948 года занимался педагогической деятельностью. Автор искусствоведческих и методических трудов.
Асеев Николай Николаевич (1889–1963) — поэт и переводчик.
Смирнов-Сокольский Николай Павлович (1898–1962) — артист эстрады, народный артист РСФСР, автор ряда книг, известный собиратель-библиофил.
(обратно)
237
Воспоминания А.П. Остроумовой-Лебедевой о С.В. Лебедеве хранятся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
(обратно)
238
Пинтуриккьо (1454–1513) — итальянский живописец умбрийской школы. Фрески, упомянутые автором, относятся к 1503–1508 годам и изображают события из жизни папы Пия II.
(обратно)
239
Савонарола Джироламо (1452–1498) — итальянский проповедник, монах-доминиканец, религиозно-политический реформатор, боровшийся за уничтожение светской власти пап, церковных богатств, пышности обрядов католической церкви и быта.
(обратно)
240
Автор имеет ввиду скульптуры: «Юдифь и Олоферн» Б. Челлини. Работ Верроккио в Лоджии деи Ланци нет.
(обратно)
241
Речь идет о известных скульптурах работы Донателло — «Св. Георгии» (1416) и конной статуе Гаттамелаты (отлита в 1447-м, установлена в 1453-м). «Терракотовым бюстом мужчины» автор, вероятно, называет бюст Никколы да Удзано — первый скульптурный портрет, исполненный Донателло (нач. XV в.). Статуя «Иоанн Креститель» (Национальный музей Флоренции), ранее приписывавшаяся Донателло, ныне считается работой Д. да Сеттиньяно.
(обратно)
242
Здание Уффици строилось по проекту Д. Вазари в 1560–1574 годах. Основанием собрания галереи Уффици послужили коллекции художественных произведений семейства Медичи. Здесь находятся творения Фра Анджелико да Фьезоле, Боттичелли, Гирландайо, Рафаэля, Тициана, Мемлинга, Дюрера, Рембрандта и других художников. Строительство палаццо Питти — резиденции семьи Медичи во Флоренции — было начато в середине XV века по эскизам Брунеллески, окончено в XVI веке. В галерее Питти собрано около 500 произведений искусства, среди которых работы Тициана, Перуджино, А. дель Сарто, «Концерт» Джорджоне, «Мадонна Грандука» и «Мадонна делла Седин» Рафаэля.
(обратно)
243
Автор перечисляет живописцев флорентийской школы.
Боттичелли Сандро (1444–1510), автор хранящихся в Уффици картин «Весна», «Рождение Венеры» и др.
Липпи Филиппино (ок. 1457–1504), сын живописца Филиппо Липпи. Главные работы Ф. Липпи находятся во Флоренции и относятся к 80-м годам XV века: «Поклонение волхвов», росписи церкви Санта Мария Новелла и др.
Липпи Филиппо, прозванный Фра Филиппо (ок. 1406–1469), в галерее Уффици хранятся: «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» и «Венчание богоматери»; в палаццо Питти — «Мадонна» (тондо).
Гирландайо Доменико (1449–1494). В галерее Уффици находятся его работы: «Поклонение волхвов» и «Мадонна». Одно из основных произведений художника — фрески в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции.
Поллайоло Антонио (1429–1498) — живописец, гравер, скульптор. В галерее Уффици хранится его живописная работа «Три святых», исполненная вместе с братом Пьеро; в Национальном музее — скульптуры «Геркулес и Антей», терракотовый бюст; в музее Флорентийского собора — серебряный рельеф «Видение Иоанна Крестителя». Наиболее известные произведения
Мазаччо (1401–1428) — фрески в капелле Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине и фреска с изображением «Троицы» в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. В галерее Уффици находится его работа «Св. Анна с богоматерью и младенцем».
Фра Беато Анджелико да Фьезоле (1387–1455), к раннему периоду его творчества относится «Страшный суд» (Академия во Флоренции). После 1436 года им были созданы фрески монастыря Сан Марко во Флоренции.
(обратно)
244
Гоццоли Беноццо (Беноццо ди Лезе, 1420–1497) — итальянский живописец флорентийской школы. Речь идет о цикле фресок «Сцены из Ветхого Завета» в Кампо-Санто в Пизе.
(обратно)
245
Дневник от 20 апреля 1899 года, четверг, Париж.
(обратно)
246
Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — ученый-физик, педагог и государственный деятель. Действительный член Академии наук СССР, президент ее с 1945 года.
(обратно)
247
Ныне портреты О.А. Каратыгиной, Н.А. и К.А. Морозовых находятся в собрании санатория «Узкое».
(обратно)
248
Федотов Павел Андреевич (1815–1852) — художник-реалист, известный своими жанровыми картинами, работал и в технике акварели.
Соколов Петр Петрович (1821–1899) — живописец-акварелист, работал как портретист, жанрист и иллюстратор. Член-учредитель «Общества русских акварелистов».
Премацци Людвиг Осипович (1814–1891) — живописец-акварелист, педагог. Работал как пейзажист, занимался костюмом и интерьером.
(обратно)
249
«Ослиный хвост» — объединение художников, отделившихся по инициативе Н.С. Гончаровой и М.Ф. Ларионова от «Бубнового валета» и организовавших выставку в марте 1912 года в Москве. Следующая выставка этих художников называлась «Мишень» (1913). В ней участвовали В.С. Барт, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, А.В. Фонвизин, М.З. Шагал, А.В. Шевченко и др.
(обратно)
250
А.Н. Бенуа неоднократно обращался к повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»; первая иллюстрация и заставка были им сделаны в 1898 году. В 1905-м А.Н. Бенуа создал 6 иллюстраций, в 1910-м — фронтиспис, 7 шмуцтитулов, 7 иллюстраций, 6 заставок и 7 концовок. Иллюстрации к «Медному всаднику» исполнены А.Н. Бенуа в 1903 году. Впервые они были напечатаны в журнале «Мир искусства» (1904. № 1). В 1905 году художник вновь обратился к этому произведению, создав 35 иллюстраций, заставок, концовок и обложку. А.П. Остроумова-Лебедева ошиблась: А.Н. Бенуа не иллюстрировал «Горе от ума» А.С. Грибоедова.
(обратно)
251
Вероятно, автор имеет в виду книги: «История живописи в XIX веке. Русская живопись» (СПб.: т-во «Знание», 1901. Ч. 1 и 1902. Ч. 2); она была переиздана под названием:
Alexandre Benois. History of Russian Painting. New-Jork, 1916) и «История живописи всех времен и народов», ч. 1. Пейзажная живопись, вып. I–XXII (М.: Изд. И.Н. Кнебель, 1912–1917, не окончено).
(обратно)
252
Первые иллюстрации к русским народным сказкам были исполнены И.Я. Билибиным в 1899 году. Позже он иллюстрировал сказки «Василиса Прекрасная», «Марья-царевна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка» и в 1904 году, после поездки на Север, былину «Вольга»; «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке» были оформлены художником в 1905-1907-м, 1910 годах.
(обратно)
253
Лансере Евгений Александрович (1848–1886) — скульптор-анималист, почетный вольный общник Академии художеств. Отец художников Е.Е. Лансере, З.Е. Серебряковой и архитектора, историка искусств Н.Е. Лансере.
(обратно)
254
Автор упоминает о книгах В.М. Лобанова «Книжная графика Е.Е. Лансере» (М.: Л., 1948), К. Кравченко «Е.Е. Лансере» (М.; Л., 1946) и Н. Шантыко «Евгений Евгеньевич Лансере» (М., 1952).
(обратно)
255
Декорации М.В. Добужинского к «Месяцу в деревне» выполнены в 1909 году; к пьесе А.Н. Островского «Где тонко — там и рвется» — в 1912-м (Московский Художественный театр); к пьесе «Франческа да Римини» — в 1908-м (театр В.Ф. Комиссаржевской).
(обратно)
256
Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1926) — публицист и беллетрист. Писал иногда под псевдонимом «Old gentleman».
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) — историк и литературовед, наиболее известны его работы о декабристах и А.С. Пушкине.
(обратно)
257
Арапов Анатолий Афанасьевич (1876–1949) — живописец и театральный художник.
(обратно)
258
Кузнецов Валентин Васильевич (р. 1864) — скульптор, монументалист и декоратор.
(обратно)
259
Мильман Адольф Израильевич (ок. 1888–1930) — живописец и педагог. Жил и работал во Франции. С 1921 года не выставлял своих произведений.
(обратно)
260
Пырин Михаил Семенович (1874–1943) — живописец. пейзажист и педагог. С 1902-го по 1918 год жил и работал в Москве, затем — в дер. Ченцово, с 1934-го — в Ярославле.
(обратно)
261
Сологуб Леонид Романович (р. 1884) — живописец-пейзажист и архитектор. Учился а Академии художеств в Петербурге, жил и работал в Гааге.
(обратно)
262
Уткин Петр Саввич (1877–1934) — живописец. В 1918 году активно участвовал в реорганизации Боголюбовской рисовальной школы в Саратовские государственные художественные свободные мастерские и до 1931 года руководил ими. С 1931-го по 1934 год — профессор живописи в Академии художеств в Ленинграде.
(обратно)
263
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) — живописец, работал также для театра. Педагог.
(обратно)
264
Шервашидзе, Чачба Александр Константинович (1867/1868 — 1968) — живописец и театральный художник, после Октябрьской революции уехал во Францию.
(обратно)
265
Якулов Георгий Богданович (1884–1928) — живописец, театральный художник, иллюстратор, педагог.
(обратно)
Комментарии
1
В издании «Ленинградский путеводитель» (ОГИЗ. 1933) указано на стр. 292, т. II, что «Уткина дача» построена в первой половине XIX века. По другим источникам, строитель также неизвестен. Можно допустить крепостного архитектора. Кому принадлежала — неизвестно. В 1803 году дом перешел в собственность сенатора Уткина, умершего в 1834 году. (
Примеч. авт.)
(обратно)
2
«Быстрее, быстрее» (
фр.).
(обратно)
3
Первый этаж (
фр.).
(обратно)
4
Абрам Эфрос. Профили. (
Примеч. авт.)
(обратно)
5
Кофе с молоком.
(обратно)
6
Во время этой поездки по Италии мы не имели времени работать. Я сделала только 8 беглых, крошечных набросков маслом. Вот и все. (
Примеч. авт.)
(обратно)
7
Строитель его — выдающийся архитектор Джованни Пизано. Кампо-Санто — это очень большая, расположенная прямоугольником галерея, окружающая двор. На него она открывается арками. Глухая стена ее покрыта фресками Беноццо Гоццоли. (
Примеч. авт.)
(обратно)
8
Текст включен и книгу по предложению наследников А.П. Остроумовой-Лебедевой.
(обратно)
Оглавление
Том III
I.
1916–1918 годы
II.
1919–1923 годы
III.
Лето в Коктебеле
IV.
1924–1925 годы
V.
1925–1928 годы
VI.
Поездка по Волге, военно-грузинской дороге и жизнь в Аджаристане
VII.
1929–1932 годы
VIII.
1933–1937 годы
IX.
1938–1941 годы
Ленинград в блокаде
X.
1941 год
XI.
1942 год
XII.
1943 год
Послесловие автора
Приложения
Приложение I.
Фрагменты из рукописи А.П. Остроумовой-Лебедевой «ПУТИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА»
Приложение II.
Болезнь и смерть академика Сергея Васильевича Лебедева (изобретателя синтетического каучука и основоположника каучуковой промышленности){8}
*** Примечания ***

 Выставка имела большой успех. Я рассказываю подробно о ней потому, что это было впервые в России, когда просвещенный искусствовед, каким был Николай Ильич Романов, оценил мое граверное искусство.
Заграничные музеи в то время уже приобретали мои гравюры: Римский музей в 1911 году, Люксембургский музей в Париже — в 1905 году, музеи в Праге и Дрездене — в 1905 году и Фридрихский музей в Берлине (года не помню). У нас в России никто не торопился иметь их для музейных собраний. В Академии художеств, по словам Н.И. Романова, находился случайный оттиск какой-то гравюры. В Русском музее имелось несколько моих гравюр, но в нем отсутствовал графический отдел, так же как и в Третьяковской галерее.
Об этом мне не раз говорил Валентин Александрович Серов, выражая сожаление, что они не могут приобрести мои гравюры для Третьяковской галереи…[4]
Выставка имела большой успех. Я рассказываю подробно о ней потому, что это было впервые в России, когда просвещенный искусствовед, каким был Николай Ильич Романов, оценил мое граверное искусство.
Заграничные музеи в то время уже приобретали мои гравюры: Римский музей в 1911 году, Люксембургский музей в Париже — в 1905 году, музеи в Праге и Дрездене — в 1905 году и Фридрихский музей в Берлине (года не помню). У нас в России никто не торопился иметь их для музейных собраний. В Академии художеств, по словам Н.И. Романова, находился случайный оттиск какой-то гравюры. В Русском музее имелось несколько моих гравюр, но в нем отсутствовал графический отдел, так же как и в Третьяковской галерее.
Об этом мне не раз говорил Валентин Александрович Серов, выражая сожаление, что они не могут приобрести мои гравюры для Третьяковской галереи…[4]
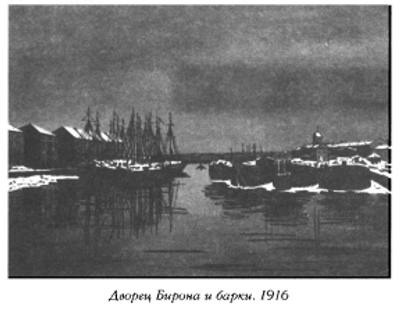 В свободные для них дни мы начинали печатать с утра и, проработав до вечера, получали только три оттиска. Я подбирала тона и накатывала их на доску (самая ответственная и творческая часть печатания), а мои помощники терли гладилками по наложенной бумаге. Приходилось несколько раз подымать то одну часть бумаги, то другую, чтобы прикатать на доску еще краски, усиливая ее тон или изменяя его. В то же время надо было соблюдать большую осторожность. Легко можно было сдвинуть бумагу и получить бракованный оттиск, что и бывало не раз.
Участвовала на очередной выставке «Мира искусства». Я не любила выставлять, не любила давать свои вещи на критику чужих, часто совершенно равнодушных к искусству людей. Но я считала полезным и совершенно необходимым ежегодно выставлять свои работы. Это был отчет о сделанном за год[7].
Кроме того, при сравнении с вещами других художников нагляднее выступали свои недостатки. Дома я их часто не замечала, а на выставке они мне кололи глаза. Да и легче было там проводить строгую оценку своим вещам. И хотя это было не очень-то приятно, но я сознавала пользу такой самокритики.
Участие на выставке также являлось нередко энергичным стимулом к дальнейшему развитию и к новым достижениям. Одним словом — надо выставлять. В последние годы многие мои акварели, особенно виды Италии, Голландии, Бельгии, Испании, отошли от графического раскрашенного рисунка и приобрели характер самодовлеющей акварельной живописи.
В прошлом, 1914 году я и мои товарищи как-то проходили по нашей выставке, подробно осматривая картины[8]. Когда мы подошли к моим вещам, я попросила разобрать и раскритиковать их.
«Зачем вам это? Ведь вы, Анна Петровна, мастер. Зачем мы будем вас учить?» Эти слова были неожиданны и взволновали меня.
Теперь я «мастер», думала я. Значит, довольно мне искать поддержки, искать опоры. Пришло мне время учить других. А твердости и определенности своих путей я внутренне не ощущала. Все мое искусство казалось мне таким шатким, неопределенным, полным исканий.
В акварельной живописи я главным образом стремилась к синтезу вещей и дальше — к обобщению. В то время моя техника невольно соответствовала моему внутреннему стремлению и становилась широкой и свободной. Может быть, даже излишне свободной, как показал следующий год.
А в следующем году выставленный мною ряд видов Баку и нефтяных промыслов заслужил упрек в печати. В отчете о выставке, напечатанном в газете «Речь», упоминая обо мне, критик порицал мою слишком вольную и размашистую технику[9].
Труден путь художника, думала я, ой как труден! А без трудностей он не был бы так увлекателен… Надо работать, работать!
В свободные для них дни мы начинали печатать с утра и, проработав до вечера, получали только три оттиска. Я подбирала тона и накатывала их на доску (самая ответственная и творческая часть печатания), а мои помощники терли гладилками по наложенной бумаге. Приходилось несколько раз подымать то одну часть бумаги, то другую, чтобы прикатать на доску еще краски, усиливая ее тон или изменяя его. В то же время надо было соблюдать большую осторожность. Легко можно было сдвинуть бумагу и получить бракованный оттиск, что и бывало не раз.
Участвовала на очередной выставке «Мира искусства». Я не любила выставлять, не любила давать свои вещи на критику чужих, часто совершенно равнодушных к искусству людей. Но я считала полезным и совершенно необходимым ежегодно выставлять свои работы. Это был отчет о сделанном за год[7].
Кроме того, при сравнении с вещами других художников нагляднее выступали свои недостатки. Дома я их часто не замечала, а на выставке они мне кололи глаза. Да и легче было там проводить строгую оценку своим вещам. И хотя это было не очень-то приятно, но я сознавала пользу такой самокритики.
Участие на выставке также являлось нередко энергичным стимулом к дальнейшему развитию и к новым достижениям. Одним словом — надо выставлять. В последние годы многие мои акварели, особенно виды Италии, Голландии, Бельгии, Испании, отошли от графического раскрашенного рисунка и приобрели характер самодовлеющей акварельной живописи.
В прошлом, 1914 году я и мои товарищи как-то проходили по нашей выставке, подробно осматривая картины[8]. Когда мы подошли к моим вещам, я попросила разобрать и раскритиковать их.
«Зачем вам это? Ведь вы, Анна Петровна, мастер. Зачем мы будем вас учить?» Эти слова были неожиданны и взволновали меня.
Теперь я «мастер», думала я. Значит, довольно мне искать поддержки, искать опоры. Пришло мне время учить других. А твердости и определенности своих путей я внутренне не ощущала. Все мое искусство казалось мне таким шатким, неопределенным, полным исканий.
В акварельной живописи я главным образом стремилась к синтезу вещей и дальше — к обобщению. В то время моя техника невольно соответствовала моему внутреннему стремлению и становилась широкой и свободной. Может быть, даже излишне свободной, как показал следующий год.
А в следующем году выставленный мною ряд видов Баку и нефтяных промыслов заслужил упрек в печати. В отчете о выставке, напечатанном в газете «Речь», упоминая обо мне, критик порицал мою слишком вольную и размашистую технику[9].
Труден путь художника, думала я, ой как труден! А без трудностей он не был бы так увлекателен… Надо работать, работать!

 Много часов мы пробыли на улицах. Я все время рисовала среди толпы, движущейся бесконечным потоком. Сделала семь подкрашенных рисунков. Они разошлись по частным собраниям. 1 мая набросала акварель идущих с музыкой учеников. Она попала в собрание Ф.Ф. Нотгафта[14].
В один из этих дней я и Сергей Васильевич зашли за А.Н. Бенуа, жившим тогда на 1-й линии, недалеко от нас. Мы решили пойти вместе посмотреть на город, улицы, движение на них, на пожары, вспыхивавшие в разных концах города.
Проходя к Николаевскому мосту по 3-й линии, вдоль чугунной решетки садика Академии художеств, мы в темноте (город был без света) встретили какого-то высокого гражданина. Увидев Бенуа и узнав его, он сердечно с ним поздоровался: «А, Шура. Это ты!»
Александр Николаевич нас познакомил. Услышав мою фамилию, «незнакомец» вдруг горячо меня обнял и поцеловал, воскликнув: «Поздравляю вас. Вы будете первая наша женщина-академик».
Это был конференц-секретарь Академии художеств Валериан Порфирьевич Лобойков[15]. Можно себе представить мое удивление и от неожиданности, и от странной обстановки, при которой я это узнала. Несколько времени спустя мне рассказали об этом более подробно.
Осенью 1916 года действительные члены Академии художеств: Евграф Евграфович Рейтерн, Владимир Егорович Маковский и Петр Иванович Нерадовский — на одном из заседаний Академии художеств предложили меня в кандидаты на звание академика. Когда это заявление стало известно всему собранию действительных членов Академии художеств, то проведение женщины в действительные члены академии вызвало у многих сильный протест.
Этот вопрос дебатировался довольно долго, и на заседании 30 января 1917 года решен был благоприятно, особенно после доклада почетного члена Академии художеств П.Ю. Сюзора, убедившего присутствующих в юридической законности присвоения женщинам звания академика.
После этого решения были выдвинуты и другие женщины-художницы в кандидаты на звание академика: З.Е. Серебрякова, О.Л. Делла-Вос-Кардовская и Шнейдер[16]. Решено было устроить баллотировку на заседании в октябре 1917 года.
Но оно не состоялось, и заседание 30 января 1917 года было последним.
В 1917 году в апреле месяце я пережила большое горе: умер мой дорогой, незабвенный учитель Василий Васильевич Матэ. Тяжела была потеря и для Академии художеств, и для всего нашего искусства.
Отношение Василия Васильевича ко мне было самое дружеское и теплое. Спасибо ему за то, что, взяв меня к себе в ученики после ссоры моей с Репиным в 1899 году, он дал свободу резать, как я хочу, позволил по-новому работать над гравюрой и не мешал отвергать и нарушать традиции и навыки прежней тоновой репродукционной гравюры. Он поверил мне и понял искренность молодых самонадеянных попыток и стремлений создать новую, самодовлеющую художественную гравюру, как черную, так и цветную.
После моего окончания Академии художеств Василий Васильевич продолжал внимательно следить за моей работой.
Василий Васильевич Матэ до самой смерти оставался искренним другом всего творчески талантливого. Все тянулись к нему. Все знали, что найдут в нем внимательного, отзывчивого наставника и друга, который даст им объективный и доброжелательный совет. Теперь он нас покинул.
Много часов мы пробыли на улицах. Я все время рисовала среди толпы, движущейся бесконечным потоком. Сделала семь подкрашенных рисунков. Они разошлись по частным собраниям. 1 мая набросала акварель идущих с музыкой учеников. Она попала в собрание Ф.Ф. Нотгафта[14].
В один из этих дней я и Сергей Васильевич зашли за А.Н. Бенуа, жившим тогда на 1-й линии, недалеко от нас. Мы решили пойти вместе посмотреть на город, улицы, движение на них, на пожары, вспыхивавшие в разных концах города.
Проходя к Николаевскому мосту по 3-й линии, вдоль чугунной решетки садика Академии художеств, мы в темноте (город был без света) встретили какого-то высокого гражданина. Увидев Бенуа и узнав его, он сердечно с ним поздоровался: «А, Шура. Это ты!»
Александр Николаевич нас познакомил. Услышав мою фамилию, «незнакомец» вдруг горячо меня обнял и поцеловал, воскликнув: «Поздравляю вас. Вы будете первая наша женщина-академик».
Это был конференц-секретарь Академии художеств Валериан Порфирьевич Лобойков[15]. Можно себе представить мое удивление и от неожиданности, и от странной обстановки, при которой я это узнала. Несколько времени спустя мне рассказали об этом более подробно.
Осенью 1916 года действительные члены Академии художеств: Евграф Евграфович Рейтерн, Владимир Егорович Маковский и Петр Иванович Нерадовский — на одном из заседаний Академии художеств предложили меня в кандидаты на звание академика. Когда это заявление стало известно всему собранию действительных членов Академии художеств, то проведение женщины в действительные члены академии вызвало у многих сильный протест.
Этот вопрос дебатировался довольно долго, и на заседании 30 января 1917 года решен был благоприятно, особенно после доклада почетного члена Академии художеств П.Ю. Сюзора, убедившего присутствующих в юридической законности присвоения женщинам звания академика.
После этого решения были выдвинуты и другие женщины-художницы в кандидаты на звание академика: З.Е. Серебрякова, О.Л. Делла-Вос-Кардовская и Шнейдер[16]. Решено было устроить баллотировку на заседании в октябре 1917 года.
Но оно не состоялось, и заседание 30 января 1917 года было последним.
В 1917 году в апреле месяце я пережила большое горе: умер мой дорогой, незабвенный учитель Василий Васильевич Матэ. Тяжела была потеря и для Академии художеств, и для всего нашего искусства.
Отношение Василия Васильевича ко мне было самое дружеское и теплое. Спасибо ему за то, что, взяв меня к себе в ученики после ссоры моей с Репиным в 1899 году, он дал свободу резать, как я хочу, позволил по-новому работать над гравюрой и не мешал отвергать и нарушать традиции и навыки прежней тоновой репродукционной гравюры. Он поверил мне и понял искренность молодых самонадеянных попыток и стремлений создать новую, самодовлеющую художественную гравюру, как черную, так и цветную.
После моего окончания Академии художеств Василий Васильевич продолжал внимательно следить за моей работой.
Василий Васильевич Матэ до самой смерти оставался искренним другом всего творчески талантливого. Все тянулись к нему. Все знали, что найдут в нем внимательного, отзывчивого наставника и друга, который даст им объективный и доброжелательный совет. Теперь он нас покинул.
 Одними из первых гравюр его, как мне сейчас вспоминается, были «Ломовик с телегой» на фоне городского пейзажа и пейзаж «Ветряная мельница, радуга и корова». Трактовка предметов и пейзажа была груба, тяжеловесна, лапидарна. Но в то же время в ней были сила, выразительность и элементы эпического. Это был большой граверный талант, интересный своей самобытностью. Через несколько лет он переехал жить в Москву. Изредка привозил мне показать свои работы (не гравюры). По ним было видно, как он бурно переживал увлечения всякими крайними течениями в искусстве, как он путался в них. При просмотре его вещей у меня с ним возникали споры, доходившие до ссор. Я его жестоко упрекала за то, что он бросил гравюру, так блестяще им начатую. Я поняла, что в своем граверном искусстве он кем — то в Москве был сбит с толку. Потом я много лет его не видела, и только на юбилейной выставке в Ленинграде, в 1932 году, мы возобновили наше знакомство. Он выступал тогда как законченный и талантливый художник многими хорошими вещами, но не гравюрами[20].
Одними из первых гравюр его, как мне сейчас вспоминается, были «Ломовик с телегой» на фоне городского пейзажа и пейзаж «Ветряная мельница, радуга и корова». Трактовка предметов и пейзажа была груба, тяжеловесна, лапидарна. Но в то же время в ней были сила, выразительность и элементы эпического. Это был большой граверный талант, интересный своей самобытностью. Через несколько лет он переехал жить в Москву. Изредка привозил мне показать свои работы (не гравюры). По ним было видно, как он бурно переживал увлечения всякими крайними течениями в искусстве, как он путался в них. При просмотре его вещей у меня с ним возникали споры, доходившие до ссор. Я его жестоко упрекала за то, что он бросил гравюру, так блестяще им начатую. Я поняла, что в своем граверном искусстве он кем — то в Москве был сбит с толку. Потом я много лет его не видела, и только на юбилейной выставке в Ленинграде, в 1932 году, мы возобновили наше знакомство. Он выступал тогда как законченный и талантливый художник многими хорошими вещами, но не гравюрами[20].
 Я и Сергей Васильевич с большой любовью неутомимо исходили наш город в свободное после интенсивной работы время. Куда-куда мы не забирались! В какие окраины, какие глухие места не заходили. Теперь от этих мест и следа не осталось. Город после Великой Октябрьской социалистической революции неудержимо рос и развивался, особенно на окраинах, бесследно поглощая их…
Вспоминаю одну из наших прогулок. Мы забрались в конец Песочной улицы, по обе стороны которой шли большие дачи с мезонинами, все темно-коричневого традиционного цвета. Террасы их были с разноцветными стеклами. Великолепные столетние липы стояли вдоль улицы и вокруг дач. Они были краса этих мест. По берегу Карповки, протекавшей слева, росли развесистые ивы, а склоны к воде были покрыты, особенно весной, ковром цветов.
Пройдя до конца Песочную улицу, мы попадали в обширный запущенный парк Вольфа. Дорожки в нем заросли, но следы парковых украшений и затей сохранились. Через ручейки переброшены крутые живописные мостики. Стояла полуразрушенная беседка. Встречались здесь и там гранитные опрокинутые пьедесталы от статуй, ваз и другой садовой скульптуры.
Недалеко от входа, параллельно Карповке, возвышался желтый каменный обширный дом. Архитектура его была претенциозна, в стиле ложной готики. Он был запущен, и в нем, кроме старика сторожа, никто не жил. Все кругом было пустынно, заброшено, и на всем уже лежала печать близкого уничтожения. А местоположение этого парка было прекрасно — на мысу между двух рек. Сейчас там находится трамвайный парк и лесопильный завод имени М.И. Калинина.
Я и Сергей Васильевич с большой любовью неутомимо исходили наш город в свободное после интенсивной работы время. Куда-куда мы не забирались! В какие окраины, какие глухие места не заходили. Теперь от этих мест и следа не осталось. Город после Великой Октябрьской социалистической революции неудержимо рос и развивался, особенно на окраинах, бесследно поглощая их…
Вспоминаю одну из наших прогулок. Мы забрались в конец Песочной улицы, по обе стороны которой шли большие дачи с мезонинами, все темно-коричневого традиционного цвета. Террасы их были с разноцветными стеклами. Великолепные столетние липы стояли вдоль улицы и вокруг дач. Они были краса этих мест. По берегу Карповки, протекавшей слева, росли развесистые ивы, а склоны к воде были покрыты, особенно весной, ковром цветов.
Пройдя до конца Песочную улицу, мы попадали в обширный запущенный парк Вольфа. Дорожки в нем заросли, но следы парковых украшений и затей сохранились. Через ручейки переброшены крутые живописные мостики. Стояла полуразрушенная беседка. Встречались здесь и там гранитные опрокинутые пьедесталы от статуй, ваз и другой садовой скульптуры.
Недалеко от входа, параллельно Карповке, возвышался желтый каменный обширный дом. Архитектура его была претенциозна, в стиле ложной готики. Он был запущен, и в нем, кроме старика сторожа, никто не жил. Все кругом было пустынно, заброшено, и на всем уже лежала печать близкого уничтожения. А местоположение этого парка было прекрасно — на мысу между двух рек. Сейчас там находится трамвайный парк и лесопильный завод имени М.И. Калинина.
 Еще упомяну прогулку на «Уткину дачу». Ее мы проделывали не раз, хотя она была еще дальше и на другом конце города, за Охтой. На трамвае мы доезжали до Охтинского моста. Кстати, при имени этого моста я вспоминаю, как в 1908–1909 годах ко мне приехал военный инженер Кривошеин, один из строителей Охтинского моста. Его привез знакомый молодой архитектор Н.М. Осипов[23]. Он просил меня украсить акварелью проект моста. Кривошеин должен был представить его на просмотр и утверждение. Я сделала на нем голубое небо с облаками, траву и другие пейзажные детали.
От Охтинского моста мы шли по бесконечному Новочеркасскому проспекту вдоль реки Большая Охта, вверх против течения. Многочисленные заводы, расположенные по берегу, загораживали нам ее. Дойдя до небольшой речки Оккервиль, впадающей в реку Большая Охта, мы переходили мост через эту речку, и здесь была цель нашей прогулки. На самом мысу, образуемом этими реками, стоял загородный каменный двухэтажный дом, носивший название «Уткина дача».
Еще упомяну прогулку на «Уткину дачу». Ее мы проделывали не раз, хотя она была еще дальше и на другом конце города, за Охтой. На трамвае мы доезжали до Охтинского моста. Кстати, при имени этого моста я вспоминаю, как в 1908–1909 годах ко мне приехал военный инженер Кривошеин, один из строителей Охтинского моста. Его привез знакомый молодой архитектор Н.М. Осипов[23]. Он просил меня украсить акварелью проект моста. Кривошеин должен был представить его на просмотр и утверждение. Я сделала на нем голубое небо с облаками, траву и другие пейзажные детали.
От Охтинского моста мы шли по бесконечному Новочеркасскому проспекту вдоль реки Большая Охта, вверх против течения. Многочисленные заводы, расположенные по берегу, загораживали нам ее. Дойдя до небольшой речки Оккервиль, впадающей в реку Большая Охта, мы переходили мост через эту речку, и здесь была цель нашей прогулки. На самом мысу, образуемом этими реками, стоял загородный каменный двухэтажный дом, носивший название «Уткина дача».
 Этот дом нас привлекал своей прекрасной архитектурой и тем, что строитель его (оставшийся до сих пор неизвестным) очень талантливо согласовал свою постройку с планом и условиями места.
Постройка сильно выдвинута углом на стрелку, образуемую реками. Этот угол был центром фасада дома и представлял открытую полукруглую ротонду с четырьмя колоннами и круглой, широкой каменной лестницей. С обеих сторон ротонды под углом, параллельно рекам, тянулись стены дома. Ротонду прикрывал плоский купол. Каменные низкие надворные постройки полуциркулем окружали большой двор. Весь архитектурный ансамбль был удивительно красив и гармоничен, и рассматривать его было большое наслаждение. Почему она носила название «Уткина дача», нам осталось неясно. Кому она принадлежала? Кем построена? Когда мы пытались это выяснить, мы получали очень неопределенные и разноречивые сведения{1}.
Пробирались мы также по берегу речки Смоленки до ее конца, заходили на остров Голодай, ныне остров Декабристов. Ходили на Гутуевский, Канонерский острова. Бродили по остаткам Екатерингофского парка. Обошли пешком все острова. На Петровском острове, дойдя до места, где когда-то был небольшой Петровский дворец, каждый раз сожалели о его случайной гибели. Он сгорел в 1912 году, но я видела его еще в целости. Он был деревянный, темно-коричневого цвета и по характеру изящный и легкий.
Мы очень любили архитектуру и не уставая любовались ее высокими образцами.
Так проводили время мы летом последние четыре года. Никуда не уезжали, бродили по городу и работали на огороде. Я, конечно, много рисовала город, имея всегда около себя моего неизменного спутника. Зимой совсем другое, мы работали каждый в своей области, не мешая друг другу.
За 1918 годя сделала целый ряд акварелей Петербурга. Не буду перечислять всех акварелей (их около 35), а упомяну только те, которые были приобретены музеями. Третьяковской галереей: «Вид с Сампсониевского моста», «Ветреный вечер», «Марсово поле и памятник Суворову»[24]. Русским музеем: «Вид из лаборатории ранней весной», «Внутренний дворик», «Статуя в Летнем саду». Государственным музеем Армении: акварель «Дворик ранней весной».
Многие из моих работ этого года попали в частные собрания: Е.М. Португалова, Н.Л. Алярдиной, И.И. Рыбакова, И.Е. Иозефовича, композитора А.Н. Глазунова, Е.Н. Николаи, О.И. Мгеброва и др.
Вспоминаю, как однажды поздно вечером приехал к нам с нашим другом В.Н. Аргутинским один англичанин, по фамилии Брус. Он на следующий день уезжал из России с женой и ребенком. А женат он был на нашей талантливой балерине — пленительной Тамаре Платоновне Карсавиной. Он ее и ребенка увозил навсегда к себе в Англию. А чтобы она не скучала по своей родине, он решил приобрести несколько моих акварельных видов Петербурга[25]. Много раз и подолгу я работала в лаборатории Сергея Васильевича. Ее большие окна выходили на Неву. Мне было удобно там работать. Особенно я любила дни ледохода, когда ладожский лед шел по Неве к морю. Между плывущими льдинами вода была гладкая, зеркальная, и в ней отражались набережная, дворцы, крепость.
Какими разными по настроению были весенний ледоход и осенний ледостав! Если весной ледоход — радостный, с блеском солнца по краям льдин, с летающими чайками над рекой, сулил тепло и радость возрождающейся природы, то осенний ледостав обыкновенно проходил под тяжелым, мрачным небом, в холодные, темные, печальные дни.
В те годы, в годы Гражданской войны, было голодно, было холодно, но мы не унывали. Не хватало дров. Заморозив всю квартиру, забирались в одну комнату. Сергей Васильевич с большой стойкостью и энергией, несмотря на отсутствие в лаборатории газа и дров, продолжал вести занятия со студентами, не потеряв для работы ни одного дня. Со своей исследовательской работой ему было труднее. Из-за отсутствия тока в академии, с разрешения заведующего лабораторией фильтро-озонной станции, он поставил там два термостата, и ему приходилось два-три раза в день ходить туда, чтобы проверять их работу.
Этот дом нас привлекал своей прекрасной архитектурой и тем, что строитель его (оставшийся до сих пор неизвестным) очень талантливо согласовал свою постройку с планом и условиями места.
Постройка сильно выдвинута углом на стрелку, образуемую реками. Этот угол был центром фасада дома и представлял открытую полукруглую ротонду с четырьмя колоннами и круглой, широкой каменной лестницей. С обеих сторон ротонды под углом, параллельно рекам, тянулись стены дома. Ротонду прикрывал плоский купол. Каменные низкие надворные постройки полуциркулем окружали большой двор. Весь архитектурный ансамбль был удивительно красив и гармоничен, и рассматривать его было большое наслаждение. Почему она носила название «Уткина дача», нам осталось неясно. Кому она принадлежала? Кем построена? Когда мы пытались это выяснить, мы получали очень неопределенные и разноречивые сведения{1}.
Пробирались мы также по берегу речки Смоленки до ее конца, заходили на остров Голодай, ныне остров Декабристов. Ходили на Гутуевский, Канонерский острова. Бродили по остаткам Екатерингофского парка. Обошли пешком все острова. На Петровском острове, дойдя до места, где когда-то был небольшой Петровский дворец, каждый раз сожалели о его случайной гибели. Он сгорел в 1912 году, но я видела его еще в целости. Он был деревянный, темно-коричневого цвета и по характеру изящный и легкий.
Мы очень любили архитектуру и не уставая любовались ее высокими образцами.
Так проводили время мы летом последние четыре года. Никуда не уезжали, бродили по городу и работали на огороде. Я, конечно, много рисовала город, имея всегда около себя моего неизменного спутника. Зимой совсем другое, мы работали каждый в своей области, не мешая друг другу.
За 1918 годя сделала целый ряд акварелей Петербурга. Не буду перечислять всех акварелей (их около 35), а упомяну только те, которые были приобретены музеями. Третьяковской галереей: «Вид с Сампсониевского моста», «Ветреный вечер», «Марсово поле и памятник Суворову»[24]. Русским музеем: «Вид из лаборатории ранней весной», «Внутренний дворик», «Статуя в Летнем саду». Государственным музеем Армении: акварель «Дворик ранней весной».
Многие из моих работ этого года попали в частные собрания: Е.М. Португалова, Н.Л. Алярдиной, И.И. Рыбакова, И.Е. Иозефовича, композитора А.Н. Глазунова, Е.Н. Николаи, О.И. Мгеброва и др.
Вспоминаю, как однажды поздно вечером приехал к нам с нашим другом В.Н. Аргутинским один англичанин, по фамилии Брус. Он на следующий день уезжал из России с женой и ребенком. А женат он был на нашей талантливой балерине — пленительной Тамаре Платоновне Карсавиной. Он ее и ребенка увозил навсегда к себе в Англию. А чтобы она не скучала по своей родине, он решил приобрести несколько моих акварельных видов Петербурга[25]. Много раз и подолгу я работала в лаборатории Сергея Васильевича. Ее большие окна выходили на Неву. Мне было удобно там работать. Особенно я любила дни ледохода, когда ладожский лед шел по Неве к морю. Между плывущими льдинами вода была гладкая, зеркальная, и в ней отражались набережная, дворцы, крепость.
Какими разными по настроению были весенний ледоход и осенний ледостав! Если весной ледоход — радостный, с блеском солнца по краям льдин, с летающими чайками над рекой, сулил тепло и радость возрождающейся природы, то осенний ледостав обыкновенно проходил под тяжелым, мрачным небом, в холодные, темные, печальные дни.
В те годы, в годы Гражданской войны, было голодно, было холодно, но мы не унывали. Не хватало дров. Заморозив всю квартиру, забирались в одну комнату. Сергей Васильевич с большой стойкостью и энергией, несмотря на отсутствие в лаборатории газа и дров, продолжал вести занятия со студентами, не потеряв для работы ни одного дня. Со своей исследовательской работой ему было труднее. Из-за отсутствия тока в академии, с разрешения заведующего лабораторией фильтро-озонной станции, он поставил там два термостата, и ему приходилось два-три раза в день ходить туда, чтобы проверять их работу.
 Такое количество обществ с разными художественными течениями, тенденциями совершенно путало и сбивало зрителя с толку. Часто были вывешены лозунги и манифесты какого-нибудь общества. Они, казалось, должны были бы помочь понять задачи его, но, напротив, они еще больше запутывали зрителя, так как разобраться в них не было возможности при всем желании.
Сплошное заумничанье или пустая фразеология без положительного внутреннего содержания. Я много раз побывала на этой выставке. Добросовестно старалась понять и усвоить все особенности и странности крайних художественных течений. Мне иногда думалось: «Может быть, им принадлежит будущее?»
Эти новые течения в искусстве (я говорю об изобразительном искусстве) появились в Европе и у нас во второй половине XIX столетия.
Попробую их кратко перечислить, не вдаваясь в подробности, как сумею.
Самым ранним, как мне кажется, был импрессионизм, открывший новые блестящие области в изобразительном искусстве. Он внес свет, воздух, новые краски, звучный колорит.
К нему близко примыкал пуантилизм, или неореализм, который отличался от импрессионизматолько внешней формой техники.
Основателем импрессионизма считался художник Эдуард Мане. Его ближайшие соратники были Сислей, Моне, Ренуар, Писсарро, Дега и другие.
Много минут наслаждения и радости доставили мне эти превосходные художники!
Когда я училась в Академии художеств, в общих классах, в те годы (точно не помню) в Петербурге была выставка французов и на ней — вещи итальянского художника-пейзажиста Сегантини, пуантилиста.
Будучи в полном восхищении от его картин, я принялась, наивно подражая ему, писать натурщиков в этой манере. Разлагала тон тела на основные, яркие краски, нанося их на холст отдельными небольшими мазками, скорее даже точками. Выходило нехорошо, пестро и дико.
За эти этюды мне от профессоров академии сильно попадало… Пришлось смириться, когда настало время переходить из общих классов в мастерскую определенного профессора…
Кроме того, я поняла, что такая живопись и техника скорее подходят к пейзажу, к пленэру, где больше игры света и движения воздуха.
Хочу кратко упомянуть и другие течения или отклонения в изобразительном искусстве, которые мне пришлось наблюдать.
Футуризм у последователей его выражался нарушением законов форм, перспективы и, кроме того, планов. Движущуюся натуру художник передавал одновременно в последовательных состояниях (играющий пианист с десятью руками, бегущая собака с двадцатью ногами и т. д.). Художники-футуристы, протестуя против эстетических и бытовых традиций, бросали вызов обществу. Одевались в самые невероятные одежды, раскрашивали клеткой свои лица и в таком виде появлялись в общественных собраниях. К последователям этого течения примкнули у нас художники Бурлюк, Гончарова, Ларионов и другие.
Конструктивизм и супрематизм, на мой взгляд, не имели даже самого отдаленнейшего отношения к искусству живописи. Стояла на выставке перед произведениями этих крайних течений и удивлялась, зачем в раме находятся железные геометрические фигуры, куски стекла, дерева, проволоки и мочалы. Еще были произведения примерно такого характера или с небольшим вариантом: в раме натянут холст, покрытый синей краской, сбоку на нем прикреплена деревянная палка, а посередине приклеены длинные волосы женской косы и обрывки газеты. Где была здесь живопись?
Основателем конструктивизма считают художника В.Е. Татлина[33]. Он проводил мысль, что зритель видит не только глазами, но и руками. Вместо зрения — осязание. Он поэтому проповедовал замену палитры красок палитрой материалов. В противовес кубизму, приведшему живопись к разложению, к дроблению предмета и абстракции, Татлин стремился к конкретизации вещей, к нанесению на плоскость рельефных, объемных форм и к игре плоскостями, выступающими из поверхности полотна. Затем Татлин, отказавшись от станкового искусства и картины, переходит к изготовлению самих вещей, подчиняя свойствам, качествам материалов и форму и идею произведения искусства. И вот результаты его за-умничанья я видела на выставке. И поняла — нет будущего в этом искусстве, в нем не было ни логики, ни содержания.
Супрематизм (его идеолог — художник К.С. Малевич) говорил об упрощении живописных приемов до их крайнего предела. Говорил об этом так темно, что ничего нельзя было понять.
Супрематизм сводит живопись к комбинациям различных окрашенных плоскостей и приходит к одноцветным комбинациям, например белого по белому, черного по черному. Стремление к объективизации творчества и в то же время к упрощению нашли в супрематизме свое крайнее выражение. Так я понимала это учение и совершенно отрицала его, не находя в нем смысла.
Теперь о кубизме. Я понимала его как реакцию против импрессионизма и неоимпрессионизма. Кубисты стремились к изображению на плоскости метафизической «абсолютной» или чистой пространственной формы. Они, как мне казалось, сводили всякую живую форму к геометрической схематизации. Кубисты разлагали ее на конусы, пирамиды, цилиндры, призмы, кубы. Но что интереснее всего, они перемешивали эти разрозненные элементы между собой, и тогда получалась просто бессмыслица. Идеологи кубизма — художники Пикассо, Брак, Дерен и др. Произведения их можно видеть у нас в Москве в большом собрании Щукина[34].
Теперь экспрессионизм. Он выражает внутренние переживания художника. Будучи неудовлетворен окружающей действительностью, художник часто приходит к трагическим эмоциям и доходит до крайнего предела (до крайнего напряжения, надрыва), даже до деформации действительности. Последователи этого направления — художник Шагал[35] и другие.
Все эти «измы», кроме импрессионизма, с начала XX века очень замутили чистый источник нашего и европейского искусства, а главное, сознание многих молодых художников, даже в академии.
Я не могла их принять. В конце концов пришла к заключению, что между художниками крайних течений было много ломанья, самохвальства и нередко, из-за отсутствия таланта, много уязвленного самолюбия.
Нельзя скрыть, что некоторые из этих увлечений доходили у художников до больших чудачеств и сумасбродств.
Вспоминаю такой забавный эпизод. Однажды я и Сергей Васильевич были в одном обществе, где собралось довольно много народу. Все оживленно беседовали. Неожиданно среди гостей появился Альберт Николаевич Бенуа — известный акварелист. На его красивом лице было выражение какой-то растерянности и недоумения. Поздоровавшись со всеми, он сразу заговорил очень взволнованно и возбужденно, обращаясь ко всем присутствующим: «Подумайте только, какой со мной сейчас произошел случай! Я под вечер поехал на острова, на этюды. Народу было мало, почти ни души. Расположился на берегу реки и принялся за работу. Я так был углублен, что не заметил, как вокруг меня устроились рисовать несколько человек молодых мужчин и женщин. Но странно было то, что все они сидели спиной к реке, а изображали ее. Я сразу понял, что случайно попал в группу больных из сумасшедшего дома. Их, видно, перед сном вывели гулять, а чтобы они не бросились топиться, посадили спиной к реке и заняли их внимание рисованием. С ними был надзиратель. Но страшнее всего было то, что этот надзиратель меня тоже принял за больного и стал уговаривать сесть спиной к реке и продолжать работать. Я перепугался, бросил работу и в ужасе убежал».
«Ошибаетесь, — сказали ему, — это вовсе не сумасшедшие, а ученики профессора Академии художеств М. В. М.[36] Он в своем преподавании проводит идею „расширенного смотрения“, то есть стремится убедить, что человек может видеть не только глазами, но и затылком и спиной. Поэтому он своих учеников и заставляет изображать натуру, сидя к ней спиной. И ученики ему верят и следуют его указаниям».
Вся эта неразбериха в искусстве, групповщина и за-умничанье продолжались довольно долго и вредно отразились на деятельности Академии художеств.
23 апреля 1932 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации художественных группировок и создании единого Союза советских художников. Председателем областного Союза советских художников был избран Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, его заместителями — Н.Э. Раддов и Исаак Израилевич Бродский[37].
Это мудрое постановление большевистской партии положило конец вредной неразберихе среди художников и направило усилия их на создание единого реалистического стиля советского искусства на основе метода социалистического реализма.
Такое количество обществ с разными художественными течениями, тенденциями совершенно путало и сбивало зрителя с толку. Часто были вывешены лозунги и манифесты какого-нибудь общества. Они, казалось, должны были бы помочь понять задачи его, но, напротив, они еще больше запутывали зрителя, так как разобраться в них не было возможности при всем желании.
Сплошное заумничанье или пустая фразеология без положительного внутреннего содержания. Я много раз побывала на этой выставке. Добросовестно старалась понять и усвоить все особенности и странности крайних художественных течений. Мне иногда думалось: «Может быть, им принадлежит будущее?»
Эти новые течения в искусстве (я говорю об изобразительном искусстве) появились в Европе и у нас во второй половине XIX столетия.
Попробую их кратко перечислить, не вдаваясь в подробности, как сумею.
Самым ранним, как мне кажется, был импрессионизм, открывший новые блестящие области в изобразительном искусстве. Он внес свет, воздух, новые краски, звучный колорит.
К нему близко примыкал пуантилизм, или неореализм, который отличался от импрессионизматолько внешней формой техники.
Основателем импрессионизма считался художник Эдуард Мане. Его ближайшие соратники были Сислей, Моне, Ренуар, Писсарро, Дега и другие.
Много минут наслаждения и радости доставили мне эти превосходные художники!
Когда я училась в Академии художеств, в общих классах, в те годы (точно не помню) в Петербурге была выставка французов и на ней — вещи итальянского художника-пейзажиста Сегантини, пуантилиста.
Будучи в полном восхищении от его картин, я принялась, наивно подражая ему, писать натурщиков в этой манере. Разлагала тон тела на основные, яркие краски, нанося их на холст отдельными небольшими мазками, скорее даже точками. Выходило нехорошо, пестро и дико.
За эти этюды мне от профессоров академии сильно попадало… Пришлось смириться, когда настало время переходить из общих классов в мастерскую определенного профессора…
Кроме того, я поняла, что такая живопись и техника скорее подходят к пейзажу, к пленэру, где больше игры света и движения воздуха.
Хочу кратко упомянуть и другие течения или отклонения в изобразительном искусстве, которые мне пришлось наблюдать.
Футуризм у последователей его выражался нарушением законов форм, перспективы и, кроме того, планов. Движущуюся натуру художник передавал одновременно в последовательных состояниях (играющий пианист с десятью руками, бегущая собака с двадцатью ногами и т. д.). Художники-футуристы, протестуя против эстетических и бытовых традиций, бросали вызов обществу. Одевались в самые невероятные одежды, раскрашивали клеткой свои лица и в таком виде появлялись в общественных собраниях. К последователям этого течения примкнули у нас художники Бурлюк, Гончарова, Ларионов и другие.
Конструктивизм и супрематизм, на мой взгляд, не имели даже самого отдаленнейшего отношения к искусству живописи. Стояла на выставке перед произведениями этих крайних течений и удивлялась, зачем в раме находятся железные геометрические фигуры, куски стекла, дерева, проволоки и мочалы. Еще были произведения примерно такого характера или с небольшим вариантом: в раме натянут холст, покрытый синей краской, сбоку на нем прикреплена деревянная палка, а посередине приклеены длинные волосы женской косы и обрывки газеты. Где была здесь живопись?
Основателем конструктивизма считают художника В.Е. Татлина[33]. Он проводил мысль, что зритель видит не только глазами, но и руками. Вместо зрения — осязание. Он поэтому проповедовал замену палитры красок палитрой материалов. В противовес кубизму, приведшему живопись к разложению, к дроблению предмета и абстракции, Татлин стремился к конкретизации вещей, к нанесению на плоскость рельефных, объемных форм и к игре плоскостями, выступающими из поверхности полотна. Затем Татлин, отказавшись от станкового искусства и картины, переходит к изготовлению самих вещей, подчиняя свойствам, качествам материалов и форму и идею произведения искусства. И вот результаты его за-умничанья я видела на выставке. И поняла — нет будущего в этом искусстве, в нем не было ни логики, ни содержания.
Супрематизм (его идеолог — художник К.С. Малевич) говорил об упрощении живописных приемов до их крайнего предела. Говорил об этом так темно, что ничего нельзя было понять.
Супрематизм сводит живопись к комбинациям различных окрашенных плоскостей и приходит к одноцветным комбинациям, например белого по белому, черного по черному. Стремление к объективизации творчества и в то же время к упрощению нашли в супрематизме свое крайнее выражение. Так я понимала это учение и совершенно отрицала его, не находя в нем смысла.
Теперь о кубизме. Я понимала его как реакцию против импрессионизма и неоимпрессионизма. Кубисты стремились к изображению на плоскости метафизической «абсолютной» или чистой пространственной формы. Они, как мне казалось, сводили всякую живую форму к геометрической схематизации. Кубисты разлагали ее на конусы, пирамиды, цилиндры, призмы, кубы. Но что интереснее всего, они перемешивали эти разрозненные элементы между собой, и тогда получалась просто бессмыслица. Идеологи кубизма — художники Пикассо, Брак, Дерен и др. Произведения их можно видеть у нас в Москве в большом собрании Щукина[34].
Теперь экспрессионизм. Он выражает внутренние переживания художника. Будучи неудовлетворен окружающей действительностью, художник часто приходит к трагическим эмоциям и доходит до крайнего предела (до крайнего напряжения, надрыва), даже до деформации действительности. Последователи этого направления — художник Шагал[35] и другие.
Все эти «измы», кроме импрессионизма, с начала XX века очень замутили чистый источник нашего и европейского искусства, а главное, сознание многих молодых художников, даже в академии.
Я не могла их принять. В конце концов пришла к заключению, что между художниками крайних течений было много ломанья, самохвальства и нередко, из-за отсутствия таланта, много уязвленного самолюбия.
Нельзя скрыть, что некоторые из этих увлечений доходили у художников до больших чудачеств и сумасбродств.
Вспоминаю такой забавный эпизод. Однажды я и Сергей Васильевич были в одном обществе, где собралось довольно много народу. Все оживленно беседовали. Неожиданно среди гостей появился Альберт Николаевич Бенуа — известный акварелист. На его красивом лице было выражение какой-то растерянности и недоумения. Поздоровавшись со всеми, он сразу заговорил очень взволнованно и возбужденно, обращаясь ко всем присутствующим: «Подумайте только, какой со мной сейчас произошел случай! Я под вечер поехал на острова, на этюды. Народу было мало, почти ни души. Расположился на берегу реки и принялся за работу. Я так был углублен, что не заметил, как вокруг меня устроились рисовать несколько человек молодых мужчин и женщин. Но странно было то, что все они сидели спиной к реке, а изображали ее. Я сразу понял, что случайно попал в группу больных из сумасшедшего дома. Их, видно, перед сном вывели гулять, а чтобы они не бросились топиться, посадили спиной к реке и заняли их внимание рисованием. С ними был надзиратель. Но страшнее всего было то, что этот надзиратель меня тоже принял за больного и стал уговаривать сесть спиной к реке и продолжать работать. Я перепугался, бросил работу и в ужасе убежал».
«Ошибаетесь, — сказали ему, — это вовсе не сумасшедшие, а ученики профессора Академии художеств М. В. М.[36] Он в своем преподавании проводит идею „расширенного смотрения“, то есть стремится убедить, что человек может видеть не только глазами, но и затылком и спиной. Поэтому он своих учеников и заставляет изображать натуру, сидя к ней спиной. И ученики ему верят и следуют его указаниям».
Вся эта неразбериха в искусстве, групповщина и за-умничанье продолжались довольно долго и вредно отразились на деятельности Академии художеств.
23 апреля 1932 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации художественных группировок и создании единого Союза советских художников. Председателем областного Союза советских художников был избран Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, его заместителями — Н.Э. Раддов и Исаак Израилевич Бродский[37].
Это мудрое постановление большевистской партии положило конец вредной неразберихе среди художников и направило усилия их на создание единого реалистического стиля советского искусства на основе метода социалистического реализма.
 В 1920 году сделала восемь гравюр в черном для книги Н.П. Анциферова «Душа Петербурга». Они следующие: «Левый пролет Казанского собора», «Екатерининский канал в дождь», «Вид на Биржу», «Ледоход и крепость», «Прачечный мост и дворец Петра I», «Марсово поле», «Горный институт», «Новая Голландия»[38].
Участвовала на выставке в городе Порхове, куда послала пять акварелей: «Мельница в Голландии», «Набережная из окна Зимнего дворца», «Вид на Миллионную улицу», «Сад зимой», «В Летнем саду» (из них две акварели были приобретены Порховским музеем), а также на выставке в Париже, устроенной Георгием Лукомским[39].
Кроме педагогической работы в Фототехническом институте, я еще взяла на себя обязанности члена экспертной комиссии при Наркомпросе. Я жаждала общественной деятельности.
В 1921 году нас постигло большое горе. Умерла моя дорогая мать. Была она мудрая, скромная и до глубины души чистая и целомудренная женщина, со спокойным, уравновешенным характером, с большим запасом жизненной энергии.
В 1920 году сделала восемь гравюр в черном для книги Н.П. Анциферова «Душа Петербурга». Они следующие: «Левый пролет Казанского собора», «Екатерининский канал в дождь», «Вид на Биржу», «Ледоход и крепость», «Прачечный мост и дворец Петра I», «Марсово поле», «Горный институт», «Новая Голландия»[38].
Участвовала на выставке в городе Порхове, куда послала пять акварелей: «Мельница в Голландии», «Набережная из окна Зимнего дворца», «Вид на Миллионную улицу», «Сад зимой», «В Летнем саду» (из них две акварели были приобретены Порховским музеем), а также на выставке в Париже, устроенной Георгием Лукомским[39].
Кроме педагогической работы в Фототехническом институте, я еще взяла на себя обязанности члена экспертной комиссии при Наркомпросе. Я жаждала общественной деятельности.
В 1921 году нас постигло большое горе. Умерла моя дорогая мать. Была она мудрая, скромная и до глубины души чистая и целомудренная женщина, со спокойным, уравновешенным характером, с большим запасом жизненной энергии.
 Брак моих родителей был счастливый, полный согласия и взаимной любви. У них не было в жизни тяжелых потерь. С виду моя мать была сдержанна, даже сурова. Так она часто скрывала свою врожденную застенчивость. Но кто ее ближе знал, глубоко ее любил за ум, чистоту и большое сердце. Ее влияние на своих детей, особенно на дочерей, было огромно, несмотря на то что она никогда об этом специально не старалась. Без ее зова мы шли к ней и с нашим счастьем, и с нашими бедами, чтобы поделиться с нею.
Брак моих родителей был счастливый, полный согласия и взаимной любви. У них не было в жизни тяжелых потерь. С виду моя мать была сдержанна, даже сурова. Так она часто скрывала свою врожденную застенчивость. Но кто ее ближе знал, глубоко ее любил за ум, чистоту и большое сердце. Ее влияние на своих детей, особенно на дочерей, было огромно, несмотря на то что она никогда об этом специально не старалась. Без ее зова мы шли к ней и с нашим счастьем, и с нашими бедами, чтобы поделиться с нею.
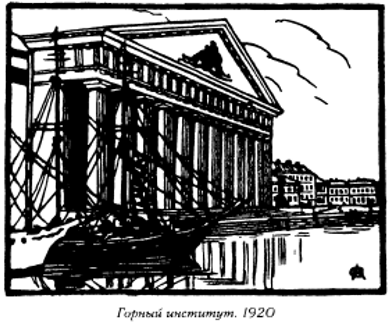 Студенты художественного факультета Фототехнического института решили помочь мне и Сергею Васильевичу переправиться в Павловск, чтобы провести там лето. Очень хорошо помню, как они распределили между собою разные обязанности. Одни с ручной тележкой приехали за нашими вещами и доставили их на вокзал, другие заняли заранее места в вагоне. Ехали мы в открытом товарном вагоне, на положенных досках. Третья группа учеников встретила нас в Павловске, тоже с тележкой, и проводила на дачу. Мы и не заметили, как с их помощью переправились в Павловск. Их энергия, бодрость и ласковая забота нас очень растрогали.
Дача, где мы жили, считалась одной из лучших в Павловске. Она принадлежала Котлеру, который отдал ее во временное пользование Фототехническому институту. Мы жили внизу, а наверху занимал квартиру наш друг В.Я. Курбатов с семьей. И хотя в бытовом отношении жилось довольно тяжело, часто лишенная самого необходимого, я, как проголодавшийся человек, безудержно работала. Куда, куда только я не заходила, иногда и очень далеко, но Сергей Васильевич в это лето не сопровождал меня, так как каждый день ездил в город в свою лабораторию.
Всегда я любила Павловск, его дворец, его парк с многочисленными павильонами и всевозможными парковыми затеями. С упоением бродила по его уютным извивающимся дорожкам, по открытым лужайкам, по очаровательной долине речки Славянки.
Когда-то я сделала по рисункам Павловска открытки. Они были исполнены цветной гравюрой и цветной литографией, а кроме того, и целый ряд станковых гравюр.
Я без конца делала в парке карандашные зарисовки, решив вырезать по ним ряд черных гравюр.
Проработав лето, собрав большой материал, осенью в городе я принялась за гравюры. Сделала их больше двадцати, все одного размера, и стала мечтать издать книжку с гравюрами, посвященными Павловску. Федор Федорович Нотгафт предложил мне ее напечатать в издательстве «Аквилон». Она была названа «Пейзажи Павловска». Небольшой текст я написала сама. Книжку посвятила моему любимому мужу Сергею Васильевичу. Вышла она в 1923 году. Состояла из моего текста, в котором помещены были четыре гравюрных украшения, и двадцати отдельных гравюр. Печатались гравюры с моих досок, за исключением нескольких, с которых было снято гальваноклише. Оттиски с последних я не могла отличить от оттисков, отпечатанных с моих досок, настолько печатание с гальваноклише совершенно. Вообще гравюры в этой книжке были отпечатаны превосходно[40].
Студенты художественного факультета Фототехнического института решили помочь мне и Сергею Васильевичу переправиться в Павловск, чтобы провести там лето. Очень хорошо помню, как они распределили между собою разные обязанности. Одни с ручной тележкой приехали за нашими вещами и доставили их на вокзал, другие заняли заранее места в вагоне. Ехали мы в открытом товарном вагоне, на положенных досках. Третья группа учеников встретила нас в Павловске, тоже с тележкой, и проводила на дачу. Мы и не заметили, как с их помощью переправились в Павловск. Их энергия, бодрость и ласковая забота нас очень растрогали.
Дача, где мы жили, считалась одной из лучших в Павловске. Она принадлежала Котлеру, который отдал ее во временное пользование Фототехническому институту. Мы жили внизу, а наверху занимал квартиру наш друг В.Я. Курбатов с семьей. И хотя в бытовом отношении жилось довольно тяжело, часто лишенная самого необходимого, я, как проголодавшийся человек, безудержно работала. Куда, куда только я не заходила, иногда и очень далеко, но Сергей Васильевич в это лето не сопровождал меня, так как каждый день ездил в город в свою лабораторию.
Всегда я любила Павловск, его дворец, его парк с многочисленными павильонами и всевозможными парковыми затеями. С упоением бродила по его уютным извивающимся дорожкам, по открытым лужайкам, по очаровательной долине речки Славянки.
Когда-то я сделала по рисункам Павловска открытки. Они были исполнены цветной гравюрой и цветной литографией, а кроме того, и целый ряд станковых гравюр.
Я без конца делала в парке карандашные зарисовки, решив вырезать по ним ряд черных гравюр.
Проработав лето, собрав большой материал, осенью в городе я принялась за гравюры. Сделала их больше двадцати, все одного размера, и стала мечтать издать книжку с гравюрами, посвященными Павловску. Федор Федорович Нотгафт предложил мне ее напечатать в издательстве «Аквилон». Она была названа «Пейзажи Павловска». Небольшой текст я написала сама. Книжку посвятила моему любимому мужу Сергею Васильевичу. Вышла она в 1923 году. Состояла из моего текста, в котором помещены были четыре гравюрных украшения, и двадцати отдельных гравюр. Печатались гравюры с моих досок, за исключением нескольких, с которых было снято гальваноклише. Оттиски с последних я не могла отличить от оттисков, отпечатанных с моих досок, настолько печатание с гальваноклише совершенно. Вообще гравюры в этой книжке были отпечатаны превосходно[40].
 Тираж книжки был небольшой — 800 экземпляров. Сейчас ее довольно трудно найти на книжном рынке, и потому мне хочется несколько подробнее рассказать об этих гравюрах. Резала я их с большим увлечением, прибегая к разнообразным граверным приемам, смотря по тому, что мне хотелось выразить в этих пейзажах. Среди них есть сделанные в два тона: «Павел I» и «Туман», последняя не была помещена в книгу.
В некоторых гравюрах я прибегала к белым штрихам по черному, чтобы передать вечерний мрак, когда темнота преодолевает свет, таковы «Вечер» и «Ночь».
Гравюры «Круглый пруд» и «Пейзаж лунной ночью» наиболее лаконичны. В них я употребила три способа выражения: пятна белые и черные, плоскую штриховку и очень мало линий рисунка.
Передавая в гравюре «Дождливый день» мокрую, сырую погоду, я прибегла к новому приему в моей гравюрной технике — к мелкой беспорядочной штриховке. Ею я хотела передать расплывчатость и неясность форм и контуров в дождливом пейзаже.
Тираж книжки был небольшой — 800 экземпляров. Сейчас ее довольно трудно найти на книжном рынке, и потому мне хочется несколько подробнее рассказать об этих гравюрах. Резала я их с большим увлечением, прибегая к разнообразным граверным приемам, смотря по тому, что мне хотелось выразить в этих пейзажах. Среди них есть сделанные в два тона: «Павел I» и «Туман», последняя не была помещена в книгу.
В некоторых гравюрах я прибегала к белым штрихам по черному, чтобы передать вечерний мрак, когда темнота преодолевает свет, таковы «Вечер» и «Ночь».
Гравюры «Круглый пруд» и «Пейзаж лунной ночью» наиболее лаконичны. В них я употребила три способа выражения: пятна белые и черные, плоскую штриховку и очень мало линий рисунка.
Передавая в гравюре «Дождливый день» мокрую, сырую погоду, я прибегла к новому приему в моей гравюрной технике — к мелкой беспорядочной штриховке. Ею я хотела передать расплывчатость и неясность форм и контуров в дождливом пейзаже.
 Исполняя эти гравюры, я считала, что, кроме передачи данного пейзажа и чувства художника, надо еще в гравюрах, соблюдая краткость и остроту выражения, дать элементы декоративности. Мне хотелось, чтобы эти гравюры, если попадут когда-нибудь в печатный текст (а это случилось потом), не потерялись бы в нем, а доминировали на странице.
Хочу рассказать, как в те годы я была обрадована и душевно удовлетворена. От моего долголетнего друга
В.Н. Аргутинского получила письмо из Парижа. В нем он писал мне, что оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда», находившийся у него, приобретен Британским музеем. Известие это мне было приятно. Но еще больше я обрадовалась, когда дирекция Государственного Эрмитажа также решила приобрести у меня для собраний гравюр и рисунков Эрмитажа оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда». Но так как в Эрмитаже тогда не собирали произведений русских художников, то это приобретение было оформлено и проведено как «Копия с Рубенса». Хочу надеяться, что этот оттиск продолжает находиться в отделе рисунков и гравюр Эрмитажа.
Меня все это очень порадовало, и я невольно вспоминала мое окончание Академии художеств и как совет академии не хотел дать мне звания художника за работы, в числе которых была гравюра «Персей и Андромеда».
Я была удовлетворена, но мне пришлось этого ждать двадцать два года.
Исполняя эти гравюры, я считала, что, кроме передачи данного пейзажа и чувства художника, надо еще в гравюрах, соблюдая краткость и остроту выражения, дать элементы декоративности. Мне хотелось, чтобы эти гравюры, если попадут когда-нибудь в печатный текст (а это случилось потом), не потерялись бы в нем, а доминировали на странице.
Хочу рассказать, как в те годы я была обрадована и душевно удовлетворена. От моего долголетнего друга
В.Н. Аргутинского получила письмо из Парижа. В нем он писал мне, что оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда», находившийся у него, приобретен Британским музеем. Известие это мне было приятно. Но еще больше я обрадовалась, когда дирекция Государственного Эрмитажа также решила приобрести у меня для собраний гравюр и рисунков Эрмитажа оттиск моей гравюры «Персей и Андромеда». Но так как в Эрмитаже тогда не собирали произведений русских художников, то это приобретение было оформлено и проведено как «Копия с Рубенса». Хочу надеяться, что этот оттиск продолжает находиться в отделе рисунков и гравюр Эрмитажа.
Меня все это очень порадовало, и я невольно вспоминала мое окончание Академии художеств и как совет академии не хотел дать мне звания художника за работы, в числе которых была гравюра «Персей и Андромеда».
Я была удовлетворена, но мне пришлось этого ждать двадцать два года.
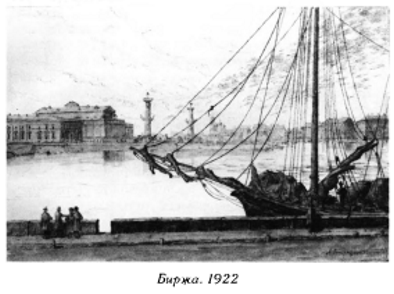 Мне было понятно, что неудовлетворительное качество работы литографской мастерской является не следствием небрежности мастеров, а временными неблагоприятными условиями их работы. Отсутствие дров, и потому холод даже в лучшей типографии того времени (типография имени Ивана Федорова) сильно затрудняли работу литографов.
Кстати здесь упомяну, в те же годы в Экспедиции заготовления государственных бумаг были сожжены, как топливо, в числе многих досок и мои. Они были гравированы для романа Фенимора Купера «Последний из могикан» по рисункам Бенуа. Этих цветных гравюр было семь, и резала я их на двадцати досках. В типографии, к сожалению, с них не успели сделать отпечатки. Таким образом, эта книжка и гравюры не увидели света. Несколько оттисков моего ручного печатания сохранилось. И только…
За работу над альбомом литографий я получила «натурой», то есть мне по выходе альбома предоставили около семидесяти экземпляров с предложением самой их реализовать.
Мне было понятно, что неудовлетворительное качество работы литографской мастерской является не следствием небрежности мастеров, а временными неблагоприятными условиями их работы. Отсутствие дров, и потому холод даже в лучшей типографии того времени (типография имени Ивана Федорова) сильно затрудняли работу литографов.
Кстати здесь упомяну, в те же годы в Экспедиции заготовления государственных бумаг были сожжены, как топливо, в числе многих досок и мои. Они были гравированы для романа Фенимора Купера «Последний из могикан» по рисункам Бенуа. Этих цветных гравюр было семь, и резала я их на двадцати досках. В типографии, к сожалению, с них не успели сделать отпечатки. Таким образом, эта книжка и гравюры не увидели света. Несколько оттисков моего ручного печатания сохранилось. И только…
За работу над альбомом литографий я получила «натурой», то есть мне по выходе альбома предоставили около семидесяти экземпляров с предложением самой их реализовать.
 Помещаю выдержки моего письма к Ивану Михайловичу Степанову, председателю Комитета популяризации художественных изданий, по поводу этого альбома и одной неисполненной детали.
«…Посылаю Вам обратно автолитографию головы Петра I, которая непоправимо плохо напечатана. Приготовляя Вам второй ее экземпляр, я пришла к заключению, что мысль моя поместить голову Петра в этом альбоме не совсем удачна. На таком большом листе белой бумаги небольшого размера голова выглядит нехорошо. Если увеличить размер, то это не будет соответствовать масштабу всех других литографий в этом альбоме. Пробовала ее заключить в какую-нибудь рамку, но это мало помогает. Альбом слишком велик для такого размера головы. Придется отказаться от этой мысли. Но вряд ли альбом от этого много потеряет.
Я теперь чувствую, что альбом будет неплох… если печатание с машинного станка будет близко подходить к последним корректурным оттискам, которые (не надо закрывать глаза) напечатаны с ручного станка…»
Помещаю выдержки моего письма к Ивану Михайловичу Степанову, председателю Комитета популяризации художественных изданий, по поводу этого альбома и одной неисполненной детали.
«…Посылаю Вам обратно автолитографию головы Петра I, которая непоправимо плохо напечатана. Приготовляя Вам второй ее экземпляр, я пришла к заключению, что мысль моя поместить голову Петра в этом альбоме не совсем удачна. На таком большом листе белой бумаги небольшого размера голова выглядит нехорошо. Если увеличить размер, то это не будет соответствовать масштабу всех других литографий в этом альбоме. Пробовала ее заключить в какую-нибудь рамку, но это мало помогает. Альбом слишком велик для такого размера головы. Придется отказаться от этой мысли. Но вряд ли альбом от этого много потеряет.
Я теперь чувствую, что альбом будет неплох… если печатание с машинного станка будет близко подходить к последним корректурным оттискам, которые (не надо закрывать глаза) напечатаны с ручного станка…»
 В 1923 году вышла моя монография, изданная Государственным издательством.
Года за два до этого ко мне из Москвы приехал Соломон Абрамович Абрамов, издатель журнала «Творчество». Он задумал выпустить монографии о четырех графиках: Чехонине, Митрохине, Фалилееве и обо мне[42].
К этому времени по распоряжению правительства все частные издательства были закрыты. Но издание этих четырех монографий было одобрено, и Абрамов назначен их художественным редактором. Мы заключили с ним договор об издании моей монографии Государственным издательством.
С изданием этой книги мне пришлось проделать огромную специальную работу. Решено было мои цветные гравюры отпечатать типографским способом с цинковых клише. Для этого мне надо было с каждой гравюры, со всех ее досок, отпечатать (конечно, ручным способом, так как я станка себе не заводила) черные оттиски для снятия с них цинковых клише. При этом у каждого черного оттиска на полях я давала образчик того тона, которым это цинковое клише должно печататься. Мне пришлось для этого отпечатать огромное количество оттисков.
Работать по изданию этой книги было очень трудно, так как С.А. Абрамов жил в Москве, и, хотя книга печаталась в Ленинграде, без согласия Абрамова ничего нельзя было предпринимать…
В один из своих приездов художественный редактор спросил меня: «Кого вы хотите для написания текста вашей монографии? Хотите Муратова или Абрама Эфроса?»[43]
Я, удивленная, спросила: «Почему они будут писать обо мне, ведь они меня мало знают. Они не были свидетелями ни начала, ни последующего развития моего искусства. У нас в Петрограде есть много лиц, которые близко знают мое творчество и с успехом напишут обо мне». — «Кто же, по-вашему, может написать?» — «Александр Николаевич Бенуа, Степан Петрович Яремич, Владимир Яковлевич Курбатов или Сергей Эрнст», — ответила я. «Бенуа отказался написать о Чехонине», — мрачно проговорил он и, ничего не сказав, уехал.
Но в тот же день редактор опять приехал сияющий, довольный и мне еще с порога прокричал: «Согласился. Александр Николаевич согласился писать о вас!»
Александр Николаевич написал и определил мое творчество так, как никто ни до него, ни после лучше и выше о нем не сказал. И я верю в искренность и правдивость его слов, так как знаю его неподкупную честность. Приязнь и дружба не могли на него повлиять в определении и в оценке творчества его товарища[44].
В журнале «Печать и революция» № 1 за 1922 год появилась статья профессора В.Я. Адарюкова обо мне как о гравере. Написана она была в лестных для меня тонах, и в ней были помещены четырнадцать моих гравюр, из которых четыре цветные.
В 1923 году вышла моя монография, изданная Государственным издательством.
Года за два до этого ко мне из Москвы приехал Соломон Абрамович Абрамов, издатель журнала «Творчество». Он задумал выпустить монографии о четырех графиках: Чехонине, Митрохине, Фалилееве и обо мне[42].
К этому времени по распоряжению правительства все частные издательства были закрыты. Но издание этих четырех монографий было одобрено, и Абрамов назначен их художественным редактором. Мы заключили с ним договор об издании моей монографии Государственным издательством.
С изданием этой книги мне пришлось проделать огромную специальную работу. Решено было мои цветные гравюры отпечатать типографским способом с цинковых клише. Для этого мне надо было с каждой гравюры, со всех ее досок, отпечатать (конечно, ручным способом, так как я станка себе не заводила) черные оттиски для снятия с них цинковых клише. При этом у каждого черного оттиска на полях я давала образчик того тона, которым это цинковое клише должно печататься. Мне пришлось для этого отпечатать огромное количество оттисков.
Работать по изданию этой книги было очень трудно, так как С.А. Абрамов жил в Москве, и, хотя книга печаталась в Ленинграде, без согласия Абрамова ничего нельзя было предпринимать…
В один из своих приездов художественный редактор спросил меня: «Кого вы хотите для написания текста вашей монографии? Хотите Муратова или Абрама Эфроса?»[43]
Я, удивленная, спросила: «Почему они будут писать обо мне, ведь они меня мало знают. Они не были свидетелями ни начала, ни последующего развития моего искусства. У нас в Петрограде есть много лиц, которые близко знают мое творчество и с успехом напишут обо мне». — «Кто же, по-вашему, может написать?» — «Александр Николаевич Бенуа, Степан Петрович Яремич, Владимир Яковлевич Курбатов или Сергей Эрнст», — ответила я. «Бенуа отказался написать о Чехонине», — мрачно проговорил он и, ничего не сказав, уехал.
Но в тот же день редактор опять приехал сияющий, довольный и мне еще с порога прокричал: «Согласился. Александр Николаевич согласился писать о вас!»
Александр Николаевич написал и определил мое творчество так, как никто ни до него, ни после лучше и выше о нем не сказал. И я верю в искренность и правдивость его слов, так как знаю его неподкупную честность. Приязнь и дружба не могли на него повлиять в определении и в оценке творчества его товарища[44].
В журнале «Печать и революция» № 1 за 1922 год появилась статья профессора В.Я. Адарюкова обо мне как о гравере. Написана она была в лестных для меня тонах, и в ней были помещены четырнадцать моих гравюр, из которых четыре цветные.
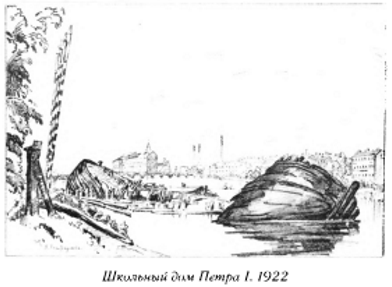 У нас возникла переписка, в конце которой, да и после, я очень жалела, что лично не познакомилась с
В.Я. Адарюковым. Он мне в письмах рисовался как благожелательный, умный и знающий искусствовед.
Впоследствии эта статья была выпущена издательством в виде отдельной маленькой книжки[45].
Вскоре я познакомилась с художественным редактором журнала «Печать и революция» Вячеславом Павловичем Полонским[46], в высшей степени культурным и образованным человеком, а в обращении с людьми — очень приятным и простым. Его ранняя смерть была большой потерей для нашей культуры.
В 1923 году Сергей Васильевич сильно заболел. На почве переутомления и хронического недоедания у него открылся туберкулезный процесс в обоих легких. Надо было принимать решительные меры. Врач потребовал выезда из города. Он дал моему мужу на устройство своих дел, научных и педагогических, две недели, с условием, что он все это время с утра до вечера будет сидеть в кресле в большом саду академии. Туда к нему приходили ассистенты и некоторые студенты из Военно-медицинской академии для решения разных вопросов.
Через две недели Сергей Васильевич, получив отпуск и устроив дела, уехал со мной в Детское Село.
Я воспользовалась тем, что Сергей Васильевич по своей слабости никуда не ходил, а все больше сидел на воздухе, написала его портрет маслом[47].
Через два месяца слабость его постепенно прошла, и мы на летние месяцы уехали в Кисловодск, в санаторий Дома ученых. Там мы познакомились со многими интересными и выдающимися людьми: с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с профессором Семеном Ивановичем Златогоровым и его женой, с художником Александром Федоровичем Белым[48] и др. Я впервые начала делать портреты акварелью, и первой жертвой был Иван Васильевич Ершов — наш знаменитый певец[49]. Он был очень заметен среди всех остальных своей внешностью, живостью и бодрым настроением.
Помню, как он рано по утрам уходил высоко в горы и оттуда приносил огромные роскошные букеты цветов, всегда подобранных с большим вкусом и изяществом.
Иван Васильевич охотно согласился позировать. Но он не мог удержаться, чтобы не принять какую-либо неестественную театральную позу. Мне пришлось много усилий потратить на то, чтобы он забыл, что позирует, чтобы прошла его напряженность.
Я подбивала его на разговор, а сама в это время следила за игрой черт его лица, за сменой выражений. Я выбирала наиболее для него характерные черты, ясно выявляющие его образ, как он мне тогда представлялся. Он вышел похож. В данное время этот портрет находится в Третьяковской галерее.
С этого времени я опять вернулась к портретной живописи. Сейчас я могу подвести итог портретов, сделанных мною. Портретов карандашом и углем — шестнадцать, акварелью — пятьдесят два, маслом — тридцать один, всего девяносто девять портретов. При этом хочу прибавить, что исполняла их только с живой модели, никогда не прибегая к фотографии. Работая над портретом, я не думала о сходстве. Стараясь поймать то характерное, то существенное, что подмечала в разговорах с моделью, я незаметно для себя, за редкими исключениями, добивалась сходства.
Акварельные портреты я не рисовала карандашом. Слегка окрашенной кистью я начинала портрет с рисунка глаз, чтобы потом не перемещать, сохранить чистоту бумаги для бликов в глазах.
Портреты акварелью я работала медленно, обдумывая каждый мазок. Чтобы сделать законченный портрет, мне надо было шесть-семь сеансов, а маслом я работала гораздо быстрее, так как не боялась ошибок. Они ведь были легко поправимы.
Из моего пребывания в Кисловодске я привезла много работ. Мой милый спутник, Сергей Васильевич, уже настолько поправился, что мог сопровождать меня на этюды. И мы совершали пешком или на лошадях далекие прогулки.
Там же я сделала один натюрморт — букет розового душистого горошка в глиняном горшке. Рядом с ним — лакированная черная шкатулка, из нее выпадают нити янтарных бус, перемешанных с нитями старинных венецианских бус. Чтобы сохранить свежесть красок и яркость бликов янтаря, я не делала рисунка карандашом, а писала сразу, наверняка[50].
После возвращения с Кавказа Сергей Васильевич получил командировку за границу для окончательного восстановления своих сил.
В день отъезда я поехала проводить его на Васильевский остров. Это было 15 октября. Он уезжал на германском пароходе «Schlesien». Пароход почему-то долго не отходил. Я этим воспользовалась и зарисовала пароход, пристань и видневшееся около нее большое парусное судно.
Наконец, пароход отошел и, сделав широкий поворот на Неве, стал постепенно удаляться, увозя моего дорогого путешественника.
Ушедший пароход открыл вид на парусное судно, которое до этого наполовину было им закрыто. Я тотчас обратила на него внимание. Мне сказали, что это парусный фрегат «Товарищ».
Судно стояло под всеми парусами. Словно гигантская великолепная птица, распустив свои белые крылья и распушив перышки, собирается в любой момент полететь на Неву, на взморье, в небесную даль. Особенно оно было хорошо, когда дул на него легкий морской ветерок и все паруса начинали трепетать.
Я сделала с него два подкрашенных рисунка. Этот очаровательный кораблик мне был почему-то очень мил. Может быть, своей красотой, которая ярко запечатлелась в моей памяти?
Прошло много лет. Недавно мне в руки попалась хорошо написанная книжка «На палубе». Автор ее Дмитрий Афанасьевич Лухманов[51]. В биографии автора, помещенной в этой книжке, говорится, что Д.А. Лухманов в 1926 году как единственный в СССР специалист был назначен капитаном парусного корабля «Товарищ» и ему было дано задание сделать на нем рейс в Аргентину. На форзаце этой книжки было изображено парусное судно, и я неожиданно в нем узнала моего давнишнего знакомца, когда-то глубоко пленившего меня своей красотой и рисунки с которого я так бережно храню.
У нас возникла переписка, в конце которой, да и после, я очень жалела, что лично не познакомилась с
В.Я. Адарюковым. Он мне в письмах рисовался как благожелательный, умный и знающий искусствовед.
Впоследствии эта статья была выпущена издательством в виде отдельной маленькой книжки[45].
Вскоре я познакомилась с художественным редактором журнала «Печать и революция» Вячеславом Павловичем Полонским[46], в высшей степени культурным и образованным человеком, а в обращении с людьми — очень приятным и простым. Его ранняя смерть была большой потерей для нашей культуры.
В 1923 году Сергей Васильевич сильно заболел. На почве переутомления и хронического недоедания у него открылся туберкулезный процесс в обоих легких. Надо было принимать решительные меры. Врач потребовал выезда из города. Он дал моему мужу на устройство своих дел, научных и педагогических, две недели, с условием, что он все это время с утра до вечера будет сидеть в кресле в большом саду академии. Туда к нему приходили ассистенты и некоторые студенты из Военно-медицинской академии для решения разных вопросов.
Через две недели Сергей Васильевич, получив отпуск и устроив дела, уехал со мной в Детское Село.
Я воспользовалась тем, что Сергей Васильевич по своей слабости никуда не ходил, а все больше сидел на воздухе, написала его портрет маслом[47].
Через два месяца слабость его постепенно прошла, и мы на летние месяцы уехали в Кисловодск, в санаторий Дома ученых. Там мы познакомились со многими интересными и выдающимися людьми: с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с профессором Семеном Ивановичем Златогоровым и его женой, с художником Александром Федоровичем Белым[48] и др. Я впервые начала делать портреты акварелью, и первой жертвой был Иван Васильевич Ершов — наш знаменитый певец[49]. Он был очень заметен среди всех остальных своей внешностью, живостью и бодрым настроением.
Помню, как он рано по утрам уходил высоко в горы и оттуда приносил огромные роскошные букеты цветов, всегда подобранных с большим вкусом и изяществом.
Иван Васильевич охотно согласился позировать. Но он не мог удержаться, чтобы не принять какую-либо неестественную театральную позу. Мне пришлось много усилий потратить на то, чтобы он забыл, что позирует, чтобы прошла его напряженность.
Я подбивала его на разговор, а сама в это время следила за игрой черт его лица, за сменой выражений. Я выбирала наиболее для него характерные черты, ясно выявляющие его образ, как он мне тогда представлялся. Он вышел похож. В данное время этот портрет находится в Третьяковской галерее.
С этого времени я опять вернулась к портретной живописи. Сейчас я могу подвести итог портретов, сделанных мною. Портретов карандашом и углем — шестнадцать, акварелью — пятьдесят два, маслом — тридцать один, всего девяносто девять портретов. При этом хочу прибавить, что исполняла их только с живой модели, никогда не прибегая к фотографии. Работая над портретом, я не думала о сходстве. Стараясь поймать то характерное, то существенное, что подмечала в разговорах с моделью, я незаметно для себя, за редкими исключениями, добивалась сходства.
Акварельные портреты я не рисовала карандашом. Слегка окрашенной кистью я начинала портрет с рисунка глаз, чтобы потом не перемещать, сохранить чистоту бумаги для бликов в глазах.
Портреты акварелью я работала медленно, обдумывая каждый мазок. Чтобы сделать законченный портрет, мне надо было шесть-семь сеансов, а маслом я работала гораздо быстрее, так как не боялась ошибок. Они ведь были легко поправимы.
Из моего пребывания в Кисловодске я привезла много работ. Мой милый спутник, Сергей Васильевич, уже настолько поправился, что мог сопровождать меня на этюды. И мы совершали пешком или на лошадях далекие прогулки.
Там же я сделала один натюрморт — букет розового душистого горошка в глиняном горшке. Рядом с ним — лакированная черная шкатулка, из нее выпадают нити янтарных бус, перемешанных с нитями старинных венецианских бус. Чтобы сохранить свежесть красок и яркость бликов янтаря, я не делала рисунка карандашом, а писала сразу, наверняка[50].
После возвращения с Кавказа Сергей Васильевич получил командировку за границу для окончательного восстановления своих сил.
В день отъезда я поехала проводить его на Васильевский остров. Это было 15 октября. Он уезжал на германском пароходе «Schlesien». Пароход почему-то долго не отходил. Я этим воспользовалась и зарисовала пароход, пристань и видневшееся около нее большое парусное судно.
Наконец, пароход отошел и, сделав широкий поворот на Неве, стал постепенно удаляться, увозя моего дорогого путешественника.
Ушедший пароход открыл вид на парусное судно, которое до этого наполовину было им закрыто. Я тотчас обратила на него внимание. Мне сказали, что это парусный фрегат «Товарищ».
Судно стояло под всеми парусами. Словно гигантская великолепная птица, распустив свои белые крылья и распушив перышки, собирается в любой момент полететь на Неву, на взморье, в небесную даль. Особенно оно было хорошо, когда дул на него легкий морской ветерок и все паруса начинали трепетать.
Я сделала с него два подкрашенных рисунка. Этот очаровательный кораблик мне был почему-то очень мил. Может быть, своей красотой, которая ярко запечатлелась в моей памяти?
Прошло много лет. Недавно мне в руки попалась хорошо написанная книжка «На палубе». Автор ее Дмитрий Афанасьевич Лухманов[51]. В биографии автора, помещенной в этой книжке, говорится, что Д.А. Лухманов в 1926 году как единственный в СССР специалист был назначен капитаном парусного корабля «Товарищ» и ему было дано задание сделать на нем рейс в Аргентину. На форзаце этой книжки было изображено парусное судно, и я неожиданно в нем узнала моего давнишнего знакомца, когда-то глубоко пленившего меня своей красотой и рисунки с которого я так бережно храню.
 Иногда он сам читал свои стихи. Читал выразительно и сильно. Словами мощными и полнозвучными. Точно строил постройку, накладывая камень на камень.
Иногда он сам читал свои стихи. Читал выразительно и сильно. Словами мощными и полнозвучными. Точно строил постройку, накладывая камень на камень.
 Сделала портрет Валерия Яковлевича Брюсова. Отдохнув после дороги, Валерий Яковлевич помягчел и вошел в общие интересы окружающих. Он был корректен, сдержан и ни с кем особенно не сближался, хотя общения с окружающими не избегал.
По просьбе Волошина и многих других Брюсов устроил чтение своих новых стихов, не напечатанных еще. Чтение затянулось. Сделали перерыв, во время которого я незаметно сбежала. Не могла понять таких стихов. Мне казалось, в них было мало поэзии и много надуманности, что-то мертвое и ненужное, несмотря на тонко обработанную форму.
Валерий Яковлевич охотно согласился позировать и был очень аккуратен и точен.
Вспоминаю, как во время первых сеансов, при его живости и нервности, приходилось прибегать к помощи друзей. Они читали ему вслух, причем загораживали собою дверь комнаты, чтобы он в рассеянности не убежал.
Вскоре он увлекся беседой и стал рассказывать о своем путешествии в Африку и о своей жизни там. Говорил он блестяще: тонко, увлекательно и образно. И к счастью, не впадал в свою обычную многоречивость. Он в нее заворачивался, как в плащ, когда не хотел своему собеседнику ничего сказать. В своей африканской импровизации он сыпал искрами гениального остроумия и неисчерпаемой фантазии. В эти дни, работая и слушая его, я гораздо лучше поняла, какой замечательно одаренный и блестящий писатель и поэт сидит передо мной.
В начале первого сеанса у нас вышла маленькая стычка. Избегая делать портреты лиц «позирующих», держащих известную позу, я старалась всегда, чтобы они забыли о том, что сидят перед художником, и чувствовали бы себя свободно и просто. Предложила ему сесть, как он хочет, в наиболее свободную для него позу. Много раз я замечала, что такая свободная поза была часто и наиболее характерной для данного лица.
— Зачем мне садиться, как я хочу. Я сяду так, как вы меня посадите, — заметил он.
Тогда я предложила ему курить и сесть, как ему будет удобнее.
— Я знаю, что во время сеанса нельзя курить и нельзя двигаться. Курить я не буду и жду от вас указаний, как мне сесть, — заявил он решительно.
Я не стала с ним пререкаться, усадила его в первую попавшуюся позу, надеясь, что в разговоре он забудет позировать, станет шевелиться и жестяная поза пропадет.
Сеансы наши для меня были очень интересны. Мы оживленно все время о многом говорили.
Над портретом я работала уже четыре сеанса и была недовольна своей работой. В эти дни, что бы я ни делала, чем бы ни занималась, мысль о портрете занозой сидела в моем сознании. Последние дни перед своим отъездом Валерий Яковлевич позировал мне по два раза в день.
Портрет меня не удовлетворял. Но я не понимала, чего же не хватает в нем?
На портрете был изображен пожилой человек с лицом Валерия Брюсова, но это не был Валерий Брюсов. Что выпало из моего наблюдения? Что-то очень существенное и основное, без чего не было Валерия Брюсова.
И вот когда он позировал в последний раз, во время сеанса вошел Сергей Васильевич и вступил с ним в беседу. У них сейчас же возник спор. Во время спора он позабыл, что позирует, и вскочил со стула. В нем были и раздражение и порыв.
И вдруг я поняла, хотя я изображала его с глазами, смотрящими на меня, они были закрыты внутренней заслонкой, и как я ни билась над портретом, не смогла бы изобразить внутренней сущности Брюсова. Он тщательно забронировался и показывал мне только свою внешнюю оболочку. Но если бы он был более откровенен, распахнулся бы и я поняла, что в нем кроется, каков он есть на самом деле, смогла бы я изобразить его? — это еще вопрос. Может быть, его внутренняя сущность была так чужда мне, что у меня в душе не нашлось бы соответствующих струн передать ее моими художественными возможностями?
Одним словом, когда он на другой день пришел позировать, услышав его шаги, я схватила мокрую губку и смыла портрет. По какому импульсу я это сделала, до сих пор не могу объяснить. За минуту я еще не знала, что уничтожу его.
Вошел Валерий Яковлевич. Сконфуженно, молча показала ему на смытую вещь. Он посмотрел на меня, на остатки портрета и пожал плечами. «Почему вы это сделали? Он был похож. Но не огорчайтесь, не волнуйтесь, — снисходительно сказал он, — это ничего, это бывает. Вот эту осень я собираюсь приехать в Ленинград и даю вам обещание, что буду вам там позировать».
Мы попрощались. Я его больше никогда не видела, а через месяц-полтора пришло известие, что Валерий Яковлевич умер[55].
Я была очень огорчена известием о смерти Брюсова и еще больше стала сожалеть об уничтоженном портрете. Ведь это был последний его портрет!
Четыре лета подряд мы ездили в Коктебель. И я вспоминаю со светлым чувством время, проведенное там.
Я и Сергей Васильевич, работавшие упорно и много, с полной отдачей своих сил, рисковали стать узкими профессионалами.
Нам приходилось ради работы беречь свои силы и время, мы жили поэтому очень уединенно, довольствуясь обществом нескольких близких друзей.
А здесь, в Коктебеле, во время отдыха, где-нибудь на берегу, на пляже, или во время прогулок по горам, мы участвовали в беседах с людьми других вкусов, других профессий, черпая из общения с ними знания и расширяя свой кругозор.
Не имея никаких бытовых забот, я свободно и радостно работала в Коктебеле. Хочу подвести некоторый итог. Я написала, кроме уже упомянутых, портреты
В.В. Вересаева, М.А. Булгакова (он во время сеансов диктовал своей жене на память будущую пьесу «Дни Турбиных»), С.В. Шервинского, моего мужа. Написала маслом портрет Максимилиана Александровича. Я считаю его неудачным. Волошин, может быть, на портрете и похож, но выражение лица не характерно для него. Он в те дни хворал, был вял, молчалив и грустен. И живопись портрета тяжела и скучна.
Написала очаровательную Наташу Габричевскую. Она сидит на берегу, на камне, в купальном костюме, загорелая, цветущая, на фоне моря и скал Карадага[56].
Сделала за это время более шестидесяти акварелей и приблизительно столько же рисунков. В конце концов не очень уж много за четыре лета…
Так богато духовными впечатлениями и от людей, и от чудесной природы проходило время в Коктебеле. И каждый новый день казался прекраснее предыдущего.
Приходила осень. Надо было уезжать. Волошин и многие из гостей провожали нас, по установленному обычаю, хоровой песней:
Сделала портрет Валерия Яковлевича Брюсова. Отдохнув после дороги, Валерий Яковлевич помягчел и вошел в общие интересы окружающих. Он был корректен, сдержан и ни с кем особенно не сближался, хотя общения с окружающими не избегал.
По просьбе Волошина и многих других Брюсов устроил чтение своих новых стихов, не напечатанных еще. Чтение затянулось. Сделали перерыв, во время которого я незаметно сбежала. Не могла понять таких стихов. Мне казалось, в них было мало поэзии и много надуманности, что-то мертвое и ненужное, несмотря на тонко обработанную форму.
Валерий Яковлевич охотно согласился позировать и был очень аккуратен и точен.
Вспоминаю, как во время первых сеансов, при его живости и нервности, приходилось прибегать к помощи друзей. Они читали ему вслух, причем загораживали собою дверь комнаты, чтобы он в рассеянности не убежал.
Вскоре он увлекся беседой и стал рассказывать о своем путешествии в Африку и о своей жизни там. Говорил он блестяще: тонко, увлекательно и образно. И к счастью, не впадал в свою обычную многоречивость. Он в нее заворачивался, как в плащ, когда не хотел своему собеседнику ничего сказать. В своей африканской импровизации он сыпал искрами гениального остроумия и неисчерпаемой фантазии. В эти дни, работая и слушая его, я гораздо лучше поняла, какой замечательно одаренный и блестящий писатель и поэт сидит передо мной.
В начале первого сеанса у нас вышла маленькая стычка. Избегая делать портреты лиц «позирующих», держащих известную позу, я старалась всегда, чтобы они забыли о том, что сидят перед художником, и чувствовали бы себя свободно и просто. Предложила ему сесть, как он хочет, в наиболее свободную для него позу. Много раз я замечала, что такая свободная поза была часто и наиболее характерной для данного лица.
— Зачем мне садиться, как я хочу. Я сяду так, как вы меня посадите, — заметил он.
Тогда я предложила ему курить и сесть, как ему будет удобнее.
— Я знаю, что во время сеанса нельзя курить и нельзя двигаться. Курить я не буду и жду от вас указаний, как мне сесть, — заявил он решительно.
Я не стала с ним пререкаться, усадила его в первую попавшуюся позу, надеясь, что в разговоре он забудет позировать, станет шевелиться и жестяная поза пропадет.
Сеансы наши для меня были очень интересны. Мы оживленно все время о многом говорили.
Над портретом я работала уже четыре сеанса и была недовольна своей работой. В эти дни, что бы я ни делала, чем бы ни занималась, мысль о портрете занозой сидела в моем сознании. Последние дни перед своим отъездом Валерий Яковлевич позировал мне по два раза в день.
Портрет меня не удовлетворял. Но я не понимала, чего же не хватает в нем?
На портрете был изображен пожилой человек с лицом Валерия Брюсова, но это не был Валерий Брюсов. Что выпало из моего наблюдения? Что-то очень существенное и основное, без чего не было Валерия Брюсова.
И вот когда он позировал в последний раз, во время сеанса вошел Сергей Васильевич и вступил с ним в беседу. У них сейчас же возник спор. Во время спора он позабыл, что позирует, и вскочил со стула. В нем были и раздражение и порыв.
И вдруг я поняла, хотя я изображала его с глазами, смотрящими на меня, они были закрыты внутренней заслонкой, и как я ни билась над портретом, не смогла бы изобразить внутренней сущности Брюсова. Он тщательно забронировался и показывал мне только свою внешнюю оболочку. Но если бы он был более откровенен, распахнулся бы и я поняла, что в нем кроется, каков он есть на самом деле, смогла бы я изобразить его? — это еще вопрос. Может быть, его внутренняя сущность была так чужда мне, что у меня в душе не нашлось бы соответствующих струн передать ее моими художественными возможностями?
Одним словом, когда он на другой день пришел позировать, услышав его шаги, я схватила мокрую губку и смыла портрет. По какому импульсу я это сделала, до сих пор не могу объяснить. За минуту я еще не знала, что уничтожу его.
Вошел Валерий Яковлевич. Сконфуженно, молча показала ему на смытую вещь. Он посмотрел на меня, на остатки портрета и пожал плечами. «Почему вы это сделали? Он был похож. Но не огорчайтесь, не волнуйтесь, — снисходительно сказал он, — это ничего, это бывает. Вот эту осень я собираюсь приехать в Ленинград и даю вам обещание, что буду вам там позировать».
Мы попрощались. Я его больше никогда не видела, а через месяц-полтора пришло известие, что Валерий Яковлевич умер[55].
Я была очень огорчена известием о смерти Брюсова и еще больше стала сожалеть об уничтоженном портрете. Ведь это был последний его портрет!
Четыре лета подряд мы ездили в Коктебель. И я вспоминаю со светлым чувством время, проведенное там.
Я и Сергей Васильевич, работавшие упорно и много, с полной отдачей своих сил, рисковали стать узкими профессионалами.
Нам приходилось ради работы беречь свои силы и время, мы жили поэтому очень уединенно, довольствуясь обществом нескольких близких друзей.
А здесь, в Коктебеле, во время отдыха, где-нибудь на берегу, на пляже, или во время прогулок по горам, мы участвовали в беседах с людьми других вкусов, других профессий, черпая из общения с ними знания и расширяя свой кругозор.
Не имея никаких бытовых забот, я свободно и радостно работала в Коктебеле. Хочу подвести некоторый итог. Я написала, кроме уже упомянутых, портреты
В.В. Вересаева, М.А. Булгакова (он во время сеансов диктовал своей жене на память будущую пьесу «Дни Турбиных»), С.В. Шервинского, моего мужа. Написала маслом портрет Максимилиана Александровича. Я считаю его неудачным. Волошин, может быть, на портрете и похож, но выражение лица не характерно для него. Он в те дни хворал, был вял, молчалив и грустен. И живопись портрета тяжела и скучна.
Написала очаровательную Наташу Габричевскую. Она сидит на берегу, на камне, в купальном костюме, загорелая, цветущая, на фоне моря и скал Карадага[56].
Сделала за это время более шестидесяти акварелей и приблизительно столько же рисунков. В конце концов не очень уж много за четыре лета…
Так богато духовными впечатлениями и от людей, и от чудесной природы проходило время в Коктебеле. И каждый новый день казался прекраснее предыдущего.
Приходила осень. Надо было уезжать. Волошин и многие из гостей провожали нас, по установленному обычаю, хоровой песней:
 Сомов нам долго не писал, и мы ничего не знали о наших делах в Америке. Тогда я обратилась к Михаилу Васильевичу Нестерову с просьбой сообщить нам, что он знает о выставке.
Сомов нам долго не писал, и мы ничего не знали о наших делах в Америке. Тогда я обратилась к Михаилу Васильевичу Нестерову с просьбой сообщить нам, что он знает о выставке.
 На этой выставке, как мне помнится, был богато представлен Добужинский. Он выставил этюды Парижа, Дрездена, Копенгагена. Бенуа дал тонко исполненные виды Ленинграда и Старого Петергофа.
Еще вспоминаются мне талантливые иллюстрации А.И. Кравченко к произведениям Диккенса, Гоголя, Гофмана.
У Браза были, как всегда, великолепные натюрморты. А.Я. Головин выставил декорации к балету «Жар-птица»[64].
Это была последняя выставка общества «Мир искусства». Она носила название «Выставка группы членов „Мира искусства“».
На этой выставке, как мне помнится, был богато представлен Добужинский. Он выставил этюды Парижа, Дрездена, Копенгагена. Бенуа дал тонко исполненные виды Ленинграда и Старого Петергофа.
Еще вспоминаются мне талантливые иллюстрации А.И. Кравченко к произведениям Диккенса, Гоголя, Гофмана.
У Браза были, как всегда, великолепные натюрморты. А.Я. Головин выставил декорации к балету «Жар-птица»[64].
Это была последняя выставка общества «Мир искусства». Она носила название «Выставка группы членов „Мира искусства“».
 Написала несколько женских портретов: Е.Н. Николаи, О.Д. Зигель. Сделала еще портрет Г.В. Хлопина. Общение со многими из моих моделей мне было очень приятно. Но особенное чувство теплоты и преклонения у меня осталось от личности президента Академии наук Александра Петровича Карпинского, замечательного ученого и гражданина нашей Родины[69]. Он был маленького роста, толстенький, с длинными белыми волосами, с ласковым, милым лицом. Я сделала с него акварельный портрет. В начале первого нашего сеанса он мне сказал: «Анна Петровна, напишите меня без улыбки. Меня все изображают улыбающимся, а я совсем не такой весельчак, как все кругом думают!» Я исполнила его просьбу.
Когда я в первый раз приехала к Карпинскому, я не сразу нашла его квартиру. В моем затруднении обратилась к какому-то пожилому не то сторожу, не то дворнику, который встретился мне внизу у лестницы. «Ищете квартиру нашего Александра Петровича? Вот она. Идите к нему, идите. Он душа-человек!»
Написала несколько женских портретов: Е.Н. Николаи, О.Д. Зигель. Сделала еще портрет Г.В. Хлопина. Общение со многими из моих моделей мне было очень приятно. Но особенное чувство теплоты и преклонения у меня осталось от личности президента Академии наук Александра Петровича Карпинского, замечательного ученого и гражданина нашей Родины[69]. Он был маленького роста, толстенький, с длинными белыми волосами, с ласковым, милым лицом. Я сделала с него акварельный портрет. В начале первого нашего сеанса он мне сказал: «Анна Петровна, напишите меня без улыбки. Меня все изображают улыбающимся, а я совсем не такой весельчак, как все кругом думают!» Я исполнила его просьбу.
Когда я в первый раз приехала к Карпинскому, я не сразу нашла его квартиру. В моем затруднении обратилась к какому-то пожилому не то сторожу, не то дворнику, который встретился мне внизу у лестницы. «Ищете квартиру нашего Александра Петровича? Вот она. Идите к нему, идите. Он душа-человек!»
 Таким я и решила его изобразить — бегущим зимой по полям и перелескам, озаренным светом, разрумяненным морозом. Мы ездили в Юкки, и я делала с него наброски. Смотрела, как он с трамплина летел по воздуху вниз и, достигнув земли, плавно бежал дальше. Заходила с ним в скромное помещение, где собиралась молодежь отдохнуть, закусить и подсушить свою обувь и платье. Оживленные, веселые лица. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза.
На портрете Дима изображен бегущим на лыжах. Он взят в почти натуральную величину (до колен). На нем темно-лиловый вязаный джемпер, на голове шапочка из серой мерлушки, на шее коричневый шарф, концы которого развеваются по ветру. Руки в малиновых вязаных рукавицах держат палки, которыми лыжники во время бега отталкиваются от земли. Портрет мне удался. Я старалась передать впечатление пленэра. Бегущий лыжник со всех сторон облит светом. Нет сильных теней, и в то же время он реален и убедителен в своей материальной сущности.
С выставки он был приобретен Наркомпросом для одного из московских музеев, а через несколько лет, посредством каких-то обменов, был передан в собрание Государственного Русского музея.
После ранней гибели Димы (на Клухорском перевале) я сделала повторение этого портрета его родителям[73].
Весною 1925 года мы переехали на другую квартиру, оставив прежнюю, очень холодную и затененную большими деревьями. От их густой листвы свет в комнатах был зеленоватый, и мне всегда казалось, что мыс мужем живем в подводном царстве. Последние два года мне пришлось портреты, да и все остальное, работать в маленькой ванной комнате. Из ее окна было видно небо, и в комнату вливался чистый дневной свет, без темных зеленых рефлексов.
Таким я и решила его изобразить — бегущим зимой по полям и перелескам, озаренным светом, разрумяненным морозом. Мы ездили в Юкки, и я делала с него наброски. Смотрела, как он с трамплина летел по воздуху вниз и, достигнув земли, плавно бежал дальше. Заходила с ним в скромное помещение, где собиралась молодежь отдохнуть, закусить и подсушить свою обувь и платье. Оживленные, веселые лица. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза.
На портрете Дима изображен бегущим на лыжах. Он взят в почти натуральную величину (до колен). На нем темно-лиловый вязаный джемпер, на голове шапочка из серой мерлушки, на шее коричневый шарф, концы которого развеваются по ветру. Руки в малиновых вязаных рукавицах держат палки, которыми лыжники во время бега отталкиваются от земли. Портрет мне удался. Я старалась передать впечатление пленэра. Бегущий лыжник со всех сторон облит светом. Нет сильных теней, и в то же время он реален и убедителен в своей материальной сущности.
С выставки он был приобретен Наркомпросом для одного из московских музеев, а через несколько лет, посредством каких-то обменов, был передан в собрание Государственного Русского музея.
После ранней гибели Димы (на Клухорском перевале) я сделала повторение этого портрета его родителям[73].
Весною 1925 года мы переехали на другую квартиру, оставив прежнюю, очень холодную и затененную большими деревьями. От их густой листвы свет в комнатах был зеленоватый, и мне всегда казалось, что мыс мужем живем в подводном царстве. Последние два года мне пришлось портреты, да и все остальное, работать в маленькой ванной комнате. Из ее окна было видно небо, и в комнату вливался чистый дневной свет, без темных зеленых рефлексов.
 Здесь я написала портрет моей маленькой племянницы Мумы Филоненко (по выставочному каталогу «Девочка с кошкой») и набросок маслом моего бульдога Бобби.
Еще хочу упомянуть, хотя это было давно, в 1918 году, как я пыталась написать перспективу комнат квартиры, которую мы собирались покинуть. Взяла задачу передать солнечные пятна, игравшие на дверях, мебели, на стенах[74]. Написала эту вещь маслом на лаковой эмульсии. Приготовлял ее молодой художник А.А. Зилоти[75]. Он увлекся задачей расшифровать тайну связующих веществ старинных мастеров, особенно братьев Ван Эйк[76]. Работая над этим вопросом, он сам составил эмульсию для масляной живописи, которую и предложил мне испробовать. Она состояла из эфирных масел и смол. Картина эта сделана мною неплохо. Поверхность живописи приятная, а свежесть и прозрачность красок сохранилась, несмотря на прошедшие уже тридцать лет.
На ней я изобразила перспективу трех комнат. На переднем плане, на стуле, сидит спиной ко мне Бобби. Когда я начала работать, он сидел и смотрел на меня, положив морду на верхнюю перекладину спинки стула. Но, увидев, что я стала на него пристально смотреть и рисовать его, он, недовольно фыркнув, демонстративно повернулся ко мне спиной, выражая всем видом резкий протест моему намерению.
Надо сказать, что вообще Бобби много раз позировал. Он был умный, верный и очень добрый пес. Имея бульдожьи челюсти и пасть, полную зубов, он никого не кусал — ни человека, ни зверя, ни птицу.
Мы были к нему очень привязаны и, потеряв его, скучали. С годами у меня создалась привычка, обдумывая какую-нибудь гравюру или живописную вещь, забираться на мой низкий диван. Бобби немедленно прыгал и садился рядом. Я машинально крутила его теплое, атласное, большое ухо, сворачивая его в трубочку и разворачивая. В то же время мысли бежали своей чередой.
Гравюра Бобби исполнена грубовато, упрощенно. Она вырезана на одной деревянной доске и двух линолеумных. Вскоре эта гравюра была воспроизведена как украшение школьного календаря.
Еще сделала линогравюру «Фейерверк в Париже», повторение той, которую я вырезала в 1908 году и доску ее уничтожила. Вырезала два книжных знака и гравюру «Смольный»[77]. Исполнила вид Ленинграда — на первом плане Прачечный мост и деревья Летнего сада, вдали Нева и госпиталь Военно-медицинской академии. Картина приобретена Государственным Русским музеем. Работала я ее из окна музея в домике Петра I в Летнем саду.
Здесь я написала портрет моей маленькой племянницы Мумы Филоненко (по выставочному каталогу «Девочка с кошкой») и набросок маслом моего бульдога Бобби.
Еще хочу упомянуть, хотя это было давно, в 1918 году, как я пыталась написать перспективу комнат квартиры, которую мы собирались покинуть. Взяла задачу передать солнечные пятна, игравшие на дверях, мебели, на стенах[74]. Написала эту вещь маслом на лаковой эмульсии. Приготовлял ее молодой художник А.А. Зилоти[75]. Он увлекся задачей расшифровать тайну связующих веществ старинных мастеров, особенно братьев Ван Эйк[76]. Работая над этим вопросом, он сам составил эмульсию для масляной живописи, которую и предложил мне испробовать. Она состояла из эфирных масел и смол. Картина эта сделана мною неплохо. Поверхность живописи приятная, а свежесть и прозрачность красок сохранилась, несмотря на прошедшие уже тридцать лет.
На ней я изобразила перспективу трех комнат. На переднем плане, на стуле, сидит спиной ко мне Бобби. Когда я начала работать, он сидел и смотрел на меня, положив морду на верхнюю перекладину спинки стула. Но, увидев, что я стала на него пристально смотреть и рисовать его, он, недовольно фыркнув, демонстративно повернулся ко мне спиной, выражая всем видом резкий протест моему намерению.
Надо сказать, что вообще Бобби много раз позировал. Он был умный, верный и очень добрый пес. Имея бульдожьи челюсти и пасть, полную зубов, он никого не кусал — ни человека, ни зверя, ни птицу.
Мы были к нему очень привязаны и, потеряв его, скучали. С годами у меня создалась привычка, обдумывая какую-нибудь гравюру или живописную вещь, забираться на мой низкий диван. Бобби немедленно прыгал и садился рядом. Я машинально крутила его теплое, атласное, большое ухо, сворачивая его в трубочку и разворачивая. В то же время мысли бежали своей чередой.
Гравюра Бобби исполнена грубовато, упрощенно. Она вырезана на одной деревянной доске и двух линолеумных. Вскоре эта гравюра была воспроизведена как украшение школьного календаря.
Еще сделала линогравюру «Фейерверк в Париже», повторение той, которую я вырезала в 1908 году и доску ее уничтожила. Вырезала два книжных знака и гравюру «Смольный»[77]. Исполнила вид Ленинграда — на первом плане Прачечный мост и деревья Летнего сада, вдали Нева и госпиталь Военно-медицинской академии. Картина приобретена Государственным Русским музеем. Работала я ее из окна музея в домике Петра I в Летнем саду.

 Относительно себя я откровенно скажу, что всю жизнь оставалась невеждой в области химии. Очень давно, в начале нашего брака, я решила ознакомиться с этой трудной, но увлекательной наукой, которой Сергей Васильевич отдавал так много внимания и сил. Ничего ему не говоря, в его отсутствие я взялась за книгу «Основы химии» Менделеева[78] и стала ее изучать, но мое намерение познакомиться с химией продолжалось недолго. Однажды Сергей Васильевич застал меня за этой книгой. Он немедленно ее отобрал и взял с меня слово оставить навсегда эти попытки, а мое внимание, силы и время тратить только на искусство. А про себя он так сказал и потом не раз говорил: «Мне химии в лаборатории довольно. Когда я прихожу домой, я хочу отдохнуть. А отдыхаю я, когда смотрю красивые вещи». И он брал какое-нибудь художественное издание или какую-нибудь из моих папок или альбомов, говоря: «А теперь я проедусь по Норвегии…»
Он любил искусство. Даже несмотря на особенно напряженную работу в 1926-м и 1927 годах, он находил время посещать выставки и бывать на концертах.
Относительно себя я откровенно скажу, что всю жизнь оставалась невеждой в области химии. Очень давно, в начале нашего брака, я решила ознакомиться с этой трудной, но увлекательной наукой, которой Сергей Васильевич отдавал так много внимания и сил. Ничего ему не говоря, в его отсутствие я взялась за книгу «Основы химии» Менделеева[78] и стала ее изучать, но мое намерение познакомиться с химией продолжалось недолго. Однажды Сергей Васильевич застал меня за этой книгой. Он немедленно ее отобрал и взял с меня слово оставить навсегда эти попытки, а мое внимание, силы и время тратить только на искусство. А про себя он так сказал и потом не раз говорил: «Мне химии в лаборатории довольно. Когда я прихожу домой, я хочу отдохнуть. А отдыхаю я, когда смотрю красивые вещи». И он брал какое-нибудь художественное издание или какую-нибудь из моих папок или альбомов, говоря: «А теперь я проедусь по Норвегии…»
Он любил искусство. Даже несмотря на особенно напряженную работу в 1926-м и 1927 годах, он находил время посещать выставки и бывать на концертах.
 Все еще долго не расходились. Весело и возбужденно вспоминали и обсуждали разные моменты своей работы. Радостно было сознавать, что самоотверженная и напряженная работа Сергея Васильевича и его учеников увенчалась таким успехом.
Когда эта работа впоследствии развернулась до заводского масштаба, Сергей Васильевич много раз говорил: «Ни одна страна, ни одно правительство не дали бы мне такой возможности развернуть работу, как наша советская власть».
Наступило лето. Впереди был отдых, а для меня летняя интенсивная работа. 14 июня 1928 года, вечером, мы выехали поездом в Рыбинск, чтобы сесть там на пароход и ехать в Казань на Менделеевский съезд и на мою персональную выставку, которая приблизительно в то же время должна была открыться. А там дальше нам мерещилась поездка по Волге. Оба здоровые и веселые, мы не предчувствовали ожидавшего нас в ближайшие дни тяжкого испытания.
Все еще долго не расходились. Весело и возбужденно вспоминали и обсуждали разные моменты своей работы. Радостно было сознавать, что самоотверженная и напряженная работа Сергея Васильевича и его учеников увенчалась таким успехом.
Когда эта работа впоследствии развернулась до заводского масштаба, Сергей Васильевич много раз говорил: «Ни одна страна, ни одно правительство не дали бы мне такой возможности развернуть работу, как наша советская власть».
Наступило лето. Впереди был отдых, а для меня летняя интенсивная работа. 14 июня 1928 года, вечером, мы выехали поездом в Рыбинск, чтобы сесть там на пароход и ехать в Казань на Менделеевский съезд и на мою персональную выставку, которая приблизительно в то же время должна была открыться. А там дальше нам мерещилась поездка по Волге. Оба здоровые и веселые, мы не предчувствовали ожидавшего нас в ближайшие дни тяжкого испытания.
 На следующий день, подъезжая к Рыбинску, Сергей Васильевич внезапно заболел. У него появились сильные внутренние боли, которые с каждой минутой нарастали. С величайшим трудом погрузились мы с вещами на извозчика. Сергей Васильевич во время езды все время стонал и сползал с сиденья. Я его крепко обнимала, чтобы он не упал с дрожек. Нас направили в аптеке в поликлинику, но там старшие врачи были в отпуску, а младшие, малоопытные, не могли определить болезни и посоветовали мне свезти больного в районную больницу, где был отличный врач-хирург Рафаил Рафаилович Сыромятников.
Пришлось опять ехать на дрожках почти через весь город по ужасной мостовой, выложенной булыжниками. Сергей Васильевич невыносимо страдал. Когда мы подъехали к больнице и его сняли с дрожек, он был в глубоком обмороке.
На следующий день, подъезжая к Рыбинску, Сергей Васильевич внезапно заболел. У него появились сильные внутренние боли, которые с каждой минутой нарастали. С величайшим трудом погрузились мы с вещами на извозчика. Сергей Васильевич во время езды все время стонал и сползал с сиденья. Я его крепко обнимала, чтобы он не упал с дрожек. Нас направили в аптеке в поликлинику, но там старшие врачи были в отпуску, а младшие, малоопытные, не могли определить болезни и посоветовали мне свезти больного в районную больницу, где был отличный врач-хирург Рафаил Рафаилович Сыромятников.
Пришлось опять ехать на дрожках почти через весь город по ужасной мостовой, выложенной булыжниками. Сергей Васильевич невыносимо страдал. Когда мы подъехали к больнице и его сняли с дрожек, он был в глубоком обмороке.
 Его положили в приемной на деревянный желтый диван, а я побежала вверх по лестнице, отыскивая докторов, прося о немедленной помощи. Его на носилках подняли наверх и унесли в палату.
Когда я увидела его, окруженного врачами, не теряя ни минуты, бросилась на пристань, которая, к счастью, была совсем близко.
Пароход каждую минуту мог отойти и увезти наши вещи, которые там находились. Я попросила их вынести с парохода на пристань, сдала на хранение и вернула ключ от нашей каюты.
Когда вернулась в больницу и поднялась наверх, меня уже ожидал Сыромятников, который коротко и сурово мне сказал: «Диагноз — непроходимость кишечника. Требуется немедленная операция, иначе через полчаса наступит смерть. Но я должен вас предупредить, что ваш муж вряд ли перенесет операцию. У него очень плохо работает сердце. Даете вы согласие на операцию?» — «У меня нет выхода. Я вверяю вам его жизнь», — ответила я. «Тогда попрощайтесь с ним и уходите».
Его положили в приемной на деревянный желтый диван, а я побежала вверх по лестнице, отыскивая докторов, прося о немедленной помощи. Его на носилках подняли наверх и унесли в палату.
Когда я увидела его, окруженного врачами, не теряя ни минуты, бросилась на пристань, которая, к счастью, была совсем близко.
Пароход каждую минуту мог отойти и увезти наши вещи, которые там находились. Я попросила их вынести с парохода на пристань, сдала на хранение и вернула ключ от нашей каюты.
Когда вернулась в больницу и поднялась наверх, меня уже ожидал Сыромятников, который коротко и сурово мне сказал: «Диагноз — непроходимость кишечника. Требуется немедленная операция, иначе через полчаса наступит смерть. Но я должен вас предупредить, что ваш муж вряд ли перенесет операцию. У него очень плохо работает сердце. Даете вы согласие на операцию?» — «У меня нет выхода. Я вверяю вам его жизнь», — ответила я. «Тогда попрощайтесь с ним и уходите».
 Я молча поцеловала мужа, который был уже под наркозом, и вышла в коридор. Не найдя стула, чтобы сесть, я встала около стены и, повернувшись к ней лицом, приложила лоб к ее холодным стенам. От горя я не умею плакать.
Кто-то из врачей подошел ко мне и, тронув меня за плечо, сказал: «Вам надо послать телеграмму его родным о случившемся». — «У него нет родных в Ленинграде, а его единственная сестра живет очень далеко», — отвечала я. «Это нужно для вас, а не для него», — настаивал он.
Меня удивило, почему для меня? Да, они думают, что Сергей Васильевич не перенесет операции.
Я послала телеграмму моему другу Клавдии Петровне с просьбой немедленно к нам приехать и профессору В.И. Воячеку[94] в Военно-медицинскую академию о постигшем Сергея Васильевича несчастье.
Никогда не забуду минуты, когда оперированный Сергей Васильевич был подвезен на высоком подвижном столе, снят с него и осторожно перенесен и уложен на приготовленную ему кровать.
Немедленно Сыромятников и другой врач, сев по обеим сторонам кровати, взяли руки Сергея Васильевича, чтобы узнать, каков у него пульс, и я заметила, как они удивленно переглянулись — сердце билось ровно и нормально.
Врачи, ожидая, когда проснется от наркоза Сергей Васильевич, просили меня непременно быть в эти минуты около него, в поле его зрения.
С этого дня началась героическая борьба врачей за жизнь Сергея Васильевича. Рафаил Рафаилович Сыромятников с другими врачами больницы, которых он просил вернуться из летних отпусков, прилагали величайшие усилия, чтобы спасти Сергея Васильевича. В продолжение восьми дней почти не было надежды на счастливый исход, так он был слаб, такие непредвиденные осложнения появились у него.
Только 22 июня, на восьмой день после операции, врачи рискнули дать чайную ложку стерляжьей ухи, которую я влила ему в рот. Много раз после этого неслышно открывалась к нам дверь и тихим шепотом кто-нибудь из врачей спрашивал: «Усвоил?» — «Да, да, усвоил», — подходя к двери, шептала я. «Еще дайте ложку».
С этого момента появилась надежда на жизнь Сергея Васильевича, отвоеванную с таким трудом, которая с каждым днем крепла и превращалась в уверенность. Росла и радость кругом. С первых до последних дней мы встречали в больнице исключительное внимание и горячую заботу.
А о героической борьбе и неустанном напряжении спасти жизнь Сергея Васильевича всего коллектива врачей, во главе с Сыромятниковым и старшим врачом Бронниковым, я не могу вспоминать без сердечного волнения и глубокой благодарности. Особенно доктор Сыромятников показал поистине неистощимую энергию и заботу.
Я молча поцеловала мужа, который был уже под наркозом, и вышла в коридор. Не найдя стула, чтобы сесть, я встала около стены и, повернувшись к ней лицом, приложила лоб к ее холодным стенам. От горя я не умею плакать.
Кто-то из врачей подошел ко мне и, тронув меня за плечо, сказал: «Вам надо послать телеграмму его родным о случившемся». — «У него нет родных в Ленинграде, а его единственная сестра живет очень далеко», — отвечала я. «Это нужно для вас, а не для него», — настаивал он.
Меня удивило, почему для меня? Да, они думают, что Сергей Васильевич не перенесет операции.
Я послала телеграмму моему другу Клавдии Петровне с просьбой немедленно к нам приехать и профессору В.И. Воячеку[94] в Военно-медицинскую академию о постигшем Сергея Васильевича несчастье.
Никогда не забуду минуты, когда оперированный Сергей Васильевич был подвезен на высоком подвижном столе, снят с него и осторожно перенесен и уложен на приготовленную ему кровать.
Немедленно Сыромятников и другой врач, сев по обеим сторонам кровати, взяли руки Сергея Васильевича, чтобы узнать, каков у него пульс, и я заметила, как они удивленно переглянулись — сердце билось ровно и нормально.
Врачи, ожидая, когда проснется от наркоза Сергей Васильевич, просили меня непременно быть в эти минуты около него, в поле его зрения.
С этого дня началась героическая борьба врачей за жизнь Сергея Васильевича. Рафаил Рафаилович Сыромятников с другими врачами больницы, которых он просил вернуться из летних отпусков, прилагали величайшие усилия, чтобы спасти Сергея Васильевича. В продолжение восьми дней почти не было надежды на счастливый исход, так он был слаб, такие непредвиденные осложнения появились у него.
Только 22 июня, на восьмой день после операции, врачи рискнули дать чайную ложку стерляжьей ухи, которую я влила ему в рот. Много раз после этого неслышно открывалась к нам дверь и тихим шепотом кто-нибудь из врачей спрашивал: «Усвоил?» — «Да, да, усвоил», — подходя к двери, шептала я. «Еще дайте ложку».
С этого момента появилась надежда на жизнь Сергея Васильевича, отвоеванную с таким трудом, которая с каждым днем крепла и превращалась в уверенность. Росла и радость кругом. С первых до последних дней мы встречали в больнице исключительное внимание и горячую заботу.
А о героической борьбе и неустанном напряжении спасти жизнь Сергея Васильевича всего коллектива врачей, во главе с Сыромятниковым и старшим врачом Бронниковым, я не могу вспоминать без сердечного волнения и глубокой благодарности. Особенно доктор Сыромятников показал поистине неистощимую энергию и заботу.
 Живя довольно далеко от больницы, он часто ночью, беспокоясь о больном, входил вдруг в палату посмотреть, все ли благополучно с Сергеем Васильевичем, который очень медленно, почти незаметно, но определенно стал поправляться.
Возвращаясь с Менделеевского съезда, зашли в больницу навестить больного химики-профессора Залькинд, Бызов, Тидеман и Гребенщиков[95]. Но Сыромятников их не пустил к больному. Он никого к нему не пускал.
26 июня я решилась первый раз оставить мужа на попечение медсестры и вышла погулять. От всего пережитого, и пережитого мною, надо признаться, мужественно и сдержанно, я пришла в очень плохое состояние. Появилась сердечная слабость, глубокое нервное расстройство и сильный отек ног. Перемогалась, как могла.
Врачи разрешили мне понемногу читать мужу вслух. Все, что могла найти в Рыбинске о Заполярье и о полетах к Северному полюсу, чем интересовался тогда Сергей Васильевич, я достала. Самому ему читать не позволяли.
11 июля мы уехали из Рыбинска. Приехав в Ленинград, я занялась хлопотами об устройстве Сергея Васильевича в санаторий. Несмотря на мою убедительную просьбу к начальнику академии не разлучать с мужем и устроить в тот же санаторий, моя просьба почему-то не была уважена, и, приехав в Кисловодск, я осталась внезапно одна перед дверью, которая закрылась за моим еще очень слабым мужем. С трудом нашла комнату, но, к сожалению, далеко от санатория.
Разлученная с мужем, я немедленно стала испытывать ужасную душевную тоску и нестерпимую тревогу — все ли с ним благополучно?
Когда просыпалась утром, моя первая мысль была: «Что с Сергеем Васильевичем? Не случилось ли чего?» И я тотчас же плелась к нему. Санаторий находился на высокой горе, куда подымалась бесконечная лестница, да, кроме того, надо было еще взбираться на третий этаж в самом санатории, где лежал Сергей Васильевич. Каждый раз приходила к нему измученная невыносимой болью в моих отекших ногах.
Придя к нему и видя мужа под хорошим присмотром врача и сестер, несколько успокоенная, я медленно тащилась домой. Но, вернувшись в свою комнату, через несколько минут, против всякого здравого смысла, снова испытывала нестерпимое волнение и беспокойство — что с ним? Это было сильнее меня. И я опять плелась к нему, физически невыносимо страдая.
Иногда в день ходила к нему три-четыре раза. Отеки в ногах не проходили, мое нервное состояние не улучшалось. И так проходили дни за днями. Я не спала. Ничего не могла делать, не могла работать. Наконец, пришла к заключению, что дальше так продолжаться не может и я могу окончательно потерять равновесие. Надо было что-то предпринимать. Никто мне помочь не мог. Обратилась к врачу за помощью. Осмотрев меня, он сказал: «Нервная система у вас в очень плохом состоянии. Никакое лекарство на вас сейчас не подействует. Надо сначала отдохнуть и поправиться».
Моя верная опора — Сергей Васильевич — лежал бессильный, апатичный, почти всегда в дремоте.
Думала — что делать? Долго думала, и пришла к заключению, что только сама я себе должна помочь. Трудная задача! Как бы самого себя вытащить за уши из пучины пережитых впечатлений. Решила отвлечь свое внимание, свои мысли и чувства от только что пережитого потрясения силою воли.
Заниматься живописью, делать этюды Кисловодска я не могла из-за отекших ног. Но я сознавала, что надо свои мысли и чувства направить на что-то радостное и светлое, пережитое мною. А что могло быть лучше и ближе, чем воспоминания о моем далеком детстве, таком счастливом, полном теплоты и света. И я заставила себя уйти мыслями и душой туда, в далекое пережитое прошлое.
«Сегодня начала писать свои воспоминания. Пишу первую главу: „Пожар и моя мама — героиня“». Такая запись в моем дневнике от 18 августа 1928 года. Так родились мои «Автобиографические записки».
Предпринятая мною мера против разгулявшихся нервов и сильной душевной депрессии спасла меня. Когда я напрасно беспокоилась о муже, бывало, вскакивала идти к нему, я тотчас заставляла себя взять перо, сесть за стол и писать. Благодаря тому что я стала больше сидеть дома, ноги мои понемногу начали приходить в порядок, отеки их постепенно уменьшились.
В начале сентября Сергей Васильевич настолько поправился, что мог покинуть санаторий и поселиться со мной в пансионе на Красной улице, где мы прожили весь сентябрь и начало октября.
Успокоенная восстановлением здоровья моего мужа, я почувствовала опять неудержимое желание работать. А что может быть лучше искусства, дающего художнику в процессе работы так много радости, тишины и удовлетворения!
Мы много ездили по окрестностям Кисловодска. Были на Медовом водопаде, где я сделала несколько этюдов. Любовались Замком коварства и любви. Эта скала, живописная и причудливая своими очертаниями и обрывистыми плоскостями, напоминала развалины какого-то средневекового замка.
У подножия мчится стремительный поток. Русло его загромождено камнями. Но это не останавливает бурливого, пенистого бега. Сделала акварель с этого дикого, но прекрасного уголка.
Ездила на Седло-гору, откуда видны Эльбрус и вся цепь Кавказских гор. Дивная картина! Ходили пешком к Лермонтовской скале, в Березовую балку. Я с увлечением работала[96].
Пережитые тяжелые впечатления померкли, отошли вдаль. Появилась радость жизни. Сергей Васильевич был сравнительно здоров, бодр и с удовольствием думал о своей будущей работе.
В пансионе, где мы жили, встречались интересные люди. Вспоминаю талантливого писателя Валентина Катаева и его хорошенькую белокурую жену. Он очень увлекательно и весело рассказывал, как по утрам ходит, поднимаясь по зигзагам длинной дороги к Красному солнышку, и слушает разговоры толстых женщин, которые, лечась от ожирения, по предписаниям врачей каждое утро манежат себя этой дорогой. Подслушанные им дамские разговоры вызывали у всех неудержимый хохот и иронические замечания слушателей.
В начале октября мы вернулись в Ленинград. Приехав домой, нашла у себя приглашение участвовать на выставках в Америке, Лондоне, Лейпциге, Афинах. Немедленно занялась печатанием гравюр и подбором их[97].
Живя довольно далеко от больницы, он часто ночью, беспокоясь о больном, входил вдруг в палату посмотреть, все ли благополучно с Сергеем Васильевичем, который очень медленно, почти незаметно, но определенно стал поправляться.
Возвращаясь с Менделеевского съезда, зашли в больницу навестить больного химики-профессора Залькинд, Бызов, Тидеман и Гребенщиков[95]. Но Сыромятников их не пустил к больному. Он никого к нему не пускал.
26 июня я решилась первый раз оставить мужа на попечение медсестры и вышла погулять. От всего пережитого, и пережитого мною, надо признаться, мужественно и сдержанно, я пришла в очень плохое состояние. Появилась сердечная слабость, глубокое нервное расстройство и сильный отек ног. Перемогалась, как могла.
Врачи разрешили мне понемногу читать мужу вслух. Все, что могла найти в Рыбинске о Заполярье и о полетах к Северному полюсу, чем интересовался тогда Сергей Васильевич, я достала. Самому ему читать не позволяли.
11 июля мы уехали из Рыбинска. Приехав в Ленинград, я занялась хлопотами об устройстве Сергея Васильевича в санаторий. Несмотря на мою убедительную просьбу к начальнику академии не разлучать с мужем и устроить в тот же санаторий, моя просьба почему-то не была уважена, и, приехав в Кисловодск, я осталась внезапно одна перед дверью, которая закрылась за моим еще очень слабым мужем. С трудом нашла комнату, но, к сожалению, далеко от санатория.
Разлученная с мужем, я немедленно стала испытывать ужасную душевную тоску и нестерпимую тревогу — все ли с ним благополучно?
Когда просыпалась утром, моя первая мысль была: «Что с Сергеем Васильевичем? Не случилось ли чего?» И я тотчас же плелась к нему. Санаторий находился на высокой горе, куда подымалась бесконечная лестница, да, кроме того, надо было еще взбираться на третий этаж в самом санатории, где лежал Сергей Васильевич. Каждый раз приходила к нему измученная невыносимой болью в моих отекших ногах.
Придя к нему и видя мужа под хорошим присмотром врача и сестер, несколько успокоенная, я медленно тащилась домой. Но, вернувшись в свою комнату, через несколько минут, против всякого здравого смысла, снова испытывала нестерпимое волнение и беспокойство — что с ним? Это было сильнее меня. И я опять плелась к нему, физически невыносимо страдая.
Иногда в день ходила к нему три-четыре раза. Отеки в ногах не проходили, мое нервное состояние не улучшалось. И так проходили дни за днями. Я не спала. Ничего не могла делать, не могла работать. Наконец, пришла к заключению, что дальше так продолжаться не может и я могу окончательно потерять равновесие. Надо было что-то предпринимать. Никто мне помочь не мог. Обратилась к врачу за помощью. Осмотрев меня, он сказал: «Нервная система у вас в очень плохом состоянии. Никакое лекарство на вас сейчас не подействует. Надо сначала отдохнуть и поправиться».
Моя верная опора — Сергей Васильевич — лежал бессильный, апатичный, почти всегда в дремоте.
Думала — что делать? Долго думала, и пришла к заключению, что только сама я себе должна помочь. Трудная задача! Как бы самого себя вытащить за уши из пучины пережитых впечатлений. Решила отвлечь свое внимание, свои мысли и чувства от только что пережитого потрясения силою воли.
Заниматься живописью, делать этюды Кисловодска я не могла из-за отекших ног. Но я сознавала, что надо свои мысли и чувства направить на что-то радостное и светлое, пережитое мною. А что могло быть лучше и ближе, чем воспоминания о моем далеком детстве, таком счастливом, полном теплоты и света. И я заставила себя уйти мыслями и душой туда, в далекое пережитое прошлое.
«Сегодня начала писать свои воспоминания. Пишу первую главу: „Пожар и моя мама — героиня“». Такая запись в моем дневнике от 18 августа 1928 года. Так родились мои «Автобиографические записки».
Предпринятая мною мера против разгулявшихся нервов и сильной душевной депрессии спасла меня. Когда я напрасно беспокоилась о муже, бывало, вскакивала идти к нему, я тотчас заставляла себя взять перо, сесть за стол и писать. Благодаря тому что я стала больше сидеть дома, ноги мои понемногу начали приходить в порядок, отеки их постепенно уменьшились.
В начале сентября Сергей Васильевич настолько поправился, что мог покинуть санаторий и поселиться со мной в пансионе на Красной улице, где мы прожили весь сентябрь и начало октября.
Успокоенная восстановлением здоровья моего мужа, я почувствовала опять неудержимое желание работать. А что может быть лучше искусства, дающего художнику в процессе работы так много радости, тишины и удовлетворения!
Мы много ездили по окрестностям Кисловодска. Были на Медовом водопаде, где я сделала несколько этюдов. Любовались Замком коварства и любви. Эта скала, живописная и причудливая своими очертаниями и обрывистыми плоскостями, напоминала развалины какого-то средневекового замка.
У подножия мчится стремительный поток. Русло его загромождено камнями. Но это не останавливает бурливого, пенистого бега. Сделала акварель с этого дикого, но прекрасного уголка.
Ездила на Седло-гору, откуда видны Эльбрус и вся цепь Кавказских гор. Дивная картина! Ходили пешком к Лермонтовской скале, в Березовую балку. Я с увлечением работала[96].
Пережитые тяжелые впечатления померкли, отошли вдаль. Появилась радость жизни. Сергей Васильевич был сравнительно здоров, бодр и с удовольствием думал о своей будущей работе.
В пансионе, где мы жили, встречались интересные люди. Вспоминаю талантливого писателя Валентина Катаева и его хорошенькую белокурую жену. Он очень увлекательно и весело рассказывал, как по утрам ходит, поднимаясь по зигзагам длинной дороги к Красному солнышку, и слушает разговоры толстых женщин, которые, лечась от ожирения, по предписаниям врачей каждое утро манежат себя этой дорогой. Подслушанные им дамские разговоры вызывали у всех неудержимый хохот и иронические замечания слушателей.
В начале октября мы вернулись в Ленинград. Приехав домой, нашла у себя приглашение участвовать на выставках в Америке, Лондоне, Лейпциге, Афинах. Немедленно занялась печатанием гравюр и подбором их[97].
 Из русских художников я многих видела в Париже. Успешно работал Александр Бенуа. Скоро должна была открыться его выставка[110]. Потом я видела Николая Бенуа, который работал по театральному искусству. Сомов делал портреты американок и кончал иллюстрировать книгу «Манон Леско». Встречалась с Шухаевым, Борисом Григорьевым[111], Билибиным, Серебряковой, Александром Яковлевым. К русскому искусству во всех его проявлениях за границей относились с большим вниманием и уважением. Все художники работали и находили заказы, кто успешно, кто — менее. Это зависело, кроме таланта, и от характера художника. Но все работали много.
Из русских художников я многих видела в Париже. Успешно работал Александр Бенуа. Скоро должна была открыться его выставка[110]. Потом я видела Николая Бенуа, который работал по театральному искусству. Сомов делал портреты американок и кончал иллюстрировать книгу «Манон Леско». Встречалась с Шухаевым, Борисом Григорьевым[111], Билибиным, Серебряковой, Александром Яковлевым. К русскому искусству во всех его проявлениях за границей относились с большим вниманием и уважением. Все художники работали и находили заказы, кто успешно, кто — менее. Это зависело, кроме таланта, и от характера художника. Но все работали много.
 Но скоро наш отдых был нарушен неожиданным тяжелым событием. Скоропостижно умер Григорий Витальевич Хлопин. Еще накануне вечером мы были у них в гостях, справляли день рождения его младшего сына, и ничто не предвещало его близкого конца.
Неожиданность и внезапность смерти вызвала особенно тяжелое чувство. Под влиянием его все кругом нас как будто потускнело…
Первую акварель я сделала 3 августа[117]. Долго присматривалась к незнакомой и такой своеобразно красивой природе Аджаристана. Около дома, на обработанных участках все слишком культурно, красиво красивостью, а нет характера страны. Поэтому мы с Сергеем Васильевичем пошли подальше от береговой полосы, все выше и выше в горы. Местность своеобразна, красива и сурова. Везде пятна красной, сизо-красной, желто-красной земли и на ней яркого интенсивно зеленого цвета зелень. Это сочетание так богато, могуче, упоительно, что хочется кричать от восторга.
Местность, вся пересеченная глубокими узкими долинами, расходящимися по разным направлениям, и между ними высятся крутые, обрывистые холмы, а дальше, за ними, громоздятся горы. Холмы эти, хотя очень круты и обрывисты, возделаны. На них растут табак, кукуруза и раскинуты чайные плантации. Темные, круглые чайные кустики бегут стройными рядами по крутым склонам холмов в разных направлениях.
Жилые постройки малозаметны. Изредка стоят на тонких жердях зерновые кладовки — по-аджаристански «сасиминдэ». Их длинные ноги спасают запасы от тропических ливней и сырости.
Воздух чрезвычайно влажен, вода висит в воздухе, и акварель с нанесенными по ней мазками краски никак не может подсохнуть. Положишь мазок и ждешь, когда подсохнет, чтобы можно было рядом положить другой так, чтобы они не слились вместе. Ждешь бесконечно, и все не высыхает. Тогда я сообразила: стала между всеми мазками оставлять сухую бумагу. Получилась живопись вроде китайской клуазонне (cloisonné). Там вокруг кусочка эмали делаются контуры из тонких пластинок металла. Здесь эту роль раздела между мазками исполняет узенькая, шириною в волосок, полоска сухой бумаги. Вернувшись домой, все эти белые черточки я прикрываю подходящими тонами.
Но скоро наш отдых был нарушен неожиданным тяжелым событием. Скоропостижно умер Григорий Витальевич Хлопин. Еще накануне вечером мы были у них в гостях, справляли день рождения его младшего сына, и ничто не предвещало его близкого конца.
Неожиданность и внезапность смерти вызвала особенно тяжелое чувство. Под влиянием его все кругом нас как будто потускнело…
Первую акварель я сделала 3 августа[117]. Долго присматривалась к незнакомой и такой своеобразно красивой природе Аджаристана. Около дома, на обработанных участках все слишком культурно, красиво красивостью, а нет характера страны. Поэтому мы с Сергеем Васильевичем пошли подальше от береговой полосы, все выше и выше в горы. Местность своеобразна, красива и сурова. Везде пятна красной, сизо-красной, желто-красной земли и на ней яркого интенсивно зеленого цвета зелень. Это сочетание так богато, могуче, упоительно, что хочется кричать от восторга.
Местность, вся пересеченная глубокими узкими долинами, расходящимися по разным направлениям, и между ними высятся крутые, обрывистые холмы, а дальше, за ними, громоздятся горы. Холмы эти, хотя очень круты и обрывисты, возделаны. На них растут табак, кукуруза и раскинуты чайные плантации. Темные, круглые чайные кустики бегут стройными рядами по крутым склонам холмов в разных направлениях.
Жилые постройки малозаметны. Изредка стоят на тонких жердях зерновые кладовки — по-аджаристански «сасиминдэ». Их длинные ноги спасают запасы от тропических ливней и сырости.
Воздух чрезвычайно влажен, вода висит в воздухе, и акварель с нанесенными по ней мазками краски никак не может подсохнуть. Положишь мазок и ждешь, когда подсохнет, чтобы можно было рядом положить другой так, чтобы они не слились вместе. Ждешь бесконечно, и все не высыхает. Тогда я сообразила: стала между всеми мазками оставлять сухую бумагу. Получилась живопись вроде китайской клуазонне (cloisonné). Там вокруг кусочка эмали делаются контуры из тонких пластинок металла. Здесь эту роль раздела между мазками исполняет узенькая, шириною в волосок, полоска сухой бумаги. Вернувшись домой, все эти белые черточки я прикрываю подходящими тонами.
 Делала акварели из окон Смольного на окружающие сады и виднеющуюся за ними Неву. Зарисовала разбираемую церковь Благовещения, что была на площади у моста Лейтенанта Шмидта. Она была нехороша по своим архитектурным формам, и мне было не жаль ее уничтожения. Еще сделала черную гравюру с сердитого манджура — «Джо»[124].
Делала акварели из окон Смольного на окружающие сады и виднеющуюся за ними Неву. Зарисовала разбираемую церковь Благовещения, что была на площади у моста Лейтенанта Шмидта. Она была нехороша по своим архитектурным формам, и мне было не жаль ее уничтожения. Еще сделала черную гравюру с сердитого манджура — «Джо»[124].
 Несколько раз ездила в Институт экспериментальной медицины имени Максима Горького (ВИЭМ). Сотрудники Ивана Петровича Павлова просили меня сделать для их библиотеки книжный знак[125] и изобразить на нем здание института, которое частью помещалось в загородном старинном особняке.
Вспоминаю, какую я сделала невольную, но большую оплошность при моем втором посещении ВИЭМ. В первый раз, когда я была, мне показывали помещение, где сотрудники проводят опыты на собаках. Рассказывали про опыты, которые они проделывают, показывали комнату, абсолютно изолированную от малейших звуков, и собак, у которых было вынуто одно полушарие головного мозга. Сторож при мне приводил этих собак для опытов. Мы сговорились, что на следующий день к такому-то часу я приду в определенную комнату и оттуда меня проводят в помещение, откуда я смогу рисовать. Была зима, и работать на воздухе не было возможности. На следующий день я приехала вовремя, разделась внизу и прошла в назначенную комнату. В ней я никого не встретила и потому решила подождать. Прошло полчаса — никого. Прошел час. Мне надоело ждать, и я решила тихонько постучать в соседнюю дверь, предполагая, что обо мне забыли. Какой же от этого произошел переполох! Научные сотрудники стали выходить один за другим в комнату, где я была, говоря мне, что, постучав и нарушив тишину, я испортила им все опыты за целый день. Я не знала, куда мне деваться от огорчения и смущения, видя у всех недовольные лица…
Книжный знак этот я вырезала на четырех досках. Еще сделала гравюрой портрет Льва Николаевича Толстого в характере «кьяроскуро», в две доски.
Повторила мою старую гравюру «Фейерверк в Париже 14 июля», доски которой я когда-то уничтожила. Вырезала ее на трех линолеумных досках. В сравнении с прежней сделала ее немного выше и прибавила в ней дождь падающих белых огоньков. Вырезала на линолеуме в черном гравюру «Два дождя». По дороге идет женщина, погода бурная, сильный ветер и дождь, падающий из двух туч[126].
Несколько раз ездила в Институт экспериментальной медицины имени Максима Горького (ВИЭМ). Сотрудники Ивана Петровича Павлова просили меня сделать для их библиотеки книжный знак[125] и изобразить на нем здание института, которое частью помещалось в загородном старинном особняке.
Вспоминаю, какую я сделала невольную, но большую оплошность при моем втором посещении ВИЭМ. В первый раз, когда я была, мне показывали помещение, где сотрудники проводят опыты на собаках. Рассказывали про опыты, которые они проделывают, показывали комнату, абсолютно изолированную от малейших звуков, и собак, у которых было вынуто одно полушарие головного мозга. Сторож при мне приводил этих собак для опытов. Мы сговорились, что на следующий день к такому-то часу я приду в определенную комнату и оттуда меня проводят в помещение, откуда я смогу рисовать. Была зима, и работать на воздухе не было возможности. На следующий день я приехала вовремя, разделась внизу и прошла в назначенную комнату. В ней я никого не встретила и потому решила подождать. Прошло полчаса — никого. Прошел час. Мне надоело ждать, и я решила тихонько постучать в соседнюю дверь, предполагая, что обо мне забыли. Какой же от этого произошел переполох! Научные сотрудники стали выходить один за другим в комнату, где я была, говоря мне, что, постучав и нарушив тишину, я испортила им все опыты за целый день. Я не знала, куда мне деваться от огорчения и смущения, видя у всех недовольные лица…
Книжный знак этот я вырезала на четырех досках. Еще сделала гравюрой портрет Льва Николаевича Толстого в характере «кьяроскуро», в две доски.
Повторила мою старую гравюру «Фейерверк в Париже 14 июля», доски которой я когда-то уничтожила. Вырезала ее на трех линолеумных досках. В сравнении с прежней сделала ее немного выше и прибавила в ней дождь падающих белых огоньков. Вырезала на линолеуме в черном гравюру «Два дождя». По дороге идет женщина, погода бурная, сильный ветер и дождь, падающий из двух туч[126].
 Когда я окончила гравюру и отпечатала, то увидела, что на гравюре верхушки деревьев гнутся от ветра в одну сторону, а дождевые струи падают в другую, навстречу ветру. Это было нелогично и недостаточно мною продумано. Что мне оставалось делать? Вырезать гравюру второй раз, уже не нарушая законов природы… Я так и сделала.
Вспоминаю, как в одно из воскресений я и Сергей Васильевич поехали на Острова. Был декабрь месяц. Солнечный день, и все покрыто густым инеем. Деревянный Елагинский мост, его сваи, устои, перила, весь его рисунок, все его линии были не темные, а серебристо-белые. Это было очень странно и красиво. Сейчас же принялась рисовать, а Сергей Васильевич терпеливо прохаживался по берегу реки.
Из встреч и знакомств в те годы хорошо запомнился мне вечер, проведенный у художника Вениамина Павловича Белкина. Там я встретилась в первый раз с писателем К.А. Фединым, его женой и с поэтом Анной Андреевной Ахматовой. Федин привлекательный человек. Умное симпатичное лицо, серые хорошие глаза. Ахматова произвела на меня приятное впечатление, даже чарующее. Она в натуре гораздо лучше всех своих портретов. Форма головы прекрасна и посадка ее. Линия шеи тоже очень красива. «Хорошо бы сделать ее портрет», — думала я, но не посмела ее об этом попросить.
Очень приятны для меня были парочка Радловых — Надежда Константиновна и Николай Эрнестович. Пианистка Сарра Семеновна Полоцкая превосходно играла Шопена, Листа и Вагнера. Мила и ласкова была хозяйка дома Вера Александровна. У них нам было уютно и тепло…[127]
Когда я окончила гравюру и отпечатала, то увидела, что на гравюре верхушки деревьев гнутся от ветра в одну сторону, а дождевые струи падают в другую, навстречу ветру. Это было нелогично и недостаточно мною продумано. Что мне оставалось делать? Вырезать гравюру второй раз, уже не нарушая законов природы… Я так и сделала.
Вспоминаю, как в одно из воскресений я и Сергей Васильевич поехали на Острова. Был декабрь месяц. Солнечный день, и все покрыто густым инеем. Деревянный Елагинский мост, его сваи, устои, перила, весь его рисунок, все его линии были не темные, а серебристо-белые. Это было очень странно и красиво. Сейчас же принялась рисовать, а Сергей Васильевич терпеливо прохаживался по берегу реки.
Из встреч и знакомств в те годы хорошо запомнился мне вечер, проведенный у художника Вениамина Павловича Белкина. Там я встретилась в первый раз с писателем К.А. Фединым, его женой и с поэтом Анной Андреевной Ахматовой. Федин привлекательный человек. Умное симпатичное лицо, серые хорошие глаза. Ахматова произвела на меня приятное впечатление, даже чарующее. Она в натуре гораздо лучше всех своих портретов. Форма головы прекрасна и посадка ее. Линия шеи тоже очень красива. «Хорошо бы сделать ее портрет», — думала я, но не посмела ее об этом попросить.
Очень приятны для меня были парочка Радловых — Надежда Константиновна и Николай Эрнестович. Пианистка Сарра Семеновна Полоцкая превосходно играла Шопена, Листа и Вагнера. Мила и ласкова была хозяйка дома Вера Александровна. У них нам было уютно и тепло…[127]
 Близко от перил балкона подымались вверх черные стволы двух раскидистых ясеней, которые зеленым шатром из мелких узких листьев осеняли балкон. Здесь же росла старая липа, а дальше шли разлапистые клены.
В 1931 году правительство подарило Сергею Васильевичу автомобиль. Помимо удобства и сохранения сил и времени, машина предоставляла ему возможность в каких-нибудь полчаса перенестись куда угодно за город. Сергей Васильевич научился управлять автомобилем, выдержал экзамен на водителя и нередко сам правил машиной, когда мы ездили в Детское Село. Это ему доставляло большое удовольствие, а мне это было немного утомительно. Я не могла не следить за его управлением, иногда, не выдержав, ему спешно говорила: «Сережа, давай сигнал. Что же ты не даешь сигнала! Не так круто поворачивай!» и т. д. Сергей Васильевич и Иван Емельянович (шофер), сидевший всегда рядом с ним, только отшучивались и трунили надо мною.
Близко от перил балкона подымались вверх черные стволы двух раскидистых ясеней, которые зеленым шатром из мелких узких листьев осеняли балкон. Здесь же росла старая липа, а дальше шли разлапистые клены.
В 1931 году правительство подарило Сергею Васильевичу автомобиль. Помимо удобства и сохранения сил и времени, машина предоставляла ему возможность в каких-нибудь полчаса перенестись куда угодно за город. Сергей Васильевич научился управлять автомобилем, выдержал экзамен на водителя и нередко сам правил машиной, когда мы ездили в Детское Село. Это ему доставляло большое удовольствие, а мне это было немного утомительно. Я не могла не следить за его управлением, иногда, не выдержав, ему спешно говорила: «Сережа, давай сигнал. Что же ты не даешь сигнала! Не так круто поворачивай!» и т. д. Сергей Васильевич и Иван Емельянович (шофер), сидевший всегда рядом с ним, только отшучивались и трунили надо мною.

 Сергей Васильевич порой останавливался, восхищаясь то оттенком листвы на деревьях, то рисунком веток березы или перилами какого-нибудь мостика. Он говорил мне: «Да зарисуй ты мне это, посмотри, какая красота».
Сергей Васильевич порой останавливался, восхищаясь то оттенком листвы на деревьях, то рисунком веток березы или перилами какого-нибудь мостика. Он говорил мне: «Да зарисуй ты мне это, посмотри, какая красота».
 Ехали мы в Гусь-Завод Железный на пароходе до пристани Забелино, где нас уже ждала Полина Дмитриевна.
Погрузились с вещами в тележку. Рядом с нашей лошадью бежал жеребенок. Был прекрасный день. Легкие облака бежали по небу. Кругом поля и пашни. Пахло разогретой землей. Длинноногий жеребенок иногда совсем близко заглядывал к нам в тележку.
Сергей Васильевич несколько раз пытался схватить его за гриву, и, когда ему это не удалось, выпрыгнул из тележки, бросил в нее пальто, кинул мне на колени шляпу и стал ловить жеребенка. Тот, видимо, понял игру. Подпуская Сергея Васильевича совсем к себе близко, он потом, вскинув высоко задние ноги, делал в сторону гигантский прыжок. Приятно было смотреть на оживленное лицо Сергея Васильевича, бегавшего по полю за жеребенком, в то время как мы медленно подвигались вперед.
Тихо и спокойно прожили мы лето в деревенской обстановке. Я довольно много работала. Одна из моих акварелей, изображающая озеро в Гусь-Завод Железном, была впоследствии приобретена Третьяковской галереей[149]. Мы много гуляли. Ходили по лесу, собирали грибы. Сергей Васильевич немедленно организовал разумное грибное хозяйство. Найдя гнездо грибов, он снимал большие, оставляя маленькие расти, прикрыв их ветками или мхом. Когда он замечал в моей корзине маленький гриб, он с укоризной говорил: «Ну, какая тебе охота губить такого малыша».
Это было его последнее лето. Возвращались мы на пароходе до самой Москвы.
На следующее же по приезде в Москву утро мы собрались на выставку картин ленинградских и московских художников. Там меня ожидало большое огорчение. Я не могла сразу найти моих, небольших по размеру вещей[150]. Они были повешены в трех разных местах огромного помещения выставки. Особенно я огорчилась за свою большую картину — натюрморт «Овощи», которую я считала хорошей живописной вещью. Она, нуждавшаяся в большом отходе, была повешена в очень узком проходе между двумя щитами, и настолько низко, что стоявшая публика закрывала ее. Так была сведена на нет хорошая вещь. Я молча стояла, совершенно растерянная от московского «приема». Сергей Васильевич, переживавший то же самое, вдруг ласково положил мне руку на плечо и тихо проговорил: «Асинька, не огорчайся, это пустяки».
В тот же день вечером мы уехали из Москвы.
Несмотря на то что я внешне спокойно перенесла мое огорчение, я сразу по приезде заболела нервным расстройством, проболев весь сентябрь. Нам не повезло. Только я встала с постели, как в октябре заболел Сергей Васильевич. И только с ноября наша жизнь стала постепенно входить в обычное русло — работа, главным образом работа.
В 1932 году Сергей Васильевич был избран в действительные члены Академии наук. Открылись новые возможности, новые обязанности. Ему, как и другим академикам-химикам, начали постройку специальной лаборатории.
Много раз Григорий Васильевич Пеков — первый директор Опытного завода — и другие сотрудники и ученики Сергея Васильевича говорили мне, что мой гражданский долг беречь и охранять его. Конечно, все бытовые дела и заботы я взяла на себя, как делала и раньше.
Еженедельные поездки в Детское Село, несмотря на радость, которую он и давали, приносили мне много хлопот. Теперь они как бы удвоились.
Все это разбивало мое внимание, а также и время для личной творческой работы. Частенько я подходила и с тоской смотрела на свой рабочий стол, не имея возможности сесть за работу. Если просмотреть мою папку того времени, то можно заметить, что ее содержание состоит из беглых и часто незаконченных набросков, не объединенных каким-нибудь общим планом.
Сергей Васильевич хорошо понимал мои переживания и старался мне чем-нибудь помочь. Но он сам был очень занят.
Нередко по дороге на завод он завозил меня в Летний сад, где я работала. А иногда я проезжала и дальше, в конец набережной, откуда шла домой пешком. По дороге любовалась родным городом, которым не уставала восхищаться.
Вспоминается мне один особенный день. Вид Невы был совсем необычный. Несколько времени тому назад она стала, потом, под влиянием оттепели, опять вскрылась. Ветер с Ладожского озера нагнал много льда. Образовались у мостов заторы, и лед стал дыбиться в виде торосов. Между льдом торчали бревна, целые плоты, и четыре застрявших парохода. Вызванный ледокол «Силач» пробивал для них дорогу, чтобы помочь пароходам выйти из сжимавшего их льда.
Над рекой стоял туман. Весь противоположный берег рисовался нежным силуэтом. Над ним простиралась серая ровная пелена, а выше виднелось зимнее желтоватое небо. Темные силуэты пароходов и ледокола живописно выделялись среди взъерошенного льда.
Задумала на эту тему сделать законченную вещь, но условия жизни не дали мне сосредоточиться. И мое намерение осталось только намерением. А этому грош цена…
Ехали мы в Гусь-Завод Железный на пароходе до пристани Забелино, где нас уже ждала Полина Дмитриевна.
Погрузились с вещами в тележку. Рядом с нашей лошадью бежал жеребенок. Был прекрасный день. Легкие облака бежали по небу. Кругом поля и пашни. Пахло разогретой землей. Длинноногий жеребенок иногда совсем близко заглядывал к нам в тележку.
Сергей Васильевич несколько раз пытался схватить его за гриву, и, когда ему это не удалось, выпрыгнул из тележки, бросил в нее пальто, кинул мне на колени шляпу и стал ловить жеребенка. Тот, видимо, понял игру. Подпуская Сергея Васильевича совсем к себе близко, он потом, вскинув высоко задние ноги, делал в сторону гигантский прыжок. Приятно было смотреть на оживленное лицо Сергея Васильевича, бегавшего по полю за жеребенком, в то время как мы медленно подвигались вперед.
Тихо и спокойно прожили мы лето в деревенской обстановке. Я довольно много работала. Одна из моих акварелей, изображающая озеро в Гусь-Завод Железном, была впоследствии приобретена Третьяковской галереей[149]. Мы много гуляли. Ходили по лесу, собирали грибы. Сергей Васильевич немедленно организовал разумное грибное хозяйство. Найдя гнездо грибов, он снимал большие, оставляя маленькие расти, прикрыв их ветками или мхом. Когда он замечал в моей корзине маленький гриб, он с укоризной говорил: «Ну, какая тебе охота губить такого малыша».
Это было его последнее лето. Возвращались мы на пароходе до самой Москвы.
На следующее же по приезде в Москву утро мы собрались на выставку картин ленинградских и московских художников. Там меня ожидало большое огорчение. Я не могла сразу найти моих, небольших по размеру вещей[150]. Они были повешены в трех разных местах огромного помещения выставки. Особенно я огорчилась за свою большую картину — натюрморт «Овощи», которую я считала хорошей живописной вещью. Она, нуждавшаяся в большом отходе, была повешена в очень узком проходе между двумя щитами, и настолько низко, что стоявшая публика закрывала ее. Так была сведена на нет хорошая вещь. Я молча стояла, совершенно растерянная от московского «приема». Сергей Васильевич, переживавший то же самое, вдруг ласково положил мне руку на плечо и тихо проговорил: «Асинька, не огорчайся, это пустяки».
В тот же день вечером мы уехали из Москвы.
Несмотря на то что я внешне спокойно перенесла мое огорчение, я сразу по приезде заболела нервным расстройством, проболев весь сентябрь. Нам не повезло. Только я встала с постели, как в октябре заболел Сергей Васильевич. И только с ноября наша жизнь стала постепенно входить в обычное русло — работа, главным образом работа.
В 1932 году Сергей Васильевич был избран в действительные члены Академии наук. Открылись новые возможности, новые обязанности. Ему, как и другим академикам-химикам, начали постройку специальной лаборатории.
Много раз Григорий Васильевич Пеков — первый директор Опытного завода — и другие сотрудники и ученики Сергея Васильевича говорили мне, что мой гражданский долг беречь и охранять его. Конечно, все бытовые дела и заботы я взяла на себя, как делала и раньше.
Еженедельные поездки в Детское Село, несмотря на радость, которую он и давали, приносили мне много хлопот. Теперь они как бы удвоились.
Все это разбивало мое внимание, а также и время для личной творческой работы. Частенько я подходила и с тоской смотрела на свой рабочий стол, не имея возможности сесть за работу. Если просмотреть мою папку того времени, то можно заметить, что ее содержание состоит из беглых и часто незаконченных набросков, не объединенных каким-нибудь общим планом.
Сергей Васильевич хорошо понимал мои переживания и старался мне чем-нибудь помочь. Но он сам был очень занят.
Нередко по дороге на завод он завозил меня в Летний сад, где я работала. А иногда я проезжала и дальше, в конец набережной, откуда шла домой пешком. По дороге любовалась родным городом, которым не уставала восхищаться.
Вспоминается мне один особенный день. Вид Невы был совсем необычный. Несколько времени тому назад она стала, потом, под влиянием оттепели, опять вскрылась. Ветер с Ладожского озера нагнал много льда. Образовались у мостов заторы, и лед стал дыбиться в виде торосов. Между льдом торчали бревна, целые плоты, и четыре застрявших парохода. Вызванный ледокол «Силач» пробивал для них дорогу, чтобы помочь пароходам выйти из сжимавшего их льда.
Над рекой стоял туман. Весь противоположный берег рисовался нежным силуэтом. Над ним простиралась серая ровная пелена, а выше виднелось зимнее желтоватое небо. Темные силуэты пароходов и ледокола живописно выделялись среди взъерошенного льда.
Задумала на эту тему сделать законченную вещь, но условия жизни не дали мне сосредоточиться. И мое намерение осталось только намерением. А этому грош цена…
 Поляна была покрыта глубоким снегом, доходившим до пояса. Сергей Васильевич решил (он был в валенках) протоптать мне дорожку до того места, откуда я хотела рисовать. Я быстро принялась за работу, а Сергей Васильевич стоял рядом, оберегая меня от пробегавших мимо лыжников.
Это была последняя работа, сделанная мною при ласковой заботе моего мужа…
Надвигалось ужасное событие…
В начале апреля 1934 года Сергей Васильевич был командирован на завод синтетического каучука. Видимо, во время поездки подхватил заразу и, вернувшись домой, слег, чтобы больше не встать.
Сергей Васильевич умер 2 мая 1934 года в 9 часов 15 минут вечера, во время грозы…
С ним я похоронила мою лучшую половину. Несчастье мое до сих пор мне так тяжко, что я не могу спокойно о нем говорить…
Чтобы заглушить душевную боль, я старалась завалить себя работой, главным образом по приведению в порядок дел Сергея Васильевича. Его ученики, Г.В. Пеков, мои родные и друзья старались поддержать меня. Была организована комиссия во главе с А.Е. Фаворским, которая разбирала бумаги Сергея Васильевича.
В посмертном сборнике работ Сергея Васильевича мне пришлось принять близкое участие, так как я взяла на себя оформление и иллюстрации этой обширной книги. В сношениях с типографией и в решении технических вопросов помогал мне Иосиф Александрович Пастернак. В комиссии, работавшей по созданию сборника, приняли участие академик А.Е. Фаворский, профессор В.Я. Курбатов и др. Но энергичнее, целеустремленнее всех была Анастасия Осиповна. Она неутомимо и с огромным упорством и мужеством преодолевала бесчисленные препятствия, выраставшие на пути этого сборника.
Сергей Васильевич незадолго до своей смерти решил просить Сергея Мироновича Кирова принять его. Он хотел поделиться с ним своими мыслями о каучуковой промышленности, просить его совета, рассказать ему о своих затруднениях. Но преждевременная смерть помешала исполнить это намерение.
С самого начала выступления моего мужа на конкурсе по изобретению каучука Сергей Миронович самым пристальным образом следил за этими работами.
Я считала своим долгом перед памятью Сергея Васильевича осуществить его последнее желание, зная, о чем он хотел говорить с Сергеем Мироновичем.
Сергей Миронович не отказал в моей просьбе принять меня. В один из дней конца мая 1934 года мне позвонили из Смольного, что Сергей Миронович меня ждет к трем часам.
Показав свой документ внизу здания, я получила пропуск и поднялась по широкой лестнице на самый верх и вошла в приемную. Мне не пришлось долго ждать. Вскоре мне сказали, что Сергей Миронович меня ожидает.
Я открыла дверь и вошла. Передо мной была обширная комната, у противоположной стены которой стоял большой письменный стол. За ним сидел Сергей Миронович Киров. Увидев меня, он поднялся и пошел навстречу. Мы очень внимательно, серьезно и молча посмотрели друг другу в глаза. Его наружность: среднего роста, широкоплечая фигура могучего сложения. Лицо широкое, скуластое. Прямой короткий нос. Энергично и резко очерченный рот. Небольшие, глубоко сидящие черные глаза. Кожа на лице огрубевшая, красноватая, как у матроса или воина, который много дней провел на воздухе, и в ветер, и в мороз, и на пекле солнца. Лицо чрезвычайно умное. Взгляд проницательный и наблюдательный. Вся фигура отважная, стремительная, со скованным до нужного момента темпераментом.
Он молча указал мне на кресло. Мы сразу стали говорить о делах. У меня была бумажка, на которой я записала то, что мне надо было сказать, я ее положила на стол и, справляясь с ней, стала говорить. Он молча внимательно слушал, потом пододвинул записную книжку и стал в нее записывать, иногда переспрашивая, когда хотел подробнее узнать о том или другом.
При окончании разговора, который продолжался около часа, он мне сказал, что придает большое значение науке, ученым, которые участвуют в росте страны. И между прочим, спросил меня, получил ли что-нибудь Сергей Васильевич за свое изобретение. «Нет, — ответила я, — он ничего не получал. Ни он, ни его сотрудники». Сергей Миронович спросил меня: «Как же это так вышло?»
Тогда я рассказала ему, что Сергей Васильевич еще в 1929 году заключил договор с Резинотрестом о получении за свое изобретение им и его сотрудниками известного процента с производства, и до сих пор, до 1934 года, не предпринял ничего для осуществления этого договора. И только за несколько месяцев до смерти, по предложению своего ближайшего начальника, он договорился на единовременную сумму в миллион рублей для себя и для своих сотрудников, совсем отказываясь получать ежегодный доход с производства, так как получалась очень большая сумма. Причем свою долю, как он мне не раз говорил, Сергей Васильевич хотел отдать на оборудование своей будущей лаборатории в Академии наук. Тогда я прочла Сергею Мироновичу письмо, мною написанное и приготовленное к отсылке в Москву ближайшему начальнику Сергея Васильевича. В этом письме я писала, что, являясь законной наследницей имущества и прав Сергея Васильевича и зная его желание, я отказываюсь от этих денег в пользу постройки химической лаборатории имени Сергея Васильевича Лебедева, в которой продолжались бы работы по намеченному им плану. На это Сергей Миронович спросил меня, окончательно ли я это решила. «Да», — ответила я. Тогда Сергей Миронович, взяв мое письмо, предложил мне сам передать его по назначению.
При этом Сергей Миронович рассказал, как он ценил и как верил Сергею Васильевичу и его объективности и что он не ошибся в нем. Он вспомнил, как однажды пришли к нему химики и сообщили, что ими получен каучук нового, ранее не известного состава. Сергей Миронович предложил организовать комиссию для оценки и рассмотрения его качества и пригласить в эту комиссию Лебедева. Ему ответили: «Да зачем Лебедева! У него свой каучук, он наш захает». Но Сергей Миронович настоял на своем. И что же? Сергей Васильевич был в комиссии и высказал такое мнение: каучук хорош и в некоторых своих особенностях лучше изобретенного им. И чем больше будет разных каучуков, тем лучше будет для государства. Сергей Миронович Киров оказался прав, веря объективности и справедливости Сергея Васильевича.
Через несколько времени началась постройка лаборатории высокомолекулярных соединений имени Сергея Васильевича Лебедева.
Поляна была покрыта глубоким снегом, доходившим до пояса. Сергей Васильевич решил (он был в валенках) протоптать мне дорожку до того места, откуда я хотела рисовать. Я быстро принялась за работу, а Сергей Васильевич стоял рядом, оберегая меня от пробегавших мимо лыжников.
Это была последняя работа, сделанная мною при ласковой заботе моего мужа…
Надвигалось ужасное событие…
В начале апреля 1934 года Сергей Васильевич был командирован на завод синтетического каучука. Видимо, во время поездки подхватил заразу и, вернувшись домой, слег, чтобы больше не встать.
Сергей Васильевич умер 2 мая 1934 года в 9 часов 15 минут вечера, во время грозы…
С ним я похоронила мою лучшую половину. Несчастье мое до сих пор мне так тяжко, что я не могу спокойно о нем говорить…
Чтобы заглушить душевную боль, я старалась завалить себя работой, главным образом по приведению в порядок дел Сергея Васильевича. Его ученики, Г.В. Пеков, мои родные и друзья старались поддержать меня. Была организована комиссия во главе с А.Е. Фаворским, которая разбирала бумаги Сергея Васильевича.
В посмертном сборнике работ Сергея Васильевича мне пришлось принять близкое участие, так как я взяла на себя оформление и иллюстрации этой обширной книги. В сношениях с типографией и в решении технических вопросов помогал мне Иосиф Александрович Пастернак. В комиссии, работавшей по созданию сборника, приняли участие академик А.Е. Фаворский, профессор В.Я. Курбатов и др. Но энергичнее, целеустремленнее всех была Анастасия Осиповна. Она неутомимо и с огромным упорством и мужеством преодолевала бесчисленные препятствия, выраставшие на пути этого сборника.
Сергей Васильевич незадолго до своей смерти решил просить Сергея Мироновича Кирова принять его. Он хотел поделиться с ним своими мыслями о каучуковой промышленности, просить его совета, рассказать ему о своих затруднениях. Но преждевременная смерть помешала исполнить это намерение.
С самого начала выступления моего мужа на конкурсе по изобретению каучука Сергей Миронович самым пристальным образом следил за этими работами.
Я считала своим долгом перед памятью Сергея Васильевича осуществить его последнее желание, зная, о чем он хотел говорить с Сергеем Мироновичем.
Сергей Миронович не отказал в моей просьбе принять меня. В один из дней конца мая 1934 года мне позвонили из Смольного, что Сергей Миронович меня ждет к трем часам.
Показав свой документ внизу здания, я получила пропуск и поднялась по широкой лестнице на самый верх и вошла в приемную. Мне не пришлось долго ждать. Вскоре мне сказали, что Сергей Миронович меня ожидает.
Я открыла дверь и вошла. Передо мной была обширная комната, у противоположной стены которой стоял большой письменный стол. За ним сидел Сергей Миронович Киров. Увидев меня, он поднялся и пошел навстречу. Мы очень внимательно, серьезно и молча посмотрели друг другу в глаза. Его наружность: среднего роста, широкоплечая фигура могучего сложения. Лицо широкое, скуластое. Прямой короткий нос. Энергично и резко очерченный рот. Небольшие, глубоко сидящие черные глаза. Кожа на лице огрубевшая, красноватая, как у матроса или воина, который много дней провел на воздухе, и в ветер, и в мороз, и на пекле солнца. Лицо чрезвычайно умное. Взгляд проницательный и наблюдательный. Вся фигура отважная, стремительная, со скованным до нужного момента темпераментом.
Он молча указал мне на кресло. Мы сразу стали говорить о делах. У меня была бумажка, на которой я записала то, что мне надо было сказать, я ее положила на стол и, справляясь с ней, стала говорить. Он молча внимательно слушал, потом пододвинул записную книжку и стал в нее записывать, иногда переспрашивая, когда хотел подробнее узнать о том или другом.
При окончании разговора, который продолжался около часа, он мне сказал, что придает большое значение науке, ученым, которые участвуют в росте страны. И между прочим, спросил меня, получил ли что-нибудь Сергей Васильевич за свое изобретение. «Нет, — ответила я, — он ничего не получал. Ни он, ни его сотрудники». Сергей Миронович спросил меня: «Как же это так вышло?»
Тогда я рассказала ему, что Сергей Васильевич еще в 1929 году заключил договор с Резинотрестом о получении за свое изобретение им и его сотрудниками известного процента с производства, и до сих пор, до 1934 года, не предпринял ничего для осуществления этого договора. И только за несколько месяцев до смерти, по предложению своего ближайшего начальника, он договорился на единовременную сумму в миллион рублей для себя и для своих сотрудников, совсем отказываясь получать ежегодный доход с производства, так как получалась очень большая сумма. Причем свою долю, как он мне не раз говорил, Сергей Васильевич хотел отдать на оборудование своей будущей лаборатории в Академии наук. Тогда я прочла Сергею Мироновичу письмо, мною написанное и приготовленное к отсылке в Москву ближайшему начальнику Сергея Васильевича. В этом письме я писала, что, являясь законной наследницей имущества и прав Сергея Васильевича и зная его желание, я отказываюсь от этих денег в пользу постройки химической лаборатории имени Сергея Васильевича Лебедева, в которой продолжались бы работы по намеченному им плану. На это Сергей Миронович спросил меня, окончательно ли я это решила. «Да», — ответила я. Тогда Сергей Миронович, взяв мое письмо, предложил мне сам передать его по назначению.
При этом Сергей Миронович рассказал, как он ценил и как верил Сергею Васильевичу и его объективности и что он не ошибся в нем. Он вспомнил, как однажды пришли к нему химики и сообщили, что ими получен каучук нового, ранее не известного состава. Сергей Миронович предложил организовать комиссию для оценки и рассмотрения его качества и пригласить в эту комиссию Лебедева. Ему ответили: «Да зачем Лебедева! У него свой каучук, он наш захает». Но Сергей Миронович настоял на своем. И что же? Сергей Васильевич был в комиссии и высказал такое мнение: каучук хорош и в некоторых своих особенностях лучше изобретенного им. И чем больше будет разных каучуков, тем лучше будет для государства. Сергей Миронович Киров оказался прав, веря объективности и справедливости Сергея Васильевича.
Через несколько времени началась постройка лаборатории высокомолекулярных соединений имени Сергея Васильевича Лебедева.
 В издании сборника его научных трудов я принимала большое участие, так как всю художественную сторону этого издания я взяла на себя. Это был большой труд, отнимавший у меня много внимания и времени…
В 1937 г[оду] Евг[ений] Евг[еньевич] Лансере уговорил меня поехать с ним в Москву и там написать портреты его и Ольги Константиновны Лансере. Он несколько раз уже просил меня исполнить его просьбу и напоминал мне об этом.
Кроме того, у меня была задача, находясь в Москве, как-нибудь ускорить печатание посмертного сборника научных трудов Сергея Васильевича или, по крайней мере, узнать причины остановки издания.
К моему большому огорчению, портрет Евгения Ев[геньеви]ча мне совершенно не удался. Если бы это была масляная живопись, то я бы добилась хоть приличного конца, но акварельная живопись не терпит переделок: бумага скоро утомляется, краски теряют свою свежесть, а техника — легкость и свободу.
Никогда так напряженно и усиленно я не работала, и, кажется, никогда так не хотела сделать хорошо! И какая неудача! И в то же время портрет (тоже акварельный) Ольги Константиновны Лансере я исполнила успешно[170]. Ее оригинальная красота меня очень увлекла.
Вместе с Е.Е. Лансере посетила в Москве Михаила Васильевича Нестерова. Он совсем не переменился с тех пор, как я его видела. Совсем не постарел и такой же худенький, как всегда. Он показывал свои работы. Делалось это по определенному ритуалу. Нас просили уйти из первой комнаты, где он обыкновенно работал, в маленькую спальню, и за нами закрыли дверь. Через несколько минут ее открыли. Мы вошли. Напротив двери, в большой комнате, стоял мольберт, на нем картина, освещенная лампой из люстры, свет которой от нас был прикрыт картонным козырьком. Полюбовавшись картиной, мы опять уходили в спальню, чтобы в таком же порядке смотреть следующую.
Он показал нам целый ряд великолепных портретов. Особенно мне понравились два портрета-этюда его сына. На одном он был своеобразно одет, мы решили, что контрабандистом, на другом — с красной повязкой на голове и с красным кушаком. Оба портрета исполнены очень хорошо в холодной гамме, в зелено-серых тонах. На одном из показанных нам портретов изображена молодая женщина в черном платье. За нею на полке — скульптурный женский бюст. Видели портрет певицы К.Г. Держинской[171] и многие другие.
Мих[аил] Вас[ильевич] в те дни писал статью о Левитане. Он мне когда-то много рассказывал о нем, очень тонко, остро и любовно характеризуя своего покойного друга[172].
Сам Мих[аил] Вас[ильевич] произвел на меня сильное впечатление тонким умом, неподкупностью своих художественных идеалов, горячим сердцем и пылким темпераментом художника…
Познакомилась с двумя дочерьми Валентина Александровича Серова, с Ольгой и Натальей[173]. Наталья Валентиновна, самая младшая в семье, незадолго перед этим приехала из Парижа.
Чарующее впечатление произвела она на меня. Небольшого роста, стройная фигура. Темно-русые волосы, спереди гладко зачесанные. Открытый выпуклый лоб (отцовский). Большие, глубоко сидящие серые глаза, с очень внимательным серьезным взглядом, нос с горбинкой (от бабушки Серовой), маленький хорошенький рот и жемчужные зубки.
Много рассказывала о наших художниках, живущих за границей. Говорила про Константина Коровина, как он работает, как живет. Французы его как художника знают и ценят.
Рассказывала про дружбу Коровина с Шаляпиным, как они постоянно при этом ссорятся, как Коровин подсмеивается над Шаляпиным…
Видела в этот приезд многих своих друзей по Коктебелю.
Но самое главное, зачем я приехала — написать портрет Евгения Евгеньевича, — я не исполнила, и ускорить дела со сборником мне тоже не удалось, несмотря на обещания, полученные в Москве.
Во время моего пребывания в Москве одни мои знакомые передали мне, что Бакушинский, заведующий отделом акварели и графики Третьяковской галереи, узнав о моем приезде, просил их устроить ему свидание со мной[174]. Потом он позвонил к Е.Е. Лансере и просил его мне передать о том же.
Я его раньше не знала.
Вместе с Евгением Евгеньевичем я поехала в Третьяковскую галерею и там неожиданно услышала, что моя персональная выставка назначена на май месяц 1937 года. А я приехала в Москву 17 марта!
Ясно, что за такой короткий срок устроить ее нельзя. Многие вещи находятся в музеях, в разных концах Родины.
За последние годы мне несколько раз предлагали устроить мою персональную выставку, но я каждый раз отклоняла это предложение, так как находилась в очень подавленном состоянии после смерти моего мужа. Познакомилась с директором Третьяковской галереи Кристи[175]. Он согласился со мной, что лучше срок назначить на октябрь 1937 года, а потом, не помню почему, пришлось ее перенести на первую половину 1938 года. И на этом все окончилось.
Когда мы приехали в Третьяковскую галерею, нас провели в кабинет рисунка и акварели, где показали мне мои работы, находящиеся у них не выставленными. Сотрудницы галереи окружили меня и начали подробно расспрашивать о процессе моей работы и о разных технических приемах. Это было для меня неожиданно, тем более что сотрудницы все мои слова записывали. Это еще более заставляло меня быть точной и взвешивать каждое слово[176].
При рассматривании моих вещей я выслушала от Бакушинского замечание, что им «неудобно держать в папках акварели, наклеенные на картон». В ответ на это я ему сказала, что я всю жизнь стремилась это делать и очень жалею, что не все акварели мне удалось наклеить.
Пуская их в жизнь, в незнакомые руки, я этим ограждала акварели от случайных сгибов, разрывов, от следов пальцев, пока они, наконец, не попадали под оберегавшее их стекло.
При этом должна заметить, что картон я обрезала по самому краю акварели, не оставляя вокруг нее белого паспарту.
Искусствоведы, да часто и сами художники, стремятся положить акварель на белое бумажное паспарту. Эти белые пятна, по моему мнению, совершенно убивают живопись. По сравнению с белой бумагой живопись, конечно, всегда кажется тусклой и глухой, и какой смысл в белом паспарту, я никогда не могла понять.
Если акварель имеет вид подкрашенного рисунка, то паспарту ей не поможет, но если она отвечает всем требованиям настоящей полноценной живописи, зачем же ее распинать на белом бумажном поле, тем самым ее уничтожая.
Такой чудесный художник, как А.А. Рылов, мне не раз говорил: «Акварель должна быть по фактуре легкой и прозрачной и небольшого размера».
Почему так? Размер ее, конечно, ограничен размером бумаги — с этим я согласна. Но почему она не может быть плотной, насыщенной и яркой, если художник к этому стремится? Почему ей ставить какие-то пределы?
Художник может дерзать на все, в любом материале, в любой технике, но с условием быть искренним, правдивым в своем восприятии натуры!
Вернулась я в Ленинград вместе с Марией Степановной Волошиной, которая погостила у меня. Была ранняя весна. Мы часто ездили на Острова, где я с большим увлечением изображала окружающие виды. И это сказалось на работе. Они были удачны.
В издании сборника его научных трудов я принимала большое участие, так как всю художественную сторону этого издания я взяла на себя. Это был большой труд, отнимавший у меня много внимания и времени…
В 1937 г[оду] Евг[ений] Евг[еньевич] Лансере уговорил меня поехать с ним в Москву и там написать портреты его и Ольги Константиновны Лансере. Он несколько раз уже просил меня исполнить его просьбу и напоминал мне об этом.
Кроме того, у меня была задача, находясь в Москве, как-нибудь ускорить печатание посмертного сборника научных трудов Сергея Васильевича или, по крайней мере, узнать причины остановки издания.
К моему большому огорчению, портрет Евгения Ев[геньеви]ча мне совершенно не удался. Если бы это была масляная живопись, то я бы добилась хоть приличного конца, но акварельная живопись не терпит переделок: бумага скоро утомляется, краски теряют свою свежесть, а техника — легкость и свободу.
Никогда так напряженно и усиленно я не работала, и, кажется, никогда так не хотела сделать хорошо! И какая неудача! И в то же время портрет (тоже акварельный) Ольги Константиновны Лансере я исполнила успешно[170]. Ее оригинальная красота меня очень увлекла.
Вместе с Е.Е. Лансере посетила в Москве Михаила Васильевича Нестерова. Он совсем не переменился с тех пор, как я его видела. Совсем не постарел и такой же худенький, как всегда. Он показывал свои работы. Делалось это по определенному ритуалу. Нас просили уйти из первой комнаты, где он обыкновенно работал, в маленькую спальню, и за нами закрыли дверь. Через несколько минут ее открыли. Мы вошли. Напротив двери, в большой комнате, стоял мольберт, на нем картина, освещенная лампой из люстры, свет которой от нас был прикрыт картонным козырьком. Полюбовавшись картиной, мы опять уходили в спальню, чтобы в таком же порядке смотреть следующую.
Он показал нам целый ряд великолепных портретов. Особенно мне понравились два портрета-этюда его сына. На одном он был своеобразно одет, мы решили, что контрабандистом, на другом — с красной повязкой на голове и с красным кушаком. Оба портрета исполнены очень хорошо в холодной гамме, в зелено-серых тонах. На одном из показанных нам портретов изображена молодая женщина в черном платье. За нею на полке — скульптурный женский бюст. Видели портрет певицы К.Г. Держинской[171] и многие другие.
Мих[аил] Вас[ильевич] в те дни писал статью о Левитане. Он мне когда-то много рассказывал о нем, очень тонко, остро и любовно характеризуя своего покойного друга[172].
Сам Мих[аил] Вас[ильевич] произвел на меня сильное впечатление тонким умом, неподкупностью своих художественных идеалов, горячим сердцем и пылким темпераментом художника…
Познакомилась с двумя дочерьми Валентина Александровича Серова, с Ольгой и Натальей[173]. Наталья Валентиновна, самая младшая в семье, незадолго перед этим приехала из Парижа.
Чарующее впечатление произвела она на меня. Небольшого роста, стройная фигура. Темно-русые волосы, спереди гладко зачесанные. Открытый выпуклый лоб (отцовский). Большие, глубоко сидящие серые глаза, с очень внимательным серьезным взглядом, нос с горбинкой (от бабушки Серовой), маленький хорошенький рот и жемчужные зубки.
Много рассказывала о наших художниках, живущих за границей. Говорила про Константина Коровина, как он работает, как живет. Французы его как художника знают и ценят.
Рассказывала про дружбу Коровина с Шаляпиным, как они постоянно при этом ссорятся, как Коровин подсмеивается над Шаляпиным…
Видела в этот приезд многих своих друзей по Коктебелю.
Но самое главное, зачем я приехала — написать портрет Евгения Евгеньевича, — я не исполнила, и ускорить дела со сборником мне тоже не удалось, несмотря на обещания, полученные в Москве.
Во время моего пребывания в Москве одни мои знакомые передали мне, что Бакушинский, заведующий отделом акварели и графики Третьяковской галереи, узнав о моем приезде, просил их устроить ему свидание со мной[174]. Потом он позвонил к Е.Е. Лансере и просил его мне передать о том же.
Я его раньше не знала.
Вместе с Евгением Евгеньевичем я поехала в Третьяковскую галерею и там неожиданно услышала, что моя персональная выставка назначена на май месяц 1937 года. А я приехала в Москву 17 марта!
Ясно, что за такой короткий срок устроить ее нельзя. Многие вещи находятся в музеях, в разных концах Родины.
За последние годы мне несколько раз предлагали устроить мою персональную выставку, но я каждый раз отклоняла это предложение, так как находилась в очень подавленном состоянии после смерти моего мужа. Познакомилась с директором Третьяковской галереи Кристи[175]. Он согласился со мной, что лучше срок назначить на октябрь 1937 года, а потом, не помню почему, пришлось ее перенести на первую половину 1938 года. И на этом все окончилось.
Когда мы приехали в Третьяковскую галерею, нас провели в кабинет рисунка и акварели, где показали мне мои работы, находящиеся у них не выставленными. Сотрудницы галереи окружили меня и начали подробно расспрашивать о процессе моей работы и о разных технических приемах. Это было для меня неожиданно, тем более что сотрудницы все мои слова записывали. Это еще более заставляло меня быть точной и взвешивать каждое слово[176].
При рассматривании моих вещей я выслушала от Бакушинского замечание, что им «неудобно держать в папках акварели, наклеенные на картон». В ответ на это я ему сказала, что я всю жизнь стремилась это делать и очень жалею, что не все акварели мне удалось наклеить.
Пуская их в жизнь, в незнакомые руки, я этим ограждала акварели от случайных сгибов, разрывов, от следов пальцев, пока они, наконец, не попадали под оберегавшее их стекло.
При этом должна заметить, что картон я обрезала по самому краю акварели, не оставляя вокруг нее белого паспарту.
Искусствоведы, да часто и сами художники, стремятся положить акварель на белое бумажное паспарту. Эти белые пятна, по моему мнению, совершенно убивают живопись. По сравнению с белой бумагой живопись, конечно, всегда кажется тусклой и глухой, и какой смысл в белом паспарту, я никогда не могла понять.
Если акварель имеет вид подкрашенного рисунка, то паспарту ей не поможет, но если она отвечает всем требованиям настоящей полноценной живописи, зачем же ее распинать на белом бумажном поле, тем самым ее уничтожая.
Такой чудесный художник, как А.А. Рылов, мне не раз говорил: «Акварель должна быть по фактуре легкой и прозрачной и небольшого размера».
Почему так? Размер ее, конечно, ограничен размером бумаги — с этим я согласна. Но почему она не может быть плотной, насыщенной и яркой, если художник к этому стремится? Почему ей ставить какие-то пределы?
Художник может дерзать на все, в любом материале, в любой технике, но с условием быть искренним, правдивым в своем восприятии натуры!
Вернулась я в Ленинград вместе с Марией Степановной Волошиной, которая погостила у меня. Была ранняя весна. Мы часто ездили на Острова, где я с большим увлечением изображала окружающие виды. И это сказалось на работе. Они были удачны.
 Лето 1937 года я прожила в Детском Селе, ныне город Пушкин. Татьяна Руфовна Златогорова делила со мной и время, и заботы. В сущности, заботу о хозяйстве она полностью взяла на себя. Но мне тяжело было там жить. Все вокруг напоминало о Сергее Васильевиче. Куда бы я здесь ни пошла, на всем лежала его печать.
Проходила ли я мимо знакомой большой лиственницы в Александровском парке, я вспоминала, как он прозвал ее «десятисвечником» и любовался ею во всякое время года. И летом, когда она стояла пушистая, в зеленых, мягких иглах, и осенью, когда она, усеяв всю землю вокруг себя лимонно-желтыми нежными иглами, стояла обнаженная, еще яснее показывая свои десять причудливых ветвей, а несколько шагов дальше, по этой же дороге мы проходили когда-то мимо изящной плакучей березы. Он мне не раз говорил: «Сделай же ты мне когда-нибудь гравюру или рисунок, ну, совсем маленький — ветви плакучей березы без листьев на фоне дубовых веток, ну, прошу тебя, сделай!»
За очаровательной березой по обе стороны дороги простирались изумрудные луга с купами деревьев. Затем мы подходили к Арсеналу. Кирпичное здание в стиле английской архитектуры. Мы много раз стояли здесь и смотрели, как сверху, с крыши его, с маленького мостика, спортсмены бросались вниз с большими парашютами.
А дальше очаровательный мост между прудами. По сторонам его серебристые вербы. Это был наш конечный пункт. Мы долго обыкновенно стояли здесь, любуясь пейзажем и тихо беседуя… Что-то не работается. Забрала с собою много книг. Письма В.А. Серова. Эта книжка не вполне меня удовлетворила, нет объективности у автора…
Только что прочла Гете «Поездку по Италии». Превосходно. Как жаль, что он, путешествуя, мало находил времени для дневника. В некоторых местах книги чувствуются большие провалы, особенно во время его пребывания в Риме, и такая досада берет. О Риме он, собственно, пишет довольно мало. Несмотря на это, книга мне доставила огромное удовольствие. Ясно представляла себе широко раскрытые глаза Гете, которые жадно на все смотрели. Какой замечательный человек! Потом читала Дени Дидро — письма к Гримму — очень хорошо[177]!
Взяв с собою и книги и работу, мы с Татьяной Руфовной утром отправлялись в Екатерининский парк, садились сзади павильона, который прежде назывался Музыкальным салоном. Взяв плетеные кресла, мы уютно усаживались в тени под громадным раскидистым кленом. С правой стороны зеленой ширмой росли густые кусты сирени, за ними блестел узкий длинный пруд. Место это было уединенно. Клен бросал чудесную тень и сохранял утреннюю прохладу. Разлапистые его листья горели светлым изумрудом и колебались от легкого ветерка.
Это был наш любимый уголок, где мы проводили много времени.
Так прошло лето 1937 года.
Лето 1937 года я прожила в Детском Селе, ныне город Пушкин. Татьяна Руфовна Златогорова делила со мной и время, и заботы. В сущности, заботу о хозяйстве она полностью взяла на себя. Но мне тяжело было там жить. Все вокруг напоминало о Сергее Васильевиче. Куда бы я здесь ни пошла, на всем лежала его печать.
Проходила ли я мимо знакомой большой лиственницы в Александровском парке, я вспоминала, как он прозвал ее «десятисвечником» и любовался ею во всякое время года. И летом, когда она стояла пушистая, в зеленых, мягких иглах, и осенью, когда она, усеяв всю землю вокруг себя лимонно-желтыми нежными иглами, стояла обнаженная, еще яснее показывая свои десять причудливых ветвей, а несколько шагов дальше, по этой же дороге мы проходили когда-то мимо изящной плакучей березы. Он мне не раз говорил: «Сделай же ты мне когда-нибудь гравюру или рисунок, ну, совсем маленький — ветви плакучей березы без листьев на фоне дубовых веток, ну, прошу тебя, сделай!»
За очаровательной березой по обе стороны дороги простирались изумрудные луга с купами деревьев. Затем мы подходили к Арсеналу. Кирпичное здание в стиле английской архитектуры. Мы много раз стояли здесь и смотрели, как сверху, с крыши его, с маленького мостика, спортсмены бросались вниз с большими парашютами.
А дальше очаровательный мост между прудами. По сторонам его серебристые вербы. Это был наш конечный пункт. Мы долго обыкновенно стояли здесь, любуясь пейзажем и тихо беседуя… Что-то не работается. Забрала с собою много книг. Письма В.А. Серова. Эта книжка не вполне меня удовлетворила, нет объективности у автора…
Только что прочла Гете «Поездку по Италии». Превосходно. Как жаль, что он, путешествуя, мало находил времени для дневника. В некоторых местах книги чувствуются большие провалы, особенно во время его пребывания в Риме, и такая досада берет. О Риме он, собственно, пишет довольно мало. Несмотря на это, книга мне доставила огромное удовольствие. Ясно представляла себе широко раскрытые глаза Гете, которые жадно на все смотрели. Какой замечательный человек! Потом читала Дени Дидро — письма к Гримму — очень хорошо[177]!
Взяв с собою и книги и работу, мы с Татьяной Руфовной утром отправлялись в Екатерининский парк, садились сзади павильона, который прежде назывался Музыкальным салоном. Взяв плетеные кресла, мы уютно усаживались в тени под громадным раскидистым кленом. С правой стороны зеленой ширмой росли густые кусты сирени, за ними блестел узкий длинный пруд. Место это было уединенно. Клен бросал чудесную тень и сохранял утреннюю прохладу. Разлапистые его листья горели светлым изумрудом и колебались от легкого ветерка.
Это был наш любимый уголок, где мы проводили много времени.
Так прошло лето 1937 года.
 Часто по вечерам я делала одинокие прогулки, что очень любила. Шла обыкновенно по дороге, ведущей к месту бывших каменных ворот (они сейчас разобраны). Вдоль дороги, в 4 ряда, росли березы, которые при заходящем солнце бросали на нее тени. Дорога заросла травой, и бесчисленные цветы пестрели в ней. Я любовалась красавицей дремой, аграфеной-купальщицей, иван-да-марьей, клевером, куколем и сотнями других.
Дорога тянулась по лугам и пашням не меньше километра. Возвращаясь назад, я поворачивала налево, на другую дорогу, идущую между полями клевера, картофеля и спеющей ржи. По краю дороги росли большие рябины с ярко-красными спеющими гроздьями ягод. Два раза дорога опускалась в короткие низины, и деревня Григорово, которая была передо мною, два раза исчезала из виду, точно сквозь землю проваливалась, а потом опять, когда дорога подымалась, постепенно деревня вырастала.
Я часто садилась на траву. Совсем близко перед моими глазами шевелились стебли овса на фоне вечернего неба. Своим нежным, темным силуэтом они казались какими-то неведомыми большими растениями. Колосинки на тонких нитях непрестанно колебались от дуновения теплого, ласкового ветра. Вдали виднелись дома деревушки и группа деревьев старого «Борка». Изредка мягко доносилось мычание коров, блеяние овец и голоса возвращавшихся с сенокоса. Но это не нарушало близкой тишины, она была еще глубже на фоне смягченных, отдаленных звуков.
Запомнилась мне одна встреча, которая оставила во мне живое впечатление.
Однажды утром, встав раньше Морозовых и проходя тихонько через столовую, я неожиданно встретила незнакомого пожилого человека, который при виде меня подошел и назвал себя. Он был большого роста, лицо по чертам выразительное, свежее, загорелое. На нем была русская рубаха и сапоги до колен. Когда я назвала свою фамилию, он спросил, не являюсь ли я родственницей автору одной небольшой книжки, которую он незадолго до этого прочел. Когда он узнал, что я автор этой книжки, он меня ласково обнял, а книжку стал очень хвалить. Это был старый литератор, работавший много лет в периодических журналах, — Золотарев Алексей Алексеевич[181]. Он был старинным другом Николая Александровича и пришел пешком из города Мологи, где постоянно жил. Был он живой, интересный человек, и с ним приятно было побеседовать. Он прожил несколько дней и так же внезапно ушел пешком домой…
Однажды, уже в августе, мы всей компанией отправились на Волгу. Был жаркий день. 5 километров прошли незаметно. Когда пришли на Волгу, быстро спустились вниз, вброд перешли затоны и перебрались на ее чудесный светлый песчаный бережок. Там дул такой упоительный свежий ветер.
Мужчины развели огонь, вскипятили воду и, сидя по-турецки, пили чай и закусывали. Когда я легла на песок, то легкий ветерок, срывая на ходу мелкие песчинки, щекотал мне шею, лицо и руки. Еще несколько раз мы проделывали эту упоительную прогулку…
В августе я вернулась домой.
Часто по вечерам я делала одинокие прогулки, что очень любила. Шла обыкновенно по дороге, ведущей к месту бывших каменных ворот (они сейчас разобраны). Вдоль дороги, в 4 ряда, росли березы, которые при заходящем солнце бросали на нее тени. Дорога заросла травой, и бесчисленные цветы пестрели в ней. Я любовалась красавицей дремой, аграфеной-купальщицей, иван-да-марьей, клевером, куколем и сотнями других.
Дорога тянулась по лугам и пашням не меньше километра. Возвращаясь назад, я поворачивала налево, на другую дорогу, идущую между полями клевера, картофеля и спеющей ржи. По краю дороги росли большие рябины с ярко-красными спеющими гроздьями ягод. Два раза дорога опускалась в короткие низины, и деревня Григорово, которая была передо мною, два раза исчезала из виду, точно сквозь землю проваливалась, а потом опять, когда дорога подымалась, постепенно деревня вырастала.
Я часто садилась на траву. Совсем близко перед моими глазами шевелились стебли овса на фоне вечернего неба. Своим нежным, темным силуэтом они казались какими-то неведомыми большими растениями. Колосинки на тонких нитях непрестанно колебались от дуновения теплого, ласкового ветра. Вдали виднелись дома деревушки и группа деревьев старого «Борка». Изредка мягко доносилось мычание коров, блеяние овец и голоса возвращавшихся с сенокоса. Но это не нарушало близкой тишины, она была еще глубже на фоне смягченных, отдаленных звуков.
Запомнилась мне одна встреча, которая оставила во мне живое впечатление.
Однажды утром, встав раньше Морозовых и проходя тихонько через столовую, я неожиданно встретила незнакомого пожилого человека, который при виде меня подошел и назвал себя. Он был большого роста, лицо по чертам выразительное, свежее, загорелое. На нем была русская рубаха и сапоги до колен. Когда я назвала свою фамилию, он спросил, не являюсь ли я родственницей автору одной небольшой книжки, которую он незадолго до этого прочел. Когда он узнал, что я автор этой книжки, он меня ласково обнял, а книжку стал очень хвалить. Это был старый литератор, работавший много лет в периодических журналах, — Золотарев Алексей Алексеевич[181]. Он был старинным другом Николая Александровича и пришел пешком из города Мологи, где постоянно жил. Был он живой, интересный человек, и с ним приятно было побеседовать. Он прожил несколько дней и так же внезапно ушел пешком домой…
Однажды, уже в августе, мы всей компанией отправились на Волгу. Был жаркий день. 5 километров прошли незаметно. Когда пришли на Волгу, быстро спустились вниз, вброд перешли затоны и перебрались на ее чудесный светлый песчаный бережок. Там дул такой упоительный свежий ветер.
Мужчины развели огонь, вскипятили воду и, сидя по-турецки, пили чай и закусывали. Когда я легла на песок, то легкий ветерок, срывая на ходу мелкие песчинки, щекотал мне шею, лицо и руки. Еще несколько раз мы проделывали эту упоительную прогулку…
В августе я вернулась домой.
 Между прочим, он уговорил меня сделать автопортрет к моей будущей выставке[196]. Меня эта мысль увлекла, и я на следующий же день принялась за работу. Решила сделать его во весь размер листа ватмана. Наметила лицо и фигуру в натуральную величину. В одной руке я держу кисть, в другой акварельный ящик. Сразу начала набрасывать рисунок кистью легким нейтральным тоном, не прибегая к карандашу. Начала работать с большим увлечением, но сразу увидела безрассудство затевать такую большую акварель. Размер настолько был велик, что доску положить в нормальное для акварели положение — с легким наклоном — нельзя. И рука при этом не достает до верха, и рисунок получается в сильном ракурсе. Пришлось доску с бумагой поставить почти вертикально, другого выхода не было, и здесь получилась непредвиденная беда: нельзя работать большими мазками, большими планами. Мазки сразу превращаются в струи окрашенной воды, которые стремительно стекают вниз. Это настоящее бедствие. Приходилось работать мелкими мазками (как я говорю, «тяпать») и полусухой кистью, чтобы вода не скоплялась внизу каждого мазка. По моим понятиям, такая трактовка натуры была мало художественна и выразительна, но, несмотря на все, я работала с большим увлечением и подъемом. К моему сожалению, условия этой работы предопределяли заранее прием и технику, которые были не в моем характере.
Чтобы несколько освежить живопись портрета, я в некоторых местах, особенно в складках одежды, тронула пастелью. В конце концов портрет вышел похож и неплохо сделан…
Между прочим, он уговорил меня сделать автопортрет к моей будущей выставке[196]. Меня эта мысль увлекла, и я на следующий же день принялась за работу. Решила сделать его во весь размер листа ватмана. Наметила лицо и фигуру в натуральную величину. В одной руке я держу кисть, в другой акварельный ящик. Сразу начала набрасывать рисунок кистью легким нейтральным тоном, не прибегая к карандашу. Начала работать с большим увлечением, но сразу увидела безрассудство затевать такую большую акварель. Размер настолько был велик, что доску положить в нормальное для акварели положение — с легким наклоном — нельзя. И рука при этом не достает до верха, и рисунок получается в сильном ракурсе. Пришлось доску с бумагой поставить почти вертикально, другого выхода не было, и здесь получилась непредвиденная беда: нельзя работать большими мазками, большими планами. Мазки сразу превращаются в струи окрашенной воды, которые стремительно стекают вниз. Это настоящее бедствие. Приходилось работать мелкими мазками (как я говорю, «тяпать») и полусухой кистью, чтобы вода не скоплялась внизу каждого мазка. По моим понятиям, такая трактовка натуры была мало художественна и выразительна, но, несмотря на все, я работала с большим увлечением и подъемом. К моему сожалению, условия этой работы предопределяли заранее прием и технику, которые были не в моем характере.
Чтобы несколько освежить живопись портрета, я в некоторых местах, особенно в складках одежды, тронула пастелью. В конце концов портрет вышел похож и неплохо сделан…
 12 мая она была открыта. Меня встретила администрация музея во главе с Николаем Алексеевичем и публика ласково и внимательно. Выставка была устроена заботливо, с большим умом и вкусом. Бригада, работавшая над экспозицией выставки, состояла из четырех научных сотрудников музея и одной младшей служащей: бригадир П.Е. Корнилов, К.Е. Костенко, Н.В. Петошина, И.О. Могилевская и Женя. Все были терпеливы, энергичны, неутомимы и благожелательны. Работали с энтузиазмом и подъемом. Пришлось очень много работать над усвоением материала, который я представила на выставку. Он был очень разнообразный и по технике исполнения и по темам[198]. Ориентироваться в нем и построить нечто цельное и стройное было нелегко. (Всех вещей было 642. Из них — 43 портрета, живописи и рисунка — 415, гравюр — 200, литографий — 25.) Но бригада с экспозицией справилась отлично, и я им глубоко благодарна за то, что они следовали моим советам и желаниям. Выставка была построена в историческом аспекте и расположена в хронологическом порядке.
Мы решили выделить в первом зале живопись маслом (50 вещей), так как мои ранние работы проходили в масляной живописи. Мы хотели показать весь пройденный мною путь в этой области, кончая портретом академика Н.А. Морозова 1938 года. Маслом я вообще работала мало, о причинах этого я уже говорила…
Что мне самой больше всего нравилось на выставке, если мне посмотреть на нее глазами постороннего зрителя? Я бы сказала: «Испания» по колориту и красочной насыщенности, по стилю — «Пункахариу», а по лирике — «Павловски», «Острова» и многие «Ленин-грады».
12 мая она была открыта. Меня встретила администрация музея во главе с Николаем Алексеевичем и публика ласково и внимательно. Выставка была устроена заботливо, с большим умом и вкусом. Бригада, работавшая над экспозицией выставки, состояла из четырех научных сотрудников музея и одной младшей служащей: бригадир П.Е. Корнилов, К.Е. Костенко, Н.В. Петошина, И.О. Могилевская и Женя. Все были терпеливы, энергичны, неутомимы и благожелательны. Работали с энтузиазмом и подъемом. Пришлось очень много работать над усвоением материала, который я представила на выставку. Он был очень разнообразный и по технике исполнения и по темам[198]. Ориентироваться в нем и построить нечто цельное и стройное было нелегко. (Всех вещей было 642. Из них — 43 портрета, живописи и рисунка — 415, гравюр — 200, литографий — 25.) Но бригада с экспозицией справилась отлично, и я им глубоко благодарна за то, что они следовали моим советам и желаниям. Выставка была построена в историческом аспекте и расположена в хронологическом порядке.
Мы решили выделить в первом зале живопись маслом (50 вещей), так как мои ранние работы проходили в масляной живописи. Мы хотели показать весь пройденный мною путь в этой области, кончая портретом академика Н.А. Морозова 1938 года. Маслом я вообще работала мало, о причинах этого я уже говорила…
Что мне самой больше всего нравилось на выставке, если мне посмотреть на нее глазами постороннего зрителя? Я бы сказала: «Испания» по колориту и красочной насыщенности, по стилю — «Пункахариу», а по лирике — «Павловски», «Острова» и многие «Ленин-грады».
 Мне хочется думать, что моя выставка была полезна в смысле изучения техники, приемов, рисунка и общей культуры. Со всех сторон я слышала благоприятные отзывы о ней: от искусствоведов, от всевозможных знакомых и незнакомых людей и, что меня очень радовало, от юных художников. 30 июня выставка закрылась, и жаль было думать, что от нее ничего не осталось, как и от многих других выставок, кроме книги записи посетителей, как реальное доказательство, что она была и ее видели… В то же время я довольна, что она окончилась. Ничем заняться серьезно и вплотную я не могла. Она держала меня на веревочке. Все время надо было исполнять какие-то дела, связанные с этой выставкой. Дни проходили зря, бесплодно и бесследно…
Хочу приняться за работу, а для этого мне опять надо спрятаться, «нырнуть под воду», где бьют свежие, живительные ключи, и к ним прильнуть устами… Я жажду одиночества…
24 июня ездила на открытие «Пенат», в Куоккала[199], где жил последние 30 лет и умер Илья Ефимович Репин. Был жаркий, знойный день. Дорога утомительна — с ухабами и ямами.
Дом Репина был немаленький, но состоял из небольших комнат, часто прорезанных дверями, окнами, и все разной вышины. Комнаты были довольно темные, так как вокруг центральной части дома шли крытые застекленные террасы, которые отнимали свет. Крыша дома состояла из стеклянных пирамид, очень крутых и заостренных (ввиду частых дождей и больших снегопадов).
Собралось на открытие огромное количество народу. Дом был набит до отказа. В него пускали по очереди, и нам пришлось часа полтора прождать на воздухе. В доме было так тесно, что ничего нельзя было рассмотреть, и я, долго не задерживаясь, вернулась в Ленинград. Но мне пришлось вскоре еще раз там побывать. Я согласилась участвовать, как ученица Ильи Ефимовича Репина, в радиомонтаже, устроенном по случаю 10-летия со дня его смерти. Кроме меня, из учеников Репина были приглашены Александр Иванович Кудрявцев[200] и Митрофан Семенович Федоров. Передача должна была происходить в «Пенатах» 29 сентября.
Когда мы приехали, «Пенаты» были пусты. Мы были одни, не считая двух дикторов и радиомехаников, занятых своими техническими приготовлениями.
У нас было много времени впереди, так как выступать мы должны были в половине девятого вечера.
Мы тихо и с чувством благоговения обошли весь дом. Внизу самые большие комнаты были — столовая и кабинет. В столовой стоял знаменитый круглый вертящийся стол. Он был накрыт скатертью. Стояли приборы, посуда, большие вазы с цветами. Это создавало иллюзию жизни в доме. Нам казалось, что вот-вот сейчас мы увидим входящего хозяина дома.
Наружная стена столовой была застеклена до потолка. Это огромное окно закрывалось на ночь плотными деревянными ставнями. У внутренней стены находилась небольшая кафедра, с которой «провинившийся» гость должен был в «наказание» выступать с речью. Вина гостя большей частью состояла в нарушении правил этикета, установленного хозяевами за круглым столом.
Очень уютное впечатление производил кабинет Ильи Ефимовича. Он передней своей стороной напоминал корму большого парохода. Стена была вся стеклянная, и под ее подоконниками помещались полки с книгами. Посередине комнаты стоял большой письменный стол. В глубине, около двери, две невысокие кафельные печки.
Лестница наверх, в мастерскую, была неприятно крута, с высокими и узкими в глубину ступенями. Поднимаясь по ней, я думала: «Как тяжело было нашему старенькому Илье Ефимовичу в последние годы подниматься по ней».
Вошли в мастерскую. Огромное квадратное окно, и под ним большая мягкая оттоманка. Много гостей Ильи Ефимовича посидело на ней. В мастерской стояло несколько мольбертов. На стенах висели работы последних лет художника, те, которые его домашние не успели увезти. Рядом с мастерской — обширная крытая терраса. На ней Илья Ефимович всегда ночевал.
Но самое сильное впечатление у меня осталось от портрета, на котором в последний раз был изображен Илья Ефимович. Портрет был написан сыном его — Юрием Ильичом Репиным через 8 лет после смерти отца.
На этом портрете Илья Ефимович был изображен в натуральную величину, во весь свой небольшой рост, работающим в мастерской. Он в темном, узком пальто или халате. Худенький, легкий и… весь порыв, движение. Лицо бледное, одухотворенное, такое, какое мы видели у него, когда он работал среди нас. Глаза темные, пристальные, что-то видящие. Парализованная рука висит вдоль туловища, другая, с кистью, протянута вперед. Большая закругленная палитра горизонтально пересекала его в талии. Она была прикреплена к широкому поясу ремнями, спускающимися с плеч. Около самого туловища, на палитре, коробочки с красками.
Фоном на портрете служила стена мастерской и кафельная печь, освещенная лучами солнца, и широкое светлое пятно окружало, как бы ореолом, голову и легкие, пушистые волосы Ильи Ефимовича.
Портрет отчасти производил впечатление нереального. Я не знаю, может, это было намерение автора — дать почувствовать нереальность изображенного им Ильи Ефимовича, а может, это само собой вышло у него. Но портрет в то же время давал зрителю очень убедительный, возвышенный и глубокий образ[201]. И в этом образе много характерно репинского. Сущность его почувствовали мы, его ученики.
Долго стояли перед портретом. Сумерки постепенно сгущались. Окна потемнели. В доме была тишина. Только часы в передней куковали мелодично, напоминая нам о проходящем времени, и тем острее, и тем ярче вырастал перед нами, как живой, образ нашего гениального русского художника, нашего великого учителя…
Мы услышали шаги дикторов, искавших нас. Быстро спустились вниз. В столовой застекленная стена была уже закрыта ставнями. На круглом обеденном столе горели свечи, преодолевая мрак кругом, и нам предложили приступить к радиопередаче…[202]
После мы еще раз, с фонарем, обошли весь дом, прощаясь с ним. И нам вспомнились в те минуты наши давние беседы с Ильей Ефимовичем, когда мы с ним решали вопрос: «Какие же произведения останутся вечно молодыми?» Ответ ясен: «Те вещи, в которых заключаются жизнь, правда и чувство художника». И все это мы находим в произведениях Ильи Ефимовича, произведениях времени его расцвета. И как это было для нас, старых художников, в юности, так и для молодых художников будущего Илья Ефимович останется навсегда учителем жизни и правды в искусстве…
Мне хочется думать, что моя выставка была полезна в смысле изучения техники, приемов, рисунка и общей культуры. Со всех сторон я слышала благоприятные отзывы о ней: от искусствоведов, от всевозможных знакомых и незнакомых людей и, что меня очень радовало, от юных художников. 30 июня выставка закрылась, и жаль было думать, что от нее ничего не осталось, как и от многих других выставок, кроме книги записи посетителей, как реальное доказательство, что она была и ее видели… В то же время я довольна, что она окончилась. Ничем заняться серьезно и вплотную я не могла. Она держала меня на веревочке. Все время надо было исполнять какие-то дела, связанные с этой выставкой. Дни проходили зря, бесплодно и бесследно…
Хочу приняться за работу, а для этого мне опять надо спрятаться, «нырнуть под воду», где бьют свежие, живительные ключи, и к ним прильнуть устами… Я жажду одиночества…
24 июня ездила на открытие «Пенат», в Куоккала[199], где жил последние 30 лет и умер Илья Ефимович Репин. Был жаркий, знойный день. Дорога утомительна — с ухабами и ямами.
Дом Репина был немаленький, но состоял из небольших комнат, часто прорезанных дверями, окнами, и все разной вышины. Комнаты были довольно темные, так как вокруг центральной части дома шли крытые застекленные террасы, которые отнимали свет. Крыша дома состояла из стеклянных пирамид, очень крутых и заостренных (ввиду частых дождей и больших снегопадов).
Собралось на открытие огромное количество народу. Дом был набит до отказа. В него пускали по очереди, и нам пришлось часа полтора прождать на воздухе. В доме было так тесно, что ничего нельзя было рассмотреть, и я, долго не задерживаясь, вернулась в Ленинград. Но мне пришлось вскоре еще раз там побывать. Я согласилась участвовать, как ученица Ильи Ефимовича Репина, в радиомонтаже, устроенном по случаю 10-летия со дня его смерти. Кроме меня, из учеников Репина были приглашены Александр Иванович Кудрявцев[200] и Митрофан Семенович Федоров. Передача должна была происходить в «Пенатах» 29 сентября.
Когда мы приехали, «Пенаты» были пусты. Мы были одни, не считая двух дикторов и радиомехаников, занятых своими техническими приготовлениями.
У нас было много времени впереди, так как выступать мы должны были в половине девятого вечера.
Мы тихо и с чувством благоговения обошли весь дом. Внизу самые большие комнаты были — столовая и кабинет. В столовой стоял знаменитый круглый вертящийся стол. Он был накрыт скатертью. Стояли приборы, посуда, большие вазы с цветами. Это создавало иллюзию жизни в доме. Нам казалось, что вот-вот сейчас мы увидим входящего хозяина дома.
Наружная стена столовой была застеклена до потолка. Это огромное окно закрывалось на ночь плотными деревянными ставнями. У внутренней стены находилась небольшая кафедра, с которой «провинившийся» гость должен был в «наказание» выступать с речью. Вина гостя большей частью состояла в нарушении правил этикета, установленного хозяевами за круглым столом.
Очень уютное впечатление производил кабинет Ильи Ефимовича. Он передней своей стороной напоминал корму большого парохода. Стена была вся стеклянная, и под ее подоконниками помещались полки с книгами. Посередине комнаты стоял большой письменный стол. В глубине, около двери, две невысокие кафельные печки.
Лестница наверх, в мастерскую, была неприятно крута, с высокими и узкими в глубину ступенями. Поднимаясь по ней, я думала: «Как тяжело было нашему старенькому Илье Ефимовичу в последние годы подниматься по ней».
Вошли в мастерскую. Огромное квадратное окно, и под ним большая мягкая оттоманка. Много гостей Ильи Ефимовича посидело на ней. В мастерской стояло несколько мольбертов. На стенах висели работы последних лет художника, те, которые его домашние не успели увезти. Рядом с мастерской — обширная крытая терраса. На ней Илья Ефимович всегда ночевал.
Но самое сильное впечатление у меня осталось от портрета, на котором в последний раз был изображен Илья Ефимович. Портрет был написан сыном его — Юрием Ильичом Репиным через 8 лет после смерти отца.
На этом портрете Илья Ефимович был изображен в натуральную величину, во весь свой небольшой рост, работающим в мастерской. Он в темном, узком пальто или халате. Худенький, легкий и… весь порыв, движение. Лицо бледное, одухотворенное, такое, какое мы видели у него, когда он работал среди нас. Глаза темные, пристальные, что-то видящие. Парализованная рука висит вдоль туловища, другая, с кистью, протянута вперед. Большая закругленная палитра горизонтально пересекала его в талии. Она была прикреплена к широкому поясу ремнями, спускающимися с плеч. Около самого туловища, на палитре, коробочки с красками.
Фоном на портрете служила стена мастерской и кафельная печь, освещенная лучами солнца, и широкое светлое пятно окружало, как бы ореолом, голову и легкие, пушистые волосы Ильи Ефимовича.
Портрет отчасти производил впечатление нереального. Я не знаю, может, это было намерение автора — дать почувствовать нереальность изображенного им Ильи Ефимовича, а может, это само собой вышло у него. Но портрет в то же время давал зрителю очень убедительный, возвышенный и глубокий образ[201]. И в этом образе много характерно репинского. Сущность его почувствовали мы, его ученики.
Долго стояли перед портретом. Сумерки постепенно сгущались. Окна потемнели. В доме была тишина. Только часы в передней куковали мелодично, напоминая нам о проходящем времени, и тем острее, и тем ярче вырастал перед нами, как живой, образ нашего гениального русского художника, нашего великого учителя…
Мы услышали шаги дикторов, искавших нас. Быстро спустились вниз. В столовой застекленная стена была уже закрыта ставнями. На круглом обеденном столе горели свечи, преодолевая мрак кругом, и нам предложили приступить к радиопередаче…[202]
После мы еще раз, с фонарем, обошли весь дом, прощаясь с ним. И нам вспомнились в те минуты наши давние беседы с Ильей Ефимовичем, когда мы с ним решали вопрос: «Какие же произведения останутся вечно молодыми?» Ответ ясен: «Те вещи, в которых заключаются жизнь, правда и чувство художника». И все это мы находим в произведениях Ильи Ефимовича, произведениях времени его расцвета. И как это было для нас, старых художников, в юности, так и для молодых художников будущего Илья Ефимович останется навсегда учителем жизни и правды в искусстве…
 Просматривая работы молодых художников, мы обратили внимание на большое количество акварельной живописи, а когда поднялся вопрос о принятии акварелистов в ЛОССХ, то выяснилось, что им надо идти в графическую секцию, так как акварельная живопись у искусствоведов и музееведов считается графикой.
Какое странное заблуждение!
Просматривая работы молодых художников, мы обратили внимание на большое количество акварельной живописи, а когда поднялся вопрос о принятии акварелистов в ЛОССХ, то выяснилось, что им надо идти в графическую секцию, так как акварельная живопись у искусствоведов и музееведов считается графикой.
Какое странное заблуждение!
 Все прошло тепло, приятно и не длинно.
Вечером, по приглашению Союза архитекторов, присутствовала на их торжественном заседании.
Все прошло тепло, приятно и не длинно.
Вечером, по приглашению Союза архитекторов, присутствовала на их торжественном заседании.


 В те дни, когда я жила еще на улице Марата, меня очень заботила Клавдия Петровна, мой любимый, близкий друг. Если бы я была дома, я, конечно, взяла бы ее к себе, и мы пережили бы вместе все беды.
Стремясь в тяжкие годы быть чем-нибудь полезной своей Родине, Клавдия Петровна поступила, несмотря на свой возраст, на краткосрочные курсы медсестер. Ей приходилось, при всем ее истощении, много заниматься и держать экзамены. Как только я переехала к себе домой, Клавдия Петровна тотчас же поселилась у меня. Она была в тяжелом состоянии истощения и слабости, чудовищно худа, с потухшим взглядом. Говорила задыхаясь и все время мерзла.
В первый же вечер после моего возвращения домой ко мне зашла мой друг и врач Екатерина Николаевна Розанова, которая и до блокады, и во время нее внимательно, с любовью следила за моим здоровьем. И с исключительным бесстрашием и энергией она, кроме своих прямых обязанностей в детской клинике имени Филатова, все свое время тратила на помощь, поддержку и спасение многочисленных своих друзей.
…Ее поступки были проявлением высокого героизма, любви к людям, с полной отдачей себя им.
В те дни, когда я жила еще на улице Марата, меня очень заботила Клавдия Петровна, мой любимый, близкий друг. Если бы я была дома, я, конечно, взяла бы ее к себе, и мы пережили бы вместе все беды.
Стремясь в тяжкие годы быть чем-нибудь полезной своей Родине, Клавдия Петровна поступила, несмотря на свой возраст, на краткосрочные курсы медсестер. Ей приходилось, при всем ее истощении, много заниматься и держать экзамены. Как только я переехала к себе домой, Клавдия Петровна тотчас же поселилась у меня. Она была в тяжелом состоянии истощения и слабости, чудовищно худа, с потухшим взглядом. Говорила задыхаясь и все время мерзла.
В первый же вечер после моего возвращения домой ко мне зашла мой друг и врач Екатерина Николаевна Розанова, которая и до блокады, и во время нее внимательно, с любовью следила за моим здоровьем. И с исключительным бесстрашием и энергией она, кроме своих прямых обязанностей в детской клинике имени Филатова, все свое время тратила на помощь, поддержку и спасение многочисленных своих друзей.
…Ее поступки были проявлением высокого героизма, любви к людям, с полной отдачей себя им.
 Но не прошло и пяти минут, как они, забрав свои удочки и ведерки, смеясь бежали и я с ними к широким дверям Военно-медицинского госпиталя* Там мы укрылись, пережидая налет.
У меня было время их хорошенько рассмотреть. Славные, простые, хорошие лица. Широкие, вихрастые, с темными, серьезными, не по годам, глазами. И к сожалению надо сказать, мальчуганы были бледные, худые, истощенные. Между ними чувствовалось старшинство двух мальчиков, которые держали всех в порядке. Распорядились сложить удочки в одно место, в сторону прибрать ведерки и что-то стали им говорить, собрав их в кружок. Никакой паники, никакого страха. А ведь над нами бушевал сильнейший налет. Бомбы падали совсем близко, на набережной, перед госпиталем, оконные стекла которого засыпали панель.
Но наконец, огневая буря пронеслась. Зазвучал райской музыкой отбой. Рожи у ребят расплылись в улыбки, и, схватив свои удочки и ведра, они весело помчались по набережной, потом вниз, на свои прежние места. А я думала: «Вот какая смена нашим героям растет у нас! В них мужество, терпение и геройство заложено с рождения».
Еще приведу пример, когда мальчик показал редкий для ребенка высокий духовный подъем, любовь и заботу к страдающему человеку.
Шла я по Ломанскому переулку. Началась тревога. Быстро налетела эскадрилья вражеских самолетов и стала бомбить. Я вбежала в подъезд ближайшего дома и попала на полутемную лестницу. Там уже в уголке стояла трепеща очень слабенькая и тощая старушка. За мной вбежал мальчик лет 12, бедно одетый и несший какой-то тяжелый сверток. Положив его бережно на ступени, он стал рядом и принялся внимательно оглядываться.
При каждом ударе старушка вздрагивала, крестилась, иногда стонала и что-то тихонько шептала. Видно было, как она болезненно переживала вражеский налет. Мальчик несколько раз взглянул на нее, а потом ласково и убедительно стал ее успокаивать, говоря: «Бабушка, ты не бойся, не огорчайся, обстрел далеко, не в нашем районе. А что так громко грохочет, так это от каменных стен так сильно раздается. Вот и сейчас удар. Это ничего — от нас далеко!» — уговаривал он старушку.
Мы остались невредимы. Налет кончился, зазвучал отбой. Когда старушка первая вышла на улицу, мальчуган, лукаво подмигнув мне глазом и смеясь, сказал: «Знаешь, я ей нарочно все врал. Налет был здесь, над нами. Чтобы успокоить, я обманывал ее!» И он выбежал на улицу.
Когда я вышла на улицу, то была поражена. Семь огромных воронок зияли на таком небольшом пространстве, как Ломанский переулок между проспектами Лесным и Карла Маркса. В них видны были развороченные канализационные и водопроводные трубы, вскопан асфальт на мостовой и тротуарах. Немцы, видимо, стремились бить по клиникам Военно-медицинской академии и по Выборгскому дому культуры.
Все это для меня забываемо. Но забыть мальчика, который, несмотря на опасность и возможную собственную гибель, хладнокровно, с душевной тонкостью и добротой поддерживал и ободрял другого человека, я не могу до конца своей жизни.
Но не прошло и пяти минут, как они, забрав свои удочки и ведерки, смеясь бежали и я с ними к широким дверям Военно-медицинского госпиталя* Там мы укрылись, пережидая налет.
У меня было время их хорошенько рассмотреть. Славные, простые, хорошие лица. Широкие, вихрастые, с темными, серьезными, не по годам, глазами. И к сожалению надо сказать, мальчуганы были бледные, худые, истощенные. Между ними чувствовалось старшинство двух мальчиков, которые держали всех в порядке. Распорядились сложить удочки в одно место, в сторону прибрать ведерки и что-то стали им говорить, собрав их в кружок. Никакой паники, никакого страха. А ведь над нами бушевал сильнейший налет. Бомбы падали совсем близко, на набережной, перед госпиталем, оконные стекла которого засыпали панель.
Но наконец, огневая буря пронеслась. Зазвучал райской музыкой отбой. Рожи у ребят расплылись в улыбки, и, схватив свои удочки и ведра, они весело помчались по набережной, потом вниз, на свои прежние места. А я думала: «Вот какая смена нашим героям растет у нас! В них мужество, терпение и геройство заложено с рождения».
Еще приведу пример, когда мальчик показал редкий для ребенка высокий духовный подъем, любовь и заботу к страдающему человеку.
Шла я по Ломанскому переулку. Началась тревога. Быстро налетела эскадрилья вражеских самолетов и стала бомбить. Я вбежала в подъезд ближайшего дома и попала на полутемную лестницу. Там уже в уголке стояла трепеща очень слабенькая и тощая старушка. За мной вбежал мальчик лет 12, бедно одетый и несший какой-то тяжелый сверток. Положив его бережно на ступени, он стал рядом и принялся внимательно оглядываться.
При каждом ударе старушка вздрагивала, крестилась, иногда стонала и что-то тихонько шептала. Видно было, как она болезненно переживала вражеский налет. Мальчик несколько раз взглянул на нее, а потом ласково и убедительно стал ее успокаивать, говоря: «Бабушка, ты не бойся, не огорчайся, обстрел далеко, не в нашем районе. А что так громко грохочет, так это от каменных стен так сильно раздается. Вот и сейчас удар. Это ничего — от нас далеко!» — уговаривал он старушку.
Мы остались невредимы. Налет кончился, зазвучал отбой. Когда старушка первая вышла на улицу, мальчуган, лукаво подмигнув мне глазом и смеясь, сказал: «Знаешь, я ей нарочно все врал. Налет был здесь, над нами. Чтобы успокоить, я обманывал ее!» И он выбежал на улицу.
Когда я вышла на улицу, то была поражена. Семь огромных воронок зияли на таком небольшом пространстве, как Ломанский переулок между проспектами Лесным и Карла Маркса. В них видны были развороченные канализационные и водопроводные трубы, вскопан асфальт на мостовой и тротуарах. Немцы, видимо, стремились бить по клиникам Военно-медицинской академии и по Выборгскому дому культуры.
Все это для меня забываемо. Но забыть мальчика, который, несмотря на опасность и возможную собственную гибель, хладнокровно, с душевной тонкостью и добротой поддерживал и ободрял другого человека, я не могу до конца своей жизни.
 В конце альбома вместо форзаца были нарисованы два больших флага — русский и шотландский, сделанные в красках. Они очень красиво заканчивали альбом, который производил впечатление гармонии, единого художественного стиля и давал сильное и яркое представление о Ленинграде.
Над альбомом работало несколько человек: А.А. Бартошевич — как организатор, я — своими гравюрами, а Вера Влад[имировна] Милютина, Як[ов] Ос[ипович] Рубанчик и Борис Пав[лович] Светлицкий работали как графики. Работали с большим напряжением и усилием, так как нас торопили, а главное, все мы были голодные дистрофики.
Милютина была бледна, как бумага. У Светлицкого от истощения умирала жена. Он сам был очень слаб и даже одну ночь провел у меня, чтобы не тратить сил на ходьбу. Были белые ночи, и он, встав в половину пятого утра, успел окончить свою работу.
Здесь же за столом трудились два лучших в городе переплетчика. Они были суровы (женщина и мужчина), молчаливы, но работали сосредоточенно и хорошо.
В конце альбома вместо форзаца были нарисованы два больших флага — русский и шотландский, сделанные в красках. Они очень красиво заканчивали альбом, который производил впечатление гармонии, единого художественного стиля и давал сильное и яркое представление о Ленинграде.
Над альбомом работало несколько человек: А.А. Бартошевич — как организатор, я — своими гравюрами, а Вера Влад[имировна] Милютина, Як[ов] Ос[ипович] Рубанчик и Борис Пав[лович] Светлицкий работали как графики. Работали с большим напряжением и усилием, так как нас торопили, а главное, все мы были голодные дистрофики.
Милютина была бледна, как бумага. У Светлицкого от истощения умирала жена. Он сам был очень слаб и даже одну ночь провел у меня, чтобы не тратить сил на ходьбу. Были белые ночи, и он, встав в половину пятого утра, успел окончить свою работу.
Здесь же за столом трудились два лучших в городе переплетчика. Они были суровы (женщина и мужчина), молчаливы, но работали сосредоточенно и хорошо.
 Как был принят наш альбом у нас и за границей, мы узнали только много времени спустя. Альбом, как у нас, так и за границей, был весьма одобрен и в Англии помещен в музей. В Ленинграде альбома почти никто не видел. И это жаль, так как он был очень хорош.
Как был принят наш альбом у нас и за границей, мы узнали только много времени спустя. Альбом, как у нас, так и за границей, был весьма одобрен и в Англии помещен в музей. В Ленинграде альбома почти никто не видел. И это жаль, так как он был очень хорош.
 И на таком фоне, среди такой обстановки, эта нежная, молодая, яркая зелень являлась резким, но радостным контрастом и как бы символом новой, неиссякаемой жизни всепобеждающей природы.
За последние три недели я потеряла в весе три килограмма. Сильно худею. После бесконечных моих хлопот выяснилось, что меня по ошибке вычеркнули из списка получающих академический паек, но это все равно, так как пайка не давали уже два месяца. Трудно с продуктами. Ладожская трасса не действует, так как она растаяла.
Мы уже второй месяц не видим мяса. Дают ржавую воблу или скверные кильки.
Чувствую себя чрезвычайно слабой. Вялость у меня непобедимая к какому-либо действию или движению.
А кругом идет напряженнейшая жизнь осажденного города.
Друзья неоднократно уговаривали меня выступить публично и прочесть некоторые главы и отрывки из II тома моих «Записок», правда еще неоконченных. Они это считали как бы моим общественным долгом, отвлечь людей от их бытовых дел и огорчений. Я согласилась. Читала я, как это ни странно, не в Академии художеств, не в ЛОССХе, а в Музыкальном обществе, в зале камерной музыки. Председательница этого общества Зоя Петровна Лодий[218] была на моем выступлении.
Публики было довольно много, и слушали внимательно. Петр Евгеньевич выступил с характеристикой моего творчества. Сказал хорошо. Выставку из моих вещей сделал с большим вниманием и любовью[219]. После чтения, когда я прошла на выставку, многие просили объяснить им технику гравюры, литографии, акварели и тепло благодарили меня.
Во время чтения, когда я говорила о Ленинграде, я всеми силами удерживалась, чтобы не заплакать. Причиной был недавний разговор с Борисом Ивановичем Загурским, который был у меня и настаивал на необходимости мне выехать из Ленинграда. Я отказалась. Я думаю, уехать из него было бы для меня самым тяжелым несчастьем. Ведь я кожей моей приросла к его стенам! Ни за что не поеду!
Это все страхи из-за дров. В городе нет дров. Нигде купить их нельзя. Многие учреждения запасаются каким-нибудь деревянным домом, ломают его и раздают деревянный лом своим служащим. Наш управдом мне объяснила, что так как я нигде не служу, то и рассчитывать на такие дрова я не могу. Это меня не страшит. Сейчас лето, и до морозов еще далеко.
И на таком фоне, среди такой обстановки, эта нежная, молодая, яркая зелень являлась резким, но радостным контрастом и как бы символом новой, неиссякаемой жизни всепобеждающей природы.
За последние три недели я потеряла в весе три килограмма. Сильно худею. После бесконечных моих хлопот выяснилось, что меня по ошибке вычеркнули из списка получающих академический паек, но это все равно, так как пайка не давали уже два месяца. Трудно с продуктами. Ладожская трасса не действует, так как она растаяла.
Мы уже второй месяц не видим мяса. Дают ржавую воблу или скверные кильки.
Чувствую себя чрезвычайно слабой. Вялость у меня непобедимая к какому-либо действию или движению.
А кругом идет напряженнейшая жизнь осажденного города.
Друзья неоднократно уговаривали меня выступить публично и прочесть некоторые главы и отрывки из II тома моих «Записок», правда еще неоконченных. Они это считали как бы моим общественным долгом, отвлечь людей от их бытовых дел и огорчений. Я согласилась. Читала я, как это ни странно, не в Академии художеств, не в ЛОССХе, а в Музыкальном обществе, в зале камерной музыки. Председательница этого общества Зоя Петровна Лодий[218] была на моем выступлении.
Публики было довольно много, и слушали внимательно. Петр Евгеньевич выступил с характеристикой моего творчества. Сказал хорошо. Выставку из моих вещей сделал с большим вниманием и любовью[219]. После чтения, когда я прошла на выставку, многие просили объяснить им технику гравюры, литографии, акварели и тепло благодарили меня.
Во время чтения, когда я говорила о Ленинграде, я всеми силами удерживалась, чтобы не заплакать. Причиной был недавний разговор с Борисом Ивановичем Загурским, который был у меня и настаивал на необходимости мне выехать из Ленинграда. Я отказалась. Я думаю, уехать из него было бы для меня самым тяжелым несчастьем. Ведь я кожей моей приросла к его стенам! Ни за что не поеду!
Это все страхи из-за дров. В городе нет дров. Нигде купить их нельзя. Многие учреждения запасаются каким-нибудь деревянным домом, ломают его и раздают деревянный лом своим служащим. Наш управдом мне объяснила, что так как я нигде не служу, то и рассчитывать на такие дрова я не могу. Это меня не страшит. Сейчас лето, и до морозов еще далеко.
 Получила подарки, хотя их было немного, но мне кажется, они характерны для нынешнего времени. Нюша подарила кусок кухонного мыла. Юлия Васильевна преподнесла стеариновую свечку и пол-литра молока, за которым ходила пешком к Мечниковской больнице. А это составляет не менее пяти километров в один конец. Моя племянница принесла восьмушку чаю, а В.В. Милютина — коллективный подарок — три конфетки и две столовые ложки кофе. Все подарки приятные и полезные.
Я была в этот день очень счастлива. Волкова и Милютина не говорили со мной об еде, о пайках, о хлебе, о дистрофии и т. д., а говорили о литературе, о творчестве, об искусстве, о том, что так близко моей душе, чем я живу. Как я в те дни, в дни тяжелые и иногда труднопереносимые, глубоко оценила близость людей, дружески ко мне расположенных, особенно после смерти Клавдии Петровны, моего самого близкого друга!
Они создали вокруг меня атмосферу любви, ласки, взаимного понимания и поддержали в трудные минуты. С благодарностью хочу их назвать: Петр Евгеньевич Корнилов, потративший много энергии, чтобы спасти меня от голодной смерти, Любовь Васильевна Шапорина[225], со своим спокойствием, умом и равновесием. Анастасия Осиповна Якубчик, с присущей ей энергией и непоколебимым убеждением в нашей окончательной победе, поддерживала во мне бодрость. Они часто навещали меня.
Тамара Ал[ександровна] Колпакова — серьезный ученый и врач — всегда приносила с собой большой заряд жизненной энергии, неистраченных сил и неисчерпаемой бодрости. Ее посещения всегда подымали во мне тонус жизни и способность к сопротивляемости.
Екатерина Николаевна бывала очень часто и не могла прийти и чего-нибудь не принести: то это была бутылка витаминов, то какой-нибудь укрепляющий препарат или рыбий жир…
Юлия Васильевна Волкова и Вера Владимировна Милютина, живя очень близко, часто меня навещали, и мы вместе переносили наши общие невзгоды.
Вот это был кружок моих друзей, который поддерживал и помогал мне жить…»
Получила подарки, хотя их было немного, но мне кажется, они характерны для нынешнего времени. Нюша подарила кусок кухонного мыла. Юлия Васильевна преподнесла стеариновую свечку и пол-литра молока, за которым ходила пешком к Мечниковской больнице. А это составляет не менее пяти километров в один конец. Моя племянница принесла восьмушку чаю, а В.В. Милютина — коллективный подарок — три конфетки и две столовые ложки кофе. Все подарки приятные и полезные.
Я была в этот день очень счастлива. Волкова и Милютина не говорили со мной об еде, о пайках, о хлебе, о дистрофии и т. д., а говорили о литературе, о творчестве, об искусстве, о том, что так близко моей душе, чем я живу. Как я в те дни, в дни тяжелые и иногда труднопереносимые, глубоко оценила близость людей, дружески ко мне расположенных, особенно после смерти Клавдии Петровны, моего самого близкого друга!
Они создали вокруг меня атмосферу любви, ласки, взаимного понимания и поддержали в трудные минуты. С благодарностью хочу их назвать: Петр Евгеньевич Корнилов, потративший много энергии, чтобы спасти меня от голодной смерти, Любовь Васильевна Шапорина[225], со своим спокойствием, умом и равновесием. Анастасия Осиповна Якубчик, с присущей ей энергией и непоколебимым убеждением в нашей окончательной победе, поддерживала во мне бодрость. Они часто навещали меня.
Тамара Ал[ександровна] Колпакова — серьезный ученый и врач — всегда приносила с собой большой заряд жизненной энергии, неистраченных сил и неисчерпаемой бодрости. Ее посещения всегда подымали во мне тонус жизни и способность к сопротивляемости.
Екатерина Николаевна бывала очень часто и не могла прийти и чего-нибудь не принести: то это была бутылка витаминов, то какой-нибудь укрепляющий препарат или рыбий жир…
Юлия Васильевна Волкова и Вера Владимировна Милютина, живя очень близко, часто меня навещали, и мы вместе переносили наши общие невзгоды.
Вот это был кружок моих друзей, который поддерживал и помогал мне жить…»
 Если бы не бомбежка и артиллерийский обстрел! Нам не сообщают (да это и правильно), какие районы пострадали. Но эти дни по радио несколько раз сообщалось, что Выборгский район подвержен обстрелу.
Вот эти ежедневные потрясения — к ним привыкнуть нельзя. Можно внешне оставаться спокойной, даже продолжать делать свое дело, но человек переживает нервный шок. Вероятно, это служит причиной моего чрезмерного похудания — таково мнение врача.
На днях наш летчик в своем докладе по радио о воздушных боях на подступах к Ленинграду употребил выражение, которое мне понравилось и тронуло меня. Он сказал: „Мы любим наш дорогой город! Мы наш Ленинград и жителей его держим под нашими крыла-ми, мы их ими укрываем“. Хорошо сказано, образно. Они осеняют город и жителей его своими крылами, как птица, которая прячет своих птенцов от воздушных хищников под теплыми любящими крыльями. Да будет вам успех, бесстрашные герои!»
Если бы не бомбежка и артиллерийский обстрел! Нам не сообщают (да это и правильно), какие районы пострадали. Но эти дни по радио несколько раз сообщалось, что Выборгский район подвержен обстрелу.
Вот эти ежедневные потрясения — к ним привыкнуть нельзя. Можно внешне оставаться спокойной, даже продолжать делать свое дело, но человек переживает нервный шок. Вероятно, это служит причиной моего чрезмерного похудания — таково мнение врача.
На днях наш летчик в своем докладе по радио о воздушных боях на подступах к Ленинграду употребил выражение, которое мне понравилось и тронуло меня. Он сказал: „Мы любим наш дорогой город! Мы наш Ленинград и жителей его держим под нашими крыла-ми, мы их ими укрываем“. Хорошо сказано, образно. Они осеняют город и жителей его своими крылами, как птица, которая прячет своих птенцов от воздушных хищников под теплыми любящими крыльями. Да будет вам успех, бесстрашные герои!»
 Какое грандиозное зрелище мы пережили! 24 залпа из 324 орудий. Орудия стреляли с военных судов и с разных концов Ленинграда — орудия у Смольного, на Марсовом поле, на Дворцовой площади и во многих других местах. Это было в 8 часов вечера. Ночь была темная. Огненные фонтаны красных, зеленых, голубых и белых ракет высоко взлетали в небо. Кругом раздавались крики „ура“ обезумевших от радости людей…»
Какое грандиозное зрелище мы пережили! 24 залпа из 324 орудий. Орудия стреляли с военных судов и с разных концов Ленинграда — орудия у Смольного, на Марсовом поле, на Дворцовой площади и во многих других местах. Это было в 8 часов вечера. Ночь была темная. Огненные фонтаны красных, зеленых, голубых и белых ракет высоко взлетали в небо. Кругом раздавались крики „ура“ обезумевших от радости людей…»
 Молодой художник должен изображать природу искренне, правдиво, реально, учась рисунку, форме, светотени и колориту, то есть учась грамоте искусства.
Вырабатывая свои собственные приемы, молодой художник дает своему творчеству качества непосредственности и самобытности, олицетворяющие художника как личность.
Это я говорю по собственному опыту, так как прошла тяжелый путь становления себя как художника. Приходилось преодолевать большие трудности и, казалось, непроходимые преграды и в бытовом отношении, и в области искусства.
Искусство мое шло по двум путям. Один путь — гравюра, другой — живопись, и главным образом акварельная, так как масляной живописи я не могла переносить, после того как однажды от свежих этюдов маслом заболела свинцовым отравлением. Не имея возможности работать масляной живописью, я перешла на акварель.
Первый путь, путь деревянной гравюры и ее техника, мне дался легко, несмотря на то что в оригинальной черной и цветной гравюре я была новатором, совершенно отрицавшим хотя и художественную, но репродукционную тоновую гравюру, передававшую чужое творчество.
Путь же акварельного искусства был для меня более труден, так как приходилось преодолевать в нем своеобразную и незнакомую технику, постепенно отходя от подкрашенного рисунка к самодовлеющей, полноценной акварельной живописи.
И в ней я шла по пути широких обобщений, не отходя от реального понимания окружающего мира. И хотя в некоторой степени я и достигла намеченной цели, но теперь, подходя к концу моего жизненного пути, я ясно вижу, что многого еще не знаю. Но я глубоко поняла, что художник должен учиться до конца своей жизни, совершенствоваться и двигаться вперед.
Молодой художник должен изображать природу искренне, правдиво, реально, учась рисунку, форме, светотени и колориту, то есть учась грамоте искусства.
Вырабатывая свои собственные приемы, молодой художник дает своему творчеству качества непосредственности и самобытности, олицетворяющие художника как личность.
Это я говорю по собственному опыту, так как прошла тяжелый путь становления себя как художника. Приходилось преодолевать большие трудности и, казалось, непроходимые преграды и в бытовом отношении, и в области искусства.
Искусство мое шло по двум путям. Один путь — гравюра, другой — живопись, и главным образом акварельная, так как масляной живописи я не могла переносить, после того как однажды от свежих этюдов маслом заболела свинцовым отравлением. Не имея возможности работать масляной живописью, я перешла на акварель.
Первый путь, путь деревянной гравюры и ее техника, мне дался легко, несмотря на то что в оригинальной черной и цветной гравюре я была новатором, совершенно отрицавшим хотя и художественную, но репродукционную тоновую гравюру, передававшую чужое творчество.
Путь же акварельного искусства был для меня более труден, так как приходилось преодолевать в нем своеобразную и незнакомую технику, постепенно отходя от подкрашенного рисунка к самодовлеющей, полноценной акварельной живописи.
И в ней я шла по пути широких обобщений, не отходя от реального понимания окружающего мира. И хотя в некоторой степени я и достигла намеченной цели, но теперь, подходя к концу моего жизненного пути, я ясно вижу, что многого еще не знаю. Но я глубоко поняла, что художник должен учиться до конца своей жизни, совершенствоваться и двигаться вперед.
 Организовалось это общество в сложное и путаное время в искусстве. <…> Среди молодых передвижников мало кто выдвигался. Они сохраняли старые традиции общества без стремления завоевать новые позиции, открыть новые пути в искусстве.
Почти одновременно с «Миром искусства» появилось много разных группировок среди художников: «Голубая роза», «Ослиный хвост»[249] и другие с очень заумными туманными задачами.
Мирискусники выбирали и приглашали в свое общество молодых художников, когда замечали в них, кроме таланта, искреннее и серьезное отношение к искусству и к своей работе.
Приглашены были, как я помню, Анисфельд, Кустодиев, Александр Яковлев и другие.
А.Н. Бенуа говорил, что, для того чтобы общество могло долго жить, оно не должно строго замыкаться в определенные рамки. И в нем необходимо признавать все новые направления в искусстве. Внимательно следить за появлением молодых художников, если даже они будут крайне новаторского характера. Лишь бы в них была настоящая любовь к искусству и одаренность.
Рассказ, содержание в картине общество «Мир искусства» не отрицало, но они не должны были подчинять себе живописные задачи. Искусство живописи должно было стоять на первом месте.
Нам вменялось в обязанность посещать выставки и отмечать, что появилось в них талантливого и искреннего.
Кроме того, группа художников и организаторов, как Дягилев и Философов, основали и стали издавать художественно-литературный журнал «Мир искусства». В нем принимали участие и такие литераторы, как Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Мережковский, Андрей Белый и многие другие писатели-символисты и эстеты.
Их обильные выступления в этом журнале сыграли для художников «Мира искусства» печальную роль. Они заполнили собою страницы журнала и были впоследствии главной причиной решения художников закрыть этот журнал.
Этому небольшому коллективу молодых людей, образованных и развитых, страстно преданных искусству и горячих энтузиастов всего талантливого, издавая журнал «Мир искусства», приходилось преодолевать всевозможные трудности.
Теперь нельзя себе представить тот низкий уровень вкуса, знания стиля, степени неумения владеть техническими способами, какие царили тогда в лучших типографиях.
Отсутствовало понимание шрифтов, достоинства бумаги, украшений и иллюстраций, что составляет графическое искусство, то есть искусство, как сделать хорошую книгу, чтобы в ней обложка, заглавный лист имели свое архитектурное и декоративное построение, чтобы иллюстрации были органически связаны с книгой, с данной страницей, со шрифтом.
Я много раз присутствовала при разговорах о технических затруднениях в процессе издания журнала. Дягилев, Бакст и Философов много времени проводили в типографии. Спорили там, доказывали, учили, натаскивали. Вспоминаю, как они не раз приходили в отчаяние от приготовленных «Голике и Вильборгом» клише. Затруднения происходили и с бумагой.
В первый год издания, 1899-й, журнал был очень боевой и задорный, но со второго года его направление стало более глубоким и широким. Все истинно художественное и даровитое нашло место на страницах этого журнала. Он откликался на все события, на все проявления художественной культуры нашей страны.
Сомов, Бенуа, Лансере, Билибин и Бакст украшали журнал «Мир искусства», исполняя для него обложки, заглавные листы, заголовки, концовки. Этими превосходными работами они положили начало графическому искусству, которое довели до большого совершенства. Более молодое поколение графиков: Митрохин, Чехонин, Нарбут, Фалилеев, Белкин, продолжало впоследствии принципы «Мира искусства».
Появления каждого нового номера журнала мы ждали с нетерпением. Издавался он в течение шести лет и прекратил свое существование по желанию Дягилева, у которого появились в жизни более широкие задачи. С огорчением встретили мы это известие.
Меня всегда поражало в членах нашего кружка необычайное, страстное увлечение искусством. Сколько было споров, диспутов, дискуссий. Произносились целые речи, полные блеска, знания и проникновения. Иногда кончалось ссорой, но не надолго. Все любили и уважали друг друга. И вот что замечательно: среди нас, художников этого коллектива, в то время существовало глубокое взаимное доверие. Никому не приходило в голову и мысли о зависти, ревности. Вещи на выставку принимались без жюри, по принципу доверия к художнику, но сам художник, чтобы себя проверить, показывал перед выставкой товарищам свои работы, зная, что критика будет, может быть, и беспощадная, но справедливая. Иногда случалось, что Дягилев, как наш организатор и устроитель выставок, определенно заявлял, что такую-то вещь он не выставит, и приходилось художнику подчиняться, так как он сознавал, что это вытекает не из личных отношений к нему.
А иногда, наоборот, Дягилев забирался к художнику в мастерскую и почти насильно уносил от него забракованные автором произведения. И Дягилев не ошибался, так как обладал большим художественным чутьем. Вещи оказывались прекрасными и достойными быть на выставке.
Бывало, на выставке идет большая спешка. Дягилев как вихрь носится по ней, поспевая всюду. Ночью не ложится, а сняв пиджак, наравне с рабочими таскает картины, раскупоривает ящики, развешивает, перевешивает — в пыли, в поту, но весело, всех вокруг себя заражает энтузиазмом. Рабочие, артельщики беспрекословно ему повиновались, и, когда он обращался к ним с шутливыми словами, широко во весь рот ему улыбались, иногда громко хохотали. И все поспевало вовремя. Сергей Павлович утром уезжал домой, брал ванну и, изящно одетый, являлся первый, чтобы открыть выставку. Ночная работа на нем не отражалась. Темные гладкие волосы разделял очень тщательно сделанный пробор. Спереди, надо лбом, выделялась белая прядь волос. Полное румяное лицо с большими карими глазами сияло умом, самоудовлетворением и энергией…
Мирискусники настойчиво выдвигали принцип «ремесла в искусстве», то есть они хотели, чтобы художники делали картины с полным, детальным знанием материалов, которыми они работали, и доводили технику до совершенства. Перед их глазами были примеры, когда отличные произведения великолепных мастеров темнели, чернели, теряли свой первоначальный облик. Видимо, в данном случае художник не знал законов смешения красок и их дальнейшую жизнь на холсте.
Кроме того, они все толковали о необходимости повышения культуры и вкуса среди художников, и никогда не отрицали в картинах тематики и, следовательно, не лишали изобразительное искусство ему присущих свойств агитации и пропаганды.
Через несколько лет после основания общества произошло объединение московских художников с петербургскими членами «Мира искусства», и было организовано общество «Союз русских художников».
Объединение с москвичами было недолговечно.
В 1910 году мы разделились с ними и организовали новое общество художников, взяв наше прежнее название «Мир искусства». В члены нашего вновь образовавшегося общества вошли: Б. Анисфельд, Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, К. Богаевский, О. Браз, А. Гауш, A. Головин, И. Грабарь, М. Добужинский, И. Жолтовский, В. Замирайло, Е. Кругликова, Е. Лансере, Н. Лансере, Е. Лукш-Маковская, А. Матвеев, Н. Милиоти, А. Обер, А. Остроумова, К. Петров-Водкин, B. Пурвит, В. Покровский, Н. Рерих, М. Сарьян, З. Серебрякова, К. Сомов, С. Судейкин, Д. Стеллецкий, А. Таманов, Н. Тархов, И. Фомин, В. Щуко, А. Щусев, Я. Ционглинский, А. Яковлев, С. Яремич. Всего 37 человек.
Формирование общества и устройство выставок чло у нас медленно, с большими трениями и задержками. Причина этого главным образом была та, что среди нас не было художника, который бы с охотой и увлечением взял на себя организацию выставок и всякие хлопоты и заботы. Дягилев к этому времени уже уехал, увлеченный желанием пропагандировать оперное и балетное искусство за границей. Несколько лет нашими делами согласился заниматься энергичный и даровитый архитектор Мирон Ильич Рославлев.
В первый же год, и потом почти всегда, несмотря на некоторый холодок и отчужденность, которые мы испытывали к Н. Рериху (несомненно, и он к нам), мы его выбирали председателем общества. Он любил исполнять представительные роли и, надо сознаться, проделывал это недурно.
Между нами определилась группа художников-графиков: Бенуа, Бакст, Билибин, Сомов, Лансере, которые положили начало графическому искусству, привлекая к работе художников: Нарбута, Фалилеева, Митрохина, Чехонина, уча их иллюстрировать и создавать художественно украшенную и хорошо построенную книгу.
Высокие культурные традиции «Мира искусства» до сих пор сохраняются среди графиков теперешних дней. <…>
Я не могу не рассказать об обществе «Мир искусства», потому что была его членом и [была] в дружеских отношениях с Бенуа, Сомовым, Лансере и другими.
Скажу несколько слов о некоторых из них.
Руководящую роль среди этого кружка играл Александр Николаевич Бенуа. Все к нему прислушивались, ценили его мнение, и это делалось само собой. Александр Николаевич никогда не поучал, не оказывал давления. Не навязывал своего вкуса или мнения. Бесценно было то, что он знакомил меня и других с искусством во всех его проявлениях, и делал это с большим энтузиазмом. Обладая феноменальной памятью, он все знания претворял своим исключительным умом. Ум его был творящий, и творческое начало было неистощимо. Все. что он воспринимал от внешнего мира, подвергалось обработке этого блестящего ума. его отличали редкая способность ориентации в незнакомой для него области и умение углубиться в нее до конца. Жизнеспособность его была безгранична. Неутомимость удивительна.
Между художниками «Мира искусства» было много великолепных театральных декораторов. Бенуа интересовался театром и, как во всех областях культурной жизни страны, стал принимать и в театральном искусстве самое близкое участие. Его музыкальность, абсолютный слух, огромный творческий темперамент давали ему возможность в этой области проявить свою богатую, тонкую, художественную культуру.
В конце января 1903 года шла опера Вагнера «Гибель богов». Эскизы декораций и костюмов делал Бенуа. И в постановке оперы принимал живейшее участие. Я помню, как вся наша компания была на первом представлении. В партере виднелось много знакомых и выдающихся художников, литераторов, артистов. Я была в ложе с Анной Карловной, женой Бенуа, и с нами сидели Сомов, Лансере, Нувель… Александр Николаевич то и дело убегал из ложи за кулисы, когда замечал какие-нибудь неполадки. Мы все волновались. Но декорации были очень красивы и живописны, костюмы характерны и выразительны.
Исполняя эскизы к этой опере, Бенуа стремился преодолеть рутину и шаблон постановок в Байрейте и за границей. Его декорации, исполненные таким мастером живописи, как Коровин, производили впечатление большой убедительности, красоты и правды. Моментами зритель совсем забывал, что это театральное «действо». Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами.
Сцена, когда убитого Зигфрида несут в лес под звуки погребального величественного марша, вызывала мурашки в спине, и слезы закипали на глазах. Сцена гибели богов и Валгаллы была сделана ярко и сильно.
Кроме этой оперы, Александр Николаевич в последующие годы оформил целую серию блестящих спектаклей: балеты «Павильон Армиды», «Жизель», «Петрушка»; комедии Мольера: «Тартюф», «Брак поневоле»; и Гольдони: «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы», оперу «Пиковая дама» и т. д.
По этому разнообразному репертуару можно судить, как велик был диапазон его творчества, какой колоссальный источник фантазии был в душе этого замечательного художника!
Кроме декоративного таланта, А.Н. Бенуа обладал большим живописным даром и фантазией. В Третьяковской галерее и в других музеях находится целый ряд его живописных произведений.
Кроме того, он проявил себя как иллюстратор и график. Создал замечательный альбом «Медный всадник», в котором запечатлел образ пушкинского Петербурга и показал себя выдающимся рисовальщиком. Иллюстрировал «Горе от ума» и «Пиковую даму»[250].
Он обладал большим литературным даром и выступал как тонкий и глубокий историк искусства. Первым его литературным трудом была история русского искусства, заказанная ему Мутером для «Всеобщей истории искусства». Позже появилась в двух томах его «Всеобщая история живописи»[251].
Хочу описать наружность А.Н. Бенуа. Он был среднего роста. Довольно плотного сложения. Лицо с бледной, матовой кожей. Прямой, довольно крупный нос с горбинкой. Глаза темно-карие, умные, внимательные и добрые. Волосы черные, свисали на лоб плоскими прядями. Черные усы и бородка, коротко подстриженные.
Несмотря на живость и даже вспыльчивость характера, он производил впечатление спокойного, уравновешенного и вдумчивого собеседника.
Не в пример своим товарищам, щеголям и франтам, он не занимался своею внешностью. Любил внимательно слушать своего посетителя.
Он умел слушать. Особенно говорливым его назвать было нельзя, но то, что он говорил, было всегда умно, находчиво и обоснованно…
Организовалось это общество в сложное и путаное время в искусстве. <…> Среди молодых передвижников мало кто выдвигался. Они сохраняли старые традиции общества без стремления завоевать новые позиции, открыть новые пути в искусстве.
Почти одновременно с «Миром искусства» появилось много разных группировок среди художников: «Голубая роза», «Ослиный хвост»[249] и другие с очень заумными туманными задачами.
Мирискусники выбирали и приглашали в свое общество молодых художников, когда замечали в них, кроме таланта, искреннее и серьезное отношение к искусству и к своей работе.
Приглашены были, как я помню, Анисфельд, Кустодиев, Александр Яковлев и другие.
А.Н. Бенуа говорил, что, для того чтобы общество могло долго жить, оно не должно строго замыкаться в определенные рамки. И в нем необходимо признавать все новые направления в искусстве. Внимательно следить за появлением молодых художников, если даже они будут крайне новаторского характера. Лишь бы в них была настоящая любовь к искусству и одаренность.
Рассказ, содержание в картине общество «Мир искусства» не отрицало, но они не должны были подчинять себе живописные задачи. Искусство живописи должно было стоять на первом месте.
Нам вменялось в обязанность посещать выставки и отмечать, что появилось в них талантливого и искреннего.
Кроме того, группа художников и организаторов, как Дягилев и Философов, основали и стали издавать художественно-литературный журнал «Мир искусства». В нем принимали участие и такие литераторы, как Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Мережковский, Андрей Белый и многие другие писатели-символисты и эстеты.
Их обильные выступления в этом журнале сыграли для художников «Мира искусства» печальную роль. Они заполнили собою страницы журнала и были впоследствии главной причиной решения художников закрыть этот журнал.
Этому небольшому коллективу молодых людей, образованных и развитых, страстно преданных искусству и горячих энтузиастов всего талантливого, издавая журнал «Мир искусства», приходилось преодолевать всевозможные трудности.
Теперь нельзя себе представить тот низкий уровень вкуса, знания стиля, степени неумения владеть техническими способами, какие царили тогда в лучших типографиях.
Отсутствовало понимание шрифтов, достоинства бумаги, украшений и иллюстраций, что составляет графическое искусство, то есть искусство, как сделать хорошую книгу, чтобы в ней обложка, заглавный лист имели свое архитектурное и декоративное построение, чтобы иллюстрации были органически связаны с книгой, с данной страницей, со шрифтом.
Я много раз присутствовала при разговорах о технических затруднениях в процессе издания журнала. Дягилев, Бакст и Философов много времени проводили в типографии. Спорили там, доказывали, учили, натаскивали. Вспоминаю, как они не раз приходили в отчаяние от приготовленных «Голике и Вильборгом» клише. Затруднения происходили и с бумагой.
В первый год издания, 1899-й, журнал был очень боевой и задорный, но со второго года его направление стало более глубоким и широким. Все истинно художественное и даровитое нашло место на страницах этого журнала. Он откликался на все события, на все проявления художественной культуры нашей страны.
Сомов, Бенуа, Лансере, Билибин и Бакст украшали журнал «Мир искусства», исполняя для него обложки, заглавные листы, заголовки, концовки. Этими превосходными работами они положили начало графическому искусству, которое довели до большого совершенства. Более молодое поколение графиков: Митрохин, Чехонин, Нарбут, Фалилеев, Белкин, продолжало впоследствии принципы «Мира искусства».
Появления каждого нового номера журнала мы ждали с нетерпением. Издавался он в течение шести лет и прекратил свое существование по желанию Дягилева, у которого появились в жизни более широкие задачи. С огорчением встретили мы это известие.
Меня всегда поражало в членах нашего кружка необычайное, страстное увлечение искусством. Сколько было споров, диспутов, дискуссий. Произносились целые речи, полные блеска, знания и проникновения. Иногда кончалось ссорой, но не надолго. Все любили и уважали друг друга. И вот что замечательно: среди нас, художников этого коллектива, в то время существовало глубокое взаимное доверие. Никому не приходило в голову и мысли о зависти, ревности. Вещи на выставку принимались без жюри, по принципу доверия к художнику, но сам художник, чтобы себя проверить, показывал перед выставкой товарищам свои работы, зная, что критика будет, может быть, и беспощадная, но справедливая. Иногда случалось, что Дягилев, как наш организатор и устроитель выставок, определенно заявлял, что такую-то вещь он не выставит, и приходилось художнику подчиняться, так как он сознавал, что это вытекает не из личных отношений к нему.
А иногда, наоборот, Дягилев забирался к художнику в мастерскую и почти насильно уносил от него забракованные автором произведения. И Дягилев не ошибался, так как обладал большим художественным чутьем. Вещи оказывались прекрасными и достойными быть на выставке.
Бывало, на выставке идет большая спешка. Дягилев как вихрь носится по ней, поспевая всюду. Ночью не ложится, а сняв пиджак, наравне с рабочими таскает картины, раскупоривает ящики, развешивает, перевешивает — в пыли, в поту, но весело, всех вокруг себя заражает энтузиазмом. Рабочие, артельщики беспрекословно ему повиновались, и, когда он обращался к ним с шутливыми словами, широко во весь рот ему улыбались, иногда громко хохотали. И все поспевало вовремя. Сергей Павлович утром уезжал домой, брал ванну и, изящно одетый, являлся первый, чтобы открыть выставку. Ночная работа на нем не отражалась. Темные гладкие волосы разделял очень тщательно сделанный пробор. Спереди, надо лбом, выделялась белая прядь волос. Полное румяное лицо с большими карими глазами сияло умом, самоудовлетворением и энергией…
Мирискусники настойчиво выдвигали принцип «ремесла в искусстве», то есть они хотели, чтобы художники делали картины с полным, детальным знанием материалов, которыми они работали, и доводили технику до совершенства. Перед их глазами были примеры, когда отличные произведения великолепных мастеров темнели, чернели, теряли свой первоначальный облик. Видимо, в данном случае художник не знал законов смешения красок и их дальнейшую жизнь на холсте.
Кроме того, они все толковали о необходимости повышения культуры и вкуса среди художников, и никогда не отрицали в картинах тематики и, следовательно, не лишали изобразительное искусство ему присущих свойств агитации и пропаганды.
Через несколько лет после основания общества произошло объединение московских художников с петербургскими членами «Мира искусства», и было организовано общество «Союз русских художников».
Объединение с москвичами было недолговечно.
В 1910 году мы разделились с ними и организовали новое общество художников, взяв наше прежнее название «Мир искусства». В члены нашего вновь образовавшегося общества вошли: Б. Анисфельд, Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, К. Богаевский, О. Браз, А. Гауш, A. Головин, И. Грабарь, М. Добужинский, И. Жолтовский, В. Замирайло, Е. Кругликова, Е. Лансере, Н. Лансере, Е. Лукш-Маковская, А. Матвеев, Н. Милиоти, А. Обер, А. Остроумова, К. Петров-Водкин, B. Пурвит, В. Покровский, Н. Рерих, М. Сарьян, З. Серебрякова, К. Сомов, С. Судейкин, Д. Стеллецкий, А. Таманов, Н. Тархов, И. Фомин, В. Щуко, А. Щусев, Я. Ционглинский, А. Яковлев, С. Яремич. Всего 37 человек.
Формирование общества и устройство выставок чло у нас медленно, с большими трениями и задержками. Причина этого главным образом была та, что среди нас не было художника, который бы с охотой и увлечением взял на себя организацию выставок и всякие хлопоты и заботы. Дягилев к этому времени уже уехал, увлеченный желанием пропагандировать оперное и балетное искусство за границей. Несколько лет нашими делами согласился заниматься энергичный и даровитый архитектор Мирон Ильич Рославлев.
В первый же год, и потом почти всегда, несмотря на некоторый холодок и отчужденность, которые мы испытывали к Н. Рериху (несомненно, и он к нам), мы его выбирали председателем общества. Он любил исполнять представительные роли и, надо сознаться, проделывал это недурно.
Между нами определилась группа художников-графиков: Бенуа, Бакст, Билибин, Сомов, Лансере, которые положили начало графическому искусству, привлекая к работе художников: Нарбута, Фалилеева, Митрохина, Чехонина, уча их иллюстрировать и создавать художественно украшенную и хорошо построенную книгу.
Высокие культурные традиции «Мира искусства» до сих пор сохраняются среди графиков теперешних дней. <…>
Я не могу не рассказать об обществе «Мир искусства», потому что была его членом и [была] в дружеских отношениях с Бенуа, Сомовым, Лансере и другими.
Скажу несколько слов о некоторых из них.
Руководящую роль среди этого кружка играл Александр Николаевич Бенуа. Все к нему прислушивались, ценили его мнение, и это делалось само собой. Александр Николаевич никогда не поучал, не оказывал давления. Не навязывал своего вкуса или мнения. Бесценно было то, что он знакомил меня и других с искусством во всех его проявлениях, и делал это с большим энтузиазмом. Обладая феноменальной памятью, он все знания претворял своим исключительным умом. Ум его был творящий, и творческое начало было неистощимо. Все. что он воспринимал от внешнего мира, подвергалось обработке этого блестящего ума. его отличали редкая способность ориентации в незнакомой для него области и умение углубиться в нее до конца. Жизнеспособность его была безгранична. Неутомимость удивительна.
Между художниками «Мира искусства» было много великолепных театральных декораторов. Бенуа интересовался театром и, как во всех областях культурной жизни страны, стал принимать и в театральном искусстве самое близкое участие. Его музыкальность, абсолютный слух, огромный творческий темперамент давали ему возможность в этой области проявить свою богатую, тонкую, художественную культуру.
В конце января 1903 года шла опера Вагнера «Гибель богов». Эскизы декораций и костюмов делал Бенуа. И в постановке оперы принимал живейшее участие. Я помню, как вся наша компания была на первом представлении. В партере виднелось много знакомых и выдающихся художников, литераторов, артистов. Я была в ложе с Анной Карловной, женой Бенуа, и с нами сидели Сомов, Лансере, Нувель… Александр Николаевич то и дело убегал из ложи за кулисы, когда замечал какие-нибудь неполадки. Мы все волновались. Но декорации были очень красивы и живописны, костюмы характерны и выразительны.
Исполняя эскизы к этой опере, Бенуа стремился преодолеть рутину и шаблон постановок в Байрейте и за границей. Его декорации, исполненные таким мастером живописи, как Коровин, производили впечатление большой убедительности, красоты и правды. Моментами зритель совсем забывал, что это театральное «действо». Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами.
Сцена, когда убитого Зигфрида несут в лес под звуки погребального величественного марша, вызывала мурашки в спине, и слезы закипали на глазах. Сцена гибели богов и Валгаллы была сделана ярко и сильно.
Кроме этой оперы, Александр Николаевич в последующие годы оформил целую серию блестящих спектаклей: балеты «Павильон Армиды», «Жизель», «Петрушка»; комедии Мольера: «Тартюф», «Брак поневоле»; и Гольдони: «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы», оперу «Пиковая дама» и т. д.
По этому разнообразному репертуару можно судить, как велик был диапазон его творчества, какой колоссальный источник фантазии был в душе этого замечательного художника!
Кроме декоративного таланта, А.Н. Бенуа обладал большим живописным даром и фантазией. В Третьяковской галерее и в других музеях находится целый ряд его живописных произведений.
Кроме того, он проявил себя как иллюстратор и график. Создал замечательный альбом «Медный всадник», в котором запечатлел образ пушкинского Петербурга и показал себя выдающимся рисовальщиком. Иллюстрировал «Горе от ума» и «Пиковую даму»[250].
Он обладал большим литературным даром и выступал как тонкий и глубокий историк искусства. Первым его литературным трудом была история русского искусства, заказанная ему Мутером для «Всеобщей истории искусства». Позже появилась в двух томах его «Всеобщая история живописи»[251].
Хочу описать наружность А.Н. Бенуа. Он был среднего роста. Довольно плотного сложения. Лицо с бледной, матовой кожей. Прямой, довольно крупный нос с горбинкой. Глаза темно-карие, умные, внимательные и добрые. Волосы черные, свисали на лоб плоскими прядями. Черные усы и бородка, коротко подстриженные.
Несмотря на живость и даже вспыльчивость характера, он производил впечатление спокойного, уравновешенного и вдумчивого собеседника.
Не в пример своим товарищам, щеголям и франтам, он не занимался своею внешностью. Любил внимательно слушать своего посетителя.
Он умел слушать. Особенно говорливым его назвать было нельзя, но то, что он говорил, было всегда умно, находчиво и обоснованно…
 Я не буду о нем подробно говорить, так как после его смерти было несколько попыток дать его биографический очерк (В. Лобанов, К. Кравченко, Н. Шантыко)[254], но этого всего далеко не достаточно, чтобы воссоздать цельный образ этого замечательного художника. Я уверена, что в недалеком будущем издадут полную и исчерпывающую монографию о его творчестве.
Последний раз я его видела, когда была в Москве в 1944 году. Прошло сорок шесть лет, как мы с ним подружились, и наша дружба до конца была неизменна. Я его тогда, в Москве, нашла бодрым, веселым и энергичным.
Никогда не думала и не ожидала, что он так скоро уйдет от нас.
Я не буду о нем подробно говорить, так как после его смерти было несколько попыток дать его биографический очерк (В. Лобанов, К. Кравченко, Н. Шантыко)[254], но этого всего далеко не достаточно, чтобы воссоздать цельный образ этого замечательного художника. Я уверена, что в недалеком будущем издадут полную и исчерпывающую монографию о его творчестве.
Последний раз я его видела, когда была в Москве в 1944 году. Прошло сорок шесть лет, как мы с ним подружились, и наша дружба до конца была неизменна. Я его тогда, в Москве, нашла бодрым, веселым и энергичным.
Никогда не думала и не ожидала, что он так скоро уйдет от нас.
